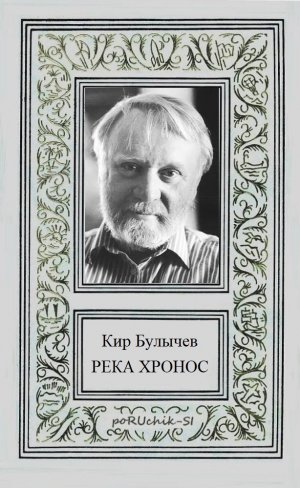
Кир Булычев
РЕКА ХРОНОС
НАСЛЕДНИК
Что войны, что чума? Конец им виден скорый;
Их приговор почти произнесен.
Но как нам быть с тем ужасом, который
Был бегом времени когда-то наречен?
Анна Ахматова
Глава 1
Август 1913 г
Тетя Маня проявляла настойчивость.
— Не мне же ехать к Сергею Серафимовичу. Я ему никто. А тебя он хочет видеть. Ты читал его письмо.
— Я поеду в субботу.
— За день до поезда? Это легкомысленно. Разговор будет касаться твоего будущего. Такое за полчаса не делается.
— Зачем нужны эти церемонии? Если человек хочет мне помочь, можно сделать это без Каноссы.
— При чем тут Каносса? Ты обязан проявить уважение к человеку, который столько для нас сделал.
— Я ему благодарен, да, благодарен! — сказал Андрей с вызовом.
Одна оса, поумнее, снизилась к блюдечку с медом и без помех сосала, приподняв полосатое брюшко. Вторая, глупая, вилась перед лицом Андрея, норовя вцепиться в ломоть намазанного медом хлеба. Мед стекал с ломтя, и приходилось крутить хлеб в руке, чтобы подхватывать языком капли, готовые упасть на колени. Солнце било в маленькое окошко, отражалось от самовара и от стеклышек пенсне тети Мани. Пенсне удивительным образом не шло тете, противоречило ее полному красному лицу и носу-картошке. Но тетя Маня полагала пенсне непременным атрибутом интеллигентной дамы, служащей по симферопольскому ведомству императрицы Марии Федоровны.
— Я вчера поговорила с Керимовым, — продолжала тетя, игнорируя возмущение Андрея. — Все складывается как нельзя лучше. Ахмет сегодня едет в Ялту. Он захватит Колю Беккера. Вы сложитесь, выйдет совсем недорого.
— Ты уже и это организовала? — Андрей хотел скептически усмехнуться, но мед все же капнул с ломтя, к счастью, на скатерть. Андрей взял ложку, чтобы подобрать каплю со скатерти, а глупая оса спикировала вниз, полагая, видно, что капля предназначается ей. — А почему Коля едет в Ялту? — спросил Андрей.
— Об этом спросишь у него, — резонно возразила тетя. — Ты еще будешь пить чай?
— Жарко.
— За перевалом куда прохладнее. Ирина Тимофеевна провожала вчера в Гурзуф Барятинских. Там просто рай земной. Я уложила желтый чемодан.
Андрей поморщился. Его жизнь была предусмотрена тетей в малейших деталях, и Андрей даже опасался, сможет ли управлять ею сам в Москве. Весь восьмой класс он сладостно мечтал о том дне, когда сядет в поезд и свергнет гнет тетушкиной предусмотрительности. А теперь, когда до отъезда остались считаные дни, он начал малодушничать, так как не знал, как сдают белье прачке и что следует говорить кондуктору в поезде.
— Ты отвезешь Сергею Серафимовичу банку моего черешневого варенья, — сказала тетя.
— Еще чего не хватало!
— Он специально просил меня об этом в письме. Ты же знаешь, что мама всегда варила это варенье.
Тетя Маня поглядела на мамину фотографию, висевшую на стене в черной рамке. Мама была в большой шляпе с цветами, и оттого лицо ее казалось маленьким, хотя Андрей запомнил ее как нечто большое и теплое — ему было три года, когда мама умерла. Тетя Маня забрала его из Ялты, где они жили последние годы, потому что у мамы была чахотка. Сергей Серафимович остался там. Настоящего отца Андрей не знал.
Все это было странным. Нина, сестра Коли Беккера, как-то сказала ему:
— Ты, Андрэ, такой загадочный. Я не удивлюсь, если окажется, что твой настоящий отец — Великий князь.
Андрей знал, что маму обесчестил Некто, а Сергей Серафимович женился на ней, когда Андрей был грудным младенцем, но почему-то в отличие от иных семей Сергей Серафимович, дав ему свою фамилию, не пожелал считаться его отцом. Тетя Маня говорила, что эта жестокость по отношению к сироте была одной из причин, приведших маму к ранней смерти. Андрей тоже был обижен на отчима.
…Ему было лет семь, и на лето, как обычно, он поехал к отчиму. В доме были гости. Андрюшу ласкали душистые дамы, а толстый бородатый поэт качал его на упругом колене. В саду, у столика, стройный седой Сергей Серафимович разливал по бокалам шампанское. Андрей увидел, как через дорожку к отчиму семенит громадный тарантул. Андрей испугался, что тарантул укусит Сергея Серафимовича. И он закричал:
— Папа! Папа! Смотри!
Он побежал к тарантулу, чтобы прогнать его, — совсем не испугавшись за себя. Сергей Серафимович подхватил Андрея, держа его на руках, шагнул к тарантулу и быстрым движением раздавил его. Потом сказал:
— Я не твой папа. Ты же знаешь.
Вряд ли многие слышали эти слова, дамы заверещали, поэт пожал Андрюше руку и сказал, что он — наш маленький герой. Но Андрей полагал, что эти слова были громче грома, и возненавидел отчима. Той же ночью он ушел пешком в Симферополь. Он шел всю ночь, а с рассветом заснул у нижней дороги, чуть не доходя до Ай-Даниля. Там его нашли татары, которые ехали в Ялту на базар. Он проснулся, стал вырываться и не хотел никому рассказывать, кто он и как его зовут. Татары смеялись. Один из них, усатый, крепкий, от него пахло луком и потом, держал Андрея на руках. Они довезли его до городового, что стоял у въезда в город, а тот узнал мальчика. Вышла дополнительная обида, потому что никто Андрея не хватился. Сергей Серафимович еще спал, а его экономка Глафира кормила на дворе кур. Она думала, что мальчик в своей комнате.
Глафира начала причитать, куры закудахтали, Сергей Серафимович вышел, кутаясь в длинный халат, дал городовому полтинник и пожал ему руку. Когда городовой ушел, он сказал:
— Мне неприятно думать, что я тебя обидел. Прости меня. Я хотел тебе сказать об этом еще вчера ночью, но решил, что ты ушел спать. Но если бы я позволил тебе называть меня отцом, это была бы неправда.
— Я хочу домой, — сказал Андрей.
— Я не волен тебя задерживать, — сказал Сергей Серафимович. — Глаша, покорми Андрея, а потом позови извозчика. Андрюша возвращается в Симферополь.
Глафира стала спорить, она даже топала крепкой загорелой ногой. Глафира была молодая и красивая, и Андрей был благодарен ей за то, что она ругает Сергея Серафимовича. Но тот закурил свою длинную темную трубку и ушел в кабинет…
— Ты задумался? — спросила тетя Маня. — Ты меня не слушаешь.
— Я слушаю, — ответил Андрей. — Ты сказала, что на перевале может быть дождь.
— Я сказала, чтобы ты взял с собой зонт. Я бы не хотела, чтобы ты простыл перед самым отъездом в Москву.
— Я не простыну.
— Я написала письмо Сергею Серафимовичу, — сказала тетя Маня. — Этим я избавляю тебя от необходимости самому поднимать вопрос о деньгах, так как полагаю, что тебе это неприятно.
— Спасибо.
Все-таки тетя — замечательная женщина.
Андрей допил остывший чай. Солнце поднялось выше, и квадрат света переместился со стены на пол. У Сошинских, за невысоким каменным забором, лаял Булька. Тетя Маня встала из-за стола и пошла собирать Андрею чемодан. От ее шагов вздрагивали и скрипели половицы. Осы улетели, а над блюдечком вилась муха. Вдруг стало очень тихо. Светло и тихо. Словно закончилась глава и пора перевернуть страницу.
Оставалось занести книги в гимназическую библиотеку. Тетя Маня аккуратно завернула их в голубую бумагу и перевязала шпагатом.
Андрей пошел по Госпитальной, столь многократно исхоженной и избеганной, что сделало ее незамечаемой и будто невидимой. Но тут, расставаясь с ней, Андрей увидел улицу будто впервые.
Улицы в той части Симферополя были схожими, Госпитальная — не исключение. Они состояли большей частью из приземистых одноэтажных домов, сложенных из ракушечника и оштукатуренных, выходивших фасадами в три-четыре окна на тротуары, под сень акаций. Среди этих домов не было особенно богатых или очень бедных: бедность угадывалась по осыпавшейся штукатурке или покосившимся воротам, достаток — по колоннам в два метра высотой, приклеившимся к фасаду. Настоящая жизнь домов скрывалась за высокими воротами, за узкими калитками, в глубине, в садике за домом, куда выходила веранда, где по траве бродили куры, там устраивали стирку или выносили большой стол для свадьбы. Андрей не мог бы сказать, красива улица или нет.
Перистая тень редких акаций не давала прохлады. Дождей давно не было, и город был покрыт серо-желтой пылью, от которой свербило в носу. Улица была пуста: все, у кого были в городе дела, старались сделать их пораньше, по холодку, и уже спрятались в садиках или комнатах.
Ближе к центру, на Екатерининской, вид города изменился. Появились дома в два и даже три этажа, совсем европейского вида. Первые этажи многих домов были заняты магазинами, витрины которых были укрыты от солнца полосатыми, с фестонами, маркизами. Привычному взору Андрея магазины казались бедными и скучными не потому, что были такими на самом деле, а потому, что в мыслях он гулял уже по Тверской или Никольской и симферопольское благополучие было провинциальным и мелким по сравнению со столичной жизнью, которая ожидала Андрея.
Народу и в центре было немного. Редкие покупатели брели от витрины к витрине, скрываясь порой в недрах магазинов.
Андрей зашел в кондитерскую Циппельмана — там всегда было прохладно и подавали кофе глясе со льдом. В кафе было пусто, толстенькая Фира, дочка Циппельмана, обрадовалась Андрею. Они были знакомы — ее младший брат Илья учился в одном классе с Андреем.
Она не спрашивала, что ему подать, — сразу принесла высокий бокал с кофе и отдельно на блюдце наколотого льда.
— Только не глотайте помногу, — сказала она, — может быть ангина. Я слышала, что вы уезжаете в Москву? Это так? Вы будете адвокатом? Мне рассказывал Илья, что вы будете адвокатом, как жаль, что вы нас забудете, но когда вы откроете свою практику, то я буду к вам ходить и жаловаться на соседей.
Андрей смотрел на раскаленную улицу. Как быстро течет жизнь, думал он, не прислушиваясь больше к милой болтовне Фиры, да та и не претендовала на его внимание — был бы слушатель, а слушает он или нет, разве это так важно? Через несколько дней он уже будет в Москве — предусмотрительная тетя сговорилась о недорогой комнате с полным пансионом у своей бывшей сослуживицы, это было правильно, но как бы продолжало тетину опеку даже на расстоянии. Бывают моменты, когда человек в восемнадцать лет чувствует себя страшно старым, прожившим столь долго, что непонятно, зачем жить дальше.
Это не значит, что такие настроения были свойственны характеру Андрея, — еще вчера он находился в возбуждении от предстоящей свободы и новых событий. Но то ли сегодняшняя жара, то ли нужда ехать в Ялту к отчиму стерли завтрашнюю радость. Оказалось, что расставание с Симферополем не столь радостно.
По улице проехал черный длинный открытый автомобиль с такими большими фарами, будто произошел от стрекозы. В автомобиле сидели две немолодые дамы в широкополых белых шляпах и оживленно разговаривали. Еще в прошлом году в гимназии соревновались: надо было угадать, кому из именитых людей принадлежит автомобиль или экипаж. Автомобили стали частыми гостями в городе — их приобрели многие знатные семейства, имения и виллы которых были в Ялте, Гурзуфе, Ливадии, но этот автомобиль был новым, его Андрей раньше не видел. Правда, дама постарше показалась ему похожей на императрицу Марию Федоровну — милое, доброе, домашнее, совсем еще не старушечье лицо.
Андрей подошел к стойке и положил мелочь.
— Ну как вам не стыдно, Андрюша, — сказала Фира. — Завтра вы придете к нам домой и станете давать мне на чай.
— Так вы разоритесь, — сказал Андрей. — Пол-Симферополя будут пить и есть у вас бесплатно.
— Ах, оставьте, — сказала Фира жеманно и сделала ручками движение, как в последней синефильме, которую показывали на той неделе в «Орионе».
Шагая по Екатерининской, Андрей издали увидел купол гимназической церкви, а затем белый фасад Александровской гимназии. Двухэтажное здание было погружено в летнее оцепенение.
Андрей толкнул тяжелую дверь, и она заскрипела. Он подумал, что никогда раньше не слышал, что дверь скрипит, — не было нужды подходить к этому зданию в одиночестве и тишине.
Внутри было прохладно и пусто. Справа собранием рогов охотника на оленей тянулась пустая раздевалка, дверь в швейцарскую была открыта, но комната пуста. Андрей поднялся на второй этаж, заглянул к себе в класс. Его парта была второй в дальнем ряду. На черной доске почему-то написано «Кроликъ опочилъ». Может, пройти и сесть за свою парту? Глупо — а вдруг кто-нибудь зайдет и увидит.
Андрей прошел дальше, заглянул в актовый зал. От пола до потолка возвышался портрет Александра Благословенного, именем которого была названа гимназия. Александр был в высоких ботфортах, белых лосинах и без головного убора. Вид у него был глуповатый, о чем раньше Андрей никогда не смел догадываться. Андрей непроизвольно взглянул вверх. Там висела громадная тяжелая люстра. Именно с ней было связано его преступление в третьем классе. Тогда в зале заседал учительский совет, решавший вопрос об исключении Коли Беккера, друга Андрея, который учился классом старше и был пойман на тяжкой гимназической провинности — он подделал подпись классного наставника в дневнике, потому что трепетал перед своим отцом. Надо было совет сорвать, и они с Колей не придумали ничего лучше, как забраться на чердак, потому что знали, что один из болтов, крепивших люстру к металлической пластине, выпал и сверху можно заглянуть в зал. С собой они взяли пакет нюхательного табака и высыпали его в зал, полагая, что расчихавшиеся педагоги сами прервут роковую встречу.
Именно в тот момент сам директор, толстый низенький Федор Федорович Карабчинский, поднял, скучая, голову и увидел, как порошок тучей опускается вниз. Злоумышленников поймали, а так как Коле Беккеру и без того было достаточно неприятностей, Андрей взял всю вину на себя. Директор отвез его на извозчике домой и, стоя в воротах дома и держа Андрея за руку, кричал выбежавшей тете Мане:
— Больше он в мою гимназию ни ногой!
А отважная тетя отвечала, блестя пенсне:
— Простите, господин Карабчинский. Это не ваша гимназия, а казенная. Я оставляю за собой право обращаться к попечителю…
Андрей вежливо поклонился лукавому императору и сказал:
— Боюсь, что больше нам с вами не встретиться.
Император не ответил. Да и будет ли император отвечать вчерашнему гимназисту?
Андрей прошел в конец коридора и толкнул дверь в библиотеку.
Грудзинский был у себя. Его шаткий стол был придавлен двумя стопками книг, в ущелье между которыми блестела его склоненная лысина. Андрей поздоровался.
— Здравствуйте, Берестов. Я убежден, что ваша тетя заставила вас принести книги. Иначе бы я вас так и не увидел.
Грудзинский поднял голову, отложил школьную ручку и рассмеялся. Кончики длинных усов колыхались от смеха. Грудзинский был из ссыльных поляков, он говорил с мягким польским акцентом и был так стар, что гимназисты верили, будто он стоял когда-то во главе мятежа 1863 года.
Андрей положил книги на стол.
— Вы подали в университет? — спросил Грудзинский.
— В Московский.
— Похвально. На юриспруденцию?
— На исторический.
— Вдвойне похвально. История — мать всех наук, хотя философы рассуждают иначе. Вы будете у Сергея Серафимовича?
— Я сегодня еду в Ялту.
— Тогда не откажите в любезности, передайте ему журналы, которые я обещал, да все нет оказии.
Грудзинский поднялся из-за стола, захромал к полкам, скрылся из глаз, принялся шуршать журналами.
— Я отношусь с почтением к Сергею Серафимовичу, — слышен был голос Грудзинского. — С его умом и образованностью было преступлением заживо похоронить себя в нашей глуши.
— Вы его давно знаете? — спросил Андрей.
— Мы учились вместе в Гейдельбергском университете. В отдаленные времена.
«Странно, — подумал Андрей, — еще вчера Грудзинский был для меня одним из Взрослых. Отныне мы просто знакомы. Отчим никогда не рассказывал, что учился в Гейдельбергском университете».
Грудзинский вынес стопку журналов. Журналы были на немецком языке. В серых шершавых обложках.
— Я завидую вам, — сказал Грудзинский, — что вы имеете возможность беседовать и пополнять свои знания путем общения с паном Берестовым.
— Я пойду, — сказал Андрей. — Ахмет Керимов отвезет нас в Ялту вместе с Беккером.
— Коля Беккер здесь? Жаль, что он не зашел. Я всегда предсказывал ему большое будущее.
Старик проводил Андрея до дверей, словно принимал его в родовом замке.
— Кланяйтесь отчиму. Нижайший поклон.
Андрей вернулся домой, взял чемодан, собранный тетей. Тетка перекрестила его, передала письмо для Сергея Серафимовича. И тут как раз вошел Ахмет. Он был одет в костюм шоффэра, вернее, костюм, который должен носить шоффэр в понимании Ахмета: кожаная черная куртка, фуражка с очками, прикрепленными к тулье. Но брюки у него были, как у Андрея, — гимназические, правда, заправленные в сапоги.
— Господа, — заявил он с порога, — мотор подан!
— Ахмет, — сказала тетя, — в этой компании я доверяю только вам. Держите корзину. В ней продукты на дорогу. Андрей обязательно что-нибудь разобьет.
— Я в этом уверен, Мария Павловна, — сказал Ахмет, показывая очень белые зубы. Ахмет всегда кого-то играл. — Твоя моя мало-мало пожевать давай, барыня! — Сегодня он был татарским извозчиком.
— Поезжайте с Богом, — сказала тетя. — А то на перевале ночевать придется.
Пролетка стояла у ворот. Андрей дал Тигру кусочек сахара.
— Вы его балуете, милорд, — сказал Ахмет. Он забрался на облучок и передал Андрею корзину. — Беречь пуще ока. Особое задание Ея Императорского Величества. Надеюсь, там нет свинины, которую не переносит моя исламская честь?
— Трогай, — сказал Андрей. — Только не тряси. А то молоко свернется.
Сиденье было раскаленным. Ахмет забыл поднять верх. Андрей поднял верх и стал укреплять его. Ахмет увидел, что он привстал, и стегнул Тигра. Тот сразу взял с места, Андрей упал на сиденье, полотно накрыло голову. Ахмет расхохотался.
Коля Беккер стоял в тени акации у своего дома, держа в руке новенький саквояж. Он был в форме института путей сообщения, полупогончики надраены до блеска, белый китель излучал особое сияние.
— Господам кавалергардам наше почтение! — закричал Ахмет издали.
Коля поднял руку в белой перчатке, принимая парад.
За зиму он отрастил небольшие усики и баки. Андрей полагал, что в Коле появилось нечто фатовское, он всегда был склонен к внешним эффектам. Но человека надо принимать таким, какой он есть. Иначе растеряешь друзей. Это были слова тети, и Андрей сразу угадал их в собственных мыслях.
Коля Беккер тратил немало усилий, чтобы никто не догадался, как он жестоко, катастрофически беден. Хотя все об этом знали. Его отец работал кондуктором на железной дороге, попал лет пять назад под поезд и остался без ноги. Мать часто хворала. Существовали Беккеры на отцовскую пенсию.
Андрей своей бедности никогда не стеснялся. Может, потому, что она была умеренной бедностью. Вот если бы он сейчас разорвал брюки, это не трагедия. Для Коли такое событие было бы катастрофой.
Андрей учился с Ахметом в одном классе, Коля годом старше. Обычно дружат в своем классе, следующий год скрывается, как за пропастью. Но все трое жили в Глухом переулке, знакомы были с раннего детства. И в их отношениях — может, это и льстило Коле — табель о рангах вовсе не зависела от имущественного положения. Коля был умнее, смелее, элегантнее приятелей. У него были лучше манеры, нежели у сына разбогатевшего возчика Ахмета и обыкновенного Андрея.
С перевала спускались быстро, пока море еще светилось вечерней синью, а чем ниже, тем более воздух густел и становился парным и шелковым.
Их обогнал автомобиль. Сначала сзади ударили лучи больших фар, затем взвыл клаксон. Автомобиль был длинным, открытым, Андрей успел увидеть двух дам в белом на заднем сиденье и офицера рядом с шоффэром.
— Я знаю, кто это, — сказал Коля.
— И я узнал авто, — сказал Ахмет. — Только ты не прав, думая, что это сама вдовствующая императрица. Это ее фрейлины. Я их видел в городе. Они покупали что-то у Фока.
— А я и не говорил, что это Мария Федоровна. Я бы ее узнал.
Спор был пустым, потому что в темноте нельзя рассмотреть, ехала ли в автомобиле сама императрица. Коля был монархистом, пожалуй, единственным в их классе. Многие, как и Андрей, выступали за парламентаризм и даже склонялись к социализму. Но не Беккер. Политическая позиция Ахмета была неопределенной, то есть ее попросту не было. И Ахмет отлично без нее жил. В классе Андрея было два татарина. Но Исламов был крещеный, а Ахмет — магометанин, что вызывало в младших классах глубокую зависть Андрея, потому что Ахмет не ходил на закон Божий.
За поворотом открылись, потом снова пропали тусклые уютные огоньки Алушты.
— У дяди переночуем, — сказал Ахмет. — Он ждет.
Видно, скрип колес в доме угадали издали, потому что пролетка еще не успела остановиться, как ворота распахнулись и с фонарем в руке появился хромой дядя Махмуд, за ним пятеро его сыновей, а в глубине двора, за платаном, выстроились, щебеча, женщины и девочки этого семейства, число их превышало всяческое воображение. Ахмет серьезно утверждал, что у дяди три жены и он присматривает себе четвертую, ибо это разрешено Кораном, от всех жен есть дети, к тому же в доме живут вдовая племянница, дальние родственники и, уж конечно, сам Керим-Оглу, общий дедушка в зеленой чалме, потому что он хаджи.
Семейство было бедным и относилось к младшему брату, отцу Ахмета, который занимался в Симферополе извозом и имел каменный дом, с почтением, но, если верить Ахмету, никогда не просило денег, все там трудились — кто на маленьком винограднике, кто торговал, кто разносил фрукты и овощи по виллам и пансионам.
Молодым людям постелили на плоской крыше. Звезды были иными, чем в Симферополе, — ярче и ближе. Воздух был напоен забытыми за год влажными запахами.
К утру стало прохладно. Андрей проснулся от шума прибоя. Он спал на спине, потому, открыв глаза, увидел светлое небо, лишенное еще цвета, но легкие, как рваное кружево, облака уже начали розоветь, подкрашенные невидимым солнцем. Конечно же, подумал Андрей, потягиваясь и ощущая силу и стремление к движению, прибрежным жителям трудно поверить в шарообразность Земли — они ведь ясно видят с берега край моря, обрыв, в который проваливается солнце, чтобы, проплутав ночь в темных подземельях, снова взойти над краем мира.
Коля Беккер еще спал — лишь прямой нос и прядь светлых волос были видны из-под кошмы. А Ахмет уже поднялся — его голос был одним из негромких голосов, гортанно и мягко сплетавшихся внизу, во дворе.
Через час, позавтракав легко — татарской простоквашей с теплыми лепешками, снова пустились в путь. Дорога сначала шла берегом моря, потом поднялась выше, влилась в недавно законченное верхнее шоссе. С его покойным строителем, скандально популярным среди молодежи романами «Гимназисты» и «Студенты» писателем Гариным-Михайловским, дружил отчим.
Верхняя дорога, прямая и широкая, прорезала, не жалея, татарские деревни, виноградники и сады. Деревни еще не пристроились к дороге, словно не заросли рубцы. Зато те, что жили у нижней, теперь значительно опустевшей дороги, остались как бы не у дел. Все, кроме приезжих, были недовольны.
Говорили мало — наговорились вчера. Когда проехали Гурзуф, Ахмет вдруг спросил:
— Коля, а ты чего в Ялте потерял?
— Ничего. — Коля было задремал, привалившись к Андрею.
— Я еду в Ялту по делу, Андрей по делу. А ты почему без дела?
— Отдохнуть хочу, проветриться… Вечером приглашаю. Познакомлю с дамами.
— Ротшильду некуда деть миллион, — сказал Ахмет. — Давай лучше я его в дело вложу.
— В восемь у гостиницы «Мариано», — сказал Беккер. — Форма одежды — выходная.
— Я не смогу, я на службе, — сказал Ахмет.
Дорога стала оживленней. Приближались к Ялте.
У Массандры съехали вниз, почти к самому морю. Среди виноградников мелькали татарские домики.
Ахмет высадил Андрея у порта.
Андрей пошел не вверх, а по берегу моря, вдоль подпорной стенки за портом. Он смотрел на пароходики и шхуны. Далеко по морю шел миноносец. Андрей когда-то хотел стать гардемарином.
Затем он свернул от моря вверх. Сразу, за первым же поворотом, стало жарче, ветерок не мог одолеть подъема. Андрей остановился и поглядел на экипажи на набережной. В порт входил пароход.
Зеленая, вогнутая, грандиозная, подобная театральному занавесу стена Ай-Петри превращала Ялту в бело-розовую бахрому, лежавшую там, где занавес касался моря.
И тогда Андрей радостно понял: он вернулся. Он и не подозревал о существовании в себе этой радости, а если она возникала в подсознании, гнал ее, стыдясь.
Наверху, замыкая кривую улочку, возникла над темной зеленью черепичная крыша белого дома.
Андрей не был у Сергея Серафимовича больше года, а казалось, что ушел отсюда только вчера. Незыблемость, постоянство этого дома выражались не в стенах или даже растениях сада — они виделись Андрею в деталях, словно он снова, через годы, поглядел на знакомую картинку волшебного фонаря, изображающую ялтинскую набережную с извозчиком, едущим мимо гостиницы «Франция», и той же дамой в черной шляпе, сидящей у чугунной решетки, что отделяет набережную от моря.
Прежде чем одолеть последний крутой подъем улички, Андрей, уморившись, поставил чемодан на плоский камень. Он уже знал, что сейчас в щель под воротами протиснется белый мохнатый Филька и помчится к нему, вертя хвостом так, что хвост станет подобен пропеллеру летящего аэроплана.
Филька выскочил из-под ворот, подбежал к Андрею и принялся прыгать вокруг, стараясь дотянуться языком до лица гостя. Ввиду малого своего размера допрыгнуть он не мог, бил передними лапами по пряжке гимназического ремня и заливался, лаял так, что звенело в ушах. Андрей подобрал чемодан и пошел к калитке. Он знал, что калитка сейчас растворится и в ней появится Глаша, темно-рыжая, белокожая, несмотря на то что весь день проводила на воздухе, налитая здоровьем и спокойным весельем. И скажет…
Калитка распахнулась. Глаша стояла в ней, держа в руке миску с размоченным хлебом, которым кормила кур.
— Андрюша, — пропела она. — Счастье-то какое!
Если тетя Маня Андрея любила, потому что ей больше некого было любить и именно он был центром и смыслом ее жизни, то Глаша видела Андрея, дай Бог, раз в год, но каждая новая встреча начиналась так, словно Андрей вышел на минутку, но даже это минутное расставание для нее — искреннее горе.
Глашу Андрей помнил с раннего детства — когда мать умерла, ему было три годика, и потому он не был уверен, воспоминания о женских белых руках и нежной ласке — воспоминание ли это о руках матери или Глаши, которая тогда была совсем еще юной девушкой, младше, наверное, чем Андрей сегодня. Но за пятнадцать лет, прошедшие с тех пор, она почти не изменилась — только стала статной и даже царственной, если в доме были посторонние. А для своих осталась прежняя Глаша — юбка подобрана, чтобы не испачкать подол в хозяйственной беготне, икры крепкие, ступни широкие, все налитое, круглое, все выпуклости тела норовят разорвать ситцевое платье. Андрей подозревал, что Глаша сожительствует с отчимом, но ревности не испытывал и обиды тоже. Мать умерла слишком давно, и отчим — свободный человек.
— Андрюша, — пропела Глаша. — Заходи, чего ты стоишь.
Она поставила миску на землю и схватила чемодан — Андрей даже не успел удержать его. Свободной рукой притянула к себе его голову, наклонила, поцеловала его в щеку, с чмоком, весело. От нее пахло здоровым телом, солнцем, травой.
— Ты языческая богиня, — сказал Андрей.
— Языческие голые бегали, — засмеялась Глаша. Зубы у нее были ровные, белые, молодые. — А нам нельзя.
— А хотелось бы?
— Андрюша, как не стыдно! Я же старая женщина, я свое отбегала.
Они шли рядом по широкой дорожке. Куры семенили за ними белой процессией, Филька на кур внимания не обращал, он носился вокруг. Сергей Серафимович вышел из двери, остановился на верхней ступеньке. Он держал в зубах длинную трубку, словно не выпустил ее за прошедший год.
— Наконец-то, — сказал он. — Я уж боялся, что ты укатишь в Москву, не попрощавшись.
Сергей Серафимович тоже не изменился. Андрей так и не знал, сколько ему лет. Что за шестьдесят — это точно. Сергей Серафимович совершенно сед, хотя волосы не поредели и даже чуть вьются. А усы, как ни странно, темные, в желтизну, от постоянного курения. В отличие от белокожей Глаши он смуглый, но это от солнца — потому что в глубоких морщинах, идущих от углов рта, и у глаз кожа светлее. Сергей Серафимович всегда чуть щурился, и лицо его было склонно к улыбке, правда, улыбка эта холодная, как бы формальная. По крайней мере Андрею она не нравилась.
На Сергее Серафимовиче была, впрочем как всегда, свободная светлая толстовка и холщовые брюки, однако он умудрялся носить эту цивильную одежду словно мундир преображенца.
— Здравствуйте, Сергей Серафимович.
Глаша рядом горестно вздохнула. Она все надеялась, что любимые ее мужчины сблизятся, найдут нужные слова, чтобы понять — ведь они самые близкие на свете! Глаша покорно и с готовностью подчинялась любому мнению или слову Сергея Серафимовича. Лишь в одном ему перечила вслух: в холодности к пасынку.
Сергей Серафимович пропустил Андрея в дверь. Но следом не пошел, а сказал:
— Иди вымойся, приведи себя в порядок. Жду тебя на веранде.
С широкой веранды второго этажа открывался удивительный вид на Ялтинскую бухту. Правда, сейчас, к середине дня, солнце немилосердно светило с зенита, отчего море выцвело, а дома на набережной скрывались в дымке. С обрыва Ай-Петри выбегали маленькие, робкие, шустрые облачка и тут же таяли от страха, увидев такой жаркий простор. Белый пароходик ошвартовался у мола. Видно было, как муравьишки-матросы сбросили трап и пассажиры спускаются на мол.
— Ну что ж, — сказал Сергей Серафимович, выходя на веранду. В руках его был поднос, на нем серебряная ладья со льдом, в которой покоилась бутылка шампанского, и два бокала. — Давай сначала отметим твое вступление в самостоятельную жизнь.
На веранде стояли плетеные низкие кресла и под стать им круглый стол. Андрей подумал, что и год, и три назад они стояли точно на тех же местах. Только шампанского ему не предлагали.
Отчим ловко открыл пробку и разлил шампанское по бокалам, не пролив ни капли. У него были большие крепкие руки с длинными пальцами. Тетя говорила, что у Сергея Серафимовича руки хирурга.
— Прозит! — сказал Сергей Серафимович.
Шампанское было холодное, шипучее, кислое. Словно специально придуманное для такой жары.
— Теперь давай письмо Марии Павловны, — сказал отчим.
— Как вы догадались?
— Догадываться не надо, — ответил Сергей Серафимович, — надо немного знать людей. Твоя тетя преисполнена гордыни разночинки. И она полагает, что ты также должен быть подвержен этой болезни. Поэтому, чтобы избавить тебя от нужды обращаться ко мне с вопросами имущественными, она предпочла пойти на жертву.
— Я также подвержен этой болезни, — сказал Андрей.
— Следует избавляться, — сказал отчим, принимая узкий голубой конверт.
Он вытащил письмо из конверта, мгновенно пробежал его глазами. Андрей отвернулся к перилам.
— Я мог бы выиграть у тебя пари, — сказал Сергей Серафимович, — пересказав содержание письма, даже не разворачивая его.
— Это нетрудно, — сказал Андрей.
— Могу заверить тебя, — сказал Сергей Серафимович, — что и без трогательного послания Марии Павловны я бы предпринял те шаги, к которым она меня призывает. Если тебя не коробит, давай обговорим эти проблемы, а потом уж с чистым сердцем приступим к обеду.
Андрей кивнул. Сергей Серафимович, который, как понял Андрей, тоже чувствовал себя неловко, старался говорить иронично, как бы показывая, что все это мелочи, не стоящие внимания.
— Мало ли что может со мной случиться, — сказал Сергей Серафимович. — Я немолод и не так здоров, как хотелось бы. К тому же, заглядывая в будущее, я вижу в нем трагические события и перемены.
Андрей удивился, и удивление было очевидно.
— Не поднимай бровей, — холодно улыбнулся Сергей Серафимович. — Я умнее тебя.
Люди в разговоре не говорят таких слов, тем более столь уверенно и просто. Андрей и без того допускал, что отчим умнее его, но тем неприятнее показалась реплика.
— Вы имеете в виду Балканскую войну? — спросил Андрей.
— Глупости, — сказал Сергей Серафимович. — Я имею в виду большую войну, которая начнется не позже чем через год.
— Кого с кем? — спросил Андрей. — Франция с Англией вроде бы поделили свои колонии.
— Это будет мировая война. Но никто не хочет и не может осознать масштабов этого бедствия.
— Для мировой войны, — сказал Андрей, впервые услышавший такое словосочетание, — требуется Наполеон.
— Идиотизм мировой войны заключается в том, что для нее не понадобится Наполеон. Ее будут вести банальные генералы, а в самом деле воевать будут Крупп с Путиловым.
— У нас в классе был Горяинов, — сказал Андрей. — Он называл себя эсдеком, даже ходил на собрания. Он был бы вашим союзником.
— Через год ты будешь шагать по Красной площади с трехцветной кокардой и искренне вопить: «Смерть бошам!»
— Сергей Серафимович, — обиделся Андрей, — вопить вообще не в моих правилах.
— Прости, вопить будет толпа, ты будешь сочувствовать ее позывам.
— Надеюсь, что ваше предсказание не сбудется.
Сергей Серафимович наполнил бокалы. Шампанское уже немного согрелось.
— Каждый остается при своем мнении, мой мальчик, — сказал Сергей Серафимович. — Я делюсь с тобой своими тревогами, но ты вправе счесть их стариковской воркотней.
Андрей вдруг увидел, что у Сергея Серафимовича старая шея. Кожа была не человеческой, а как у пресмыкающегося — словно у исхудавшего хамелеона.
— Я обязан думать о твоем будущем, — продолжал старик, — так как ты пока думать о нем не способен. Ты вообще бы предпочел сейчас фланировать по набережной со знакомой восьмиклассницей семнадцати лет от роду. Год в твоей жизни — дистанция экстраординарная. Для меня это — минута.
— Честное слово, я не могу встать на вашу позицию, — сказал Андрей. — Хоть у меня и нет на примете восьмиклассницы, я бы предпочел сейчас фланировать по набережной.
Возможно, это прозвучало вызовом, но Сергей Серафимович вызова не заметил.
— Не исключено, — сказал он, — что ты изменишь свою точку зрения куда скорее, чем предполагаешь. А я постараюсь тебе помочь.
— Как? Состарив меня?
— Поток времени скор и непостоянен, — сказал Сергей Серафимович, словно не обращался к Андрею, а подумал вслух.
Андрею хотелось еще шампанского, но неловко было самому взять бутылку. А Сергей Серафимович словно забыл о ней.
— Чтобы быть уверенным в том, что ты сможешь завершить образование, — сказал он, — я не хочу ограничиваться лишь денежной помощью, которая может обесцениться скорее, чем мы с тобой этого бы хотели. Однако в любом случае я открыл на твое имя счет в Московском коммерческом банке — завтра я передам тебе все документы. Я вполне доверяю твоему здравомыслию, но все же хотел бы застраховать тебя от неожиданных эскапад, которые столь возможны в твоем возрасте. Ты сможешь распоряжаться этим счетом лишь в определенных пределах.
Андрей подумал: «Как я не люблю этого холодного равнодушного человека. Как я не люблю его хамелеонью шею, его слишком светлые глаза, его выпяченную нижнюю губу, его манеру громко сосать потухшую трубку, его удивительное умение унизить человека. Сейчас я встану и откажусь от этих отвратительных подачек и уйду…»
— Не следует злобиться на меня, — сказал Сергей Серафимович, — все мои действия оправдываются заботой о тебе. Я хочу быть уверенным в том, что у тебя будут все условия для получения образования. Даже если меня не станет. Даже если война обесценит все бумаги. Мне нужно, чтобы ты получил образование.
— Нужно?
— Необходимо, — отрезал Сергей Серафимович.
Всегда, сколько Андрей себя помнил, отчим пытался его образовывать. Но странным образом. Скорее не учил, а испытывал. Каждое очередное испытание занимало от силы месяц. Как-то они излазили весь Карадаг, мокли, мерзли в палатке, дошли яйлой до окрестностей Карасубазара — собирали гербарий горных растений. На следующие каникулы Сергей Серафимович, забыв о ботанике, ползал с ним по скалам от Симеиза до Байдарских ворот в поисках минеральных обнажений, чтобы годом позже встретить его с сачками. Так началось энтомологическое лето, навсегда пропахшее в памяти эфиром и исколотое длинными булавками. Видно, специалиста по жукам в Андрее отчим также не обнаружил…
Андрей не мог бы сказать, что летние испытания внушали ему отвращение. И сам отчим, и все, что он говорил либо делал, были для Андрея притягательны, но, пожалуй, главной причиной постоянных неудач отчима в попытках отыскать и раскрыть дарования пасынка была его собственная внутренняя холодность, всегдашнее сохранение расстояния между всезнающим учителем и обыкновенным учеником.
А ведь Андрею, особенно в первые два года ученичества, так хотелось отличиться, и, конечно, не ради успехов в ботанике. Но отчим ни разу не догадался либо не пожелал догадаться в чем-нибудь уступить: замедлить шаг, не прийти первым. Как-то, после шестого класса, в последней их совместной экспедиции, к счастью недолгой, где они наблюдали и пытались фотографировать жизнь птиц, грызунов и иных обитателей плоскогорий за Чуфуткале, сидя, усталый, под редким дождиком у костра, ловко и быстро разожженного отчимом, он понял, на что все это похоже.
Уже год-два, как в журналах появилась новая игра, которую некоторые именовали крестословицей, а отчим, разумеется, английским словом «кроссворд». В ней надо было вписывать слова в пустые квадратики. Очевидно, его походы с отчимом были как бы совместным разгадыванием кроссворда при условии, что ни единого слова Андрею не дали разгадать первому. Неизвестно, догадался о том Сергей Серафимович или нет, но Андрей-то был наверное убежден, что не станет ни геологом, ни ботаником, ни энтомологом, ни орнитологом. Он подал прошение в Московский императорский университет на историю.
Может, потому, что историей отчим не успел с ним заняться…
Отчим налил еще по бокалу шампанского, и Андрей взял свой бокал скорее, чем следовало, и ему показалось, что отчим опять улыбается.
Андрей поставил бокал на столик.
Сергей Серафимович поднялся легко, словно молодой. В его тренированном теле не было ни капли жира.
— Вставай, — сказал он. — Мне нужно тебе что-то показать.
Они прошли внутрь дома, в кабинет Сергея Серафимовича.
Кабинет Андрею всегда нравился. Он принадлежал не Ялте, а петербургскому профессорскому дому. С высокого потолка свисала на бронзовых цепях люстра с белым матовым абажуром, являвшая собой как бы впятеро увеличенную керосиновую лампу, хотя люстра была электрической. Пол кабинета был застелен огромным, от стены до стены, персидским ковром, и посреди него стоял овальный стол, накрытый шоколадного цвета суконной скатертью. Вокруг стола на неизменных местах стояли венские стулья. У дальней стены располагался большой письменный стол с мраморным прибором и часами: часы были ампирными, с позолоченными сфинксами и малахитовыми колонками. Между столом и голландской печью поместился высокий, красного дерева книжный шкаф, напротив, между двух окон, стояла бочка, в которой росло лимонное дерево, иногда дававшее настоящие плоды, а по обе стороны от него — глубокие черные кожаные кресла. Такой же диван — мягкий и уютный, Андрею приходилось спать на нем, — стоял справа от печи. И ничто в этом кабинете никогда не менялось, не сдвигалось с места.
В кабинете было две картины. Одна, принадлежавшая кисти Айвазовского, изображала бурю на море. Зеленые, подсвеченные прорвавшимся сквозь облака солнцем волны накатывались на зрителя, неся беспомощную, с порванными парусами шхуну. Вторая — Екатерининских времен — была портретом молодого черноволосого человека в зеленом мундире с красными отворотами и узким эполетом на плече. Резкими чертами лица он был похож на отчима.
— Садись, — сказал Сергей Серафимович, указывая на кресло.
Сам же он подошел к письменному столу, вытащил до отказа верхний ящик, нажал, не таясь, на скрытую кнопку в его задней стенке, отчего эта стенка откинулась, и отчим вынул оттуда связку ключей. Действия отчима Андрея заинтересовали, потому что никогда ранее он не предполагал за Сергеем Серафимовичем склонности к секретам, а обстановка светлого уютного кабинета не вязалась с потайными кнопками и двойными стенками.
Взяв ключи, Сергей Серафимович отошел к стене, на которой висел портрет военного, обернулся к Андрею и сказал:
— Подойди ближе. Я хочу, чтобы ты все запомнил.
Андрей послушно поднялся. Сергей Серафимович взял его за руку и провел его указательным пальцем по раме. В одном месте палец ощутил выпуклость. Сергей Серафимович нажал на эту выпуклость пальцем Андрея. Неожиданно картина сдвинулась с места и с помощью какого-то скрытого механизма откинулась, словно дверца шкафа. За картиной образовался серый стальной сейф.
— Возьми ключи, — сказал Сергей Серафимович. — Сначала маленький. Вставь в верхнюю скважину и поверни три раза против часовой стрелки.
Андрей подчинился. Ключ двигался легко и послушно.
— Обедать пойдете? — спросила Глаша, без стука войдя в кабинет.
— Через десять минут, — сказал отчим.
Андрей отметил, что отчима не смутил приход служанки.
— Теперь поверни ручку сейфа вправо. Два раза.
Дверца сейфа, тяжелая и толстая, беззвучно отворилась.
Внутри лежали бумаги: две или три связанные шнурками кожаные тетради, синий пакет и несколько конвертов.
Сергей Серафимович вынул один из конвертов и показал Андрею. На конверте было написано:
Андрею Берестову
Вскрыть в случае моей смерти или исчезновения.
Это была странная надпись. Она звучала словно из настоящего романа, ее последнее слово могло встретиться у Коллинза или Буссенара. Но Андрей ничего не сказал.
Сергей Серафимович положил конверт на место. Затем вытащил с нижней полки толстый синий, запечатанный сургучом пакет.
— Здесь, — сказал он, — шестьдесят тысяч долларов. Я полагаю, что эта валюта имеет больше шансов пережить любую войну, нежели европейская. Здесь же акции швейцарской часовой фирмы «Лонжин». Наверное, и их не коснутся грядущие трагедии. Хотя кто знает… Что касается писем и бумаг, то ты имеешь право прочесть их, но никому, ни при каких обстоятельствах не должен их показывать. Впрочем, если у меня будет время и возможности, я постараюсь их уничтожить.
Сергей Серафимович поглядел на оторопевшего Андрея и улыбнулся, как всегда холодно, одними губами:
— Их давно надо было уничтожить — всего с собой не возьмешь. Я слишком здесь зажился.
С этими словами он закрыл сейф, взял у Андрея ключи, запер его и вернул портрет на место. Молодой офицер глядел на Андрея строго, даже сурово.
— Ты все запомнил? — спросил отчим.
— Да. — Андрей чувствовал себя неловко.
Он был бы рад уйти. Но нельзя. Чтобы отвлечься от странных поступков отчима, он подмигнул портрету. Портрет, по семейному преданию, изображал прадеда Сергея Серафимовича. «А может, это я сам», — шутил отчим, если кто-нибудь из гостей обращал внимание на сходство офицера и отчима.
— Перейдем ко второму действию семейной мелодрамы, — сказал отчим. Он пересек кабинет и у самого книжного шкафа резким движением откинул угол ковра. Затем присел на корточки.
Паркет под ковром был точно таким же, как и на открытых участках пола. Он был набран квадратами из светлых и темных планок.
— От ножки шкафа, — сказал Сергей Серафимович, ведя указательным пальцем по паркету, — третий квадрат.
Он показал на темный квадрат со стороной примерно в пядь, который ничем не отличался от соседних. Затем раскрыл прикрепленный к цепочке с часами перочинный ножик и, подцепив лезвием, приподнял одну из планок. Под паркетом обнаружилось углубление, дно которого представляло собой металлическую пластину.
— Для этого у тебя есть второй ключ, — сказал Сергей Серафимович. — Открывай.
Андрей присел рядом с отчимом и вставил ключ в отверстие в пластине.
— По часовой стрелке, — сказал Сергей Серафимович. — Два раза.
Раздался щелчок, и крышка легко открылась, обнаружив внутри такой же металлический ящичек, что лежал в сейфе. Он был набит кожаными коробочками. Сергей Серафимович взял верхнюю и раскрыл ее. В коробочке лежала золотая брошь, усеянная изумрудами.
Храня молчание, отчим открыл поочередно еще несколько коробочек, показав Андрею их содержимое — разного рода драгоценности, из которых Андрею запомнился лишь массивный перстень с опаловой камеей.
Затем он молча сложил все обратно, закрыл шкатулку, восстановил паркет и положил на место ковер. На этот раз он поднимался тяжело, ему пришлось опереться на руку Андрея. Отчим поморщился, недовольный собой, и сказал:
— Прости.
Он перевел дух, затем спрятал ключи в ящик стола, закрыл его и окинул взглядом кабинет, чтобы убедиться, что все стоит на своих местах и не напоминает о происшедших там событиях.
— Перейдем на веранду, — сказал отчим. — Здесь душно.
И тут Андрей понял, что в кабинете и впрямь душно, настолько, что у него вспотела спина и по виску стекла струйка пота.
— Обеда-а-ать! — закричала снизу Глаша, когда они вышли на веранду.
— Три минуты, — откликнулся Сергей Серафимович.
— Вы можете секретничать и за столом!
— За столом не секретничают, — отозвался Сергей Серафимович. В голосе его было облегчение, словно он скинул тяжкую ношу.
Он прошел к столику, разлил остатки шампанского, поднял свой бокал и негромко сказал:
— За удачу.
Андрей выпил с наслаждением и жадностью.
— Глаша знает обо всем, — сказал Сергей Серафимович. — Но ей ничего не нужно.
— Я не претендую! — сказал Андрей. — Мне не нужно чужое имущество. Я не имею на это никакого права.
— Господи, он говорит о правах! — сказал Сергей Серафимович.
— Даю честное благородное слово…
— Оставь, Андрей, — сказал Сергей Серафимович. — Я тебе ничего не дарю, ничего не обещаю. Но, отлично зная тебя и полагая, что ты честный человек, я хочу, чтобы ты понимал, что являешься наследником некоторого состояния, которое ты не промотаешь с гимназистками.
— Сергей Серафимович!
— Дослушай меня! Ты пока ничего не понял. Я утверждаю, на основании моего немалого жизненного опыта, что ближайшие времена для нашей державы будут страшными и трудными. Я должен быть уверенным, что в случае нужды, в случае необходимости, о чем решать тебе, когда меня уже не будет, ты получишь резерв, который поможет тебе выжить.
— Спасибо, — сказал Андрей, борясь с растущим в нем раздражением, причины которого он еще не мог понять, — но я постараюсь сам заработать себе на жизнь.
— Дай Бог, — сухо сказал Сергей Серафимович. — А теперь обедать.
И он первым пошел к двери, словно забыл об Андрее.
Андрей спускался за ним по лестнице, глядя на седой, откинутый назад затылок отчима, и уже понял, чем он так рассержен: столько лет они с тетей жили в бедности, тетя поднимала его, Андрея, в основном на свое скромное жалованье, ибо субсидии от отчима были весьма скудны. Оказывается, тот сидел гобсеком на своих богатствах, вовсе не думая о судьбе пасынка. «Никогда в жизни, — твердил Андрей, — никогда в жизни не трону твоих проклятых побрякушек».
Глаша сидела с ними за столом, на ней был сарафан с открытыми плечами и таким низким вырезом, что Андрею были видны ее груди. И это сейчас тоже раздражало.
Глаша суетилась, все уговаривала Андрея поесть окрошки, тот отмалчивался.
— Ты что? — спросила Глаша. — Может, на что обиделся?
— Он обиделся, — сказал Сергей Серафимович, кладя трубку рядом с собой на стол. — Я бы на его месте тоже обиделся.
Андрей посмотрел на него. Сергей Серафимович опять улыбался.
— Не сердись, — сказал отчим. — Ты думаешь сейчас: почему мы с тетей Маней все эти годы жили столь скромно… Не крути головой, я знаю, что говорю. Отвечу тебе: я делал это вполне сознательно. Я знал, что ты не испытываешь нужды в насущном, но главное — не желал, чтобы ты был богаче других. Ты именно таков, как есть, потому что не имел лишнего. Будь ты богат, ты стал бы хуже. Человек должен вырасти вне власти денег.
Андрей не ответил. Ему не хотелось признаться, что мысли его оказались столь просты, что отчим разгадал их сразу, но обида так и не прошла.
— Сегодня я наблюдал за тобой, — продолжал Сергей Серафимович. — И обрадовался, что в тебе не вспыхнула алчность. Обида твоя направлена в прошлое.
Сергей Серафимович отодвинул тарелку с тушеной бараниной и начал набивать трубку.
— Ты вечером уходишь? — спросил Андрея Сергей Серафимович.
— Да, я договорился встретиться с товарищами.
— Возвращайся не поздно, — сказал отчим. — У меня будут интересные гости. И для тебя интересные.
— Спасибо.
— А сейчас поспи, — сказала Глаша. — Самая жара, чего тебе делать? Я тебе внизу постелила, в детской.
— Сиеста — святой обычай испанцев, — сказал Сергей Серафимович и направился к лестнице, наверх, к себе в кабинет.
Андрей вошел в маленькую комнату, где он всегда останавливался, потому она звалась детской. Андрей присел на кровать, и она так знакомо отозвалась скрипом пружин, словно и не расставалась с ним. Думать ни о чем не хотелось.
На столике рядом с кроватью стояла тарелка с белой черешней и ранними абрикосами. Глаша постаралась.
Андрей скинул ботинки и улегся поверх покрывала. Воздух был неподвижен и тих, только жужжали мухи. «Надо бы раздеться», — подумал Андрей и заснул.
Андрей проснулся около семи вечера. Солнце ушло из комнаты, прозрачные виноградные листья пологом светились за распахнутым окном, и в него влетал свежий ветер, дергая за занавеску, словно размахивая флагом. Вдали трепетал пронзительный женский голос, по-татарски отчитывая кого-то. Татарский Андрей знал через пень-колоду от соседских мальчишек, с детства. Потом, повзрослев, товарищи детских игр либо исчезли из его мира, либо предпочитали говорить по-русски.
От свежего, пахнущего морем ветра было приятно и лениво.
Сначала Андрей понял, что он в Ялте и это хорошо. Потом в память вторгся голос Сергея Серафимовича, и сразу вспомнилась странная сцена в кабинете, словно из романа тайн и ужасов…
Андрей потянулся и понял вдруг, что ему и дела нет до коробочек под паркетом и писем в сейфе. Этого не было в его жизни вчера, и отлично жилось… А счет в Коммерческом банке? Пускай будет счет в Коммерческом банке. По крайней мере теперь не будет угрызений совести, что ради него отчим вынужден себе в чем-то отказывать. Даже лучше…
Андрей сбросил ноги с постели и обнаружил, что гимназические брюки измялись. Это было плохо — потому что на набережной, куда он собрался, еще совсем светло и там разгуливают франты из Петербурга. Угораздило же его заснуть не раздеваясь…
Но он даже не успел расстроиться, как без стука вошла Глаша. Она несла, держа перед собой, отлично отглаженные, новые черные узкие брюки. Не говоря ни слова, она повесила их на спинку стула. И, сложив руки на высокой груди, склонила голову. Ее зеленые глаза смеялись.
— Хорошо я придумала? — спросила она.
— Ты умница! — воскликнул Андрей, поднимаясь. — Ты ангел — но во плоти.
— Плоти во мне достаточно, — сказала Глаша, уклоняясь от его рук. Но Андрей обнял ее — искренне хотел, чтобы объятия были братскими, но как только его пальцы дотронулись до белых плеч, все в Андрее сжалось от вспыхнувшего желания, и он притянул к себе служанку, перехватил руками, чтобы прижать теснее, и ее смеющееся лицо оказалось совсем рядом, она отклонила голову, чтобы поцелуй не пришелся в губы.
— Полно, — говорила она, смеясь, — ну что ты, Андрю-у-уша…
Андрей искал ее губы, повторяя:
— Надо, надо, надо…
Глаша вздохнула, она умела как-то особенно глубоко и шумно вздыхать, и вдруг повернула к нему лицо, приоткрыла губы и сама начала целовать его, ласкать его губы языком, прижавшись всем телом, отчего у Андрея закружилась голова и рука — сам не понял, как случилось, — отыскала ее грудь, мягкую и большую.
Глаша ахнула и рванулась.
И вот она уже стоит в двух шагах, подняв руки, поправляя прическу и уже не смеясь. Андрей сделал шаг к ней, она отступила к двери.
— Не надо, — сказала она. — Ну зачем так? Я же брюки принесла.
— Спасибо, — сказал Андрей и понял, что нельзя более дотронуться до нее.
— Я тебе в матери гожусь, — заявила вдруг Глаша, словно прочитала эти слова в книге.
— Вряд ли, — сказал Андрей, и ему стало смешно.
Глаша много читала, но только романы, в «Женском журнале», в «Ниве». Романы о любви. Порой она вечером пересказывала их за столом. Пересказывала она очень смешно, со своими комментариями, романы получались еще глупее и наивнее, чем в самом деле.
— Нет, правда, — сказала Глаша неуверенно. — Мне уже тридцать три будет.
— Еще скажешь, что в люльке меня качала.
— Качала, — сказала Глаша. — Это правда. Ей-богу, качала.
Тут Андрей совсем развеселился, а Глаша почему-то обиделась и сказала:
— Ты примерь, может, не подойдут, я тебе еще вчера купила по старым, которые ты в том году здесь оставил. Но с запасом.
Она закрыла за собой дверь.
Андрей сразу примерил брюки — они были в самый раз, даже чуть узковаты. И материал был дорогой. Любопытно, Сергей Серафимович дал ей денег или она сама?
Дом Сергея Серафимовича был комфортабельным. Второго такого в Ялте не найдешь. Даже у высокой знати. К каждой спальне (их было четыре: на первом этаже жила Глаша и пустовали две — детская и гостевая, на втором — обитал лишь Сергей Серафимович) была приспособлена туалетная комната, где были умывальник, душ и фаянсовый унитаз. Андрей привел себя в порядок, помылся, достал свежую сорочку и через три минуты, поглядев в большое зеркало, убедился, что готов к боям и походам, Андрей де Берестов — гроза молодых барышень!
Сергей Серафимович был в саду. Он срезал розы — розарий у него был великолепный; как утверждала Глаша, именно увлечение розами послужило причиной его недолговременной дружбы с покойным Чеховым. Если ждали гостей, отчим готовил букет.
Это занятие столь увлекло Сергея Серафимовича, что он не заметил, как элегантно одет его пасынок. Он лишь рассеянно помахал ему. Но Глаша, которая уже успела убежать на двор, к своим любимым курам, взмахнула руками, изображая восторг и преклонение, чем рассмешила Андрея.
Андрей быстро шел вниз, по крутой улице. Море то показывалось спереди между деревьев или домов, то скрывалось; с каждым шагом становилось теплее и влажней. Уже внизу Андрей замедлил шаги, стало почти жарко. Он остановился возле ларька, в котором мрачный грек торговал сельтерской. Перед ним стояли две толстые дамы, от которых сильно пахло цветочными духами.
И именно в тот момент, когда дамы отошли со стаканами, продолжая громко осуждать какого-то Алексея Львовича, который ведет себя совершенно неприлично, а грек протянул руку к высокому стеклянному сифону, готовый обслужить Андрея, того посетила грустная мысль — его портмоне осталось на столике в детской, а мелочь — в кармане гимназических брюк. И он оказался на набережной совершенно нищим.
— Спасибо, я передумал, — сказал Андрей греку.
Можно было поспешить наверх, домой, за деньгами — но это четверть часа в гору быстрым шагом, а в восемь у гостиницы «Мариано» его ждет Коля. Но остаться без копейки денег…
— Эх, черт! — выругался Андрей и махнул рукой, толкнув девушку, стоявшую за его спиной. Да так неудачно, что у нее слетела белая шляпка.
Человек редко замечает то мгновение, с которого жизнь его изменяет ход и приобретает новое направление. У Андрея случилось иначе. Он точно знал, что переворот в его жизни произошел в тот момент, когда он сказал: «Эх, черт!» — и сбил шляпку с Лиды.
В тот момент он, разумеется, не подозревал, что ту девушку зовут Лидой. Он лишь увидел, как шляпка неровно планирует, словно аэроплан, у которого выключился мотор, намереваясь угодить в лужу, натекшую у ларька с сельтерской. И, сообразив, что, если шляпка не будет поймана, вина его усугубится, Андрей коршуном кинулся вслед за шляпкой, поскользнулся и чуть не сел в лужу, правда, шляпку успел подхватить, хотя помял ее в кулаке.
Еще мало что соображая, Андрей выпрямился и услышал звонкий девичий голос:
— Может быть, вы мне ее вернете?
Андрей обернулся к голосу, все еще думая о невезении, которое преследует его сегодня, и увидел девушку, которая протягивала к нему руку.
Девушка точно сошла с рождественской открытки, ибо была неправдоподобно и ангельски хороша, хотя следует признать, что девицы с рождественских открыток, а также розочки и вазончики оставляли Андрея равнодушным, ибо он был воспитан в правилах хорошего вкуса. Если человек читает футуристов и своим богом в искусстве почитает Гогена, он не может опускаться до мещанских красот.
Вторым ощущением, исходившим от девушки, было ощущение безмерной, неправдоподобной чистоты. Кожа, покрытая легким золотистым загаром, была без единой точки, прыщика или морщинки; она столь совершенно облекала лицо, шею и руки, словно ее сотворила не сама природа, которая всегда допускает неточности и неровности для жизненности и правдоподобия, а мириады фей и Дюймовочек, что выглаживали, вылизывали щеки и наносили на них легкий румянец, так, чтобы не нарушить общей гармонии и ничуть не противоречить цвету нежно-зефирных губ, очерченных с помощью совершенных чертежных инструментов, и подчеркнуть высокогорную белизну белков, в которых сверкали ледниковые голубые озера. Это потом Андрей сообразит, что нос Лиды вовсе не точен, как бы следовало, а мягок к кончику, лоб чуть шире, чем положено по открыточным канонам, а волосы, столь нежно и естественно вьющиеся и локонами спадающие на плечи, в самом деле требуют завивки, иначе распрямляются и тогда красота несколько теряет рождественский стиль. Иных дефектов в Лиде Андрей не обнаружил ни в тот момент, ни в последующие годы.
На девушке было длинное голубое платье, не доходившее до земли на вершок, отчего были видны тонкие щиколотки в белых чулках и башмачки на небольших каблуках. На груди и плечах платья проходили белые полоски, и, не будучи матроской, платье все же создавало ощущение чего-то морского.
Девушка приняла из руки Андрея шляпку и стала ее распрямлять. Шляпка была соломенной с синим бантом, и рука Андрея нанесла ей некоторый ущерб, что огорчило девушку. Она не глядела на Андрея, а водила рукой внутри шляпки, расправляя соломку.
Андрей же, не в силах оторвать от девушки взгляда, стоял столбом, не представляя, что же делать дальше. И только женский голос, произнесший повелительно:
— Простите, но ваши брюки испорчены, — заставил его заметить, что девушка не одна, а с подругой — яркой кареглазой брюнеткой с высокой, собранной в пук прической.
Более ничего заметить во второй девушке Андрей не успел, потому что, повинуясь ее голосу, обратил свой взор к брюкам. Сбоку шла полоса грязи, особенно видная на черной ткани.
— Купите стакан сельтерской, — приказала кареглазая девица, — и смойте грязь.
Андрей почувствовал вспышку ненависти к кареглазой девице, потому что у него не было двух копеек на стакан сельтерской, а сознаться в том было невозможно.
Рождественская девушка на него не смотрела, а все крутила в руках шляпку, локоны закрыли ее лицо, и видно было лишь покрасневшее маленькое ухо. Оттого наваждение покинуло Андрея, и он смог соображать. И понял, что единственный для него выход — вернуться домой, к доброй Глаше.
— Ничего, — сказал он. — Я тут близко живу.
И быстро зашагал прочь, непроизвольно похлопывая и возя ладонью по брючине, чтобы снять с нее грязь. Ему показалось, что сзади засмеялись, и он прибавил шагу.
И в этот момент его ладонь ощутила некую неровность в боковом кармане. У Андрея мелькнула мысль — не положила ли Глаша в карман носовой платок. Глаша могла предусмотреть нужду в платке.
Он угадал. Это было если не спасением, то каким-то выходом из положения. Андрей остановился и стал затирать грязь платком и тут же задумался: не проявила ли Глафира иной сообразительности… Он провел рукой по другому карману. Пусто. По заднему карману. Тоже пусто. Нет, не догадалась… «Постой, — сказал он себе, — есть еще кармашек для часов».
Андрей запустил в него пальцы и извлек на свет — ах, Глаша, умный друг! — завернутые в синюю пятерку три серебряных рубля.
Когда Андрей вернулся к продавцу сельтерской, возле него никого не было. Андрей кинул на жестяной прилавок серебряный рубль и сказал:
— Два стакана.
Грек посмотрел на рубль с недоверием — видно, у него уже сложилось собственное невысокое мнение об этом молодом человеке — и, налив стакан, начал медленно отсчитывать сдачу медяками. Андрей выпил стакан залпом, затем вытащил платок и второй стакан пустил на спасение брюк, что ему вполне удалось. Мокрое пятно на черном было вовсе незаметно.
Скоро восемь — Коля ждет у «Мариано». Андрей вышел на набережную и быстро пошел по ней, крутя головой, потому что надеялся, что две девушки ушли не так далеко и можно будет их отыскать.
Но тут пришлось остановиться, потому что по набережной навстречу ехала знакомая пролетка. На козлах в образе шоффэра сидел Ахмет, а на сиденье — прелестная и явно знатная девица с молодым человеком с незначительным, но аристократическим лицом. Знатность девицы определялась не только скромностью ее туалета, но и тем, что единственным украшением на ней была чрезвычайно длинная, до пояса, нить жемчужных бус.
— Эй! — окликнул Андрея Ахмет. — Коля там тебя заждался!
Почему-то молодому аристократу не понравилось, что Ахмет разговаривает с прохожим, и он постучал по облучку тросточкой, которую держал на коленях.
— Простите, Ваше Высочество! — сказал Ахмет громче, чем требовалось.
Он легонько стегнул Тигра, и пролетка покатила дальше.
Когда Андрей наконец дошел до «Мариано», Коля уже ждал его там. Вместе со своими знакомыми.
К крайнему удивлению Андрея, ими оказались рождественская девушка, шляпку которой он чуть не погубил, и ее кареглазая приятельница.
При виде Андрея, нерешительно остановившегося в двух шагах, кареглазая девушка вдруг засмеялась, а Коля, не знавший причины смеха, сказал церемонно:
— Разрешите представить: мой друг — Андрей Берестов.
— Мы знакомы, — сказала кареглазая девушка. — Ваш друг совершил на нас нападение.
— Маргарита, не надо, — сказала рождественская девушка. — Андрей не виноват.
Она протянула Андрею руку. Рука была узкой, сухой, с длинными прохладными пальцами.
— Лидия Иваницкая.
— Что за тайны! — воскликнул Коля. — Неужели наш Андрей вел себя недостойно?
— Я у сельтерского киоска… — сказал Андрей. — Толкнул нечаянно.
— Судьба направляет наши действия, — сказал Коля с явным облегчением. Он любил во всем ясность. Киоск и нечаянное столкновение были объяснимы и понятны.
— Маргарита, — протянула Андрею руку вторая девушка.
— Раз уж мы познакомились, — сказал Коля, — предлагаю для начала мороженое. У господина Лагидзе. Там мы сможем неспешно обсудить, что будем делать дальше.
«Воды Лагидзе» — большой открытый павильон — располагались чуть отступив от набережной, за старым, могучим платаном. Они сели за столик у белых перил, совсем рядом журчала речка, за ней были видны окна гостиницы «Ореанда», а напротив — ряд татарских домиков, выстроившийся вдоль пляжа.
— Что будем заказывать? — спросил Коля.
— Мне — грушевую, — сказала Маргарита.
— А мне — мандариновую.
— Мороженое — крем-брюле?
— Ненавижу крем-брюле, — сказала Маргарита. — Попросите шоколадное.
Подошел официант. Коля сделал заказ, Андрей видел профиль Лиды, очерченный закатным солнцем. Лучики пробивались сквозь русые волосы и зажигали их золотом. «Господи, — молил Бога Андрей, понимая всю тщету своей молитвы, — сделай так, чтобы Коля был влюблен в Маргариту, я отдам за это все сокровища Сергея Серафимовича». Это мысленное обещание, словно миллионная ставка в Монте-Карло, сделанная босяком, не имеющим ни су в кармане, лишь свидетельствовало о том, что Андрей смирился с проигрышем. И это было ужасно: именно сегодня, когда он встретил девушку, которая отвечала всем требованиям романтического идеала, она окажется объектом увлечения друга, то есть табу…
— Простите, — Андрей дотронулся до рукава официанта. — И еще бутылку шампанского.
Это было непорядочно, потому что Андрей отлично знал, что у Коли почти нет денег. А ведь приглашал сюда он, значит, и расплачиваться следовало ему.
— У нас только «Клико», — сказал официант, как бы давая понять, что подобные развлечения молодым людям не по карману.
— Не надо шампанского, — сказала Лида. — Зачем это?
Андрей отвел глаза, чтобы не встретить настойчивого взгляда Коли. Ему злорадно захотелось подразнить друга. Но тут же он устыдился, незаметно подмигнул Беккеру, как бы давая понять: все в порядке. Коля понял, но все равно был недоволен и не придумал ничего лучше, как взрослым голосом завсегдатая спросить:
— Сколько же вы за бутылку берете?
«Сейчас он скажет — десять рублей, — подумал Андрей, — и отказываться придется мне».
— Шесть рублей, — сказал официант. — Как везде.
— Несите, — сказал Андрей, — несите, голубчик.
— А я не испугалась, — сказала Маргарита. — Вы не знаете, а по набережной гуляет папин приятель. Когда бы вы разорились, я бы побежала к нему и одолжила.
— Не люблю хвастунов, — сказала Лида.
— Мой папа — купец второй гильдии, — сказал Андрей. — Мы торгуем скобяным товаром.
— А что такое скобяной товар? — спросила Маргарита. Она закусила полную нижнюю губу, стараясь не рассмеяться.
— По-моему, это сковородки, — сказал Андрей таким тоном, чтобы никто не подумал, что он действительно может иметь отношение к скобяному товару.
Принесли мороженое и шампанское. Шампанское было теплым и совсем не таким вкусным, как днем у отчима. Андрей старался не глазеть на Лиду, но не мог не любоваться тем, как она подносит бокал к губам, как держит ложечку с мороженым, даже как откидывает мешающую ей прядь волос.
Маргарита, как выяснилось в разговоре, гостила здесь у Лидочки. Они были знакомы домами, отец Лиды служил в управлении Ялтинского порта, а раньше, много лет назад, жил в Одессе. Там они и подружились с отцом Маргариты, одесским судовладельцем Потаповым.
Коля оказывал Лиде особые подчеркнутые знаки внимания, впрочем, он был любезен и с Маргаритой.
Андрей подумал, что сейчас придет официант и надо сделать так, чтобы не подвести друга. Он поднялся с места, попросил прощения у дам и сказал Коле:
— Мне нужно сказать тебе два слова.
Они отошли к выходу из кафе. Андрей заранее сложил пятерку так, чтобы серебряный рубль лежал внутри. Он протянул деньги Коле. Тот сразу все понял и сказал:
— Не понимаю твоего гусарства. Ты что, получил наследство?
— Прости, нечаянно так вышло.
— Ты мог поставить меня в неловкое положение.
В Колином голосе появились знакомые нравоучительные интонации старшего брата.
— Ты лучше скажи, — спросил Андрей, — которая Татьяна?
— У тебя могли быть сомнения? — Коля достал портмоне, раскрыл его и вложил пятерку в кармашек, где уже лежали три рубля, а монету положил в другое отделение. Только тогда добавил: — Надеюсь, что ты будешь вести себя в рамках хорошего тона.
— Сергей Серафимович просил меня пораньше вернуться домой, — сказал Андрей. — Так что я вас скоро покину.
— И не мечтай, — сказал Коля. — Если ты мне друг, тебе придется остаться. Твое присутствие входит в мои планы.
— Мне честное слово надо…
— Ну полно, Андрюша.
И Коля быстро пошел к столу, так что Андрею ничего не оставалось, как говорить ему в спину. В таком случае лучше промолчать.
Андрей понял Колю однозначно: как и следовало ожидать, его избранница — Лидочка, хоть прямо в том Коля не признался. Происходило это убеждение оттого, что самому Андрею полногрудая, громкая, пышноволосая Маргарита не понравилась и не верилось, что она может понравиться Коле.
Когда они снова вышли на набережную, Коля предложил покататься на пароходике «Анапа», который ждал пассажиров, чтобы сделать круг по Ялтинской бухте. Но девушки воспротивились — уже было темно, десятый час, и им скоро возвращаться домой.
Они пошли по набережной дальше, за «Ореанду», в парк. В ресторане «Голубой залив» играл духовой оркестр, с моря донесся гудок парохода, аллеи были освещены электрическими фонарями. Идти вчетвером в ряд по аллее было трудно. Коля взял Лиду под руку и повел вперед. Маргарита спросила:
— Вы, наверное, пишете стихи?
— Почему вы так думаете? — сказал Андрей.
— Вам никто не говорил, что у вас романтическая внешность?
Андрей смотрел на тонкую фигурку Лидии. Порой она поворачивала голову к Коле, и тот склонялся к ней. Андрею очень хотелось, чтобы Лида отняла у Коли руку.
— Хотите, я почитаю вам Блока? — спросила Маргарита.
— Не знаю, — сказал Андрей.
Они вышли к обрыву над морем. Маргарита схватила Андрея за руку горячими крепкими пальцами и повлекла к Лиде с Колей.
— Послушайте, послушайте! — воскликнула она. — Этот момент требует поэзии!
Она начала быстро, захлебываясь, читать Блока и не отпускала пальцев Андрея, а ему неловко было вырывать руку. Коля скучал, он смотрел на море. Андрей увидел, как он поднял руку и положил ее на плечо Лиде.
«Убери руку, — приказывал мысленно Андрей. — Сейчас же! Лида, убери его руку. Это же неприлично!»
— Я хотела бы летать, — сказала Маргарита. — Давайте посидим здесь, полюбуемся морем.
Она первой села на лавочку и потянула за собой Андрея.
Андрей обернулся. Коля увел Лидию прочь. И ведь не кинешься следом. Ничего не сделаешь.
Маргарита закрыла глаза.
— Какая божественная тишина! — прошептала она.
Совсем рядом взвизгнула кошка, и кто-то выругался в кустах.
Маргарита смотрела перед собой. Нос у нее был крупный, костистый, щеки выдавались остро. Густые ресницы затеняли глаза.
— Они ушли, — сказала она. — Этого следовало ожидать. Вам грустно, потому что вам понравилась моя Лидочка. Моя фарфоровая девочка.
— Нет, напротив, — сказал Андрей.
— Не надо лжи, — сказала Маргарита. — Я чувствую мужчин. Я видела, как вы на нее смотрели. Потерпите и получите свое.
— Ничего подобного!
Человек более всего возражает, когда слышит о себе правду.
— Я вас скоро отпущу, но выполните одну мою просьбу.
— Пожалуйста.
— Посидите здесь со мной хотя бы десять минут и постарайтесь не думать о том, что ваш друг сейчас целуется в темной аллее с простушкой Лидочкой.
Маргарита связала платочек в узел и теперь дергала за концы, затягивая его все туже.
Андрей старался побороть в себе желание кинуться туда, в эти самые темные аллеи, чтобы разлучить Колю и Лиду. Простушка? Какое гадкое слово!
— Это все — кафешантан! — продолжала между тем Маргарита. — Я знаю этому цену!
Платок разорвался — отлетела кружевная кайма.
— Я вас не понимаю!
— В отличие от вас я знаю жизнь, — отрезала Маргарита. — У меня немало недостатков, но глупость к ним не относится. И я не терплю пошлости!
— Сколько вам лет? — не выдержав, спросил Андрей.
— Не важно. Может быть, мы с вами ровесники, но женщина всегда старше мужчины.
Маргарита смотрела в море. Стало совсем темно, и огоньки на море — верно, на рыбачьих лодках, а может, отражения звезд — были редки и неярки. Звук ресторанного оркестра долетал лишь ровным буханьем барабана.
— Лидочка — чудесное существо, — сказала вдруг Маргарита. — Добрая и в то же время эгоистическая, бескорыстная и избалованная, легкомысленная и расчетливая — она кажется себе такой, какой ее представляют влюбленные мужчины. Ей суждено страдать.
— Вы рассуждаете, словно ревнуете, — сказал Андрей.
— Скорее жалею. Ваш друг — настоящий мужчина. Завоеватель. Гунн. Если моя крепость ему не сдалась, он кинулся к другой, слабенькой.
— Коля — обыкновенный человек… Нет, я не хотел сказать — обыкновенный. Он очень способный. Он окончил гимназию с медалью.
— Еще бы, — сказала Маргарита не без злорадства, — с такими родственниками можно было бы учиться и в Александровском лицее.
— С какими родственниками?
— Вы же его друг — вам лучше знать, что его дядя барон фон Беккер один из самых богатых промышленников в Риге.
— Дядя? В Риге?
Андрей осекся. Еще мгновение, и он предаст друга. Конечно же, Коля, который так стесняется своей бедности, придумал для них красивую историю о богатом дяде и даже эту приставку — фон! Нет, он не будет раскрывать глаза Маргарите, но Ахмету он завтра же расскажет… фон Беккер! Надо же!
— Он лгал? — спросила проницательная Маргарита.
— Может быть, и есть дядя, — сказал Андрей, стараясь говорить естественно. — Я не знаю.
— Вы покрываете его.
— А какая разница? — сказал Андрей. — Неужели вы судите о человеке по его родственникам?
— Как вы наивны! — ответила Маргарита. — Я презираю титулы! Я жду восстания, которое сметет эту жалкую мишуру!
— Тогда я вам скажу, что у меня нет никакого богатого дяди в Риге. И вообще у меня никого нет, кроме моей тети, которая трудится на ниве филантропии, за что получает небольшое жалованье. И мне не на кого надеяться…
«Зачем я это говорю? — подумал Андрей. — Ведь это тоже ложь!» Сегодня днем он вместе с отчимом ползал по его кабинету и рассматривал коробочки с драгоценностями.
— Жаль, что вы бедный, — прервала филиппику Андрея Маргарита. — Иначе бы мы с вами каждый вечер пили шампанское на набережной. — Она аффектированно рассмеялась.
— Пойдемте, — сказал Андрей. — Я провожу вас. Уже поздно, и ваши родные будут беспокоиться.
— Простите, если я вас обидела. Это все мой вредный язык. Некрасивой девушке приходится быть умной.
Они шли на расстоянии шага друг от друга, Андрей стал насвистывать. Тетя всегда говорила, что свист — признак дурного воспитания. И Андрею хотелось, чтобы Маргарита убедилась в том, что он плохо воспитан. Как все пошло получилось! Весь мир построен на лжи и лицемерии, и за рождественской открыткой скрывается мушка, которая норовит попасть в сети богатенького паука…
Извозчики стояли у входа в «Ореанду». С моря потянуло подвальной сыростью, поднимался ветер и гнал перед собой волны — они бились в набережную, с каждой минутой все сильнее. Звезды заволокло мглой.
Маргарита остановилась, повернулась к Андрею. Глаза ее в полумраке были огромны и бездонны.
— Спасибо за чудесный вечер, — церемонно сказала она. Протянула ему руку, высоко, для поцелуя.
Андрей поцеловал руку.
— Я вас довезу, — сказал он.
— Прощайте, у меня есть полтинник, — сказала Маргарита.
Она легко вскочила в пролетку. Извозчик крикнул лошади по-татарски, и та легко взяла с места.
Андрей смотрел вслед Маргарите. Она не обернулась.
Настроение было испорчено окончательно. Андрей пошел было к морю, чтобы посмотреть на прибой, но тут увидел под светом далекого фонаря, что из парка идут под руку Беккер и Лида. Они были еще далеко и не могли его увидеть, тем более что были погружены в разговор. Но Андрея охватил страх, что они его заметят. Он подбежал к свободному извозчику, вскочил в пролетку и сказал адрес.
Последний рубль Андрей разменял, расплатившись с извозчиком. Извозчик ворчал, увидев, что ему придется пятиться под горку: площадка перед домом Сергея Серафимовича была занята. Там стояли три экипажа и длинное черное авто, которое Андрей видел на набережной.
«Ого, какие гости у дяди! — подумал он. — Жаль, что Коля Беккер не знал, а то бы бросил свою рождественскую Лидочку и примчался сюда». Может быть, Андрей был в тот момент несправедлив к другу, но обида и разочарование все еще владели им.
Не только дом был освещен — вдоль аллеи, что вела от ворот, горели гирляндой лампочки. Веранда второго этажа была пуста — значит, гости внизу, где в склоне вырублена широкая терраса, с которой открывается вид на бухту.
— Андрей, — послышалось из темноты. — Андрюша, друг мой!
— Ахмет? Ты что здесь делаешь?
Ахмет стоял возле забора, глядя внутрь сквозь живую изгородь.
В темноте голубым сверкнули его зубы.
— Я подглядываю, ваше превосходительство, — сказал он. — И заслуживаю самой суровой кары.
— В самом деле, скажи!
— Ты что, забыл, кто я? Я извозчик, татарский извозчик, которого, как ты знаешь, наняли высокие господа, потому что их собственный красивый, выписанный из Парижа экипаж приказал долго жить по причине неаккуратности привезенного из Петербурга пьяницы-кучера, каковой лежит в больнице со сломанной ногой.
Ахмет отрапортовал скороговоркой. Он, как всегда, кого-то изображал, но на этот раз Андрей не догадался кого.
— Черт побери, я же забыл, — сказал Андрей. — Они еще долго будут там?
— Куда им спешить?
— Тогда пошли ко мне.
— Ничего, мы здесь постоим, а вдруг господа рассердятся.
— Иногда я готов тебя убить, Керимов.
— Хорошо, пойдем, напоишь меня чаем на кухне.
— Скажи извозчикам, что ты у меня. Если нужно, тебя позовут.
Они вошли в калитку. Электрические лампочки придавали саду карнавальный вид. Со стороны террасы доносились голоса.
В прихожей горел электрический свет. Андрей отворил дверь к себе в комнату и тут же услышал голос Глаши:
— Андрюша, ты куда? Ты к гостям иди.
— Я друга встретил, — сказал Андрей. — Нам с ним поговорить надо.
Глаша держала в руках поднос с маленькими тарталетками.
— Если ты голодный, — сказал Андрей Ахмету, — угощайся.
Он взял с подноса несколько тарталеток, нарушив этим всю композицию. Ахмет не осмелился последовать его примеру.
— Кушайте, — сказала Глаша, — не стесняйтесь. Вы же, наверное, весь день за рулем?
Глаша приняла Ахмета за шоффэра.
— Ахмет, мой приятель по гимназии, — сказал Андрей строго, как бы извлекая этими словами друга из пучины, в которой пребывает прислуга.
Глаша тем временем поставила поднос на столик и привела в порядок горку тарталеток. Андрей протянул тарталетку Ахмету.
— Мы не одеты, — сказал он. — А там знатные гости.
— Что ты, там все попросту! Ты же знаешь, Сергей Серафимович не выносит церемоний.
Но Андрей отрицательно покачал головой, буквально втолкнул Ахмета в свою комнату и показал ему на плетеное кресло.
— Знаешь, что я придумал? Пойду на кухню, согрею чаю, а ты снимай сапоги и ложись поспи.
— Это дело, — согласился Ахмет. — Как хорошо встретить скромного друга в высших сферах российского общества.
Вошел Сергей Серафимович.
— Глафира сказала, что ты пришел с другом, — сказал он.
— Да, Сергей Серафимович, — сказал Андрей. — Мой друг, Ахмет Керимов, мы с ним вместе учились в гимназии.
— Очень приятно. — Сергей Серафимович протянул Ахмету руку, и тому пришлось переложить в левую только что снятый сапог. — Разумеется, если вы устали, я не могу заставлять вас сидеть с гостями.
— Не знаю. — Андрей обернулся к Ахмету.
Тот сказал:
— Я одет не как положено…
— Я наблюдателен, — сказал Сергей Серафимович. — Но советую, для вашего же удобства, — снимите эти кожаные латы, и ваши работодатели не смогут раскрыть ваше инкогнито.
Андрей ничего не сказал, потому что перехватил загоревшийся взгляд Ахмета и увидел, как рука его друга уже тянется к пуговицам кожаного пиджака.
— Мы скоро придем, — сказал Андрей.
На террасе, очерченной каменным парапетом, над которым виднелись острые вершинки растущих на крутом склоне кипарисов, Глаша обносила гостей, сидевших в соломенных креслах либо стоявших у парапета, подносом с тарталетками. Терраса была освещена такими же фонариками, как аллея в саду. И ощущение карнавала снова овладело Андреем.
— Прошу любить и жаловать, — сказал Сергей Серафимович, увидев Андрея и Ахмета. — Мой пасынок и его гимназический друг.
Гости встретили пришедших негромкими разрозненными возгласами приветствия, впрочем, особого внимания молодые люди не удостоились. Высокий, довольно молодой мужчина с мелкими незначительными чертами красивого лица продолжил свою речь.
— Порядок может быть дурным или хорошим, — говорил он, грассируя. — Но это в любом случае порядок. Александр Михайлович, — кивок в сторону высокого мужчины в белом морском кителе, — говорил здесь о несправедливости нашего строя. Да, я согласен — он несправедлив. Он во многом порочен и требует исправления. Но исправления, господа, а не гибели. Потому что в нашем обществе нет иной силы, кроме самодержавия, которая смогла бы удержать наш народ от бунта. Помните, как сказал Пушкин: «Избави нас, Боже, от русского бунта — кровавого и страшного».
— Вы неточно цитируете, князь, — сказал Александр Михайлович.
— Важна суть. Общество наше, лишь недавно освобожденное от рабства и не избывшее его в душах, сразу же бросится искать нового царя, но царя крестьянского, страшнее Пугачева. Он же начнет косить направо и налево, пока не истребит не только слои господствующие, но и миллионы невинных.
— Мне кажется, что среди думских деятелей, — сказала пожилая дама с очень знакомым, виденным где-то ранее лицом, — есть немало интеллигентных людей, подающих большие надежды. В большинстве своем они хорошего происхождения.
— Только не говорите мне о Пуришкевиче, — улыбнулся Александр Михайлович.
— Зачем же, — обиделась пожилая дама. — Я имею в виду господ Набокова, Некрасова, Львова. Интеллигентных людей.
Она говорила с немецким акцентом. Сидевшая рядом с ней другая дама, того же преклонного возраста и той же немецкой отмытости, встречала каждую фразу соседки энергичным утвердительным кивком.
— В них самая страшная угроза, — сказал высокий господин с военной выправкой, который сидел в кресле прямо, не касаясь спинки. — Им кажется, что они ведут народ к свободе, а в самом деле они разжигают в нем самые страшные инстинкты. И если бы мне была дана возможность карать и миловать по справедливости, в первую очередь я бы покарал ваших интеллигентных протеже. Львов твердит о передаче земли труженикам. А на самом деле они тут же начнут жечь имения и убивать помещичьих детей.
Андрей узнал говорившего по фотографии в «Ниве»: это был Великий князь Николай Николаевич.
— Глаша, — сказал Сергей Серафимович, — подай гостям чаю.
— Да, уже поздно, — сказала пожилая дама. — Пора собираться домой.
— Погодите, тетя, — сказала девушка в розовом платье, — вечер такой чудесный, а у Сергея Серафимовича лучший вид в Ялте.
Девушка стояла у парапета, и Андрей тоже подошел к парапету, словно подчиняясь ее призыву.
— Вы студент? — спросила девушка.
— Я поступаю в Московский университет, — сказал Андрей.
— У Сергея Серафимовича так приятно. Совсем без церемоний. Здесь можно встретить очень интересных людей, правда?
— Я живу в Симферополе, — сказал Андрей. — Я редко здесь бываю.
Девушка взглянула на Ахмета, который подошел к ним, потому что старался держаться ближе к Андрею.
— Ваш друг магометанин? — спросила девушка.
— Я татарин, — сказал Ахмет.
— Я совсем не думала, что татары учатся в гимназиях. Не обижайтесь, я не хотела вас обидеть.
— Я не обижаюсь, — сказал Ахмет.
— И вы будете поступать в университет?
— Отец намерен послать меня в Сорбонну, — сказал Ахмет, и в тоне его прозвучал вызов, который уловила девушка.
— Татьяна! — окликнула ее пожилая дама. Девушка быстро отошла от парапета.
Глаша принесла самовар, поставила его на стол. Самовар смотрелся не на месте среди кипарисов и виноградных листьев.
— А ты правильно ответил, — сказал Андрей.
— Я не знал, сказать ей, что я кучер или о Сорбонне.
— А пожилую даму я где-то видел.
— И не узнал? — Ахмет сверкнул зубами. — Она же два года назад к нам в гимназию приезжала. Помнишь, нас в актовом зале выстроили, а какой-то первоклашка начал проситься пи-пи?
— Вдовствующая императрица?
— Мария Федоровна. А ты не знал, кто здесь в гостях?
— Я мало знаю об отчиме.
— Догадайся, кого я вожу.
— Тоже из Романовых?
— Мои хозяева — Великая княгиня Ирина Александровна и ее муж — князь Юсупов. Вон тот, который о смуте и порядке говорил. Твой отчим тихий-тихий, но что-то в нем есть.
— Что-то есть, — повторил Андрей.
Звезды, такие близкие и яркие, заволокло быстрыми облаками. С Ай-Петри скатился ветер и принялся раскачивать гирлянды фонариков. Цикады сразу примолкли.
Сергей Серафимович наклонился к князю Юсупову.
— Вы хотели поговорить с медиумом? — сказал он негромко.
— Разумеется, — ответил князь, поднимаясь с кресла. Он был скор, аккуратен в движениях, спина слишком прямая, хотелось дать ему в руку хлыст. — Я скоро вернусь, — сказал он своей прекрасной молодой жене, которая лениво, как пантера, подняла к нему античное лицо.
Сергей Серафимович отошел дальше, к вдовствующей императрице. Та кивнула в ответ на его слова и обернулась к своей спутнице:
— Ольга Петровна, вы подождете меня здесь?
Старая императрица улыбнулась добродушно, но непреклонно, и ее спутница вынуждена была подчиниться.
Великий князь Николай Николаевич сам поднялся, не дожидаясь, пока подойдет к нему хозяин дома. За ним — Александр Михайлович.
— Граф Теодор, — произнес тогда отчим.
— Я готов, — откликнулся голос из темноты. Незамеченный прежде человек встал, раздвигая виноградные листья, скрывавшие его лицо. Голос его был глубок и низок. Лицо как бы выплыло из темноты и оказалось длинным и грустным, глубокие морщины еще более вытягивали его. Глаза прятались в таких глубоких глазницах, что казались черными ямами. Спутанные вороные кудри стекали к плечам. Если бы Андрею предложили нарисовать демона, он бы изобразил нечто подобное.
Ветер, как бы испугавшись графа Теодора, взвыл и принялся дергать кусты за тонкие ветви.
Все прислушивались, молчали.
— А чай? — разрушила паузу Глаша.
Она стояла посреди террасы с подносом, уставленным чашками.
— Чай предложите молодежи, — сказал Николай Николаевич. — А мы уж дома напьемся.
— Мы скоро вернемся, — сказал Сергей Серафимович. Он взял под локоть черного человека и повел к дому.
Чаю Андрею не хотелось, и, убедившись, что Ахмет вновь занялся разговором с юной княжной, Андрей прошел в дом, намереваясь почитать у себя в комнате, пока все это не кончится, но, когда проходил мимо лестницы наверх, услышал, что сверху, из кабинета, доносится фортепьянная музыка. Играли Вагнера.
Странно. Зачем они поднялись туда? Чем занимаются?
Разумеется, шпионить дурно. Но Андрей не намеревался этим заниматься — он лишь хотел поглядеть, кто играет на фортепьяно.
Дверь в кабинет была прикрыта неплотно, так что, чуть расширив щель, он смог видеть все, что происходит внутри.
Родственники императора и Сергей Серафимович сидели вокруг стола, положив на скатерть руки. Посреди стола горели необычные свечи — большие, витые, они светились желтым пламенем, но внутри огоньков у кончиков фитилей горели яркие кроваво-красные точки. От этого света лица людей изменились, как под пламенем позднего тревожного заката.
Граф Теодор стоял у стола, и свет свечей, проникая в глубь его глазниц, зажигал там алые точки, словно угольки. Зрелище было зловещим и почти невероятным. Медиум был совершенно неподвижен.
Но Андрея более удивило другое: спиной к нему у пианино сидела Глаша, которая играла столь уверенно и профессионально, столь спокойно и привычно поводила головой, чтобы откинуть с лица пышные, распущенные рыжие волосы, столь царственно прямой была ее спина, что Андрей сразу же усомнился в том, Глаша ли это.
Андрей знал, что Глаша разбирает ноты и иногда (если никто не подглядывает) музицирует. Для себя, наигрывая старинные романсы. Но это было иное…
— Как вам уже известно, — говорил отчим, — господин Теодор обладает даром общения с потусторонними силами, и он любезно согласился помочь тем из нас, кто нуждается в выяснении истины.
По совершенно замкнутой комнате пронесся вдруг порыв воздуха, и пламя свечей метнулось, закружилось, словно кто-то привязал ниточки к верхушкам огоньков и теперь дергал за них.
— Что это? — спросила Мария Федоровна. От волнения в словах прозвучал резкий акцент.
— Я не намерен обращаться к средствам, — сказал медиум, — к которым вы, очевидно, уже привыкли либо слышали о них. Ни погашенного света, ни блюдечек, ни таинственных голосов — этого не будет. Простите, если вы ждете от меня представления.
Медиум также говорил с акцентом. Но акцент был мягок и почти неуловим. Без сомнения, господин Теодор был иностранцем.
— Ну и слава Богу, — сказал Николай Николаевич. — Не выношу фокусников.
— Благодарю, Ваше Высочество, — сказал господин Теодор. — Однако обязан предупредить уважаемых гостей, что они должны будут хранить уважительное молчание, ибо от меня потребуется напряжение всех сил моего организма.
— Тишина, — беззвучно сказал Сергей Серафимович. Музыка звучала странно, и Андрей далее не узнавал Вагнера, словно Глаша импровизировала. Ай да Глаша, простая душа…
Господин Теодор закрыл глаза и чуть откинул голову.
Откуда-то сверху, гармонично смешиваясь с музыкой и перекрывая ее, начал литься тяжелый низкий звук, настолько низкий, контрабасный, что его ощущаешь скорее кожей, чем слухом.
Пальцы господина Теодора вцепились в край стола. Лицо его пожелтело, глаза светились оранжевым.
— Кого вы хотите услышать? — сказал отчим. — Скажите, Ваше Величество.
— О нет, — сказала императрица. — Я буду промолчать.
— Тогда подумайте.
Вдруг они услышали шаги. Тяжелые, приглушенные ковром, близкие шаги. Кто-то невидимый, остановившись у стола, тяжело вздохнул.
Мигнула и погасла одна из свечей.
— Я здесь, — произнес глухой голос.
— Кто? — неожиданно громко спросил Юсупов. — Кто здесь?
Губы господина Теодора были сжаты, глаза закрыты. Андрей мог поклясться, что в двух шагах от него дышит невидимый человек.
— Вы хотели видеть меня, маман? — спросил он.
Вдовствующая императрица потянулась в ту сторону, приподнявшись на стуле. Сидевший с ней рядом Николай Николаевич удержал ее, положив руку на плечо.
— Георгий, — прошептала императрица. — Это ты, Георгий?
И тут в центре тяжелой, непроницаемой тьмы задрожал голубой огонек, как свет далекой звезды. Он растворялся во тьме, рисуя на ней контуры человеческого тела. Все молчали, не в силах оторвать взоров от рождения фантома из тьмы.
И вот уже можно увидеть, а может, скорее почувствовать, чем увидеть, молодого человека, нежно красивого, худого, чуть сутулого. Он был столь бестелесен и хрупок, что видно было, как тяжелы его плечам обер-офицерские эполеты.
Андрей увидел, как императрица зажмурилась, словно прогоняя видение, потом резким движением убрала с плеча ладонь Николая Николаевича.
Все ждали, что она скажет. Как ни странно, центром этой сцены было не видение, не дух давно уже умершего в молодости от чахотки наследника престола Георгия, которого Андрей знал по литографиям, а Мария Федоровна, его мать. Даже в столкновении с потусторонними силами решение принимали августейшие особы.
— Как ты… как тебе там, Георгий? — спросила наконец императрица.
— Спасибо, маман, — ответил тот. — Мне одиноко, мне печально. Но я смирился, как смирились и вы.
— Его голос, — сказал Александр Михайлович. Белый адмиральский мундир казался голубым в этой странной темноте.
— Господа, — произнес Сергей Серафимович, — осмелюсь напомнить вам, что присутствие Великого князя в нашем обществе требует громадного напряжения духовных сил графа Теодора. Лишь считаные минуты покойный будет находиться среди нас. Я прошу вас задавать вопросы. Дух Великого князя может отвечать голосом. Вы готовы, Ваше Высочество?
— Я готов, — ответила тень Великого князя.
— Будет ли счастлива наша семья? — спросила императрица.
— Нет, — коротко ответил Георгий.
— Что грозит ей?
— Война, смута, — последовал ответ.
Неожиданно императрица перешла на немецкий язык. Она заговорила быстро, настойчиво. Андрей тут же потерял нить разговора, так как в их передовой гимназии вместо немецкого учили английский, а на немецкого репетитора, как делали в состоятельных семьях, у Марии Павловны денег не было.
Отчим, раскрыв небольшой блокнот, записывал что-то в него, не видя карандаша. Молодой князь Феликс Юсупов барабанил пальцами по скатерти, что недопустимо при спиритическом сеансе, — он, видно, с нетерпением ждал своей очереди.
Мария Федоровна спросила вновь, и Андрей услышал в конце фамилию Распутин с ударением на последнем слоге.
— Не мне судить о его роковой роли, маман, — сказал дух Георгия. — Лучше пускай члены семьи ответят, к чему они готовы.
— Мы готовы к действиям, — сказал Феликс Юсупов. — И я не одинок. Этот старец губит династию.
— Аликс молится на него, — сказал Николай Николаевич.
— Ники — слабый мальчик, — сказала Мария Федоровна.
— Мой брат должен осознать себя государем великой державы, а не вторым человеком в собственной семье, — произнес Георгий.
— Я уже обращался к племяннику, — сказал Александр Михайлович. — Однако Его Величество тверд.
— Я говорил с Иллиодором, — сказал Феликс Юсупов. Наступила короткая пауза, и Александр Михайлович воспользовался ею неожиданно.
— Георгий, — сказал он, — я нахожусь в недоумении и растерянности. Гурко отказывается передать «Муромцы» в ведение авиационного ведомства. Но если грядет война, это может обернуться катастрофой.
— Сандрик! — крикнула Мария Федоровна. — Ты совершенно не понимаешь, что происходит.
— Мы глядим в лицо вечности, — заявил Николай Николаевич, Мария Федоровна резко возразила ему по-немецки, и разговор опять стал Андрею непонятен.
В комнате тяжело пахло благовониями, и Андрей догадался, что запах исходит от странных свечей. Видно, не один Андрей ощущал тревожный, тяжелый запах — голоса тех, кто был в кабинете, перепутывались, сплетались, поднимались нервно, до крика.
Люди в кабинете не понимали, что их дурачат. Андрей же был в том убежден. Он прикрыл дверь — резко, так, что она хлопнула, и быстро спустился по лестнице вниз. К себе идти не хотелось, он вернулся в сад. Гости, не приглашенные наверх, расположившись вокруг стола, мирно пили чай. Было скучно и тихо.
Ахмет сидел рядом с молоденькой княжной и изображал из себя таинственного контрабандиста.
Ирина Александровна отошла к парапету с незнакомой дамой. Фортепьянная музыка, еле доносившаяся из кабинета, оборвалась.
Пожилая фрейлина Ольга Петровна глядела, запрокинув седую гладкую головку, в небо, словно считала звезды.
Из дома вышла Глаша.
— Чай не остыл? — спросила она, ни к кому не обращаясь.
И тут раздался вопль юной княжны. Она вскочила.
Вскочил и Ахмет.
— Как вы посмели! — кричала она. — Как вы осмелились?
— Пардон, пардон. — Ахмет совершенно владел собой. — Я вас не понимаю.
— Это была ваша рука, — заявила княжна Татьяна. — Вот здесь. — Княжна указала пухлым пальчиком на свое колено.
— Возможно, это был дух. — Андрей показал наверх. — Вызываемые духи тянутся к женской плоти.
— Ах, какие могут быть духи! — возразила пожилая фрейлина. — Впрочем, поздно и пора домой. Там, — она показала в сторону дома, — скоро кончат?
— Идут уже, — сказала Глаша.
Андрей отошел к парапету. Он слушал вечернюю симфонию летней Ялты, состоявшую из громкого стрекота цикад, далекого пароходного гудка, пьяного голоса на улице, скрипа колес, шуршания шагов по камням тротуара и тысячи иных звуков.
Глаша подошла к нему.
— Ты зачем это сделал? — спросила она шепотом. — Я буду сердиться.
— Еще чего не хватало!
— Значит, это твой татарский дружок?
— Это был астральный дух.
— Фу! — сказала Глаша. — Какие еще астральные духи!
— Ты хорошо играешь, — сказал Андрей. — Я не знал, что ты училась.
Глаша подняла брови. Выразив таким образом недоумение, ничего не сказала.
Из дома вышли участники спиритического сеанса.
Первой попрощалась императрица. За ней потянулись остальные.
Андрей подошел к Ахмету.
— Ты что, забыл, что тебе пора на облучок? — спросил Андрей язвительно.
— Ну я схватил, — сказал Ахмет. — Я за то колено схватил, что было с твоей стороны. Ловко?
— Вы негодяй, господин Керимов, — сказал Андрей, которому стало смешно. — Лишь разница в общественном состоянии не позволяет мне бросить вам перчатку.
— Нет у тебя перчаток, — сказал Ахмет. — Но у нее очень гладкое колено, клянусь Аллахом.
— Внукам будешь рассказывать?
— Не исключаю, — согласился Ахмет. И кинулся было к воротам следом за Юсуповыми.
— Куртку не забудь! — крикнул Андрей. — В моей комнате.
Снаружи застучали копыта — первый из экипажей покатил вниз. Громыхнул мотор — шоффэр императрицы крутил ручку, заводя авто.
Сергей Серафимович стоял у ворот, прощаясь с последними из гостей. Господина Теодора не было видно. Андрей остановился на дорожке, смотрел, как Ахмет карабкается на облучок, а князь Юсупов, что уже сидит в экипаже, что-то выговаривает ему.
Андрей прошел к себе в комнату. Он думал, что ляжет и сразу заснет, — день выдался долгим и утомительным. Сел на кровать. Спать совершенно не хотелось. Дом был чужой, даже враждебный. Почему он здесь? Почему этот старый человек считается его отчимом? Что за комедию они разыгрывали перед знатными гостями? Андрей не сомневался, что стал свидетелем именно комедии. И почему он позволяет себе обращаться с Андреем как с мальчишкой?
С каждой секундой раздражение все более овладевало Андреем, и он понял, что избавиться от него сможет, лишь покинув не только эту тесную душную комнату, но и сам дом… Что удерживает его здесь? Проклятые побрякушки под половицей? Он прожил восемнадцать лет без побрякушек и сам найдет себе место в жизни. Черная магия, медиумы — как все это ничтожно! Жалки и те, кто сидел вокруг стола, с индюшачьим доверием слушая голос чревовещателя, и те, кто обманывал этих индюков и индюшек. Словно два дома увидел он за день — один при свете солнца, с мирной уютной Глашей, кормящей курочек, и отчимом, подрезающим розы. И ночной: дом-балаган, дом-обманка, вертеп с Глашей, которая делала вид, что играла на пианино, тогда как, наверное, звук исходил от умело припрятанного граммофона… А молодец Ахмет! Зря Андрей на него рассердился. Ахмет оказался свободнее и смелее всех — что ж, сын извозчика подержал за коленку княжну и убедился, что коленка у нее гладкая. Молодец… «Сейчас поднимусь и уйду отсюда. Выйду на шоссе, к утру доберусь до Алушты. А оттуда до Симферополя ходит линейка». Не вставая с койки, Андрей вытащил из-под нее свой чемодан и открыл его. Потом остановился: у него все равно не осталось ни копейки — придется взять у отчима. Или у Глаши? Лучше у Глаши. И он уйдет. Навсегда. Нет, у Глаши брать нехорошо. Она узнает — начнет отговаривать. Ее обижать неловко. К тому же он как джентльмен должен попрощаться с отчимом. Да, конечно, он поднимется сейчас же наверх и сообщит, что неотложные дела требуют его немедленного присутствия в Симферополе. А жаль, что он не знает, где живет Лидочка. Он бы пробрался на рассвете к ее окнам и положил на подоконник букет полевых цветов. Она услышала бы шорох, подошла к открытому окну, щурясь и протирая еще заспанные голубые глаза, и ахнула: «Вы что здесь делаете так рано, Андрюша?» И тут Андрей поймал себя на том, что Лидочка совсем не одета, и ему стало стыдно, как будто он в самом деле уже подошел к ее окну. «А почему мне не переехать в гостиницу? Я возьму у отчима денег — у него много, скажу, что уехал в Симферополь, а сам переселюсь во «Францию». И завтра пойду на пляж, искупаюсь, а на набережной наверняка встречу Лидочку с Маргаритой». Он начисто забыл о Коле — настолько ему не хотелось о нем думать.
Теперь, когда все было решено, остался пустяк, правда, пустяк весьма неприятный — надо было подняться наверх и сообщить о решении отчиму.
Андрей вышел в коридор и остановился, прислушиваясь. Из-под двери на кухню пробивалась полоска света. Там лилась вода. Глаша мыла посуду. Тусклый свет проникал сверху, со второго этажа. Значит, отчим не спит. Это хорошо, потому что будить его было бы неприлично, а ждать утра — опасно. К утру решимость может выветриться.
Андрей поднялся по лестнице. Наверху горела электрическая лампочка.
Дверь в кабинет была приоткрыта. Андрей постучал и сразу вошел, не дождавшись приглашения. Он увидел людей, испуганных его неожиданным вторжением. Господин Теодор стоял у стола, перед ним открытый саквояж, который он быстро захлопнул. Но Андрей догадался о том, что видит маэстро Теодора, только по одежде. На самом же деле без парика, лежавшего черной медузой на столе рядом с пиявками-бровями, Теодор превратился в жившего когда-то в этом доме дядю Федю, пегого, почти лысого, нескладного, страшно умного и ученого. Андрею тогда было лет семь-восемь, они гуляли с дядей Федей по берегу моря, дядя Федя был очень добрый и знал много удивительных сказок…
Рука пана Теодора непроизвольно дернулась к парику, схватить его и спрятать, но тут маэстро узнал Андрея и покраснел, словно его застали за постыдным занятием. Только крупный костистый нос остался белым.
— Ты что? — спросил раздраженно Сергей Серафимович. — Что-то случилось?
— Нет. — Андрею было неловко за свое вторжение. — Ничего. Но обстоятельства требуют… — Голос сорвался, пришлось сглотнуть слюну. — Моего немедленного возвращения в Симферополь.
Пан Теодор хмыкнул. Он уже пришел в себя. Парик и брови исчезли со стола.
— Высокий штиль, — сказал он. — Так изъяснялись маркизы.
— Извините, если я не так выразился. — Участие в маскараде дяди Феди еще более превращало все в балаган.
— Прости, что я открылся тебе не сразу, — сказал пан Теодор. — Но сначала тебя не было, а потом уж было поздно…
— Ничего, дядя Федя, — сказал Андрей. — Каждый зарабатывает деньги как знает.
— Пан Теодор сейчас уходит, — резко произнес отчим. — Позволь мне сначала проводить его. Потом поговорим.
— Ты не прав, Андрей, — сказал Теодор. — Ты же не знаешь, а судишь…
Но Андрей уже сбегал вниз по лестнице.
Он вышел в сад. Стрекотали цикады. У непогашенных фонариков беззвучно мелькали летучие мыши. Отчим и медиум прошли к калитке.
— Как говорится, с Богом, — сказал отчим. Медиум обнял его, и оба замерли на секунду.
Потом, когда калитка за господином Теодором закрылась, отчим остался возле нее, глядя на улицу. И даже не скрыл удивления, когда, наконец повернувшись к дому, увидел пасынка.
— Извини, — сказал он. — Я задумался.
Он направился к террасе, не сомневаясь, что Андрей идет за ним. Достигнув парапета, он оперся на него и сказал, глядя на море:
— В кабинете душно… Так что ты так торопился мне сказать? Ты уезжаешь?
— Да, — сказал Андрей. Весь пыл и гнев куда-то испарились.
— Тебя смутил сеанс и моя роль в нем? Сам виноват — никто не просил тебя подглядывать.
Тон отчима не осуждал и не требовал ответа. Сделав паузу, Сергей Серафимович продолжал:
— Смущает неожиданное. За годы наших редких свиданий ты составил обо мне мнение: состоятельный и несколько чудаковатый старик. Не от мира сего, далекий от тебя и неинтересный. Сегодня за день ты дважды удивился. Сначала в моем кабинете… это таинственное и театральное представление сокровищ. Вряд ли тебе оно понравилось, но наверняка нарушило твое душевное равновесие, ибо большие деньги обязательно смущают человека.
— Меня не смутили.
— Ты сам не знаешь себя. На твоем месте я бы обязательно подумал: «Зачем выжившему из ума старику эти побрякушки? Лучше бы отдал их сразу. И я бы снял квартиру в Москве, купил бы хороший дом тете Марии и шил бы у лучшего портного на Петровке».
Андрей не стал возражать, хоть и признавал этим неприятную правоту отчима.
— Не мне тебя упрекать. И ах как глупо упрекать юношу, перед которым раскинулся мир, наполненный столькими соблазнами…
Сергей Серафимович гулко откашлялся, вытащил из внутреннего кармана сюртука трубку и кисет и принялся набивать ее табаком.
— Но, ангел мой, — сказал он, доставая спички, — то, что ты увидел сегодня, — тебе не принадлежит. До тех пор, пока я жив. Я не хочу, чтобы ты превратился в богатого бездельника.
— Я не просил показывать.
— После Глаши ты — самый близкий мне человек. В этом мире, в этот момент… Я отлично знаю, что соблазн завладеть моим богатством никогда не овладеет тобой настолько, чтобы ты потерял честь. И когда я сегодня показывал тебе мои сбережения, я внимательно следил за тобой.
— Я прошел испытание?
— Опять этот задиристый тон! Впрочем, не исключаю, что на твоем месте я вел бы себя так же. Человек ищет защиты от неприятной или необычной обстановки.
— Давайте договоримся, Сергей Серафимович. Я ничего не видел и обо всем забыл. Даю вам честное слово.
— Очень мило. Во-первых, ты ничего не забыл, и я не хочу, чтобы ты забывал. Во-вторых, ты не до конца меня понял…
Сергей Серафимович сделал паузу и вдруг задал вопрос, в котором звучала просьба:
— Лучше было бы сделать это завтра, но ты ведь спешишь?
— Да, — сказал Андрей, — мне надо в Симферополь.
Он испугался, что отчим станет допытываться, с какой целью он спешит домой. Тогда придется что-то придумывать, а он не придумал заранее, и отчим сразу догадается, что Андрей лжет.
— Что же, не могу спорить. Надеюсь, ты проведешь ночь здесь и не пойдешь пешком через горы?
Отчим говорил серьезно, словно в самом деле верил, что Андрей собирается ночью идти в Симферополь, и в этой подчеркнутой серьезности была издевка, которую Андрей постарался не замечать. И напоминание о детском поступке, который, оказалось, не был забыт.
— Я уеду утром, — сказал Андрей.
— Тогда перенесем наш разговор на июнь следующего года.
— На июнь?
— Допускаю, что ты вряд ли найдешь время посетить меня на рождественских каникулах, поэтому жду тебя сразу после весенних экзаменов. Но не позже. Ни в коем случае не позже.
— Ждете катаклизмов?
— Я уверен в катаклизмах, — сказал Сергей Серафимович.
Он глубоко затянулся, и красные искры вырвались из трубки.
— Хорошо, — сказал Андрей.
— Глаша тебе даст денег на дорогу, — сказал Сергей Серафимович.
— Спасибо.
— Вот вроде и все. Ты хотел что-то еще спросить?
— Нет.
— Неправда, Андрюша. Ведь главной причиной, как я понимаю, твоего неожиданного вторжения в мой кабинет, когда ты так испугал моего друга Федора…
— Господина Теодора?
— Вот именно. Тебе не понравилось то действо, которое мы тут устроили. Не так ли?
— Зачем это было?
— Эта комедия была нужна нам для цели достойной.
— Может быть. Я же ничего не сказал.
— Тогда считай, что мы с ним карбонарии, которые таким образом смогли выведать настроения и мнения правящей фамилии.
— Вы не хотите говорить со мной серьезно.
— Нет, не хочу. Между делом ты ничего не поймешь. Глаша рассказала мне о поступке твоего друга…
— Он пошутил.
— Это безобразие, — вдруг рассмеялся Сергей Серафимович. — Хватать за коленку Великую княжну! С ума сойти! Ну и друзья у тебя, Андрюша!
— Он мне не друг. Он приятель по гимназии.
— Не спеши отрекаться. Еще не прокричал петух.
Андрей глядел вниз. Огоньков было куда меньше, чем вечером. Только выделялась цепочкой искр набережная да светились иллюминаторы парохода, что швартовался у мола.
Большая ночная бабочка ударилась о фонарь так, что он закачался, спланировала вниз и уселась на рукав Сергею Серафимовичу.
— Ты все забыл? — спросил отчим.
Андрей пригляделся к бабочке. Толстое мохнатое тело, пеструшкины крылья чуть ли не в пядь.
— Церура винула, — сказал Андрей. Вернее, сказал его язык — он сам не думал, что помнит название этой редкой хохлатки.
— Правильно, большая гарпия. Чудесный экземпляр. У меня в коллекции куда хуже.
Бабочка лениво взмахнула крыльями и поползла по рукаву, набирая разбег. Потом сорвалась и полетела в темноту.
— А славно было в горах, — сказал Сергей Серафимович. И Андрей понял, что отчим ждет подтверждения своим словам.
— Славно, — согласился он.
Небо очистилось от облаков, и звезды на нем были яркими, чистыми, словно между ними и Андреем не было ничего — ни воздуха, ни расстояния. Где-то там внизу спит Лидочка. Ее волосы разметались по подушке, она улыбается во сне…
— Как спокоен и гармоничен этот мир, — произнес отчим. — Он не ведает ни смерти, ни крови. Хотя именно сейчас вон в том доме — видишь огонек — умирает от чахотки красивая молодая женщина. Она задыхается, она просит свою мать спасти ее… Впрочем, даже эти страдания и эта приближающаяся смерть не могут нарушить общей гармонии.
Андрей смотрел на одинокий огонек на склоне горы, ему казалось, что он летит к нему, к той комнате, где распахнуты окна, чтобы впустить ночной воздух, словно он видит, как та женщина приподнялась на локте и тянется к звездам, которые она видит в последний раз…
Огонек мигнул и погас.
— Что? — спросил Андрей вслух.
— Я ошибся, — просто ответил Сергей Серафимович. — Сцена, которую я тебе нарисовал, происходит в другом доме. А там, куда ты смотрел, только что легли спать. И потушили свет.
— Вы не знали? — Андрей почувствовал себя обманутым. Отчим был самым раздражающим человеком на Божьем свете.
— Завтра встанет солнце. Перед отъездом ты еще искупаешься и, может быть, даже увидишь прекрасную незнакомку… если не увидел ее сегодня. Ты находишься в том счастливом романтическом возрасте, когда прекрасное, каким бы хрупким оно ни было, легко находит путь к твоему сердцу. Мне приятно, что ты добрый и честный человек, Андрюша.
— Люди меняются.
— Чепуха. Я тебя отлично знаю. Хотя бы потому, что куда внимательнее наблюдал за твоим ростом и возмужанием, чем тебе кажется. Мне нельзя привязываться к людям, привязанность ведет к страданию. После смерти твоей матери я старался отрешиться от привязанностей. Может быть, я тебя обижал невниманием и кажущимся равнодушием. Когда-нибудь ты поймешь, что я старался это делать ради твоего же блага.
Сергей Серафимович замолчал, словно ждал вопроса, но не дождался и продолжал:
— Неумолимый и быстрый поток времени несет нас вперед, и там, впереди, обязательное расставание. Даже если ты можешь отчасти управлять этим потоком, поправляя курс лодки хрупким веслом, даже если тебе дано убежать от времени, оно все равно догонит тебя и сожрет. У Хроноса ненасытная пасть. Если бы ты знал, сколько мне довелось пережить… Впрочем, тебе это неинтересно, потому что пока ты не замечаешь, как стремителен этот поток. Ты видишь лишь искры, что отражаются от золотых рыбок в глубине… Иди, тебе пора спать.
— Да, я пойду. Спасибо.
Сергей Серафимович чуть приподнял брови, словно удивился быстрому согласию пасынка, потом протянул руку, и Андрей пожал ее. Рука была сильной, прохладной и сухой.
Андрей ощупью прошел к своей комнате.
У кровати горел ночник, возле него носилась наперегонки ночная мошкара. Андрей задул ночник и думал, что заснет, но сон не шел. В закрытые глаза било солнце, оно ореолом окружало профиль Лидочки. «Господи, до чего я несчастен и одинок!»
Скрипнула половица, затем запели ступеньки. Отчим поднимался к себе в кабинет. Потом за стеной звякнуло, словно ложка о стакан. Значит, Глаша еще не спит. Вдали забрехала собака.
Воображение создало образ Глаши, что раздевается за стенкой, но звуки, доносившиеся оттуда, были непонятны… Все стихло.
Андрей не помнил, как поднялся. Он очнулся у Глашиной двери. Сердце билось, как после бега. Надо было толкнуть дверь, но рука была тяжелой и не подчинялась. Андрей мысленно уговаривал Глашу: ведь ты знаешь, что я здесь, ты должна открыть дверь…
Дверь не открывалась, и, поняв наконец, что стоять далее так невозможно, Андрей толкнул дверь ладонью. Дверь была заперта. Он удивился — от кого бы заперлась Глаша? Потом постучал костяшками пальцев. Никакого ответа. Он постучал снова.
И тогда услышал, как скрипнули пружины кровати и босые ступни зашлепали к двери.
— Ты что, Андрюша? — послышался шепот из-за двери, и Андрею стало сладко оттого, что она догадалась, кто именно пришел к ней ночью, и не сердится.
Андрей с ужасом сообразил, что не подготовил никаких слов, он не знает, что надо сказать и что положено говорить в таких случаях.
— Глаша, мне надо поговорить с тобой.
— Завтра поговоришь, Андрюша, спи.
— Глаша, я на минутку. Я только скажу два слова.
— Поздно.
— Но я тебя умоляю!
Звякнул крючок. Дверь приоткрылась.
Глаша была в длинной ночной рубашке, волосы распущены, глаза казались совсем черными. «Странно, — подумал Андрей. — Здесь совсем темно, а я ее вижу».
Одной рукой Глаша придерживала дверь, другую положила себе на грудь, прикрывая ее.
— Иди спать, — шептала она, удерживая дверь, потому что Андрей тупо нажимал на нее, норовя войти, словно в этом была его основная цель. — Иди спать, ты с ума сошел.
— Глаша, мне очень нужно, на минутку, ты же понимаешь…
— Глупый, глупый, Сергей Серафимович услышит, что же тогда будет?
— Он спит, ты же знаешь.
— Иди, Андрюша, иди, завтра проснешься, тебе стыдно станет.
Видно, сообразив, что так ей Андрея не пересилить, Глаша оторвала руку от груди и толкнула Андрея. Он перехватил ее полную горячую руку и потянул к себе. Но в этот момент наверху скрипнула дверь — то ли от сквозняка, то ли Сергей Серафимович не спал и, услышав шум снизу, вышел из кабинета. Андрей замер, а Глаша, воспользовавшись этим мгновением, захлопнула дверь. Звякнул крючок. Андрей стоял затаив дыхание. Но сверху не доносилось ни звука. А по ту сторону двери стояла Глаша. Андрей знал, что она не уходит.
— Спокойной ночи, — долетел из-за двери шепот. Андрею послышалась в нем усмешка.
Он на цыпочках дошел до своей комнаты, закрыл за собой дверь и остановился у окна. Как все неловко и глупо вышло! Он, как барин Нехлюдов в «Воскресении», пытался овладеть горничной. Это же низко! В нем не было злости на Глашу — только раздражение против своей необузданной плоти — вся унизительность его положения обрушилась на него. Он не должен был так поступать — не имел права. Если бы вчера ему сказали, что он будет ломиться в дверь служанки отчима, он с оправданным презрением взглянул бы на того человека. Что же происходит с ним? Неужели зверь, заточенный в нем, столь силен и бесстыден, что заставляет забыть о высоком чувстве, посетившем его недавно?
В доме и в саду царила тишина. В предрассветный час даже цикады замолкли. «Глупо, глупо, глупо», — повторял Андрей, забираясь под легкое покрывало и накрываясь с головой, чтобы скорее заснуть и забыть обо всем. Ужасный день, постыдный день… Завтра с утра он уедет в Симферополь.
Утром Андрей проснулся поздно, в десятом часу.
Просыпаясь, он услышал сначала дневные веселые звуки: пение птиц, далекие голоса, квохтанье кур, звон ведра… Открыл глаза, увидел белый потолок, по которому пробежала замысловатая, похожая на Волгу трещина, и вспомнил ее — вспомнил, как в прошлом году так же просыпался в этой комнате и так же смотрел на эту трещину… Он потянулся, понимая, как хороша жизнь, и тут же зажмурился, потому что утро таило в себе обман — оно, такое светлое и невинное, сохранило память о вчерашнем. Скорее уехать… Может, выскочить через окно и, не прощаясь, покинуть дом, только бы не видеть укоризны в глазах Глаши, а то и презрительного выговора? А что, если отчим тоже услышал его ночные мольбы?.. «Господи, за что ты так наказываешь меня?»
Но если выскочить в окно — как доберешься до Симферополя без единой копейки? Искать Беккера? У него ничего нет, да и не хочется видеть его. Ахмет наверняка катает князей по горам…
— Андрю-уша! — сказала Глаша, заглядывая в окно. — Ты все на свете проспишь. Я уж два раза самовар ставила.
Глаша стояла за окном, опершись ладонями о подоконник. Она была в розовом платье с короткими рукавами и переднике, волосы собраны в темно-золотой пук.
— Доброе утро. — Андрей понял, что ничего дурного ночью не случилось. И в этом было возвращение счастья.
— Давай, давай, не залеживайся! — Глаша рассмеялась, показав ровные белые зубы. — Одна нога здесь, другая там!
Андрей вскочил с кровати, Глаша откровенно и весело глядела, как он натягивает брюки.
— Жарища сегодня будет, — сказала она. — Просто ужасно.
— Который час? — спросил Андрей. Ему хотелось как-то выразить благодарность Глаше за то, что она так легко отпустила ему ночные грехи.
— Скоро десять, — сказала Глаша. — Я тебе на кухне накрыла. Не обидишься?
— Да хоть в чулане!
Глаша ушла, и Андрей, умываясь, слышал, как она созывает кур:
— Цыпа, цыпа, цыпа… идите сюда; цыпа, цыпа, цыпа…
Андрей прошел на кухню — прохладную, светлую и чем-то иностранную, может, от белых плиток, которыми были покрыты стены, серебряного блеска кастрюль и золотого сияния тазов. Глаша застелила белой салфеткой край кухонного стола.
— А отчим где? — спросил Андрей.
— Сергей Серафимович с утра уехали, — сказала Глаша. — В Массандру, там какие-то профессора из Парижа собрались поспорить, чей виноград лучше. Ты же знаешь, он у нас большой ботаник.
Это даже к лучшему. В сущности, они уже вчера попрощались.
— Ты молочка сначала выпей, — сказала Глаша. — Знаешь почему? Его нам сверху, с Ай-Петри привозят. Там травы особенные, горные…
Глаша хлопотала, подставляла ему горный мед и черешню — это была обыкновенная, крепкая, налитая силой и здоровьем Глаша, совсем не та желанная, таинственная женщина, столь смутившая Андрея, когда он увидел ее за пианино в полутемном, наполненном жгучим пряным ароматом кабинете отчима.
— Просто чудо, — говорила она, — сегодня утром встаю — все куры, понимаешь, все без исключения снеслись. Ты только посмотри.
Она взяла с широкой полки большую миску, до краев полную яиц.
— Может, возьмешь с собой, Марии Павловне, а?
— Ну куда я с яйцами через перевал? — рассмеялся Андрей. — Я яичницу привезу.
Чай был душистый, темный, Глаша наливала его из заварного чайника с голубыми розами и щербинкой на носике. Андрею чайник был знаком уже много лет.
— Ты дальше что будешь делать? — спросила Глаша. — Сейчас домой или, может, искупаешься? В море хорошо сейчас!
— А в самом деле! — сказал Андрей. — Искупаюсь сначала.
— Только к обеду возвращайся. Я окрошку сделаю, у нас ледник хороший. Пообедаешь, поспишь, а как жара схлынет, поедешь. У нас теперь в Симферополь автобус ходит. Знаешь?
— Нет, не слышал.
— Евстигнеевы, которые раньше линейки держали, автобус купили. Немецкий. Дыму от него — ужас. К ночи дома будешь.
Все устраивалось как нельзя лучше.
— А ты небось купальный костюм не взял? Так в сундучке под твоей кроватью должен быть, еще с того года. Если, конечно, налезет. Уж очень ты широкий стал.
— А когда Сергей Серафимович вернется?
— Он к вечеру приедет. Думаю, к вечеру. Куда спешить?
Было жарко, мухи жужжали у марли, натянутой на окно. Глаша — ах! — смахнула осу, что опустилась на скат груди. И Андрей тут же вспомнил ночь — не умом, а телом вспомнил. И отвернулся.
Когда Андрей, с легкой сумкой, в которой лежали купальный костюм, полотенце и томик Леонида Андреева, спустился вниз к пляжу, мысли его совершенно покинули дом отчима, и возможность свидания с Лидочкой завладела им. С каждым шагом к набережной все большее волнение овладевало Андреем. Жара господствовала на нижних улицах и у моря, набережная как вымерла, лишь левее мола, на городском пляже, слышны были голоса, которые сливались с шумом моря, совершенно спокойного и как будто масляного, но набегавшего на гальку неожиданно пушистыми пенными волнами.
Андрей постоял немного возле того киоска с сельтерской, где впервые увидел Лидочку, словно она должна была вернуться туда, а потом долго торчал на солнцепеке над пляжем, стараясь во множестве людей разглядеть Лидочку, что, конечно же, было невозможно, тем более что в большинстве люди старались, выбравшись из моря, сразу спрятаться под полосатые тенты или зонты.
Почему же он так легкомысленно решил, что увидит Лидочку именно здесь? Ведь не исключено, а даже вероятно, что Беккер мог пригласить ее на Ай-Тодор или к водопаду Учан-Су, чтобы провести с ней время в прохладе гор и леса, а не здесь… И поняв, что Лидочка сейчас находится где-то в обществе Коли, Андрей расстроился. К тому же, вспомнив о Коле, он понял, что ведет себя не как джентльмен, потому что даже в мыслях не должен был желать встречи с Лидочкой, сердце которой принадлежит Беккеру.
Андрей спустился на пляж. Места под тентом ему не нашлось, потому он расстелил полотенце прямо на гальке, разделся и улегся с книгой, которую раскрыл, но читать не намеревался. Купальные трусы, что он отыскал в сундуке, были тесны и старомодны — полосатые, они почти достигали колен, тогда как многие модники ходили по пляжу в куда более коротких одноцветных трусах.
Солнце палило безжалостно, и через несколько минут бесцельного разглядывания купальщиков Андрей поднялся и пошел к воде. Войдя в море по колени, он долго стоял, с удовольствием ощущая, как волны разбиваются о его ноги и брызги холодят тело. В отличие от большинства обитателей сухопутного Симферополя Андрей хорошо плавал. Сергей Серафимович специально, еще в первом классе, научил его плавать, причем разными стилями.
Преодолевая сопротивление воды, Андрей рванулся вперед и нырнул. И стал частью моря, жителем его, для которого вода ничуть не опаснее воздуха.
Андрей поплыл к сверкающей дали. Голоса и шум пляжа остались сзади, вокруг было только море, солнце, небо и он сам.
Андрей перевернулся на спину и закрыл глаза. Солнце обжигало лицо, а телу было прохладно.
И этот покой и простор изгнали из Андрея мелкие печальные мысли. Он был песчинкой в море мироздания, оплодотворенной сознанием и ощущением простора. Река времени, о которой говорил отчим, была бескрайней и чистой, как Черное море, которое никогда не станет грязным и мелким.
Когда Андрей открыл глаза и огляделся, оказалось, что его отнесло довольно далеко от берега. Он не спеша поплыл обратно, преодолевая течение и даже зная заранее, в каком месте пляжа выберется на берег.
Наконец берег приблизился, но Андрею не хотелось вылезать на солнце, и он, лениво поводя руками, замер в воде, разглядывая пляж, белые домики, поднимавшиеся по зеленому откосу к темной щетине леса, из которого торчали скалистые зубы Ай-Петри.
— Коля! — закричал женский голос совсем рядом. — Иди сюда!
Радость и разочарование столкнулись в сердце Андрея.
На берегу, у кромки воды, стоял Коля Беккер, в модных красивых купальных трусах, сложенный как греческий бог, уже успевший легонько, в красноту, загореть, так что не выделялся, подобно Андрею, своей белизной среди прочих купальщиков.
Андрей повернул голову и увидел, что в двух саженях от него по пояс в воде стоят Маргарита и Лидочка. Маргарита машет руками, призывая Колю, а Лидочка поправляет ленту, которой схвачены ее русые волосы. Обе были в красивых купальных костюмах, только на Маргарите он был голубой без узоров, а Лидочка была в зеленом костюме, рисунок на котором представлял собой волнистые линии, словно был продолжением морских волн.
Первым увидел Андрея Коля.
— Смотри, кто к нам пожаловал! — крикнул он, шагнув к воде. — Как ты выследил нас, Посейдон?
В несколько гребков Андрей выплыл на мелкое место и встал.
— Я вас не выслеживал! — ответил он. — Я только что приплыл. Вон оттуда!
Лидочка смотрела на него, рассеянно улыбаясь, как хозяйка гостю, который пришел поздно, а все стулья за столом заняты.
Коля вошел в море, рассекая коленями воду, и остановился между девушками и Андреем.
— А я думал, что ты сегодня утром уедешь.
— Я тоже так думал, — сказал Андрей с некоторым злорадством, ощущая настороженность Беккера. — Но потом решил искупаться. Вы давно здесь?
— Недавно пришли, — сказала Маргарита. Она собрала пышные волосы под специальную купальную шапочку, и оттого обнаружились широкие скулы, а нос и глаза казались куда больше. Она выглядела совсем иначе, чем вчера, — грубее и чувственней, — и это к ней притягивало.
— Ахмета видел? — спросил Коля.
— Он вчера у нас был, — сказал Андрей. И не удержался: — Вместе с Марией Федоровной и Юсуповыми.
— Какой Марией Федоровной? — спросила Маргарита.
— Вдовствующей императрицей.
Коля фыркнул, выказывая недовольство неудачной шуткой приятеля.
— Что же им у вас делать?
— Они знакомы с отчимом, — сказал Андрей. — Он пригласил для них знаменитого медиума.
— Ой! — сказала Лидочка. — Вы вызывали духов?
— Господи, какая чепуха, — сказал Коля. — Мы живем в двадцатом веке, и среди нас все еще бытуют ведьмы, медиумы и хироманты. Я почему-то представлял твоего отчима интеллигентным человеком.
— Вы не правы, — сказала Лидочка. — В потустороннее существование верят известные и уважаемые люди.
— Я не имею в виду религию, — сказал Коля. — И не отрицаю существования высшей силы. Но суеверия — увольте!
— Не знаю, — сказала Лидочка, смутившись, словно стеснялась собственной отсталости. — Но мне кажется, что в этом что-то есть.
— Поплыли! — предложил Андрей. — Чего здесь стоять?
Андрей отлично знал, что Коля не умеет плавать, хотя вряд ли позволит себе в этом признаться.
— Конечно, поплыли, — поддержала его Лидочка.
— Ты же знаешь, что я плаваю, как топор, — раздраженно сказала Маргарита.
— Я вас буду учить, — сказал Андрей, обрадовавшись тому, что Лидочка согласна плыть. Он надеялся на это с самого начала, потому что знал, что в отличие от прочих Лидочка — ялтинская.
— В самом деле, это неэтично, — сказал Коля. — Мы не можем оставить Маргариту одну.
— Спасибо, — сказала Маргарита и благодарно взяла его за руку. — А вы далеко не заплывайте!
Лидочка, изогнувшись назад, неожиданно выскочила из воды и резко, размашисто поднимая тонкие загорелые руки, поплыла на спине от берега. Андрей догнал ее и поплыл рядом.
— Вы не устанете? — спросил он.
— Я могу весь день плыть, — сказала Лидочка. — Я же здесь выросла.
— Меня отчим учил плавать, — сказал Андрей.
— Я его видела, — сказала Лидочка. — Он такой высокий, худой, с трубкой всегда ходит.
— Я не знал, что вы знакомы.
— Мы не знакомы, но зимой Ялта становится совсем пустая, и в ней остаются только постоянные жители. И я всех знаю в лицо, особенно если это необычный человек.
— Он ученый, ботаник, — сказал Андрей.
— Я слышала. А в самом деле у вас была императрица?
— Разве я похож на лжеца?
— А на кого похожи лжецы? — спросила Лидочка. В ней было лукавство столь близкое к наивности, что Андрей не мог, да никогда и не сможет провести между ними грань, да и сама Лидочка порой не отдавала себе отчета в том, шутит ли она либо серьезна в своей деловитой наивности.
— Лжецы носят на себе печать. Посреди лба. Как клеймо.
— Спасибо, а то мне так трудно порой разобраться, кто хочет мне добра, а кто хочет меня обмануть.
Они плыли не спеша, море было как бы продолжением их тел и этим их объединяло.
— И вы тут всегда живете?
— Да, уже шестой год, — сказала Лидочка. — У мамы начался процесс в легких, и врачи посоветовали изменить климат. Папа перевелся сюда из Одессы.
— А как сейчас ваша мама?
— Спасибо, ей лучше.
— У меня мама тоже здесь жила, — сказал Андрей.
— А потом?
— Она умерла от чахотки, — сказал Андрей.
— Здесь? Давно?
— Давно, я был совсем маленький.
— Простите, я не знала.
— Это было давно.
— Как странно встретить человека, у которого такая же беда…
— Но ваша мама выздоровеет.
— Спасибо. Поплывем обратно?
— Давайте еще немного, — сказал Андрей. — Вон до той лодки. Посмотрим, что поймал этот чудак.
— А наши не будут волноваться?
— Волноваться можно, когда что-то угрожает.
— Волнуются, когда кажется, что есть угроза.
— Это называется — пустые хлопоты.
Вблизи лодка оказалась куда больше, чем издали, — ее черный борт навис над пловцами. Толстый человек с темным лицом, в широкополой соломенной шляпе, крикнул:
— Не подплывайте, лески оборвете!
— Мы хотели у вас рыбы купить! — сказал Андрей.
— Ну что за нравы! — рассердился толстяк.
— Поплыли обратно, — сказала Лидочка. — Он ничего не поймал и боится в этом признаться.
Вдруг толстяк резко поднялся в лодке, так что она опасно закачалась, чуть не зачерпнув бортом воды. Он выпрямился, подняв со дна лодки связку крупных скумбрий, и, размахивая ею в воздухе, воскликнул:
— Это называется «не поймал»? Это так называется? Какое вы имеете право обвинять человека, ничего не зная?
Андрей так рассмеялся, что чуть не наглотался воды, а Лидочка заработала руками, как мельница, отплывая от сердитого толстяка. Она тоже смеялась.
— Вам это и не снилось! — кричал рыбак вслед.
Потом уселся на банку и резко потащил из воды одну из удочек. Серебряная рыба взметнулась вверх к солнцу и неудачно упала на шляпу рыболову, шляпа свалилась в воду, он перегнулся, доставая, а потом стал помогать себе веслом, а рыба подпрыгивала в лодке. Это было смешно, они плыли и смеялись. Потом Лидочка обернулась назад и высоко подняла из воды руку, прощаясь с рыбаком, который уже снова склонился над удочками.
— Вы зимой здесь будете жить? — спросил Андрей.
— Я кончаю гимназию, — сказала Лидочка. — А вы куда?
— В университет. В Москву.
— Я жду не дождусь будущего года, — сказала Лидочка. — Мне так надоело здесь жить, как в банке, где все пауки уже знакомые.
— Я думал, что вам здесь нравится.
— Летом бывает интересно, а осенью и зимой ужасно.
— А вы что будете делать после гимназии?
— Я хочу стать художником.
— Вы рисуете?
— Я пишу акварели.
— У меня нет ни одного знакомого художника.
— Если хотите, мы можем зайти к нам. Только вам не понравится. Это только пейзажи и цветы. Я беру уроки у одной дамы.
— Мне обязательно понравится, — убежденно сказал Андрей.
Лидочка посмотрела на него внимательно. Они плыли совсем рядом — можно было протянуть руку и дотронуться.
— Коля фон Беккер ваш друг?
— Он на год раньше кончил нашу гимназию. И сосед. Мы с ним в одном переулке живем.
— В переулке?
— Да, в Глухом переулке.
— Какое смешное название. Почему он Глухой?
— Он маленький и никуда не ведет. И в нем живут небогатые люди.
— Не сердитесь, — сказала Лидочка. — Но я не люблю этих разговоров — кто богатый, кто бедный. Я, наверное, стану социалисткой. Я — сторонница равноправия людей.
Берег был уже совсем близко. Коля и Маргарита стояли по пояс в воде и разговаривали, поглядывая на море. Завидев головы пловцов, Маргарита замахала руками.
— Вы не утонули! — кричала она. — А мы уж хотели искать лодку, чтобы вас спасать.
— Маргарита — без ума от Коли, — сказала Лидочка.
Под ногами было дно. Андрей встал. Коля был мрачен.
— Нельзя заставлять других волноваться, — сказал он.
Они пошли под тент, который загодя занял Беккер.
Под тентом была расстелена циновка, на деревянном лежаке стояла корзина, которую девушки принесли из дому. В ней была снедь и бутыль красного вина, купленная Колей. Девушки сначала отказались пить вино, но за неимением воды согласились пригубить. Стаканов было только два, и пили по очереди. Андрей сделал так, чтобы пить после Лидочки. Он повернул стакан в руке, стараясь отыскать то место, которого касались губы Лидочки. Маргарита заметила это движение и громко сказала:
— Андрей, если вы хотите узнать Лидочкины мысли, не старайтесь.
— Почему?
— Они пока заняты не вами. — И громко засмеялась.
На берегу Коля чувствовал себя куда уверенней, чем в море. Он в основном говорил, и притом остроумно. Андрей бы так не смог.
Вино согрелось, сразу хмельно растворилось в крови, и жара стала сильнее.
Коля рассказал о Петербурге, как они ездили на Черную речку, где убили Пушкина, а потом о другой дуэли, которая случилась у них на курсе. Андрею не о чем было рассказывать — он был младшим. Но помогла Маргарита, которая вдруг вспомнила:
— Андрей, вы обещали рассказать нам, какой дух вчера приходил к вам.
— Сначала был голос, — сказал Андрей. Он не верил в духов и тем более не верил во вчерашний сеанс. Честно говоря, если бы он рассказывал об этом одному Коле, то признался бы, что и сам отчим не настаивает на истинности событий, признавая розыгрыш. Но Маргарита и Лидочка жаждали таинственного, и потому Андрей принялся описывать ночные события так, как если бы он глубоко в них верил.
Коля смотрел по сторонам, показывая всем видом, насколько скучен ему этот бред, Маргарита делала большие глаза и расстраивалась, что ее там не было, потому что она знает немецкий и поняла бы, о чем говорили императрица и дух князя Георгия.
Андрею с Колей досталась почти вся бутыль. В голове шумело, Андрей хотел показать, как он ходит на руках, но упал. Маргарита смотрела на Беккера. Потом получилось неловко, потому что Коля принялся врать о своих предках, утверждая, что его дедушка барон, а у его кузенов в Шварцбурге есть замок.
— Как-то к нам в дом, в Симферополе, приехала старуха. — Коля положил пальцы на кисть Лидочке, и та не убрала их. — И спрашивает моего отца. Я попросил ее подождать в вестибюле и поднялся в библиотеку к отцу.
Андрей еле удержался от смеха. Интересно, куда он поднялся — на крышу, которую они вместе месяц назад латали? Хорош вестибюль. Два шага на два, а в углу отцовские костыли. Но, конечно же, поправить Колю он не мог. Но Лидочка вдруг убрала свою руку и спросила невинно:
— Это где, в Глухом переулке?
— Нет, — быстро нашелся Коля. — Это в другом нашем доме. На Екатерининской.
И так посмотрел на Андрея, словно был его злейшим врагом.
— Продолжайте, — сказала Лидочка милостиво, она не поверила Коле.
Но Коля потерял интерес к рассказу.
— Ничего особенного, — сказал он. — Это было письмо от дедушки.
Полдень прошел, небо стало бесцветным от жары, волны исчезли, и море лениво, из последних сил, лизало гальку.
Коля поднялся и пошел к морю. Остановился, обернулся и сказал:
— Лида, можно вас на минуту? Мне надо вам сказать кое-что.
Лида поднялась, как поднимается пантера, — легко, как будто это движение не требует ровным счетом никаких усилий. Она пошла к Коле, и Андрей из-под тента, снизу, смотрел ей вслед — солнце било в глаза. Коля с Лидочкой были силуэтами. Лишь волосы, пронзенные светом, горели нимбами.
Они встали рядом, потом медленно, беседуя, пошли к воде, и Андрей любовался совершенными в девичьей угловатости линиями ее тела, но в то же время не мог не видеть Колю, тоже стройного и отлично сложенного. Коля всегда следил за своим телом — он был чрезвычайно чистоплотен и более других проводил времени в гимнастическом зале, за что его буквально обожал учитель гимнастики. Дома у Коли были гантели разного веса и даже прыгалки. Как-то на спор он подтянулся шестьдесят раз на турнике. У Андрея больше десяти раз никогда не выходило.
Маргарита тоже смотрела им вслед.
— Мистер Андрей, — сказала она, — бедным духом остаются надежды.
— У меня нет надежд, — сказал Андрей.
— А вот это глупо! Я никогда не теряю надежды. И чаще всего добиваюсь своего.
Андрей пожал плечами. Еще не хватало, чтобы его учили жить.
О чем они говорят? Впрочем, ему нет до того дела. Жаль, что он проговорился случайно — впрочем, случайно ли? — о Глухом переулке. Это же ничего не изменит.
— Удивительно гармоничная пара, — сказала Маргарита. — Но ничего из этого не выйдет. Николя — мой.
— Я окунусь еще разок, — сказал Андрей. — Мне пора уезжать.
Он встал и быстро пошел к морю, чтобы они не подумали, что он хочет участвовать в их разговоре.
В голове шумело, ноги были вялыми, и Андрей сказал себе, что далеко он заплывать не будет — так и утонуть недолго.
Скользя по гальке, он пробежал мимо Коли и Лидочки и ворвался в воду, с наслаждением ощущая, как ее прохлада сопротивляется разгоряченному телу.
Он зашел по бедра, когда, к удивлению, услышал сзади голос Лидочки:
— Андрей, подождите, я с вами!
Он продолжал идти вперед, не оборачиваясь, но все медленнее, может быть, потому, что стало глубоко, по пояс, по грудь… Андрей нырнул и, когда поднялся на поверхность, увидел совсем рядом лицо Лидочки.
— Ужасно жарко, правда? — крикнула она.
— Ужасно, — сказал Андрей, которого охватило беспочвенно пустое и быстротечное ощущение полного счастья.
На этот раз они плавали недолго. Лодки с рыбаком уже не было. Лидочка сама предложила:
— Давайте вернемся, у меня от этого вина голова плохая.
— Вы в него влюблены? — неожиданно для себя спросил Андрей.
— Не задавайте глупых вопросов, — сказала Лидочка.
Коля сидел под тентом, слушал, что говорит ему Маргарита, смотрел на море. Андрей сказал, что ему пора уходить. Маргарита сказала, что, может быть, ему следует подождать; «вместе пообедаем, а потом по холодку поедете».
Коля сказал, что проводит Андрея. Он его, конечно, не задерживал.
Лидочка на прощание протянула ему руку, и Андрей заглянул ей в глаза. Глаза были спокойные, ласковые, но не более. Андрей осторожно пожал ее тонкие пальцы.
Они поднялись на парапет. Коля сказал:
— Я не ожидал от тебя.
— Прости, — сказал Андрей. — Это произошло случайно. Лидочка спросила меня, где я живу, а я ответил, что мы с тобой живем в Глухом переулке.
— Ладно, я не сержусь, — сказал Коля. — Я так и подумал, что не нарочно.
— Я ведь не спорил, когда ты сказал о втором доме, на Екатерининской, господин фон Беккер.
— Еще этого не хватало, — серьезно ответил Коля. — Тогда бы я тебя просто убил.
— Учту на будущее, — сказал Андрей. Коля засмеялся и шлепнул Андрея ладонью по плечу.
У него были очень белые зубы и добрая улыбка.
— Ладно, — сказал Андрей. — Прощай. Теперь долго не увидимся.
— Жаль, что ты поступаешь не в Петербурге, — сказал Коля. — Мы бы могли снимать с тобой комнату на двоих. С другом всегда лучше. И дешевле.
— Увидимся на рождественских каникулах, — сказал Андрей.
— Погоди, — сказал Коля. — У меня к тебе небольшая просьба. Ты не мог бы мне ссудить три рубля? Я тебе вышлю.
— Честное слово, — сказал Андрей. — Честное слово, у меня нет ни копейки. Мне дядя перед отъездом должен дать. Только мелочь…
— Тогда давай мелочь, — согласился Коля.
Андрей полез в карман своих старых брюк, там был рубль и еще шестьдесят копеек, привезенные из Симферополя.
— На безрыбье и рак рыба, — сказал Коля. — Придется искать где-нибудь Ахмета. Ты не знаешь, где он ночует?
— Вернее всего, на вилле у Великих князей. В Ай-Тодоре.
— Да, плохо мое дело.
— А у девушек занять не сможешь?
— Это недопустимо, сам понимаешь.
— Маргарита с радостью одолжит тебе, — сказал Андрей.
— Она влюблена в меня, как кошка, — сказал Коля. — Даже удивительно.
Андрей поднимался в гору, стараясь держаться узких полосок тени. Он вспотел, потому что воздух был неподвижен, и теперь жалел о том, что пил красное вино. Даже сумка с книжкой и полотенцем казалась тяжелой. В голове царила тупость, он старался думать о чем-нибудь возвышенном, но перед глазами были коленки Лидочки и обтянутая купальным костюмом грудь.
Раза три передохнув, Андрей все же забрался на гору, к дому отчима. Здесь было чуть прохладнее. Филька вышел к воротам, язык его свисал чуть ли не до земли. Филька вежливо помахал хвостом, выказывая таким образом радость, и тут же побрел в тень. Даже кур на дворе не было — попрятались. Листья винограда лениво повисли над дорожкой, только розы гордо тянули к солнцу свои разноцветные головы. Дом был тих и будто покинут.
Андрей вошел в коридор. Там было прохладно и после солнца полутемно. Андрей толкнул дверь к себе в комнату и метнул с порога сумку на кровать. Затем он включил душ и с наслаждением долго стоял под ним, пока не замерз — вода к дому поступала с гор, всегда холодная. Растеревшись полотенцем, Андрей почувствовал, что проголодался.
Он вышел в коридор и позвал Глашу.
— Я здесь, Андрюша, — откликнулась та откуда-то издалека.
Андрей заглянул на кухню. Посреди кухни был открыт люк в подпол, оттуда как раз поднималась Глаша. Она держала в руках большой глиняный горшок, затянутый марлей.
— Держи, — сказала она, протягивая горшок Андрею. — Я обещала тебе холодной окрошки.
— Глаша, ты прелесть, — сказал Андрей. — Ты самая прекрасная и заботливая женщина на свете.
Он поставил горшок на стол, Глаша тем временем вылезла из подпола и захлопнула крышку.
На столе стояла запотевшая бутылка вина, хлеб был уже нарезан.
— Я так и рассчитала, — сказала Глаша, — что наш юный джентльмен явится к трем часам. А как калитка хлопнула — я сразу в подпол.
Она засмеялась.
— Вино будешь пить?
— Я на пляже вино пил.
— Зря, — сказала Глаша. — Там жарко, и вино небось было согретое.
— Почти горячее.
Глаша налила ему окрошки в глубокую тарелку, положила ложку густой сметаны.
— Вино надо пить за обедом, охлажденное, не спеша. Это очень полезно для здоровья. А теплую бурду на пляже пьют только пьяницы и бродяги.
— Ну тогда налей бродяге, — сказал Андрей. — Только вместе с тобой. Я не умею пить вино один.
— Значит, ты не гурман, — сказала Глаша. — Сергей Серафимович пьет вино только самое лучшее и для вкуса. Он считает, что собутыльники только мешают.
Вино выпустило пузырьки, и они побежали вверх, некоторые, ленивые, приклеивались к стенкам бокала. Бокал сразу запотел.
— А где отчим?
— Рано ему еще возвращаться.
— Думаешь, не дождусь его?
— Наверное, не дождешься. Автобус отходит ровно в половине шестого. А тебе туда минут пятнадцать идти.
— Ты что же себе не наливаешь?
— Я не одета совсем, — сказала Глаша. — Неловко вино пить в таком затрапезном виде.
— Никакой не затрапезный, — сказал Андрей. — Ты очень красиво выглядишь.
— Хоть передник сниму, — сказала Глаша.
Она поднялась, взяла из буфета еще один бокал, потом сняла передник, бросила его на табурет у плиты.
Они чокнулись. Бокалы зазвенели празднично и тонко.
Вино было холодное, как родниковая вода.
— Вкусно, — сказала Глаша. — Правда вкусно?
— Вкусно, — признал Андрей.
— Я вообще-то сладкое вино люблю, мадеру, но когда жарко — и такое хорошо.
Она вновь наполнила бокалы.
— Тебе скучно здесь, наверное, — сказал Андрей.
— Мне некогда скучать. Весь дом на мне, — сказала Глаша.
— Я никогда не знал, что ты на пианино играешь. Или это тоже фокус был?
— Играю, — сказала Глаша.
Сказала коротко, так что дальше спрашивать было неудобно.
— Ты ешь окрошку, — сказала она, — я сейчас рыбу разогрею.
Андрей ел окрошку, Глаша отошла к плите, разожгла ее и поставила сковородку. Рыба сразу начала скворчать, потянуло запахом подсолнечного масла.
Андрей хотел что-то сказать Глаше — но, обернувшись, забыл об этом, потому что она стояла близко к нему и глаз его натолкнулся на линию бедер и крепкие лодыжки, видные из-под короткого платья.
— Друзей своих видал? — спросила Глаша, не оборачиваясь.
— Видал, — сказал Андрей. Взгляд его поднялся к ее плечам.
— Небось девушки красивые, да?
— Девушки? Да, девушки красивые.
«Что я делаю? Чего я хочу? Разве я влюблен в Лиду, если я так смотрю на Глашу? Наверное, я очень дурной, испорченный человек».
— Ты что? — Глаша обернулась, почувствовав, что Андрей встал и приблизился к ней.
— Ты красивая, — сказал Андрей хрипло.
— Ну полно тебе. — Глаша улыбнулась. — Опять за старое. Какой ты смешной, Андрюша. Погоди, сейчас рыба согреется, поешь и спать пойдешь. Поспать надо, хоть бы часок после обеда.
— Я не хочу больше есть.
Глаша как-то ловко повернулась, сняв притом сковородку с плиты, и дымящаяся сковородка оказалась между ней и Андрюшей. Андрею пришлось отступить.
Положив ему рыбы, Глаша уселась по ту сторону стола, налила еще по бокалу вина и сказала:
— За твое счастье. Чтобы все у тебя было хорошо и чтобы учился ты лучше всех. И чтобы красавицу встретил, добрую. Выпьем.
От чая Андрей отказался. Второй день подряд получался нервным, неловким, неладным. «Она все понимает и посмеивается над мальчишкой. Мое горе в том, что я непривлекателен для женщин и они сторонятся меня».
— Я пойду к себе, — сказал Андрей, забыв поблагодарить Глашу за обед.
Раздевшись, он улегся на кровать и накрылся простыней. Кисейная занавеска чуть колыхалась — поднялся ветерок. Шмель, залетевший в комнату, бился о кисею, искал выхода. «Где сейчас Лидочка? Они, наверное, пошли обедать в ресторан на горе. Впрочем, нет, где Коле достать денег? Интересно, а если бы у меня были деньги, дал ли бы я их ему? Наверное, пришлось бы дать».
Вошла Глаша. Она несла стакан с компотом.
Поставила на столик. В другой руке у нее был длинный конверт.
— Это от дяди, — сказала она. — Здесь письмо и деньги на дорогу.
Наклонившись, она протянула конверт Андрею, и тот увидел в глубоком вырезе платья темную впадину между ее полных грудей. Он перехватил руку и потянул Глашу к себе. Глаша молча вырвалась, положила письмо на столик, но потом сама протянула руку, дотронулась до его щеки. Она присела на край кровати и сказала:
— Ну зачем же так, Андрю-уша, я же готовила, по хозяйству…
Андрей провел пальцами по обнаженной руке до плеча, и Глаша потянулась, будто ей было щекотно.
Андрей крепко схватил ее плечо, и Глаша послушно наклонилась к нему и позволила поцеловать себя в губы. Правда, губы ее были сухие, неподатливые, и Глаша резко отдернула голову, так что окончание поцелуя пришлось в щеку.
— Ну зачем же, зачем же, — сказала она. Андрей приподнялся, все сильнее привлекая ее к себе, волосы Глаши разметались и закрывали свет, от них уютно пахло то ли ванилью, то ли сдобным тестом.
Глаша, сопротивляясь, старалась не оказаться на кровати, но притом усилия ее были половинчатыми, как будто понарошку, как будто она боролась с Андреем так, чтобы не победить.
Андрей вновь отыскал ее губы, почувствовал, как они раскрываются навстречу его усилиям, и поцелуй получился мягким, влажным, горячим… Голова шла кругом, и мир перестал существовать… Рука Андрея нашла полную мягкую грудь Глаши. Глаша вздохнула, как будто всхлипнула, и тут рванулась так неожиданно, что Андрей отпустил ее.
— Сейчас, — сказала она, — ты подожди, миленький, сейчас…
Она кинулась к окну и быстро, рывками потянула штору.
В комнате сразу стало темнее.
— А то с улицы могут увидеть, — прошептала она, возвращаясь к Андрею, и, повернувшись спиной к нему, сказала: — Ты расстегни сзади, а то пуговки тугие.
Он расстегивал маленькие круглые пуговицы, и с каждой ткань платья расходилась, чуть-чуть более обнажая спину.
— Ну что же ты… ну что же? Ну зачем? — шептала почему-то Глаша, как будто он мог что-то объяснить…
Приподнявшись, она мгновенно, одним движением сняла платье и тут же оказалась рядом с Андреем, обнимая его, прижимая к себе, лаская сильными пальцами его щеки, шею, плечи. И Андрей старался раздеть ее дальше, и это не требовало трудов, потому что Глаша была одета по-домашнему, без корсета и лифа.
А вот что было дальше, как дальше происходило? Этого Андрей не смог бы сказать, потому что он утонул в Глаше, он пропал в горячей сладости, от которой хотелось кричать, и Глаша все время почему-то уговаривала его, будто жалела, и он все слышал:
«Андрю-у-уша, Андрю-уша… Ох, беда моя, Андрю-уша… сладкий ты мой…»
Он хотел бы растерзать ее за то, что она не дает ему взорваться от сладости и желания, и он тоже что-то говорил, даже крикнул… И потом они лежали рядом, совсем мокрые от пота, жутко усталые, и Андрей был полон благодарности к Глаше, Глашеньке, его первой женщине. Хоть и было жарко, Андрей никак не мог оторваться от Глаши, он гладил ее плечи и очень хотел поцеловать ее розовый пухлый сосок, но теперь, когда все кончилось, было неловко это сделать. А Глаша медленно-медленно гладила его по голове. Она молчала.
Потом вздохнула коротко, вздох оборвался, и Андрей понял, что Глаша плачет.
— Ты что? — спросил он. — Ты зачем?
— Ой нехорошо, — сказала она. — Как нехорошо…
— Ну почему! Ты же говорила, что любишь меня.
— Ты же еще мальчик. А я старая…
— Это я сам, я сам просил. Ты не виновата.
— Глупый. Любви не просят. Ее дают и берут.
Глаша смотрела вверх. У нее был красивый четкий профиль — выпуклый круглый лоб, небольшой точеный нос, красиво очерченные полные губы и упрямый, выступающий вперед подбородок. Андрей никогда еще не разглядывал ее так. Он приподнялся на локте.
— Я люблю тебя, — сказал он, глубоко благодарный этой красивой, взрослой, чистой женщине, которая открылась ему, впустила его в себя и теперь лежала рядом, покорная и грустная.
— Это тебе кажется, Андрюша, — чуть улыбнулась Глаша. — Это скоро пройдет. Ты опомнишься и будешь ненавидеть меня.
— Никогда!
Он поцеловал ее в теплый висок. И прошептал:
— Ты моя первая женщина.
— Уж догадалась, — сказала Глаша, — жалко.
— Почему?
— Тебе бы первый раз быть с такой же, как ты, — молодой, красивой.
— Ты самая красивая.
— Никогда я не была красивой, ни сейчас, ни сто лет назад.
— А сколько тебе?
— Я вдвое тебя старше, ты знаешь. А может быть, в десять раз.
— Но я же не хотел, чтобы с другими, — я хотел с тобой…
— Зачем лжешь, мой мальчик? — Она повернула к нему голову, и глаза ее были большие, светлые и влажные. — Просто пришло твое время, а я оказалась рядом. Два дня назад ты об этом и не думал.
Андрей не ответил, потому что Глаша была права. И даже более чем права. Не два дня — три часа назад он не думал, что так будет. Он любовался Лидочкой, никак не полагая, что и ее можно так же обнимать, как Глашу. Любовался, но не желал.
А Глаша заговорила вновь, словно читала текст:
— Я думаю, что ты увидел здесь другую девушку, молодую, нежную, но то чувство, которое ты испытываешь к ней, в тебе еще не связано с любовью плотской. Ты разделил как бы любовь надвое. То, что тебе и помыслить трудно с ней, ты испытал ко мне.
— Ничего подобного, — возмутился Андрей, поражаясь тому, что Глаша прочла его мысли.
— Я не обижаюсь. Если бы я не захотела, ничего бы не было.
Она притянула Андрея к себе и стала целовать. Андрею было душно, ее поцелуи щекотали, и Глаши было слишком много, как будто Андрею дали большой шоколадный торт, первый кусок которого поедаешь с жадностью, но потом задумываешься — протянуть ли руку за вторым. Но сравнение с тортом, так и не успев толком оформиться в голове Андрея, забылось, так как от поцелуев Глаши и тесного прикосновения ее груди, ее бедер, живота в Андрее возникла дрожь вожделения, и он стал отвечать на ее поцелуи, становясь все настойчивее и грубее, и тогда Глаша стала уступать, обволакивать его, раскрываясь навстречу, горячо и влажно…
Когда Андрей лежал, вытянувшись и стараясь не прикасаться к слишком горячему телу Глаши, она лениво поднялась с постели, подобрала с пола брошенное платье и панталоны и сказала, будто ничего не было:
— Отдохни, Андрю-уша, поспи немного. Тебе ехать долго.
— Спасибо, — сказал Андрей. Он был опустошен, не мог шевельнуть пальцем и благодарен Глаше, что она первой поднялась и ушла.
Она выбежала, не одеваясь и прижав к груди свои вещи, босые ноги простучали по коридору. Андрей не знал, хорошо ему или плохо, да и не желалось думать. Кровать тихо покачивалась, словно на волнах. Потом Глаша заглянула снова, она была уже одета. Она принесла влажное махровое полотенце и спросила:
— Можно, я оботру тебя? Будет прохладнее.
— Спасибо, — сказал Андрей.
Глаша обтирала его нежно, быстро, как ребенка. Андрею сразу стало легче дышать. Глаша откинула штору.
— Спасибо, — сказал Андрей.
— Ты спи, спи, милый мой. — Глаша наклонилась и коснулась губами Андрюшиной щеки.
— Спасибо, — повторил он и мгновенно заснул.
Его разбудила Глаша.
Она сидела на стуле у кровати, видно, давно сидела, глядела на Андрея.
— Андрю-уша, — сказала она тихо, — вставай, через полчаса автобус.
Андрей от ее голоса вскинулся, уселся на кровати, увидел совсем близко ее лицо и сразу все вспомнил. Лицо было таким милым и глаза такими любящими, что Андрей сразу сказал:
— Я останусь здесь. Я с тобой останусь.
— Глупости, — сказала Глаша, чуть улыбнувшись. — Ни к чему тебе здесь оставаться. У тебя своя жизнь.
Андрей резко поднялся, и в голове все пошло крутом. Пришлось опереться на подставленную руку Глаши — та словно знала, что будет, протянула ее.
— Перегрелся ты немножко, — сказала Глаша быстро, словно не хотела, чтобы Андрей возражал ей. — Ну ничего, ветерком продует, придешь в себя.
— Глаша!
— В следующий раз приедешь, поговорим.
И Андрей сразу, с готовностью, подчинился этому решению.
— Я бы чаю выпил, — сказал он. — Можно?
— Ты компот выпей. — Глаша показала на стакан, стоявший на столике у кровати. — Я самовар не поставила, а теперь времени нет. Пора тебе.
— Ты хочешь, чтобы я уехал?
— Да, — сказала Глаша, — хочу. Так всем лучше.
Андрей хотел ее поцеловать, и Глаша покорно подставила ему губы, но отозвалась на его ласку без страсти.
— Не сердись, — сказал Андрей.
— Может, это ты на меня сердиться будешь. Мне-то что сердиться. Что было — то было.
— И все-таки ты жалеешь?
— Господи, ну и приставучий ты! — вдруг рассердилась Глаша. — Я ни о чем не жалею. И если обо мне вспомнишь, так и знай.
Она говорила это упрямо, будто себя убеждала. Будто кому-то еще, невидимому, хотела доказать.
Андрей выпил компот. Компот был слишком сладким.
— Я долго спал? — спросил он, одеваясь. Он не стеснялся своей наготы перед Глашей.
— Полчаса проспал. Ничего, в автобусе доспишь, там сиденья со спинками.
— Ты меня словно гонишь.
— Гоню.
— Почему? Ты меня не любишь?
— Я тебя люблю больше… больше, чем… дозволено. Не удивляйся, потом поймешь. Но и меня постарайся понять.
Глаша помогла сложить в чемодан вещи, даже не забыла, положила туда связку крупного красного лука, который так любит тетя. Потом вдруг спохватилась. А письмо где? Где письмо Сергея Серафимовича? Конверт где? Где конверт с деньгами?
Конверт лежал на полу, у кровати, и Андрей сразу вспомнил, почему он оказался там. «Как странно, — думал он, застегивая сорочку. — Мы разговариваем, словно ничего особенного не произошло. Она даже ворчит. А я сейчас уеду, словно так и надо».
Глаша буквально вытолкала Андрея из дома.
— Ты только-только дойти успеешь. Только-только.
Андрей спустился в сад. Глаша несла чемодан следом. Филька замахал хвостом, но не подошел попрощаться. Он измучился от жары. Легкий теплый ветерок шевелил листья винограда. Велосипед отчима стоял прислоненный к стене, он был в пыли, Глаша довела Андрея до калитки.
— Ну, с Богом, — сказала она.
— Я к тебе приеду, — сказал Андрей. — Зимой приеду. На Рождество. Не к нему, а к тебе, ты понимаешь?
— Посмотрим, — сказала Глаша. — Да и говорить так нехорошо.
Андрей хотел поцеловать ее. Глаша уклонилась.
— Не надо, — сказала она. — Мы с тобой свое отцеловались.
Она стояла в калитке и смотрела вслед, пока он не скрылся за поворотом. Андрей обернулся, увидел, что она стоит, помахал рукой. Глаша подняла руку, и рука упала. Глаша плакала.
— Я вернусь! — крикнул Андрей.
Ветерок с Ай-Петри, скатываясь к морю, принялся разгонять дневной зной. Навстречу попадались люди, проехал в гору извозчик. На нем сидел давешний рыбак в соломенной шляпе. Он узнал Андрея и погрозил ему пальцем. Рыбак был пьян и весел.
И эта встреча как бы ножом отрезала то, что было в доме отчима, потому что рыбак был там, на море, рыбак был тогда, когда рядом плыла Лидочка, и над рыбаком они вместе смеялись. Встреча с ним сейчас была как бы напоминанием свыше, укором, которого Андрей до того не ощущал. Очевидно, если существовали какие-то нити, что связывали его с доброй Глашей, то с каждым шагом они истончались и ослабевали, так что случайная встреча с рыбаком, происшедшая, когда нити превратились в паутинки, оборвала их мгновенно и отбросила Андрея на берег моря.
Это возвращение было неприятным, потому что Андрюша изменил своей прекрасной даме, чего ни один порядочный рыцарь в давние времена себе не позволял. Спасительная формула «Королевам не изменяют с королевами, королевам изменяют со служанками» Андрея не спасала, потому что Глаша, будучи служанкой, конечно же, таковой не была.
Оборвав нити нежности, связывавшие его с Глашей, Андрей постарался рассуждать трезво, что с трудом ему удавалось, так как все события последних двух дней не укладывались в нормальное течение жизни и в памяти как бы громоздились одно на другое, образуя причудливую и неустойчивую пирамиду. Андрей подумал вдруг, что сейчас он может встретить отчима, который должен возвращаться с конференции, но которого он встретить бы не хотел. И от нежелания увидеть Сергея Серафимовича он ускорил шаги и даже свернул потом в небольшой переулок, путь которым был длиннее, чем по улице… Тут он остановился и уронил чемодан прямо в пыль. Он же не сошел с ума! Он своими глазами видел велосипед отчима у дверей дома, когда уходил. И даже обратил внимание на то, что велосипед покрыт пылью. Значит, отчим был дома? И не захотел его увидеть? Он догадался? Он увидел, подслушал, что произошло между ним и Глашей? Или приехал позже, когда Андрей спал? Это было бы счастьем, если позже. Но почему тогда не спустился попрощаться с пасынком? И почему Глаша так странно вела себя?
Спеша и оглядываясь, будто ожидая увидеть за собой погоню, Андрей вышел на площадь, к длинному одноэтажному зданию, возле которого выстроились извозчики и линейки, ожидавшие пассажиров в Алушту, Симферополь и Севастополь. Он остановился в тени старого тополя и стал осматривать площадь, как бы опасаясь все той же погони.
И тут увидел в стороне, в сквере над речкой, Лидочку.
Лидочка кого-то ждала, порой поднимала голову, оглядывая площадь.
Андрей ощутил удар горя. Как он счастлив был бы встретить Лидочку совсем одну, как рад бы он был допустить невероятное: что она захотела его увидеть и потому пришла сюда! Но после того как это случилось с Глашей, он не мог себе позволить посмотреть ей в глаза. Она догадается, что произошло! А он не сможет сказать ни слова в свое оправдание. Горе тут же уступило место злости на Глашу, которая была во всем виновата, — сама же признала, что была во всем виновата! Именно из-за нее он навсегда потерял Лидочку и даже не может сказать ей прощального слова. В состоянии, близком к истерике, Андрей пошел вокруг площади таким образом, чтобы оставаться за спиной Лидочки. Но все время смотрел на нее и даже шел как можно медленнее, чтобы продлить это странное свидание, опасаясь притом, что сейчас откуда-то выйдет Беккер и Лидочка бросится к нему, сделав бессмысленной жертву Андрея и его неправедную злобу на Глашу.
Лидочка поднялась с лавочки и прошла поближе к линейкам. Андрей остановился за киоском, чтобы она, оглянувшись случайно, не заметила его. Но Лидочка, окинув взглядом площадь, вернулась к скамейке.
Андрей возобновил свое неспешное движение к автобусу и, когда до автобуса оставалось шагов сто, случайно увидел, как кондуктор поднимается по высоким ступенькам, а в кучке провожающих у автобуса возникает оживление; люди машут руками, и в ответ с автобуса несутся возгласы. Сзади из-под автобуса вырвался клуб белого дыма, это шоффэр включил двигатель.
Андрей понял, что автобус вот-вот уедет, и, забыв о том, что Лидочка может его увидеть, припустил напрямик к автобусу, размахивая чемоданом. Он успел вскочить на подножку в последнюю минуту. Чемодан застрял, Андрей дергал его, автобус медленно разворачивался на площади, кондуктор твердил что-то укоризненное, но помогал тащить чемодан, и, когда Андрей наконец уселся на место наверху, в империале, и поставил чемодан, он увидел, что автобус уже выезжает с площади, а Лидочка, выбежав на середину ее, неуверенно протянула руку в направлении автобуса, будто хотела остановить его. Но до автобуса было уже далеко, и хоть Андрею показалось, что она что-то кричит, звуки до него не доносились.
Вдруг Андрей понял, что, если он сейчас прикажет остановить автобус, соскочит и побежит обратно, к Лидочке, в его жизни произойдет нечто чрезвычайно важное. Но он не мог заставить себя открыть рот, чтобы крикнуть кондуктору.
И это было не воспоминание о Глаше — о ней в тот момент Андрей не думал, — а то странное чувство смущения, которое заставляет утопленников погибать, не издав ни звука, а жертв насилия молчать, хотя неподалеку проходят люди. Это чувство стыда перед нарушением каких-то въевшихся в кровь правил поведения, чувство настолько сильное, что оказывается сильнее страха смерти. Андрей понимал, что должен крикнуть кондуктору: «Стойте! Остановитесь!» Его губы шевелились, но с них не слетало ни звука.
Автобус выехал на дорогу, и ветви тополей закрыли и площадь, и Лидочку, стоявшую растерянно и сиротливо посреди нее.
Только где-то возле Алушты Андрей перестал клясть себя. Он даже открыл конверт, в котором была записка от отчима и двести рублей. Он вынул из пачки десять рублей, заплатил за билет, остальное положил в карман, даже не прочтя записки.
Пока автобус долго стоял в Алуште и пассажиры шумно и жадно ели горячие чебуреки, Андрей чуть было не решился нанять извозчика и вернуться в Ялту. Он взялся за ручку чемодана и тут понял, что не знает адреса Лидочки. Не бродить же всю ночь по городу? А если он встретит отчима или Глашу? Ведь Ялта — маленький городок, и все там на виду. К тому же теперь, по прошествии времени, Андрей все больше убеждал себя, что появление Лидочки на площади — совпадение, а ее жест — удивление по поводу того, что она так неожиданно увидела Андрея.
Только уже поздно вечером на последней остановке перед Симферополем, пока шоффэр заливал воду в радиатор автобуса, Андрей спустился вниз, к фонарю, что горел у придорожного ресторанчика, и при свете его прочел записку отчима. Записка была короткой. Конечно же, отчим написал ее вчера.
Дорогой Андрей!
Как мы и договаривались, даю тебе денег на дорогу до Москвы. Со счета в Коммерческом банке ты будешь получать ежемесячное пособие. Надеюсь, его хватит на скромный образ жизни. Жду тебя на рождественские каникулы.
Сергей.
Еще через месяц, уже став студентом университета и снимая комнату в небольшой квартире вдовы Глаголевой на Сретенке, Андрей получил очередное письмо от тети. В него был вложен другой небольшой конверт. Конверт был адресован Андрею Берестову в Симферополь, на Глухой переулок. В тот день Андрей спешил к одному из новых приятелей, на встречу эсдеков, к которым он уже почти примкнул, ибо под влиянием своего однокурсника Погоняйло уверовал в величие Карла Маркса. Он разорвал конверт, ничего не подозревая и даже не затруднив себя размышлением, от кого могло бы прийти письмо.
Дорогой Андрюша!
— начиналось оно. Почерк был крупный, округлый, мягкий, с легким правильным нажимом. —
Думаю, что ты уж забыл обо мне, ведь больше месяца прошло, как ты уехал. Но сегодня мне приснилось, будто ты разговариваешь со мной и хочешь вернуться. Сон — это глупость, я снам редко верю, но я испугалась, что ты надумаешь написать мне, а письмо возьми да попадись на глаза Сергею Серафимовичу. А это его очень огорчит. Так что, пожалуйста, не пиши мне, если захочешь, а если не захочешь, тем лучше. А написать мне можно до востребования на ялтинскую почту.
Ты, может, и не догадался, почему я так холодно попрощалась с тобой, хоть и сердце мое разрывалось. Сергей Серафимович вернулся раньше времени, и что он видел или слышал — одному Богу известно. Он после этого много дней пребывал в горьком состоянии духа и по сей день со мной разговаривает лишь по хозяйственным надобностям, нет между нами былых добрых отношений. Хоть я стараюсь, чтобы все шло по-прежнему. Тебя он не винит, ты не думай. Он во всем винит меня, и поделом, потому что считает тебя заместо сына и видит свою обязанность в твоем благополучии, а меня всегда полагал чем-то вроде твоей мачехи, и в его глазах поэтому мой грех велик и непростителен, как кровосмешение. Он же по-своему любит меня, и мы с ним много лет вместе прожили. Так что если ты хотел приехать к нам на Рождество, то этого делать не надо. Сергей Серафимович может не совладать со своим расстройством и сказать лишнего. Он теперь замкнулся, много пишет, часто уезжает по делам даже в Петербург, на здоровье не жалуется, но знаю, что сердце у него слабое, хотя он никому об этом не скажет.
А я по тебе, Андрюша мой, скучаю. Сейчас осень стоит, дожди, скучно, темнеет рано. И знаю, что грех, а скучаю. Ты, если соберешься написать, напиши на почту, до востребования. Но если все же приедешь на Рождество, вернее всего Сергей Серафимович и виду не покажет.
Надеюсь на щепетильность Марии Павловны, что она письмо не откроет и не прочтет.
С уважением, твоя Глафира.
Андрей стоял у окна, держал письмо в руке и смотрел, как по вечерней улице проезжают пролетки. Вода стекала с зонтов немногочисленных прохожих.
Андрей не пошел в тот вечер на сходку эсдеков. Вдруг ему это стало неинтересно.
За последние два месяца он много раз вспоминал Глашу и скорее жалел, думая, каково ей жить с таким старым человеком, как отчим. Но это днем. Ночью было иначе. Ночами ему снилось, что он вновь обнимается и целуется с ней. Но в этих снах всегда присутствовал кто-то третий, ощутимый то по кашлю, то по скрипу, наблюдающий и гневный. И это присутствие не давало слиться с Глашей.
Андрей хотел написать Глаше, но опасался, что письмо попадет в руки отчима. Он-то уже давно знал, почему их расставание с Глашей было таким странным, он понимал теперь, каково было Глаше прощаться у калитки, зная, что сверху из-за шторы кабинета на них смотрит, молчит и гневается Сергей Серафимович. Письмо возбудило в памяти все, до вздоха, до слова, до стона в страсти. Андрей даже понюхал листок, и ему показалось, что он различает легкий свежий запах Глашиной кожи. Но, конечно же, этого быть не могло, потому что прошло больше месяца с тех пор, как пальцы Глаши касались письма.
В тот же вечер Андрей написал Глаше письмо, очень горячее, полное любви и клятв вернуться. Он так и заснул, не запечатав и не отправив его. И может, к лучшему, потому что, когда перечел утром, испугался собственной нелепой и глупой страсти. Он разорвал письмо, хотел написать новое, но пора было идти на лекцию. Так он Глаше и не ответил, хотя еще не раз собирался. Правда, перед Рождеством, накупив дюжину открыток с детишками у елки, он разослал их по родственникам и знакомым, написал открытку и Глаше. Хотел было послать на адрес отчима, но потом передумал — послал на почту, до востребования. В конце после поздравлений приписал:
Скоро напишу большое письмо.
Но и после этого большого письма не написал.
В ноябре Андрей получил письмо из Петербурга от Ахмета.
Андрей — кислых щей!
Пребываю в Петербурге в хорошей обстановке, но чует мое сердце, что в Париж судьба меня не закинет, потому что на курсах господина Берлица я занял первое место с конца. Оказывается, французский язык совсем не моя стихия. Ж'не компран па? Ты понимаешь? Я вас не понимаю. Беда другая, деньги куда-то проваливаются, и когда блудный сын вернется в Симферополь, будет громадный скандале, как говорят французы, потому что я истратился на много недель вперед, в том числе на лечение триппера (прости за подробности). Так что у меня один путь — в разбойники или в гусары. Дошло до того, что, встретив на Невском проспекте (это главная улица вашей столицы) нашего друга фон Беккера, я осмелился востребовать с него долг в размере 10 руб. Каковых у него не оказалось. Наш фон Беккер, оказывается, большая шельма. Я напросился к нему в гости, и он со скрипом и скрежетом зубовным меня привел в замечательную квартиру. Сам он снимает комнату у одной генеральши, ведет себя джентльменом и делает вид, что он — настоящий барон, ты же знаешь, как это ему удается. У генеральши есть дочка — хочется немедленно надеть на нее чадру. Нет, ты меня неправильно понял: не от отвращения, а от восхищения, от желания припрятать такое сокровище для себя одного. Нечто нежное, голубое, воздушное со странным именем Альбина. Я готов был жениться на Альбине немедленно и ради этого счастья перебежать в христианство. Но, по-моему, позиции нашего Коли нерушимы. Оказывается, генеральша убеждена, что наш Коля — барон фон Беккер, а ей всю жизнь хотелось породниться с древней знатью. У Коли в комнате на стене висит в рамке герб баронов фон Беккеров (надо бы поглядеть по гербовнику — чей герб наш друг стибрил), так что мне пришлось соответствовать моменту и утверждать, что мой прадедушка — крымский хан Гирей, который построил Бахчисарайский фонтан, возле которого лишал девичьей чести российских невольниц. Ты бы видел, как очаровательно рдели щечки у Альбины и как растерянно поднимала ее мама выщипанные брови и говорила: «Я где-то об этом читала, правда?» Коля надувался и молчал. Коньяк был славный, о ялтинских встречах разговор не поднимался, в общем, я полагаю, что господин фон Беккер из Глухого переулка скоро породнится с состоятельным семейством генерала Чичибасова.
Сам я скоро буду проезжать через Москву и, если останется хоть один лишний рубль, обязательно нанесу тебе визит.
Горячо обнимающий тебя непутевый разбойник
Ахметка.
Письмо показалось Андрею забавным. Настроение его улучшилось, и Андрей не сразу сообразил почему. Неужели он обрадовался благоприятным переменам в жизни Коли?.. Господи, нет же! Лидочка свободна!
Впрочем, радость была отвлеченной и ничем не нарушила распорядок жизни, потому что Лидочка была не более как сладким и томительным летним воспоминанием.
В Москву Ахмет так и не заехал. Видно, у него не осталось ни одного лишнего рубля.
Глава 2
Рождество 1913 г
На рождественские каникулы Андрей приехал в Симферополь.
Тетя Маня встречала его на перроне. Шел мокрый снег. Он не таял на траве и ветках деревьев, а мостовые были черными, мокрыми, и крыши были мокрыми тоже.
Тетя Маня всплакнула.
— Как ты возмужал! — говорила она, протирая пенсне толстыми пальцами. — Ты настоящий мужчина. Как жаль, что Ксения тебя не видит! Она была бы счастлива.
Андрей оставил ее у чемодана, побежал искать носильщика. Когда он пришел с носильщиком, тетя Маня сидела на чемодане под черным зонтом и была серьезна.
— Я сама заплачу ему, — сообщила она Андрею издали.
Тетя не допускала мысли, что Андрей может не нуждаться в деньгах, и, несмотря на его протесты, ежемесячно высылала ему пятнадцать рублей. Андрей складывал ее переводы в конверт.
Пришлось ждать извозчика — они последними из пассажиров вышли на площадь. Андрей держал зонтик, а тетя все разглядывала его, словно хотела запомнить. Тетя умудрялась все превратить в расставание, даже счастливую встречу.
— Что нового? — спросил Андрей.
— Что может быть нового в Симферополе? — сказала тетя. — Мы же глухая провинция. Особенно зимой. С климатом делается что-то страшное. Ты знаешь, даже приметам нельзя верить. Я читала, что наступает перенаселение Земли и скоро грядет страшный голод.
— Кого ты видела из моих приятелей?
— Недавно вернулся Ахмет Керимов. Там произошел скандал.
— Подозреваю, — сказал Андрей.
— Нет, ты даже подозревать такого не можешь. Отец послал его на курсы Берлица, а Ахмет умудрился пуститься во все тяжкие.
Подъехал извозчик. Извозчик был знакомый, из той, давешней жизни. Он приходился родственником Ахмету.
— Андрей! — закричал он, соскакивая с облучка. — С приездом! Совсем офицер стал!
Верх пролетки был поднят — извозчик поставил чемодан перед задним сиденьем, чтобы на него не попадал снег.
— Андрей — студент, — поправила тетя Маня.
— Фуражка вижу, шинель-минель вижу, — сказал извозчик. — Значит, офицер.
Пролетка ехала медленно, извозчик спросил:
— В Петербург живешь?
— В Москве.
— Студент, говоришь? Доктор будешь?
— Андрюша изучает историю, — сказала тетя Маня.
— Правильно! — сказал извозчик. — Изучать нужно.
Он замолчал, видно, старался понять, зачем изучать историю.
— Я не кончила, — сказала тетя Маня. — Произошел страшный скандал. Ахмет связался с сомнительными личностями и истратил деньги. Ты же знаешь, Искендер зарабатывает каждую копейку трудом, и для него это был жестокий удар. Он рассчитывал, что Ахмет получит настоящее образование. И я могу понять его.
— Про Ахметку говоришь? — обрадовался извозчик. — Ахметке голова отрывать мало.
— А что он сейчас делает? — спросил Андрей.
— Не хочешь учиться, извозчик будешь. Я его сегодня на базаре видел. Искендер ему ломовую клячу дал. Он капусту возит, хе! Такие дела.
Придется Ахмету уходить в разбойники, подумал Андрей. Долго он в ломовых возчиках не удержится.
— Коля Беккер приехал, — вспомнила тетя. — Я встретила Нину, она сказала.
— Один?
— А с кем он должен был приехать? Я не понимаю. Он уже заглядывал вчера вечером, тебя спрашивал.
На площади перед гастрономическим магазином Козлова ставили большую елку. Сам Иван Петрович в бобровой шубе стоял в дверях и покрикивал на рабочих.
Пролетка миновала гимназию. На втором этаже горел свет — Андрей понял, что это окошко библиотеки. Тетя велела остановить у кондитерской Циппельмана. Андрей сказал:
— Я куплю. Что нужно?
— Я вчера заказала торт-пралине, твой любимый.
За прилавком стоял старый Циппельман. Он обрадовался Андрею и сразу вынес плоскую коробку.
— С приездом, — сказал он. — Вы стали настоящий мужчина. Может, выпьете чашечку кофе?
— Там тетя ждет, — сказал Андрей. — Сколько я вам должен?
— Мария Павловна заплатила, не беспокойтесь.
— А где Фира?
— Ах, вы же не знаете! Фира уже замужем. Вы представляете, я буду дедушкой.
Циппельман проводил Андрея до двери, помахал оттуда тете Мане и крикнул:
— Может, все же чашечку кофе? По-варшавски!
Когда вошли в дом и Андрей раскрыл чемодан, соображая, куда он положил подарки для тети, тетя спросила:
— А у тебя, Андрюша, есть девушка?
Спросила, как выплюнула вопрос, — видно, заготовила его заранее, готовилась и робела.
— Не бойся, жениться пока не собираюсь.
— Это было бы совершенно легкомысленно.
Андрей достал конверт с тетиными переводами и протянул ей.
— Это что такое? Подарок?
— Открой.
В конверте лежало шестьдесят рублей. Тетя пересчитала их и ничего не поняла. Андрей, гордый самостоятельностью, принялся объяснять, тетя подняла скандал из-за возвращенных денег, потом вспомнила, что Андрей голодный. За обедом она говорила без умолку, все больше о своих делах — с недавних пор она ведала городскими приютами и была преисполнена гордыней, которую старалась не показывать, и оттого гордыня была совершенно очевидна. А об отчиме она ничего не знала. Раз он прислал с оказией мешок миндаля, до которого тетя была большой охотницей. Андрей подумал, что это сделала Глаша.
В комнате было темно, снег все сыпал, тетя зажгла керосиновую лампу — до Глухого переулка электричество еще не добралось.
После обеда Андрей отказался спать, пошел к Беккерам. Их домик покосился еще более, калитка висела на одной петле. Во дворе была грязь, пришлось идти по доске, проложенной до двери.
В прихожей пахло лекарствами и чуждым этому аккуратному дому запахом русской непроветренной избы. Андрей постучал, в ответ кто-то начал кашлять. Потом кашель приблизился, дверь открылась — за ней стоял на костылях старый Беккер. Лицо его было сизым, длинный нос распух, будто он долго плакал. Он не сразу узнал Андрея и сначала даже испугался его форменной шинели, в чем наивно признался.
— Все жду, что описывать имущество придут. Ты — Берестов Андрюша, Марии Павловны сын? Ты к Коле?
Беккер запамятовал, что Андрей приходится племянником Марии Павловне. Он стоял в дверях, забыв, что надо пропустить гостя. За его спиной раздался голос Ниночки — младшей сестры Беккера, такой же длинноносой, бледной и обреченной остаться старой девой, если, конечно, не найдется для нее такого же скучного и непритязательного мужа, как собственный папа.
— Андрей, заходи же, чего ты стоишь. Папа, посторонитесь, вы мешаете.
Нина протянула длинную белую руку и протащила Андрея в щель между замершим отцом и стеной.
— Раздевайтесь, — сказала Нина. — Вы совсем промокли.
— Нет, я только из дома.
Нина забрала у Андрея зонт и шинель. Отец опомнился, подошел ближе.
— Я Колю позову, он будет рад, — сказал он.
И, не дожидаясь ответа, тяжело заковылял в глубь дома.
Нина стояла, безвольно опустив руки, лицо у нее было виноватое.
Андрей украдкой осматривался. Дом Беккеров всегда был беден, но за последние месяцы он пришел к тому же в полное запустение.
— Мама болеет, — сказала Нина, перехватив взгляд Андрея. — И папа совсем плох. А я даю уроки, и все хозяйство на мне, простите, что у нас беспорядок.
— Мы всегда были на «ты», — сказал Андрей.
— Судьба заставляет нас изменять своим правилам, — сказала Нина поучительно. — Она несправедлива к нам.
— Ничего, — сказал Андрей. — Коля скоро кончит университет, будет хорошо зарабатывать, да и ты выйдешь замуж.
— Мы никому не нужны, Андрей, — сказала Нина твердо. — Господь отвернулся от нас.
Это звучало, как в романе из «Нивы».
В комнату вошел Коля.
— Извини, что я не услышал. Я писал письмо.
Некогда красивое, высокое, до потолка, трюмо было засижено мухами, и верхний угол его был затянут паутиной. Сверкающий порядок, что раньше царил в этом доме, поддерживался Елизаветой Юльевной, матерью Коли.
— Что с мамой? — спросил Андрей.
— Плохо, — сказал Коля.
Коля провел его через большую комнату, где на диване уже лежал, посапывая, его отец — непонятно, когда он успел заснуть, — из комнаты вели две двери: одна в спальню, где обитали Нина и Елизавета Юльевна, другая в комнату Коли. Дверь к маме была открыта, оттуда донесся стон, и Ниночка поспешила туда. Коля быстро подтолкнул Андрея к другой двери, закрыл ее за собой.
Комната Коли не изменилась, только была не убрана и казалась нежилой. Коля показал Андрею на стул, а сам сел на кое-как застеленную койку. На письменном столе лежали исписанные цифрами листы бумаги. Полка с книгами, такая знакомая, потому что Коля в свое время давал Андрею стоявшие на ней томики Буссенара и Жаколио, опустела и накренилась.
— Прости, — сказал Коля, — но так вот мы живем. Ты увидел меня в трудный день.
— А что с мамой?
— У нее подозревают рак, — сказал Коля. — Она мучается болями. Но, к сожалению, у нас нет возможности купить лекарств.
— Я постараюсь помочь, — сказал Андрей.
— Я не хотел просить тебя о помощи.
— Я поговорю с тетей Маней. У них в ведомстве есть деньги на такие цели.
— Ни в коем случае, — резко сказал Коля. — Лучше умереть с голоду.
— Что ты говоришь!
— Завтра весь Симферополь будет знать, что мы нищенствуем. Подумай, как это отзовется на Нининой судьбе.
— Ладно, — сказал Андрей, — подумаем. Расскажи о себе. Как твоя Альбина?
— Ахмет рассказал? — Коля насторожился.
— Он мне смешное письмо прислал.
— Ахмет все неправильно понял, — сказал Коля. — Он всегда был шутом и останется им. Но шутить можно за свой счет, но не за счет товарищей.
— Он ничего плохого не написал.
— По глазам твоим вижу, что написал! А мною руководило лишь чистое чувство, клянусь тебе!
Коля вскочил с койки. Старые пружины взвизгнули. Он подошел к окну и отодвинул в сторону горшок с засохшим цветком. Он молчал. Из соседней комнаты донесся стон, потом голоса.
— Тебе, который может пользоваться благодеяниями отчима, не понять, что такое безысходность, — сказал Коля наконец.
Андрей видел его широкую спину, небольшой, хорошо подстриженный затылок и тонкие, алые на просвет уши.
— Мне не к кому обратиться даже за сочувствием, — сказал Коля. — Ахмет ничего не поймет и будет смеяться… Я все потерял! И ты более других можешь презирать меня.
Почему-то Андрей подумал в тот момент о десятке, которую Коля так и не отдал Ахмету. Тетя Маня панически боялась любых долгов. Может, какой-нибудь из ее предков попал в долговую яму, может, она запомнила уроки, вычитанные из французских романов, но она была убеждена и убежденность эту передала Андрею, что порядочный человек скорее умрет, чем не вернет долг.
— Ты же понимаешь, — продолжал Коля, — что я не мог прожить в Петербурге на двадцать рублей, которые присылала мать?
— Не мог.
— Наш наивный друг Ахмет, который умудрился прокутить две тысячи за несколько недель, решил, видно, что я намерен сесть на шею Калерии Иосифовне.
— Какая еще Калерия Иосифовна? — спросил Андрей.
— Дама, у которой я снимал квартиру. Тебе я могу сказать: она была уверена, что я — сын барона и состояние моего отца велико. Она готова была отдать за меня Альбину. Но моя печальная тайна раскрылась, я был изгнан из числа претендентов.
— Ой, горе мое! Ну сделай что-нибудь! — закричала за стенкой мать.
— Пошли к Циппельману, — сказал Коля. — Больше сил нет терпеть.
Андрей был рад уйти.
Нина вышла их проводить и сказала:
— Коля, постарайся, я тебя умоляю, постарайся достать опия. Хоть несколько капель.
— Я спрошу у тети, — сказал Андрей.
Снег перестал, облака разбежались, но сразу похолодало и поднялся пронизывающий ветер. Они шли быстро и почти не разговаривали.
— Ты не был больше в Ялте? — спросил Андрей. Не хотел спрашивать, но вопрос сам сорвался с губ.
— Зачем? — спросил Коля. — И откуда у меня деньги для таких путешествий?
— И девушек больше не видел?
— О, далекое детство! — вдруг засмеялся Коля. — Я помню, как ты пытался уплыть с Лидочкой в Турцию. Какое это было светлое время!
Циппельман встретил их радостно. В кондитерской было жарко, круглый, с залысинами лоб Циппельмана блестел, как смазанный жиром.
— Какая радость! Вторая встреча. Вам понравился мой торт? Я сам его делал.
— Мы его будем есть с чаем, — сказал Андрей. — Вечером.
— Правильно. Это именно вечерний торт. А сейчас будем пить кофе?
— С коньяком, — сказал Андрей. — На улице такая погода.
— Именно что такая погода. Если бы я не был так занят, я бы обязательно сам выпил рюмочку. Я ужасно беспокоюсь за Фиру. Там в Керчи такие ветры, такие ветры!
Они сели в углу, за свой столик. Циппельман принес кофе, коньяк и фотографию Фиры с ее мужем, типичным громилой.
— Вы не думайте, что он грубый, — сказал Циппельман. — У него сердце ягненка.
В кафе вошли замерзшие реалисты. Циппельман побежал делать им чай с вафлями.
Резким театральным движением Коля поднес к губам рюмку и выпил коньяк, как извозчик пьет водку.
— Все время хочется напиться, — сообщил он. — Но я не хмелею.
Андрей отхлебнул кофе. Он понимал, что ему предстоит выслушать исповедь приятеля, втайне мечтая, чтобы случилось небольшое землетрясение, которое отвлекло бы Колю от рассказа. Но землетрясений в Симферополе не бывает…
— Я был слишком доверчив. — Коля поправил прядь, упавшую на лоб. — Я доверился судьбе. Чувство, которое я испытывал к Альбине, было настолько глубоким и чистым, а она сама тянулась ко мне, как лиана тянется к стволу…
Баобаба, чуть не подсказал Андрей и понял, что рискованность сравнений и заставила замолчать Беккера.
— Пальмы, — закончил фразу Коля и помахал пальцами Ципе, словно половому. — Еще коньяк!
Реалисты обернулись как по команде.
— Сейчас, Коля, — отозвался Циппельман, — одну минутку, мой мальчик.
Чем испортил все представление.
Коля смешался, вытащил бумажник с золотой монограммой, из него — маленькую фотографию-визитку смазливой девицы. Андрей понял, что это Альбина, Коля перевернул визитку. Там было написано мелким и аккуратным почерком:
«Дорогому Николаю на добрую память о наших встречах.
Альбина Ч. 12 октября 1913 года».
— Красивая, — сказал Андрей. Ему приходилось так рассматривать фотографии младенцев, которые таскают с собой бабушки — приятельницы тети Мани, но фотографию возлюбленной ему показали впервые.
Циппельман принес коньяк для Коли.
— Свадьба была назначена на ноябрь, — продолжал Коля, когда Ципа отошел. — Мы даже договорились, что от моих родственников приедет только Нина — родители больны. И тут моя потенциальная теща получила анонимный донос.
— О чем?
— О том, что я — нищий, что я не фон Беккер, а сын железнодорожного кондуктора, что у меня нет ни гроша за душой… что я авантюрист и самозванец!
Последние слова Коля, увлекшись, произнес громко, и реалисты вновь обернулись.
— А кто написал? — спросил Андрей, стараясь выразить сочувствие, чтобы ни в коем случае Коля не услышал его внутреннего голоса, который, не скрывая торжества, воскликнул: «И поделом тебе, проходимец!»
— Откуда я знаю? Она мне не показывала.
— А может, не было никакого доноса?
— Как же она тогда узнала?
— Вполне естественно… она навела справки о будущем зяте!
— Здесь? В Симферополе? Почему?
— Это бывает с тещами, — сказал Андрей, и ирония Колю покоробила.
— Есть вещи, над которыми не шутят, — укорил его Коля.
— Не такая уж трагедия, — сказал Андрей. — Мы же не в семнадцатом веке живем. Ты ее любишь?
— Безумно!
Реалисты как раз вереницей покидали кафе, дожевывая вафли. Видно, у них начинался урок. Проходя, они внимательно рассматривали Беккера.
— А она тебя?
— Раньше я полагал, что наши чувства взаимны. — Коля понизил голос.
— Возьмите и обвенчайтесь, — сказал Андрей.
— Исключено.
— Почему же? Вы цивилизованные люди.
— А деньги? Ты не представляешь, в каком я положении!
— Ты знаешь такую древнюю формулу: рай в шалаше?
— Не будь наивным, Андрюша, — сказал Коля. — И не испытывай мое терпение. Альбина воспитана не для того, чтобы жить в шалашах. Впрочем — это все в прошлом…
Циппельман принес горячий кофе. Коля сидел, упрятав голову между кулаками, упершись локтями в стол. Циппельман ничего не сказал, только сокрушенно покачал головой так, чтобы Андрей это видел. Андрей молчал, потому что ему было нечего сказать: он предложил Коле выход из положения, Коля его не принял.
— Жизнь, я тебе скажу, — продолжил свой монолог Коля, — очень сложная и гадкая штука. И я — далеко не идеал. Я мечтал вырваться из нищеты, я мечтал помочь моим родителям, Нине… Для этого я пошел на хитрости. А Альбина, должен тебе сказать, знала правду и разделяла мою точку зрения. Но моя трагедия заключалась в том, что я должен был соответствовать образу состоятельного молодого человека. — Коля криво усмехнулся. — И это требовало денег. Я должен был делать скромные, но недешевые подарки будущим теще и тестю к дню ангела, я должен был покупать билеты в театр… я должен был одеваться по-человечески, наконец!
— И много ты задолжал? — спросил Андрей.
— Не так много… чуть больше тысячи.
— Ого!
— Ужас в другом — ты знаешь, откуда эти деньги?
— Ты их украл? — прошептал Андрей.
— Нет, не бойся. Но я заложил драгоценности мамы. Семейные драгоценности.
Теперь они говорили совсем тихо, сблизив головы, как заговорщики.
— Мама в угрожающем состоянии, — продолжал Коля. — Она ждет смерти. Меня вызвала Нина… Нина требует, чтобы я немедленно выкупил драгоценности.
— Она знала?
— Как бы я это сделал без ее согласия и помощи?
— А теперь мама может их попросить?
— Она уже просила. Она составила завещание, но требует, чтобы мы взяли шкатулку из банка и принесли.
— Когда?
— У меня осталось два или три дня. И нет выхода… Я буду вынужден покончить с собой.
— Ну уж до этого не дойдет! — сказал Андрей.
Коля обиделся:
— Я уйду.
Но никуда не ушел.
Время тянулось медленно — часы над стойкой постукивали маятником. Андрюша считал секунды.
«А он и не думает о Лиде, — сказал себе Андрей. — Ему и дела нет до нее. А я старался быть благородным. И отказывался видеть ее». Андрей не чувствовал, что лукавит перед собой.
— Мне не к кому обратиться, кроме тебя, — неожиданно сказал Коля. — У меня мало друзей, а друзей со средствами нет вовсе.
— Но чем я тебе могу помочь?
— Мне нужна тысяча рублей. Только одна тысяча, Андрюша. На год. Даже меньше, на полгода. Если хочешь, с процентами. Но ведь ты не возьмешь с меня процентов, правда? Только нужна полная, абсолютная тайна!
— Но у меня нет тысячи рублей!
— Ты мне говорил, что отчим открыл счет на твое имя.
— Я не могу распоряжаться счетом до совершеннолетия! Пока что я получаю только проценты. Их мне хватает на жизнь, но, честное слово, ничего не остается. Я сейчас купил билет сюда, кое-какие гостинцы, и все — я чист и гол до Нового года.
— Но твоя тетя…
— Коля, ты же знаешь, что тетя получает жалованье…
— Андрей, ты должен что-то придумать! Если ты этого не сделаешь, я застрелюсь. Это вопрос чести.
Коля обессиленно откинулся на стуле, будто пробежал целую милю. Он закрыл глаза.
— Так я и знал, — сказал он, словно Андрей отнял у него тысячу рублей, вытащил из кармана. — Так я и знал… — Он поднес руку ко лбу. Это было изящно, но Андрею жест показался слишком театральным.
— Вам подать еще чего-нибудь, молодые люди? — спросил Циппельман, не подходя из деликатности близко.
— Нет, спасибо, — сказал Андрей. — Мы сейчас уходим.
Коля поднялся, как будто эти слова были командой. Не глядя на Андрея, подошел к круглой вешалке, взял свою шинель и, не надевая фуражки, пошел к выходу. Андрей задержался, расплачиваясь.
Пасмурный день перешел в тоскливый зимний вечер. На Пушкинской зажглись желтые фонари. Люди спешили домой со службы, и потому магазины на короткое время оживились. Коля стоял у витрины колбасного магазина. Витрина представляла собой рог изобилия, из которого сыто и не спеша вываливались колбасы и рулеты бекона.
Андрей остановился, не зная, что делать дальше. Подойти к Коле? Или тот настолько обижен, что не станет разговаривать?
— Пошли домой, — наконец окликнул он Колю.
— Я не хочу в эту юдоль скорби, — сказал Коля. — И у меня нет рубля, чтобы напиться.
— Рубль у меня найдется, — сказал Андрей, впервые в жизни почувствовав себя старше Беккера. — Но напиваться смысла нет.
— Тебе ли говорить о смысле!
Андрей вынул из бумажника три рубля и протянул их Коле.
Тот посмотрел на деньги, как на мерзкую лягушку, и неожиданно ударил Андрея по руке. Деньги упали на мокрый тротуар.
— До свидания, — сказал Андрей и пошел прочь.
Он не оборачивался и поэтому не видел, поднял ли Беккер эту трехрублевку.
Андрей пришел в себя в семинарском саду. Уже почти стемнело, и здесь фонарей было мало — до ближнего метров пятьдесят. В полутьме голубела мокрая скамья. Андрей дошел до нее и, обессиленный, сел. Его знобило. Он подумал, что в поезде он долго стоял в тамбуре, потому что в вагоне было душно. Его могло продуть. Еще не хватало пролежать в горячке все Рождество.
Два человека шли по грязной, истоптанной за день дорожке. Оба были в глубоко надвинутых на брови картузах и бушлатах, подобных морским, которые любили носить мастеровые. Андрей вдруг испугался — на версту вокруг никого. Если что — не докричишься. От этих фигур веяло угрозой. Андрей понимал — самое разумное встать и уйти. Быстро уйти отсюда. Может, даже убежать. Но с Андреем так бывало в жизни не раз — он понимал, что надо сделать, чтобы спасти себя, но не делал, замирая и стараясь переждать опасность или беду.
Мужчины замедлили шаг, подойдя к скамейке, и Андрей, глядя на них и не различая в сумерках лиц, мысленно молился: пройдите мимо, пройдите, не останавливайтесь.
Мужчины остановились.
Один из них сказал:
— Студент, закурить не найдется?
— Я не курю, — сказал Андрей.
— А ты получше посмотри, — сказал второй со смешком.
— Честное слово, я не курю, — сказал Андрей и поднялся со скамейки.
— Это мы сейчас посмотрим, — сказал первый мужчина. — Выворачивай карманы.
Андрей начал отступать от них. Он боялся повернуться к ним спиной. Мужчины шли за ним следом точно с той же скоростью, как Андрей отступал. Андрей задел каблуком камень.
— Я сказал тебе, — повторил первый мужчина негромко, — показывай, что в карманах.
Андрей запустил руки в карманы и вывернул их. Ключи и мелочь посыпались на дорожку.
— Ну, что нам с ним сделать? — спросил первый. И тут Андрей узнал его голос. Года три назад он служил в гимназии истопником, и гимназисты бегали вниз, в котельную: старшеклассники покурить или сыграть в карты, те, кто помладше, — потому что там было всегда тепло и интересно.
И это узнавание сразу успокоило Андрея. В мире, в котором он существовал, были свои порядки: в нем были и люди законопослушные, и тихие, и разбойники, и жулики, но существовала определенная установленность отношений. И еще не сказав ничего, Андрей понял, что своего эти мужики обижать не будут, даже если «свой» обозначает лишь гимназиста, которого этот истопник и не помнит. Как же его звали? Тихоном?
Теперь, когда они стояли рядом, Андрей разглядел и второго. У него было скуластое крепкое лицо, узкие губы и злые глаза.
— Не буду, — сказал Андрей. — Не буду, Тихон.
— Ты кто? — Тихон приблизил лицо — от него пахнуло водкой. — Ты кто такой?
— Я у вас в котельной все свои лучшие годы пробыл, — сказал Андрей, стараясь улыбнуться. Улыбка, правда, не получилась.
— Ах ты, мать твою! Гимназист! Из Александровской? Много вас было, разве всех упомнишь. А теперь что, в студенты пошел?
— Я в Глухом переулке живу, — сказал Андрей. — С теткой. Может, знаете?
— Кто вас всех знает, — сказал Тихон без злобы. — Они у меня, стервецы, курили. — Последние слова были обращены к спутнику, который стоял — руки в карманах бушлата — и покачивался.
— Если курили, — сказал он со злобой, — чего же он папиросу пожалел?
— А я не курил, — сказал Андрей. — И сейчас не курю. Но если вам деньги нужны, возьмите.
Тут он понял, что нетактично предлагать людям деньги, которые валяются на земле. Он опустился на четвереньки — ключи были большие, они блестели, их он нашел сразу, а монеты попали в грязь.
— Да ты чего, — сказал Тихон. — Ты ничего. Бог с ними.
Он тоже встал на четвереньки, и они с Андреем шарили руками по лужам.
— Во, — говорил Тихон. — Нашел. Двугривенный.
Его спутник стоял над ними. Ему это не нравилось.
— Пошли, — сказал он. — Штаны извозишь, мать твою.
— Не, — говорил Тихон. Он был совсем пьян. — Надо помочь. Гимназисту. Тебя как зовут?
— Андреем. Андрей Берестов.
— Как же, Андрей, Андрюша! Помню. Курносенький такой был.
Конечно же, Тихон Андрея не помнил, но теперь они были заняты общим и, с точки зрения Тихона, полезным делом.
— А много денег-то у тебя было?
— Не знаю, — сказал Андрей. — Около рубля, наверное.
— Дурак ты, гимназист. Если будешь каждому карманы разевать, не напасешься.
Тут он нашел целый полтинник, и на том они поиски прекратили, потому что второй, которого звали Борисом, хотел уйти.
Они пошли к выходу из сада все вместе. Андрей протянул Тихону мокрую ладонь, на ней было два пятиалтынных и гривенник.
— Нет, — сказал Тихон, — это ты себе оставь. У нас уже полтинник есть и двугривенный.
— Давай, — сказал Борис и взял деньги у Андрея. Что Тихону не понравилось. Он стал объяснять Борису:
— Тетка у него, в очках, Марья Павловна, я ее знаю, она к соседу моему приходила, еще на Пасху, благотворительность носила. Я ее, ей-бо, знаю, ты скажи, Андрюш, я ее знаю?
— Точно, знаете, — удивился Андрей.
— Я и говорю. Она женщина справедливая и небогатая, это я точно тебе говорю.
Борис не отвечал. Но и деньги не вернул.
Они вышли на Екатерининскую.
— Слушай, гимназист, — сказал Тихон, — пошли собачьей радости вкусим за твое здоровье. Ты не думай, у нас есть.
— Я не пойду, — сказал Андрей.
— Пойдешь, пойдешь, — сказал Тихон. — Выпьем, посидим. Надо согреться.
Через три минуты они сидели в жарком, душном и, как показалось Андрею, страшно уютном зале трактира. Половой принес штоф водки и горячей жареной чесночной колбасы.
Тихон, оказывается, теперь служил кочегаром на станции, а Борис был приезжий, из Пскова, и работал в депо. К удивлению своему, Андрей понял, что спутники его — совсем молодые, а в гимназии ему казалось, что Тихон велик и стар.
В морщинках вокруг глаз Тихона, под носом, над усами была сажа, под обломанными ногтями тоже чернота. Борис был чище, одет аккуратнее. Он был мрачен и только после второй рюмки попривык к Андрею, разговорился. Они, оказывается, готовили в депо забастовку, все продумали, а приехал из Киева эсдек Мученик и велел все делать иначе. Получилось, что теперь Борис не главный, и это он переживал. А Тихон, который Борису сильно сочувствовал, достал ему выпить, но тут у них кончились деньги, а выпить хотелось — вот и подошли к студенту. Они только и собирались рупь взять, не больше, но когда студент, то есть Андрей, стал кобениться, они на него рассердились. Так что если бы не узнавание, накостыляли бы Андрею.
Потом и Борис оттаял. Он оказался славным парнем, если бы не пил, так объяснил Тихон. Он окончил реальное училище, но потом обстоятельства не сложились, Борис не объяснил — как. Пришлось уйти в механики. Он приехал в Симферополь.
— Женить Борьку надо, — утверждал Тихон. — Ты, Андрюша, нам невесту отыщи, только с образованием. Мы теперь, сам понимаешь, к свету стремимся. Предстоят большие перемены. Ты газеты читаешь? Выберем мы Борьку в Думу от революционеров. А потом, гляди, министром станет. — Тут Тихон развеселился. А Андрей вспомнил, что у него была заначенная пятерка, на самый крайний случай. Они и ее пропили.
Ушли они из трактира, когда он уже закрывался. Все трое совершенно обнищали. Железнодорожники пошли провожать Андрея, и тому было лестно и приятно, что он идет домой с двумя такими славными парнями, которые его понимают.
Когда они вышли к Салгиру, их догнал Ахметка, который возвращался домой. Ахмет отнял его у новых друзей и помог взобраться на ломовую телегу. Тихон отдавать Андрея не желал, потому что поклялся сдать его с рук на руки Марии Павловне, но Ахмет, когда узнал об этом благородном плане, вправду испугался, он представил себе, что подумает тетя Маня.
Андрей заставил Ахмета остановиться, не доезжая до дома, потому что ему надо было излить душу единственному другу, и тот послушно остановился, только заставил сначала Андрея застегнуть шинель и надеть измаранную в грязи фуражку.
Андрей рассказал ему все о Коле Беккере, и своей безответной любви к Лидочке, и о том, что он намерен завтра же ехать к Сергею Серафимовичу и просить тысячу рублей, потому что хоть Коля и подлец, но ему надо помочь, потому что жалко Нину, на которой никто не хочет жениться, и Елизавету Юльевну тоже жалко, Андрей вспомнил, что обещал принести Беккерам опий, но Ахмет сказал, что все возьмет на себя.
Тетя Маня не спала и сидела у окна, в ужасе ожидая вестника, который сообщит ей о гибели Андрюши. Она была так рада тому, что Андрей жив, что вовсе не рассердилась и сказала Ахмету, что каждый мужчина должен несколько раз согрешить таким образом, потому что в этом есть трудности возмужания. Ахмет сказал, что у него такой трудности нет, потому что он правоверный мусульманин.
Ахмет не доставил тете Мане дополнительных страданий и не рассказал о компании, в которой согрешил ее мужающий племянник. Сказал, что тот встретил товарищей по классу, а так как сильно устал с дороги, то оказался слаб.
Утром Андрей долго лежал, стараясь сообразить, что же вчера произошло. Его мозг, намеренный, видно, оберегать своего хозяина от излишних травм, сначала вспомнил, как тот общался с железнодорожниками, и долго не отдавал ему память о беседе с Беккером. Об этом Андрей вспомнил, лишь когда умывался, и ему стало так гадко, что он чертыхнулся. Тетя Маня услышала и пришла в негодование. Она решила поговорить с племянником, так как догадалась, что в Москве тот подвергается дурным влияниям.
Но Андрей опередил ее просьбой об опиуме для мадам Беккер, чем вызвал к жизни вспышку сочувственной деятельности тети Мани. Оставив Андрея завтракать, она убежала к Беккерам.
Тут появился Ахмет. Он отказался завтракать с Берестовым, но посидел с ним за столом и даже выпил чашку кофе. У Андрея разламывалась голова, но он был рад, что Ахмет пришел.
После завтрака Андрей почувствовал себя лучше. Он увел Ахмета к себе. Тот закурил папиросу «Сафо» и сообщил, что приучился к курению в Петербурге в тяжелые дни трат и загулов, и сказал потом:
— Я тебе друг или не друг?
— Друг, — согласился Андрей.
— Я могу достать тысячу рублей. Правда, не знаю, нужно ли это.
— Ты не веришь Беккеру? — спросил Андрей.
— Я не верю ему, но верю, что Беккеру позарез нужны деньги.
— Но если ты не веришь, зачем ты хочешь это сделать?
— Зачем от татарина логики ждать? — сказал, затягиваясь, Ахмет. — Мы в университетах не обучались.
— Мог бы уже быть в Сорбонне.
— Нет, не это мне на роду написано, — сказал Ахмет. — Образованным будет лишь мой бледнолицый друг. А мы, краснокожие ирокезы, будем темными, но богатыми.
Ахмет поднялся. Маленький, подтянутый, четкий в движениях. Из заморыша первых классов он вырос в красивого мужчину. Андрей чуть не сказал ему об этом. Потом решил, что это глупо. Вместо этого спросил:
— Откуда у тебя тысяча?
— Как ты можешь догадаться — она не единственная. С единственной я не расстался бы даже ради тебя. Адье.
Андрей проводил Ахмета до дверей, вернулся, посмотрел на часы. Было около одиннадцати. Голова болела по-прежнему. Андрей пошел на кухню, сварил еще кофе, но пить его расхотел, а решил полежать, пока не вернется тетя.
Он лег, и его снова начало трясти.
Когда Мария Павловна через час вернулась домой, он даже не смог встать, чтобы ее встретить. Тетя Маня начала рассказывать, как ужасно у Беккеров… потом осеклась, потрогала лоб Андрея и тут же притащила градусник. У Андрея было тридцать восемь и пять. Он все же простудился в поезде — или вчера в семинарском саду.
К счастью, у Андрея оказалась не пневмония, а просто жестокая простуда, которая прошла через три дня. Тетя Маня никого к нему не пускала, да и чувствовал Андрей себя так дурно, что не хотел никого видеть. Он лежал и думал, снова и снова повторял разговор с Колей и другие разговоры, которые хотел бы повторить иначе.
На третий день он решил поехать в Ялту и даже оделся, но почувствовал такую слабость, что лег снова на диван в гостиной.
Тут вернулась тетя и застала Андрея одетым. Она рассердилась, тем более что снова поднялась температура. Но Андрей так покорно съел все порошки, которые ему было положено есть, что тетя смягчилась. Она рассказала, что была у Беккеров. Елизавете Юльевне лучше не становилось, но боли мучили меньше. Тетя все хвалила Нину — какая она заботливая и несчастная. Она может стать кому-то замечательной спутницей жизни.
— А как Коля? — спросил Андрей.
— Вроде бы собирается уезжать. Ему надо в институт. Он подает большие надежды, и его намереваются оставить при кафедре. Ему очень трудно в Петербурге. Приходится работать вечерами — ведь семья ничем не может ему помочь.
Мария Павловна повторяла слова Нины.
Убедившись в том, что Андрей ухожен, тетя отправилась на какое-то дамское заседание, а к Андрею пожаловали неожиданные гости: Ахмет и Маргарита.
Сочетание было невероятным, но объяснимым.
Оказывается, Ахмет увидел Маргариту на вокзале, узнал ее и отвез до дома Спиридоновых — ее дальних родственников, к которым она приехала погостить. Маргарита, разумеется, Ахмета не признала, но когда он представился, обрадовалась и попросила помочь ей встретиться с Андреем. Уверения Ахмета, что Андрей болен, не были приняты во внимание.
За полгода, что они не виделись, Маргарита похудела, крупный нос еще более выдавался вперед из запавших щек, непослушные вороные волосы выбивались из-под маленькой шляпки, глаза сверкали из глубоких глазниц, окаймленных длинными ресницами и перекрытых куполами бровей.
Маргарита была одета дорого, модно, но неопрятно, с подчеркнутым презрением к одежде, что может позволить себе лишь весьма состоятельный человек.
— Не вставай, — сказала она Андрею.
Шляпу Маргарита снимать не стала, с Андреем она вела себя как старая близкая приятельница и, когда он хотел поцеловать ей руку, сама поцеловала его в щеку и сказала:
— Если я заражусь от вас — придется вам за мной ухаживать.
— Нет, я его не допущу, — сказал Ахмет. — И не надейтесь.
Они уселись вокруг стола в гостиной, Андрей поставил на стол вазу с зимними яблоками.
— Вы бледный, — сказала Маргарита. — Но это вам идет. Это романтично.
— Расскажите о себе, — попросил Андрей. — Мне кажется, что я вас вечность не видел.
— Что со мной станется! — сказала Маргарита. — Все по-прежнему. Живу в Одессе, хожу в эту проклятую гимназию. Вырвалась сюда на каникулы.
— Я не знал, что Спиридоновы ваши родственники.
— Дальние, — сказала Маргарита. — Но я у них уже останавливалась раза два по дороге в Ялту.
Излишняя оживленность Маргариты была неестественна. Как и сам ее приезд в зимний Симферополь. Может, она хочет что-то рассказать Андрею, но стесняется Ахмета?
— Угощайтесь, — сказал Андрей. — Это хорошие яблоки из собственного сада. — Он показал на окно. Под ярким зимним солнцем была видна единственная тетина яблоня. — Вы в Ялту не собираетесь? — спросил Андрей.
— Я еще не решила, — сказала Маргарита. — Это зависит от моих дел.
— Какие еще дела? — возмутился Ахмет. — Какие могут быть дела?
— У каждого человека могут быть дела.
— Вы давно видели Лиду? — спросил Андрей.
— Я ее не видела с лета, — сказала Маргарита. — Но мы регулярно переписываемся. У нее все в порядке. А вы скоро выздоровеете?
— Я уже здоров.
— И намерены выходить на улицу?
— Разумеется, — сказал Андрей. — Не сидеть же мне все каникулы здесь.
— Я очень за вас рада. — Маргарита обернулась к зеркалу, что стояло в углу, критически осмотрела себя и поправила шляпу.
Андрей ждал чего угодно, только не такого светского визита. Ахмет тоже был растерян.
— Ну что ж, мне пора, — сказала Маргарита, поднимаясь. — Я была очень рада вас увидеть. Надеюсь, что до вашего отъезда мы еще увидимся.
— Мы поедем на водопад, мы уже договорились. Послезавтра, — сказал Ахмет, и в его глазах было что-то собачье. В присутствии Маргариты он терял способность балагурить.
Дверь за гостями закрылась, впустив в прихожую жгучий морозный воздух. Андрей прошел к себе в комнату и лег. Все не так, все неладно…
В прихожей хлопнула дверь. Вернулась тетя Маня.
— Ты курил? — спросила она из гостиной. — Разве ты куришь?
Как будто это было немыслимым преступлением Андрея.
— Нет, — отозвался он. — Ахмет приходил.
Тетя возилась в гостиной, потом Андрей услышал, как она убирает со стола вазу с яблоками. Что-то зашуршало.
— Ахмет был один? — спросила тетя.
— А что?
— Он оставил тебе записку. — Тетя вошла в комнату, держа в руке клочок бумаги. — Но почему-то положил ее в вазу с яблоками и подписался буквой «М».
— Дай сюда! — Андрей вскочил с кровати как ужаленный и вырвал записку у тети.
На листке бумаги было написано:
Андрей! Если сможете, я жду вас у кондитерской завтра в четыре часа.
М.
— Значит, Ахмет был не один, — сокрушенно произнесла тетя.
— А я не говорил, что он был один, — сказал Андрей.
Значит, Маргарите надо с ним поговорить. Но без свидетелей. Наверное, о Лиде. Конечно же, о Лиде!
— И не мечтай завтра выходить из дома, — сказала Мария Павловна.
— Ты же знаешь, что я совершенно здоров.
— В тебе таится инфекция. Ты хочешь слечь на месяц?
— Я здоров.
— Эта девушка… Ты с ней давно знаком?
— Давно.
— И она курит? Ты увлечен ею?
— Да нет же! — рассмеялся Андрей.
На следующий день было куда теплее. Маргарита ждала его на улице, не доходя до кафе. Солнце, хоть и клонилось уже к закату, светило по-весеннему, высушило мостовую, а уже разукрашенная елка возле магазина казалась анахронизмом. Маргарита была в синем расклешенном пальто до щиколоток. Издали она выкликнула подготовленную фразу, так что слышала вся улица:
— Андрей, в Ялте уже цветут розы. Куда мы пойдем?
— В кондитерскую вам не с руки?
— Не надейтесь, что меня можно скомпрометировать. Ваш Ахмет влюбился в меня. Он знает о каждом моем шаге.
— Он очень хороший товарищ, — сказал Андрей.
— Еще чего не хватало! — Маргарита громко рассмеялась. — Это вовсе не достоинство!
Они вышли к семинарскому саду. Тени от деревьев были длинными и черными, а там, где они пересекали сохранившиеся на траве ломти снега, тени казались сиреневыми.
— Чудесная картина. Настоящий Юон, — сказала Маргарита. — Вы любите Юона?
— Я его не знаю, — сказал Андрей.
От Маргариты исходило нервное напряжение. Если она говорила, то авторитетно и умно, если смеялась, то громче и заливистей всех.
— Вы отсталый провинциал, но именно это мне в вас нравится. В вас сохранилась странная чистота, которую не найдешь в столице.
— Я живу в Москве.
— Во-первых, вы живете там без году неделю. А во-вторых, Москва никогда не сможет стать столицей.
Они дошли до лавочки, на которой Андрей сидел три дня назад. Он бы не узнал этой лавочки, но на черной земле возле нее лежал гривенник. Наверняка это был тот гривенник, который они с Тихоном не отыскали. Гривенник лежал на орле, и потому Андрей его поднял.
— Вы, оказывается, бережливый, — сказала Маргарита.
Андрей не стал ей объяснять. Он хотел, чтобы она сама рассказывала. Это важнее.
Они пошли по аллее. Маргарита ступила на жухлую траву, подошла к старому дубу. Она протянула руку и оперлась о него.
— Андрей. — Маргарита вдруг заговорила другим, высоким, нервным голосом, будто все, что было раньше, более не играло роли. — Меня интересует, доверился ли вам Коля Беккер?
— В каком смысле? — Андрея позабавила сама форма вопроса, но Маргарита была серьезна.
— Знаете ли вы о его драме?
Андрей готов был уже ответить положительно, но тут спохватился, что в воображении Маргариты драмой могло именоваться нечто совсем иное, а не разрыв с Альбиной или денежный долг.
— Ваши колебания делают вам честь, — сказала Маргарита, не отрывая от Андрея пронзительного взгляда. — Вы не можете выдать доверенных вам тайн. Тогда я вам помогу. Наш общий друг имел неосторожность увлечься пустоголовой генеральской дочкой, которая, как, впрочем, и ее мамаша, рассчитывала, породнившись с ним, стать баронессой и владелицей замков в Курляндии. Когда они выяснили, что Коля гол как сокол, они безжалостно выбросили его из дома. Он же, истратив на них более тысячи рублей, оказался в безвыходном положении. Как вы видите, я все знаю.
— У Коли тяжело больна мама, — сказал Андрей.
— И это мне тоже известно! — Маргарита резким движением руки в лайковой перчатке отмела это известие, как не имеющее большого значения.
«Какая она красивая некрасивая женщина, — подумал Андрей. — В ней все преувеличено — и черты лица, и формы тела, и чувства, и слова. Но всеобщая несправедливость вмешалась и здесь. Ахмет поражен необычностью Маргариты и готов поклоняться ей, а Коля, в которого Маргарита, без сомнения, влюблена, предпочитает ей белокурую куколку. Колю она пугает… а меня? Меня тоже», — признался себе Андрей.
— Я привезла Коле деньги, — сказала Маргарита. — Но я не могу их ему передать. Он их у меня не примет. Он горд.
Воронье громко кричало в голых ветвях, собираясь на вечернее собрание. Солнце быстро клонилось к вершинам деревьев.
Андрей знал уже, что Маргарита сейчас попросит его передать деньги Беккеру и больше им не о чем будет говорить. Он испугался, что не успеет узнать о главном, и совсем не вовремя спросил:
— А как же Лида?
— Это же средневековая история! — воскликнула Маргарита, не скрывая снисходительной улыбки. — Полгода назад вашему ветреному другу захотелось соблазнить мою подружку, но я этого ему не позволила сделать. Он мог претендовать на ее тело, но никак не на руку. Кстати, она готова была увлечься вами, но вы позорно сбежали от нее на автобусной остановке.
— Где?
— Не лицемерьте, мой друг! Легкомысленное дитя любви проплакало у меня на груди всю ночь, когда вы отвернулись от нее в автобусе.
— Это неправда!
— Ах, не краснейте! Вы становитесь похожим на свеклу, и вам это не идет.
Сравнение со свеклой было неприятным, и Андрей вернулся на грешную землю.
— Вы хотите, чтобы я отдал Коле деньги?
— Да.
— И как я объясню появление у меня такой суммы денег?
— Как вам угодно.
— Он же должен будет вернуть вам этот долг?
Они стояли близко друг к другу, Андрею было видно, что глаза у Маргариты карие, а не черные, как казалось на расстоянии, а над верхней губой — нежный темный пушок.
— Он мне ничего не должен. Я его люблю. Я его люблю с первого взгляда. Вам этого, милостивый государь, не понять.
— Может быть. — Андрей пожал плечами. Ему не хотелось откровенничать. — Но что я ему скажу?
— Вы скажете, что достали эти деньги у вашего отчима. Он же богатый.
— Но я не ездил в Ялту. Он может спросить у моей тети, она скажет, что я болел.
— В Ялту можно обернуться за день. Да и не будет он спрашивать. Он будет вам благодарен на всю жизнь. Вы хотите, чтобы он был вам благодарен на всю жизнь?
— Ни в коем случае!
— Не кокетничайте, Андрей. Каждому человеку приятно быть хорошим. Ведь он просил вас, умолял.
Они покинули семинарский сад и вышли на Пушкинскую.
Смеркалось. Солнце спряталось, зажглись желтые окна в домах. Ощущение весны, столь явное днем, уже пропало. Лужи быстро затягивались хрупкой бумагой льдинок.
— А это наша гимназия, — сказал Андрей. — Мы здесь учились.
— Какая маленькая! — сказала Маргарита. — А это ваша церковь?
— Гимназическая. Но она и приходская.
— Я пойду туда завтра, завтра ночь перед Рождеством. Я люблю Рождество. Даже больше Пасхи. Только не здесь и не в Одессе. Рождество надо встречать в Москве, в настоящей России.
— А что делает ваш отец? — Андрей был рад перевести разговор на иную тему, хоть и понимал, что Маргарита все равно добьется своего, а отступать ему некуда.
— Мой папа, — она сделала ударение на последнем слоге, — судовладелец.
— У него есть собственные пароходы?
— Один пароход. Но у него много грузовых судов. Андрюша, мы с вами отвлеклись от основного. Мне хотелось бы, чтобы вы сделали все сегодня.
— Но уже поздно.
— Не говорите глупостей. Со мной гулять вам не поздно, а спасти друга — вам поздно? Я вот что скажу: Андрюша, вы производите впечатление нерешительного и слабого человека. Я бы никогда не смогла в вас влюбиться. И меня искренне удивляет, что Лидочка увлеклась вами.
Андрей наконец решился. В конце концов, он тоже имеет право на прибыль, раз выступает посредником в сделке.
— Простите, — произнес он хрипло. — Вы не знаете случайно…
Он запнулся, и Маргарита не смогла скрыть иронического торжества.
— Сделайте милость, — сказала она, светски улыбнувшись, — опустите руку в правый карман своей тужурки.
Андрей подчинился и вытащил оттуда сложенный листок с адресом Иваницких в городе Ялте, который незаметно положила Маргарита.
— Не надо благодарить, — сказала Маргарита. — Это в моих интересах. Я не хочу рисковать — мало ли куда бросит судьба моего нестойкого возлюбленного.
Это было признание в бессилии любви к Беккеру. Маргарита поморщилась, будто с отвращением к своей слабости.
— Пойдемте отсюда, — сказала она.
Андрей сделал было первый шаг, но Маргарита молча удержала его за рукав и передала плотный конверт.
— Здесь тысяча, — сказала она.
Они шли по Пушкинской не спеша, будто гуляли. И надо было разговаривать, но они оба были как заговорщики, расплатившиеся за убийство и потому немногословные. Будто разговор в семинарском саду отнял слишком много сил.
— А куда вы намерены поступать после гимназии? — спросил Андрей.
— Я еще не решила, — ответила Маргарита. — И не знаю, буду ли поступать.
Она угадала следующий вопрос Андрея и решительно ответила:
— Нет, я не намерена выходить замуж. Тем более за такого слабого человека, как Николай. Простите, но я знаю ему цену.
— Тогда…
— Тогда я люблю его как мужчина женщину. Как куклу, как наркотик.
Маргарита не притворялась и не кокетничала с Андреем. Так она и думала. Хотя это не означало, понимал Андрей, что она будет следовать собственным правилам в жизни. Она была и ужасно старой, на тысячу лет старше Андрея, и совсем еще девчонкой, которая начиталась сентиментальных современных романов, где царит Эрос.
— Значит, вы намерены сидеть дома и играть в любовь?
— Не будьте пошляком! Мое сердце отдано революции!
Андрей даже остановился от удивления.
— Я никогда бы не догадался.
— А никому об этом не следует знать.
— И Беккеру?
— Беккер знает. Неизбежно, что он знает. И робеет. Если бы я была обыкновенной женщиной, ему было бы легче со мной. Но он понимает, что нас разделяет пропасть. Один ее берег — его бездуховность. Другой — мой высокий идеализм.
Маргарита говорила напыщенно, словно цитировала некий катехизис.
— А зачем вам революция? — спросил Андрей.
— Вы хотите спросить, зачем революция девице из состоятельной семьи? А вспомните о Софье Перовской, об Александре Ульянове, вспомните о графе Кропоткине и Герцене — высочайшие из революционеров те, кто пришел в революцию именно по зову сердца, а не в погоне за куском хлеба.
Они миновали центр и приблизились к району Глухого переулка, когда острый взгляд Маргариты издали, за два квартала, различил Колю.
Маргарита дернула Андрея за рукав, потянула к глинобитному забору и сразу отыскала какую-то нишу.
— Вот он, — шептала она, наваливаясь на Андрея, — это сам Бог его ведет. Сейчас, сейчас или никогда. Ну иди же… как будто случайно. И сразу скажешь: вот тебя-то я и искал!
Она сильно толкнула Андрея, и тот, еле удержав равновесие, засеменил навстречу Коле. Коля был без фуражки, воротник шинели поднят. Он чуть пошатывался.
— Коля! — окликнул его Андрей. Слова, вложенные в него Маргаритой, сорвались с языка: — Вот тебя-то я и искал!
— Да? — Коля будто не сразу узнал Андрея. — Ты зачем меня искал?
Андрей полез в карман, да не в тот, ошибся. Андрей хлопал себя по карманам. От Коли пахло вином.
— Поздно, — сказал Коля. — Мама умерла.
— Что? Елизавета Юльевна умерла?
— Отмучилась. Что делать… что делать…
— Ты за врачом? Тебе надо помочь?
— Врач там, я не могу… я не могу там быть. Маму жалко.
Коля заплакал и прижался к Андрею. Усы у него были мокрыми, ледяными.
— Тебе нельзя так, — сказал Андрей. — Ты простудишься. Пошли к нам.
— Не хочу, — сказал Коля. — Не хочу. И к тебе не хочу. Ты предатель, ты не захотел мне помочь. Завтра все выяснится. Нам ее даже не на что похоронить. Что ты понимаешь в жизни!
— Коля, я как раз хотел. Я тебя искал для этого… Вот… — Андрей наконец-то нащупал пакет, и ему пришлось отстранить Колю. — Тут тысяча рублей.
— Деньги? Ты достал? Где?
— Не важно, правда же, не важно.
Коля мгновенно протрезвел. Посмотрел на Андрея с узнаванием в смягчившемся взгляде и сказал:
— Спасибо. Конечно же, спасибо. Ты оказался лучше, чем я думал.
Он резко повернулся и пошел, потом побежал обратно.
Андрей сделал шаг следом, но остановился. Маргарита выбежала из укрытия.
— Я все слышала, — громко прошептала она. — Это так ужасно. Вам надо пойти за ним. Вы должны быть рядом. Идите, идите.
И Андрей, хоть и не хотел этого, поспешил за Колей. Он не стал его догонять, а шел на некотором расстоянии, потом, чтобы отсрочить момент визита в дом Беккеров, убедил себя, что ему надо переодеться, и свернул к себе. Тети Мани не было — она-то, конечно, у соседей. Андрей неприкаянно бродил по комнатам, потом стало стыдно — Андрей спохватился, что ведет себя плохо — надо идти к Беккерам. И он пошел туда.
Колю он не видел — тот заперся у себя, в доме появились незнакомые старушки, ждали батюшку, но тот не шел, потому что приближалось Рождество и все были заняты событиями куда более радостными. Андрей помыкался в большой комнате, затем решился и увел тетю Маню, которая также не знала, что ей делать, но не смела уйти.
На следующий день Андрей не спешил к Ахмету, полагая, что тот появится сам. Но раньше, в полдень, появился Беккер.
Он был бледен, веки распухли от слез, одет он был в поношенный гимназический мундир, который был ему тесен.
Снова набежали сизые облака, грозили снегом. Коля долго вытирал ноги в прихожей, он говорил тихо и вел себя приниженно, словно был князем, давшим обет мыть ноги нищим.
— Мне некуда идти, — сказал он. — А дома нет сил оставаться. Не прогонишь?
— Я поставлю самовар? — спросил Андрей.
— Нет. Я бы сейчас выпил рюмку водки.
— Прости, ты же знаешь отношение тети к спиртным напиткам.
— Знаю, знаю. — Коля вялым движением подтвердил свои слова.
Они прошли в комнату к Андрею. Коля закурил.
— Это жизненное крушение, — сказал он тихо, — которое ниспослано мне в наказание за все…
Андрей молчал. Коле надо было выговориться.
— Я уже никогда не буду таким, как прежде, — сказал Коля. — Тебе не приходилось видеть, как умирает человек: еще мгновение страданий… жизнь не отпускает… и тут же наступает умиротворение. Ей сейчас хорошо, правда?
— Наверное, хорошо. То есть наверняка.
— Всегда нужно помнить, чем завершается жизнь. — Коля поднялся со стула, подошел к окошку. — Все наши терзания, спешка, гонка за счастьем, за деньгами… как это мелко!
— Пока живем, куда денешься, — сказал Андрей, стараясь попасть в тон приятелю. Собственные слова казались Андрею лицемерными и искусственными.
— Мама была единственным связующим звеном между мной и этим городом, — сказал Коля. — Больше меня ничего не удерживает.
— А как же Нина с отцом?
— Раньше мы все жили на пенсию отца. Вдвоем им легче.
Коля не смотрел на Андрея. Он погасил папиросу в ящике с цветком и долго вертел окурком в земле, будто стараясь закопать — с глаз долой.
— Коля, — произнес Андрей, надеясь, что Маргарита хочет, чтобы Беккер узнал правду. — Коля, деньги для тебя достала Маргарита. Она здесь.
— Ты думаешь, я не догадался! — Коля сардонически усмехнулся и произнес: — Ха-ха-ха.
— Она просила меня не говорить тебе.
— Лучше бы ты сдержал слово! Я не просил ее влезать в мои дела. Она отлично знала, что от нее я не принял бы денег, даже если бы умирал от голода. Но теперь поздно…
— За что ты на нее сердит? Она примчалась тебе помочь…
— Она хотела меня купить. Может, ты прикажешь мне теперь на ней жениться?
— Это твое дело.
— Андрей, не сердись. Я пришел к тебе как к другу. — Коля, очевидно, сделал над собой усилие, подавив гнев и вновь прибегнув к оружию смирения. — Я хочу, чтобы ты понял психологию бедного благородного человека, который может грешить и даже преступать закон, но который не может продаться! Вспомни Достоевского, с какой гениальной силой он открыл наш русский характер.
Андрей плохо вслушивался в монолог. В ушах шумело — видно, еще не до конца прошла болезнь.
Андрей думал о том, что их с Лидой ничто теперь не разделяет. Можно сесть в автобус и поехать в Ялту. Прийти по адресу Иваницких и сказать: «Можно позвать Лиду? Я ее добрый знакомый из Москвы». — «К сожалению, — ответит ее мать, — позвать Лиду я не смогу, потому что она уехала в свадебное путешествие с поручиком Банкиным». «Ах!» — воскликнет молодой человек и умрет от разрыва сердца!
Воображаемая картинка неожиданно удручила Андрея, и он понял, что единственная возможность избавиться от сомнений — ехать в Ялту. Но как поедешь, если послезавтра похороны Елизаветы Юльевны, а на следующий день он уезжает в Москву?
Остается единственная возможность — уехать завтра с утренним автобусом, чтобы возвратиться вечером. Это означает — три часа в Ялте. Более чем достаточно, чтобы увидеть человека и услышать от него, что он тебя забыл и знать не желает…
Коля, словно почувствовав, что Андрей не слушает его, замолчал, потом сказал, что ему надо на деловое свидание в город, и ушел. Андрей ощутил облегчение. Он стоял у окна, глядел вслед Коле, который поежился на пороге, кутаясь в шинель, и быстрыми шагами направился к воротам.
Продолжая размышлять о том, как он поедет в Ялту, Андрей рассеянно наблюдал за Колей и равнодушно отметил для себя, что, когда Беккер отворил калитку, за ней кто-то стоял, поджидая Колю. Коля, видно, не ожидал встречи и остановился, придерживая открытую калитку. Андрей узнал человека, который заговорил с Колей, — это был кочегар Тихон, можно сказать, собутыльник Андрея, — более невероятной встречи было не придумать.
После первой секунды удивления Коля явно успокоился и мирно беседовал с кочегаром. Потом опомнился, закрыл за собой калитку. Андрея подмывало пойти следом, но он удержался — это было бы неблагородно.
Он заставил себя взять с полки книгу — попались «Записки охотника», невыносимые еще с гимназических лет. Нет, он не пойдет на улицу, а заставит себя выздороветь, чтобы завтра в Ялте быть молодцом.
Отложив книгу, Андрей пошел на кухню, поставил чайник.
Время текло невероятно медленно.
Хотелось плюнуть на болезнь, выйти на мороз, отвлечься от бестолковых мыслей… Андрей чувствовал, что готов уже сдаться, даже направился к вешалке, но тут постучали, пришел опечаленный Ахмет.
Андрей, обрадованный отвлечению, поил Ахмета чаем, а тот пожаловался, что Маргарита не явилась вчера вечером на свидание, а только что, разыскивая ее, он заглянул на вокзал и там, в станционном буфете, увидел Маргариту с Колей. Они пили кофе с пирожными и мирно беседовали.
— Ты там Тихона не видел? — спросил Андрей.
— Какого Тихона?.. А, с которым ты пил и гулял?
— Да.
— Нет… впрочем, постой! Я его видел! Я его видел у вокзала! Почему ты спросил?
— Так просто, — сказал Андрей, и Ахмет обиделся, потому что понял, что Андрей от него что-то скрывает.
Значит, Маргарита все же захотела увидеться с Колей и вся история с деньгами — не более чем притворство? Впрочем, скорее, Маргарита и в самом деле не была уверена, примет ли ее возлюбленный такой дар. А он принял. И очевидно, Коля, знавший Тихона, подрядил его отыскать Маргариту.
Впрочем, если Коля захочет, сам расскажет. И пускай он любит Маргариту, Альбину, королеву французскую — кого угодно, только забудет о Лидочке…
Вечером, когда они стояли службу в церкви, где было душно и тесно, Андрей придумал предлог для поездки в Ялту, о чем сообщил тете, когда они по ночному снежку возвращались домой. Андрей сказал, что должен навестить отчима, что тот в письме просил его приехать по причине пошатнувшегося здоровья. Тетя Маня расстроилась, в чем была доля ревности, так как полагала, что о своем слабом здоровье Сергей Серафимович должен был в первую очередь сообщить ей.
А как же похороны? Ведь нельзя не проститься с Елизаветой Юльевной?
Андрей поклялся, что обернется за сутки, — ему пришлось подчиниться требованиям тети и закутаться так, словно он собирался с Амундсеном на Южный полюс. Две фуфайки и фланелевая рубашка превратили его в существо, склонное к полноте, а тужурка с трудом застегнулась на груди. К тому же Андрей волочил кожаный саквояж с подарками дяде, от которых он отказаться не смог, дабы не вызывать подозрений. Там было и черешневое варенье, и целебный мед из Карасубазара, и фунта два особенных сладостей, изготовленных какой-то бабушкой в Джанкое, которые отчим в свой последний приезд в Симферополь изволил похвалить.
Андрей вытерпел все и за свои мучения получил у тети взаймы двадцать пять рублей, которые та, лукаво улыбаясь, вытащила из привезенного Андреем конверта.
— Я рада, что ты отказываешься от развлечений ради больного отчима, — сказала она. — Ты молод и легкомыслен, но ты добрый мальчик.
Она встала на цыпочки, поцеловала Андрея в лоб, перекрестила его и тут же вспомнила, что забыла положить в сумку пакет с припасами Андрею на дорогу.
Был уже девятый час, автобус, если его не отменили из-за снега на перевале, отходит в девять. Саквояж был тяжелым, на улице скользко и еще толком не рассвело. Андрей быстро шел по улице Гоголя, моля Бога, чтобы попался извозчик и довез его до вокзала. Но извозчиков, как назло, не было — кто выходит ранним утром в первый день Рождества? Андрею вдруг показалось, что он идет в гимназию. Именно это утреннее зябкое неуютное чувство охватило его. Саквояж показался тяжелым портфелем, а сам себе Андрей привиделся маленьким, беззащитным перед сегодняшней контрольной по геометрии.
Извозчик попался у Пушкинской. Он, видно, сам не знал, зачем выехал в такую рань, и страшно удивился пассажиру.
Автобус стоял на площади перед вокзалом, и увидеть его было радостно, словно загадал и сбылось. Если бы автобус не поехал, добираться до Ялты линейкой — потерять день.
Автобус был наполовину пуст, хоть и задержался на полчаса, так как ждал, не подойдет ли кто еще из пассажиров. Внутри было страшно холодно — за ночь мороз выспался в автобусе, и Андрей был благодарен предусмотрительной тете Мане. Через час Андрей задремал, но вскоре пришлось проснуться — подъем к перевалу был трудным, шоффэр все грозился повернуть обратно и, может, повернул бы, если бы, на счастье Андрея, среди немногочисленных пассажиров не оказался какой-то официального вида господин в шубе с бобровым воротником, которого ждали в Гурзуфе неотложные дела.
Когда автобус стал буксовать у самого перевала, пришлось всем вылезать и толкать его. Андрей согрелся, потому что толкал честно, а господин в шубе медленно ходил сзади автобуса и давал советы. Автобус пополз назад, и господина чуть не придавило. В этом была высшая справедливость.
За перевалом открылось голубое небо и совсем другая, сказочная страна, в которой господствовал зеленый цвет кипарисов и кустов туи. В Алуште на остановке пахло чебуреками, над площадью вился вкусный дымок, он смешивался с дымом татарских домиков, тянувшихся по склонам, где видны были небольшие стада овец; проехал извозчик, который вез двух франтов в белых пиджаках и канотье. Солнце припекало так, что Андрей, забравшись в автобус, снял с себя фуфайки и попытался заткнуть их в саквояж со снедью, но тот был полон, пришлось размышлять, что делать со всеми этими подарками и припасами. Но выбрасывать банки с драгоценным вареньем и конфетами было неловко.
В Ялте, куда приехали около часа, теплый воздух был напоен морской влагой, на море протяжно гудел пароход, было совершенно непонятно, как где-то еще может быть зима, Андрей проклинал тетю с ее фуфайками — он быстро забыл о стуже на перевале. Автобус должен был возвращаться в Симферополь в четыре часа — кондуктор объяснил, что позже ехать нельзя — надо одолеть перевал до ночи. Значит, у Андрея оставалось всего три часа, чтобы отыскать и увидеть Лидочку.
Так и не решив, куда деть тетины гостинцы, Андрей пошел вниз по берегу речки между одноэтажных сонных домиков. Улица была совсем иной, чем летом, — встречались лишь местные жители, которые не фланировали, а спешили по своим делам, совершенно не ценя сказочного климата своего города и не понимая, как драгоценно зимнее теплое солнце. Лишь изредка эту деловитость нарушали одинокие фигуры в основном пожилых людей, источавшие откровенную скуку, — в Ялте селились состоятельные отставники да оставались на зиму чахоточные.
С каждым шагом запах, влажность и особый свет, исходящий от моря, как бы овладевали городом. И если бы не нелепый громоздкий саквояж, Андрей был бы счастлив.
Андрей плохо знал Ялту, а спрашивать дорогу не умел и не любил, он решил сначала дойти до моря. Может, и потому еще, что хотелось увидеть море.
Он вышел к морю у «Ореанды», и тут ему повезло. Напротив входа, где дремали два извозчика, он увидел будку, в которой читал «Русское слово» пожилой чистильщик сапог. Андрей подошел к нему, сел незамеченным на высокий неудобный стул, поставил ботинок на подставку, и только тогда, видно, почувствовав, что ему заслонили солнце, чистильщик отложил газету и достал щетки. Он был похож на пирата, может, потому, что был одноглазым и почти черным от постоянного загара.
Молча и энергично работая щетками, чистильщик порой поднимал взгляд на Андрея, вздыхал, словно видя нечто печальное, и возвращался к своему делу.
Потом вдруг громко спросил:
— Квартира нужна?
— Нет, спасибо, — сказал Андрей, — я тут по делу.
— Вижу, что по делу, — согласился чистильщик. — Девочка нужна?
Андрей улыбнулся, потому что чистильщик был крайне серьезен.
— У меня есть девочка.
— У тебя для хорошего есть девочка, — сказал чистильщик. — А я тебе для удовольствия найду. Без меня не найдешь. Которые летом приезжают, их нет. Некого ублажать. А я найду. Недорого.
— У меня к вам другая просьба, — сказал Андрей. — Вы здесь долго еще будете?
— До вечера. Куда мне деваться?
— А если я вам мою сумку оставлю? На два часа.
— Не надо, — сказал чистильщик. — От греха подальше.
— Я вам заплачу, вы не беспокойтесь.
— А если там бомба? — спросил чистильщик. Он не шутил.
— Зачем же я бомбу вам оставлю?
— Она с адской машиной, — сообщил чистильщик уверенно. — Когда князь Думбадзе обедать поедут, она и рванет.
Андрей посмотрел на свой саквояж. Чистильщик говорил так уверенно, что даже у Андрея появились сомнения в безопасности тетиных подарков.
— А вы можете посмотреть, — сказал Андрей.
— Оставляй, — сказал чистильщик. — Мне что? Бомба-момба.
Андрей расплатился с ним. Чистильщик подвинул саквояж поближе и тут же, словно Андрея и не было, развернул газету.
Андрей быстро пошел по набережной — ему было так легко, словно с саквояжем у чистильщика остался груз, как свинцовые подошвы водолаза.
— Скажите, а как ближе к армянской церкви пройти?
— За гостиницей «Франция» налево, на Садовую.
На набережной он чуть не столкнулся с отчимом. Отчим ехал на велосипеде. Он сидел в седле прямо и держал в зубах трубку. На отчиме была кожаная куртка и черная шляпа. И весь вид его свидетельствовал о полном пренебрежении к тому, что подумают о нем встречные. Он, Сергей Серафимович, был хозяином Ялты, остальные — временными и прав не имеющими гостями.
Андрей быстро отступил за толстый ствол платана.
Вид отчима сразу разбудил в нем поток воспоминаний о летних днях в Ялте, но, свернув на Садовую, Андрей в предчувствии встречи с Лидочкой сразу об отчиме забыл.
Дойдя до новой армянской церкви Рипсимэ, Андрей остановился у высокой крутой лестницы, ведущей к ее дверям, и перевел дух. Он дышал часто, но не потому, что устал от подъема, — он очень волновался. Вытащил из кармашка серебряные часы, подаренные тетей к окончанию гимназии. Половина второго. Уже полчаса, как он в городе. Осталось лишь два с половиной. И Андрей вдруг понял, как это мало — сто восемьдесят минут. А он еще не нашел Лидочку.
Он свернул на узкую, крутую Загородную улицу и сообразил, что не знает, как ему искать Лидочку. Никакого плана — до этого момента самое важное было приехать в Ялту и найти тот дом… А потом все уладится само собой. Но теперь сомнения начали грызть Андрея. Ведь он не знает — в Ялте ли Лидочка, а может быть, уехала из города. А может, именно сейчас побежала на свидание с каким-нибудь гусаром, который готов носить ее на руках… Почему он не расспросил Маргариту!
Идя по Загородной, Андрей почему-то был уверен, что дом Лидочки Иваницкой должен быть похож на дом отчима — такой же особняк в саду. Оказалось — это двухэтажный скучный дом, по сторонам коричневой, исцарапанной двери которого прикреплены два почтовых ящика. Значит, Иваницкие снимают квартиру. А воображение Андрея рисовало картины уютной виллы, откуда выбегает собачка, а на лай из виллы выглядывает Лидочка…
Оглянувшись, будто совершал нечто недозволенное, Андрей подошел к подъезду и прочел надпись «К.Ф. Иваницкий» на правом почтовом ящике. На левом было написано «Ираклий Згуриди» и номер 1. Логика подсказывала, что Иваницкие снимают второй этаж.
Улица была узкой, по другой стороне тянулся высокий, из каменных плит забор, за которым плотным солдатским строем стояли мрачные кипарисы. Укрыться в этом переулке было негде.
Следовало спокойно войти в подъезд, подняться на второй этаж, позвонить и спросить, дома ли Лидочка. Мало ли кто может прийти к ней по делу? А если ее нет дома? Тогда надо извиниться и спросить у ее мамы, скоро ли Лидочка вернется, так как у него, Андрея, есть поручение к ней от Маргариты и он должен его сегодня же передать. А если она дома? Если она выйдет, окинет его холодным взглядом и не узнает? Нет, она, конечно, узнает его и пригласит в комнату, а рядом будет стоять ее мама, и он будет сидеть как дурак, может, даже выпьет чаю и потом будет спешить на автобус, а Лидочка вежливо попрощается с ним… И все равно глупо стоять на улице — надо подняться на второй этаж.
Андрею показалось, что за занавеской одного из окон второго этажа кто-то стоит. Стоит и удивляется глупейшему зрелищу — молодому человеку, неподвижно глазеющему в окна. Андрей расстегнул шинель, вытащил часы. Без пяти два. Он простоял у дома, так ничего и не предприняв, минут пятнадцать. Это было так невероятно, что Андрей поднес часы к уху, заподозрив их в том, что они спешат, хотя это определить на слух невозможно.
А вдруг тот, кто смотрит на него сверху, подумает, что он не иначе как грабитель, высматривающий добычу? Мысль о том, что о нем так подумают, была столь неприятна, что Андрей быстро пошел прочь от дома. Шагов через сто он остановился, проклиная себя за малодушие. «Зачем ты приехал в Ялту? Чтобы бегать по улицам, скрываясь от собственной тени?»
Андрей снова подошел к подъезду. Дом был тих, будто в нем никто не жил. Время утекало.
Андрей заставил себя подойти к подъезду и открыть дверь. Дверь открылась с трудом и тягостно заныла. Внутри было почти темно. Стены были покрашены в сине-зеленый цвет. Наверх вела узкая деревянная лестница со стесанными ступеньками. Из-за двери первой квартиры послышался детский смех. Андрей поднялся по лестнице. Сначала ноги его двигались быстро, но на последних ступеньках они так ослабли, что он почти остановился.
Верхняя площадка была невелика. Сквозь небольшое окно на нее падал солнечный свет. На двери была табличка: «К.Ф. Иваницкий». Андрей замер, прислушиваясь. Ему показалось, что за дверью Иваницких кто-то ходит. До двери было всего три шага, и он прошел их на цыпочках. Андрей даже протянул руку к звонку, но словно какая-то невидимая стена образовалась между звонком и пальцами Андрея, и эту стену он не мог преодолеть. Андрей никогда не отличался особой робостью, и, пожалуй, такого труса он не праздновал давно. «Ну, — убеждал он себя, — ну давай же, нажимай. Ты не делаешь ничего дурного».
Рука устала бороться со стеной и упала. За его спиной кто-то приглушенно сказал басом:
— Только безумец может покупать ставриду у Кипаниди.
Андрей слетел вниз по лестнице. Хлопнула за его спиной дверь. Андрей быстро пошел по переулку, так и не сообразив, откуда донеслись так испугавшие его слова. Вернее всего — из нижней квартиры.
У армянской церкви Андрей остановился. Все вышло так по-мальчишески. Мимо прошел, не посмотрев на Андрея, горбун с тяжелой палкой. Больше никого вокруг не было. Из церкви доносилось пение.
Андрей пошел обратно к дому Иваницких, но уже без прежней решимости, потому что не был уверен, осмелится ли вновь подняться на второй этаж. Он даже стал уговаривать себя, что приехал сюда не только ради Лидочки, а хотел увидеть зимнюю Ялту, чудесное синее море. Сейчас он пойдет на набережную, сядет там на скамейку у мола и будет смотреть, как швартуется белый пароход.
С такими невеселыми мыслями Андрей, с каждым шагом идя все медленнее, добрался до дома Лидочки, и тут его окликнули:
— Андрей? Вы что здесь делаете?
Лидочка догнала его.
— Я за вами иду от самой церкви и никак не могу поверить, что это вы. Это в самом деле вы?
Андрей остановился, совершенно спокойно (по крайней мере потом Лидочка утверждала, что он вел себя не только спокойно, но даже холодно) поклонился ей и сказал, будто и не расставался:
— Здравствуйте, Лида. Я приехал.
Андрей знал, что перед ним Лида, он видел Лиду, в переулке было солнечно, но далеко не сразу он сообразил, как Лида одета и как причесана, бледная она или загорелая, — он видел лишь почти мистический факт: Лида стоит перед ним и с ним разговаривает.
— Андрей, я так рада вас видеть! — воскликнула Лида.
— Я тоже.
— Вы в Ялте по делу?
— Нет.
— А почему вы оказались здесь? Я имею в виду — почему вы здесь — я здесь живу, вот совсем рядом — видите двухэтажный дом?
— Я знаю.
— Откуда?
— Мне Маргарита дала ваш адрес.
— Маргарита? А где вы ее видели?
— Я ее вчера видел. Она в Симферополе.
— Вот этого я от нее не ожидала. Она в Симферополе, а ничего мне не сказала. И не приехала.
— А я приехал.
— Проводите меня до дома. Это не займет много времени. А если желаете, мы можем зайти ко мне. Мы с вами так давно не виделись, целую вечность. Помните, как мы к рыбаку плавали?
Нет, Лидочка совершенно не осознавала, что происходит. Она встретила Андрея точно так, как, наверное, встречает на набережной здешних приятелей. И надо было объяснить ей, что это совсем не так, что он не хочет провожать ее до подъезда, а что он не отпустит ее никуда в те два часа, что отмерены ему судьбой.
— Лида, — сказал Андрей, впервые видя, что у нее каштановые ресницы, а на радужке правого светло-зеленого глаза есть черная точка, как родинка, и удивляясь тому, что не видел этого раньше. — Я приехал к вам ради вас, я вас искал. Я приехал, потому что узнал ваш адрес.
Лидочка уже все поняла, поняла, что он в самом деле приехал ради нее, но нужных слов не нашла, потому что сама была растеряна и даже испугана, и спросила:
— Вы к нам надолго?
Андрей помедлил с ответом, потому что сказать о двух часах было как признаться в меркантильности, в далеком и трезвом расчете. Но сказать было необходимо — иначе время пройдет так быстро, что он не успеет ничего сказать, прежде чем уйдет автобус.
— Автобус уходит с площади в четыре, — сказал он. — Мне завтра на поезд. Я к вам убежал. И никто не знает.
Она не обиделась, чего боялся Андрей.
— Вы так далеко ехали из-за меня? Из Москвы?
— Из Симферополя. Я утром выехал, а вот теперь вас нашел.
— Я так рада, что вы приехали, — сказала она, и Андрей понял, какое слово более всего подходит к Лидочке. Она лучезарная. У нее лучезарные глаза. В глазах по лампочке, и они горят.
— У вас глаза светятся, — сказал Андрей.
— Ну что вы говорите! А вы надолго? Ой, что я говорю — у вас же автобус уходит! Хотите, я вас провожу, да?
— У нас еще есть время. Целых два часа. Мы можем пойти куда-нибудь.
— Тогда вы подождите, я папку домой занесу. Я на уроке рисования была.
Тут Андрей понял, что у Лидочки в руке большая папка, а он ее не заметил. Андрей забрал папку, Лидочка, как и положено, твердила: «Ну что вы, она совсем не тяжелая», а на самом деле боялась, что мама увидит из окна, как она идет с незнакомым студентом.
Потому у самого угла Загородной Лидочка попросила Андрея подождать, пока она положит папку и скажет маме, что уходит, но Андрей не понял, разумеется, ее истинных опасений и твердил, что донесет папку до самой квартиры.
Настояв на своем, Лидочка убежала, оставив Андрея переживать счастливую встречу, а затем волноваться и чуть не сойти с ума, потому что ее отлучка затянулась минут на пятнадцать. Воображая черт знает что, Андрей не мог понять простой вещи: сначала надо было прийти домой и сделать вид, что ничего не произошло. Рассказать о том, что было на уроке, и в ответ выслушать мамин рассказ о том, как опасно жить в Ялте, потому что в городе развелось много подозрительных людей, а один такой сегодня целый час крутился возле дома и что-то высматривал. Потом надо было случайно вспомнить, что Лида обещала отнести Ларе Шушинской учебник Иловайского и вообще замечательная погода и нечего сидеть дома, но мама тут испугалась, вдруг этот странный человек все еще ходит вокруг дома и, может быть, мама проводит Лиду до Шушинских, потому что она сама собиралась в ту сторону. Лида уже догадалась, что подозрительный человек — не кто иной, как Андрюша, и это было очень смешно, но мамины разглагольствования надо было выслушивать с серьезным видом. Потом следовало пробраться в мамину спальню и осторожно, чтобы мама ничего не услышала и не подглядела, чуть-чуть, честное слово, чуть-чуть подкрасить губы и еще чуть-чуть попудрить нос, что дома категорически осуждалось. И только затем, подождав, пока мама отвернется, пройти на цыпочках к входной двери и оттуда, уже открыв дверь, крикнуть маме:
— Ну я пошла, скоро вернусь!
И захлопнуть дверь и убежать, прежде чем мама сообразит, что Лида уже убежала.
Правда, мама на всякий случай подошла к окну и посмотрела в переулок — нет ли там подозрительного молодого человека. К ужасу своему, она увидела, что именно он стоит неподалеку от дома и глазеет на их окна. Только мама собралась бежать вниз на спасение дочери, как Лида показалась из подъезда и на бегу стала махать руками подозрительному типу, показывая, чтобы он уходил. Тот сначала не понял, а потом стал отступать. Лида добежала до него, потащила за руку прочь, взглянув, конечно, на свое окно, и маме пришлось отпрянуть от окна, так как подглядывать неловко. А раз уж Лидина мама имела некоторый житейский опыт, то она позволила себе улыбнуться и вернулась к шитью. Она знала, что поклонники порой ведут себя подозрительно для родительского глаза. И это понятно, потому что любой поклонник в душе своей вор, он надеется похитить самое дорогое в жизни — Лидочку.
Андрей хотел было встретить Лидочку укоризненными упреками, раз она бездумно тратит драгоценное время, но она подбежала к нему так радостно и потащила за руку прочь от дома, что Андрей сдержался — он был справедливым человеком и понимал, что убегающие минуты — это его вина. Он слишком мало времени уделил поездке в Ялту.
Они пошли к набережной, но гулять по ней не стали — им обоим не хотелось, чтобы вокруг были люди, — а прошли дальше за порт, к совершенно пустому городскому пляжу.
Теперь, когда они остались одни и никто не мог подслушать их разговора, они все равно беседовали о всяких пустяках, как добрые знакомые. Лидочка спросила, как выглядит Маргарита и как она себя чувствует — она так кашляла в последнее время! Андрей рассказал, что она себя хорошо чувствует, потом Лидочка принялась расспрашивать о Москве, об университете и занятиях Андрея. Андрей отвечал, и внутри его тикали часы — с каждым шагом шагреневая кожа их свидания сокращалась, а ничего не было сказано. Но вместо того чтобы заговорить о важном, Андрей также задавал вопросы о ялтинской женской гимназии, так заинтересованно, будто сам собирался туда поступить. Потом они увидели смешную хромую собачку, и Лидочка рассказала, как у них месяц назад пропала кошка и мама до сих пор не может прийти в себя.
Но все изменилось в тот момент, когда они спустились по узкой железной лестнице на городской пляж. Высокая каменная подпорная стенка отделила их и море от сухопутного мира. Здесь стояла особенная тишина, которую подчеркивало шуршание зимних волн, оставивших на гальке ночью, когда был сильный ветер, гряды почти черных водорослей. Солнце здесь грело сильнее, чем на набережной, но от воды шел острый пещерный холод. На пляже осталось несколько лавочек и голые остовы от летних тентов. Не сговариваясь, они подошли к ближайшей лавочке и сели.
И замолчали.
Потом Андрей стал смотреть на Лидочку и видел лишь ее точеный профиль. Она смотрела перед собой.
— Лида, — сказал Андрей, — я решился приехать, потому что Маргарита мне рассказала…
Андрей хотел попросить прощения за то, что не подошел к Лиде на площади, летом. Но этого говорить было не надо. И Андрей понял, что не надо. Лидочка сказала первой:
— Я очень рада, что вы приехали. Я даже не надеялась на это.
— Я не знал, где вас искать, — сказал Андрей.
— Если бы я хотела найти человека в маленьком городе, я бы приехала и нашла.
— Вы не правы, — сказал Андрей. — Я же не знал, что вы захотите меня увидеть.
Лидочка обернулась к нему. Она улыбалась, но как-то странно, уголки губ книзу.
— Чтобы узнать, хочет человек увидеть или нет, надо его найти и спросить.
— Я был уверен в другом. Пока я не узнал, я был уверен.
— В чем?
— В том, что у вас роман. С Колей Беккером. Но он мой приятель. И у нас не принято вторгаться в отношения приятеля.
— Это какая-то изящная литература, — сказала Лидочка. — Как будто я уже это читала. Значит, сердце вам ничего не подсказало. Знаете, я вам сейчас расскажу одну ужасную вещь, которую нельзя рассказывать человеку, если его мало знаешь. В тот день, когда вы уезжали, я очень захотела вас увидеть. И сказать вам, что вы неправильно все понимаете. Я знала, что так вести себя нельзя, но я как будто обезумела. Это было давно, полгода назад, я еще была совсем девочкой. Я прибежала на площадь, откуда уходят линейки в Симферополь. Но вы меня не увидели. Хотя тогда я думала, что вы не хотите меня увидеть. Вам смешно?
— Нет, — сказал Андрей. — Я вас тогда видел. Но я решил, что вы ждете кого-то другого.
Андрей взял Лидочку за руку. Пальцы были жутко холодные. Ледяные. Вместо того чтобы вырвать их, как положено юной девице, Лида сказала:
— У меня всегда руки холодные. Это какая-то ненормальность.
— А у меня горячие.
— Значит, у меня сердце горячее, — сказала Лида, потому что надо было говорить, и внешняя пустота разговора никак не соответствовала его внутреннему напряжению.
— Можно, я согрею? — спросил Андрей.
— Это безнадежно, — сказала Лида.
Андрей нагнулся и начал целовать пальцы Лиды. Она понимала, что делать так не положено, она говорила быстро и бессмысленно, словно отвлекала себя от поцелуев Андрея.
— Ну вот, вы же видите, это безнадежно… Они всегда холодные. Это у меня наследственное. У папы тоже всегда холодные руки, а вот мама устроена совсем иначе, она темная и полная, а мы с папой рыжие.
— Ну вы совсем не рыжая, — сказал Андрей, не отпуская пальцев. — Вы скорее пепельная.
— Значит, серая, да?
— Я этого не хотел сказать.
Он поцеловал ее в щеку. Щека была покрыта пушком, таким нежным, что почувствовать его могли лишь губы.
— Мы совсем замерзнем, — сказала Лида. — А вы опоздаете на автобус.
— Ну и пусть.
— Я знаю, что не пусть. Если бы было пусть, вы бы мне с самого начала не сказали. У вас завтра поезд? У вас всегда завтра поезд.
— Нет, послезавтра, — сказал Андрей. — Завтра хоронят маму Коли Беккера.
— У Коли умерла мама? Не может быть!
Лидочка высвободила пальцы и отстранилась, потому что теперь нельзя было и думать о поцелуях.
— Что с ней случилось? Он, наверное, сильно переживает, да? Они ведь были с ней очень близки. Он мне рассказывал.
Андрей не знал, что рассказывал Коля о своей маме, он мог рассказать, что она герцогиня, и Андрею лучше промолчать. Но и отмахнуться от Лидочкиной искренней озабоченности было нельзя, и Андрей сказал, что Елизавета Юльевна умерла от рака и очень мучилась, а Коля приехал из Петербурга к ее смертному одру.
— Пойдемте отсюда, — сказала Лидочка. — Честное слово, я совсем замерзла. Я ведь не думала, что буду сегодня сидеть на лавочке возле моря. Вы тоже совсем легко одеты.
Они поднялись и стояли рядом, потому что уходить обоим не хотелось.
Лидочка сказала:
— Простите, — и застегнула ему верхнюю пуговицу тужурки, — у нас предательский климат, а вы поехали даже без кашне.
— Нет, я все взял, — сказал Андрей. — У меня был тяжеленный саквояж, потому что я обманул мою добрую тетю Маню.
Они пошли с пляжа, и Андрей рассказал, как он придумал визит к отчиму и как волочил из Симферополя банки с черешней, а потом отдал на сохранение чистильщику на набережной.
— Надо все-таки отнести все вашему отчиму, а то, когда он узнает, он расстроится и будет на вас сердиться.
— Еще чего не хватало! У нас с вами остался час, понимаете?
— Понимаю, — сказала Лидочка детским голосом. — Очень жалко.
— Скажите честно, — попросил Андрей. — Мне это важно знать, вы рады, что я приехал, или это вежливость с вашей стороны?
— Какой вы глупый, Андрюша, — сказала Лидочка.
Они уже поднялись наверх и остановились у парапета. Лидочка поцеловала Андрея, но получилось неловко, потому что он как раз в этот момент поворачивал голову, и поцелуй пришелся в подбородок. Андрей потянулся к Лиде, и она ударилась лбом о его нос, притом так сильно, что у Андрея слезы полились из глаз.
Обоим стало смешно, и они стояли рядом, держались за руки, как на картине Репина «Какой простор!».
Потом оба замолчали. И Андрей видел перед собой громадное темное зимнее море, над которым двигалось многообразное небо, где хватило места и грозовым тучам, и кучевым облакам, и синеве. Точно по самой линии горизонта медленно-медленно полз белый пароход с высокой длинной трубой, дым из которой тянулся, расширяясь, будто нарисованный ребенком. Слева поднималась отлогая гора, застроенная домиками и заросшая садами, из которой, как желтый палец, поднималась башня под луковкой, а направо открывался вид на Ялтинскую бухту. Стояла мирная, сказочная, добрая тишина. И Андрей сказал себе: «Вот сейчас я совершенно счастлив. Так счастлив я не был никогда в жизни. И может быть, никогда не буду так счастлив. Я должен запомнить этот момент и помнить его всегда. И это гладкое море, и бурное небо, и зимнюю зелень склона, и колокольню, и Ялтинскую бухту, и девушку рядом со мной. Я могу сейчас повернуть голову и увижу ее и могу дотронуться до ее холодных и самых красивых в мире пальцев».
Андрей повернул голову. Лидочка смотрела на него.
— Вы знаете, что я загадала? — спросила она.
— Знаю, — сказал Андрей. Он был совершенно убежден в том, что она думала о том же, что и он. И точно так же, как он.
А Лидочка загадала совсем другое. Она загадала, что если первой встретится им женщина, то она выйдет замуж за Андрея. А если мужчина, то роман их закончится трагически.
Когда они отошли от парапета, то увидели издали велосипедиста. Андрей резко отвернулся и стал смотреть в море. Велосипедист — высокий худой старик в шляпе и с трубкой в зубах — ехал, глядя прямо перед собой. К багажнику велосипеда была привязана стопка книг. Он кинул рассеянный взгляд на хорошенькую девушку у парапета и отвернувшегося студента, потом свернул в переулок.
— Вы видели, кто это был? — спросила Лидочка. — По-моему, это ваш отчим.
— Да, — сказал Андрей. — Он уехал?
— Да, он уехал. Пошли?
— Вы почему расстроились?
— Я? Расстроилась? Ничего подобного. Мне вас стало жалко. Из-за меня вы вынуждены скрываться от собственного отчима.
Лидочке стало грустно, что их роман завершится трагедией.
Солнце садилось, тени стали длинными. По набережной вяло, как бы выполняя тяжкий долг, гуляли редкие приезжие.
Несколько человек стояли кучкой у мола и глядели, как швартовался пароходик «Алушта». Это был прогулочный пароходик, и его палуба была закрыта от солнца тентом. Зачем ему было ходить по морю в декабре месяце — загадка. Никто с него не сходил, и слышно было, как капитан ругает матроса, который никак не может замотать конец вокруг кнехта.
Гостиница «Мариано» была украшена гирляндами фонариков, и они зажглись, когда Андрей с Лидой поравнялись с гостиницей. Это мог быть чудесный рождественский вечер — неспешный и сладостный вечер с Лидочкой. В пустой зимней Ялте. Но Андрей даже боялся посмотреть на часы. Он понимал, что вот-вот ему придется бежать на автобус. Теперь, когда Лидочка знает, почему Андрей спешит в Симферополь, она никогда не согласится, чтобы он остался. Даже если бы он сам на это решился. В витрине магазина среди игрушек и сувениров стояла небольшая елка, увитая серебряными гирляндами. Из ресторана доносились нестройные звуки — музыканты настраивали инструменты. Зазвонили в церкви.
— И зачем только он там проехал! — сказала Лидочка.
— Я надеюсь, что он меня не узнал. Он не видел моего лица. Хотя, конечно, он такой, что мог узнать, но не остановиться.
— Тогда он тем более на вас обидится.
— Не знаю, — сказал Андрей. — Мы очень далеки.
— Вы его не любите?
— У меня нет к нему чувств.
— А я папу обожаю. Если с ним что-то случится, я не переживу.
— А я не знаю моего отца. Тут какая-то тайна. Даже тетя никогда мне не рассказывала о нем. С ним что-то случилось, и мама вышла замуж за Сергея Серафимовича, когда мне было меньше года.
— А потом?
— Она тоже умерла. И меня взяла тетя. Моя тетя — чудо.
— Вы с ней живете?
— Да. Она служит по ведомству императрицы Марии Федоровны. Она все время о ком-то заботится. Я думаю, что ведомство должно ей дать медаль. На владимирской ленте.
Они поравнялись с громадным платаном.
— Пускай он будет моим свидетелем, — сказал неожиданно Андрей.
— Свидетелем? В чем?
— Этот платан прожил сотни лет. И проживет дольше меня. Он все знает и все видел. Я клянусь ему и вам, Лида, что никогда в жизни не разлюблю вас и не полюблю кого-нибудь другого. Никогда.
Лидочка не ответила. Она смотрела на платан, облетевший, но настолько богатый ветвями, веточками и сучьями, что крона его казалась почти непроницаемой.
Потом пошла вперед.
Андрей, не ожидавший этого, догнал ее через несколько шагов.
— Я не то сказал? Я вас обидел?
— Нет, — сказала Лидочка. — Спасибо. Я вам благодарна за эти слова. И я хотела бы верить. — Пепельная прядь выбилась из-под круглой суконной шапочки, и Лидочка остановилась, поправляя ее. Потом спросила: — А вы у какого чистильщика оставили вещи?
— Который у «Ореанды» сидит, одноглазый, на пирата похожий.
— Ой, я его не люблю! Он в тюрьме сидел. Говорят, что он убийца.
— Ну, нас с вами он не убьет. — Андрею трудно было вернуться к прежнему обыкновенному тону. И его немного покоробило то, что Лидочка, в сущности, ничем не ответила на его торжественную клятву.
Чистильщик сидел на прежнем месте. Лидочка не стала подходить, но он ее увидел.
— Все в порядке, студент? — спросил он. — А я уж думал, домой пойду. Замерз из-за тебя.
— Спасибо вам, — сказал Андрей. — А то мне надо на автобус. Сколько я вам должен?
— Сколько дадите, — сказал чистильщик.
Андрей дал ему рубль. Чистильщик сказал:
— Еще полтинник набрось. Я тут мерз, а ты с ней гулял. Нет на свете справедливости.
Андрей дал ему еще полтинник и получил саквояж. Пока чистильщик доставал его, Андрей посмотрел наконец на часы. Было без десяти четыре. Придется бежать.
Увидев, что саквояж у Андрея в руке, Лидочка пошла наверх по речке. И Андрей поспешил следом. Лидочка была грустная и не смотрела на Андрея.
— Мне самому очень жалко, — сказал Андрей. — Но если я не уеду этим автобусом, то точно не успею на похороны.
— О чем вы говорите! — возмутилась Лидочка. — Разве я вас задерживаю? Я все отлично понимаю. И повторяю — я вам очень благодарна за то, что вы приехали.
Они быстро шли в гору, саквояж с каждым шагом становился все тяжелее. Хоть бросай его. Вообще-то его надо было бросить, конечно, не везти же обратно в Симферополь.
— Лидочка, — сказал Андрей, — вы не откажете мне в просьбе?
— В какой?
— Моя тетя варит чудесное варенье из белой черешни. Я вам отдам его.
— Нет, нельзя, это не для меня.
— Тогда мне придется его выкинуть.
— Если хотите, я отнесу его вашему отчиму.
— Нет, — сказал Андрей, — тогда он поймет, что я был здесь и не зашел к нему.
— Но я скажу, что была в Симферополе и вы мне передали.
— Он поймет, что вы лжете.
— Вы не представляете, какая я замечательная врушка, — засмеялась Лидочка. — Но если вам тяжело, я помогу вам нести. Давайте я тоже возьмусь за ручку.
— Еще чего не хватало, — буркнул Андрей.
Когда они вышли на площадь, было уже пять минут пятого. К счастью, автобус стоял на месте, и кондуктор сказал, что, как только шоффэр, который пошел попить чаю, вернется, автобус поедет. Пассажиров в автобусе было мало — лишь какая-то веселая чиновничья компания, которая специально ездила под Рождество к морю и теперь возвращалась в Симферополь. Чиновники принесли с собой несколько бутылок шампанского и бокалы. Они стояли в круг, чокались, и им было очень весело.
Андрей купил билет, и они с Лидой отошли к той самой скамейке, на которой Лида когда-то его ждала.
— Я оставляю банку здесь, — сказал Андрей. Он открыл сумку и вытащил банку оттуда. Черешни были золотыми на просвет.
— Хорошо, — сказала Лидочка, — я беру этот дар. Только не знаю, что сказать маме.
— Когда она отведает тетиного варенья, она поймет, что я — самый лучший и выгодный жених для ее дочки.
— Не говорите так, — сказала Лидочка.
— А у меня нет выхода, если я буду любить вас всю жизнь.
— Какой вы еще мальчик, — сказала Лида.
Она погладила его щеку, и Андрей хотел перехватить руку, чтобы поцеловать, но Лидочка убрала руку и сказала:
— Я здесь живу.
— Только не вздумайте в самом деле нести это моему отчиму, — сказал Андрей. — Он вас заколдует.
Из-под фуфайки Андрей вытащил пакет со сладостями и тоже положил рядом с Лидой на скамейку.
— Их делает одна бабушка в Джанкое, и секрет будет утерян с ее смертью.
— А почему вы сказали, что ваш отчим колдун?
— Не знаю. Но от него исходит что-то очень чужое, даже страшное. Хотя он ничего плохого мне никогда не сделал. Он помогает нам с тетей, фактически я учусь в университете за его счет. Но почему он живет в Ялте, чем занимается — не понимаю.
— Значит, он богатый?
— С одной стороны, он не очень богатый. Он живет довольно скромно. У него экономка и собака. Он разводит розы и сам давит вино. Удивительно, что мне даже нечего о нем рассказать.
— А почему с одной стороны?
— Я сам до этого лета думал, что он небогатый. А тут он меня провел к себе в кабинет на второй этаж и показал, что под половицей у него лежит шкатулка с драгоценностями. Представляете, он откидывает край ковра, вынимает половицы, и там, как в «Графе Монте-Кристо», — шкатулка и в ней драгоценности!
— А зачем он вам это показал?
— По странной причине — это мое наследство. Если с ним что-нибудь случится. Но мне нет дела до кладов, вы мне верите?
— Конечно, верю, Андрюша, — сказала Лидочка, и в слово «Андрюша» она вложила куда больше, чем подтверждение его незаинтересованности в богатстве Сергея Серафимовича.
Шоффэр поднялся в автобус и нажал на клаксон.
— Ой, — сказала Лидочка, — вам надо уезжать.
— Погодите, — спохватился Андрей, — я же забыл. У вас нет моего адреса.
Он стал шарить по карманам. Карандаша не было. Он побежал к автобусу и стал просить карандаш у чиновников. Они влезали в автобус, не расставаясь с бокалами. Они смеялись и шутили, один из них сказал, что они ненавидят карандаши и ломают, как только увидят. Карандаш Андрею дал кондуктор и пригрозил, что если он через минуту не сядет в автобус, то уедут без него. Андрей написал свой симферопольский и московский адреса. Шоффэр жал на клаксон, чиновники высовывались из автобуса и звали Андрея. Андрей отдал бумажку с адресом. Лидочка подставила губы. Губы были сухие и горячие. Глаза полны слез. Андрей поцеловал ее.
— Я приеду! — крикнул Андрей. — Я обязательно приеду. Скоро!
Лидочка не отвечала. Она стояла, подняв руку.
Андрей на ходу вскочил в автобус и махал Лидочке.
Кондуктор сказал:
— Карандаш не забыл?
Автобус неуклюже уехал с площади. Лидочка стояла неподвижно. Потом автобус гуднул и, набирая скорость, покатил к шоссе.
Андрей смотрел в заднее окно, а потом уселся подальше от чиновников, которые его и не замечали. Они пели «Славное море — священный Байкал». За окнами автобуса пролетали чудесные мирные крымские пейзажи, и Андрей впитывал в себя их покой и красоту, одухотворенную тем, что в городе Ялте живет Лидочка Иваницкая.
Уже за Алуштой Андрей понял, что он страшно голоден, и вспомнил о пакете, который дала тетя. Он съел все, что было в пакете, а потом, когда автобус остановился перед перевалом, он пошел со всеми в трактир, который держал там старый грек, и напился со всеми черного кофе с чебуреками. Чиновники, которые считали его уже своим, купили бутылку коньяка, и пришлось с ними пить.
Вернувшись в автобус, Андрей понял, что стало холодно, и решил надеть фуфайки. И тогда обнаружил, что одна из двух фуфаек, совсем новая, пропала. Оказывается, чистильщик не ограничился рублем с полтиной. Но Андрей не огорчился. А потом он заснул и счастливо, без снов, проспал до самого Симферополя.
Глава 3
Июль — август 1914 г
Весна 1914 года прошла для Андрея незаметно. Он стал членом кружка профессора Авдеева, который читал Средние века и полагал себя наставником молодежи. Старику льстило, когда кто-то из молодых прилюдно называл себя его учеником. Всю свою энергию и небольшие ораторские способности Авдеев обращал в лекции, которые были популярны, хоть и перегружены восклицательными знаками. Вольнослушательница Олечка (впоследствии известная более в академических кругах как «княгиня Ольга») застенографировала курс лекций, а затем женила на себе профессора, чтобы сподручнее было редактировать этот единственный авдеевский опус.
Авдеев не печалился отсутствием у себя иных трудов, потому что увлекался археологическими раскопками стоянок ранних славян. От городища к городищу профессор самозабвенно занимался подсчетом бусинок и дирхемов, надеясь создать общую картину средневековой торговли и родить труд всемирного значения.
Вначале Андрей попал в сферу внимания мадам Авдеевой, которая по старой памяти посещала лекции мужа и подбирала ему неофитов для раскопок. Именно она обратила внимание на голубоглазого привлекательного студента Берестова, и именно по ее подсказке Авдеев велел как-то Андрею задержаться после лекции и, поглаживая аккуратно подстриженную под Столыпина бороду, пригласил в ближайшее воскресенье в Коломенское, где его соратники намеревались раскапывать курган кривичей.
Андрей не подозревал в себе археологической страсти, но отказаться от приглашения было неловко. Он был встречен весело и дружелюбно уже знакомыми между собой археологами, среди которых были студенты старших курсов (не только историки, но и правоведы, и филологи), а также уже не первой молодости энтузиасты, бескорыстно проводившие лето за летом в поле под комариный звон, ночуя в неуютных для горожанина избах, а то и в палатках, причем вовсе не важно было происхождение и имущественное состояние энтузиастов.
С осени до весны они коротали время, как подобало чиновникам, но с первой зеленью начинали ощущать непонятный непосвященному экспедиционный зуд и, презрев выгоды и приятности Гурзуфа или Мариенбада, делили труд и быт с желтопузыми студентами, гордясь не чинами, а экспедиционным старшинством, копались в пыльных недрах заросших ивняком и ельником городищ и оплывших крепостных валов. Это было содружество, подобное клубу для избранных, но куда более спаянное и патриотическое, ибо взгляды Авдеева и выводы из его раскопок не разделялись ни Уваровым, ни Анучиным, ни Готье, а соответственно — их спутниками и сотрудниками. Но авдеевцы были партией, сектой, боевой дружиной, чуждой расколов и внутренних дрязг.
Приобщение Андрея к археологии резко изменило его судьбу, потому что, будучи человеком общительным и податливым чужому мнению, он, без сомнения, примкнул бы к радикальному политическому течению. Как раз перед Рождеством его записали в партию эсдеков. Инициатива в том принадлежала Мише Богомолову, сокурснику, укорявшему Андрея в аполитичности и даже скупердяйстве. Теперь Андрей платил взносы в партийную кассу, но избегал сходок.
Археология внесла смысл и распорядок в жизнь. Каждое воскресенье авдеевцы то выезжали на пригородном поезде в окрестности Москвы, то отправлялись пешком в места, где сносили старые здания. К удивлению Андрея, оказалось, что Москва и губерния напичканы славянскими древностями, которые ждут своего открывателя.
В июле планировалась большая экспедиция в Вологодскую губернию, где были надежды отыскать следы ранних посещений новгородских торговых гостей.
Андрей, поначалу стеснительный, легко привыкал к людям и был неприхотлив. Так что он без труда выдержал негласные испытания весенних поездок, и княгиня Ольга приказала Авдееву взять Берестова в Вологду. Не любя ее и противопоставляя справедливому и доброму старцу Авдееву, все трепетали перед Ольгой, включая даже Иорданского, начальника департамента в Министерстве путей сообщения. И никто из археологов так никогда и не догадался, что в самом деле хитрый Авдеев лишь использовал жену в качестве непопулярного палача, который существует для того, чтобы народ более ценил доброту и справедливость несколько наивного и далекого от мирских мелочей государя.
В экспедиции были две девицы-курсистки, очень прогрессивные, с внутренней готовностью к чему-то высокому, напоминавшие ему тетю Маню. Одна из них, худая, нервная, страшно начитанная Матильда Поливода, влюбилась в Андрея, и ему было неловко, что за ним откровенно ухаживает некрасивая девушка, подавая повод для насмешек. Княгиня Ольга и профессор Авдеев, которые не терпели в экспедициях романов, смотрели на этот казус сквозь пальцы, так как Матильда, иначе Тилли, была замечательной поварихой, что немаловажно в любой экспедиции, а присутствие Андрея действовало на нее воодушевляюще.
Всю весну Андрей переписывался с Лидочкой.
Они договорились, что встретятся сразу, как кончатся занятия, а Лидочка, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы уговорить родителей позволить ей подать в Московское училище живописи и ваяния, куда начали принимать девушек. А это значило, что с осени они будут рядом.
Первые письма их были длинными. Андрей и Лида рассказывали о своих друзьях, родителях, маленьких событиях в жизни, Андрей к концу весны уже знал по именам и прозвищам всех учителей восьмого класса Ялтинской женской гимназии, а Лидочка во всех подробностях читала о воскресных вылазках университетских археологов. И обоим было приятно сознавать, что у них есть общая, никому более не ведомая жизнь. Лидочка в письме спрашивала, какую новую каверзу придумала княгиня Ольга, а Андрей интересовался, влюблена ли по-прежнему Оксана Попандопуло в учителя физики. Но ни в одном из писем, будто по взаимной договоренности, не говорилось о любви, даже само это слово как бы находилось под запретом. Люди воспитанные обмениваются письмами для того, чтобы узнать друг о друге; о любви же пишут лишь в изящной литературе. Двадцатый век — не время для Вертеров. Это не значило, что Андрей, ожидая очередного письма, как свидания, не старался по крайней мере отыскать намеки на чувство между строк или в словах вполне обыкновенных.
К лету письма стали короче. Во-первых, все обыденные темы уже были обговорены и известны. У обоих надвигались экзамены, к тому же Лидочке надо было сдать на медаль, чтобы иметь привилегии при поступлении в училище, а Андрей был занят не только занятиями, но и будущей экспедицией, тем более что хитрая княгиня Ольга ввела Андрея в комиссию из трех человек (Берестов, Тилли и Иорданский), которая должна была заниматься снаряжением для вологодского вояжа. А это, как ни покажется странным, требовало немалых усилий и времени.
В мае Андрей уже не с таким вожделением ждал писем Лидочки, сам умещал очередное послание на одной страничке и получал от Лиды открытки. Он не догадывался, что забывает Лидочку, а Лидочка не подозревала, что ее влюбленность в Андрея постепенно уходит, хотя нового достойного поклонника у нее не было, если не считать брата Оксаны, приезжавшего на Пасху в форме гардемарина.
О Маргарите Андрей узнавал из писем Лидочки лишь урывками. Причина тому была объяснима: Маргарита считала Лидочку милой простушкой, которой не положено знать о действительно серьезных делах. Лидочка лишь догадывалась о жизни подруги, но не всегда правильно. Когда она написала Андрею, что Маргарита провела весной две недели в Петербурге, Лидочка предположила, что причина тому — ее роман с Беккером, вернувшимся в Институт инженеров путей сообщения. Андрей же подозревал, что ее поездка могла быть вызвана другими причинами. Для Лидочки было удивительным, почему Маргариту неожиданно исключили в апреле из гимназии — перед самыми экзаменами на аттестат зрелости. Что могло случиться?
Но обошлось — отец Маргариты добился, чтобы его дочь простили. Андрей подумал, как хорошо, что Маргарита не попала в бомбистки, — он явственно представлял себе, как Маргарита, сверкая глазами из-под густых соболиных бровей, поджидает на углу Дерибасовской коляску губернатора или ненавидимого революционерами полицмейстера.
Прочие новости Андрей узнавал из приходивших по средам, а значит, написанным за воскресенье деловым и подробным письмам тети Мани. Беккеры, Нина и ее отец, бедствовали. Тете Мане удалось добиться постоянного им вспомоществования через свое ведомство. Нина, к сожалению, должна была проводить все время дома, так как состояние ее отца было таково, что его нельзя было оставлять без присмотра. Тетя Маня нашла ей надомную работу — шить наволочки и обстегивать простыни для Евгеньевской больницы. От Коли Беккеры вестей почти не получали и были убеждены, что их любимец и надежда успешно учится в своем институте.
Ахмета не раз видели в подозрительной компании. По мнению тети Мани, компания была связана с какими-то политическими делами. Тетя Маня писала, что симферопольские татары создали националистическую партию, в которой заправляет некто Сейдамет. Это тетю удивило: она полагала, что татарам хорошо жить и без партий, потому что они занимаются извозом и торгуют фруктами.
Сергей Серафимович приезжал в Симферополь в марте и нанес визит тете Мане. Тетя Маня сообщила, что он постарел, еще более иссох, хрипит, покашливает, но с трубкой не расстается. Интересовался успехами Андрюши, и тетя Маня показала ему некоторые из писем племянника, особо те, в которых рассказывалось об увлечении Андрюши археологией. Письма произвели на отчима благоприятное впечатление. Глаша, по словам отчима, здорова.
На Пасху Андрей послал открытки с видами университета на Моховой отдельно Сергею Серафимовичу, отдельно — Глаше.
В мае он получил от отчима посылку. В ней лежала роскошно изданная с многочисленными гравюрами и линотипами книга Брэстеда «Древний Египет» на английском языке, которым Андрей к тому времени уже прилично овладел. Кроме того, там же были четыре томика Геродота в красивых кожаных с тиснением переплетах начала века с буквами «S» и «В» на корешках.
К посылке было приложено короткое письмо от Сергея Серафимовича, в котором тот поздравлял пасынка с успехами в занятиях и просил обязательно побывать в Ялте летом, до августа. Обязательно до августа, так как августовские события могут воспрепятствовать общению.
Андрей написал в ответ, что приедет в июле, сразу из экспедиции. Тем более что о том же был уговор с Лидочкой.
Экзамены кончились лишь в середине июня, и через четыре дня экспедиция Авдеева погрузилась в вагон первого класса вологодского поезда и направилась к цели своего путешествия — городищу неподалеку от Кирилло-Белозерского монастыря. От Вологды путешествовали далее на телегах, дорога заняла пять неспешных дней, потому что в пути останавливались в деревнях, профессор подолгу и со вкусом беседовал с местными жителями об известных им курганах либо городищах. В одной из деревень к экспедиции присоединились два бородатых палеографа, которые разыскивали в тех деревнях первопечатные и рукописные книги. Археологи купались в холодных голубых озерах и тихих речках, вечером у костра читали стихи, спорили о варягах и княжеских междоусобицах, и мало кто задумывался о тех современных политических происшествиях, которые волновали мир. И если даже и возникал разговор о тяжелом положении землепашцев, мздоимстве, а то и о немецком засилии при дворе или роли Распутина, разговор этот быстро угасал, так как профессор Авдеев умело переводил его на проблемы распространения славянских племен либо княжеские междоусобицы давних лет, доказывая, что в потоке времени нынешние политические события ничтожны и не идут ни в какое сравнение с важностью годов становления Российской империи и молодости нашего народа. Так что весь месяц Андрей прожил в некоем заповедном лесу, густая листва которого не пропускала буйных ветров, бушевавших на окрестных равнинах.
К радости археологов, первый же курган к югу от Белозерска вскоре дал удивительные и многозначительные находки. В нем обнаружилось погребение десятого века, в котором сохранилось вооружение знатного воина, включая меч и шлем, подобного которому в России еще не было известно.
Самим фактом своего существования курган доказывал отвергаемый Спицыным факт распространения славян в тех местах, где следов этого племени быть не должно, а следовало искать могильники веси.
Вечерами, закончив труды, археологи собирались у своих палаток, где деревенскими плотниками был сколочен длинный стол и скамьи, которые позволяли вечером после чая собираться всем и при свете керосиновой лампы обсуждать интересующие всех проблемы и находки дня.
Порой молодежь разжигала на берегу длинного, полузаросшего осокой чистого озера костер и пела песни. Даже в полночь небо оставалось бесцветным, по нему медленно плыли перистые облака, и «одна заря спешила сменить другую».
Андрей пребывал в те недели в приятном ощущении важности и полезности трудов, которым он себя посвятил. Ему виделись особая значимость и глубокий смысл в отыскании в темной земле предметов древности. Странное, почти благоговейное чувство охватывало его в тот момент, когда его узкий нож наталкивался на неожиданное препятствие, и со всей возможной осторожностью он начинал очищать проржавевшую хрупкую часть упряжи либо обломок покрытого голубой привозной глазурью сосуда. Его воображение населяло этот лес и берег множеством людей, его далеких предков, живых и шумных, работящих либо воинственных, вовсе не помышлявших о старости и смерти, а то и сидящих, подобно ему, у прибрежного костра рядом с девицей в белом длинном сарафане, косы которой мягко лежат на гибкой спине. А там, где виден огонек лампы под навесом, где Иорданский спорит с профессором о возможном назначении найденной утром глиняной фигурки, должны тускло гореть окошки приземистой избушки, в которой мать девицы прядет кудель, напевая былину об Илье Муромце…
В серебряном ночном волшебстве мужчины становились романтичными и умными, а женщины — изящными и возвышенными. Даже Тилли обретала в этом воздухе гибкость и загадочность наяды.
Мир Андрея сузился, словно мир средневекового землепашца. Он ограничивался небом, озером, березняком на берегу и темным бесконечным бором, что тянулся до самого Белозерска. Но и в этом малом мире было привольно тщеславным мечтам о лаврах Шлимана или Брэстеда.
Первая мировая война была неизбежна, как неизбежен ливень, если над головой скопились облака со всей Европы. Война надвигалась молниями, сопровождаемыми ударами грома. Каждая из молний могла вызвать этот ливень, но пока — обходилось. Если дождь прорывался из облаков, то выливался где-то в стороне. В этой темной туче все время происходили сложные перемещения выгод и интересов, кипели заговоры, предательства, измены, создавались блоки и заключались союзы. Но если у участников этой деятельности не было сомнений в том, что война неизбежна, хотя до самого последнего момента число враждующих стран и их цели не были безусловно известны, то для жителей Европы и всего мира, которые разгуливали, трудились, пахали, торговали, влюблялись и умирали под невероятной тучей, обязательность всеобщей войны совсем не была очевидной. Нужды в войне, с точки зрения нормального обывателя, не было никакой, и противоречия между державами, неразрешимые для политиков и генералов, среднему россиянину или французу казались несущественными и уж по крайней мере недостаточными для того, чтобы разрешать их всеобщей войной.
Сегодня, разглядывая календарь памятных событий начала века, видишь в них последовательное движение к войне. Тогда же эти события были настолько не связаны между собой, что не сочетались в общую угрозу. Ну что может быть общего между устремлением России к Дальнему Востоку, ее активными действиями в Маньчжурии и попытками утверждения в Корее, что привело к конфликту с резвой, воинственной Японией, также претендовавшей на главенство в тех краях, с отчаянной сварой между французскими и германскими коммерсантами и генералами за город Фец и господство в Марокко? А что общего между аннексией Австро-Венгрией формально принадлежавшей дряхлой Турецкой империи Боснии и Герцеговины и, скажем, переговорами между Россией и Англией о разделе Ирана на зоны влияния? Да и что объединяет внезапное нападение Болгарии 29 июня 1913 года на своих недавних союзников по антитурецкой коалиции Сербию, Черногорию и Грецию и, скажем, провозглашение Албании королевством, во главе которого был поставлен один из мелких немецких князей?
Но все эти события и конфликты, вместившиеся в десятилетие перед началом Первой мировой войны, были предупредительными вспышками молний или шквалами, доказывавшими тому, кто хотел видеть, что ливень не за горами. Именно об этом и предупреждал Андрея Сергей Серафимович, один из немногих людей в России, убежденных в том, что война начнется не позже осени 1914 года.
К тому времени завязалось несколько неразрешимых узлов противоречий: спор Австро-Венгрии и Сербии за гегемонию на Балканах, в котором Австро-Венгрию поддерживала Германия, а Сербию — Россия. Борьба Германии и Франции за Эльзас и Лотарингию, а также за господство в Северной Африке. На стороне Франции выступала Англия, обеспокоенная попытками Германии сравниться с Альбионом на морях, то есть поставить под угрозу раскинувшуюся на полмира Британскую империю.
В последние сто лет европейские державы делили между собой остальной мир и создавали колониальные империи. Они могли сосуществовать до тех пор, пока сохранялись возможности дальнейших завоеваний. Пока было куда направлять свои броненосцы и дивизии. Но к началу XX века спор между старыми колониальными державами, которые успели захватить самые сочные куски мира, и теми, новыми, которые опоздали к дележу, между Британской империей и Францией с одной стороны и Германией и Японией — с другой, стал неразрешим — пришла пора отнимать награбленное. Между этими двумя лагерями существовали и «промежуточные» державы, такие, как Австро-Венгрия, Россия и США. Австро-Венгрия, хоть и считалась дряхлой и беззубой, тоже спешила участвовать в переделе мира в первую очередь за счет умирающей Турции, Россия свои колонии в отличие от иных держав имела под боком и расширяла империю за счет слабых соседей. Очередным слабым соседом оказался Китай. Соединенные Штаты укреплялись в Латинской Америке и на Тихом океане, но там они столкнулись с Германией, которая все же успела захватить чуть ли не половину тамошних архипелагов, а также тихой сапой забраться в Китай.
Все были неудовлетворены своим положением, все надеялись приумножить свои богатства и ограбить соперников. Все ждали первого неверного движения этого соперника. Притом соперничающие группировки все время изменяли свой состав, и порой вчерашние лучшие друзья готовы были вцепиться друг другу в глотки.
К лету 1914 года германскому правительству казалось, что наступил выгодный момент. Успешно проходили переговоры с Англией о переделе между ней и Германией португальских колоний в Африке. Создалось впечатление, что англичане не ввяжутся в конфликт на континенте, если Австро-Венгрия нападет на Сербию, а затем Германия втянет в войну Россию и Францию. В таком случае перевес будет на стороне Тройственного союза (то есть Германии, Австро-Венгрии и Италии). Рассуждая так, кайзер Вильгельм стал подталкивать Австро-Венгрию к тому, чтобы та ударила первой — и решительно — по Сербии.
Главным проводником идей Германии в Австро-Венгрии был наследник престола Франц-Фердинанд, хотя формально на престоле восседал его дряхлый дядя Франц-Иосиф.
В середине июня Франц-Фердинанд встретился с кайзером Германии в Конопиште. На этой встрече была решена война. Франц-Фердинанд заявил во время переговоров, что сейчас можно не опасаться России — слишком велики ее внутренние затруднения. Германский император благословил австрийцев на быстрый и энергичный удар по Сербии. Если Франция или Россия все же будут реально возражать, Германия с помощью Австро-Венгрии их быстро разгромит, тогда наступит очередь главного врага — Великобритании.
Далее Франц-Фердинанд отправился в главный город недавно захваченной Австро-Венгрией Боснии — Сараево. Там он решил провести большие маневры, буквально вызывая на конфликт Сербию.
В Сербии маневры были расценены однозначно — как провокация. По всей стране прокатились демонстрации. Но патриотическое общество «Черная рука» полагало, что одними демонстрациями с австрийской угрозой не справиться. Был замыслен террористический акт. 28 июня 1914 года гимназист Гаврила Принцип совершил покушение на Франца-Фердинанда. Эрцгерцог был убит.
Узнав о гибели своего союзника и друга, кайзер Вильгельм решил, что мертвый наследник австро-венгерского престола должен выполнить свой долг — довершить то, что не успел довершить при жизни. Именно его смерть стала формальной причиной согласованного с Германией австрийского ультиматума Сербии.
Правда, этот ультиматум последовал далеко не сразу. Гаврила Принцип убил Франца-Фердинанда в тот день, когда экспедиция профессора Авдеева покинула Вологду. В день начала раскопок завершились экстренные переговоры между Германией и Австро-Венгрией о том, как вести будущую войну. В те дни начала июля можно было себя тешить тем, что все еще раз обойдется и ливень не выльется. Последней гирькой на весах войны стал разговор германского посла в Лондоне с министром иностранных дел Великобритании сэром Греем. Посол намекнул Грею, что Германия полагает необходимым проучить Сербию, пользуясь тем, что Россия столь слаба, что ее можно не принимать в расчет. Английский министр сокрушенно покачал головой и согласился с тем, что Россия очень слаба. Немецкий посол счел этот жест индульгенцией и признанием того, что Англия вмешиваться не станет. Этот разговор произошел 6 июля… В тот день на раскопках была теплая погода и потому много комаров.
20 июля президент Франции Пуанкаре срочно прибыл в Петербург. В течение трех дней он вел переговоры с русским императором и правительством. Посол Англии сообщил в Лондон, что Франция и Россия решили поднять перчатку, брошенную тевтонами.
Наконец, 23 июля последовал австрийский ультиматум Белграду. Сербию в нем обвиняли в попустительстве террористам и неумении вести свои дела, вследствие чего ей предлагалось отказаться от суверенитета и стать вассалом Австро-Венгрии.
Вечером того дня Тилли нашла шахматную фигурку, сделанную из кости. Авдеев предположил, что это моржовая кость. Значит, находка свидетельствует о связях славян с жителями Ледовитого побережья.
24 июля Россия объявила мобилизацию в Киевском, Московском, Казанском и Одесском военных округах, а также на Балтийском и Черноморском флотах. Англия хранила молчание. Сербия миролюбиво ответила на ультиматум, приняв почти все его пункты. Правительство Австро-Венгрии заявило, что не удовлетворено позицией Сербии, и 28 июля ее войска перешли сербскую границу.
Германскому и австро-венгерскому генеральным штабам ситуация казалась более чем благоприятной. Слабая сербская армия отступала. 1 августа был объявлен германский ультиматум России с требованием прекратить мобилизацию. Россия отказалась. Ей была объявлена война. 2 августа Германия потребовала у Бельгии пропустить ее войска, чтобы нанести удар по Франции, а на следующий день объявила войну Франции.
Но тут отлично продуманная Германией схема начала давать сбои… Англия потребовала не нарушать нейтралитет Бельгии. Германия в растерянности молчала — ведь Англия должна остаться нейтральной!
Не получив ответа от Германии, Англия также вступила в войну. Зато Италия, казалось бы, верный член Тройственного союза, вступить в войну на стороне Германии не пожелала.
Кайзер Вильгельм был в бешенстве. На телеграмме германского посла из Лондона об объявлении войны он написал:
«Англия открывает свои карты в тот момент, когда ей кажется, что мы загнаны в тупик и находимся в безвыходном положении».
Кайзер был прав. Но его правда станет очевидной лишь через четыре года, когда Германия подпишет капитуляцию.
Прогремевший на весь мир роковой выстрел боснийского патриота Гаврилы Принципа до озера не докатился, как не докатился в свое время звон мечей и свист стрел под Грюнвальдом. Только через неделю, будучи на почте в Белозерске, Иорданский узнал об этом событии и привез последнюю вологодскую газету. Но трагедия в Сараево не оказала влияния на жизнь экспедиции, так как старик Авдеев убедил своих соратников в обыденности таких событий на бурных Балканах. Насколько Андрей не был готов к последствиям рокового выстрела, можно судить по строкам в письме Лидочке, которое он отправил через неделю и которое она получила уже после начала войны. Там Андрей написал буквально:
«Как трудно здесь, в краю привольных лесов и зеленых лугов, думать, что где-то в мире прогремел выстрел и пролилась кровь на белый мундир случайной жертвы».
Лидочка получила письмо Андрея с опозданием, потому что в начале июля, за несколько дней до ультиматума Сербии, объявленного Австро-Венгрией, господин Потапов с дочерью Маргаритой, также успешно окончившей гимназию, прибыл на своем «Левиафане» в Ялту и уговорил Иваницких отпустить Лидочку с ними на Кавказ, куда пароход отправлялся по торговым надобностям. Известие о начале войны застало Лидочку в Поти.
Андрей узнал обо всем только к середине июля. Правда, к тому дню напряжение и тревога, разливавшиеся по Европе, проникали все глубже в беспредельные пространства России. Разумеется, в белозерской тиши неизвестно было о патриотических манифестациях в Петербурге либо австрийских угрозах в адрес Сербии, но даже приходившие с большим опозданием вести из Вологды несли в себе ощущение катастрофы.
Археологи в те дни трудились энергичнее, чем раньше, как бы стараясь приглушить трудом свои тревоги. Дни стояли жаркие, напоенные ароматом скошенной травы и сладких цветов, вода в озере прогрелась настолько, что даже княгиня Ольга в предвечерние часы опускала свое плотное тело в эту парную взвесь, а молодежь спасалась в воде, подобно жеребячьему табуну, преследуемому слепнями.
Угловатая Тилли на удивление хорошо плавала, и вечером 17 июля после ужина она предложила Андрею переплыть на дальний берег озера, чтобы набрать там расцветших кувшинок.
С помощью Андрея Тилли набрала большой букет. Тяжелые плотные головы цветов свисали со стеблей, похожих на вареные зеленые макароны. Волосы Тилли были мокрые, они прилипли к худеньким плечам, и белые кувшинки, прижатые к груди, сделали ее похожей на русалочку. Андрей сказал ей, что она похожа на русалку. Тилли смотрела на него не отрываясь, на длинных, слипшихся от воды ресницах висели маленькие капельки воды. Вдруг Тилли широким театральным жестом отбросила букет в сторону и сказала:
— Потом я сплету из них белый венок.
Очевидно, это была цитата из какого-то неизвестного Андрею символиста. Тилли пошла вверх, Андрей — за ней.
— Заклание, — сказала Тилли, не оборачиваясь. — Я — древняя жертва.
Они отошли от воды, за орешник. Между ним и вековым еловым лесом тянулась узкая, недавно скошенная поляна. На краю ее стояла копна сена.
Неловко раскидывая на бегу ноги, будто никогда раньше ей не приходилось бегать, Тилли побежала к копне, с разбега упала на нее лицом и раскинула длинные руки, будто сраженная пулей. Андрей подошел и сел рядом. Матильда перевернулась на спину и зажмурилась от того, что луч солнца, опустившегося к самому лесу, ударил ей в глаза. Быстро дыша, она сказала:
— Я твоя.
Андрей наклонился и поцеловал темное от загара горячее плечо. Дрожь прошла по телу девушки, и она обхватила Андрея руками и привлекла к себе. Он целовал ее в жестко сжатые обветренные губы. Тилли стонала, отворачивала голову, царапала ему спину и шептала о судьбе, бросившей их в объятия, о вечности любви и, главное, о том, что она принадлежит Андрею, и только Андрею.
— Ты мой первый! — шептала она. — Я берегла, берегла себя, я клянусь, что сберегла себя!
Голые ноги были горячими, словно раскаленными, сено кололось, в нем почему-то было много сучков, и Андрей успел удивиться, что в такой момент думает о сучках.
Купальный костюм Матильды был снабжен множеством пуговичек, и Андрей старался расстегнуть их, а Матильда не помогала ему и умоляла быть с ней нежным и не презирать…
Когда она поняла наконец, что обнажена и беззащитна, то вдруг страшно испугалась и принялась отталкивать Андрея, заплакала и громко сказала:
— Ты же на мне не женишься! На таких, как я, не женятся!
Андрей молча и упрямо боролся с ее руками, с ногами, превратившись в насильника, и, поняв, что не может более противостоять его натиску, Тилли заплакала и сквозь слезы повторяла:
— Ты никогда на мне не женишься! Ты только хочешь меня обесчестить…
И в этой нелепой, пыхтящей, потной борьбе Андрей вдруг, так и не достигнув желаемого, почувствовал облегчение. Экстаз миновал, и сразу стало стыдно за себя и за эту заплаканную длинноносую интеллигентную девушку, которой из-за неопытности Андрея удалось отстоять свою честь.
Андрей отстранился от Тилли и сел, прислонившись спиной к копне. Ее обнаженное бедро было перед глазами, и Андрей отвернулся. Матильда всхлипнула и замолчала.
— Ты сердишься на меня? — спросила она через некоторое время.
— Нет.
— Ты сердишься, я знаю, ты сердишься. Я оскорбила тебя как мужчину. Я так стремилась к тебе, но не думала, что это так страшно. Ты должен понять и простить меня.
— Пойдем, — сказал Андрей. — Скоро ужин. Нас ждут.
— Ну как ты можешь говорить об ужине! Значит, ты в самом деле меня презираешь.
— Честное слово, я к тебе хорошо отношусь. Ты хорошая, и у меня нет оснований тебя презирать.
Матильда глубоко вздохнула и сказала:
— Иди ко мне. Я постараюсь быть покорной.
Андрей поднялся. Стараясь не глядеть на нее, он отошел на несколько шагов. Он услышал, как зашуршало сено. Матильда, не дождавшись его, поднялась и приводила себя в порядок.
Они вернулись в лагерь экспедиции перед самым ужином, исцарапанные сеном, искусанные комарами, опасаясь, что остальные догадаются, а княгиня Ольга выгонит их из экспедиции, как тех легендарных студентов, которые были изгнаны из авдеевского рая лет пять назад, потому что «обесчестили экспедицию».
Но никто не заметил их прихода. Потому что еще час назад в экспедицию приехал сотский из той деревни, где Авдеев нанимал рабочих, и сказал, что в губернии объявили частичную мобилизацию.
После этого раскопки продолжались почти неделю, но всем стало ясно, что полевой сезон завершается. Чиновники беспокоились, что их разыскивают. Иорданский на следующее утро уехал в Белозерск, чтобы узнать новости. Профессор Авдеев, к глубокой обиде, обнаружил, что его верные ученики ставят сегодняшние политические дрязги выше интересов вечной истории. Выйдя на следующее утро на раскопки, Андрей долго сидел неподвижно на краю траншеи, размышляя о тех, кто находился далеко, и беспокоясь о них, потому что воображение рисовало ему страшные морские сражения у берегов Ялты, турецкие и австрийские дредноуты, обстреливающие крымские берега. Потом он принялся за работу, ему повезло — он отыскал россыпь ржавых наконечников стрел, но эти наконечники говорили о сегодняшнем и вечном насилии, крови и жестокости войны. Он совершил непростительный для археолога проступок — засыпал эти ржавые железки землей и затоптал эту могилу. Никто не заметил варварства.
Вскоре пришла Тилли, которая принесла крынку холодного молока и кружку. Она знала, что Андрей любит молоко. Часто моргая, она смотрела на Андрея, потом набралась храбрости и прошептала, что он — ее избранник.
— Сегодня, — сказала она. — Я решилась. Я буду твоей. Сегодня. Прости меня, что я так плохо вела себя вчера.
Андрею не хотелось молока, но он выпил кружку под ее влюбленным взглядом.
— Наверное, надо будет уезжать, — сказал он.
— Я не могу думать об этом, — прошептала Тилли.
В раскоп спрыгнул палеограф Российский, увидел крынку и сказал:
— Вот хорошо. А то жара несусветная.
Трясущимися от злости руками Тилли налила ему в ту же кружку: палеограф не имел права вторгаться в мир ее мечтаний.
— Иорданский вернулся, — сказал Российский. — Теперь уже полная мобилизация.
— Это еще ничего не значит, — ответила Тилли с вызовом, будто мобилизацию Российский устроил ей назло.
— Мобилизация слишком дорого обходится государству, чтобы проводить ее ради сотрясения воздуха, — сказал палеограф. — Я пойду, Иорданский привез газеты и слухи. Говорят, что австрийские войска уже подходят к Белграду.
Он вернул кружку Тилли и полез из раскопа.
Андрей сунул рабочий нож за пояс.
— Ты тоже пойдешь туда?
Она приблизилась к Андрею так, что касалась его грудью.
Если бы не Тилли, Андрей, может быть, возвратился бы домой вместе с экспедицией. Но мысль о неизбежном развитии романа подвигла Андрея на немедленные действия.
После ужина, когда все сидели за столом и горячо спорили, но не о князе Мстиславе Удалом и даже не о варяжской теории, а о национальном характере пруссаков, которые, вернее всего, бросятся на поддержку своих родственников — австрияков, а также о несчастной судьбе южных славян, еще томящихся под гнетом выжившего из ума Франца-Иосифа, Андрей тихо прошел к себе в палатку и собрал заплечный мешок. К счастью, он не брал в экспедицию чемодана.
Когда он вышел и крадучись пошел прочь от навеса, то прощальный взгляд его, которым он обозревал склон кургана и берег озера, упал на патетическую тонкую фигурку Тилли, которая сидела на берегу и ждала своего неверного возлюбленного, видно, окончательно решив сегодня ночью пасть спелой вишней к его ногам. Андрей испугался, что Матильда обернется и его увидит.
Он нырнул в высокую палатку, где складывали на столе находки и вели их опись. Там он оставил записку Авдееву, что, к сожалению, ему надо срочно возвращаться в Москву и он, не желая смущать остальных, сделал это по-английски. Он надеется на прощение господина профессора и его супруги.
Затем он пошел по лесной дороге. Через час он миновал засыпающую деревню и вышел на большак. От шагов поднималась сладковатая пыль, звенели комары, неяркая на бесцветном небе луна часто скрывалась за быстрыми ажурными облаками.
К ночи он был в Белозерске, переночевал в маленькой двухэтажной монастырской гостинице, а на следующий день добрался до Вологды.
Там уже все было иначе. Дома были украшены флагами, по улицам ходили возбужденные люди с трехцветными кокардами в петлицах. Андрей еле достал билет до Москвы. Станция была переполнена народом, первый эшелон с новобранцами уходил на запад, играли сразу десяток гармошек, голосили бабы, гимназистки вручали новобранцам цветы. Кончалось 1 августа — в тот день Германия объявила России войну.
Андрей предполагал сразу же уехать в Симферополь, но задержался в Москве. Каждый день приходили все более ошеломительные новости. Лишь два дня отважная Россия, поднявшая голос в защиту маленькой Сербии, оставалась одна перед лицом могущественных врагов. У манифестов государя, наклеенных поверх названий опереточных спектаклей на круглых афишных тумбах, а то и на стенах домов, толпились люди. Наконец телеграф принес долгожданную весть — Россия не одинока! Через два дня Германия начала войну против Франции, и на следующий день гордый Альбион сообщил человечеству, что встает на защиту демократии и свободы против немилосердных гуннов.
Андрей, захваченный общим порывом, был в манифестации возле британского консульства и даже купил английский флажок, которым размахивал в ожидании вышедшего к русскому народу консула, забыв о прошлогоднем предсказании отчима. Страх за близких, охвативший Андрея под Белозерском, быстро миновал, потому что любому человеку было очевидно, что германцы и австрийцы перед лицом подобной боевой мощи и единения благородных наций не продержатся и месяца. Наши части уже готовились к вторжению в Восточную Пруссию, сербы отчаянно сопротивлялись, а бельгийская армия совершала чудеса героизма.
Андрей готов был по зову сердца отправиться на войну волонтером, но его усилия потребовались пока что в самом университете. В течение двух недель Андрей с другими добровольцами участвовал в оборудовании госпиталя, под который было выделено одно из университетских зданий. И работа эта была нешуточная, так как в первые же дни обнаружилось, что в бюрократической России существует громадный разрыв между благими намерениями и возможностями. Все, от железных коек до постельного белья и полотенец, надо было где-то доставать, выпрашивать, требовать, вымаливать и лишь затем привозить и устанавливать.
Тем временем Андрей направил телеграммы тете Мане и Лидочке. От тети Мани он получил ответную телеграмму:
Все благополучно. Буду работать в госпитале. Очень занята. Жду приезда. Береги себя. Твой долг учиться.
Мария.
Андрей понял, что тетя боится, как бы он не пошел на фронт. Но Андрей еще не решил, как принести наибольшую пользу Отечеству.
От Лидочки ответа не было. Зато через два дня пришло письмо от Лидиной мамы. Видно, она уже знала о существовании Андрея и сочла необходимым не волновать молодого человека в столь опасное и трудное время. Евдокия Матвеевна писала, что Лидочка должна вернуться в Ялту в середине августа.
Склоняясь к мысли о том, чтобы записаться в вольноопределяющиеся по примеру некоторых своих товарищей, чтобы успеть принять участие в окончательном разгроме германских агрессоров и войти в Берлин вместе с победоносными союзными войсками, Андрей все же решил сначала съездить на родину. Ведь не исключено, что его участие в освободительной войне будет роковым и до внезапной смерти он никогда более не увидит ни тети Мани, ни прекрасной Лидочки, ни Глаши.
Не сказав никому в Москве о своем решении, Андрей с трудом раздобыл билет до Симферополя. Движение войск, припасов и оружия по стране сразу же нарушило привычную строгость расписаний, и Андрею пришлось простоять почти час в кассе Курского вокзала, прежде чем он достал билет в жесткий вагон.
Тетю Маню Андрей чудом застал дома. Она как раз забежала домой из госпиталя пообедать. Тетя располнела, серебряных нитей в ее темных волосах стало больше, ноги опухли, и при ходьбе она переваливалась, как утка. Она была безмерно счастлива его приезду, потому что ее замучили подозрения, не ушел ли Андрюша в действующую армию, где его сразит немецкая пуля.
Тетя призналась, что заготовила и хотела послать телеграмму, в которой требовала его немедленного приезда по причине своего сердечного приступа. Тетя уже три раза ходила на почту, чтобы послать телеграмму, но мысль о том, что она солжет Андрюше даже ради высокой цели, настолько была противна ее христианскому сознанию, что она в слезах возвращалась домой, так и не решившись на обман.
Несмотря на радость по поводу приезда племянника, тетя Маня, покормив его, поспешила к себе в госпиталь, где без нее никто ничего не мог сделать.
Проводив тетю, Андрей хотел было навестить сперва соседей, но, оказавшись в своей комнате, надолго задержался. Тетя, стирая там пыль, ничего никогда не трогала с места. Это был как бы маленький музей племянника. А так как Андрей и сам не любил расставаться с вещами, то, начав раскопки сначала в своем столе, потом на книжной полке и даже в сундучке под кроватью, он обнаружил много интересных вещей, о которых он давно забыл, но которые принялись, перебивая друг дружку, рассказывать о давней жизни некоего мальчика Андрюши Берестова, подобно тому, как наконечники стрел и грузила поведали о жизни славян под Белозерском.
Со снисходительным узнаванием Андрей отыскал стихи, писанные в шестом классе и посвященные девочке, которая уже года два как уехала из Симферополя, рисунок с натуры, изображавший цветущую яблоню, и другой, где рыцари подъезжали к замку. Там была тетрадка, на обложке которой было написано квадратными буквами «Дневникъ» и внутри три записи. Первая в целую страницу, следующая через неделю на два абзаца и третья, еще через месяц, с сообщением, что ничего нового не произошло. Старые учебники, книги, солдатики и самодельная пушка из ружейной гильзы, прикрученная проволокой к свинцовому лафету…
Взглянув на часы, которые сообщили, что он уже два часа занимается раскопками, Андрей сообразил, что прощался с детством, прощался с самим собой, которого порой с умилением узнавал, а иногда удивлялся или посмеивался. И еще он подумал, что если бы этими раскопками занимался не он, а, скажем, профессор Авдеев, то вряд ли он составил бы себе объективное мнение о человечке, которому принадлежала эта комната. В ней большое место занимали папки с гербариями и коробки с жуками и бабочками. Но это вовсе не означало, что в Андрюше жила страсть к энтомологии или ботанике. Папки и коробки остались от того лета, когда Сергей Серафимович пытался пробудить в Андрюше биологические наклонности и они многократно гуляли по скалам за Ялтой. Эти походы Андрею были умеренно интересны, и, привезя коллекции в Симферополь и порадовав тетушку, он сложил их в сундук в своей комнате и более к ним не возвращался. Тщательно сделанные, с настоящими реями, холщовыми парусами модели шхун и фрегатов были подарками тетиного поклонника, отставного капитана Евсея Семеновича, который лет десять назад жил по соседству и даже вроде бы просил руки и сердца Марии Павловны и всегда появлялся у них в доме с очередной моделью корабля. Один из корабликов размещался внутри толстой бутылки. Потом Евсей Семенович в одночасье умер от удара, а кораблики остались.
Спохватившись, что ведет себя неосмотрительно, Андрей собрался было выйти из дома, но тут вернулась запыхавшаяся тетя Маня. Готовя ужин, а затем кормя опасно похудавшего, на ее взгляд, племянника, она выкладывала скудные новости.
Ахмета она давно не видела, старик Циппельман все так же торгует в своей кондитерской, Фира счастлива и родила мальчика, Грудзинский неожиданно уехал в Варшаву, Нина ухаживает за отцом, который совсем плох, Сергей Серафимович приезжал недели две назад.
На этот раз на мотоцикле. Он, оказывается, купил себе мотоцикл «Стэнли», блестящий и ревущий, как тысяча чертей, и тетя Маня боится, что на каком-нибудь перевале он сломает свою глупую шею. Это же надо — на старости лет!
Андрей сказал, что завтра с утра поедет в Ялту.
Ночью тетя тихо плакала.
В Ялту Андрей приехал на линейке — автобус был, оказывается, реквизирован армией. В Алуште, купив газету, Андрей узнал, что пал Брюссель и германские армии ведут пограничное сражение с французами, тесня их к западу. В Мобеже заканчивается развертывание английского экспедиционного корпуса, который должен ударить германцам во фланг и тем переменить неблагоприятно складывающиеся обстоятельства на фронте.
Два грека, сидевшие рядом с Андреем, все время спорили о том, выступит ли Турция на стороне Германии или сохранит нейтралитет. С моря дул сильный горячий ветер, и, когда дорога за Алуштой поднялась вверх, стало видно, что море покрыто белыми барашками.
Встретился грузовик, в нем сидели матросы. Потом, уже ближе к Ялте, в море показался военный корабль, и греки снова стали спорить. Один говорил, что это «Георгий Победоносец», а другой твердил, что это «Императрица Екатерина». Греки сердились, призывали в свидетели других пассажиров, но те в спор не вмешивались. Корабль казался маленьким и нестрашным.
В Ялте на набережной было безлюдно. Может, из-за войны, а может, из-за сильного ветра.
Волны были так сильны, что перелетали через парапет и растекались по мостовой до самых домов.
Вольным шагом прошли два морских офицера. К молу был пришвартован катер, покрашенный в шаровый цвет. Два матроса в тельняшках сидели, свесив босые ноги за борт, и кидали чайкам кусочки хлеба. Чайки подхватывали хлеб у пенных верхушек волн. Хоть за молом было куда тише, чем в море, катер подбрасывало вверх, но матросы на это не обращали внимания.
С Алушты Андрей дебатировал пустой вопрос: куда идти сначала — к отчиму или к Иваницким. Уверенности в том, что Лидочка уже вернулась из Батума, не было, так что долг требовал визита к отчиму. Но ноги сами провели Андрея мимо великого старого платана, который на своем веку видел уже столько войн, что полагал их естественным состоянием людишек, и выше, за армянскую церковь.
Хоть Андрей никогда раньше не был в квартире Иваницких, но за последние месяцы он столько узнал о них из писем Лидочки, что уже совсем не опасался строгого взгляда Евдокии Матвеевны, которая, кстати, если, конечно, Лидочка не преувеличивала, также немало знала об Андрее и против переписки не возражала.
Так что Андрей смело поднялся на второй этаж и позвонил.
Евдокия Матвеевна оказалась почти такой, как он предполагал из Лидочкиных писем. Даже если бы Андрей встретил ее на улице, он бы ни на секунду не усомнился, что она — Лидочкина мать.
Евдокии Матвеевне было тридцать девять лет, но можно было дать меньше. Ее лицо было совсем без морщин, а волосы — без седины, значительно темнее, чем у дочери. Только лежали прямо, не вились, туго стянутые лентой на затылке. Правда, в отличие от дочери Евдокия Матвеевна была склонна к полноте.
Андрей сразу почувствовал расположение к Евдокии Матвеевне и даже радость от того, насколько она схожа с дочерью.
— Здравствуйте, — сказал Андрей, но больше ничего сказать не успел, потому что Евдокия Матвеевна его сразу перебила.
— Андрюша, — сказала она, — заходите, я вас сверху увидела, вижу — знакомая фигура, помните, как вы наш дом зимой осаждали? Да вы не стесняйтесь, проходите, только башмаки снимите обязательно, мы сегодня пол мыли, дайте я вам помогу шинель снять. Нет, в этом нет ничего дурного, я хозяйка дома, а вы — милый гость. Вот, возьмите туфли Кирилла Федоровича, они вам должны быть впору, как хорошо, что вы прямо к обеду пришли, сейчас Кирюша должен быть, с минуты на минуту. Да проходите в залу, садитесь…
Евдокия Матвеевна говорила вроде бы не спеша и негромко и вовсе не суетилась, но Андрей вскоре понял, что ни одного слова вставить в ее монолог не может, и покорился, фаталистически понимая, что Евдокия Матвеевна сама ему все расскажет.
Из кухни вошла широкоплечая, очень красивая, черноволосая хохлушка, которую, как Андрей уже знал, звали Горпиной, и была она из-под Полтавы, а у Иваницких служила лет пять, но все грозила, что уйдет, как только появится достойный жених. Достойные женихи приходили в уютную, всю в кружевах, комнатку за кухней, но потом оказывались недостаточно достойными.
— Приихав! — сказала она. — Ондрейка! Який гарний хлопчик!
Андрей совсем смутился, потому что тут ему открылось, что в доме Иваницких он, видимо, считается женихом и о нем говорят как о существе домашнем.
Евдокия Матвеевна тут же уловила Андрюшино смущение и сказала строго:
— Горпина, я тебя умоляю, суп убежит. Дай нашему гостю прийти в себя. Он же такую дорогу перенес!
Горпина фыркнула, обидевшись, и уплыла на кухню, где сразу же громко загремела посудой.
— Простите за такую фамильярность, — сказала Евдокия Матвеевна, — но Горпина у нас член семьи.
Андрей не смог ответить, потому что Евдокия Матвеевна тут же продолжила монолог, из которого Андрей узнал, что Лидочка с Маргаритой задержались в Батуме, так как по прибытии туда господин Потапов намеревался, разгрузившись, возвратиться обратно, но там уже начиналась подготовка к военным действиям против Турции, хотя Турция, как известно, в войну еще не вступила. Так что господину Потапову приказано было (к его собственной выгоде) проследовать в Новороссийск и оттуда вернуться в Батум с грузом цемента. Разумеется, Евдокия Матвеевна очень беспокоилась, не начнется ли в тех краях война, но Кирилл Федорович утверждает, что опасности для Батума и Черного моря вообще в настоящее время нет…
Евдокия Матвеевна не успела завершить свой монолог, как пришел Кирилл Федорович. Он был в морском мундире с погонами подполковника береговой службы. Оказывается, его мобилизовали, как и других работников порта, которые связаны с военными перевозками.
Кирилла Федоровича Андрей по описанию Лидочки узнать бы не смог. Для нее он был отцом, высшей инстанцией ее мира. Для постороннего Кирилл Федорович являл собой невысокого, плотного, сутулого человека в очках в тонкой золотой оправе, заметно облысевшего и молчаливого. С Андреем он поздоровался с некоторым удивлением, а когда супруга сказала ему, что это «тот самый Андрюша Берестов», он сказал:
— Да, да, конечно же, мне рассказывали наши дамы.
После обеда Кирилл Федорович закурил сигару и, усевшись в кресло, начал задавать обязательные вопросы об университете и экспедиции, о которой был наслышан, а со своей стороны поведал, как сложно работать в условиях военного времени.
Андрея стало клонить ко сну. Евдокия Матвеевна, заглянувшая в залу с кофе для мужчин, заметила его сонный вид и стала было требовать, чтобы он часок поспал, и даже, коварная, добавила: «Я бы могла вам постелить в Лидочкиной комнате», но Андрею стало неловко, и он, воспользовавшись тем, что Кирилл Федорович возвращается на службу, тоже вышел в город, оставив чемодан и обещав отужинать у Иваницких.
Андрей проводил Кирилла Федоровича почти до самого порта, откуда надо было сворачивать наверх, к отчиму. Разговаривали по пути они мало, оба стеснялись знакомства, к которому не стремились. Кирилл Федорович дважды забыл отдать честь встречным офицерам и был недоволен собой. Военный катер ушел, но чайки крутились над молом, ждали, что он вернется и их снова будут кормить хлебом. Ветер еще более усилился, и море заволокло мглой.
Перед тем как расстаться, Кирилл Федорович вдруг сказал с осуждением:
— Ваш отчим купил мотоцикл. Совершенно не понимаю, зачем это в его возрасте.
Филька встретил Андрея на улице и помчался рядом, подпрыгивая и стараясь лизнуть в лицо. Глаша была на дворе, она кормила кур.
— Андрю-у-уша, — сказала она, — неужто ты?
Она поставила миску с кашей на землю, обняла Андрея и прижалась лицом к его груди.
Глаша повела его в дом. Он увидел, что она похудела и шла не так упруго и весело, как раньше.
— Заходи, — сказала она. — Твоя комната тебя ждет. Где твои вещи?
— Я их оставил, — сказал Андрей.
— Ага, у Иваницких, — сказала Глаша как о само собой разумеющемся. И не надо было ничего объяснять. — Чаем напоить тебя?
— Спасибо. А где Сергей Серафимович?
— Я его в последнее время редко вижу, — сказала Глаша. — Он в Керчь укатил на мотоцикле. Все в делах.
— Ботаника?
— Если бы ботаника!
Глаша поставила чайник на горячую плиту. Они сели за кухонный стол. Все так же блестели медные кастрюли и тазы и стояли бокалы в буфете. И скатерть на столе была та же — белая с красными полосками. А Глаша изменилась. Даже глаза потускнели.
— Давно ты у нас не был, — сказала она. — Кажется, что тысячу лет. Спасибо тебе за открытки. Спасибо, что не забывал.
Она стала собирать на стол и молчала, хотя всегда раньше была говоруньей. А Андрей подумал, как хорошо, что нет отчима. Не надо с ним разговаривать и чувствовать себя преступником без срока давности преступления.
Чай был вкусный, как прежде. Но есть Андрею не хотелось, и это огорчило Глашу.
— Я пообедал, — сказал он.
— Ну да, конечно, у Иваницких. Красивая девушка, — сказала Глаша. — Я уж к ней присматривалась.
— Тебе тетя написала?
— Нет, зачем же? Ты тогда на Рождество приезжал, помнишь? Так Сергей Серафимович тебя с ней видел. На набережной. Мы сидели с ним, ждали, что ты придешь. А ты не пришел.
— Мне надо было уехать.
— Понимаю, понимаю, — сказала Глаша. — Да ты не красней. Легко ты краснеешь, это в жизни вредно. А Лида к нам приходила.
— К вам? Она мне не писала об этом.
— Как же. Варенье черешневое принесла. Тети-Манино. Сергей Серафимович считает, что никто лучше ее варить не умеет. С цедрой. Каждая ягодка отдельно плавает. И Сергею Серафимовичу Лида понравилась. Он так и сказал.
— А тебе?
Это не надо было спрашивать. Глаша отвернулась и сказала куда-то в сторону:
— Я же говорю — красивая девушка!
— А как ты себя чувствуешь? — спросил Андрей.
— Хвораю иногда, а так ничего. Старая стала. Четвертый десяток. Еще чаю налить?
— Нет, спасибо.
— Ты ночевать останешься?
— Не знаю еще. А Сергей Серафимович когда вернется?
— Он только вчера уехал. Дней пять будет мотаться. Еле живой вернется.
Андрей посмотрел на ходики, висевшие у буфета. Был шестой час. Еще не поздно взять вещи у Иваницких и вернуться к ночи в Симферополь.
— Сходи к Иваницким за вещами, — сказала Глаша, угадав мысль Андрея. — Ночевать будешь здесь.
Андрей вернулся только в десятом часу, потому что ужинали у Иваницких не спеша, с вином и разговорами.
К Горпине пришел кандидат в женихи, по обычаю его представили хозяевам. Он был флотский кондуктор, и чай пили все вместе, обсуждая военные перспективы. У кондуктора были громадные усы, он робел и говорил велеречиво, все ударения в словах ставил неправильно и намеревался в ближайшем будущем захватить Дарданеллы на своем миноносце «Хаджи-бей». Затем, когда кондуктор отправился к Горпине, Евдокия Матвеевна повела Андрея на экскурсию в чистую комнатку Лидочки, которую она совершенно справедливо называла светелкой. В комнате ничего от Лидочки не было — настоящая Лидочка, как понял археолог Берестов, скрывалась в ящичках письменного стола или в сундучке под кроватью. Внешне все было видимостью для мамы. Напоследок Андрей полчаса рассматривал семейный альбом фотографий, пытаясь понять, кто же кузен, кто дедушка и кого из сановных предков Евдокии Матвеевны наградили Владимиром с мечами. Андрей сказал, что обещал ночевать у отчима, Евдокия Матвеевна собралась на него обидеться, но на помощь пришел Кирилл Федорович, который сказал, что, раз у Андрея есть родственники, неприлично их обижать.
Евдокия Матвеевна поцеловала Андрея на прощание и попросила, если успеет, заглянуть еще перед отъездом.
Глаша не спала, ждала Андрея на кухне.
— Дует-то как, — сказала она. На столе стоял самовар, но Андрей от очередного чая отказался. На кухне было душновато. Глаша, которая умела шестым чувством угадывать настроения и мысли Андрея, сказала:
— Можно в сад пойти или на веранду. Но, боюсь, ветер сильный.
Ветер и в самом деле был силен. Он нес по городу пыль и сорванную листву деревьев.
Глаша открыла окно, и ветер начал рвать занавески. Было тревожно и даже страшно.
— Сергей Серафимович тебе письмо оставил. Ты его прочти, — сказала Глаша. — Может, захочешь чего спросить, я тебе отвечу.
Андрей понял, что их отношения изменились, как будто Глаша стала вдвое старше, а он еще помолодел. И даже странно было видеть ее плечи, которые он целовал.
Глаша принесла сверху письмо.
Андрей прочел его.
Дорогой Андрюша!
Возможно, приехав, ты опять не застанешь меня, но на этот раз по моей вине. Сейчас я очень занят. Война, а тем более война страшная, втянувшая в свою мясорубку весь цивилизованный мир и доказавшая, что этот мир так далек от цивилизованности, требует моего участия. Не в прямом смысле участия в убийстве, а в попытках спасти человеческие ценности, которым грозит гибель. В этом моя высшая функция, и я полагаю, что уже наступает время нам с тобой спокойно сесть и по-мужски все обсудить. Я пишу тебе это письмо, потому что убежден, что в силу своего воспитания, окружения и пределов сознания ты еще не готов к тому, чтобы осознать свое место в разразившихся событиях. Так что послушай меня. Ты можешь мне не поверить, можешь даже, если ты захвачен патриотическим психозом, презреть это письмо, но надеюсь, что ты достаточно умен, чтобы дочитать его и сделать для себя выводы.
Постарайся вспомнить наш разговор годичной давности, когда я убеждал тебя, вчерашнего гимназиста, что вскоре грядет мировая война. Тебе трудно было поверить в это, и ты постарался объяснить мои слова старческими причудами. К сожалению, сегодня ты должен признать, что мои предсказания точно сбылись и первая кровь уже льется в Восточной Пруссии, на Марне и в Галиции, уже пал Брюссель и гибнут сокровища европейской культуры, уже близок к гибели Белград. Завтра этот конфликт, разгораясь, втянет другие страны — Турцию, Японию, Италию и даже Румынию. В этом нет тайны, и если бы ты занимался изучением политики, ты понял бы, что политика подчиняется довольно простым законам, за которыми стоят интересы экономические. Так как я случайно узнал, что ты хоть и не очень активный, но эсдек («меньшевик»?), то ты должен был слышать об этих законах, которые, в частности, проповедовал Карл Маркс, известный тебе бородатый немецкий философ и экономист.
Более того, изучение состояния науки и техники, достижения которой брошены на уничтожение людей, позволяет сделать твердый вывод: именно в ближайшие годы технические средства сделают громадный скачок вперед и навсегда изменят лицо Земли. Могу назвать тебе, без опасения ошибиться, левиафанов грядущих боев: это дирижабли и аэропланы, которые будут сеять смерть с неба на мирные города, это орудия, способные забросить снаряд за сто верст, это блиндированные машины, неуязвимые для пуль и снарядов, которые будут крушить человечков, как муравьев. Меня пугают возможности войны химической, о которой ты даже и не подозреваешь. Эта война приведет к тому, что воюющие стороны, лишенные понятия гуманизма, будут выпускать на позиции противников облака смертельных газов и тысячи людей будут умирать в корчах. В то же время я предвижу (а это предвидение также основывается на трезвых научных расчетах и моем знакомстве со многими ведущими учеными Земли), что война эта, при определенном равновесии сил, затянется на годы и превратится в войну позиционную, то есть армии зароются в землю и будут взаимно истреблять друг друга без надежды продвинуться вперед. Любая попытка прорыва будет заканчиваться поражением. Могу дать тебе пример, который происходит у нас на глазах: наше вторжение в Восточную Пруссию при слабости вооружения российской армии, плохих офицерах и выживших из ума придворных генерал-адъютантах захлебнется и кончится катастрофой.
Судьба России в этой войне прискорбна. Менее развитая, менее богатая, чем ее европейские союзники и противники, она станет поставщиком трупов, которыми будет мостить подступы к позициям германцев. Молодой и хищный имущественный класс страны начнет сказочно наживаться на народной крови, что вызовет не только напряжение и возмущение в обществе, но и по прошествии нескольких лет приведет к невиданным катаклизмам в пользу радикальных авантюристов. Дальнейшую судьбу России я боюсь предугадывать, потому что никакой научный анализ не в состоянии выявить, к чему приведет Россию война.
Все это я пишу тебе для того, чтобы ты трижды подумал, прежде чем принять участие в бойне в качестве куска мяса. Не обижайся, именно в такой роли тебя рассматривает наше увешанное орденами и аксельбантами верховное командование. Высокая миссия историка — наблюдать события и трактовать их к пользе грядущих поколений. Нет ничего грустнее, нежели образ историка, служащего лишь сегодняшнему моменту и сотворящего ложь в угоду сильным мира сего. Даже беды и трагедии славянского Средневековья могут стать наглядным уроком для потомков. Мировая война, которая бушует сегодня, урок вдвойне знаменательный при условии, если летописец эпохи сохранит трезвую голову и умение подняться над повседневностью. Зная тебя, я почти убежден, что и ты был захвачен угаром первых дней войны и шапкозакидательскими настроениями черни. Возможно, и ты махал флажком возле английского консульства либо шагал в нестройных рядах манифестантов рядом с лавочниками, черносотенцами и верными престолу городовыми. Но это — вчерашний день и вполне понятное заблуждение молодого человека. Теперь у тебя есть время одуматься и отойти от схватки. Мои надежды связаны именно с тобой, с тем, как ты, возмужав, сможешь занять мое место в системе этого мира. Время рассказать тебе обо всем приближается. Полагаю, что тогда ты поймешь меня, и то, что откроется тебе, не испугает и не удивит тебя настолько, чтобы ты спрятался в скорлупу неучастия. Каждый из нас должен нести свой крест, и я в будущем не предлагаю тебе легкой и спокойной жизни, но вижу в ней высокое предначертание.
Если до зимы ты не сможешь вновь посетить меня, то я сам приеду к тебе в Москву.
Помни о том, что ты должен сделать в случае, если я внезапно умру или исчезну.
Обойдись бережно с Глашей. Ей по твоей вине было несладко. Она болела. Но она тебя не осуждает и любит.
Искренне твой, С.С.
Письмо было напечатано на пишущей машинке, что было непривычно для письма — на машинках печатали лишь документы, и то не всегда. Но отчим старался использовать удобства прогресса.
— Ты его потом еще прочти, — сказала Глаша. — Я думаю, что такое письмо сразу не поймешь.
— Ты его читала?
— Нет, но знаю, о чем оно. Сергей Серафимович мыслей от меня не скрывает. Иди спать, тебе завтра трудная дорога.
Глаша была права — письмо, хоть разумность его Андрей во многом признавал, было настолько абстрактнее его собственных мыслей и переживаний, что и думать о грозных предсказаниях отчима не хотелось.
— Я поднимусь наверх, — сказал Андрей. — Погляжу на Ялту.
— Пошли, — сказала Глаша. — Только ветер там большой.
Они поднялись на второй этаж. Дверь в кабинет была заперта. Они вышли на веранду. Ветер дул упруго и постоянно. Море скрылось во мгле, но на небе сквозь редкие несущиеся тучи проглядывали звезды.
— Из Турции ветер, — сказала Глаша. — А может, из Египта.
Здесь разговаривать о вещах сокровенных было легче, чем на кухне. В темноте лицо Глаши было едва различимо, только когда она говорила, блестели белки глаз и зубы.
— Тебе из-за меня нехорошо было, — сказал Андрей, — прости.
— Глупый ты, — сказала Глаша. — Я на тебя не сердилась.
— А Сергей Серафимович?
— Я тебе писала. Он огорчен был. Любит он меня.
— Как?
— Как муж любит. И я его люблю. Если бы это у меня с другим было, он, может быть, рассердился, но не стал бы так огорчаться. Ведь в его глазах я тебе как мачеха. В этом грех.
— Какая ты мне мачеха…
— Я тоже понимаю.
Андрей приблизился к Глаше, протянул руку, но Глаша почувствовала, что Андрей словно выполняет давно взятый на себя долг. Она отошла на шаг и сказала:
— Как будто сто лет прошло.
Потом, как бы утешая Андрея, она поцеловала его в щеку, так, что получился не поцелуй, а знак душевного расположения.
— Лидочка твоя красивая, — сказала Глаша. — И добрая, по-моему. Ты бы видел, как она меня уговаривала ее не выдавать, что она это варенье нам принесла. Но я думаю, что она пришла из любопытства. Ей хотелось на нас поглядеть.
— А мне об этом не написала.
— И понятно. Пошли, что ли, вниз?
— Сейчас. А ты давно отчима знаешь?
— Куда давнее, чем ты думаешь.
— Я еще не родился?
— В этот дом я пришла, когда твоя мама умерла. Сергей Серафимович все делал для нее: и лучших врачей привозил, и лекарства из Швейцарии. Он меня раньше знал… но пока твоя мама в этом доме жила, я здесь не жила.
— А кто мой отец?
— Сергея Серафимовича товарищ.
— Но почему имя сказать нельзя? Ведь в наши дни не бывает тайных рождений и загадок. Мы же не в Средневековье живем.
— Захочет Сергей Серафимович, расскажет. Потом, когда ты будешь к этому готов.
— Но почему я не готов? Мне девятнадцать лет, я, может быть, завтра уйду в армию и погибну. Почему за меня кто-то может решать?
— А за человека всю жизнь решают. Те, кто сильнее, или те, кто больше знает. Это от возраста не зависит. За меня тоже решали.
Глаша первой пошла с веранды. Андрей спросил ее вслед:
— Сергей Серафимович писал, что ты болела. Что с тобой случилось?
Глаша уже начала спускаться по лестнице.
— Выключи верхний свет, — сказала она.
Андрей повернул выключатель, и свет на верхней площадке погас.
— Ты не ответила, — сказал он. — Может, я могу помочь. Из Москвы. Лекарство прислать.
— Нет, — сказала Глаша, остановившись внизу лестницы. — Не поможешь ты, мой дорогой. У меня болезни женские.
— Но и от них бывают лекарства. В конце концов, почему ты должна меня стесняться?
— А правда, чего? — сказала Глаша с неожиданным раздражением. Они уже спустились вниз. Она обернулась к Андрею: — Выкидыш у меня был, вот что. Еле отходили. Зимой. Нельзя мне рожать, оказывается.
Андрей ничего не ответил. Он не сразу понял.
Глаша пошла на кухню. Он видел ее в открытую дверь. Вот она подняла самовар и понесла его в угол, на железный лист.
— Ты хочешь сказать… — Андрею не хотелось верить. Но нельзя было уйти, не узнав.
— Ничего я не хочу сказать, Андрюша, иди спать. От тебя был выкидыш. А я думала — ребеночек родится. Так что у Сергея Серафимовича были основания на меня сердиться. Но если бы не его забота, я бы померла.
— Но почему ты ничего не сказала? Мне! Почему не написала?
— Чтобы ты возненавидел меня? Старая баба, соблазнила мальчика, и теперь он, совестливый, должен свою любовь к молоденькой забыть? Даже если бы был ребеночек, я бы тебе в жизнь не сказала. Да нельзя, значит, мне…
— Прости, Глаша.
— Иди спать, дурачок. Мне еще надо прибрать. Иди-иди, не приближайся даже, и поцелуев мне твоих не надо — сам понимаешь, что все сгинуло.
Андрей прошел к себе в комнату, и у него было ощущение конца света — завершения прошлой жизни. Он лежал на узкой кровати, смотрел, как бьются под ветром занавески открытого окна, и понимал, что больше никогда ему не лежать на этой кровати и не слышать поутру, как Глаша созывает кур, как сухим голосом отдает ей хозяйственные распоряжения отчим, потом берет велосипед и уезжает куда-то по делам… «Она страдала и была близка к смерти из-за меня! И я ничего не почувствовал, не понял, только избегал ее. Она благородная женщина, а я мелкий мерзавец!»
Глаша вошла без стука. Она была одета. Подошла к его кровати, наклонилась и поцеловала — в губы, горячо и долго. Потом с силой рванулась из его рук, выпрямилась, нервно коротко засмеялась и сказала:
— Спокойной ночи, коханый мой.
И ушла, захлопнув за собой дверь.
Андрей думал — встать ли, пойти ли к ней в комнату. Но понимал, что не нужно, даже если Глаша ждет его прихода.
Утром Глаша разбудила Андрея и сказала, что от Ялты до Симферополя теперь ходит авто. Только надо успеть подойти к девяти к «Франции».
Ветер не улегся, но был спокойнее, Глаша дала ему на дорогу слив и абрикосов. Они обсуждали, когда он приедет, — все зависит от того, останется ли он в университете.
— Оставайся, — сказала Глаша уверенно, — нельзя тебя убить. На войне первым делом таких, как ты, мальчиков убивают. За что тебе в таких же германских мальчиков стрелять? Они тебя не обижали.
— Ты не понимаешь, — сказал Андрей. — Речь идет о судьбе демократии.
— И европейского славянства, и защиты бельгийских деревень от гуннских насильников. Ты чего мне газеты пересказываешь?
Глаша проводила его до калитки. Филька сидел рядом, смотрел, склонив набок голову.
Когда Андрей вернулся в Москву, его ждало письмо от Лидочки, отправленное из Батума, в котором она рассказывала ему о перипетиях их с Маргаритой путешествия. В нем она призналась: «Рита все знает о нас. Но она моя лучшая подруга, и я ей все рассказываю. Не сердись». Лидочка писала, что ждет, как Андрей ее встретит в Москве. Ждет с нетерпением. Ждет не дождется — ведь она никогда не была в Москве.
Но осенью она в Москву не приехала.
Глава 4
Октябрь 1914 г
Осенью Лидочка в Москву не приехала. Как следовало из печального письма, ее невольная одиссея с Потаповыми закончилась только двадцать третьего августа, и возвращались они не на «Левиафане», а совсем на другом пароходе, и не почетными гостями, а обыкновенными пассажирами второго класса. Пароход шел с потушенными огнями, потому что опасались прорыва через Босфор немецких крейсеров. Родители сильно переволновались, и, когда на семейном совете решалось, ехать ли Лидочке в Москву, чтобы поспеть к началу занятий, мать взбунтовалась. Решено было, как сообщила в письме Лидочка, отложить ее отъезд в Москву на год, пока не кончится война. Тем более что год даром не пропадет: Лидочка будет заниматься рисунком и акварелью и поступит пока сестрой милосердия в военный госпиталь, куда привозят офицеров, раненных в Галиции.
Андрей, пока суд да дело, вернулся в университет и даже пошел на лекцию профессора Авдеева, но тот Андрея игнорировал, полагая его предателем и дезертиром. На лекции была и Тилли, но она не подошла к Андрею.
В университетском госпитале дел было меньше, потому что теперь там заправляли врачи и медсестры, все кровати были расставлены и котлы для кухни установлены.
Андрей пребывал в сомнениях, и причиной их было не столько письмо Сергея Серафимовича, которое каждый день получало все новые подтверждения с полей сражений в Восточной Пруссии и Бельгии. Война обещала затянуться, но все же Андрей разделял надежды Иваницких, что она закончится к следующему лету, хотя бы потому, что зимой русские войска, привыкшие к холоду, смогут нанести германцам и австрийцам решительное поражение. Пока что поражения терпел генерал Самсонов и неожиданно взошла звезда престарелого Людендорфа. В Москве распространялись слухи о предательстве немцев, засевших в высших сферах, причем называли имена Ренненкампфа, который столь неудачно распорядился в Восточной Пруссии, погубив войска в Мазурских болотах, да и самой императрицы Александры Федоровны, на которой народная молва сфокусировала нелюбовь к правительству и царскому дому. Получалось, что слабовольный царь, в сущности, неплохой человек, но попал под влияние жены. В России вообще не терпят царских жен, которые занимаются политикой. В начале сентября, когда Андрей получил печальное письмо от Лидочки, как раз пришли вести о масштабах русского поражения в Восточной Пруссии, и газеты пытались уравновесить эти известия громкими сообщениями с галицийского фронта. В «Ниве» печатались фотографии наших отважных воинов на берегу реки Сан.
Андрей не оставлял мысли записаться в армию вольноопределяющимся, но не потому, что хотел бесстрашно пролить кровь на полях сражений. Ему неловко было оставаться молодым здоровым студентом, когда молодым и здоровым было положено находиться на фронте. В университете это было очевидно — чуть ли не половина студентов покинула Москву. Независимо от того, идти ли на фронт по убеждению или из чувства принадлежности к народу, занятия историей в университете потеряли всякий смысл. «Если я хочу стать историком, — рассуждал Андрей, — то не могу собирать факты из вторых рук. Я должен быть там, где происходят основные события». Может, поэтому Андрей был отрицательно настроен к выступлениям большевиков, когда те объявляли войну империалистической и призывали в ней не участвовать. Разумеется, война была империалистической, разумеется, гнить в окопах — не самое лучшее занятие для молодого поколения, но все же, когда воюет и страдает весь народ, говорить о ненужности войны вредно и даже подло. Потому в студенческих спорах Андрей занимал оборонческую позицию, но от партийных интересов был далек.
Но судьба, как бы узнав о его намерениях, за день до того, как Андрей подал прошение об отпуске из университета, наградила его страшными болями в животе. Два дня Андрей терпел, на третий ему стало так плохо, что квартирная хозяйка вызвала врача. Врач тут же определил аппендицит, причем в опасной, запущенной стадии. Андрея отвезли на «Скорой помощи» в больницу и сделали ему операцию. Аппендицит был гнойным, он прорвался как раз во время операции, и началось было заражение. Только через две недели Андрей оправился настолько, что смог написать письма в Симферополь и Ялту, в которых сообщал про аппендицит в тонах юмористических, как о пустяковом недомогании.
Но он провел в больнице еще неделю, прежде чем вернулся на квартиру. Сентябрь подошел к концу, к удивлению Андрея, деревья стояли желтые, в Москве прибавилось военных и больше стало легкораненых. Наступление в Галиции ничем не закончилось, война стала обыкновенной, вечером к нему зашел приятель и сказал, что Никифорова с третьего курса убили на Дунайце, а еще один студент с их курса застрелился, потому что вернулся слепым и невеста от него отказалась.
Врач посоветовал Андрею взять небольшой отпуск для поправки здоровья и, узнав, что родственники Андрея живут в Крыму, сказал, что это лучший выход из положения.
Утром 6 октября Андрей послал телеграмму тете Мане и Лидочке, потом, подумав, еще одну — отчиму. И в тот же день после обеда получил телеграмму от тети Мани.
Телеграмма была неожиданной не только потому, что он не ждал ответа, но потому, что такое может случиться лишь с другими, о таком можно прочесть в газете или в романе. Но с нами такого не бывает.
Телеграмма гласила:
Приезжай немедленно. Ялте несчастье Сергеем Глашей.
Мария.
Тетя Маня встречала Андрея на вокзале. Видно, она начала плакать задолго до прихода поезда, нос ее был малиновым, глаза сузились за распухшими веками.
— Какое счастье, что ты достал билет, — сказала она, увидев Андрея.
— Тетя. — Андрей поставил чемодан, и тетя прижалась к его груди. — Тетя Маня, скажи, что случилось? Я же не знаю.
— Я тебе послала телеграмму. Разве ты не получил?
— В телеграмме было сказано только про несчастье. Я не знаю — какое!
— Глаша в ужасном состоянии.
— Глаша? Что с ней? А Сергей Серафимович?
— Я не представляю. Господин Вревский думает, что они утащили его с собой.
— Кто? Зачем?
— Чтобы пыта-а-ать…
Тетя начала неудержимо рыдать, и Андрею было неловко, что все на них смотрят, и он постарался увести тетю с перрона. Пришлось нести чемодан и одновременно поддерживать Марию Павловну.
Только дома, отпоив тетю валерьянкой и положив ей на лоб холодное полотенце, Андрей смог добиться связного рассказа.
Случилось все четвертого октября. Ночью.
Ночь выдалась темная, ненастная, с дождем. Никто ничего не слышал и не видел, а следы, если и были, смыло. На рассвете татарин, который разносит хворост для растопки, увидел в переулке Фильку, пса Берестовых. Пес был ранен и истек кровью. Он смог выползти на улицу, словно хотел позвать на помощь. Татарин побежал к дому Берестовых, стал кричать, но никто не откликнулся. Татарин не посмел зайти внутрь, но на его крики сбежались соседи, и вскоре пришел околоточный. В доме нашли только Глашу, она была страшно избита и изранена. Видно, грабители думали, что она умерла, и потому оставили ее. Она так и не пришла в себя. Положение ее настолько серьезно, что врачи думают, что она недолго протянет.
Рассказ тети Мани прерывался слезами, Андрей ходил по комнате, курил папиросу за папиросой, а тетя была так расстроена, что даже не заметила, что племянник начал курить.
Сергея Серафимовича не нашли. В кабинете его были следы отчаянной борьбы, весь ковер в крови, отчим сопротивлялся: отыскали вырванную с мясом пуговицу от его пиджака, мебель перевернута, в одном месте ковер отогнут и вскрыты половицы.
— Половицы? — тупо повторил Андрей.
— Да, следователь считает, что у Сергея Серафимовича был тайник. Там такая ниша, в ней могла уместиться шкатулка. Следователь считает, что грабители пытали Сергея Серафимовича, чтобы он признался, где хранит ценности.
Андрей более не слышал тетю. Он уже знал, что рассказ ее — чистая правда, потому что он, Андрей, видел этот тайник и даже знал, что в шкатулке хранились драгоценности. Все это было правдой, глупой, нелепой — так не бывает, — но правдой.
Больше тетя ничего рассказать толком не могла. Дядю ищут в окрестностях Ялты, полицейские прочесали лес за верхней дорогой, но ничего не нашли. Господин следователь Вревский уверен, что преступление — дело рук дезертиров. В районе Ялты замечена банда дезертиров, которые уклоняются от мобилизации и уже дали знать о себе дерзкими нападениями.
Сама Мария Павловна два дня провела в Ялте, но не в доме отчима — «Боже меня упаси», — а в пансионате. Но далее ждать она не могла — в Симферополе, в госпитале, ее ждали неотложные дела.
Было еще светло, и Андрей сказал, что он сразу едет в Ялту. Тетя велела подождать. Андрей решил было, что она боится остаться одна, и потому хотел пойти к Беккерам и попросить Нину побыть с тетей, но тетя ждала совсем иного. Вскоре дверь распахнулась, и на пороге появился возмужавший усатый Ахмет. Ничего не говоря, он подошел к Андрею и обнял его.
Потом сказал:
— Я позвал Нину Беккер, она побудет с вами. Вы, Мария Павловна, не беспокойтесь. А мы поехали.
— С Богом, — сказала тетя, которой, оказывается, Ахмет еще утром обещал отвезти Андрея в Ялту, если сможет освободиться.
У калитки стоял новый автомобиль, длинный, мощный, черный, как сама ночь, и сверкающий металлическими деталями, как южное небо звездами.
— Это что такое? — спросил Андрей.
— Моя новая пролетка. Больше пока ничего не могу добавить, — сказал Ахмет. — Поехали. С ветерком.
Автомобиль сразу взял с места. Ахмет вел его уверенно и лихо, стараясь показать Андрею, чего он достиг в новом умении.
— Что в Ялте? А то тетя ничего толком не рассказала, — спросил Андрей.
Ахмет повторил тетин рассказ. Ничего больше он не знал. Но в его изложении не было тетиной надежды на благополучный исход, и потому все было проще и трагичней.
— Ты тоже думаешь, что это дело рук дезертиров?
— Слушай, время изменилось, понимаешь? Война идет, жизнь стала копейка. Только это не дезертиры. Я про них спрашивал. Они ни при чем.
— Откуда ты знаешь?
— Там мой брат двоюродный. Они не убийцы. Они за белого царя воевать не хотят.
— Но их поймают и могут расстрелять. Странно…
— А ты кто? — спросил Ахмет. — Ты не дезертир? Твои товарищи проливают кровь во славу империи. А ты сидишь в Москве и кушаешь пирожные. Не морщись, я тоже дезертир. Мой папа большие деньги дал, чтобы от призыва меня освободить. Плоскостопие у меня нашлось, представляешь, как смешно?
— Но нельзя же вечно сидеть в горах.
— А кто говорит — вечно? Эти люди — наша будущая армия.
— Какая армия?
— Армия моего народа, татарская армия Крыма. Ваш Суворов Крым у нас отнял, а вы думаете, что он всегда русский был.
— Ну это было тысячу лет назад.
— Раньше мы тоже так думали. Если хочешь, я тебя на собрание национальной партии свожу, только ты ничего не поймешь, там по-татарски говорят. Ты мне скажи — Россия за что борется? За демократию и свободу, да?
— Формально да.
— Вот именно, что формально, все-таки ты не дурак. Не зря я тебя люблю. А на самом деле она хочет других славян освобождать, тех, которых австрийцы обижают. А может быть, она лучше своих освободит? Поляков, финнов, татар, чухонцев, а?
Но сами слова Ахмета звучали странно. Подобные речи Андрей уже слышал в Москве, хотя собственного отношения к ним у Андрея не было. Империя казалась настолько незыблемой, хоть и крайне несовершенной, что прекращение ее выходило за пределы сознания. Это было все равно что отменить христианство — Андрей мог читать о зверствах инквизиции, о воровстве и прелюбодеяниях попов, мог месяцами не заглядывать в церковь, но она оставалась естественной частью жизни, как воздух и море.
— Ну освободитесь, — сказал Андрей. — А дальше что? Сделаете свое правительство, своих полицейских, а все равно Крым живет Россией. Кому вы будете продавать виноград и сдавать квартиры?
— Можно подумать, что это ты извозчик, а я студент. Пускай все приезжают. И русские, и турки, и англичане. Мы всем продадим виноград и еще таких понастроим отелей, что из Америки приедут.
— У них есть Гавайские острова.
— Если тебе нравится приезжать, значит, им тоже понравится.
— А что вы сделаете со мной, с тетей Маней, с Беккерами?
— Кто хочет, пускай уезжает, кто хочет — пускай живет. Тетя Маня останется, мы ее уважаем.
— Глупо это все и наивно, — сказал Андрей. — Хватит двух дивизий, чтобы всю вашу независимость растоптать. Придут казачки, ударит из крупного калибра «Императрица Екатерина», вот и кончилась ваша независимость. Будет только лишняя кровь и жертвы.
— Любопытно бы тебя послушать Вашингтону.
— Кому?
— Вашингтону. Или лорду Байрону. Им бы сказать — у Англии есть линкоры, а у Турции янычары. Пускай греки и американцы живут как жили, иначе будет кровь и жертвы.
— В то время не было линкоров.
— Вот видишь, когда ответить нечего, придираются к мелочам.
— Но вас же мало! Среди татар почти нет политиков, адвокатов, ученых, наконец! Кто создаст цивилизованное государство?
— А зачем нам цивилизованное государство? У тебя и у меня совсем разное понимание цивилизации. Для меня мечеть — цивилизация, а для тебя церковь. Для тебя пристав — цивилизация и казаки — цивилизация, а для меня дворец в Бахчисарае и Коран.
— Ты тоже споришь не по существу. Оттого, что вы разрушите церкви, вы не станете умнее.
— А может, и не разрушим. В Турции есть церкви.
— А погромы армян — это цивилизация?
— А погромы евреев — это цивилизация?
Они почти кричали, а мотор авто рычал спокойно, ровно, и, когда наступила неловкая пауза, Андрей подумал, что за рулем сложной современной машины, которую он сам водить не умеет, сидит татарчонок, с которым они еще недавно дрались в гимназическом саду и который, может быть, прав, потому что если империя не выдержит этой войны и рухнет, то на развалинах ее, как на развалинах Римской империи, возникнут другие государства, большие и маленькие, которые почитают себя вправе быть независимыми и добьются этого права, а какое-то из них через пятьсот лет создаст новую, свою, скажем мордовскую, империю. Какое право у него, Берестова, волей судьбы жителя этой татарской страны, претендовать на владение этими темными горами, этими золотыми ноябрьскими лесами, этим крутым берегом? Но такое понимание и примирение с историей вызывало в самом же желание спорить и сопротивляться будущему, которое пугало, потому что никак не исходило из установленного и упорядоченного прошлого.
— У нас выгодное положение, — сказал Ахмет. Он копировал кого-то, своего наставника, вождя, который вложил в него эти слова и мысли. — Если перекопать перешеек за Джанкоем и восстановить крепость у Арабатской стрелки, Россия может кинуть против нас несколько дивизий, но они в Крым не прорвутся. Финнам никогда не добиться независимости — у них с Россией слишком большая общая граница — маленькому народу такую длинную границу не защитить. А мы, татары, всегда этим пользовались. Помнишь, как царица София посылала к нам своего любовника князя Гагарина?
— Голицына.
— Вот именно. Войско, обессиленное в степях, наталкивалось на Перекоп. Вот и конец похода.
— У вас все рассчитано.
— Мы думаем, — сказал Ахмет.
— А каковы планы Турции? — спросил Андрей.
— Турки — наши старшие братья, — ответил Ахмет. — Скоро Турция вступит в войну на стороне Германии. У меня точные сведения, прямо из Стамбула. И мы можем рассчитывать на помощь.
— Как же ты себе это представляешь? Десант на турецких броненосцах? Ты забыл о Черноморском флоте, который потопит все турецкие броненосцы за полчаса. Я думаю, для турок будет страшной глупостью вступать в войну. С их армией и флотом они тут же потеряют Карс и Трапезунд. И наши войска наконец-то снова прибьют щит к вратам Царьграда.
— Тебе с такими мыслями надо сидеть в окопах, — сказал Ахмет. Он рванул машину вперед, и она отчаянно завизжала шинами по гравию, чтобы не слететь под откос.
— Осторожнее, — сказал Андрей. — Татарская революция потеряет своего солдата!
— Турция не одна. За Турцией Германия. Ты об этом подумал?
— Честно говоря, мне сейчас обо всем об этом неинтересно думать. Российская империя, татарская империя, Чингисхан. А через два-три часа я увижу дом отчима. Мне даже страшно, честное слово.
Ахмет ответил не сразу. Дорога стала круче, и в наступившей темноте Ахмету приходилось внимательно смотреть вперед, чтобы не проскочить поворот.
— Ты, наверное, все-таки подозреваешь, что это сделали наши люди? — Ахмет все еще по инерции продолжал спор. — Чтобы купить бомбы…
— И кидать их в губернаторов, — докончил Андрей.
— Не в наших принципах заниматься грабежами. Наша партия серьезная. Если она станет якшаться с бандитами, мы потеряем моральное право говорить от имени народа.
— Чепуха, — сказал Андрей. — Все революционеры, как бы они ни вели себя, оправдывают свои дела любовью к народу.
— Русские — да! Татары — нет!
Стало холодно. Ветровое стекло не защищало от жгучего ветра, который бил сбоку, стараясь столкнуть машину с дороги. Андрей не взял впопыхах шинели — в Москве было еще тепло.
— Возьми на заднем сиденье кошму, — сказал Ахмет. — Накройся.
— А ты?
— У меня кожаная куртка, ее не продувает.
Андрей накрылся кошмой. Войлок, как щит, защищал от ветра. Сразу стало тепло.
— Я все равно ничего не понимаю, — сказал Андрей. — Мой отчим никому не мешал, жил небогато. Если у него и были деньги, то никому он их не показывал.
— Те, кто грабил, знали что искать.
— А может, они только подозревали? Может, они его пытали, чтобы он признался? И он признался.
— Ты сам себе противоречишь, русский Иван. Совсем голова слабенький стал. Как так — ни с того ни с сего — люди приходят в бедный дом и думают, а не попытать ли нам этого ботаника-мотаника? Может, у него припрятана шкатулка… Интересно, что в ней было?
— Ценности, — сказал Андрей.
— Это я и без тебя знаю. А ты уверен? Может быть, там были какие-то секретные бумаги? Может быть, твой отчим был шпион?
— Этого еще не хватало!
— Слушай, Андрюша, я тебя давно знаю, ты меня давно знаешь. Ты ведь не молчальник — у тебя язык нараспашку. Тебе даже тайны доверять не стоит… Не сердись, я не ругаюсь, я константирую.
— Констатирую.
— Брось меня учить, поздно. Я уже образованней тебя. Я чуть в Сорбонну не уехал. А ведь ты о своем отчиме ничего не знаешь. Что он за человек? Ты даже не знаешь, откуда он родом, какая у него фамилия настоящая.
— Значит, и у меня ненастоящая?
— Конечно, ненастоящая. Но ты не хозяин жизни, ты жертва обстоятельств. А твой отчим себе на уме. Может, он большая фигура, может, он немецкий резидент в Крыму. Не мигай, пока ты мне не докажешь, что это не так, я буду прав. Скажи, куда твой отчим делся? Ну пришли грабители, пришли бандиты или кто хочешь. Откуда-то они догадались, что у отчима есть деньги? Может, побили его, а то и прикончили. Но зачем увозить его с собой? Зачем и кому ограбленный человек нужен? Не нужен никому ограбленный человек. А вот шпион, который что-то знает, он нужен. Его еще пытать и пытать…
— Кончай, Ахмет, пожалуйста.
— Неприятно тебе слушать? Конечно, неприятно. Все-таки не чужой человек. А у тебя воображение развито — картину представляешь. Но возразить мне не можешь.
— Ты думаешь, что он жив?
— Нет, не думаю. А если жив, то уже в Турции. Я, конечно, что смогу, узнаю — у меня в Ялте свои люди. Но не надеюсь.
— Может, Глаша знает?
— Если она знает, ничего не скажет, — возразил Ахмет. — Тут большая политика.
Переехали перевал. Слева мелькнули огоньки ресторанчика. Но останавливаться не стали. Мощный мотор работал как часы. В Алуште остановились, и Ахмет наполнил бензином бак из запасной, прикрепленной сзади плоской фляги, в которую вмещалось, по словам Ахмета, пять галлонов бензина.
Дальше ехали быстро, по верхней дороге. Андрею было жалко Глашу. Глаша должна жить, он сделает все, чтобы она осталась жива. Потом мысли перекинулись на встречу с Лидочкой. Он не хотел бы, конечно, чтобы встреча произошла именно в такой день… Последние письма Лиды были коротки и вежливы.
В деревне, верстах в двадцати за Алуштой, Ахмет остановил машину и, сказав, что вернется через десять минут, ушел. Возвратился он через час — Андрей успел задремать. Очнулся от тихих голосов. Говорили по-татарски. Невидимый в темноте человек помог положить в машину парусиновый мешок, в котором было что-то железное. Когда поехали дальше, Андрей спросил у Ахмета:
— Ничего нового не узнал?
— Я и не спрашивал. Здесь они ничего не знают.
— А в Крыму турецкие агенты есть?
— В Крыму все есть.
— Не бойся. Я тебя не выдам.
— Разве камень с горы можно остановить? А камни уже посыпались. Только ты не слышишь.
— Мне в самом деле политика неинтересна.
— Дурак, она не будет тебя спрашивать, что тебе интересно. Ты же песчинка в лавине.
— Постараюсь отойти в сторону.
— Как же ты отойдешь, если ты ее не слышишь? — засмеялся Ахмет.
Когда подъезжали к Ялте, Андрей спохватился, что Иваницких он не предупредил, хотя можно было телеграфировать из Симферополя. Сейчас, в одиннадцатом часу ночи, появляться без предупреждения неприлично. А в доме отчима никого нет — да и как ночевать в доме, где произошло страшное преступление?
— Ты сам где будешь ночевать? — спросил Андрей.
— У своего человека. Конечно, ты можешь там переночевать, только тебе не очень удобно будет.
— Наверное, я остановлюсь в гостинице, — сказал Андрей.
— Во «Франции»? Или в «Мариано»?
— В «России».
— Там дорого. Там великие люди жили.
— Она наверху — оттуда недалеко до дома отчима…
— А до дома, где твоя Лидочка живет, — два шага?
— Ты провидец, Ахмет!
— Тогда у меня есть предложение — посмотрим на дом? Мне тоже интересно.
— Спасибо, мне неловко было тебя просить об этом.
— Ехать на моей машине от самого Симферополя ему ловко, а до дома доехать неловко.
Дом Берестова был неосвещен. Андрей увидел его издали, от поворота, когда машина медленно взбиралась в гору. Старинным зловещим ночным замком он поднимался над откосом. Странное чувство полной нереальности владело Андреем. Он не имел отношения к этому дому и тому страшному, что было с ним связано. Он был не более чем читателем этой повести, понимающим, что все эти ужасы созданы воображением романиста. И отчим его, странная фигура на велосипеде с трубкой, и Глаша, и Филька, что выбегает к калитке, чтобы встретить гостя, — все они — давно читанная книга.
Андрей потер виски, чтобы отделаться от наваждения.
Ахмет затормозил, не доезжая до калитки. Свет фар осветил синий мундир и оранжевый галун на синем погоне. Полицейский поднял руку, защищаясь от света фар, и шагнул вперед, положив пальцы другой руки на эфес шашки.
— Кто такие? — спросил он громко.
Андрей вышел из машины и подошел к полицейскому.
— Моя фамилия Берестов, — сказал он. — Я сын господина Берестова.
— Завтра, — сказал полицейский. — Завтра с утра будет здесь следователь, господин Вревский. А сейчас прохода нет.
— Простите, — сказал Андрей, — а вы не знаете, в какой больнице находится жившая здесь женщина Глафира?
— Не могу знать, — сказал полицейский. — Завтра приходите.
— В больницу поздно, — сказал Ахмет.
Когда машина, развернувшись, поехала вниз, Ахмет сказал:
— Мои опасения подтверждаются. Они оставили пост.
— А чего в этом такого?
— Где и когда ты слышал, чтобы у ограбленного дома, где никто не живет, через четыре дня после событий стоял ночью полицейский? Власти тоже думают, что это не простое ограбление.
Ахмет остановил машину возле «России». Широкие веранды были темными. Портье спал, положив голову на стойку. Места в гостинице были — сколько угодно. Отдавая Андрею ключ, портье сказал, что впору закрывать отель. Людям не до Ялты. А раньше в «Россию» записывались заранее. Даже Горький и Бунин.
Положив чемодан, Андрей вышел на веранду. Набережная была обозначена редкими фонарями. Между ними зияли темные ночные пространства. Это была совсем не та Ялта, что весело бурлила совсем недавно. Даже в октябре жизнь в ней не стихала до полуночи.
Невидимые волны накатывались на камни и мерно ухали, потом шуршали, уползая назад. Спать совсем не хотелось. В маленькой комнате было слишком тихо, и потому воображение начало строить картины — кричащая Глаша, Сергей Серафимович, лежащий на ковре в луже крови… Откуда они узнали о тайнике под ковром? Кому Сергей Серафимович мог рассказать о нем, кроме Андрея? О нем знала Глаша, но Глаша вне подозрений. Зачем отчиму рассказывать о тайнике другим людям?.. Шпион? Немецкий шпион? Засланный в Ялту много лет назад? И ничем не выдавший себя за эти годы? Ну даже если это так, то зачем было его грабить?
Больше ходить по комнате из угла в угол не было сил. Андрей спустился вниз. Портье снова спал, на этот раз свернувшись калачиком на скамейке у входа. Андрей прошел мимо, не разбудив его.
Он поглядел направо, туда, где темнела, закрывая половину неба, крона старого платана. Платан — свидетель… Андрей свернул наверх, к армянскому храму. Улица была совсем не освещена, ни один фонарь не горел, и только луна, прорываясь порой сквозь облака, рассеивала темень.
Не доходя до переулка, Андрей услышал сзади шаги. Он замер. Может, в иной день он и не придал бы этому звуку значения — мало ли кто возвращается поздно к себе домой? Но тут звук сразу показался зловещим. Андрей внутренне подобрался. Пошел быстрее. Шаги, заглушаемые собственными шагами и стуком забившегося сердца, тоже участились.
Андрей остановился, шаги простучали — раз… два… три… И видно, преследователь, услыша, что Андрей встал, тоже замер.
Господи, этого еще не хватало! Андрей полез в карман — в кармане лежали лишь ключи от московской квартиры и немного мелочи — это не оружие.
Что делать? Близок поворот в Загородную, где живут Иваницкие. Свернуть туда, добежать до их дома и позвать на помощь? Нет, это слишком стыдно. Может, за ним бредет подгулявший местный обыватель, который не менее Андрея боится грабителей. Андрей пошел дальше, все ускоряя шаги. Преследователь спешил следом.
И тогда Андрей испугался и побежал вниз, к набережной, где все же можно встретить людей. Его гнал безотчетный, инстинктивный ужас.
Опомнился Андрей уже у платана. Неподалеку горел фонарь. По набережной шагали в обнимку три матроса, медленно двигалась влюбленная парочка. Вот влюбленные остановились, обернулись к морю и, приблизившись друг к дружке, начали страстно целоваться. Прижавшись спиной к стволу платана, Андрей обернулся — дорожка, по которой он бежал, была пуста. Андрей обогнул ствол так, чтобы его не было видно сверху. Он старался дышать медленно и глубоко. Кружилась голова. Он считал до ста, потом до двухсот.
И тут сквозь шум волн он услышал шаги — они были совсем близко. Ранее он их не слышал из-за шума прибоя.
Метрах в двадцати от него медленно прошел человек. Он был одет в темный пиджак и татарские штаны, заправленные в чоботы. На голове было низко надвинутое кепи. Человек миновал платан, не посмотрев в ту сторону, и Андрей, касаясь спиной ствола, передвинулся от него так, чтобы не попасть на глаза, если тот обернется.
Он не мог разобрать лица преследователя, но по фигуре и движениям понимал, что тот молод.
Не обнаружив своей жертвы, преследователь вышел на набережную, посмотрел в обе стороны вдоль нее и быстро пошел в сторону гостиницы.
Андрей уже был готов и сам вернуться в «Россию», но не хотел, чтобы преследователь увидел его даже в относительной безопасности набережной. И подумал, что теперь он может спокойно дойти до дома Иваницких и мысленно пожелать спокойной ночи Лидочке.
Андрей сорвал с клумбы три астры и быстро поднялся до дома Иваницких. Несколько раз он останавливался и затаивал дыхание, с замиранием сердца ожидая снова услышать шаги. Но никто его не преследовал.
Свет в доме не горел. Окно в комнату Лидочки было закрыто. Андрей стоял на улице, глядел наверх и мысленно повторял: «Спокойной ночи, я здесь, Лидочка».
Было так тихо, что Андрей услышал, как в соседнем доме кто-то кашлянул во сне. Андрей подошел к двери в дом и потянул ее. Дверь скрипнула. Андрей замер. Дальше он тянул ее на себя сантиметр за сантиметром, и, когда образовалась щель, достаточная, чтобы проскользнуть внутрь, он вошел и осторожно прикрыл дверь за собой. Все же она стукнула, как стучит о стол стакан, который ты хочешь поставить беззвучно. Ощупью ведя перед собой носком ботинка, Андрей подошел к лестнице. Но как только ступил на первую ступеньку, она предательски заскрипела. Андрей понял, что, пока дойдет до второго этажа, перебудит весь дом. Ничего не оставалось, как положить астры на нижнюю ступеньку.
Так же осторожно он покинул дом и снова вышел в переулок, но не успел отойти на несколько шагов, как услышал: окно в комнате Лиды открылось. Шевельнулась занавеска.
— Андрей? — услышал он шепот Лиды. — Это ты?
Андрей рванулся было назад, но тут же возник второй голос — Евдокии Матвеевны. Он был пугающе громким:
— Что случилось, Лида? Ты почему встала?
Хлопнуло соседнее окно. Андрей метнулся к забору и прижался к нему, чтобы его не было видно из окна.
— Душно, мама, — откликнулась Лида.
— Ты с ума сошла! На улице почти мороз.
Спиной касаясь забора, Андрей спустился по переулку и пошел к гостинице. Изнутри было тепло и радостно. Она почувствовала, что он здесь!
Утром Андрей спустился вниз. В небольшом зале ресторана было пусто, пожилой усач в мундире земгусара ел простоквашу. Военный летчик, штабс-капитан, левая рука на черной перевязи, сидел, насупившись, над рюмкой коньяка. Андрей попросил кофе и булочку.
В ресторан вошел Вревский.
Андрей сразу догадался, что этот человек — следователь Вревский. Не по мундиру и петлицам, а по ищущему взгляду, которым он обшарил зал. По тому, как взгляд его удовлетворенно остановился на Андрее и замер, изучая.
Вревский был совсем не похож на следователя. У него было простонародное топорное лицо, а когда он снял фуражку, под ней обнаружился светлый, соломенный бобрик жестких волос.
— Разрешите, господин Берестов, — сказал Вревский, подходя к столу, и, не ожидая разрешения, уселся. — Моя фамилия Вревский, Александр Ионович Вревский. Я приглашен для расследования дела вашего отчима.
— Очень приятно, — сказал Андрей, который за минуту до того размышлял, пристойно ли первым делом пойти к Лидочке, а уж потом заняться печальными делами. — Как вы меня нашли?
— Ялта — маленький город, — сказал Вревский. — Я даже знаю, что вы приехали на авто господина Керимова и имели беседу с урядником, охраняющим дом Сергея Серафимовича.
Официант принес кофе для Андрея. Вревский заказал чашечку по-варшавски.
— Я как раз иду к вам и думаю — хорошо бы застать вас, Берестов, в ресторане. День холодный, чашка кофе вселяет бодрость.
Несмотря на тяжелый подбородок и скулы, было во Вревском нечто лисье — от косо посаженных желтых глаз, от мелких зубов.
— А я как раз собрался к вам.
— Знаю, знаю, иначе зачем вам ехать в Ялту? Трагическое событие. И загадочное во многом. Я очень надеюсь на ваше сотрудничество. Может быть, вдвоем сможем внести ясность.
— Для меня это полная неожиданность.
— Верю. Верю. Для порядка разрешите полюбопытствовать, где вы находились в ночь преступления?
— Как так где? В Москве. В университете.
— И, разумеется, найдутся люди, могущие это подтвердить?
— Ну хотя бы моя квартирная хозяйка. Я получил телеграмму моей тети шестого. Седьмого я выехал, вчера был в Симферополе, сегодня — девятое.
— Разумеется, — согласился с улыбкой следователь. — Чтобы быть в Ялте в ночь убийства, вам пришлось бы воспользоваться аэропланом. Но я и не числю вас среди подозреваемых. Не числю, но обязан спросить. А что хотели спросить вы?
— Первое: как себя чувствует Глаша?
— Глафира Станиславовна находится в тяжелом состоянии, — сказал Вревский. — Но мы рассчитываем, что она придет в себя и нам поможет.
— Могу я ее навестить?
— Вряд ли доктор разрешит разговаривать с полутрупом.
Андрей даже поморщился. Следователь вызывал в нем антипатию. Такой молодой, лет тридцать, а уже два просвета в петлицах.
— Меня пригласили вести это дело, — сказал Вревский, как бы отвечая на невысказанный вопрос Андрея, — потому что я случился здесь по совсем другому делу. Однако, узнав о случившемся, Великий князь Александр Михайлович, который был знаком с вашим отчимом, лично попросил найти для дела опытного специалиста. Ему пошли навстречу. — Вревский наклонил голову и превратился в желтого низколобого ежика.
Он принялся пить кофе, отставив толстый крепкий мизинец, и этот жеманный жест усилил неприязнь Андрея к следователю.
— Вижу, вы покончили с завтраком? — сказал Вревский, поднимаясь и не сомневаясь, что Андрей последует его примеру. — На улице прохладно. Может быть, вам следует одеться?
— Нет, спасибо, — сказал Андрей.
— Тогда продолжим наш разговор на набережной, — сказал Вревский, — по дороге в дом господина Берестова.
Он пропустил Андрея в стеклянную дверь.
— Я вообще не сторонник формальных методов расследования, — сказал следователь, щурясь от холодного осеннего солнца и натягивая фуражку чуть набекрень, отмерив пальцем середину козырька. — Доверительная беседа на свежем воздухе может дать более, чем долгий и изнурительный допрос.
— Мне кажется, — сказал Андрей, — что вы разговариваете со мной как с подозреваемым. Но я же не имел ни физической, ни психической возможности совершить преступление.
— Что касается физической возможности, это мы проверим, а вот касательно интересов иного плана — тут все сложнее. Вы ведь наследник господина Берестова?
— Я и не знал.
— Знали, голубчик, знали. Кому как не вам наследовать его имущество?
— Есть Глафира.
— Ах оставьте, — усмехнулся Вревский. — При чем здесь Глафира?!
Одноглазый чистильщик пиратского вида сидел под балконом у ванн Роффе, рядом с ним на невысокой табуретке — молодой человек в пиджаке и кепи. «Не он ли, — подумал Андрей, — преследовал меня ночью? Сказать об этом следователю? Ни в коем случае».
Чистильщик узнал Андрея, подмигнул ему и крикнул:
— Чистить-блистить, добро пожаловать!
Молодой человек встал и медленно пошел по набережной так, чтоб Андрей не видел его лица.
— Существует заверенное нотариусом завещание, — сказал Вревский, — на ваше имя. Оно составлено несколько странно, я с ним ознакомился, однако вы пока что прочесть его не можете, так как официально ваш отчим числится без вести пропавшим, а не усопшим.
— Значит, и вы не имели права читать завещание.
— Совершено преступление, господин Берестов. Я представляю собой правосудие, и я сам решаю, какие шаги надо предпринять, чтобы оно восторжествовало.
— Есть закон, и он выше любого следователя.
— Ах, голубчик, сейчас идет великая война и не время рассуждать о мелочах.
Откуда он научился этому «голубчику»? Наверное, был офицером, да потом выгнали. Андрей знал, что несправедлив, так как Вревский наверняка окончил университет.
— Наследник в следственной практике — наиболее очевидный подозреваемый, — рассуждал между тем Вревский. Со стороны они, наверное, казались приятелями, гуляющими после завтрака. — Вы ведь живете в Москве, нуждаетесь в средствах и не чаяли дождаться, пока старый отчим добровольно скончается. А он у вас крепкий.
— Прекратите! — сказал Андрей. — Я уйду. Я не намерен выслушивать ваши инсинуации.
— Тогда мы будем беседовать с вами в другом месте. — И тут же Вревский переменил тон на фамильярный. — Андрей, голубчик, — сказал он, — я не склонен подозревать вас более других. Но у меня сволочная служба — прежде чем отыскать виновного, я должен оскорбить подозрением многих невинных. Давайте надеяться, что я обидел вас — не более. Но в рамках исполнения своего долга. Для меня ведь была небезынтересной ваша реакция. Виновные ведут себя по-одному, невинные — иначе.
— А я?
— Черт вас знает. — И Вревский рассмеялся.
Они свернули наверх, стали подниматься в гору. С каждым шагом все более хотелось повернуть и уйти. Потому что Андрею претило войти в дом в сопровождении безжалостного человека, который будет следить за каждым его движением, за каждым словом.
— Поймите меня правильно, — сказал Вревский. — Даже если я не буду вас подозревать, дело не станет менее загадочным. Есть версия простого грабежа, которая никак не сообразуется с исчезновением Сергея Серафимовича, есть версия политическая, которую я не исключаю. С ней не сообразуется грабеж. Скажите, кто, кроме вас, знал о тайнике в полу?
— О каком тайнике?
— Все. Попался, голубчик. Даю сто против одного, что вы о нем знали. По глазам вижу — вы плохо лжете.
— Я знал об этом тайнике, — сказал Андрей, — но, честно говоря, забыл.
— О таком не забывают. Теперь расскажите, что там было.
— Не знаю.
— Чепуха. Господин Берестов наверняка вам все показал.
Они вышли на улицу, что вела к дому отчима.
Сверху бежала Лидочка. Без шляпы, широкая юбка голубого платья развевается, как флаг. Она бежала, расставив руки, будто хотела с разбега обнять Андрея.
— Андрюша! — закричала она, не обращая внимания на следователя. — Я тебя целый час жду.
Она добежала до него, схватилась за рукава, потянула к себе, так и замерла, разглядывая его радостно. Потом поцеловала в щеку.
— Ой, как хорошо, что ты приехал, какой это ужас, я даже не спала.
И все это она сказала одной фразой.
Вревский сделал шаг в сторону, беззастенчиво разглядывая Лидочку. Она почувствовала его присутствие и, не отпуская руки Андрея, немного отстранилась.
— Ты был? — спросила она. — Да, ты вчера вечером был?
Андрей кивнул.
Толстая короткая коса была перекинута вперед гигантским колосом по синему плечу жакета.
— Ты туда? — Лидочка кивком показала на дом.
— Мне нужно, — сказал Андрей.
— Я понимаю. А потом в больницу к Глаше, да? Я все знаю. Хочешь, я с тобой пойду?
— Я не знаю, пустят ли меня в больницу.
— Вряд ли, — сказал Вревский.
— Тогда ты отсюда сразу к нам, хорошо? Я никуда из дома не уйду. Ты скорее приходи. Мы обедать будем.
Она замолчала. Присутствие Вревского с каждой секундой все более угнетало.
— Если мадемуазель позволит, — сказал Вревский, — мы должны проследовать дальше.
— Конечно, я иду. Я только хотела поздороваться. Я жду.
Лидочка отпустила руку Андрея, и он послушно пошел к дому вслед за Вревским, который умел двигаться таким образом, будто не сомневался, что за ним покорно последуют.
Андрей понял — а ведь она изменилась. Она стала другая. Но в чем изменение? Надо скорее вернуться к ней и все понять. Как хорошо, что она пришла. Что она ждала его. Как это хорошо…
Полицейский — другой, не тот, что был ночью, — ступил в сторону от ворот, пропуская следователя.
— Господин Берестов, — сказал Вревский, — ваша дама очаровательна, но нас ждут дела печальные и обязательные.
Укор в легкомыслии был очевиден, и Андрей не удержался от попытки оправдаться.
— Мы не виделись с Рождества, — сказал он.
— Сочувствую, сочувствую, голубчик, — согласился Вревский.
Он вынул из кармана ключ — знакомый ключ — и открыл дверь. В доме пахло чем-то чужим. Но определить запах Андрей не смог. Двери на кухню и в его комнату были раскрыты.
Они поднялись на второй этаж. На площадке перед дверями мелом было грубо нарисовано очертание человеческой фигуры.
— Не наступите, — сказал Вревский.
— Что это?
— Здесь была найдена госпожа Браницкая.
— Кто?
— Глафира Станиславовна.
Андрей, к стыду своему, понял, что никогда не знал фамилии Глаши. Госпожа Браницкая. Известная фамилия. Слишком известная для служанки.
— Это часть нового метода следствия, — сообщил Вревский самодовольно. — Будучи на стажировке в Париже, я провел полгода в Сюртэ. Это вам что-нибудь говорит?
Он толкнул дверь в кабинет.
— Мы исследуем сейчас отпечатки пальцев, — сообщил он. — Они у людей сугубо индивидуальны. Если сверить отпечаток пальцев с имеющимся в картотеке, можно безошибочно определить его владельца.
— И вы сверили? — спросил Андрей.
— Пока мы отправили их в Петербург. К сожалению, в Симферополе картотеки пока нет.
Кабинет Сергея Серафимовича, всегда столь чистый, аккуратный, выверенный, был гадко осквернен. Стулья опрокинуты, стол отъехал в сторону, книжный шкаф раскрыт, и несколько книг валяются на полу. Ковер наполовину закатан, и в полу видна черная квадратная дыра. Ближе к двери — темные пятна.
— Это кровь? — спросил Андрей.
— Да. И предположительно, кровь вашего отчима. Здесь происходила борьба. И если вы соизволите наклониться, вы увидите порезы на ковре. Порезы сделаны острым оружием, вернее всего, кинжалом при нанесении ран неизвестному лицу. Опять же мы с вами можем предполагать, кто был этим лицом.
Запах в кабинете, окна в котором были закрыты, был еще более чужим и тошнотворным. Андрею захотелось уйти, и он, видно, сделал непроизвольное движение, потому что Вревский остановил его.
— Нет, голубчик, потерпите, — сказал он. — Нужно кое-что выяснить. Посмотрите внимательно вокруг — может, вы обнаружите еще какую-нибудь пропажу. Что-нибудь важное, существенное или даже мелочь… Смотрите!
Андрей стал покорно смотреть, и, как только взгляд его упал на портрет, он вспомнил, что за ним — сейф. Он чуть было не сказал об этом Вревскому, но спохватился — а почему он, в сущности, должен рассказывать Вревскому? Отчим наверняка не хотел этого.
— Так что же? Вы вспомнили, признайтесь, вы вспомнили? Что?
Вревский покачивался перед Андреем, будто гипнотизировал его. Он понял: Андрей что-то скрывает, и злился на себя за то, что упустил то мгновение, когда Андрей готов был признаться.
— Хорошо, — сказал Вревский устало, так и не перехватив взгляда Андрея. — Вы же заинтересованы, черт возьми, в том, чтобы помочь следствию! Или вы заодно с убийцами?
— Почему с убийцами?
— Да потому что и младенцу ясно, что его тело унесли и закопали или сбросили в море.
Вревский отошел к окну. Что-то за окном его заинтересовало, Андрей пошел вокруг стола, зная, что в любой момент Вревский может обернуться. Ящики письменного стола были закрыты. Но это не означало, что туда никто не заглядывал.
Вревский обернулся от окна и спросил:
— Какие у вас отношения с Ахметом Керимовым?
— Я учился с ним в гимназии, в одном классе.
— В гимназии? Он учился в гимназии?
Андрей не поверил Вревскому, что тот об этом не знает. Вревский только хотел показать своими словами, что не считает Ахмета достойным учиться в гимназии.
— И неплохо учился, — сказал Андрей.
— Допускаю. Кстати, я попал в Ялту по делу, связанному с замыслами вашего друга. Личность подозрительная.
— Он оказал мне любезность. Иначе бы мне не добраться до Ялты так быстро.
— А, у него авто, — сказал Вревский. — И вы знаете, сколько стоит такая машина?
— Нет, не знаю.
— Ни у его отца, ни у нас с вами никогда не будет возможности честно заработать такие деньги. Вам не приходило в голову, что эта машина куплена на нечестные деньги?
— Я об этом не думал. Мне было не до этого.
— Хорошо, хорошо, оставим этот разговор. Вы будете в гостинице «Россия»?
— Да.
— Попрошу вас никуда не уезжать. Вы мне понадобитесь.
— Я специально приехал…
— Ладно, голубчик. А я так рассчитывал, что вы будете сотрудничать со следствием!
— Я сотрудничаю.
— Я вас провожу вниз.
Вревский вывел Андрея из дома. Андрей увидел, что перед калиткой стоит мотор Ахмета. Ахмет сидел за рулем. При виде Андрея он нажал на клаксон.
— Вот почему вы заговорили о Керимове, — сказал Андрей.
— Разумеется. Увидел и заговорил.
— Вы мне скажете, когда я смогу увидеть Глашу?
— Разумеется. Завтра утром в десять я жду вас у себя. В здании городского суда. Спросите меня. Больше вам нечего сказать?
— Я только хотел сказать, что вчера ночью меня преследовал какой-то человек.
— Как так преследовал? — Вревский казался удивленным.
— Он шел за мной по улице.
— Это не мой человек, — сказал Вревский. — Я узнал о вашем приезде только сегодня утром. Как он выглядел?
— Молодой, в пиджаке…
— Вы бы его узнали?
— Не уверен.
— Будьте осторожны. Мне бы не хотелось лишиться такого полезного свидетеля. Хотите, я поставлю охрану у гостиницы? Или у дома вашей прекрасной дамы? — Вревский улыбнулся.
— До свидания, — сказал Андрей. Они формально поклонились друг другу.
Ахмет открыл дверцу машины навстречу Андрею.
— Садись, — сказал он, — карета подана.
Мотор заработал, и машина сразу начала разворачиваться.
— А я этого Вревского знаю, — сказал Ахмет. — Он меня не любит. Поэтому я его в машину не позвал. Пускай прогуляется пешком.
Андрей обернулся. Вревский стоял, широко расставив ноги, руки в карманах, — смотрел вслед. Он все понимал.
— Спасибо, что ты приехал. Он меня измучил.
— Он думает, что ты из Москвы на аэроплане прилетел, чтобы завладеть сокровищами отчима. А я твой сообщник. Куда поедем?
— Выезжай на набережную, потом я покажу.
Андрею почему-то и в голову не приходило сомневаться в правильности того, что Ахмет возит его по Крыму. Да и Ахмет ничем не показывал, что он — благодетель.
Они выехали на набережную. Навстречу им катил схожий автомобиль, в котором сидели две дамы. В молодой Андрей узнал княжну Татьяну.
Дамы проводили удивленными взглядами машину Ахмета. Машин в Ялте было мало, каждая на счету и принадлежит известной персоне. Лишь в самые последние месяцы появились автомобили у армейских и флотских высоких чинов.
Ахмет помахал дамам, те поклонились, так и не разобрав, с кем раскланиваются.
Ахмет сказал:
— Узнал, да? Она до сих пор помнит прикосновение моей трудовой руки к ее изнеженной коленке. Может, жениться на ней, а?
— Ты что-нибудь еще узнал? — спросил Андрей.
— Думаешь, Ахмет всю ночь не спал, переживал, искал? Спал я без задних ног. Очень устал. Где поворачивать?
— На Садовую, к храму.
— Но одну вещь я узнал. Дезертиры здесь ни при чем. Мне точно сказали. И местные воры не знали ничего. Все думали, что он чудак, небогатый. Он хорошо свои тайны хранил.
— Недостаточно.
— А ты что в доме видел?
— Видел кровь в кабинете. И ковер ножом порезан. И место, где была шкатулка с драгоценностями.
— А ты сам о ней знал?
— Следователь меня об этом спрашивал. Знал, знал.
— И что внутри, знал?
— Там были драгоценности. Отчим показывал, но я не очень разглядывал.
— Значит, еще кому-то рассказал. Может, служанке своей, Глаше?
— Чепуха. Ее же чуть не убили.
— Сначала обещали поделиться, а потом раздумали. Вот и убили. Это бывает. Женщины — ненадежные. Когда родишься мусульманином, узнаешь, что женщина должна знать свое место.
— Вот здесь остановись, — сказал Андрей. — Пойдем со мной, познакомишься.
— Нет, не надо знакомиться. Лучше так сделаем. Я голодный, ты голодный. Бери свою Лиду, я вас на настоящем авто в ресторан повезу. На Учан-Су. Там еще открыто.
Андрей предпочел бы побыть с Лидой вдвоем, но он был обязан Ахмету, да и предложение друга было соблазнительным.
Андрей взбежал наверх. Евдокия Матвеевна была дома, она открыла дверь и поцеловала Андрея в лоб, печально, по-матерински, будто на похоронах. Андрей, который готов был закричать с порога: «Поехали в ресторан!», смутился нелепости своего поведения. Они стояли в прихожей, Евдокия Матвеевна говорила нужные слова о том, какой человек был Сергей Серафимович и как это должно быть тяжело для Андрея. Андрей соглашался и не знал, куда девать руки. Почему-то все говорили об отчиме как о мертвом. А Андрею казалось, что он его еще увидит.
— Проходите! — опомнилась наконец Евдокия Матвеевна. — Чего же мы здесь стоим?
— Простите, я потом к вам приду, — сказал Андрей. — Там внизу нас ждет мой товарищ. Он хотел нам помочь в одном деле… Мы с Лидочкой, если вы позволите…
— Как же так без обеда! Зовите своего товарища.
— Мама, не вмешивайся! — сказала Лидочка с незнакомой еще Андрею командной интонацией. — Андрей, спускайся вниз, я через три минуты буду.
Лидочка прибежала минут через пять. Уже одетая для выхода. В доме напротив к стеклам прижались удивленные лица — видно, автомобиль еще никогда не заезжал на эту улицу. Евдокия Матвеевна тоже выглянула и не скрыла удивления.
— Мы едем обедать куда-нибудь, где мамы не задают вопросов, — сказала Лидочка, когда они устроились и машина покатила вниз. — Я по твоему тону поняла.
— Умная женщина — это еще хуже, чем красивая, — сказал Ахмет.
Машина с трудом забралась к ресторанчику у водопада Учан-Су. Лидочка и Ахмет разговаривали как давнишние приятели — хоть и виделись они мельком, но Андрей и Маргарита их как бы давно познакомили.
В ресторане они ели шашлыки, запивали их сухим вином, но Ахмет вина не пил, он попросил шербет.
Они вспоминали прошлое лето, Ахмет рассказывал о своем неудачном романе с Маргаритой и выступал в этом рассказе глупым извозчиком, который осмелился претендовать на руку прекрасной дворянки. Это было неправдой, но звучало смешно. Андрей засмеялся было, но увидел, что Лидочка даже не улыбнулась, спохватился, рассердился на себя, потому что уже несколько минут как забыл о несчастье.
Лидочка сказала:
— Я позавчера Колю фон Беккера видела.
— Где? Здесь? — удивился Андрей.
— У мола. Он в форме, еще красивей, чем прежде. Не сердись, Андрюша, этот факт меня не касается.
— В какой он был форме? — спросил Ахмет.
— Как у солдата. Только погоны такие… с разноцветным шнурком по краям.
— Ясно, — сказал Ахмет. — Наш Коля — патриот.
— Почему патриот? — спросила Лидочка.
— Вольноопределяющийся, — сказал Андрей. — Я тоже хотел стать. И если бы не эти события…
— Не говори глупостей, — сказала Лидочка, — я тебя не отпущу.
— И что тебе сказал фон Беккер? — спросил Ахмет.
— Он был рад меня видеть. Он служит где-то… В Феодосии, там береговая артиллерия.
— Хотел бы я быть таким вольноопределяющимся, — сказал Ахмет. — И патриот, и долг выполнил, и фронт далеко.
— Ты не прав, Ахмет, — сказал Андрей. — Куда его послали, там он и служит.
Ахмет не стал спорить. Детское приятельство давно уже дало трещины. А любит ли Колю Андрей? Конечно, нет… и все же это Коля Беккер, брат Нины, сосед, о котором столько знаешь и прощаешь ему то, чего не простил бы чужому.
Вино было легкое, хорошее, прохладное. От столика открывался вид к лесу, зеленому и багровому ковру, наброшенному на крутой склон. Домики Ялты казались белыми кубиками, разбросанными шалуном у воды.
— У меня из головы не идет эта шкатулка, — сказал Андрей. — Как грабители могли догадаться?
— Ты о той шкатулке, что под полом? — спросила Лидочка.
— Да, — сказал Андрей. — А в городе уже все знают?
— Что ограбили, знают, — сказала Лида, — а про шкатулку ты мне сам рассказал.
— Когда?
— Ну вот. — Лидочка смутилась. — На Рождество, пока мы с тобой автобуса ждали!
— Вот и еще один подозреваемый, — сказал Ахмет.
Андрей спохватился:
— Как могло из головы вылететь? Прости, Лида.
— Я не сержусь, — сказала Лида, но она была чем-то озабочена.
— Поехали, что ли? — спросил вдруг Ахмет. — Меня ждут великие дела, как любил говорить Гарибальди.
Андрей настоял на том, что платит он. Ахмет развел руками. При Лидочке он робел. Он довез их до дома и умчался.
После чая Евдокия Матвеевна оставила «детей» в Лидочкиной комнате, где на стенах висели голубые акварели. Лида, убедившись, что мать в самом деле ушла, сказала:
— Я очень перед тобой виновата, но я должна тебе все рассказать.
— Что случилось? — У Андрея провалилось сердце. Он сидел на стуле, любовался Лидочкой. И признание таким тоном доброго не сулило. — Ты встретила другого человека?
— Не говори красиво. Я к тебе хорошо отношусь, — сердито сказала Лидочка. — Но я должна показать тебе одно письмо.
Она раскрыла ящик письменного стола и вытащила оттуда пачку писем, перевязанную голубой ленточкой.
— Я раньше от мамы письма прятала. А потом поняла — она все равно найдет. Она у меня хорошая, но очень беспокоится. Она только делает вид, что к тебе расположена.
— А на самом деле?
— Она тебя боится. Она боится, что ты меня обидишь, соблазнишь и бросишь… Она всех мужчин боится, которые могут сделать мне больно. Ты не сердишься на нее?
— Нет.
— Вот письмо. Это письмо от Марго. Она мне прислала его еще весной. Я совсем о нем забыла. А сейчас, когда был этот разговор, я вспомнила.
Лидочка пробежала глазами первую часть письма, перевернула голубой листок и дальше прочла вслух:
— «Я видела Ахмета. Представляешь, он заявился в Одессу, где-то узнал наш адрес, подстерег меня. На извозчике с букетом роз. Ты не представляешь, какое это уморительное зрелище! Я признаюсь тебе, что была тронута. Он такой забавный. Он повел меня вечером в кафешантан. Я делала вид, что я светская львица, для которой все это, как говорят в Одессе, «семечки». На самом деле ты знаешь, что я никогда там не была. Это очень пошло, но увлекательно и шикарно, Ахмет просадил кучу денег. Я думаю, что он взломщик — он совершенно не считает денег. Я старалась при нем ни слова о my dear friend, а он и не спрашивал. Я ему рассказала о твоем романе с Андрюшей. Роман в письмах — ах как это мило! И даже рассказала, помнишь, ты мне призналась, как этот Андрюша хотел произвести на тебя впечатление и придумал романтическую историю про сокровище под полом в кабинете его дядюшки или отчима — не помню уж кого. Ахмет тоже смеялся, но он отзывается об Андрюше очень тепло. Хоть и считает его слюнтяем…»
Лидочка скомкала письмо и, как бы перенеся на него злость, швырнула в угол.
Сначала Андрей услышал и понял не ту часть, что касалась сокровищ, а мнение о его характере, которое Лидочку не удивило и не обидело. И это мнение Ахмета!
— Значит, Ахмет сказал неправду, — услышал он голос Лидочки.
— Он забыл, — сказал Андрей. — Не придал значения и забыл. Он бы сказал мне, если бы помнил.
— Андрей, ты самый добрый на свете, — заявила Лидочка. — А я так боялась, что ты рассердишься.
Постучала Евдокия Матвеевна и позвала пить чай.
— Спасибо, — сказал Андрей, — если вы не обидитесь, я уйду.
— Почему? — возмутилась Евдокия Матвеевна. — Сейчас придет Кирюша, мы посидим, вам надо быть среди людей — одиночество в вашем трагическом положении губительно. Послушайте уж моего совета.
— Я хочу попробовать пройти в больницу, — сказал Андрей. — Может быть, Глаше лучше. Может, меня к ней пустят.
— Завтра, — сказала Евдокия Матвеевна. — До завтра ничего не изменится.
Андрюша знал, что не останется здесь. Такая вот шлея ему под хвост попала, как говорила в таких случаях тетя Маня. Она говорила: «Ты, Андрюша, человек мягкий, можно сказать, бесхарактерный, и как многие бесхарактерные люди — страшно упрямый. А упрямство, учти, порок». Андрей и не мог бы сказать, что заставляло его уйти. Но Лидочка поддержала его:
— Мама, неужели ты не понимаешь, что Андрей переживает?
— Вы дорогу знаете? За церковью сразу направо, — сказала Евдокия Матвеевна. — Узнайте там, что надо Глафире. Я завтра могу прийти в больницу и принести. Может, мед ей нужен?
— Спасибо, — сказал Андрей, — я спрошу.
В больницу Андрей пришел в половине восьмого.
Он спросил внизу у сестры, что сидела за столиком, в какой палате лежит Глафира Браницкая. Хорошо, что следователь сказал фамилию. Иначе он выглядел бы странным самозванцем. Пожилая ухоженная сестра сказала с немецким акцентом:
— К ней нельзя. Состояние тяжелое.
— Вы только скажите мне, в какой палате, — попросил Андрей. — Я завтра приду и уже буду знать.
— Палата седьмая, — сказала сестра. — Для особо тяжелых. А вы кто будете?
— Я ее родственник, — сказал Андрей. — Я специально приехал.
Сестра внимательно поглядела на Андрея и, видно, поверила ему.
— Это ужасная история, — сказала она. — Женщина так изуродована. Я бы на ее месте предпочла умереть.
— А есть опасность для жизни?
— Молодой человек, я не могу с вами это обсуждать. Завтра будет доктор Власов. Мне вообще запрещено говорить. Я обязана, если кто-нибудь будет спрашивать о больной Браницкой, немедленно звонить следователю господину Вревскому. Вот видите телефон? Я сейчас должна его предупредить.
— Он меня знает, — сказал Андрей. — Я с ним уже разговаривал. Он мне не очень понравился.
Что заставило Андрея сказать это?
— Как вы правы, — сказала сестра. — Он очень груб. Но вы не беспокойтесь. Я полагаю, что ваша родственница будет жить. Приходите завтра. Сегодня она еще в беспамятстве.
Попрощавшись, Андрей вышел из дверей госпиталя и остановился снаружи, придерживая дверь, чтобы осталась щель. И стал ждать. Он ждал минут пять. Сестра вставала, уходила, принесла какую-то тетрадь. Но к телефону не притронулась. Значит, Андрей понравился ей более, чем следователь Вревский. И можно не бояться, что она донесет о визитере.
Тогда Андрей пошел вдоль высокого каменного забора до калитки. Калитка не запиралась. Андрей знал об этом, потому что много лет назад Сергей Серафимович лежал в этой больнице. У него был, кажется, колит. Это было летом, Андрей навещал его и приносил тайком запрещенный доктором табак. Отчим ждал его в саду. Они гуляли по саду, и отчим рассказывал ему о растениях, которые там произрастали. Это было в тот год, когда отчим надеялся пробудить в Андрее любовь к ботанике.
В саду было куда темнее, чем на улице. Старые деревья сомкнули кроны над голой землей. Андрей осторожно прошел к светящимся окнам.
Андрею не надо было даже вставать на цыпочки, чтобы заглянуть в палаты. За первыми тремя окнами были палаты общие. Четвертое окно, задвинутое занавеской, вело в палату, где лежала Глаша.
Андрей заглянул в щель между занавесками. Палата была освещена электрической лампой. Глаша лежала на высокой койке, на спине, неподвижно, руки были протянуты вдоль боков. Лицо было обмотано бинтами, словно у обожженной. Бинты скрывали щеки — только кончик носа и один глаз были наружу. Почему-то не вовремя вспомнился роман Уэллса «Человек-невидимка». Даже стыдно стало, что вспомнился.
Андрей осторожно толкнул раму. Вернее всего, окно заперто, но чем черт не шутит… И вдруг рама подалась, и окно со скрипом распахнулось. Андрей замер. Но никто не услышал — еще не улеглись спать дневные звуки.
Он подтянулся на руках и, когда оседлал подоконник, вдруг увидел, что Глаша шевельнулась и ее глаз открылся.
— Тихо, — прошептал Андрей.
— Слышу, — чуть слышно отозвалась Глаша.
Андрей спрыгнул на пол и на цыпочках подошел к кровати.
Он склонился к Глаше и отвел спутанные, тусклые рыжие волосы, что скрывали ухо.
— Здравствуй, — сказал он тихо. — Прости, я так долго ехал.
Обветренные, в кровавых трещинках, губы Глаши чуть шевельнулись.
— Я знаю, — прошелестел ответ. — Я все слышу. Я молчу, я глаза не открываю… вроде я без сознания. Боль-то какая…
— Глаша, Глашенька, — шептал Андрей, гладя ее безвольно лежащую руку. — Ты выздоровеешь, я тебя не оставлю.
— Ты приехал, — прошептала Глаша, — дождалась. Мне главное было — дождаться тебя, солнышко.
— Почему ты ничего не говоришь следователю?
— Я про Сережу не знаю. Может, объявится. Может, спасется… Если я сейчас скажу, еще хуже будет.
— Что хуже?
— Ты не понимаешь… Воды дай.
Стараясь не звякнуть стаканом, Андрей поднял его с тумбочки, поднес к губам Глаши. Ей было трудно пить, Андрей думал помочь, подложил ладонь под затылок Глаши, чтобы поднять голову, но она вдруг зажмурила глаз и застонала.
— Отпусти-и-и…
Глаша лежала минуту или две, закусив губу, часто и мелко дышала. Андрей молчал, он понимал, что причинил ей боль.
— Избита я вся, — прошептала Глаша. — Упала, все разбито… меня резали, ножами резали, по лицу, по груди. Они мне глаз вырезали. Я знаю…
— Глаша. — Андрей не знал и не мог ничего более сказать. Страдание ее было столь ощутимо физически, что боль передавалась Андрею, вызывая тошноту. — Кто они? Кто? Ты видела?
— Нет, темно… незнакомые… — Каждое слово давалось Глаше с трудом. — Ждать… может, Сережу увидим. Ты не уезжай, ты тоже жди, в доме жди, понимаешь, он может раненый прийти, совсем плохой. Ты дома жди. Не бойся. Тебя никто не тронет…
И вдруг:
— А Филька сдох?
— Да. Он на улицу выбрался, как будто помощь звал.
Глаша закрыла глаз, и вокруг него была чернота. Слеза набухала, стремясь вырваться из-под века.
— Милый, — сказала Глаша, — любимый мой мальчик…
Потом она глубоко вздохнула, ей было тяжело дышать.
— Ты помнишь, что Сергей говорил? Если он скоро не придет, то возьми в сейфе бумаги. Там все написано. Сейф они не нашли?
— Нет, — сказал Андрей.
— Какое счастье! Ты его открой, если Сергей не вернется.
— Ты выздоровеешь и откроешь.
— Глупый ты мой, ничего ты не понимаешь.
В коридоре приближались шаги. Они оба услышали.
Андрей вскочил.
— Стой! — приказала Глаша. Почти крикнула шепотом. — Возьми из-под подушки, возьми скорее. Это самое главное.
Андрей сунул руку под подушку.
— Правее… я сберегла…
У двери шаги остановились. Послышался женский голос. Ему ответил мужской.
Андрей нащупал нечто плоское, тяжелое.
— Бери и беги!
Андрей выхватил эту вещь в тот момент, когда дверь начала открываться. Он кинулся к окну, перевалился через подоконник и успел краем глаза увидеть испуганное лицо сестры-немки. За ней лицо полицейского. Значит, Вревский почуял неладное, прислал проверить…
Андрей кинулся бежать по саду, было совсем темно, он налетал на стволы деревьев, где эта чертова калитка?
Калитка обнаружилась тем, что распахнулась и в нее вбежал полицейский, придерживая рукой шашку. Андрей прижался к стволу.
— Стой! — кричал полицейский. — Стой, стрелять буду!
Пока полицейский, пытаясь определиться, крутился между черных стволов, Андрей выбежал через калитку и помчался вниз. Он знал: через два дома — проходной двор…
Андрей вернулся в гостиницу почти без приключений. Почти — потому что уже на набережной его поджидал вчерашний преследователь, который, не скрываясь, поднялся за ним до самой гостиницы, отворачиваясь, когда Андрей оглядывался.
Андрей вошел в гостиницу и сквозь стеклянную дверь увидел, как человек в пиджаке прошел мимо. Но теперь Андрей был уверен, что узнает его, встретив днем.
Он взял ключ и поднялся к себе. И тут поймал себя на том, что у него не такое уж плохое настроение. Глаша жива — главное, что жива и выживет. И Сергей Серафимович может вернуться. Ведь Глаша верит в это.
Не раздеваясь, Андрей упал на кровать.
Странно все-таки, почему Ахмет забыл о шкатулке, если Маргарита рассказала о ней? Он мог забыть, но когда разговор о ней поднялся в ресторане на Учан-Су, он должен был вспомнить. Вспомнил бы и сказал. Испугался? Чего? Что Андрей заподозрит его? Чепуха, чепуха…
В дверь постучали.
— Кто там?
— Господина Берестова просят вниз, к телефону, — сказал через дверь половой.
Андрей поглядел на часы. Скоро десять. Телефоны в Ялте были еще в новинку. У Иваницких его не было.
Андрей сбежал по лестнице вниз. Телефон стоял на широкой стойке. Скучный портье протянул Андрею трубку.
— Я слушаю, — сказал Андрей.
— Добрый вечер, вас беспокоит следователь Вревский, — услышал он. — Разрешите вам задать один вопрос?
— Пожалуйста, — сказал Андрей.
— Вы были в Николаевской больнице?
— Да, я заходил туда.
Пауза. Видно, следователь ждал запирательства.
— Я просил вас этого не делать, — сказал он наконец.
— Я хотел увидеть Глашу. Это понятно в моем положении.
— Зачем же тогда вы лезли в палату через окно?
— А как же я мог еще пролезть, если меня не пустили в дверь?
— Не дерзите, Берестов. Вы нарушили порядок.
— Простите, не знал.
— Знали, голубчик, знали… Так что вам сказала госпожа Браницкая?
В вопросе был очевидный подвох. К счастью, проницательный Вревский, видно, не придал проступку Андрея должного значения. Задай этот вопрос Вревский с глазу на глаз, Андрей не смог бы убедительно солгать. Телефонный разговор хорош тем, что ты не видишь лица собеседника.
— Вы же знаете, Глаша без сознания.
— Вы убеждены в этом?
— Может быть, она спала. Я не знаю.
— Вы пытались с ней разговаривать?
— Я окликнул ее, но она не ответила.
— Вот видите, — сказал следователь. — Я же вас предупреждал. Вы могли нанести ей травму. А что вы взяли в палате?
— Я? В палате? А что я мог взять?
— Не знаю, — сказал Вревский. — Спокойной ночи. Завтра увидимся. Завтра в десять жду у себя. В здании суда.
— Спокойной ночи, — сказал Андрей с облегчением.
Портье глядел на него во все глаза.
— Так это вы приходитесь сыном господину Берестову? — спросил он.
— Да, — сказал Андрей. — Спокойной ночи.
В номере Андрей вытащил из кармана тужурки вещь, которую взял у Глаши. Она оказалась серебряным портсигаром. На крышке его были изображены лилии. Видно, там нечто важное, если Глаша даже в таком состоянии не рассталась с ним.
Андрей попытался открыть портсигар, но он был заперт. Андрей покрутил его в руках и спрятал в чемодан, под белье. Потом подумал, что, если кто-то заинтересуется его вещами, портсигар может вызвать подозрения. Он переложил его во внутренний карман тужурки, повесил ее на спинку стула.
— Спокойной ночи, Глашенька, — сказал он, надеясь, что его слова таинственным способом донесутся до нее.
С утра он был у следователя, который задал ему тысячу вопросов. Вопросы Вревский задавал многозначительно, будто каждый из них вел к признанию. Андрей отвечал спокойно, не таясь, так как не знал за собой никакой вины. Вопросы касались и прошлых отношений в семье, и круга знакомых отчима, а были среди них вроде бы совсем не имеющие отношения к делу — к примеру, где служила Глаша раньше. Андрей подозревал, что и сам следователь не знает, что делать дальше. И никакого плана поисков не имеет, а от этого как бы стреляет по квадратам в надежде попасть в цель.
Если в первые минуты Андрей трусил, не понимая хода мыслей и замыслов Вревского, то после часа допроса Андрей совсем осмелел, и ему стало скучно.
— Александр Ионович, — сказал он, — в любой момент вы можете продолжить ваш допрос. Я не уезжаю из Ялты и буду здесь, пока все не выяснится.
Слова, а скорее тон Андрея следователю не понравились, видно, он сам уже понял слабость своей позиции, но, чтобы оставить за собой последнее слово, строго сказал:
— Я вас официально предупреждаю, что вы не имеете права покидать Ялту, ибо ваше присутствие может понадобиться следствию.
Если следователь думал, что последнее слово за ним, то он ошибся.
— Тогда я попрошу вас вернуть мне ключ от дома, — громче, чем следовало, сказал Андрей.
— Что же вы намерены там делать? Следствие еще не закончено. — Вревский не скрыл удивления.
— Этот дом принадлежит моему отчиму, — сказал Андрей. — И вы не имеете права меня туда не пустить. Поставьте вокруг сотню урядников, но я там буду жить. «Россия» мне не по карману.
— Вы можете остановиться у друзей, — сказал Вревский, проявляя осведомленность. — У Иваницких, например.
— Господин следователь, мне лучше знать, как мне удобнее. Если вы не согласны, то я тотчас же обращусь к адвокату.
— Зачем так строго? — ухмыльнулся Вревский. — Студенту адвокат не по карману.
Он достал из кармана связку ключей, отстегнул нужный и протянул Андрею. И того сразу охватило подозрение — не слишком ли легко согласился Вревский?
— И вы не боитесь привидений? — спросил Вревский, принимаясь писать записку полицейскому.
— Чьих? Никто не погиб и не умер в нашем доме.
— Есть только подозрения, — согласился Вревский. — Ну, с Богом. Если грабители вернутся, я не смогу вас защитить… и предупреждаю, ничего на втором этаже не трогать.
Андрей пожал плечами, выказывая равнодушие к опасности. Но на самом деле, если бы не настойчивая просьба Глаши, он не осмелился бы возвратиться в дом.
Он вернулся в гостиницу, расплатился и, наняв извозчика, отвез чемодан в дом к отчиму. Полицейский все так же тосковал у ворот, но Андрей показал ключ и записку от Вревского. Полицейский долго читал ее, шевеля мокрыми губами, потом сказал:
— Ну как знаете.
Дом был залит солнцем. Андрей поставил чемодан в детскую, но наверх подняться не решился.
На кухне на давно остывшей плите стоял чайник. Хлеб в хлебнице высох и заплесневел. Андрей выбросил его в курятник, куры завопили, услышав, что он подошел, забили крыльями. Так что пришлось вернуться на кухню, отыскать пакет с крупой и высыпать в курятник. Вода у птиц была.
Полицейский поглядывал из-за забора. Умывшись и переодевшись (белье в его шкафу было проложено лавандой), Андрей пошел к Иваницким, где его ждали с нетерпением. Евдокия Матвеевна уже готова была вместе с Лидочкой бежать на поиски. Но когда все выяснилось и Андрей рассказал о вчерашнем визите в больницу и последнем разговоре с Вревским, все немного успокоились, лишь Евдокия Матвеевна никак не могла согласиться с тем, что Андрей будет жить в том самом доме.
— Они могут вернуться, — повторяла она, округляя голубые глаза. — Вы подвергаетесь страшной опасности!
— Там полицейский, — сказал Андрей.
Но Евдокию Матвеевну он не убедил. Она так и не поняла, зачем ему жить в доме отчима, когда она готова его принять. А о словах Глаши, о просьбе ее оставаться в доме на случай возвращения отчима Андрей не стал говорить — он понимал, что еще больше испугает Евдокию Матвеевну.
Поговорить с Лидочкой дома было невозможно, потому что ее мать, обуреваемая заботой об Андрее, не оставляла их ни на минуту. Горпина напекла оладьев и стояла над Андреем, требуя, чтобы он ел их, пока горячие.
Вечером к ней приходил достойный жених, а когда он ушел — одному Богу известно. Так что Горпина была распаренная, добрая и малоподвижная.
Лидочке тоже было невтерпеж сидеть дома. И, едва дождавшись, пока кончится завтрак, она сказала:
— Мама, мы пойдем погулять.
— Куда?
— Не все ли равно. Андрею надо побыть на свежем воздухе.
Скрепя сердце Евдокия Матвеевна вынуждена была согласиться с этой мыслью. Они выбежали из дома и поспешили вниз по переулку. Евдокия Матвеевна смотрела вслед из окна и кричала:
— Лидочка, ты шляпку забыла! Лидочка, это же совершенно неприлично!
Андрею за этим криком послышалось другое: «Лидочка, я все вижу! Лидочка, я всегда рядом, не забывай об этом!» Ему стало смешно. Лидочка тоже засмеялась. Так они и добежали до набережной.
Именно в этот момент по набережной ехал Ахмет в своей машине. В машине сидели несколько татар зажиточного вида, некоторые в фесках. Были они напряжены, словно собрались на панихиду. Одинаково они обернули лица к бегущим, а Ахмет узнал и отдал честь.
Машина скрылась.
— Кто это были? — спросила Лидочка.
— Турецкие шпионы, — ответил Андрей серьезно.
Они зашли далеко на мол, разулись и уселись на краю, свесив ноги. Ветер дул редкими, но сильными порывами, чайки кружились над головами, вопили, надеясь на кормежку.
Лидочка долго молчала. Андрей тоже молчал, было спокойно, по набережной гуляли люди, как в мирное время, только на молу почти никого не было.
— Я почти не спала, — сказала Лидочка. — Ты понимаешь, о чем я думала?
— Обо мне?
— Я думала, что, если все это правда и если Маргарита рассказала Ахмету, а Ахмет проговорился бандитам, это значит, что я во всем виновата.
— Лидочка, не надо. — Андрей был совершенно искренен. — В жизни надо кому-то верить. Вот я верю тебе, я верю тете Мане. Я верю Глаше. Есть люди, которым надо верить. Если не верить, то жизнь теряет всяческий смысл. Я верю Ахмету. Когда мы его увидим, спросим его об этом. Ты увидишь, что он ни в чем не виновен. Успокойся, пожалуйста.
— Андрюша, мне очень страшно. Не только из-за нас с тобой. Еще зимой все было понятно. А потом я испугалась, что ты уйдешь воевать и тебя убьют. А я останусь твоей вдовой, навсегда, а я даже не была твоей женой. Сейчас тихо, а это нечестная тишина, потому что я знаю, что там, на западе, стреляют и убивают. Не было бы войны, никто бы не напал на Сергея Серафимовича.
— Бандиты были всегда.
— А сейчас люди изменились. Если можно убивать по приказу, если убивать хорошо, то, значит, можно убивать и без приказа. Я хочу куда-нибудь с тобой уехать. Далеко, где не бывает войны.
— А мама?
— Лучше, если бы можно было взять маму и папу с собой.
— Не надо бояться. Война скоро кончится. Ты же знаешь, что она скоро кончится, и тогда все вернется на старые рельсы. Я тебе как историк говорю. Сколько было войн в мировой истории, и всегда все возвращалось на круги своя. Наполеон прошел по всей Европе, а через десять лет никто уже не помнил о нем: как круги на воде — разошлись, и снова спокойно.
Лидочка положила голову на плечо Андрею, он обнял ее.
— Что там у тебя в кармане? — спросила она. Лидочка очень хотела, чтобы ее успокоили, чтобы думать о хорошем.
— Это портсигар. Я тебе забыл сказать. Мне его дала Глаша. Он лежал у нее под подушкой. Это что-то очень ценное для нее.
— А что внутри? Ты не смотрел?
— Он закрыт.
Андрей вынул портсигар.
— Красивый, — сказала Лидочка. — И тяжелый.
Она осторожно потрясла им, но внутри ничего не отозвалось.
— Не потеряй, — вернула она портсигар.
Солнце пригревало, но ветер был сильнее. От моря летели искры света и легкие брызги. Андрей снял куртку и накинул ее на плечи Лидочке.
— Давай уедем туда, где нет войны, — вдруг сказала Лидочка.
— А где нет войны?
— В Америке.
— Уедем в Америку, а она тоже начнет воевать.
— С кем ей воевать?
— С теми же немцами.
— Не будет она воевать. Они и без того богатые.
Издали гудел клаксон. Звук его относило ветром, и Андрей не сразу догадался, что его вызывают.
Автомобиль Ахмета стоял у начала мола.
— Я освободился от дел политических и государственных, — сказал Ахмет. — Теперь могу вас катать. Хотите поедем в Массандру?
Лидочка поглядела на Андрея. В ином случае она бы с радостью согласилась — она обожала кататься. Но сейчас ее душу терзали подозрения. Ей казалось, что Ахмет не так улыбается, что у него очень хитрые непрозрачные черные глаза и нехорошая улыбка.
— Поехали, — сказал Андрей. — Только я плачу за бензин.
— За бензин платит нация, — сказал Ахмет.
Они сели в машину. Гуляющие по набережной останавливались, глядя на них. Молоденький поручик на костылях улыбался, рассматривая Лидочку. Андрей думал, как ему не хочется задавать Ахмету вопрос, в котором уже таилось тяжелое подозрение.
Машина тронулась с места и поехала через мост, мимо порта, к городскому пляжу, откуда дорога поднималась вверх. Но именно у порта приключилась неожиданная встреча.
Из дверей Управления порта вышел Коля Беккер. Он остановился, глядя по сторонам, будто искал глазами извозчика.
Ахмет, отличавшийся быстрой реакцией, прежде чем Андрей успел что-либо сообразить, резко затормозил, сказав: «Этот молодой человек нуждается в нашей помощи».
Коля не сразу понял, кто сидит в машине. А узнав, совсем не удивился тому, что его приятели разъезжают в «Даймлере».
— Вы очень вовремя, — сказал он, словно попрощался со всеми час назад. — Мне срочно нужно в военную комендатуру. Ты сможешь подвезти меня, Ахмет?
— Садись. Крюк небольшой.
Коля сел рядом с Ахметом, потом обернулся и протянул руку сначала Лидочке, потом Андрею.
— Я не знал, что ты здесь, — сказал он. — Что тебя привело? — Но ждать ответа не стал. — Черт знает что! Почему все неприятности должны валиться именно на меня?
Вопрос был риторическим. Никто не мог бы на него ответить.
— Что случилось у принца Гамлета? — спросил Ахмет. — Или вы Грушницкий, который намерен стреляться на дуэли с Печориным?
— Не фиглярничай, Ахмет, — сказал Коля голосом старшего.
Форма вольноопределяющегося сидела на нем ладно и даже щеголевато. Мундир был из офицерского сукна, фуражка тоже офицерская. На ногах высокие начищенные сапоги.
— Я привез сюда команду за новыми прицелами для батареи.
— Ты служишь в Феодосии? — спросил Андрей.
— Да, да! — воскликнул Коля как о совершенно очевидном для любого ребенка. — Где же еще? Пока ждали, да выписывали, да выбивали грузовой автомобиль — вокруг бюрократия, ничего нельзя сделать сразу, так немцы нас голыми руками возьмут! И вдруг у меня чрезвычайное событие. Два идиота из моей команды, видно, запили. Где они, где их искать — один Бог знает. Не самому же мне прицелы грузить! В конце концов, я несу за них ответственность. Они, может быть, гуляют с бабами в Симферополе, а я должен ехать в комендатуру и отдуваться. Ах, почему вы, господин Беккер, недоглядели, почему вы их распустили?
— Они симферопольские? — спросил Ахмет.
— Почему ты так думаешь?
— Это ты так думаешь, — сказал Ахмет. — Ты сказал, что они гуляют в Симферополе.
— Оба из Симферополя, хотя это ничего не меняет. А если они дезертировали, то я не представляю, что со мной сделают!
Коля был бледен, не скрывал волнения, но Андрей должен был признать, что он красив даже более, чем раньше. Он возмужал, и лицо его потеряло мальчишескую округлость и стало как на английском плакате «Готов ли ты защитить Родину?».
Военная комендатура помещалась на Екатерининской улице сразу за синематографом «Орион».
— Подождать тебя? — спросил Ахмет.
— Если меня не задержат, то я через три минуты буду, — принял предложение Коля.
Он вошел в здание.
— Зачем вы предложили его ждать, Ахмет? — укорила его Лидочка.
— Сам не знаю, — ответил Ахмет. — Такой вот я соглашатель. Все-таки у нашего Коли неприятности. А береговая артиллерия осталась без прицелов.
— Мне он совсем не нравится, — сказала Лидочка Андрею, видно, хотела развеять могущие возникнуть подозрения. — Честное слово. В нем есть что-то от фата.
Коля выбежал из комендатуры.
— Этого господина нет — и вообще никого нет. Они, видите ли, обедают. Как будто не война, — сообщил он, садясь рядом с Ахметом. — Будут только в два. Кстати, я смертельно голоден. Я даже не позавтракал утром из-за этих мерзавцев. Запороть бы их всех!
— И патронов не жалеть, — дополнил Ахмет. — Где прикажете обедать?
— Где хочешь.
— Мы ехали в Массандру. Ты с нами?
— Если к двум привезешь обратно.
— Будет сделано, господин Гамлет, — сказал Ахмет.
Коля поморщился.
— А ты кого возишь на этот раз? — спросил он.
— Важных шишек.
— Лучше бы пошел в армию, чем прислуживать.
— Мы, татары, люди маленькие, — сказал Ахмет.
Андрей не стал вмешиваться в разговор. Видно было, что Ахмет не склонен откровенничать.
Они обедали в небольшом кафе над морем. Вышло солнце, стало тепло, но не в тени. Коля немного успокоился и даже надеялся уже, что, когда вернется, застанет своих дезертиров на месте. Он все смотрел на Лидочку, и Андрею это было неприятно. Но Лидочка тщательно избегала его взглядов.
— Ты в больницу сегодня поедешь? — спросил Ахмет. — Я тебя могу отвезти.
— Я вчера был, — сказал Андрей.
— Чего ж молчишь? — сказал Ахмет. — Ты с ней разговаривал?
— Разговаривал. Только контрабандой. Она не хочет со следователем говорить. Ждет отчима. Боится ему повредить.
— Слушай, самое важное, — сказал Ахмет, — она их видела?
— Видела, но не узнала. Там темно было, наверное.
— О чем ты говоришь? — спросил Коля.
— Ты не понял? О Глаше. Все думают, что она без сознания, и ждут, когда она придет в себя.
— А почему она без сознания?
— Ты ничего не знаешь? — удивился Андрей.
— О чем я должен знать?
— Что моего отчима ограбили, что было нападение!
— Еще чего не хватало! Почему никто мне ничего не говорит? Лида, мы же виделись с вами три дня назад, как я приехал. Почему вы мне не сказали?
— Мы так мало говорили, — сказала Лидочка, оробев. Она отыскала под столом пальцы Андрея и схватилась за них, как ребенок.
— Все в Ялте знают, — сказал Андрей. — Мы тоже думали, что ты знаешь.
— Я не в Ялте. Я в Феодосии. Расскажите по-человечески, что произошло?
Андрей рассказал. Он рассказал скупо, как о давно прошедшем событии.
— Да… — сказал Коля наконец. — Куда катимся? Человеческая жизнь теряет цену.
Андрей смотрел на море. Далеко по горизонту серым силуэтом двигался военный корабль. Он вспомнил, как спорили два грека по дороге из Алушты.
— Видишь? — спросил Андрей Лидочку.
— Они на учения ходят из Севастополя, — сказал Коля. — Патрулируют берег.
На фоне серого силуэта образовалось махонькое ватное облачко. Рядом с ним — другое.
— Учебные стрельбы, — сказал Ахмет, которому тоже хотелось показать свою образованность.
Облачка поплыли вверх, образуя зонтики, как бы стараясь слиться с облаками в небе. Издалека донесся тяжелый гул.
— Смотрите! — Лидочка обернулась к Ялте, что полукругом расстилалась слева внизу. В скоплении домиков недалеко от набережной поднимался черный, расширяющийся кверху столб дыма. Затем, ближе к порту, — второй.
— Что это?
— По-моему, это стреляют, — сказал Ахмет. — По-моему, это не учебные стрельбы.
— Значит, это не наш корабль?
Лидочка вскочила.
— Турецкий, да?
— А что же наши? Что же они смотрят? Этого не может быть. — Андрей смотрел, как новое облачко образовалось возле силуэта корабля, и ждал новой волны гула, ждал с любопытством, зная заранее, как человек, кинувший камень с обрыва, что сейчас снова в Ялте поднимется черный взрыв. И старался угадать — где. Он не угадал. Рвануло куда ближе к порту.
— Ну поехали, поехали же! — умоляла Лидочка.
— Может быть, переждать здесь? — спросил Коля. — С нами дама. И мы не знаем, сколько продолжится обстрел.
Но его не слушали.
Когда они въехали в город, корабль уже скрылся за горизонтом. Двухэтажный дом горел, и из него выносили вещи. В порту был разрушен склад — над ним поднимался черный маслянистый дым. Лидочка попросила остановить у здания порта. Они побежали внутрь. Там была бессмысленная суматоха, звонки по телефонам, споры. Двое матросов ввели третьего, раненого, у него была в крови щека, и он прижимал к груди кое-как обмотанную вафельным полотенцем руку.
Кирилл Федорович был на месте, он велел Лиде спешить домой и успокоить маму. От облегчения Лидочка начала плакать. Они повезли ее домой. Ахмет попрощался и уехал.
Став свидетелем бурной сцены возвращения домой дочери, «которую уже не ждали», Андрей хотел вернуться к себе, но Евдокия Матвеевна уговорила его вынести топчан в небольшой сад сзади дома, и там он лег. Андрей был благодарен Евдокии Матвеевне. Ему никого не хотелось видеть. Он лежал, прищурив глаза, и смотрел сквозь осеннюю листву на солнце. Потом незаметно заснул. А проснулся, когда уже был вечер.
После ужина он, помаявшись в нерешительности, спросил Лидочку:
— Ты не обидишься, если я сегодня попрошу у Евдокии Матвеевны твоей руки?
Лидочка удивилась. Захлопала ресницами, как ребенок, которому обещают поездку на рождественскую елку, а может, в цирк.
— Ой, что ты! — сказала она. — Сейчас?
— А ты возражаешь?
— Я совершенно ни капельки не возражаю, — сказала Лидочка решительно. — Но сейчас такое время, что ничего не известно.
— Именно поэтому я не хочу откладывать.
Лидочка взяла его за руку и повела в залу, где мама накрывала на стол.
— Мама, — сказала она, — папа уже встал?
— Иду, — отозвался Кирилл Федорович. — Иду, иду. — Он был в халате и шлепанцах. — Это был немецкий линейный крейсер «Гебен», — сказал он. — Прорвался из Босфора. Наши линкоры ведут преследование. Сегодня-завтра с ним будет покончено.
— Папа, погоди, — сказала Лидочка, — Андрей хочет сказать важную вещь.
Отец не заметил, что они стоят держась за руки. Но Евдокия Матвеевна заметила. Она смотрела на сплетенные пальцы.
— Извините, наверное, вам покажется, что сейчас не время и я еще очень молод, — сказал Андрей. — Но я прошу Лидиной руки.
— Я согласна, — быстро сказала Лида, будто боялась, что родители откажут или, еще хуже, будут смеяться.
— Ну что ж. — Кирилл Федорович, к которому все обернулись, откашлялся и сам посмотрел на жену. — Конечно, это неожиданно, но, с другой стороны, если есть чувство? Правда, Дуся?
— Идите, я вас поцелую, — сказала Евдокия Матвеевна. — Вы — хорошие дети.
Она поцеловала Андрея в лоб, потом Лиду. Кирилл Федорович ушел, и Евдокии Матвеевне пришлось звать его. Он переодевался.
— Несолидно! — смущенно откликнулся он. — Надо в мундире.
Перекрестив их, Евдокия Матвеевна серьезно сказала:
— Я рада, что вы нашли друг друга. Я не желаю Лиде другого мужа, а себе зятя. И дай вам Бог держаться друг дружки в наше жестокое время. Но пока что о свадьбе и речи быть не может.
— Мы еще и не обсуждали, — сказала Лидочка. — Ты не беспокойся.
Здесь она была командиром, и в конце концов все получалось так, как она хотела.
За ужином никто и словом не упомянул свадьбу. А Андрею в какой-то момент показалось, что свадьба уже свершилась. Давно.
И он уже много, может, сотни раз сидел за этим столом в этой зале. И даже то, что Кирилл Федорович стал говорить о политике, о наступлении в Галиции и перспективах на Средиземном море, было привычным.
Потом Евдокия Матвеевна вдруг смутилась — где постелить Андрею. Но Андрей напомнил, что ночует в доме отчима. Это привело его будущую тещу в ужас.
Когда он шел по переулку, он тихо повторил слово: «Невеста». Это было очень красивое слово.
Лидочка высунулась из окна:
— Приходи как можно раньше!
Спустившись на набережную, он увидел небольшую толпу. Толпа была неподвижна и под светом фонарей казалась театральным хором.
Оказалось, что люди рассматривали воронку, которая осталась после взрыва немецкого снаряда. Воронка была неглубока, но землю разметало вокруг, и розовый куст лежал на боку.
На этот раз дом отчима был не столь зловещ, как вчера.
Полицейский, узнавший Андрея, был добродушен. Он зашел в дом следом за Андреем и, когда тот предложил напоить его чаем, сразу согласился, сам разогрел самовар, а пока Андрей был у себя в комнатке, пошел в сад и крикнул оттуда:
— Не возражаете, если я яблочек соберу? Все равно пропадут.
Яблоки у отчима были чудесные. Он сам выводил новые сорта, даже ездил к одному чудаку в Козлов Тамбовской губернии, о котором был высокого мнения. «Человек не признает Менделя, — говорил отчим, — но чутьем, интуицией добивается сказочных результатов. Бербанк бы ему позавидовал. К сожалению, Россия не страна для талантов. Талант у нас не только оценить, но и использовать не умеют».
Когда обрадованный разрешением полицейский шумно полез в сад, Андрею стало жалко, что тот погубит что-нибудь из трудов отчима, и он, не решившись отказаться от непродуманного решения, вышел в сад за урядником, полагая, что в его присутствии тот особенно не разгуляется. Тем более что в саду уже было почти темно и цепочка лампочек, зажженная Андреем, придавала ему праздничный вид, словно сейчас с террасы послышатся голоса гостей и звон бокалов. Полицейский оказался не нахальным, веток не ломал, набрал разных сортов полную фуражку и, положив ее на столик в саду, сказал, что, когда сменится утром, отнесет домой, у него трое хлопчиков, пускай побалуются. Полицейский был усатый, грузный, говорил певуче и вставлял в речь украинские слова.
Андрей вынес уряднику стул, чтобы тому не сидеть ночью на камне, но тот сказал, что служба этого не дозволяет, после чего уселся на стул и тут же задремал.
На второй этаж Андрей не поднимался. Когда они расставались на ночь, полицейский сказал:
— Я вам, господин студент, туда ходить не советую.
— Почему?
— Я туда часом подымался — ну ровно вурдалаки… — Он не смог яснее выразить мысль, но Андрей понял.
Было уже около двенадцати, и Андрей улегся спать у себя, не закрывая двери в коридор, чтобы услышать, если что-то произойдет снаружи. Он думал, что долго не заснет. Он вновь и вновь повторял в памяти сцену официальной помолвки в доме Иваницких, стараясь воспроизвести, как бы для истории, каждое слово и жест действующих лиц, потом подумал, как он мало знает Лидочку, у которой обнаружился решительный характер. Наличие у Лидочки характера Андрея умилило, и в этом умилении он заснул.
Проснулся он от того, что кто-то заглядывал в окно.
Странно, но спящее сознание Андрея пробудилось не от звука, а именно от того, что в прямоугольнике окна образовался темный силуэт, закрывший луну.
Андрей открыл глаза и мгновенно сообразил, где он, почему он в этом доме. Видно, и во сне он был настороже.
Андрей лежал неподвижно, стараясь разглядеть замершую у открытого окна фигуру. Ему хотелось, чтобы это был отчим. И он даже дорисовал в воображении фигуру человека, сделав ее выше, стройнее, и тогда же понял, что ошибается.
Человек, стоявший в проеме открытого окна, не был отчимом. «Сейчас он начнет перелезать через подоконник, — понял Андрей. — Вот сейчас он протянет руку вперед… А что тогда должен сделать я? Я не успею добежать до двери. Крикнуть? Услышит ли полицейский?»
Фигура стояла неподвижно, словно статуя командора, которая никак не решит, умертвить дон Жуана или подождать… Это сравнение пришло Андрею в голову куда позже. В тот момент он лишь стал подтягивать ноги, чтобы сподручнее соскочить с кровати. Движение Андрея вызвало визг пружин, громкий в тиши, как крик ночной птицы.
Силуэт качнулся вправо и исчез за рамой окна.
Андрей соскочил с кровати и метнулся к двери. Но остановился. Проем окна был пуст. В доме тишина.
Андрей оглянулся в поисках какого-нибудь оружия. Нагнулся, схватил ботинок — ничего более весомого не нашлось — и начал продвигаться к окну. Тот человек явно стоял где-то у стены, иначе бы в этой мертвой тишине Андрей услышал его шаги.
Рама окна приближалась, и звездное, с луной посередине, небо расширялось. Медленно-медленно, стараясь не скрипнуть половицей, Андрей приблизился к окну.
Но в тот момент, когда он мог уже дотянуться до окна, послышался легкий стук убегающих шагов. Андрей увидел, как человек пробирается сквозь поредевшую листву яблонь. Человек бежал легко, он был молод. Андрей понял — это его вчерашний преследователь.
Андрей стоял у окна и думал: позвать урядника? Бесполезно. Даже все урядники Крыма не догонят того человека.
Андрей стоял у окна и вглядывался в темноту. Может, это разведчик был из банды? Сегодня они уже не придут, а завтра дождутся, когда Андрей заснет, и постараются снять его беззвучно, чтобы не услышал полицейский? Но что им нужно в доме? Неужели они в самом деле увезли Сергея Серафимовича, чтобы пытать его до тех пор, пока он не признается в существовании сейфа?
Да, сейф! Конечно, сейф. Глаша сказала, чтобы он взял оттуда пакеты. Почему откладывать это на утро?
Послышались уверенные медленные шаги. Они приближались к окну. На этот раз человек шел не таясь, ступая тяжело, и слышно было, как трещит под ногами гравий дорожки.
Андрей не успел отскочить от окна, как темная фигура надвинулась из ветвей и в лицо ударил свет фонаря. Заслоняясь, Андрей поднял руку.
— Чего не спишь? — Андрей узнал голос полицейского.
— Мне показалось, — сказал Андрей, — что в саду кто-то ходил.
— Значит, тоже показалось? А я задремал было, вдруг слышу — по переулку кто-то бежит. Дай, думаю, погляжу.
— Вот и я думаю, что он убежал.
Урядник еще минут пять бродил по саду, светил фонарем под деревьями, словно искал следы.
— Нету никого, — сказал он наконец издали. — Иди спать. Ты не бойся, хлопчик. Не вернется он.
Раздирая кусты, полицейский пошел прочь к своему посту.
Андрей сел на постель. Спать уже совсем не хотелось. Он посмотрел на часы. Половина третьего. Он подумал, что подождет полчаса, пока урядник снова задремлет, тогда надо будет пройти на кухню и отыскать там какое-нибудь оружие, к примеру — кочергу.
Придумав себе оружие, Андрей уже спокойнее вытянулся на кровати и почти сразу заснул, хотя намеревался бодрствовать до самого утра.
Тут же Андрей очнулся вновь.
Сразу посмотрел на окно. Небо чуть-чуть начало светлеть. Звезды потускнели. Луна скрылась. Почему он проснулся?
И тогда он услышал шум наверху. Не шаги, а какой-то удар, потом снова тишина. Неясный шум… И все смолкло.
Если бы Андрей услышал шаги, он наверняка позвал бы полицейского. Но шагов не было. Андрей знал, что любые шаги сверху хорошо слышны в его комнатке. Бывало, он лежал часами, слушая, как отчим мерно ходит по кабинету, и мысленно следил, как тот доходит до угла, поворачивает, огибает стол, останавливается у окна и возобновляет свое путешествие.
Шагов не было. Андрей сосчитал до ста. Потом до тысячи. Ни звука не доносилось сверху.
Тогда Андрей поднялся, натянул брюки и босиком прошел на кухню. Глаза настолько привыкли к темноте, что он без труда увидел короткую кочергу, лежавшую на железном листе у плиты. Кочерга была тяжелой и надежной.
Прежде чем подняться наверх, Андрей подошел к выходной двери и сквозь стекло постарался разглядеть полицейского. Тот сидел на стуле с внутренней стороны калитки. Голова его свесилась на грудь. Он спал. Но до него было близко — шагов пятьдесят, это успокаивало: достаточно громко позвать, чтобы он проснулся.
Андрей медленно поднялся по лестнице, вышел на темную площадку. Дверь в кабинет была приоткрыта.
Андрей заглянул в щель. В кабинете никого не было. Конечно, некто мог таиться и на веранде, дверь на которую вела через площадку, и потому Андрей, стараясь не наступить на белый контур Глашиного тела, пересек площадку и выглянул на веранду. Она была освещена предрассветной синевой. И пуста.
Что ж, решил Андрей, если здесь никого нет, надо будет взять пакет из сейфа.
Он вошел в кабинет, прикрыл за собой дверь и только сделал шаг к сейфу, как услышал тихий хрип. Близко, у самых ног.
Андрей отпрянул и замер.
Это было за пределами страха. Он даже не мог убежать. Он лишь смотрел вниз и ничего не видел.
Хрип повторился.
Он доносился из-за овального стола, стоявшего в центре кабинета.
Андрей явственно слышал, как там, за столом, на полу кто-то редко, прерывисто дышит. И в этом дыхании была боль.
— О-о-о-ой, — протянул голос. И голос был знаком.
И тогда Андрей, скинув оцепенение, в два шага обогнул стол и увидел, что на смятом завернутом ковре, возле черной в черноте дыры в полу, лежит нечто черное — лежит человек, лежит его отчим. Глаза Андрея каким-то образом получили способность видеть в почти полной темноте — либо узнавание отчима позволило воображению увидеть невидимое: отчим лежал на боку, протянув вперед правую руку и стараясь двинуться, подняться, встать…
— Сергей Серафимович? — прошептал Андрей, даже сейчас понимая, что полицейский не должен его услышать. — Что с вами?
Он присел на корточки, дотронулся до плеча — Сергей Серафимович был в распахнутом халате, из-под которого видна была пятнистая сорочка — в кровавых пятнах. Пальцы Андрея натолкнулись на горячую липкую кровь.
— А-а-а… — Сергей Серафимович начал слово, но ему не хватило воздуха, и он захрипел. Теперь Андрей видел лицо, которое отчим пытался обратить к нему. Андрей подвел руку под горячий затылок отчима и приподнял голову.
— Вы ранены? Вам плохо… я сейчас позову доктора.
— А-а-а-ндрюша, как хорошо, что ты… Молчи, только молчи, Андрей…
Андрей поддерживал голову отчима, и это помогало тому говорить.
— Какое число? — спросил отчим.
— Десятое октября.
— Правильно… хорошо… я ушел… а ты успел…
— Вы потерпите. Там внизу полицейский, я его пошлю за врачом.
— Я велю тебе… я приказываю… нельзя. Слушай.
— Я здесь. — Андрей сказал это, потому что отчим замолчал. Он дышал часто-часто, как загнанная собака.
— Где Глаша?
— Она в больнице.
— Они нашли ее?..
— Она вне опасности, я говорил с ней.
— Ты должен заботиться о ней. Она все расскажет. Верь ей, как себе. Говори…
— Что?
Отчим молчал. Словно собирался с мыслями.
— Я живучий, — сказал он вдруг громко. — Они думали — все. Главное — возьми…
Рука отчима шевельнулась — он старался поднять ее и передать Андрею то, что было зажато в пальцах.
— Возьми… это главное.
Портсигар, который Андрей взял из разжавшихся пальцев отчима, был такой же, как тот, что он получил от Глаши.
— Спрячь… я приказываю… спрячь. Ты должен подчиняться мне. Это твое спасение. Это спасение всех нас.
Андрей понял, что кровь сочится из-под плеча отчима, и хотел найти что-нибудь, чтобы перевязать старика, но тот, словно умел читать мысли, воспротивился.
— Это вторично, — сказал он. — Это пустяки. Я знаю хирургию, меня не спасти. Слишком много крови — легкие… печень… я вижу, как умирает эта глупая оболочка. Смешно?.. Смешно… Ты спрятал?
— Да, — сказал Андрей. Ему некуда было спрятать портсигар. Он держал его в свободной руке.
— Теперь открой сейф.
— Потом, — решительно сказал Андрей. — Сейчас важнее вы.
— Они ни в коем случае не должны найти сейф. Ты поймешь все, когда прочтешь письмо. Это моя последняя воля.
Голос отчима окреп, будто все остатки жизненной силы он вложил в него. Голос гипнотизировал.
— Ты помнишь, где ключи? — спросил отчим. — Отпусти меня. Возьми ключи. Скорее. Никто, кроме тебя, не должен успеть.
Андрей не мог опустить голову отчима на ковер, но, на счастье, рядом стояло кресло: Андрей положил на пол портсигар, рванул на себя подушку с кресла и подсунул ее под голову отчиму.
— Портсигар, — сказал отчим тихо, — ты забыл его.
Андрей нашарил на ковре портсигар, послушно положил в карман брюк. Потом подошел к письменному столу. Он чувствовал, как отчим неотрывно глядит ему в спину.
— До отказа, — приказал отчим.
Андрей вытащил ящик письменного стола и откинул крышку потайного отделения. Звякнули ключи.
— Нашел?.. Хорошо… — Отчим закашлялся. Андрей кинулся к нему, отчим поднял руку, отгоняя Андрея к сейфу. В углу рта отчима показалась струйка крови. Глаза отчима как будто светились во тьме, и Андрей, подчиняясь их безмолвному приказу, нащупал на раме портрета выпуклость, картина щелкнула и отошла от стены.
— Три раза… против часовой… — прохрипел отчим.
— Знаю, — сказал Андрей. Он спешил скорее выполнить приказ отчима, чтобы потом вызвать врача, чтобы отвезти его в больницу. Если все сделать быстро, то его успеют спасти…
— На верхней полке, — сказал Сергей Серафимович. — Письмо тебе. Пакет с долларами. И второй пакет — под ним. Нашел?
— Да, все нашел.
— Не потеряй, это так важно… и никто, никогда…
Голос Сергея Серафимовича окреп.
— Слушай меня. — Голос наполнил всю комнату, от него никуда не денешься, ему нельзя перечить… — Я сейчас умру. Ты уйдешь вниз. Ты ничего не знаешь. Ничего. Пускай меня найдут другие. Уйди отсюда. Спрячь в самом надежном месте… Прости, Андрюша… ты многое не понимал… я тебя любил… Я счастлив, что ты успел…
И голос оборвался. Сразу — в небытие.
Андрей не шевельнулся, не прошло и мгновения. Но Андрей знал, окончательно и без всяких сомнений, что Сергей Серафимович умер. И в сознании остался приказ отчима. Надо уйти. Никто не должен знать об их последней встрече…
Андрей склонился над отчимом. Глаза его были открыты и застыли. Андрей поднял легкую кисть руки. Она была вся в крови. Пульса не было. И все же Андрей приложил ухо к груди отчима. Сердце не билось. Андрей ладонью закрыл отчиму веки.
Он совершал эти действия ровно, автоматически, словно в них содержался некий неписаный ритуал.
Теперь можно было спуститься, сообщить в полицию.
Нет, сначала надо спрятать письмо и документы из сейфа, потом позвать полицию. Нет, сначала вымыться, переодеться…
И тут Андрея охватил ужас.
Если полицейский почует неладное и поднимется наверх, он увидит труп Сергея Серафимовича, а рядом окровавленного Андрея. Значит, продолжала работать в голове какая-то безумная логическая счетная машинка, — надо сначала вымыться, переодеться.
А вдруг отчим еще жив? Вдруг у него глубокий обморок…
Андрей вернулся к телу. Тело заметно похолодело, хотя в раздумьях прошло всего несколько минут. Нет, отчим мертв, и ничто ему не поможет. Надо выполнить его приказания…
Андрей подошел к картине, толкнул ее, чтобы встала на место. Вышел из кабинета и спустился вниз. Кинул взгляд наружу — урядник спал, сидя на стуле у калитки.
Андрей прошел к себе в комнату и быстро разделся. Было совсем темно, и Андрей боялся испачкать кровью кровать или стул. В темноте даже свежее белье не найдешь…
Андрей подумал, что окно его комнаты выходит к морю — полицейский не увидит света. Он затянул занавески и включил настольную лампу. Свет больно ударил по глазам.
Когда глаза привыкли к свету, Андрей поглядел в зеркало и испугался — он и не предполагал, до какой степени он измаран кровью. Переодеваться нельзя, пока не вымоешься. От безысходности положения мысли путались, какие-то мелочи лезли в голову. Вытерев руку о край простыни, Андрей достал портсигар. Ему вдруг захотелось посмотреть, такой ли он, как у Глаши, или нет. Портсигар оказался другим — гладким, со стертым выгравированным узором. «Зачем отчиму портсигар, если он всегда курил трубку?.. Почему я теряю время? Надо уйти. Но куда и зачем? Надо умыться. Но включишь воду, полицейский сразу услышит. Значит, надо умыться и переодеться в другом месте, где полицейский ничего не услышит. Но такого места нет…» А вдруг полицейский уже смотрит на него снаружи? Андрей выключил лампу, подбежал к окну и откинул край занавески. Никого там не было — только рассветная синь…
Андрей стоял у окна и чувствовал, как утекают минуты.
Тогда он понял — выход только один: измазанные кровью вещи уложить в чемодан и, незаметно выбравшись из дома, дойти до Иваницких. Лидочка все поймет. Именно Лидочка — она теперь для него ближе всех.
Андрей вытащил из-под кровати свой чемодан, стащил с кровати простыню. Свернул простыню и белье, сунул все в чемодан. Туда же положил пакеты из сейфа, сверху — чистое белье. Захлопнул чемодан. Было тихо. Брюки снимать не стал — они темные, все равно в темноте не видно. Наконец натянул на голое тело тужурку, застегнулся…
Где-то далеко залаяла собака. Прочистил горло, собираясь пропеть, петух, но передумал.
Скорее, скорее… скоро станет светло.
Андрей посмотрел на часы — без четверти шесть.
Он выбрался в сад через окно и, пригибаясь, отводя ветки яблонь, вышел к веранде, которая обрывалась к крутому склону.
Подпорная стенка веранды оказалась выше, чем он предполагал, и Андрей понял, что на одной руке не удержаться. Он кинул вниз чемодан, и тот неожиданно гулко ударился о камень, отскочил и уткнулся в ветки куста. Андрей повис на руках — ноги не доставали до склона. Он отпустил руки и пролетел около метра вниз, кусты царапались, чемодан, рядом с которым он закончил свой полет, больно подставил обитый железом угол.
Андрею показалось, что он натворил такого шума, что сбегутся все полицейские России. Он сидел, привалившись боком к колючему кусту, и не смел шевельнуться. Но, на его счастье, крутой склон поглотил шум падения.
Андрей поднялся. Ногу пронзило жуткой болью — неужели сломал? Пересилив себя, Андрей перенес вес на ступню. Было очень больно, но нога выдержала. Андрей взялся за ручку чемодана и увидел, что тыльная сторона кисти расцарапана колючками.
Приводить себя в порядок было некогда. Ковыляя, Андрей спустился по склону к переулку. Потом обернулся. В синем воздухе острая крыша и башенка дома Берестова казались загадочным замком.
Путешествие до Иваницких, которое заняло бы днем минут пятнадцать, растянулось на полчаса. Как Андрей ни спешил, раза три ему приходилось искать укрытия — сначала проехал водовоз, затем два рыбака с удочками в руках, громко разговаривая, обогнали его, вжавшегося в калитку. Третья встреча закончилась не так удачно: старушка в пышном лиловом салопе, в черной шляпе с вуалью вышла погулять со своей левреткой. При виде Андрея та отчаянно залаяла — видно, почуяла кровь и волнение загнанного человека. Она кидалась на Андрея, а тот побежал от нее. Старушка что-то верещала вслед…
Не смея выйти на набережную, Андрей пробирался незнакомыми переулками, попал в тупик, пришлось вернуться…
Подходя к дому Лидочки, он пошел медленнее, стараясь совладать со своим дыханием и не испугать Лидочку, а тем более ее родных своим появлением. Но, видно, дыхание его было таким шумным, что Лидочка, спавшая у окна, услышала и выглянула в окно.
Ей оказалось достаточно одной секунды, чтобы все понять.
— Поднимайся по лестнице, я открою, — прошептала она, и шепот был громче дневного крика.
Оттого, что Лидочка была спокойна, что не пришлось ее будить, наступило облегчение. Он поднялся по лестнице и, остановившись у двери, прислушался. А так как рассвет был безмолвен, то голос Лидочки из-за двери был слышен до последнего слова.
— Не бойся, мама, — говорила она, — спи. Мы договорились с Андрюшей, что, если ему станет там страшно, он придет к нам.
— С ним что-то случилось? — Это был голос Евдокии Матвеевны.
— Нет, мама. Он просто не хочет там больше быть.
— И правильно, — откликнулся голос отца. — Что за идея ночевать в таком месте? Спи, Дуся, не мешай детям.
— Но, может, что-то случилось?
— Все, — сказала Лидочка. — Спите.
Прошелестели босые шаги, звякнула цепочка, щелкнул замок. Лидочка потянула Андрея внутрь и захлопнула дверь.
— Идем ко мне, — прошептала она.
— Я слышал, — сказал Андрей, — ты молодец, ты умница.
— Девятнадцатый год умница, — деловито ответила Лидочка.
Они прошли в ее комнату. Лидочка замерла, прислушиваясь к звукам из спальни родителей, дала знак Андрею заходить внутрь, а сама сказала, обращаясь к закрытой двери в спальню:
— Мама, я же просила — не вставай. Все в по-ряд-ке.
— В самом деле, Дуся, — сказал Кирилл Федорович.
— Я сплю, я сплю, — сказала Евдокия Матвеевна.
Лидочка закрыла дверь и зажгла ночник у кровати.
— Ты только не бойся, со мной ничего не случилось, — сказал Андрей. — Это я оцарапался о барбарис… и кровь чужая.
— А я не боюсь, — сказала Лидочка твердо. — Ты здесь. Ты сам дохромал. Но, наверное, все же что-то случилось.
— Да, — сказал Андрей, — все в жутком беспорядке. Я очень хочу пить.
— Поставить чай?
— Нет, холодной воды.
— Андрей, первым делом вымойся. Я маму из комнаты не выпущу.
Это было самое разумное решение. Андрей поставил чемодан на пол. Открыл его, и Лидочка увидела окровавленную простыню. И тут она не выдержала и ахнула.
Андрей не стал ничего говорить. Он вынул из чемодана чистое белье, потом передал Лиде конверты.
— Раздевайся здесь. Кинь брюки в угол. Не бойся, я отвернусь.
Андрей разделся.
— Брюки все в крови, — сказала Лидочка.
— Не оборачивайся.
— Ты, оказывается, еще целомудренней меня, — сказала Лидочка.
Она быстро завернула в простыню его вещи.
— Ничего страшного, — сказала она. — Ванная напротив моей двери. Ты помнишь? Свет зажигается справа.
Андрей приоткрыл дверь. За дверью спальни Иваницких было тихо, но Андрей понимал — там не спят, а прислушиваются к каждому его шагу и не очень верят в версию об испуге, заставившем его прийти в гости в шестом часу утра.
Андрей прошел в ванную. Вода в ней согревалась печкой, так что придется потерпеть холод.
Он посмотрел на себя в большое зеркало — кровь прошла сквозь белье, на теле были пятна, не говоря уж о руках. Холодная, страшно холодная, невтерпеж, вода плохо смывала кровь и розовела. Андрей чувствовал запах крови, неприятный и мертвый. Он скреб себя мочалкой, чтобы было не так холодно, но, даже вымывшись, не был уверен, что стер с себя все следы крови.
И оказался прав — когда он поглядел на полотенце, на нем обнаружились розовые пятна.
Когда Андрей вернулся к Лидочке, она как раз сняла простыню с кровати, завязала в нее вещи Андрея, туда же кинула полотенце. Она уже принесла цивильные брюки Кирилла Федоровича — они были широки и коротковаты.
Узел с вещественными уликами Лидочка засунула под кровать. Затем взяла со столика баночку с кремом и сказала:
— Протяни руки, ты весь исцарапан, может воспалиться.
Движения ее тонких пальцев были нежными и летучими.
— Ты чего молчишь? — спросила Лидочка. — Ты рассказывай. Ведь случилось что-то очень страшное, правда?
— Да, — сказал Андрей, — Сергей Серафимович умер.
— Как умер? Где умер?
— У себя в кабинете, у меня на глазах.
— Значит, он все-таки вырвался от них…
— Как вырвался? — не понял Андрей.
— Вырвался и вернулся домой?
И только тут Андрей понял, что ему не приходило ранее в голову — как отчим оказался в кабинете?
— Странно, — сказал Андрей. — Он же должен был вернуться. И пройти мимо полицейского. И подняться по лестнице…
— Это не важно, — сказала Лидочка. — Главное, он дошел. Наверное, он не хотел привлекать к себе внимания?
— Конечно, это могло быть… нет, не могло! — сказал Андрей твердо. — Ты не представляешь, в каком он был состоянии — он был весь израненный, исколотый… он умирал. Нет, я не могу тебе все объяснить.
— Тише, мама услышит.
— Понимаешь, я услышал стон, хрип… он не мог двигаться. Он лежал на полу и почти не двигался…
— Не думай сейчас об этом, это ужасно. Не думай…
— Подожди, — отмахнулся Андрей. — Я совсем запутался… Сергей Серафимович исчез, причем следователь говорил, что было столько крови и даже ковер был разрезан. А сегодня он вернулся…
— Андрюша, не надо!
— Я услышал его сверху — было так тихо, что я услышал движение в кабинете. И ты хочешь сказать, что я не услышал, как он прошел по коридору и по лестнице?
— Значит, сначала ему было лучше, а когда он попал в кабинет, ему стало плохо…
Андрей согласился с ней, потому что ее устами говорил здравый смысл. Единственный якорь в этой ситуации — здравый смысл. Но Андрей понимал, что прав был он, а не Лидочка — она ведь не видела отчима. Она там не была!
— Ты правильно сделал, что пришел к нам. — Лидочка положила руку на его колено.
— Я пришел, потому что не знал, где спрятаться. Я подумал, что они увидят, что на мне кровь… они подумают, что я его убил.
— Не говори глупостей. Почему они подумают?
— Ты не представляешь, как они думают… а я разговаривал с Вревским. Ему нужен преступник. Он всех подозревает. И я понял, что там, в доме… — Андрей замолчал. Он понял, что им руководили соображения более важные, чем только попытка бегства. Документы отчима! — Послушай, — сказал Андрей, — я тебе все расскажу, а ты скажешь, что думаешь.
И Андрей передал ей разговор с отчимом.
— Получаются два портсигара. Как в романе о шпионах, — сказала Лидочка. — Если у тебя портсигар и у меня такой же портсигар, то мы друг друга узнаем. Это условный знак. Пароль.
— Нет, — сказал Андрей. — Портсигары разные.
— Покажи.
Они положили портсигары рядом на кровать. Портсигары были совершенно разные. Одно их объединяло — они не открывались.
Лидочка наклонилась, разглядывая портсигары, и ее распущенные волосы, упав на плечо, скрыли лицо. И вдруг Андрей увидел свою невесту! Последние полчаса он видел Лидочку — не плотскую земную Лидочку, а как бы образ Лидочки, подруги… Ночная рубашка смялась и обнажила коленку. Коленка была маленькая, узкая, и можно было ее погладить. Андрей протянул руку и дотронулся до коленки. Лидочка свободной рукой легонько оттолкнула его пальцы и поправила ночную рубашку.
— Наверное, про портсигары сказано в письме, — сказала она. И добавила: — Мне бы очень не хотелось, чтобы Сергей Серафимович в самом деле оказался немецким шпионом. А все идет к тому.
— А Вревский думает, что я из его банды, — сказал Андрей.
— Ты знаешь, что тебе придется сделать? — спросила Лидочка. — Ты должен вернуться в дом отчима, лечь в постель и утром вести себя так, словно ты ни о чем не подозреваешь.
— Вернуться туда?
— Любой другой твой поступок будет подозрительным.
— А если я скажу, что был у тебя?
— Глупости. Ты ночью был там, полицейский подтвердит, а под утро убежал ко мне. И тут они находят тело твоего отчима.
Лидочка задумалась… потом вздохнула и продолжала:
— Как страшно… я, наверное, совсем бессердечная. Умер человек, умер твой отчим… я бы умерла от страха, если бы была там. Андрюшенька, бедный мой…
Андрей понял, что она плачет, стараясь не плакать, и оттого плечи ее вздрагивают и на шее напряглась жилка.
— Это я бессердечный, — сказал Андрей, прижимая Лидочку к себе. — Я должен был бежать, звать людей, врача, полицейских… а я открывал сейф и слушался его. Мне не надо было слушаться. А потом струсил.
— Ты слушался, потому что уважал его, — серьезно сказала Лидочка. — Если бы ты не стал слушаться, ему было бы еще хуже. Он же сказал, что это счастье, что ты оказался там?
— Сказал.
— Значит, для него самое важное было передать тебе портсигар и пакеты. Это была его воля. Он ведь не говорил об убийцах или полиции. Он говорил о сейфе, правильно?
— Я был как загипнотизированный. Я понимал, что делаю неправильно, но все равно подчинялся ему.
— Тогда иди, — сказала Лидочка, — я своих успокою. Главное, чтобы тот полицейский не пошел проверять, где ты.
— Подожди, — сказал Андрей, — сначала надо прочесть письмо. В нем может быть написано что-то очень важное. Срочное.
— Уже скоро семь.
— И все-таки надо прочесть.
— Тогда читай, а я отвернусь.
— Лидочка, милая моя, — сказал Андрей, ощутив себя вдвое старше невесты. — Это не письмо от подруги. Теперь ты вместе со мной, навсегда как один человек, неужели ты не понимаешь таких простых вещей?
— Читай, — сказала Лидочка.
Но Андрей, как бы оттягивая момент чтения письма, сначала раскрыл другой пакет. В нем лежала толстая пачка банкнот. Ну конечно же, это доллары. Отчим показывал их.
— Это какие деньги? — спросила Лидочка, которая никогда не видела американских денег.
— Доллары. Видишь, написано: сто долларов.
— А в этой пачке их, наверное, несколько тысяч.
— Да, наверное.
Андрей вложил деньги обратно в конверт, раскрыл второй — в нем оказались рукописные листки, большие салфетки акционерных бумаг, несколько пятисотенных купюр и две общие тетради в кожаных обложках.
Оставался лишь узкий серый конверт из плотной бумаги, вдвое превышавший размером почтовый. На нем сильным бегучим почерком отчима было написано:
Андрею Сергеевичу Берестову в собственные руки.
Конверт был заклеен. Лидочка взяла с письменного стола костяной ножик для разрезания бумаг и протянула Андрею.
Андрей вскрыл конверт. В нем лежало несколько листков, написанных тем же почерком. Последний лист, видно, приложенный позже, был напечатан на пишущей машинке.
— «Дорогой Андрюша! — начал читать Андрей. — Не представляю ситуации, в которой ты увидишь эти строки. Но знаю, что ты прочтешь их уже взрослым и, надеюсь, разумным, рассудительным человеком, который может, столкнувшись с невероятным, оценить его трезво, не впадая в панику и не уповая на мистические объяснения, так любимые слабыми духом людьми».
— Погоди, — сказала Лидочка. Она подкралась на цыпочках к двери и резко приоткрыла ее. — Нет, — прошептала она, закрывая дверь. — Они спят. Или делают вид, что спят. Читай дальше, Андрюша.
— «…Несмотря на то что ты и не замечал, а замечая, сердился, я все последние годы старался воспитать в тебе если не ученого, то по крайней мере существо вполне рациональное. Я тебе казался сухарем, педантом. А тебе хотелось от меня ласки и теплоты. Впрочем, теплоту тебе компенсировали те добрые дамы, которые куда более посвятили себя твоему чувственному воспитанию, — я имею в виду замечательную Марию Павловну и Глафиру…»
— Ты чего замолчал?
— Я вспомнил, что Глаша в больнице… у нее лицо повреждено. — Андрей подумал о другом, он понял, что в словах отчима заключен укор. Хотя, впрочем, эти строки могли быть написаны более чем год назад — ведь письмо уже существовало в прошлом году. — «Я втройне обязан заботиться о твоем благополучии. Во-первых, в память о твоем отце, которого я знал и ценил, затем в память о твоей матери, которую я любил, и, наконец, в силу того великого и непонятного тебе сегодня дела, которому я посвятил жизнь».
— А кто был твой отец? — спросила Лидочка.
— Я не знаю. Никто мне не сказал. Может, это будет здесь?
Андрей сообразил, что на улице рассвело настолько, что голубой свет, проникавший через окно, уже притушил ночник, к которому он склоняется, читая. Андрей поднялся и подошел к окну.
— «Я не могу тебе рассказать всего. И не нужно. Излишнее знание взбаламутит твою душу, и я боюсь, что, читая письмо, ты и без того находишься в смятении из-за того, что происходило вокруг тебя за последние дни или часы.
Я допускаю, что в момент, когда ты читаешь эти строки, меня уже нет в живых и ты в этом убежден. В случае же, если я исчез, ты также волен распоряжаться деньгами, оставленными именно тебе, и ценностями, что находятся в шкатулке в известном тебе месте…»
— Это та самая шкатулка, которую украли?
— Да, она. — Андрей продолжил чтение: — «Однако если я не умер — то есть моего трупа (прости за неловкое слово — странно писать о себе: «мой труп») ты не видел, — значит, есть шансы нам увидеться в будущем. Когда — не знаю. Я не всегда волен располагать собой.
Итак, самое главное: если я умру, Глаша передаст тебе портсигар. Если исчезну — отдаст свой. Она окончательно высказала желание более им не пользоваться. Этот портсигар и есть загадка, которую ты должен постараться понять. И не пугаться, как пугаются люди всего, что лежит за пределами их скудного жизненного опыта.
Я перехожу к главному, и мне трудно найти слова, которые бы тебя убедили.
Дорогой Андрюша, время — это несущийся вперед поток, в волнах которого все мы обречены бултыхаться. Но представь себе пловца, который может, презрев опасности, плыть по течению, обгоняя волны. Этот пловец вырвется из движения, к которому прикован любой неподвижный, влекомый потоком предмет.
Существует устройство — называй как хочешь, — которое может превратить тебя — бессильную щепку в потоке — в активного пловца. Я рад бы объяснить тебе, как устроена эта машина, но ее устройство — за пределами моих знаний. Когда-нибудь ты узнаешь больше.
Портсигар, который ты держишь сейчас в руке, и есть эта машина.
Подобная машина времени изображена в романе Герберта Уэллса, который я заставил тебя прочесть несколько лет назад, хоть он тебе и не понравился. Правда, английский писатель, ограниченный лишь пределами собственного воображения, позволил герою двигаться произвольно, как по течению времени, так и против него. Последнее в действительности невозможно: движение времени лишь поступательно. Ты понял?»
Андрей перевел дух.
— А я ничего не поняла, — сказала Лидочка.
— Я думаю, сейчас нам и не надо понимать, — сказал Андрей. — Мы должны прочесть, увидеть… мы потом поймем.
— Читай дальше. Уже восьмой час. Меня больше беспокоит, как ты вернешься домой.
— «Пользоваться портсигаром просто. Он не открывается, да и не может открыться, потому что внутри его находятся микроскопические детали, из которых создана эта машина. Но если ты три раза с интервалом в одну секунду нажмешь на кнопку, которой портсигар якобы открывается, то на противоположном ребре появится длинный выступ, поделенный рисочками».
Андрей сказал:
— Дай сюда портсигар.
Лидочка взяла с постели один из них и протянула ему.
Андрей три раза нажал на кнопку, словно стараясь открыть портсигар. Лидочка подошла и смотрела, стоя перед ним.
На другой стороне длинным выступом появилась узкая планка, на которую был надет шарик.
Держа портсигар в руке, Андрей снова обратился к письму, как к инструкции к сложной детской игре, в которой надо разобраться.
— «Запомни — твоя рука должна двигаться очень точно. Делений на планке тридцать одно. Каждое — день. Однако если ты, прежде чем сдвинуть шарик вдоль планки, нажмешь на него, то нажатие умножит скорость твоего плавания вдесятеро. Нажал дважды — скорость твоя возрастет еще вдесятеро. То есть каждая риска символизирует уже путь в десять, а то и в сто дней».
Андрей нажал на шарик. Тот послушно вошел в серебро портсигара и тут же выскочил обратно.
— «Теперь, — продолжал вслух читать Андрей, — осторожно веди шариком вперед. И снова нажми им в той точке, где хочешь остановиться. И ты окажешься именно на таком расстоянии во времени…» Ой! Ты что? — воскликнул Андрей.
Портсигар, выбитый из его руки Лидочкой, отлетел в сторону и упал на кровать.
— Неужели ты не понял! — криком шептала Лидочка. — Неужели ты не понял — что ты, читая, все делал?.. Если бы я не выбила его, ты бы уже улетел в будущее! Я ведь спасла тебя!
Андрей стряхнул с себя оцепенение.
— А знаешь, — растерянно улыбнулся он, — и в самом деле я чуть не нажал… — Он со страхом и почти отвращением смотрел на портсигар, лежавший на смятом одеяле. — Ничего себе, — продолжал он, задним числом все более пугаясь. — Я оказываюсь где-то там… А ты здесь.
— Не бойся, — сказала Лидочка решительно. — Я бы поплыла за тобой. У меня остался второй портсигар.
— За мной?
— Разумеется, — ответила Лидочка убежденно, — я же тебя люблю.
— А мама, папа?
— Не смей так говорить! — вдруг рассердилась Лидочка. — Ведь ничего не случилось.
— И ты поверила этому письму? Этого же быть не может!
— Твой отчим был сумасшедшим?
— Он был чудаковатый… нет, совершенно нормальный.
— А раз так, ты должен догадаться! У тебя же есть доказательства!
— Доказательства?
— Ну какой ты несообразительный! Ведь теперь понятно, почему Сергей Серафимович исчез в ту ночь, а ты увидел его сегодня. Понимаешь? Этого нельзя подстроить. Если ты представишь себе, что на него напали, его убивали, а он не мог ничего поделать — он дотянулся до портсигара и уплыл… уплыл на несколько суток вперед.
— Но почему он тогда умер?
Лидочка склонила голову набок, разглядывая Андрея, как маленького ребенка, который задает вопрос: «А где у паровоза лошадь?»
— Для него это было мгновение! Он был ранен пять дней назад. Он уже умирал пять дней назад… он убежал от них. Но для него это не пять дней, для него это несколько минут!
Андрей посмотрел в глаза Лидочки. Они отражали утренний воздух и голубизну неба. В них была глубокая, несокрушимая вера, Андрей еще пытался разобраться, сомневался, путался в мыслях, потому что отчим оказался прав, а человек не может воспринять того, что находится за пределами его опыта. Лидочка сразу приняла правила игры. И нашла всему простое и трезвое объяснение.
— Ты понимаешь, почему Глаша хотела, чтобы ты был в доме, если вернется отчим? Она знала, что он плывет в потоке времени…
— Для тебя это просто?
— Все сложное состоит из простых вещей. Читай дальше, там немного осталось. Только обязательно сегодня же в больнице спроси у Глаши подтверждения, хорошо?
— Пойдем вместе в больницу?
— Нет, пойдешь ты. Ты наследник.
— Наследник чего?
— Этого я еще не понимаю. Но знаю, что ты наследник.
Андрей продолжил чтение:
— «Помни — уйдя в будущее, ты никогда не вернешься назад. Люди, которых ты оставишь, состарятся в то мгновение, когда ты будешь нестись в потоке времени. Деревья вырастут, дома обветшают…
Теперь, когда ты знаешь главное, я скажу тебе: никогда не расставайся с портсигаром. Твоя жизнь принадлежит не только тебе, но и вечности. Отныне у тебя есть долг, смысла которого ты пока не знаешь. Помни — ни одна живая душа не должна знать о твоей тайне. Надеюсь, у тебя хватит ума это понять. Людей сжигали и за меньшие грехи…
Уже сейчас я могу сказать тебе с уверенностью, что наступают тяжелые времена, но масштабов бедствий и перемен не знаю даже я. Может быть, тебе будет грозить смертельная опасность. Портсигар — средство твоего спасения. Ты сможешь укрыться в будущем. И если будущее будет так же опасно — ты можешь и должен уйти дальше.
Помни, отныне ты иной, чем все люди на Земле. Но ты должен быть достоин своего дара. Так как за все на свете надо платить. И достойный платит честно.
Обнимаю тебя. И люблю — о чем ты, может, и не подозреваешь. Сергей». Дальше — на машинке, — сказал Андрей.
— Читай, читай, скоро восемь!
— «Дописываю эти несколько строк, ожидая твоего приезда. Мировая война, о которой я тебе говорил и которую предчувствовал, началась. Если мы встретимся, то поговорим подробно и я расскажу тебе о той роли, которая нам с тобой выпала. Когда ты вернешься памятью к странным, на твой взгляд, событиям, имевшим место у меня в кабинете прошлым летом, подумай и поверь мне, что они были частью того дела, которым я занимаюсь. Надеюсь, что в ближайшие дни мы с тобой увидимся и тогда смысл в этой приписке отпадет.
Если что-то случится со мной, тебе все объяснит Глаша. Верь ей, как мне. Она тяжело переживала то, что случилось. Будь к ней милосерден. Я не был милосерден и глубоко виноват.
Если будет нужда спастись — уходи не столь далеко. Дальние путешествия опасны тем, что мир вокруг коренным образом изменится и ты окажешься среди людей и обстоятельств, тебе непонятных и потому опасных. Если я с тобой не встречусь — тебя найдут. Еще раз прощай. Сергей». Вот и все, — сказал Андрей.
— Хорошо, — сказала Лидочка. — Теперь беги.
— Но мы же ни о чем не поговорили!
— Не будь наивным — ты должен успеть пробраться в свой дом. Если что-нибудь откроется — пускай тебя разбудят там. Понял?
— Хорошо. — Андрей все еще медлил. Переход от невероятной экстраординарности письма к будничной необходимости бежать, таясь, по улицам Ялты был слишком резок.
Но Лидочка, отняв письмо и кинув на кровать, уже подталкивала его к двери.
— Я все уберу. И буду ждать. За меня не беспокойся.
Она отворила входную дверь, и тут Евдокия Матвеевна не выдержала и окликнула из спальни:
— Это еще что такое? Андрюша уходит?
Андрей успел увидеть, как ее встрепанная голова высунулась из спальни.
Чем более Андрей отдалялся от дома Иваницких, тем яснее он понимал, насколько права была Лидочка, гнавшая его обратно.
Восемь часов. Уже рассвело. Бегут в гимназию первоклашки — веселые, вот остановились возле воронки на набережной — как интересно! Издали видно, как они машут руками. Потом спешат к морю, всматриваются в даль, ждут, а может, еще один крейсер придет, может, еще раз стрельнет?
Что с ними будет через год, через три года? Неужели страшные прорицания отчима сбудутся?
«Отчим… как не хочется думать о том, что он лежит в кабинете на ковре, будто брошенная, никому не нужная вещь. Надо идти в госпиталь и сказать обо всем Глаше. Для Глаши отчим — это вся жизнь. Что она будет делать теперь? Доживать в пустом доме? А может, мне как честному человеку надо жениться на Глаше? Лидочка поймет меня, и мы проживем втроем всю жизнь и будем несчастны… и что за чепуха лезет в голову!»
Андрей быстро шел по улице. Солнце взошло, тени еще были длинными, лиловыми; желтые и оранжевые листья, устилавшие мостовую и свисавшие с подпорных стенок, шум просыпающихся домов и дворов создавали ощущение сказочного города, где все люди должны быть добрыми и деловитыми, как гномы…
Последний поворот. В животе заныло и стало жарко. Надо будет влезть снова по откосу — но как поднимешься на подпорную стенку? Придется возвратиться мимо полицейского, Может, он еще спит? А то надо перелезть через забор — забор невысок, меньше сажени, но сложен из гладких, подогнанных друг к дружке плит.
Пока Андрей рассуждал, как проникнуть в дом, полицейский его увидел. Разминаясь, он как раз шел вдоль ограды навстречу Андрею и был удивлен не меньше, чем тот, нечаянной встрече.
— Это… — сказал он. — Вы чего? Я думал, вы спите.
— Не спалось, — сказал Андрей как можно естественней. — Встал и пошел погулять. Утро такое хорошее…
Урядник тоже опомнился.
— А как мимо меня прошел?
— Я через забор, — сказал Андрей, разводя руками. — Чего вас беспокоить. У вас служба, вы устали, задремали.
— Не дремал я, — твердо ответил урядник. — Муха пролетит — услышу.
— А я издали решил, что задремали, — настаивал Андрей. — Ну, думаю, чего беспокоить… Вон там перепрыгнул.
— Дело молодое, — согласился полицейский. — Гулял, говоришь?
— Я на набережную спустился, кофе попил, — сказал Андрей. — Готовить-то мне некогда. А вы, если хотите, поставьте себе самовар.
Тут он понял, что они стоят посреди улицы. И Андрей, обогнув полицейского, пошел наверх. Тот вздохнул и затопал сзади.
— Чаю можно, — сказал он. — Я еще яблочек сорву, если не возражаете. Ведь ясное дело — пропадут. Кто их собирать будет?
Они подошли к калитке. Дом был освещен утренним солнцем, входная дверь приоткрыта. Сейчас выйдет Глаша… воскликнет: «Андрю-у-уша приехал!», а потом на пороге появится Сергей Серафимович с длинной трубкой в зубах…
— Слухай, — сказал полицейский. — А с курями что делать?
— С какими курями?
— А в сарае куры. Их кормить надоть. И яйца несут, понимаешь?
— Возьмите их себе, — сказал Андрей.
— Нет, — сказал полицейский, хотя предложение его заинтересовало. — Может, хозяйка вернется.
— Давайте так сделаем, — сказал Андрей, — вы яйца себе возьмите. А кур кормите.
— Добре. Я жинке кажу. Она пока за яичками приходить будет, заодно и корму курям задаст.
— Спасибо, — сказал Андрей, — большое спасибо.
Он пошел к дому. По дороге сорвал длинное яблоко. Оно было налито янтарным соком.
Ступить в дверь, за которой таилась неведомая полицейскому смерть, было трудно. Андрей понял, что не может даже откусить от яблока, настолько все в нем окаменело. Урядник стоял за спиной и тяжело дышал, словно переваривал какой-то трудный вопрос. Не дожидаясь вопроса, Андрей вошел в тишину, погрузился в запах бедствия.
Он прошел к себе в комнату. Кровать была смята, простыни не было, зато на пододеяльнике Андрей сразу увидел следы крови — видно, в темноте задел да не заметил. Он стащил с кровати пододеяльник, спрятал его в шкаф, затем аккуратно застелил кровать одеялом.
Возясь с кроватью, Андрей все время прислушивался к шорохам дома — он понимал, что надо подняться наверх и посмотреть на отчима, как он там, один… как будто тот спит и требует внимания.
Андрей за те минуты ни разу не вспомнил ни о портсигаре, ни о письме. То осталось у Лидочки — здесь были другие тревоги.
Сквозь усиливающийся шум утра Андрей вдруг услышал, как к дому кто-то подъехал. Может, смена полицейскому? Хорошо бы смена — Андрею надо подняться наверх, а потом бежать в больницу и рассказать Глаше о том, что с отчимом, раньше, чем успеют другие…
В коридоре простучали короткие уверенные шаги. Замерли у двери Андрея. Раздался стук, и тут же дверь растворилась. На пороге стоял следователь Вревский.
— Доброе утро, — сказал он, — как почивали?
— Спасибо, — сказал Андрей. — Хорошо.
— Вас ничего не беспокоило ночью?
— Что должно было меня беспокоить?
— Вы никуда не выходили ночью?
— Простите, это допрос? — спросил Андрей.
— Нет, я интересуюсь вашим времяпровождением, — сказал Вревский, скулы его играли и челюсти двигались, будто он дожевывал нечто крепкое. Маленькие глаза смотрели в упор.
— Я спал, — сказал Андрей, — потом утром ходил вниз, пил кофе. Вернулся…
— Если вы не возражаете, — сказал Вревский так, что ясно было — возражения Андрея он в расчет не возьмет, — я попросил бы вас сопровождать меня в одно место.
— В какое?
— Вы узнаете по прибытии.
— Простите, но я не обвиняемый.
— Я вас ни в чем не обвиняю. Но в интересах следствия вы должны немедленно следовать со мной.
И он отступил в коридор, пропуская Андрея.
Сначала Андрей подумал было, что Вревскому уже известно о смерти отчима и он играет с Андреем, как кошка с мышкой. Они вышли в коридор, Андрей ждал приказа подняться на второй этаж, но Вревский даже не посмотрел наверх.
У калитки стояла пролетка. На козлах сидел полицейский.
— Очень трудно без автомобиля, — вдруг сказал Вревский. — В Киеве у меня автомобиль.
Андрей сел рядом с Вревским. Главное — понять, куда они повернут. Если к Иваницким — значит, его выследили ночью. Если прямо — к полицейскому управлению или суду, — значит, поймали убийц…
Пролетка повернула налево.
«Куда же?» — не сразу сообразил Андрей.
— Что-то случилось с Глашей? — догадался он наконец. — Ей хуже?
— Почему вы так решили? — Вревский впился глазами в Андрея.
— Ответьте на вопрос! — возмутился Андрей.
— Сейчас приедем, посмотрим. — Вревский отвел взгляд.
Пролетка подъехала к Николаевской больнице. У правого крыла, приспособленного под госпиталь, стояла большая синяя фура, и санитары вытаскивали из нее носилки с перевязанными солдатами.
Пролетка въехала в открытые ворота больницы, и тут Андрей испытал великое облегчение: она не свернула к главному корпусу, где лежала Глаша, а поехала по дорожке, огибая правое крыло больницы, и замерла у одноэтажного флигеля с узкими окнами.
— Прошу, — сказал Вревский.
Что здесь может быть? Может, приемный покой? Вряд ли здесь держат арестантов.
В темном коротком коридоре невыносимо пахло карболкой и чем-то еще, неживым, удушающим. Стены коридора были покрашены в коричневую краску, и потому, когда открылась дверь и Андрей шагнул в зал, там показалось особенно светло оттого, что стены были выложены белым кафелем, а сверху светили сильные лампы без абажуров, хоть снаружи было солнечное утро.
В зале параллельно друг другу стояли три больших стола. Один был пуст и была видна его блестящая металлическая поверхность. На втором лежал труп молодого мужчины — его грязные ступни Андрей видел словно под увеличительным стеклом. У мужчины была взрезана грудная клетка, и два человека в белых, измазанных кровью халатах, которые что-то рассматривали внутри ее, подняли головы при звуке шагов.
На третьем столе лежала фигура, покрытая несвежей простыней. Вревский опередил замершего в дверях Андрея и резким театральным движением фокусника отдернул край простыни.
Андрею потребовалось несколько секунд, чтобы окончательно убедиться в том, что он смотрит на Глашу.
Бинты с ее лица были сняты, и Андрей увидел синюю вспухшую ссадину, что начиналась на круглом лбу, рассекала заплывший, невнятный, как нарыв, глаз и тянулась до уголка губы. Открытая рана чернела на второй щеке — до уха. И потому узнать Глашу можно было лишь по рыжим волосам, по обнаженному плечу, по опавшей полной груди и по руке в веснушках, что протянулась вдоль тела.
— Глаша, — сказал Андрей. — Глашенька…
И вдруг ему стало плохо. Так плохо, что он понял — его вырвет прямо здесь. Он метнулся назад, на улицу. Вревский, не поняв причины бегства, кинулся за ним:
— Стой!
Андрей вылетел из темного закутка, уперся рукой о стену морга, и его вырвало на траву.
Вревский, что выбежал следом, брезгливо отошел и отвернулся.
— Не думал, — сказал он, — и не предполагал, что такие нервишки.
Андрей с трудом слышал его голос — он доносился сквозь вату, и, впрочем, было все равно, что говорит и думает Вревский.
Когда спазмы прошли и осталась лишь такая слабость, что невозможно было оторвать руку от стены, Андрей полез в карман тужурки и достал платок, чтобы вытереть рот.
Полицейский на козлах смотрел на него с любопытством.
— Вам легче? — спросил Вревский, рассматривая вершины деревьев.
— Да… простите.
— Тогда вернемся внутрь.
— Нет!
— Ну что вы, господин студент, что за причуды! Я веду следствие. Вы должны опознать тело.
— Я опознал, опознал! Неужели вы не видите, что я опознал…
Вревский глубоко вздохнул.
— Вы заставляете меня нарушать закон, — сказал он. — Вам лучше?
Тон его смягчился, словно он пожалел Андрея.
— Давайте отойдем к лавочке.
Вревский крепко взял Андрея под локоть и повел к скамейке.
— Я тоже выполняю свой долг, — сказал он. — И долг, поверьте мне, весьма неприятный. Особенно в этом деле. Вчера вечером мне уже дважды звонили от Великого князя. Князь Юсупов прислал телеграмму, вы представляете, какой интерес к этому делу?
Вревский усадил Андрея на скамейку.
— А теперь покончим с формальностями. И я отпущу вас. Когда и при каких обстоятельствах вы видели в последний раз усопшую?
— Вы же знаете, вчера. А что с ней случилось?
— Неужели вы не знаете? — Вревский был крайне удивлен. — Я думал, что вы догадались. Служанка вашего отчима была убита сегодня ночью. Убита ножом.
— Убита?
— Только прошу не устраивать представлений! — крикнул Вревский, увидев, что Андрей вновь порывается вскочить со скамейки. — Не ведите себя как институтка!
Санитары, что тащили в отдалении носилки с ранеными, оглянулись на крик.
— Сейчас, — сказал Андрей, вырывая руку.
Рвота не шла — внутри все исходило судорогами, но из горла вырывался только кашель.
Вревский дождался, когда Андрей чуть успокоится, и продолжал, не сводя с него взгляда:
— Убийца проник через окно из сада, точно так же, как это незадолго до того сделали вы. К сожалению, эти оболтусы опять не заперли окно как следует, хотя клянутся в обратном.
Вревский поднялся и подошел к Андрею, который стоял, опершись о ствол тополя.
— Что знала Глафира такого, что напугало убийцу? Зачем надо было убивать ее? Ответьте мне — зачем?
— Честное слово, не знаю.
— А убийца боялся. Боялся, что она запомнила его? Или он уничтожал соперницу?
— Какую соперницу?
— Соперницу по завещанию? Ведь дом по завещанию отходит ей. И я имел неосторожность вам об этом проговориться.
— Прошу вас, хватит, Александр Ионович, — взмолился Андрей. — Вы же на самом деле меня преступником не считаете, так не лучше ли потратить время на поиски настоящего убийцы?.. Ее зарезали ножом?
— Смерть наступила, как утверждает доктор, мгновенно.
— Значит, — сказал Андрей, обретая решительность, — это те же люди, что напали на отчима и Глашу на той неделе?
— Почему? — Вревский поднял светлые брови. — Нож — самое удобное оружие, когда нужна тишина. Убийце главное было — не поднять шума. А что у вас с руками?
— Это? Оцарапал о кусты.
— Где же вы отыскали кусты? Вчера этого не было.
— Уж отыскал. Клянусь вам, это не имеет отношения к делу.
— Что имеет, что не имеет, решать буду я.
— Глашу надо похоронить.
— Сначала будет вскрытие. Вы уже видели, как это делается… Не отворачивайтесь. Теперь я понимаю, почему вы не в действующей армии. Вы не выносите вида крови, господин студент?
— Глаша была близким мне человеком, я очень любил ее.
— Что за любовь у молодого человека к служанке отчима?
— Можно, я уйду?
— Отлично, — Вревский поднялся первым, словно идея уехать принадлежала ему, — я вас подвезу куда надо.
— Спасибо, я сам. Мне надо побыть одному.
— Или встретиться с сообщниками? Не морщитесь, я шучу. Честно говоря, когда урядник сказал мне, что видел вас возвращающимся домой ранним утром, я счел было вас убийцей. Семейные отношения — замечательная питательная почва для убийств. Но если вы не великий актер, то, по моим наблюдениям, у вас духу не хватило бы всадить ножик в покойницу.
Вревский стоял, наступив на подножку пролетки. Он не намерен был щадить Андрея — видно, таков был его следовательский метод.
А Андрей думал — только не вывести его к дому Иваницких. Вроде бы он о них пока не подозревает.
— Так куда вы намерены?
— Мне хотелось бы отыскать моего друга.
— Ахмета Керимова? Не советую с ним знаться — это человек темный и с очень плохими товарищами. Не исключено, что он имеет отношение к этому преступлению. Как видите, я очень разговорчив, потому что испытываю к вам некоторую симпатию. Иной бы следователь связал вас с Керимовым в одну банду. И дело сделано… Садитесь. Я вас довезу до набережной, Керимова разыскивайте сами.
На набережной Андрей попросил остановить пролетку, солгав, что намерен позавтракать в кафе.
— Отлично, — сказал Вревский. — Но предупреждаю — никаких попыток убежать из Ялты. Это будет воспринято мною как признание вины. Учтите, что косвенные улики и логика следствия работают против вас. Не хватает детали, толчка, чтобы я в вас окончательно разочаровался. Так что в значительной степени ваша судьба в ваших руках. Вы будете ночевать у себя?
— Где же еще?
— Вечером я нанесу вам визит. Тогда же сообщу, как распорядиться с похоронами госпожи Браницкой.
Андрей глядел, как удаляется пролетка. Обернется или нет?
Вревский обернулся почти сразу и сказал, не стесняясь того, что на улице было немало прохожих:
— С этого момента за вами установлено наблюдение, учтите это, господин Берестов.
И уехал. Завтракать Андрей, конечно, не стал. Как и не стал искать Ахмета. Надо было добраться до Иваницких так, чтобы шпики и соглядатаи его не выследили.
Путешествие до Иваницких в лучших традициях шпионских романов заняло еще полчаса. Андрей нырял в тихие переулки, выстаивал за углами оград, неожиданно поворачивал назад… Он был так занят этими маневрами, что не оставалось времени думать. Да и так не хотелось думать! При мысли о Глаше его снова начинало тошнить…
Убедившись окончательно, что за ним не следят, Андрей вошел в подъезд дома Иваницких. Дверь открылась ему навстречу — Лидочка снова услышала, почуяла его приближение заранее.
— А я в окно не выглядывала, — сказала она, — потому что полиция может следить за тобой.
— Почему ты так подумала? — изумился Андрей.
Лидочка пожала плечами и пропустила его в коридор.
— Мама ушла на спевку. Она у меня в церковном хоре, папа на службе. Так что мы с тобой одни.
Андрей вошел в комнату.
— Господи, на тебе лица нет! — воскликнула Лидочка. — Что еще случилось?
— Глашу убили, — сказал Андрей. — Дай мне холодной воды, очень холодной. Меня вырвало.
— Сейчас. — Лидочка, ничего больше не спрашивая, побежала на кухню, а Андрей обессиленно сел на ее узкую кровать и тут же лег на спину, свесив ноги на пол.
Лидочка вошла со стаканом воды и спросила:
— Может, тебе ботинки снять? Отдохнешь? Давай сниму?
— Не надо. — Он приподнялся, взял стакан. Вода была ледяной, родниковой и сказочно вкусной. Он даже не заметил, как Лидочка присела у его ног. — Не надо снимать ботинки! — Но Лидочка так споро расшнуровала их, что Андрей не успел воспротивиться.
— А теперь говори, — сказала она. — Тебе будет легче, если ты расскажешь.
Андрей рассказал скупо, коротко, даже нехотя.
— И тебя не выследили? — спросила Лидочка, когда он закончил.
— Нет.
Лидочка подошла к окну.
— Пусто, — сказала она. — Никто не дежурит.
— Ты хорошо умеешь слушать, — сказал Андрей. — Ты совсем не ахала и не падала в обморок.
— Я уже отплакала, когда ты ушел, — ответила Лидочка. — А потом стала думать. И мне все это не нравится.
— А мне даже некогда было думать.
Андрей допил воду. Горло саднило, будто он надорвал его.
— Заходил Ахмет, — сказала Лидочка. — Искал тебя.
— Он мне нужен.
— Я знаю, я сказала, что он тебе нужен. Хотя в отличие от тебя я ему не верю.
— Что он сказал?
— Он сказал, что разговаривал с нужными людьми. Что есть подозрения. Что он обещает — за три дня он найдет тех, кто убил Сергея Серафимовича.
— Он оставил свой адрес?
— Нет. Он зайдет в шесть часов вечера.
— Ты ему не сказала, где я?
— Сказала, что обещал прийти. Я не могла с ним разговаривать! Ты ведь веришь ему, он твой друг. Но он не мой друг.
— И что же ты надумала? — Кровать чуть покачивалась, будто корабль. Андрей закрыл глаза. Было очень приятно закрыть глаза.
— Я надумала, что Глашу убил тот, кто испугался, что она видела убийцу.
— Наверное. Вревский тоже так думает.
— Но даже Вревский не знал, что на самом деле Глаша пришла в себя и лишь притворяется, опасаясь повредить твоему отчиму. И никто не знал. Только ты!
— Что ты хочешь сказать? — Андрей открыл глаза и увидел Лидочку как в тумане. Она стояла над кроватью, сжав кулачки.
— Я хочу сказать, что об этом знала и я, и главное, самое главное — ты вчера в Массандре рассказывал, что Глаша очнулась! Ты рассказывал, как проникал к ней через окно? Ты рассказывал, что она не успела назвать убийц, но назовет их завтра? А рядом сидел Ахмет! Понимаешь, тот же самый Ахмет, который знал про шкатулку.
— И ты, и я, и Коля. Все там были.
— Коля ни при чем. Он приехал после убийства и не знал о шкатулке. А Ахмет знал. Есть два подозреваемых. Ты и Ахмет! Я не хочу, как ты понимаешь, подозревать тебя.
— Ну слава Богу! А теперь, если ты успокоишься, я тебе объясню, как все было на самом деле. Постарайся встать на место грабителей. Они жили в постоянном страхе перед разоблачением. Они должны были охотиться за Глашей. А я не подумал. Просто не подумал. Вот в этом я виноват!
«Как я устал, — подумал Андрей, — сейчас закрыть глаза и поспать хоть немного, хоть десять минут!»
— Андрюша, — сказала Лидочка, — я бы на твоем месте немного поспала. Ты сейчас не можешь толком соображать — тебе просто необходимо немного поспать. А то сердце разорвется.
Она наклонилась и нежно поцеловала его в лоб.
— Подчиняюсь, — сказал Андрей.
Она угадала его самую главную мечту — самую главную. Пускай приходит Вревский, пускай придут бандиты — кто угодно… он скажет им: дайте поспать немного. И Лидочка никого не пустит…
— Никого не пускай, — прошептал Андрей.
— Я никого не пущу, — сказала Лидочка. — Я буду возле тебя сидеть, ты не думай.
Она сидела рядом и глядела на него и думала, какой он красивый. Какое у него умное и доброе лицо, и какой смешной хохолок, и как ей повезло, что она встретила его у киоска с сельтерской водой. И сразу влюбилась. Тогда и десятью минутами позже.
Впрочем, в масштабе жизни, которую им предстояло прожить, это не играло существенной роли.
Лидочка разбудила Андрея в половине второго.
— Хватит, — сказала она, — ты проспал больше часа.
— Я заснул? И не заметил. — Андрей влюбленно улыбался, потом потянулся к Лидочке. Она вскочила с края постели, от чего взвизгнули пружины.
— Приди в себя! — сказала она голосом старшей сестры.
И тут же все рухнуло — ощущение безмятежного счастья, близость Лидочки, сладкий запах ванили и лаванды…
— Черт побери! — Андрей вскочил, и его сразу повело — так закружилась голова. — Сколько времени?
Он взглянул на часы.
— Сначала выпей чаю, — сказала Лидочка, показывая на поднос с чайником, чашкой и сахарницей, стоявший на столе. — Сахар я не клала, потому что еще не знаю, сколько кусков ты любишь.
— Два, — сказал Андрей и шагнул к столу. Ему пришлось опереться на край.
— Садись пей, а я тебе расскажу, о чем я думала, пока ты спал, — сказала Лидочка.
«Господи. Глаша погибла. Глаша мертвая лежит в морге… а отчим мертвый лежит в доме. Так не может быть! Я пью чай и слушаю Лидочку, а они лежат мертвые…»
— В любой момент Вревский может заявиться к тебе домой. Он тебя подозревает. Он захочет осмотреть твою комнату. Ты уверен, что в ней нет следов крови?
— Вроде бы не должно быть — я пододеяльник снял…
— И куда положил?
— Кажется, под кровать…
— Это и есть улика против тебя!
— В чем?
— В том, что ты убийца.
— Лидочка, мне и без того худо.
— Я не хочу, чтобы было еще хуже, — сказала Лидочка. — Теперь ответь мне еще на один вопрос: наверху, в кабинете, ты уверен, что нет никаких твоих следов?
— Не знаю… не должно быть…
— Ты что-нибудь трогал пальцами?
— При чем тут мои пальцы?
— При том, что Вревский умеет отличать людей по отпечаткам пальцев. В Петербурге давно уже так ловят преступников.
— Правильно, я слышал.
— Там могут быть следы твоих пальцев?
— Могут… — Андрей представил себе кабинет и понял, насколько права Лидочка. Он ответил ей: — Я скажу, что это давно… В мой прошлый приезд.
— Разве они сохраняются так долго?
Представив себе кабинет, Андрей понял, что не закрыл ящик письменного стола, в котором есть потайное отделение. И где-то он бросил ключи от сейфа… Картину он подвинул на место… Но если хорошо посмотреть, на ней наверняка есть отпечатки его пальцев, может, даже кровавых пальцев… А следы его на ковре? Наверняка он в темноте наступал в кровь — там всюду была кровь…
— Там много следов, — сказал наконец Андрей.
— Я тоже так думаю, — сказала Лидочка. — Значит, у нас с тобой один выход: как можно скорее ты должен вернуться в дом и все прибрать. Потом ты сам обнаружишь тело отчима.
— Что сделаю?
— Обнаружишь тело отчима.
— Лидочка, я не знаю, смогу ли…
— Не будь тряпкой. Я выбрала тебя из всех мужчин на свете. И ты должен быть лучшим.
— Свежо предание…
Два портсигара лежали на столе перед Андреем. Почему-то Лидочка их не спрятала. Андрей дотронулся до потертой поверхности ближайшего из них.
— Я их рассматривала, пока ты спал, — сказала Лидочка. — Они оба старые. Тот, который достался тебе от отчима, старше… Смотри.
Лидочка показала пальцем на выгравированные мелкие буквы, почти стершиеся оттого, что портсигар долго носили в кармане, не разберешь даже, на каком языке надпись.
— Да, он старый, — согласился Андрей.
Он подошел к окну, стараясь рассмотреть надпись.
— Скорее это табакерка, а не портсигар, — сказал Андрей. — Просто мы называем новым словом незнакомую вещь.
Он словно оттягивал необходимость решать.
— Если ты сам позовешь Вревского, поднимешь тревогу — пускай тебя снова вырвет, пускай у тебя будет истерика, что угодно, — у них будет меньше подозрений. Надо только сделать это так, чтобы они не успели первыми, — сказала Лидочка.
Какое-то движение на улице попало в поле зрения Андрея.
Он посмотрел туда. В переулке, не таясь, стоял молодой человек в пиджаке и татарских штанах. Рубаха на нем была несвежая, распахнутая почти до пояса, из-под нее видна смуглая грудь. Черные глаза шарили по окнам, и Андрей отшатнулся от окна. Успел ли?
— Что с тобой? — удивилась Лидочка. — Там кто-то есть?
— Да. — Чувствуя себя обнаженным под взглядом преследователя, Андрей сунул табакерку в карман брюк и отступил от окна.
— Кто там?
— Он следил за мной вчера, а ночью приходил к дому.
Лидочка осторожно отстранила Андрея, но к окну не подошла, а посмотрела сквозь кисейную занавеску.
— Ты думаешь, это шпик?
— А ты? Вревский не скрывает, что за мной следят.
— Может, это не полицейский, — сказала Лидочка. — Если полицейский, зачем он следил за тобой ночью?
— Но кто его мог послать?
— Я не знаю. Может, бандиты, — сказала Лидочка.
— Они нашли твой дом!
— Он тебя видел?
— Кажется, нет. Но он смотрел по окнам.
— И отлично. Пускай смотрит. Я выведу тебя через сад.
— Ты подвергаешься опасности! Если они узнают, что мы знакомы, то тогда…
— Иди, не задерживайся, — сказала Лидочка. — Я все спрячу. Так, что ни один Вревский не отыщет. Я бы пошла с тобой…
— Нет, нельзя.
— Знаю. Но очень хотела бы. Тебе будет трудно…
Андрей поцеловал Лидочку. Она прижалась к нему — и это был их первый настоящий поцелуй, когда раскрываются губы, когда встречаются языки, когда закрываешь глаза, чтобы ничего не осталось в мире, кроме этого бесконечного поцелуя.
Лидочка первой оторвалась от Андрея.
И пошла к двери. Андрей еще раз осторожно выглянул в окно. Преследователь был там, но он отошел к следующему дому и теперь разглядывал его окна. И это Андрея успокоило.
Через черный ход Лидочка вывела его в сад.
— Я буду ждать, — сказала она. — Хоть тысячу лет.
— Ты прощаешься, будто меня сегодня же посадят в тюрьму.
— Я бы не хотела, — сказала Лидочка. — Не дай Бог.
Андрей быстро дошел до Никитской улицы. Час сна помог ему — хоть голова и болела, ногам вернулась сила. Лидочка была права, понимал он: если Вревский увидит Сергея Серафимовича первым, он никогда не поверит Андрею. Любое его слово покажется ложью — и будет ложью. Ведь он провел час со Вревским и умудрился ни слова не сказать о трупе на втором этаже. Конечно же, Вревский ничему не поверит… А если поднять тревогу самому, можно потянуть время. Зачем? Да потому, что теперь надежда на Ахмета. Он многих знает. У него все татары здесь знакомые. Конечно же, он поможет… он же обещал. Надо продержаться три дня.
Поднявшись к последнему повороту, Андрей замедлил шаги. Он почувствовал тревогу.
Прижавшись к каменной ограде, он осторожно выглянул из-за угла.
У дома стояла пролетка Вревского. Рядом с ней полицейский.
Оставалась еще маленькая надежда, что Вревский ждет Андрея в связи со смертью Глаши. И ждет его в саду или на первом этаже. Андрей осматривал дом и молил Господа, чтобы тяжелая фигура Вревского появилась между деревьев.
У калитки стоял стул, на стуле тульей вниз лежала полицейская фуражка, полная куриных яиц.
Андрей перевел взгляд чуть выше и увидел, что на веранду второго этажа вышел Вревский. Он что-то держал в руке. И было не важно, что он держал.
— Урядник! — крикнул он. — А ну-ка сюда!
Андрей отпрянул за угол. Обернулся. Надо бежать. Но куда бежать?
Там, внизу, у поворота улицы стоял, улыбаясь, ночной преследователь. Он не делал попытки приблизиться к Андрею, он был как волк, ждущий, когда загипнотизированный заяц сам побежит к нему. Куда тебе, заяц, деваться?
Андрей инстинктивно сделал шаг вперед, забыв, что его будет видно от калитки. Но его увидели не от калитки. Вревский видел улицу как на ладони. И конечно же, растерянную фигуру в студенческой тужурке.
— Господин Берестов! — закричал он. — Вас-то мне и нужно! Пожалуйте сюда.
Андрей начал отступать. Забор, возле которого он стоял, был слишком высок и гладок, чтобы через него перебраться. Бежать вниз?
Оглянувшись, Андрей столкнулся взглядом с ночным преследователем. Тот манил Андрея к себе. И улыбался.
Андрей сунул руку в карман, чтобы взять что-нибудь тяжелое.
В кармане была только табакерка отчима.
И тут же мысли, несшиеся в голове, подобно падающему с неба аэроплану, буквально закричали: «Можно убежать! Можно убежать!»
До этого мгновения Андрей воспринимал табакерку и ее свойства условно, куда менее реально, чем Лидочка.
А сейчас — сейчас ему нужно было три дня. Три дня, чтобы все улеглось, чтобы Ахмет нашел убийц, чтобы избежать неминуемого позора тюрьмы и допросов. «Тетя Маня не переживет», — пролетела в мозгу нелепая фраза.
Пальцы сами шарили по ребру портсигара. Вот она, кнопка…
Раз! Андрей нажал на кнопку портсигара. Два! Он нажал еще раз. Три! Портсигар чуть щелкнул. Андрей знал — с другого торца выскочила реечка с тонкими делениями.
Из-за поворота донесся топот сапог. Андрей кинул взгляд в другую сторону. Ночной преследователь стоял на месте.
— Беги! — крикнул он.
Андрей нажал на шарик в конце реечки, и тот послушно утопился в металле.
Касаясь очередной рисочки, шарик чуть слышно вздрагивал, и странно было, что сквозь шум и крики, сквозь стук собственного сердца Андрей слышит эти щелчки и старается считать их. Сколько их было? Два? Четыре?
Из-за угла выскочил полицейский.
Преследователь что-то тащил из кармана.
Андрей нажал на шарик.
Он знал, что все сделал правильно.
Собственная рука и табакерка, зажатая в ней, исчезли.
Все исчезло.
Наступила ночь.
Кончился мир, и было лишь стремительное падение в бескрайнюю черную бездну…
Глава 5
Октябрь 1914 г
Андрей ударился. Больно ударился. Кто-то спросил:
— Молодому человеку плохо? — Это был мужской голос.
— Ты готов обниматься с каждым пьяницей! — ответил женский на повышенных тонах.
Андрей постарался открыть глаза и ответить. Удалось это не сразу. Наконец он сказал:
— Спасибо, все хорошо. — Он увидел лишь спины прохожих — солидной пары: он в сюртуке, она в длинном приталенном пальто.
Андрей сидел на мостовой, привалившись спиной к каменной изгороди. Рука затекла.
Он хотел помахать ею, но шестое чувство сказало: нельзя, в пальцах зажата табакерка.
Андрей, не глядя, спрятал табакерку в карман. Поднялся.
Стояли тусклые сумерки. Небо было серым, мелкий дождик моросил как из сита, но тужурка Андрея была еще почти сухая — ведь он попал под дождь всего минуту назад. А вот мостовой и деревьям было куда хуже. По лужам, по повисшим редким листьям, по большим каплям, падавшим с голых ветвей, по сырости в воздухе было ясно, что дождь идет давным-давно.
Только что была середина солнечного дня и небо было хоть и осенним, блеклым, но чистым — значит, провал во времени произошел. Все чудесное, чему отказывались верить сознание и чувства, сбылось и, главное, избавило от неминуемого пленения и позора.
Куда теперь идти?
С этой мыслью пришла необходимость действовать.
Андрей поглядел вперед и вверх.
Дом Берестова был пуст. Неосвещен. Полицейского у ворот нет. Калитка закрыта.
Но Андрей не посмел приблизиться в дому. Дом как будто подглядывал за человеком, ждал его, чтобы затащить внутрь. Там, за дверью, стоят, пригнувшись, полицейские и следователи… И все ждут момента, когда Андрей дотронется до двери…
Конечно, это разыгралось воображение — Андрей даже не знал, сколько дней он отсутствовал. Могли пройти часы, а мог и месяц. Андрей вытащил часы. Они лгали. Они показывали без двадцати два. Для них перерыва во времени не случилось.
Если его ищут, если история с убийствами еще не завершилась, к Иваницким идти нельзя. Город-то невелик, а у Вревского есть свои шпики.
Значит, первым делом надо попасть туда, где люди. Причем люди, его не знающие. Лучше всего потеряться среди других. Скоро будет темно, погода плохая… любой ресторанчик или кафе на набережной удобны для его целей.
Когда Андрей спускался вниз, ему встретился лишь высокий молодой священник, но Андрей не посмел спросить его, какое нынче число. Подобный вопрос привлечет внимание — лишь сумасшедший или шпион может задать его.
Выйдя на набережную недалеко от порта, Андрей сразу же увидел под тентом несколько столиков. Они были выставлены от ресторана «Таврида» и, видно, доживали последние дни. Скоро их унесут внутрь до весны.
Столиков было четыре, на них стояли керосиновые лампы. Света они давали немного: только для дружеской или любовной беседы. Одна парочка вела такую беседу — остальные столики были пусты.
Андрей смело перешел улицу и сел за столик подальше от парочки, спиной к тротуару.
Официант, что стоял в дверях ресторана и чистил ногти, сразу же подошел.
— Что прикажете?
— А чем вы меня побалуете? — спросил в ответ Андрей, стараясь изобразить небогатого прожигателя маминых денег.
— Можно из ресторана принести, — сказал официант, оценивший клиента и снова принявшийся чистить ногти.
Андрей понял, что голоден. Впрочем, он даже и без путешествия во времени давно не ел.
— Прошу тогда…
— Икорки, — перебил его официант, взявший дело в свои руки. — Икорки паюсной и грибков. Грибки у нас соленые, первый сорт. А что пить будем?
— Бульон с пирожком, — сказал Андрей, понимая, что голод все более овладевает им. — И отбивную.
— Погляжу на кухне, — сказал официант. — Если отбивных не будет, не изволите ли эскалоп? Водочки под грибки-с?
— И водочки, — согласился Андрей, который водку не любил и почти никогда не пил, даже на небогатых студенческих сборищах.
Дальнейшие свои действия Андрей рассчитал заранее.
— Голубчик, — сказал он голосом следователя Вревского. — Что у вас за газеты сегодняшние остались? Мне надо поглядеть.
— Вам «Вестник» или «Слово»?
— А симферопольская пришла?
— Нету, — сказал официант, — утром еще разобрали.
— Погляди, голубчик, — сказал Андрей. — Я отблагодарю.
Андрею не приходилось играть такие роли — сейчас бы сюда Ахмета.
Официанта не было минут пять. Андрей мысленно шел за ним. Вот он подходит к кассе, затем медленно и лениво идет к буфету или на кухню, разговаривает с приятелем о погоде. Может, он не ялтинский, нанялся только на сезон — собирается уж на поезд. Вот он спросил про газету, и ему ответили — откуда вечером газета? Своей вечерней в Ялте не было, а вечерняя из Симферополя приходила только утром.
Наконец официант появился. Он высоко и почти торжественно нес поднос. Держа его на весу, стал расставлять на столе закуски. Поставил лафитничек.
— Я вам сельтерской принес, — сказал он, — некоторые любят запивать.
— Спасибо, — сказал Андрей. — А газета?
Официант выставил все, поправил тарелку с нарезанным хлебом, подвинул масленку, потом, будто нехотя, вытащил из кармана смятую газету, вид у нее был такой, словно по ней ходили ногами. На сгибе расплылось масляное пятно. Официант покрутил фитиль лампы, и она загорелась неожиданно ярко, как электрическая.
— Приятного аппетита, — сказал официант. — Газету у повара взял, вы уж простите, с утра по рукам ходит.
Эта вспышка разговорчивости утомила официанта, и он побрел к двери. Встал в ней, чтобы не спускать глаз с посетителей, и снова принялся за ногти.
Газета была симферопольская. Утренняя. Вероятно, сегодняшняя.
И тут Андрей не утерпел. Вместо того чтобы не спеша выпить, закусить, а потом, перед бульоном, развернуть газету, он сразу же посмотрел на первую страницу. Прямо под названием была дата: 15 октября 1914 года.
Если газета сегодняшняя — его, Андрея, не было на этом свете четыре дня. Если вчерашняя — пять. Значит, он почти не ошибся, считая щелчки в табакерке.
Четыре дня. И в городе все тихо. Как бы расспросить официанта о новостях? Не привлекая внимания. Он, правда, вялый какой-то. Андрей налил в рюмку водки, густо намазал ломоть хлеба маслом и икрой. Водка приятно обожгла глотку, бутерброд оказался вкуснейшим. Андрей подцепил вилкой крепкую шляпку рыжика и схрупал ее.
«Почему у меня такое славное настроение? Ведь ничего еще не известно, и, возможно, мне грозит опасность. Но главное ведь в ином — в том, что я чудесным образом избавился от прошлой опасности. Подобно Аладдину с волшебной лампой, я обладаю машиной, которая резвее самого быстрого коня унесет меня от любой беды. Ну что, Вревский? Поймал? Приходи сюда, вот я, Андрей Берестов, сижу перед рестораном, хрупаю рыжик… А есть ли у меня деньги? Еще не хватало попасть в полицию…» Он лихорадочно полез в карман тужурки — там только табакерка и мелочь. В другом кармане — тоже. Деньги остались в брюках! А сейчас брюки на нем чужие. Андрею стало холодно. Он нервно оглянулся. И официант, чуя неладное, тут же проснулся, шагнул к столику и спросил с некоторой угрозой:
— Бульон подавать?
— Несите, — сказал Андрей, понимая, что наступил момент для бегства. Но наученный опытом официант лишь дошел до двери в ресторан и, не спуская глаз с Андрея, крикнул внутрь:
— Кузьма, бульон неси. И эскалоп.
И тогда Андрей вспомнил, что в тужурке лежит бумажник, в бумажнике десятка, и, проведя рукой по борту, ощутив выпуклость бумажника, сразу обессилел и даже не заметил, как официант, уже без всякой видимости пиетета, стукнул о стол бульонной чашкой, плеснув на клетчатую скатерть.
Выпив чуть теплый бульон и опрокинув еще рюмку водки, Андрей осмелел. Он уже решил, что все же подберется, как совсем стемнеет, садом к Лидочке. Он будет осторожен, чтобы его не заметили. А в крайнем случае — что ему стоит прыгнуть еще на день вперед? Лиха беда — начало! — сказал он себе и непроизвольно улыбнулся — заяц в потоке времени!
Он проглядел первую страницу. Официальные сообщения. Внизу справа пустое место — вычеркнуто военной цензурой, которая уже начала накладывать лапу на известия с фронтов. А вот и сообщение из Петрограда: «Ставка сообщает, что нашим доблестным войскам отдан приказ о переходе в наступление против Турции, нарушившей договоры о мире и соседстве и легкомысленно привязавшей свою судьбу к колеснице германского пруссачества».
«Вот война дошла и до наших краев», — подумал Андрей, забыв об эскалопе и зачитавшись шумной патриотической передовицей, в которой предсказывалось неминуемое поражение дряхлой Османской империи, живущей за счет соков, которые она пьет из порабощенных народов. Наконец-то появился враг выгодный, которого есть надежда громить не только на страницах газет, но и на поле боя.
На той же странице разбиралась стратегическая ситуация в Закавказье и чаяния армянского народа… куда мельче и скуднее говорилось о боях под Варшавой — война уже пришла на территорию Российской империи.
Громко скрипя сапогами, вошел офицер с рукой на черной перевязи. Он был слегка пьян и, обернувшись в поисках компании, увидел, что Андрей сидит в одиночестве, тут же подошел и спросил:
— Разрешите? — и, не дождавшись ответа, уселся напротив. — Сволочная погода, — сказал он. — Бой!
Официант подошел резво — куда только делась апатия.
— Бутылку шампанского! Но не какое-нибудь там… Наше, отечественное, массандровское. И два фужера.
Андрей отложил газету. Еще этого не хватало!
— Сейчас мы с тобой выпьем, — сообщил офицер.
На нем была фуражка с высоким черным околышем и загнутой назад тульей; на серебряных погонах — крылья. Авиатор, штабс-капитан. Еще недавно авиаторы были кумирами Андрея. Они с Беккером бегали на поле на окраине Симферополя, где происходили славные полеты, — он видел и Нестерова, и самого капитана Андрианиди, и бравых французов. Он знал, что такое пике и штопор, он видел, как разбился Гастон Роже, и чуть было не успел к тем, кто вытаскивал его тело из-под обломков «Ньюпора».
Андрей принялся за эскалоп, но аппетит уже пропал.
Офицер постучал пальцами по столу.
— Студент? — спросил он. — Почему не воюешь? — И тут же сам ответил: — Какого черта? Я за сентябрь трех друзей похоронил. Сам чудом жив остался. Видишь, совсем не двигаются.
Он пошевелил пальцами — пальцы и в самом деле еле шевелились.
Официант споро открыл бутылку шампанского, разлил в два фужера. Андрей начал было отнекиваться, но офицер расхохотался, показав обломки передних зубов.
— Мы бутылку шампузы с тобой усидим, а потом и до твоей водки доберемся, добро?
— Мне уже надо идти.
— Никуда тебе не надо идти, — сказал офицер. — Лишний ты тут. Никто тебя не ждет.
Лишний? Эти слова проникли до самых печенок. Летчик говорил так, словно ему была открыта некая тайна. А может быть, в мире что-то изменилось — изменилось, незамеченное еще Андреем, и мир, в который он попал, вовсе не тот, в котором он нажал на шарик?
— Извините. — Официант стоял рядом со столом и был насторожен. — Господа не будут так любезны расплатиться?
Андрей полез в карман, вытащил из бумажника десятку. При виде ее официант изобразил удивление. Он уже был убежден в неприятностях и, может, даже хотел их, скучая в опустевшем ресторане.
Штабс-капитан поднял бокал, и Андрей счел за лучшее подчиниться.
— За ваше здоровье. Ты в этом нуждаешься. Не расстраивайся…
Допив фужер и едва дождавшись, чтобы официант, все еще не отдавший Андрею сдачу, наполнил фужеры вновь, пилот вдруг сказал:
— Студент, а мне твоя физиономия знакома.
— Я не знаю. Может, на набережной встречали?
Официант тоже приглядывался к Андрею, и это было неприятно.
— Пять рублей сдачи, пожалуйста, — сказал он, надеясь рублевыми чаевыми усыпить подозрения официанта.
— Пойду разменяю, — сказал официант.
Офицер мгновенно выпил второй фужер, взял вилку Андрея, подцепил ею грибок. Потом спросил:
— Не возражаешь? — и вылил к себе в фужер водку из лафитничка.
— Пожалуйста, — сказал Андрей, готовый уже уйти, не дожидаясь сдачи.
Вернулся официант, аккуратно положил пятерку перед Андреем и снова внимательно на него посмотрел.
— Иди, иди, не твое дело, — сказал штабс-капитан.
Официант ушел. Сначала он шел медленно, но потом, у дверей, какая-то мысль посетила его, он обернулся, кинул взгляд на Андрея и быстро скрылся в ресторане. В Андрее все сжалось.
— Ты прав, — лениво сказал авиатор, — надо тебе бежать. Только послушай, Берестов, на что тебе деньги в ничтожной сумме пяти рублей? Оставь их здесь.
И он наложил свою здоровую лапу на банкноту.
— А теперь тикай отсюда! — приказал он. — Этот хлыщ к телефону побежал. Беги, Берестов.
И только когда авиатор вторично повторил его фамилию, Андрей понял, что его узнали. За эти дни в Ялте случилось нечто, неведомое Андрею, — но за ним охотятся.
— Спасибо, — сказал Андрей, поднимаясь.
— Будешь в Севастополе, — сказал авиатор, — спроси на базе гидропланов штабс-капитана Васильева. Я тебе всегда помогу, если хочешь — удерем в Румынию!
И Васильев захохотал вслед.
Уже почти стемнело, Андрей быстро пошел прочь от ресторана. Фонари горели редко, здание порта было совсем темным. Шагов через пятьдесят Андрей заметил черную подворотню. Он шагнул в нее.
И вовремя. По тротуару застучали шаги.
— Он туда побежал, я видел! — послышался голос официанта.
Андрей оказался во дворе. Там стояли бочки. Вдоль второго этажа тянулся балкон с железной решеткой. Спрятаться в бочку, как Али-Баба?
И тут Андрей увидел белую дверь.
Он быстро пересек двор, толкнул ее. Впереди прямоугольник света — выход на соседнюю улицу.
Улица была пуста. Справа был виден белый одноэтажный каменный базар. Возле закрытого входа грудами тряпок спали бродяги. Слева был садик. Там горел фонарь — как раз между двух деревьев.
Андрей перебежал улицу и, встав поближе к дереву, снова развернул газету. Может, она подскажет, что творится?
На третьей странице была небольшая статья ялтинского корреспондента. «Драма на вилле «Астра». Андрей не сразу сообразил, что дом отчима, пока принадлежал старому хозяину, звался виллой «Астра», это название было выложено бронзовыми буквами над входом. Отчим замазал его, но, когда начиналась зима, было сыро или изморозь, буквы проступали сквозь известку.
Он пробежал статью. Она была написана бойко и не очень грамотно.
«Наш корреспондент сообщал, что вся Ялта встревожена и поражена таинственным двойным убийством известного профессора-ботаника Берестова и его служанки, трупы которых были найдены в принадлежащей профессору вилле. Там же обнаружены следы отчаянной борьбы, которую вели за свою жизнь несчастные жертвы. В настоящее время подозрение пало на пасынка покойного профессора, который находился в стесненных денежных обстоятельствах. Некоторые полагают, что он был связан с бандой дезертиров, которые объявились в окрестностях Ялты. Следователь господин Вревский, приглашенный специально для расследования этого нашумевшего дела, сообщил нашему корреспонденту, что поимка скрывающегося от правосудия студента Б., против которого есть неопровержимые улики, дело ближайших часов. Мы будем держать наших читателей в курсе событий».
Но сама статья еще не давала ответа на вопрос: как его узнал авиатор?
Ответ нашелся на последней странице газеты.
Там была помещена фотография Андрея в гимназической форме, видно, найденная в доме у отчима (не дай Бог, если они устроили обыск в Симферополе и отняли ее у тети!). Там говорилось, что разыскивается опасный преступник, скрывающийся от правосудия, Андрей Сергеевич Берестов, и давались его приметы. Значит, ему надо бежать из Ялты.
Сад позади Лидочкина дома был невелик и запущен. Хозяйка дома, которая жила в Севастополе, разрешала жильцам пользоваться его скудными плодами и тенью каштана, что стоял у забора. Садик зарос бурьяном и крапивой. Посреди садика стояла покосившаяся деревянная беседка с лавочкой без спинки. Перелезши в темноте несколько заборов и отчаявшись отыскать этот, лишь раз виденный сад, Андрей вдруг узнал беседку.
Андрей стал смотреть в освещенные окна. Шторы на втором этаже были закрыты.
Андрей стоял, размышляя, что делать далее, как из беседки до него донеслись приглушенные голоса: там кто-то сидел, и пройти мимо, не будучи замеченным, было трудно. Один из приглушенных голосов, доносившихся из беседки, показался ему знакомым.
Выражение «показался ему знакомым» не совсем точно. Он, конечно же, узнал серебряный голос Лидочки, однако мысль о том, что она любезничает с кем-то в беседке, когда он таится по темным углам в смертельной опасности, была настолько кощунственна, что, услышав голос невесты, Андрей отказался его узнавать. Это был чужой голос! Он был лишь отдаленно похож на голос Лидочки.
Эта попытка убедить себя не удалась, потому что Лидочка беззаботно засмеялась, но тут же оборвала смех:
— Простите, я забылась.
— Если ваша мама услышит, — ответил мужской голос, — она сильно удивится.
— Еще бы, — сказала Лидочка с потрясшим Андрея цинизмом. — На той неделе была помолвлена с одним, а сегодня смеется с другим.
— Эта современная молодежь! — кривлялся мужской голос. — Для нее нет ничего святого!
Андрей представил себе, как рука соперника скользит по плечу Лидочки, не встречая сопротивления. Рука присевшего на корточки Андрея инстинктивно стала шарить по земле в поисках камня или палки, чтобы убить это похотливое животное, а может, и неверную Лиду Иваницкую.
От немедленной расправы соперника спасло то, что он, вдруг понизив голос, сказал:
— Пойду загляну через забор.
— Идите, — сказала Лидочка. — Только возвращайтесь скорей. Мне одной здесь неуютно.
Зашуршали кусты. Соперник отправился вдоль дома, к забору, выходившему в переулок. На фоне неба проявился его силуэт.
Андрей не знал, что делать дальше. Он был подобен караванщику в пустыне, который весь день стремился к далекому оазису, умирая от жажды, и только сейчас понял, что его цель — пошлый мираж, который часто встречается в Сахаре.
Девушка, которая может за несколько дней бессовестно предать любимого и найти счастье с усатым гусаром, недостойна его любви. Но что остается ему, караванщику? Очевидно, направиться прямо в суд и сдаться в руки Вревскому.
И тут же Андрей, не уничтоживший в себе, а лишь подавивший ревностью нежные чувства к Лидочке, подумал: «Насколько я несправедлив? Она полюбила меня, когда я был честным человеком. И более того, старалась, с риском для себя, помочь мне. До того момента, когда я исчез. Исчез, и остались лишь слухи, сомнения и, наконец, фотография в газете с объявлением о розыске опасного преступника. Даже если она не до конца поверила в мою вину, что ей остается делать? Стать соломенной вдовой убийцы? Она должна была спасти себя, и я не вправе ее осуждать. Пускай она будет счастлива…»
Андрей поднялся и стал искать место, чтобы перелезть через ограду и исчезнуть. Двигался он замедленно, вяло, в конце концов, все равно — оставаться ли на свободе или пойти на каторгу… В то же время Лидочка могла бы и подождать. Не прошло еще и недели с того дня, как она клялась ему в любви. Клялась ли? Может, только притворялась?
Андрей поднял ногу, нащупывая выступ в камне, но нога соскользнула. Он нащупал лиану и взялся за нее.
Надо уходить горами в Россию. Или лучше нанять лодку и попытаться уплыть в Болгарию?
— Андрюша, — сказала Лидочка, подошедшая близко. — Ты чего, испугался?
— Что? — Андрей постарался вжаться спиной в камень.
— Господи, — сказала Лидочка, — мне кажется, что я тебя знаю уже двадцать лет. Правда, я лет на двадцать тебя старше.
— Прости, — сказал Андрей, неуверенно стараясь освободить рукав от ее пальцев.
— Ты перелез через забор, — сказала Лидочка. Она не спрашивала, она утверждала. — Ты услышал, как мы с Хачиком разговариваем, и тут же, обладая живым умом и нелепым характером, ты решил, что в роли третьего лишнего тебе ходить не пристало. И куда ты вознамерился идти? К господину Вревскому, который тебя ждет?
— Я, конечно, не вмешиваюсь. — Из темноты выросла фигура Хачика. — Мое дело маленькое, но господин Вревский уже отдыхают. Зачем его беспокоить?
И пока Андрей тупо пытался переваривать эти насмешливые слова, Лидочка кинулась к нему, обняла его, начала колотить кулаками по плечам и повторять громким шепотом:
— Я же говорила! Я же говорила, что ты придешь! И именно сюда! Потому что ты самый глупый на свете, но не дурак.
— Даже обидно, какой умный, — сказал Хачик. — Я думал, ты совсем в горах сгинешь и твоя девушка мне достанется. Смеюсь, не обижайся.
— Андрюшка, — продолжала шептать Лидочка, — мы тут третий вечер сидим. Я с Хачиком вечер сижу, а Хачик всю ночь один сидит.
— Зачем сидит? — сказал Хачик. — Я на скамейке лежу, Лидия Кирилловна мне одеяло выносят.
— Вы ждали меня?
— Нет, царя Давида! — сказал Хачик, раздраженный тупостью Андрея. — У тебя такая женщина, любой джигит молиться будет!
— Ничего, Хачик, ему надо прийти в себя, — сказала Лидочка.
Она повела его за руку к беседке, посадила на жесткую узкую скамейку — непонятно было, как Хачик мог лежать на ней три ночи подряд.
— Надо познакомиться, — сказала Лидочка.
— Не надо знакомиться, — сказал Хачик. Он чиркнул спичкой и подержал ее перед лицом. — Господин Берестов со мной немного знаком. Я для него, наверное, даже неприятный человек.
И Андрей узнал своего проклятого преследователя…
Хачик был не то чтобы другом, но человеком, весьма обязанным Ахмету Керимову. Настолько, что тот мог попросить его об услуге — не выпускать из виду Андрея, за судьбу которого у Ахмета были основания беспокоиться, но не маячить у того на глазах. Хачик, человек без особых занятий, наполовину грек, наполовину крымский армянин, не чуравшийся контрабанды и других не всегда легальных промыслов, был рад угодить Ахмету, но опыта слежки за людьми не имел. Так что Андрей быстро разгадал его. Это и сыграло роковую роль четыре дня назад, когда Андрей, оказавшись между двух огней, не нашел иного выхода, как воспользоваться табакеркой. Хачик, боявшийся обнаружить себя перед полицейскими, лишь манил Андрея к себе, желая прикрыть его бегство. Но Андрей его не понял.
Как человек трезвый, Хачик решил, что от волнения он упустил тот момент, когда Андрей перепрыгнул высокий забор. К тому же выводу пришли и полицейские.
Тогда Хачик скрылся с места события и поспешил к Ахмету. Ахмет отправился к Лидочке, потому что подумал: она — единственный человек, который знает об Андрее то, что неведомо Ахмету. И хоть Лидочка опасалась Ахмета, подозревая его в убийстве Сергея Серафимовича и Глаши, она выслушала его рассказ об исчезновении Андрея, не подав вида о своих подозрениях. Ахмет предположил, что Андрей убежал в горы. Лидочка согласилась.
Лидочка постаралась поставить себя на место Андрея, и, как всегда, небезуспешно. Андрюша подошел к дому, рассуждала она, и понял, что Вревский успел в кабинет раньше. Ему некуда бежать: с одной стороны полицейские, с другой — Хачик. Андрей вспомнил о табакерке и попытался повторить то, что совершил несколько дней назад его отчим. То есть с помощью машины времени нырнуть вперед на три или четыре дня, в надежде на то, что Ахмет выполнит обещание отыскать за три дня настоящих убийц.
Далее Лидочка думала так: Андрей не пойдет в дом отчима, потому что заподозрит засаду или иную каверзу Вревского. Значит, ему ничего не останется, как поспешить к Лидочке. А чтобы не выдать преследователям цели своего путешествия, он пойдет задами, через садик.
И в том, что рассуждения Лидочки совпали с действиями Андрея, не было ничего удивительного. Любой иной путь был бы для Андрея губителен. Исчезновение Андрея окончательно убедило следователя в его виновности. Разумеется, он установил наблюдение за домом Иваницких.
— У подъезда шпик стоит, — сказал Хачик. — Настоящий.
— Дураки вы с Ахметом, — сказал Андрей. — Только пугали меня.
— Я думал, я как человек-невидимка, понимаешь?
— Понимаю, — сказал Андрей. — Все это детские игры.
— На каторгу за детские игры не ходят, — возразил Хачик.
Лидочка сказала Ахмету, что у них с Андреем был уговор: если будет плохо, он укроется в горах и вернется через несколько дней, когда Ахмет отыщет убийц. Ахмет опечалился, потому что поиски убийц пока не дали результатов. Лидочка сказала Ахмету, что будет ждать Андрея у себя дома, и тот предложил услуги Хачика. Лидочка согласилась.
Вот они и ждали Андрея три дня и три ночи. Лидочке было нелегко успокаивать Евдокию Матвеевну, чтобы та не удивлялась возникшей в дочери склонности сидеть часами в садике с дочерна загорелым бродягой, который в беседке ночует и исчезает с восходом солнца.
Лидочка уже тысячу раз повторяла: «Андрюшу оклеветали. Он скрывается. Хачик его товарищ. Мы ждем Андрея».
Евдокия Матвеевна в ту же ночь многократно прошептала эту новость в супружеской кровати, но Кирилл Федорович, если и встревожился, виду не показал. Он уставал на службе. В связи с началом военных действий против Турции перевозки многократно возросли. Так что романтические причуды дочери и даже история с двойным убийством его волновали менее, чем Евдокию Матвеевну.
Евдокия Матвеевна подкрадывалась к кухонному окну, стараясь подслушать, о чем дочка шепчется с бродягой, ничего не слышала, воображала Бог знает что, пребывала в истерическом состоянии и все время роняла посуду.
Пока длился рассказ Лидочки, Андрей совсем успокоился и даже в двух словах поведал, как «спускался с гор» и еле унес ноги из ресторана.
— Конечно же, тебе надо помыться и привести себя в порядок… — сказала Лидочка неуверенно.
— Не надо приводить в порядок, — сказал Хачик. — Ахмет ждет.
Лида кивнула, подчиняясь. Ахмет в самом деле передал через Хачика, что будет ждать их у себя.
Лидочка побежала наверх сказать маме, что уходит, но вернется не поздно. И с ней будет Хачик.
— Ах этот Хачик! — драматически воскликнула Евдокия Матвеевна и проницательно поглядела на дочку. Дело в том, что лет двадцать назад Дуся неделю была бесконечно и рискованно влюблена в одного грека-рыбака. И, перенося свою незабытую страсть на дочку, опасалась Хачика куда более, чем он того заслуживал.
До дома на Чайной горке, где скрывался Ахмет, решили ехать на извозчике. За ним побежал Хачик, остальные ждали в глухом закоулке.
За эти минуты они успели многое обговорить. К счастью, они уже понимали друг друга с полуслова.
— Ты был в потоке? — спросила Лидочка.
— Да. Все оказалось так, как он написал.
— Страшно?
— Не знаю. Вернее, страшно.
— Долго?
— Очень долго. Потом я оказался здесь, и на часах была та же минута.
— Я боялась, что ты… исчез навсегда. Все может случиться.
— У меня не было выхода.
— Я думала, что, если ты улетел куда-то далеко, я буду тебя ждать. А потом испугалась втройне. Знаешь почему?
— Нет.
— Потому что я буду идти по жизни как все, год за годом, я стану старая и толстая… Я буду содержать пансион. И где-нибудь в тысяча девятьсот тридцатом году войдешь ты, молоденький и в папиных брюках. А я буду как твоя тетя. Ты ахнешь и покинешь меня.
— Глупости, так не могло быть! — Но Андрей уже понимал, что так могло быть. Они дотронулись кончиками пальцев до неизвестного, и это неизвестное схватило за пальцы ледяной хваткой и кинуло в несущийся поток.
— А если бы наоборот? — спросила Лидочка.
— Если наоборот? Это просто замечательно. Представь себе — тысяча девятьсот… тридцать восьмой год!
— Ой, как далеко…
— Я, конечно же, холост, еще хорош собой, представительный, приват-доцент Московского университета, держу свой выезд и провожу лето в Ницце…
— А я вовсе не состарилась, поэтому ты мне кажешься старикашкой.
Застучали, приближаясь, подковы — приехал на извозчике Хачик. Ехали минут пятнадцать. Сверху спереди скатывался ледяной воздух. Лидочка задрожала. Андрей заставил ее надеть его тужурку.
На Чайной горке, на узкой улице среди виноградников, извозчик без приказания остановился у высоких деревянных ворот. Хачик не заплатил ему — извозчик и не требовал платы.
В каменной ограде сразу раскрылась калитка. Там стоял мальчик с фонарем. Дождавшись, когда гости подошли ближе, он пошел по устланной плитами тропинке к белому дому под плоской крышей.
Ахмет выбежал их встретить на веранду.
— Молодец, — сказал он, обнимая Андрея. — Я даже не ожидал, что ты такой решительный. Не простудился в горах?
Потом он поклонился Лидочке, куда формальнее, чем делал это в доме Иваницких, и Андрей почувствовал, что из темноты сада и дома на них глядят многочисленные глаза.
Ахмет провел их в низкую, почти пустую комнату, пол которой был застелен ковром, на низком столике стояла яркая лампа. Вдоль двух стен шли низкие диваны, разделенные большим сундуком.
Мальчик, который провел их к дому, откинул занавеску во внутренние комнаты и поставил на стол поднос. На подносе стоял стеклянный графин с зеленым шербетом. И высокие дешевые стаканы.
Хачик, который вошел последним, разулся и уселся на диван, скрестив ноги.
— Потом расскажешь, — сказал Ахмет, — где был, что делал, под какой крышей ночевал.
Он обернулся к Лидочке:
— Пейте шербет. Моя тетя делает — на горной мяте настаивает. Очень целебный. Потом кофе приготовим.
Андрей понял, что в этом татарском доме с его другом произошло изменение — он стал чужим. То есть он оставался тем же Ахметом, и нос тот же, и глаза, и усы. Но в каждом, ставшем округлым и законченным движении, в модуляциях голоса звучал житель именно такого дома — где не нужны стулья.
— Мои люди сказали, что позавчера шпики были в доме Марии Павловны, тебя спрашивали. Напугали тетю Маню, — сказал Ахмет.
— Надо бы ей сообщить, что со мной все в порядке.
— Я уже сообщил, — сказал Ахмет. — Ее успокоили. Хотя как ее успокоишь, если она пришла на службу, а ей газету показывают, — жалко тетю Маню.
Шербет был душистым, прохладным, но слишком сладким. Мальчик принес блюдо с виноградом.
— Теперь давайте думать, господа, — сказал Ахмет. — Только ты, Андрюша, сначала скажи — ты честно ничего не знаешь?
— Нет.
— Та-ак, — сказал Ахмет и медленно прикрыл глаза. — Это обстоятельство следует принять к сведению.
Андрей сообразил, что Ахмет играет роль Шерлока Холмса.
— Посмотрим теперь, какими сведениями располагает Скотланд-Ярд и что известно нам, скромным ищейкам с Бейкер-стрит. Что ты скажешь, доктор Ватсон? — Ахмет обратился к Хачику, тот тупо поглядел на Ахмета громадными глазами и сказал:
— Хачик меня зовут.
— Ахмет, зачем вы играете? — спросила Лидочка.
— Жизнь — игра, — ответил Ахмет. — Мы — лишь пешки. А для сведения моего друга Андрея сообщаю, что следователь Вревский отыскал в его отсутствие труп господина Сергея Серафимовича Берестова, медицинский эксперт обнаружил, что Берестов скончался под утро, когда подозреваемый был в том же пустом доме, а Глаша была убита чуть позже, когда подозреваемого, как утверждает полицейский, в доме не было. Дело замечательно скроено. Остается лишь найти украденные ценности, которые наш друг закопал в горах.
— А что тебе удалось узнать? — спросил Андрей.
— Я использовал дедуктивный метод, — сказал Ахмет. — Плов кушать будете?
Андрей отрицательно покачал головой.
— Я буду, — сказал Хачик.
— Тогда иди туда. Накормят.
Хачик без сожаления ушел.
— Если бы я знал, что это ты Хачика прислал, может, все было бы иначе, — сказал Андрей.
— Ничего бы иначе не было, — сказал Ахмет. — Твоего отчима все равно бы убили, и Вревский все равно бы до тебя добрался — ему надо дело завершить, чтобы им были довольны. Бандитов еще искать надо, ловить. А ты… Какой процесс будет! Юный наследник таинственного миллионера убивает отчима у сейфа!
— Что ты знаешь про сейф?
— Что и все! Когда нашли тело твоего отчима, в той же комнате отыскали за картиной сейф. Сейф был кое-как прикрыт картиной, но на раме и на ключах от сейфа были отпечатки пальцев Андрея Берестова. Вы такого знали?
— Надо было вытереть раму, — сказал Андрей.
— Если ты преступник, то самый глупый на свете, — сказал Ахмет. — Мне просто жалко, какие у меня глупые друзья. Почему ключи с собой не взял? Почему раму не вытер? Почему толком сейф не закрыл? Ты же такую им улику дал! Шкатулка — первое нападение. Потом преступник пытками вырывает у старого родственника тайну сейфа и похищает пачки ценных бумаг, так?
— Глупо, — сказал Андрей.
— И я говорю, что неумно. Я от тебя не прошу отчета. Ты мне сам все расскажешь когда-нибудь на Лазурном берегу. Моя версия — другая. Моя версия, что все-таки твоего отчима прирезали бандюги. Одного из них мы уже знаем, только он ничего не расскажет.
— Почему?
— А потому что он заплатил своей жизнью за эту тайну. Когда мои люди нашли его, он был уже мертвый.
Глаза Ахмета сузились, как у китайца. Он знал куда больше, чем рассказывал. Но и сам он полагал, что Андрей от него скрывает что-то важное. Так что дружба дружбой — но полной искренности в том разговоре быть не могло.
— Вы чего замолчали? — спросила Лидочка.
Ахмет взял из вазы гроздь, высоко поднял ее и поймал губами нижнюю ягоду.
— Ты помнишь, у нас в гимназии кочегар Тихон был?
— Помню. Я его на Рождество в Симферополе видел, — сказал Андрей. — Он узнал меня.
— А зачем ты с ним в Симферополе виделся?
— Это глупая история. Я гулять пошел, вечером, поздно. А меня чуть не ограбили. Оказалось, что один из грабителей — Тихон. Повезло. Мы с ним потом напились.
— Как же, припоминаю, — сказал Ахмет со значением.
— А почему ты спрашиваешь?
— Все на свете взаимосвязано, мой друг Горацио, — сказал Ахмет. — И чем больше я тебя слушаю, тем больше я пугаюсь. Значит, ты гулял ночью по Симферополю и встретил Тихона. Встретил Тихона, он пошел с тобой водку пить. И часто ты водку пьешь с кочегарами?
— Перестань, Ахмет. У нас нет времени.
— Сколько у нас времени, решаю я, — сказал Ахмет с неожиданной твердостью. — У нас с тобой впереди вечность, как говорил Шекспир.
Но Ахмет ошибся.
Снаружи раздался женский крик.
Топот, еще крики. Мужской приказной голос: «Заходи справа!» Ахмет вскочил. Он стоял неподвижно, крутя головой, старался разобраться в криках. Потом метнулся к занавеске, которая отделяла комнату от внутренних помещений дома.
В тот же момент ему навстречу кинулся Хачик, они столкнулись. Андрей тоже вскочил, потянул за руку Лидочку.
Сзади вбежали с револьверами и обнаженными шашками, бестолково и топотно, с полдюжины полицейских. Они мешали друг другу. Андрей прижал к себе Лидочку, потому что бежать было некуда и первый из полицейских начал тыкать в него дулом револьвера и что-то неразборчивое кричал при этом… Тут кто-то опрокинул лампу, и горящий керосин разлился по ковру, вспыхивая неверными голубыми язычками, и стало почти темно, кто-то ударил Андрея, но тот старался прикрыть Лидочку, чтобы не ударили… А его тащили, оттаскивали от Лидочки, были крики, и среди них крик Лидочки. Андрей не потерял сознания, но потом вспомнить, что же происходило в минуту между первым криком и тем мгновением, когда он, с заломленными за спину руками, в треске виноградных кустов и метании многочисленных теней, оказался снаружи, он не смог.
— Лида! — крикнул Андрей.
— Мадемуазель Иваницкая в полной безопасности, — сказал Вревский, который стоял возле черного автомобиля Ахмета, почему-то оказавшегося у ворот. Очень высокий полицейский, возвышавшийся рядом с Вревским, держал яркий фонарь, и Андрей увидел, что Лидочка, неуклюжая в тужурке Андрея, стоит совсем близко, ее держит за руку другой полицейский, а вокруг продолжается беготня, крики, потом прогремел выстрел, завопил женский голос. — Займитесь обыском, — приказал Вревский молодому ротмистру, который возник перед ним, быстро дыша и придерживая у переносицы пенсне.
— Лида! — крикнул Андрей. — Не волнуйся, все будет хорошо.
— Господин Берестов совершенно прав, — сказал Вревский. — Сергиенко, отвезите девицу Иваницкую домой к маме и передайте, чтобы она не отпускала дочь по ночам в сомнительной компании. Это может плохо кончиться.
Лидочка молчала. Андрей чуть успокоился: Вревский не намерен ее задерживать.
Когда Андрея посадили в пролетку между двумя пахнущими потом и дракой полицейскими, Вревский легко вскочил в другую пролетку и весело крикнул:
— Арестованного запереть! Я через полчаса буду.
Андрей думал, что его запрут в камеру к уголовникам, но полицейский отвел его в комнату на втором этаже. Там стояли два пустых письменных стола, на подоконнике горшки с вялыми пышными розовыми цветами. На окнах пыльные решетки.
Вревского долго не было.
Андрей подошел к окну. Оттуда был виден двор под ярким фонарем. Двор был окружен казенного вида строениями и каретными сараями.
Сумели ли бежать Ахмет с Хачиком? Лидочку отвезли домой, и, наверное, Евдокия Матвеевна даже успокоится, что дочь наконец-то дома, а неспокойного жениха надежно арестовали. Теперь уже не убежишь — Вревский этого не допустит. И табакерка не поможет — какой смысл уходить в будущее, если окажешься в той же комнате! Может быть, конечно, это здание когда-то разрушат или продадут. Но тогда — Андрей уже принялся размышлять как привыкший к полетам путешественник во времени — ты можешь вынырнуть из потока времени метрах в четырех над землей… И сломать себе шею.
Можно представить странное зрелище. Площадь. Когда-то на ней стояло здание суда, но разрушено за ненадобностью полиции в счастливом государстве будущего. Идет карнавал, играют оркестры… Вдруг в воздухе возникает странно одетый человек, падает на землю и разбивается насмерть. К нему сбегаются маски и решают, что костюм на погибшем карнавальный, ибо таких давно уже никто не носит, а выпал он с пролетавшего воздушного шара. Так и похоронят…
Впрочем, далеко в будущее уплывать нельзя. Уплыть — это значит лишиться Лидочки. Да и неизвестно, как далеко может унести машина времени.
Кстати, как бы ее не потерять. Андрей хлопнул себя по карману тужурки и только тут сообразил, что тужурки на нем нет, — рукав сорочки надорван, измазан чем-то, а тужурки нет. Было мгновение растерянности — оказывается, он забыл, когда лишился тужурки. Потом в памяти возникла картинка: Лидочка понуро стоит рядом с полицейским, на ней его тужурка.
Слава Богу, обрадовался Андрей.
Пока ты жив, остается надежда. Ведь где-то скрываются настоящие убийцы. И как только они предстанут перед лицом правосудия, справедливость восторжествует. Почему он должен стать жертвой судебной ошибки? Граф Монте-Кристо — это для изящной словесности. Почему Ахмет вспомнил о Тихоне? Что это было? О судьбе, которая нагнала кого-то. Черт побери этого Ахмета с его стремлением красиво выражаться. Тоже мне поэт Низами!
В коридоре послышались подкованные шаги. Они остановились у соседней двери. Голоса. Потом шаги возобновились. Повернулся ключ в двери. Вошел Вревский. Щелкнул выключателем, и сверху загорелась лампочка под белым колпаком.
— Что же вы, голубчик, без света сидите? — спросил Вревский мирно.
— Я не знал, что мне дозволено пользоваться светом, — сказал Андрей. Хотел съязвить — получился мальчишеский вызов.
— Если бы нельзя, голубчик, — сказал Вревский, кладя на стол синюю папку, — мы бы выключатель за решетку убрали.
Он улыбнулся Андрею. Широко и зубасто. Видно, у Вревского были основания для хорошего настроения.
— Садитесь, — сказал он. — Пришло время поговорить серьезно.
Андрей подвинул к себе стул от другого стола и уселся.
— Помяли вас немного мои архаровцы? — спросил Вревский. — Кстати, знаете ли вы происхождение этого слова, господин студент? Был такой начальник полиции в Москве — Архаров. Его подчиненные отличались неукротимым нравом.
Вревский развязал тесемочку и открыл папку.
— Допроса официального я вести не намерен, — сказал он. — Это дело завтрашнего дня. Выспитесь в камере, позавтракаете, чем тюремный Бог послал, а потом и поговорим уже, как положено, с протоколом. И может быть, с очной ставкой. А сейчас мне хотелось бы рассказать вам о нашем деле, как я его понимаю. Меня никто не заставляет этого делать, но я человек — и ничто человеческое мне не чуждо. В частности, любопытство.
Вревский поглядел на Андрея, прищурился, потом спросил:
— А если у вас нет настроения вести сейчас со мной беседу, то мы и в самом деле отложим все на завтра. Я уже не спешу.
— Я тоже заинтересован, чтобы недоразумение закончилось как можно раньше.
— Недоразумение? Вы упрямый человек, Берестов… ну да ладно. С чего мы начнем?
Вревский полистал папку, в которой были подшиты десятка два листов, потом захлопнул ее.
— Документы бесчувственны, — сказал он. — Жизнь куда интереснее. Итак, жил-был один студент. Жил он с тетей в Симферополе, женщиной во всех отношениях достойной. Вот кого мне искренне жаль.
— Мне тоже, — согласился Андрей. — Она вынуждена переживать из-за того, что вы не можете найти настоящих преступников.
— Ну, полно, полно…
— И какое вы имели право искать меня в Симферополе и рассказывать тете о всех этих мерзостях? Кто дал фотографию в газету?
— Итак, — Вревский постучал костяшками пальцев по синей папке, — молодой человек не любит своего отчима, близости между ними нет. Но он притом пользуется его средствами, так как отчим — человек состоятельный, хоть и расчетливый. Год назад, а может быть, ранее, перед поступлением в университет, молодой Берестов наносит визит отчиму, и тот рассказывает ему, что открыл на его имя счет в Московском коммерческом банке… Однако до завершения образования пасынок имел право пользоваться лишь процентами с положенной суммы. А этого только-только хватало на жизнь.
— Мне хватало, — сказал Андрей.
— Голубчик, — сказал Вревский, — когда я учился, то хотел стать прокурором. И знаете почему? Я люблю строить законченную картину преступления, интересуюсь душой преступника, обстоятельствами его жизни, которые могли толкнуть его на преступление. И главное: я хотел стать прокурором, потому что его речь никто не прерывает.
— Мы еще не в суде.
— Тогда тем более поимейте ко мне уважение. Я излагаю плоды моей умственной работы.
— Хорошо, — согласился Андрей. Всегда приятно обнаружить в оппоненте слабину. А Вревский был тщеславен.
— В последнюю встречу отчим, не имевший иных наследников, рассказал пасынку о том, что хранит ценности в шкатулке красного дерева, спрятанной под паркетом в кабинете на втором этаже.
— Вы знаете, что шкатулка была красного дерева? Значит, вы ее нашли?
— Вот именно! — Вревский был доволен маленьким эффектом. — Знал наследник и о сейфе в кабинете отчима. Хотя полное содержимое сейфа нам до сих пор неизвестно. Но это — дело времени. Полагаю, что там хранились некие бумаги, связанные с угнетавшей Андрея Берестова тайной его рождения.
Андрей поморщился. Вревский будто раздевал его, залезал пальцами под кожу.
— Внешне жизнь молодого Берестова в Москве была лишена особых событий. Он даже участвовал в археологической экспедиции профессора Авдеева и совершил попытку соблазнить одну из студенток, что ему не удалось и ударило по самолюбию. В беседах с той студенткой он говорил о своих честолюбивых планах — молодые люди часто раскрываются перед объектом своих вожделений.
Андрей никак не мог вспомнить, о каких честолюбивых планах он мог говорить с Тилли, но надо отдать должное Вревскому — до Тилли он тоже добрался. Не иначе как за те дни, что Андрей плыл в реке времени, он побывал не только в Симферополе, но и в Москве.
Вревский, насидевшись за столом, принялся энергично ходить, останавливаясь у окна и каждый раз пронзая холодным бледным взглядом своего пленника.
— За последний год господин Берестов дважды посещает Ялту. Хотя это путешествие неблизкое. Он был там на Рождество, а затем прошедшим летом. Что могло подвигнуть его на эти путешествия?
— Вы же отлично знаете, Александр Ионович, — сказал Андрей. — Я хотел увидеть Лидочку Иваницкую, об отношениях которой со мной вам известно.
— Господин Берестов может объяснить свои поездки по-своему, но и следователь имеет право на версию. И будьте любезны ее выслушать. Я полагаю, что вы приезжали в Ялту, пытаясь получить деньги от отчима.
— Но зачем мне деньги?
— Должен сказать вам из собственного опыта, что тихие, лишенные внешних пороков люди часто таят в себе вулканические страсти. Зачем вам деньги? Зачем деньги молодому тщеславному человеку, который знает, что у его престарелого отчима лежат без движения и пользы многие тысячи рублей, и ощущает несправедливость этой ситуации?
— Вы хотите рассказать мне что-то из Достоевского?
— Не петушитесь. Достоевский был большим знатоком человеческих душ, — сказал Вревский наставительно. — Я бы советовал читать его как следователям, так и преступникам.
— Спасибо за урок.
— Это не последний урок, который вы от меня получите, — сказал Вревский. — Итак, наш герой пытался на Рождество получить у Сергея Серафимовича некую сумму денег. Но, очевидно, безуспешно.
— Но не нужна мне некая сумма!
— У меня есть показания близкого вам лица!
— Кого?
— Пробыв в Ялте всего один день, господин Берестов срочно возвращается в Симферополь. Если бы его визит был связан с делами сердечными, я убежден, что господин Берестов провел бы в Ялте куда больше времени. Ведь были каникулы, куда спешить?
— Я должен был вернуться на похороны матери моего гимназического друга, Беккера. Вы можете проверить.
— Вы знали о смерти матери господина Беккера до отъезда?
— Знал.
— Похоронили бы и ехали в Ялту. Или поехали бы за три дня до того срока. Нет, вас держало в Симферополе совсем другое!
«Ну как ему объяснить, что я узнал правду об отношениях Коли Беккера и Лидочки от Маргариты лишь за день до похорон Елизаветы Юльевны!.. Впрочем, это уже давно не играет роли».
— У вас была совсем другая цель, — повторил Вревский. — Пахомов!
Возглас был столь неожиданным, что Андрей вздрогнул.
Тут же в дверях возникла щекастая рябая физиономия полицейского.
— Слушаюсь, вашество!
— Два стакана. Покрепче.
Полицейский исчез.
— На чем мы остановились? Ага, на вашем возвращении в Симферополь. Вы вернулись потому, что поняли — добром от отчима ничего не получишь. И тогда в вашей голове созрел план злодейского преступления.
Вревский повысил голос, словно поставил точку.
— Что вам говорит фамилия Денисенко? — спросил он, глядя на Андрея.
— Какая фамилия?
— Де-ни-сен-ко.
— Ничего не говорит.
— Другой реакции я и не ожидал, — сказал Вревский.
Вошел полицейский. В одной руке он нес два стакана в подстаканниках, в другой — блюдце с сахаром. Он поставил стаканы и блюдце на стол.
— Спасибо, иди, — сказал Вревский. Он подвинул стакан к Андрею. — Разве это называется крепкий чай? Люди разучились делать простые вещи.
Чай был горячим. Андрей почувствовал, что замерз. Хоть в комнате было душно, через форточку тянуло холодным дождливым ветром.
— Господин Берестов прибыл в Симферополь, чтобы договориться о возможном исполнении злодеяния с нужными людьми, — продолжал Вревский. — Но исполнение было отложено на удобное время — не знаю пока почему. Может, высокие договаривающиеся стороны не поладили из-за оплаты. Может, Берестов еще колебался… а может быть, и ему не чужды человеческие чувства — как, не чужды?
Андрей прихлебнул чаю. Он думал: кто же такой — Денисенко? Никогда не слышал этой фамилии. Его предполагаемый сообщник?
— Если у вас нет комментариев, — сказал Вревский, — продолжим эту историю. Подходит лето. Сроки по платежам наступают.
— По каким платежам?
— Вы нам еще расскажете, по каким. Ситуация для Берестова обостряется настолько, что он неожиданно бросает археологическую экспедицию, оставляет на произвол судьбы девицу, ласк которой вчера еще домогался, и снова несется в Ялту. Это уже совсем невероятно! Вы мне скажете — мечтал увидеть Лидию Иваницкую. Я отвечу — ложь, молодой человек. Лидия Иваницкая, как мне стало известно, в эти дни находилась где-то между Новороссийском и Батумом на пароходе «Левиафан». Как нравится вам моя работа? Насколько тщательно я изучил дело?
— Она должна была вернуться, — сказал Андрей. — Но пароход задержался.
— Только не надо песен! — сказал Вревский. — Существует телеграф, и можно было узнать о местопребывании мадемуазель Иваницкой за два часа.
— Я не был тогда знаком с ее родителями… Впрочем, продолжайте. Мне вас не убедить.
— Правильно, — обрадовался Вревский. — Вам меня не переубедить. Иваницкая вас не интересовала. Вы отправились к своему отчиму. Провели там ночь, беседовали с госпожой Браницкой. И узнали, очевидно, от нее, что ваши просьбы вновь останутся без ответа.
— Так забрался бы я наверх, открыл шкатулку и взял что мне нужно!
— Ах, Андрей Сергеевич, зачем вам устраивать кражу в доме отчима, если подозрения в ней падут на вас, и только на вас! Нет, вы не такой идиот, как пытаетесь показаться. Вы все разведываете, принимаете окончательное решение и возвращаетесь в Симферополь. Там вы встречаетесь с людьми, которых вы намерены использовать для черной работы. Главное для вас — сделать так, чтобы никто не связал ваше имя с преступлением. Вы отдали все приказания, вы все устроили и ждете в Москве сигнала. Убедительно ли я излагаю?
— Совершенно неубедительно.
— Суду это покажется убедительным. Итак, получив сигнал, что ваше приказание выполнено, вы садитесь в поезд и, приняв скорбный вид, отправляетесь в Симферополь.
— Господин следователь, не забывайтесь!
— Ах какие мы чувствительные! Ну хорошо, хорошо. Вы приехали в Ялту, встретились со своими сообщниками и тут узнали, что они проделали операцию из рук вон плохо, к тому же похитили Сергея Серафимовича и пытали его. Вы заподозрили сообщников в обмане… их было двое, да?
— Откуда мне знать?
— Наверное, двое. Вернее всего, они вас надули. Да-да, просто надули. Шкатулку вы так и не увидели. Но обманутый, раздраженный и напуганный — вам же еще и двадцати лет нет, — вы начали метаться. Вы кинулись в больницу, вы встревожились, что госпожа Браницкая в любой момент может прийти в себя и указать на вас. Надо спешить!
Вревский отставил стакан.
— Вы не устали? — спросил он.
— Нет, — по возможности спокойно ответил Андрей. — Мне интересно наблюдать, как вы рассуждаете.
— Тогда, молодой человек, продолжим рассуждения. В тот день меня удивило решение чувствительного интеллигентного юноши провести ночь в доме, где произошло страшное преступление. Зачем ему это нужно? — спросил я себя. Наверное, подумал я тогда, Андрей Сергеевич хочет найти в доме какие-то иные ценности, о которых не знали бандиты. Я был прав!
Вревский откинулся на стуле и сложил руки на груди. Он готов был нанести удар.
— Итак, вы поднимаетесь в кабинет. В доме тихо. Ночь на исходе. Вы достаете из потайного ящичка в письменном столе ключи от сейфа, отодвигаете портрет и открываете сейф. Но стоило вам протянуть руку к пачке ценных бумаг, как вы слышите сзади стон! В дверях кабинета стоит весь окровавленный, почти при смерти от жестоких пыток, которым его подвергали ваши сообщники, Сергей Серафимович Берестов!
Андрею было неуютно. Как будто бы Вревский рассказывал историю фантастическую, придуманную им и не имевшую отношения к действительности. Но факты и фактики четко складывались, подобно кубикам в головоломке, и история звучала до ужаса правдоподобно…
Вревский перевел дух и далее говорил размеренно, не спеша, добивая слушателя:
— Вернее всего, он попытался остановить вас, потому что понял — вот кто главный организатор преступления! Вот он — неблагодарный! И вы, находясь в состоянии аффекта — я убежден, что это именно так, — по натуре вы не убийца, вы для этого слишком чувствительны, — вы кинулись прочь, но отчим пытался остановить вас, и в завязавшейся схватке вы убили его ножом.
— Это совершенная неправда.
— Это правда. Ваши отпечатки пальцев найдены везде. Ключи от сейфа валялись на ковре. В сейфе тоже предостаточно отпечатков. Ваш отчим отдал Богу душу именно в то время, когда вы были в кабинете, разве не так?
— Я отказываюсь отвечать.
— Ваше право. И без того все ясно… Вернемся же к преступлению: вы стоите посреди кабинета. Вы в ужасе от содеянного. Вы хватаете добычу из сейфа и бежите вниз. Состояние ваше истеричное. Вы понимаете, что как только Глафира Станиславовна узнает о смерти отчима, она сразу укажет следствию на вас.
— Но почему?
— Потому что достаточно сложить два и два, чтобы понять — никто, кроме вас, за убийством стоять не мог. Теперь вы спешите убрать единственного свидетеля. Вы опускаетесь по крутому откосу, бежите к госпиталю и проверенным уже путем проникаете в палату. Там вы вонзаете нож в грудь невинной женщины!
— Господи, где же я читал этот страстный монолог?
— Вы дрожите, Берестов? Я вижу, что и сейчас вы дрожите при воспоминании о содеянном!
— Нет, — сказал Андрей, — я не дрожу, потому что этого не было.
— Вы хотите сказать, что Глафиру Станиславовну убил ваш сообщник? Что ж, допускаю, допускаю, что он ждал вас в больничном саду, что это было запланировано вами заранее. А это не суть важно. Важно то, что дело против вас настолько серьезно, настолько аргументированно, что вам придется пригласить господина Плевако, чтобы он избавил вас от виселицы. Так-то, голубчик.
Вревский потянулся на стуле. Взглянул на входящие в моду наручные часы. Сплел пальцы рук и, потянувшись, хрустнул ими.
— Скоро полночь, — сказал он. — Нам с вами надо отдохнуть…
— Можно я задам вам вопрос, Александр Ионович? — спросил Андрей.
— Разумеется, я рад буду ответить. — Вревский ждал, как кот, поднявший лапу.
— Надо ли понимать, что в вашем так называемом деле нет ни одной улики против меня, ни одного свидетеля, ни одного доказательства, кроме вашей горячей речи?
Пожалуй, Вревский ожидал услышать что угодно, кроме такого заявления. Он сразу выпрямился на стуле и разъединил сплетенные пальцы.
— Что вы хотите сказать?
— То, что вам скажет любой судья.
— А убийство Берестова? А смерть Браницкой?
— Кто убил их? С таким же успехом вы можете показать на любого прохожего.
— При условии, что отпечатки пальцев этого прохожего будут в кабинете покойного.
— Отпечатки пальцев оставил я. Когда открывал сейф, чтобы вынуть завещанные мне письма и бумаги.
— И все?
— Все. Моего отчима я застал уже мертвым.
— Значит, вы нарушили закон, взломав сейф…
Вревский осекся.
Андрей позволил себе улыбнуться.
— Ради Бога, — сказал он, — судите меня за то, что я открыл сейф в принадлежащем мне доме.
Поддавшись тщеславию и склонности к высокопарной демагогии, Вревский позволил Андрею успокоиться и, слушая длинный монолог, собраться с мыслями. Вревский тоже понял это и понял, что недооценил оппонента. По расчетам Вревского, Берестов должен был сникнуть перед железными аргументами и, будучи отягощен больной совестью, во всем признаться. Тут же, этой ночью.
— Грустно, — сказал Вревский, — весьма грустно, что вы оказались столь неблагоразумны.
— Более того, я думаю, что пришло время отпустить меня. И без того вы продержали меня слишком долго. Мне придется жаловаться.
— Жаловаться? — Опершись сильными ладонями о стол, Вревский привстал и наклонился вперед. — Нет, голубчик, жаловаться вы не будете, и домой баиньки я вас тоже не отпущу. Я имею полное право продержать вас в камере с уголовниками столько, сколько пожелаю.
Он был зол. Он был очень зол, потому что потерял впустую столько времени и сил.
— На каких же основаниях, господин следователь?.. — Андрей тоже вскочил. При звуке возбужденных голосов в дверь заглянул широколицый полицейский.
— На том основании, что вы задержаны в воровском притоне со своим дружком Керимовым! Этого достаточно.
— Никогда не думал, что Керимов держит в Симферополе притон.
— Здесь держит. И похуже, чем притон… И вообще перестаньте фиглярничать, Берестов. Я знаю о вас все!
— Я убедился, что ничего не знаете.
Вревский встал.
— Можно, конечно, подождать до утра, — сказал он устало. — Но лучше закончить разговор сегодня, чтобы вы не надеялись на снисхождение. У меня в душе нет снисхождения к убийцам.
Вревский подошел к скучному железному шкафу, что стоял за его спиной, и, повернув ручку, открыл скрипучую дверь. Резким движением он выхватил оттуда темно-красную резную шкатулку и поставил ее на стол.
— Узнаете? — Он откинул крышку. Шкатулка Сергея Серафимовича была пуста. И оттого видно было, что устилающее ее красное сукно в некоторых местах потерто.
— Узнаете?
— Узнал, — не счел нужным таиться Андрей. — Это шкатулка моего отчима.
— Пустая, — сказал Вревский.
— Пустая, — повторил Андрей.
— Хотел бы я увидеть, какие змеи извиваются сейчас в вашей душе, — сказал Вревский.
— Мне и в самом деле очень грустно сознавать, что ради ее содержимого погибли два близких мне человека, — сказал Андрей.
— Уже три, — сказал Вревский. — И не знаю, кто из них вам ближе.
Он снова открыл синюю папку, и только тут Андрей увидел, что между листами в ней вложен большой конверт. Вревский вытащил оттуда несколько фотографий. И аккуратно, напряженно, будто превозмогая желание кинуть их Андрею в лицо, разложил их на столе.
На первой фотографии был виден человек, лежащий на земле в неудобной позе, подвернув под себя ногу и бессильно откинув руку. Лицо его было неразличимо.
На второй фотографии было только лицо того человека — крупным планом. На третьей тоже лицо — с другой стороны. Человек был мертв.
— Кто это? — спросил Вревский.
Андрей молчал, узнав человека и всем нутром чувствуя опасность, грозящую от признания своего знакомства.
На фотографии был гимназический кочегар Тихон. Кто еще говорил о нем недавно? Да, конечно же, Ахмет.
— Кажется, я его припоминаю, — сказал Андрей, — но могу ошибиться. Что с ним произошло?
— Кто этот человек?
— Звали его… Кажется, его звали Тихоном.
— Фамилия!
— Откуда мне знать его фамилию? Он у нас раньше в гимназии кочегаром работал. Мы к нему в котельную бегали, кто курить, а кто в карты играть.
— И с тех пор вы его не видели?
— Нет, не видел, — сказал Андрей, искренне полагая, что не лжет, потому что ночная встреча в семинарском саду не имела никакого отношения ни к Ялте, ни к этому делу, но Андрею могла повредить.
— Честное слово?
— А что случилось?
— А то, что этот человек убит. Убит так же, как ваш отчим и Глафира. И рядом с ним валялась пустая шкатулка.
— Значит, вы нашли одного из бандитов! — сказал Андрей. — Чего же вы меня тогда здесь держите?
— Потому что этот человек — а фамилия его, впрочем, вы и без меня ее знаете — Денисенко, Тихон Денисенко, — убит тем же ножом и точно так же, как остальные ваши жертвы…
— Его тоже я убил?
— Без иронии, господин Берестов. Вы же до сих пор не ответили следствию, где вы умудрились скрываться последние четыре дня. А я вам отвечу, смотрите мне в глаза, я вам отвечу! В заброшенном летнем домике над верхней дорогой. Вместе со своими сообщниками. Где вы делили добычу. И это кончилось неудачно для вашего сотоварища Денисенко, который погиб, как всегда погибают в бандах, когда речь идет о дележе добычи.
— Я не видел этого Тихона несколько лет.
— Как вы мне надоели, Берестов!
Вревский вытащил из папки еще один лист, мелко исписанный с двух сторон.
— Это протокол допроса вашего близкого приятеля, которому нет никакого смысла вас губить, да который и не подозревает, что его показания забивают гвозди в ваш гроб, господин Берестов. Я снова иду на нарушение порядка следствия, но хочу, чтобы вы поняли, насколько глубоко и безнадежно вы увязли. Читайте… Да, погодите, чтобы не было недоразумений и чтобы вы, не дай Бог, не подумали, что ваш приятель Николай Беккер замыслил против вас нечто дурное, даю слово офицера, что Беккер встречался со мной совсем по иному делу и ваше имя всплыло при его допросе совершенно неожиданно. Господин Беккер не подозревал, что я знаком с вами, а давал показания в связи с исчезновением двух рядовых из команды, с которой он приехал из Феодосии для получения прицелов. Читайте вот отсюда…
Андрей подвинул к себе листы. Почерк был мелкий, канцелярский. Видно, писал сам следователь или писарь.
Страница начиналась с середины разговора.
Вопрос. Когда вы и ваша команда, господин Беккер, прибыли в Ялту?
Ответ. Я прибыл в Ялту на попутном моторе, который шел из Феодосии, одиннадцатого октября. Моя же команда в составе четырех солдат береговой артиллерии прибыла морем двумя днями раньше.
Вопрос. Из кого состояла ваша команда?
Ответ. В команде были солдаты Денисенко, Борзый, Чамаш и Линяев.
Вопрос. Что случилось далее?
Ответ. На второй день по моему прибытию в Ялту солдаты Денисенко и Борзый не явились ночью в помещение, выделенное им для жилья.
Вопрос. Встревожило ли вас их отсутствие?
Ответ. В первый день нет, так как я полагал, что, имея в городе знакомых, солдаты могли загулять. Однако на следующий день, не имея от них известий, я счел необходимым доложить об этом начальнику снабжения, который рекомендовал мне тут же доложить коменданту. Что я и сделал.
Вопрос. Что дали принятые меры?
Ответ. Я получил ответ коменданта, что дело о возможном дезертирстве передано в городское жандармское управление.
— Ничего не понимаю, — сказал Андрей, отдавая лист Вревскому, который внимательно следил за его лицом. — Значит, Тихон Денисенко был в Феодосии?
— Вот именно. И приехал в Ялту за день до нападения на дом Берестова.
— Но я-то тут при чем?
— А вот при чем. Вчера утром пастухами в заколоченном летнем домике у дороги на Ай-Петри в лесу был найден труп неизвестного человека. У осмотревшего труп полицейского возникло подозрение, не дезертир ли он. Дальнейшее просто — фотографии убитого, а затем и сам труп были предъявлены для опознания господину Беккеру, который узнал Тихона Денисенко. А вот пустую шкатулку красного дерева, найденную в том же домике, Беккер опознать не смог. И понятно почему — опознать ее смогли бы только вы.
— Значит, его убил второй бандит и скрылся.
— Я задал несколько вопросов господину Беккеру.
Вревский подвинул Андрею еще один лист из папки. Мертвое лицо Тихона, глядевшего мертвыми полуоткрытыми глазами на Андрея, мешало сосредоточиться. Он отодвинул фотографию, Вревский усмехнулся и спрятал фотографии в конверт.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, были ли вы знакомы раньше с убитым?
Ответ. До армии?
Вопрос. Да, в Симферополе или Ялте?
Ответ. Я знаю, что оба убежавших солдата, Денисенко и Борзый, родом из Симферополя. Именно потому я и подумал сначала, что они находятся в самовольной отлучке — решили побывать дома.
Вопрос. Приходилось ли вам раньше встречаться с кем-либо из этих солдат?
Ответ. Борзого я до армии не знал, но Тихон Денисенко как-то напомнил мне, что работал в нашей гимназии истопником. Но я его не вспомнил, потому что не ходил в котельную.
Вопрос. Был ли знаком с Тихоном Денисенко Андрей Берестов?
Ответ. Странный вопрос. Зачем ему быть знакомым с истопником?
Вопрос. Хорошенько подумайте, господин Беккер. И постарайтесь вспомнить. Это может значительно помочь следствию и, в частности, вашему приятелю Андрею Берестову.
Ответ. Андрею угрожает опасность?
Вопрос. Можно считать и так. В любом случае ваш правдивый ответ может ему помочь.
Ответ. Я не могу быть точно уверен, но мне кажется, что на прошлое Рождество я видел Андрея в обществе Денисенко.
Вопрос. Они были вдвоем?
Ответ. Нет, с ними было третье лицо. Допускаю, что это был друг Денисенко Борзый. Но я не уверен, так как была зима, рано темнеет. У меня была тяжко больна мать, я возвращался домой из аптеки и увидел в городе Денисенко, Берестова и, кажется, Борзого, которые выходили из трактира.
Вопрос. Вас не удивила столь неестественная компания?
Ответ. Конечно, удивила. Кстати, подтвердить это может моя знакомая Маргарита Потапова, которая шла вместе со мной.
Вопрос. Все трое были пьяны?
Ответ. Не могу ответить. Был вечер. И разве это так важно?
— Хватит, — сказал Вревский, отбирая лист у Андрея, который начал было перечитывать показания Беккера. — Что вы на это скажете? Неужели вы будете утверждать, что ваш друг и совершенно посторонняя девушка сговорились вас погубить?
— Нет, я так не думаю, — сказал Андрей, который понял, как смертельно он устал, как хочет спать… «Ах ты, хитрец, Вревский, как ты поймал Колю! Но ведь Коля ничего и не подозревал…»
— Вы встречались на Рождество с Денисенко и Борзым?
— Я случайно встретился с Тихоном, — сказал Андрей, чтобы Вревский отвязался от него.
— И с Борзым?
— Я не знаю, кто такой Борзый. Второго звали Борисом. У него такие вот широкие скулы и лоб неандертальца.
— Что ж, описание сходится. Борис Борзый. И, кстати, уже судившийся и отбывший три года по подозрению в разбойном нападении. Ну что, господин Берестов, финита ля комедия?
— Я хочу спать, — сказал Андрей.
— Я тоже, — сказал Вревский. — Мы с вами славно потрудились. Как понимаете, достижение истины — процесс трудный. Пахомов!
Полицейский появился не сразу. Андрей подумал, что он задремал.
— Я здесь, — буркнул он, появляясь в дверях.
— Отведи арестованного во вторую камеру. Там чисто?
— А чего быть нечисто, там уж два дня как никого нету.
— Ну что ж, спокойной ночи, Андрей Сергеевич, — мирно сказал следователь. — Приятных сновидений пожелать не могу.
Андрей вышел. Вревский остался в кабинете.
Полицейский провел Андрея в полуподвал, где был коридор с железными дверями по сторонам. Открыл одну из дверей. Камера была пустая и узкая, окно под самым потолком. Железная койка, застеленная суконным одеялом, умывальник, ведро в углу, от которого тянуло хлоркой. И все.
Андрей ни о чем не мог думать.
Он хотел вытянуться на койке, но полицейский велел снять ботинки и отдать ему шнурки. Андрей покорно снял ботинки.
— Погоди, — сказал полицейский, провел руками по его карманам, потом расстегнул ремень и тоже взял с собой.
Под потолком горела лампочка. Андрей хотел было попросить, чтобы выключили свет, но заснул раньше, чем захлопнулась дверь за полицейским.
Андрей проснулся от того, что заскрежетала дверь. Наверное, так скрежещет дверь в ад, подумал он. Может быть, они специально сыплют песок в петли?
Полицейский — не тот, что вчера, другой, молодой, пузатый парень — принес миску с кашей и эмалированную кружку с жидким чаем. Проверил, есть ли вода в умывальнике, приподнял крышку ведра, от которого пахло хлоркой, обнаружил, что оно пустое. Потом сказал, что днем лежать на койке не положено.
Сквозь решетку окна из-под самого потолка лилась серая сырость.
Андрей использовал по назначению поганое ведро, потом умылся. Выпил чай, кашу есть не стал. И подумал, насколько человек быстро привыкает к нелепым и унизительным условиям жизни. Волк бы метался по клетке, отказывался от еды, птица бы разбилась о прутья, а вот он, студент, человек если и не утонченный, то интеллигентный и неглупый, воспитанный в понятиях порядочности и чести, не представляющий, как можно сесть за завтрак, не почистив зубы, покорно оправляется в ведро и пьет чай из кружки, и сердце его не разрывается от мысли, что ближайшие десять, а то и двадцать лет он проведет в заточении… а может быть, через несколько месяцев в подобной же камере он будет ждать своего последнего часа, а за дверью прозвучат шаги начальника тюрьмы, врача и священника, чтобы вести его к виселице.
Но на этом рассуждения Андрея оборвались, потому что мысль о такой смерти была настолько ужасна и реальна, что он вскочил, подбежал к двери, чтобы проситься наружу, но спохватился и понял, что такой радости Вревскому он доставить не может.
Он постарался рассуждать о своем деле, искать в нем причины, которые давали бы надежду на избавление, но голова была тупой, она отказывалась думать, и Андрей вместо этого смотрел, как два воробья устроились между решетками на подоконнике и, не обращая на него внимания, мирно чирикают о своих делах…
Дверь неожиданно вновь заскрежетала, и возник давешний пузатый полицейский. Он принес Андрею его ремень и шнурки от ботинок. «Конечно же, — понял Андрей, — это так положено, чтобы я не повесился. Поэтому и отбирают».
— Одевайтесь, — сказал полицейский. — Пошли.
— На допрос? — спросил Андрей. Полицейский показался ему симпатичным. Простой парень, добрый, наверное. В Андрее поднималась неконтролируемая льстивость, что так свойственна тяжелым больным и подследственным, — хочется быть хорошими с теми, от кого зависит твоя судьба, чтобы они поняли — ты достоин снисхождения.
— Мне сказали, я веду, — ответил полицейский. Ему было все равно, хорош ли Андрей. Он велел Андрею заложить руки за спину.
Они прошли по коридору полуподвала. За прочими дверьми камер, такими же, как та, что скрывала камеру Андрея, было тихо. Поднявшись на первый этаж, они, вместо того чтобы идти выше, где должен был ждать Вревский, повернули к двери во двор. Двор был знаком Андрею, он видел его вчера вечером из окна. Посреди двора стоял тополь, вокруг были набросаны окурки.
Моросил прежний дождь, и, пока они пересекали двор, сорочка промокла, и Андрей продрог.
Они завернули за угол безликого желтого казенного здания и, обогнув его, оказались перед входом. Там стоял солдат с винтовкой.
— Куда? — спросил он.
— К господину полковнику Николаеву, арестант, — сказал полицейский.
— Погоди, — сказал солдат. Он приоткрыл дверь внутрь и крикнул: — Тут арестанта к полковнику привели!
Сразу выскочил молоденький поручик с точным пробором посреди головы и серебряным аксельбантом. Он смотрел на Андрея широко раскрытыми глазами, будто восхищался.
— Господин Берестов? — воскликнул он. — Вас ждут!
Они вошли внутрь. Полицейский топал сзади. Поручик шел рядом с Андреем и был подчеркнуто вежлив:
— Полковник ждет вас.
Поручик повернулся к Андрею, протянул руку, чуть откинув голову назад, и представился:
— Поручик Тизенгаузен. Имел честь бывать у вашего отчима.
Поручик наклонил голову — пробор был проведен по линейке. Андрей пожал протянутую руку. Что это — чудесное освобождение, как в романе Дюма?
— Ни на минуту не допускал и мысли о вашем участии в этом жутком деле. Ни на минуту. — Поручик взял Андрея под локоть и повел по широкой лестнице наверх.
Полицейский мрачно топал сзади.
— Ты подождал бы здесь, — сказал поручик полицейскому.
— Не положено, — просто ответил тот, и стало ясно, что полицейский не отвяжется.
— Им хочется быстро соорудить уголовное дело. Шумное дело — многие у нас вам сочувствуют. Примите мои соболезнования.
Поручик постучал в дверь на втором этаже, оттуда послышалось: «Входите, входите!» Поручик пропустил Андрея вперед, преградил путь полицейскому, который намеревался было последовать за Андреем, и прикрыл дверь.
Андрей оказался в большом, светлом, в два окна, кабинете. Чуть ли не половину его занимал большой полированный стол, заваленный бумагами. За столом сидел массивный курчавый человек в форме полковника. Человек поднялся из-за стола и пошел навстречу Андрею.
— Господин Берестов? — сказал он. — Рад вас видеть. Надеюсь, что ваши несчастья временные. Очень надеюсь.
Полковник оказался низкого роста и столь широкий, будто ноги у него были отрублены по колено. Шел он мягко, шаркал ногами, и ясно было, что ему куда привычнее быть в мягких домашних туфлях, чем в высоких сапогах.
— Ай-ай-ай, — уныло сказал он. — Неужели в таком виде вам пришлось провести ночь в участке? Без теплой одежды?
— Полиция получила слишком много власти, — резко сказал от дверей поручик Тизенгаузен. — Они творят произвол.
— Вот именно, — согласился полковник. — Ведь можно простудиться! У вас нет насморка?
— Нет, — сказал Андрей.
— Я дам вам с собой капли. Мне присылают из Киева, — сказал полковник. — Вы завтракали?
Поручик хмыкнул.
— Ах да, — сказал полковник. — Какой у них завтрак! Поручик, не в службу, а в дружбу, распорядитесь, чтобы принесли чаю.
— Чай придется подождать, — сказал поручик. — Еще не ставили самовар. Но если господин Берестов не откажется, мы можем предложить ему глоток коньячку.
— Великолепная идея! — обрадовался полковник. — Вы простите, что нам пришлось встретиться в такой момент. Но это последствия тяжелого положения, в котором оказалось наше государство.
Поручик Тизенгаузен прошел к массивному сейфу, что стоял возле стола, громко повернул ручку, открыл его и вынул оттуда початую бутылку коньяку и два стакана. Раздвинул бумаги на столе полковника и налил в каждый стакан на два пальца.
— Нам надо завести бокалы, — сказал полковник, удрученно глядя на действия адъютанта. — Просто стыдно перед гостями.
— Я распоряжусь, — сказал Тизенгаузен. Он протянул один стакан Андрею, второй взял сам.
— А мне нельзя, — сказал полковник. — Язва. Совершенно исключено.
Коньяк обжег глотку. Полковник проглотил слюну, глядя, как Андрей пьет.
— Нечем закусить. Не серчайте, Андрей Сергеевич, но мы редко принимаем гостей. Мы стали бумажными крысами. Война — это груды бумаг, вот так-то.
Тизенгаузен пил коньяк маленькими глотками, стоя навытяжку, словно соответствовал тосту на торжественном приеме.
Большие настенные часы пробили десять раз. Все трое стояли и смотрели на них, потом полковник и Тизенгаузен сверили свои часы, словно настенные часы были истиной в последней инстанции. У полковника была старинная луковица, поручик Тизенгаузен, разумеется, имел часы наручные, на черном ремешке.
— Господин поручик, — сказал полковник, — вам пора.
— Слушаюсь, Лев Иванович, — согласился Тизенгаузен, убрал стаканы и бутылку в сейф и небрежно прикрыл его.
Когда Тизенгаузен вышел, полковник обернулся к Андрею:
— Садитесь, садитесь, в ногах правды нет. Боюсь, как бы вы с собой паразитов не вынесли. Там же блохи, клопы, полное отсутствие гигиены… да вы садитесь, я не потому сказал, что опасаюсь заразить свою мебель, нет, не потому.
Мысль эта показалась полковнику столь забавной, что он залился счастливым смехом.
В дверь постучали. Поручик пропустил в кабинет Лидочку. Из-за их спин выглядывал полицейский. Он даже встал на цыпочки, чтобы убедиться, что его подопечный не убежал.
В руке у поручика была большая сумка.
Лидочка кинулась к Андрею.
— Что они с тобой сделали! — воскликнула она куда громче, чем можно было от нее ожидать. — Я не переживу! Мой бедный… — Она обняла Андрея и прижалась щекой к его сорочке.
— Да-с, — сказал полковник. — Если вы позволите, я вас на несколько минут покину. Срочные дела… так-с, срочные дела.
Полковник обнял за плечи поручика Тизенгаузена, для чего ему пришлось высоко закинуть полную руку, и они вдвоем, словно Дон Кихот с подвыпившим Санчо Пансой, покинули кабинет.
— Лидочка, милая, я так счастлив… Как тебе это удалось?
— Андрюша, времени у нас совсем мало, — сказала Лидочка. Она потянула его к окну подальше от двери.
Андрей пребывал в эйфорическом состоянии, в котором мир сконцентрировался вокруг Лидочки, как космос вокруг Солнца, ослепительного и прекрасного. Он готов был плакать от умиления и нежности. Лицо Лидочки, освещенное светом белесого дождливого утра, было бледным, и оттого глаза казались еще большими, а губы были еще более нежного, светло-пунцового цвета. Андрей принялся целовать руки Лидочке, а та не отнимала рук, но повторяла:
— Андрюша, милый, пойми, что каждая минута… каждая минута…
Вместо продолжения разговора она оказалась в его объятиях. Поцелуй был бесконечен, и оторваться друг от друга было невозможно, может, еще и потому, что оба понимали, что этот поцелуй может оказаться последним. Он — дар судьбы, могущий оказаться ее жестокой шуткой.
— Ну вот, еще пять минут потеряли, — сказала Лидочка, отстраняясь наконец от Андрея.
— Не важно.
— Сейчас все важно, — сказала Лидочка.
— Как ты это устроила?
— Лев Иванович — старый приятель папы, — сказала она. — Он военный комендант Ялты. Ты догадался?
— Нет, я понял, что он какой-то начальник, но какой — нет, не догадался.
— Я заставила папу вчера вечером пойти к нему. Они в преферанс всегда играют. Сначала я думала, что он может вмешаться, но, конечно же, Лев Иванович не может вмешаться. Знаешь, что мне помогло, — оказалось, в армии и среди местной знати Вревского не выносят. И его штучки… А поручик Тизенгаузен — он имеет на Льва Ивановича большое влияние — при слове «полиция» просто подпрыгивает до потолка. Папа мне сказал, что Вревский начал расследовать какие-то дела, связанные с военной кассой, и нашел нарушения — с тех пор они страшные враги. Но это все не важно… Главное, что Лев Иванович согласился устроить мне с тобой свидание. Но, конечно же, не в угодьях Вревского, а у себя. Он своей властью приказал доставить тебя к нему как свидетеля по делу дезертирства двух солдат — ну ты знаешь уже, наверное… тех, кто убежал от Коли Беккера.
— Знаю.
— Тебе сказал Вревский?
— Да, он допрашивал меня ночью. Одного нашли…
— Лев Иванович мне рассказал. Его люди ездили в горы и проводили опознание. И привезли шкатулку. А потом вчера ночью прибежал Коля Беккер. Он в панике — он сообразил, что мог повредить тебе, потому что проговорился, что видел тебя в обществе этого Тихона в Симферополе. Он говорит правду?
— Конечно, правду, — сказал Андрей. — Зачем ему неправду говорить?
— Я теперь уже никому не верю, — сказала Лидочка.
Дверь осторожно приоткрылась, и в нее заглянул полицейский.
— Брысь! — крикнула на него Лидочка, и полицейский, крайне удивившись, захлопнул дверь. — Я должна тебя огорчить, — сказала Лидочка.
— Меня уже трудно огорчить.
— Прокурор подписал санкцию на твой арест. Обвинения в твой адрес ему кажутся убедительными. Ввиду твоей особой опасности для окружающих мерой пресечения избрано тюремное заключение. То есть тебя сегодня переведут в тюрьму и больше не выпустят.
— Я тоже так понял, что не выпустят, — сказал Андрей, стараясь удержаться на обломках эйфории. Но обломки уже скрылись под водой.
— Лев Иванович ничего сделать не может. Ночью я говорила с Розенфельдом.
— Это еще что за птица? — спросил Андрей.
— Это лучший адвокат в Крыму. Он сказал, что твоя участь усугубляется военным временем.
— Почему?
— Да потому, что твои сообщники — дезертиры. Розенфельду известно, что из твоего дела решено сделать урок военного времени.
— При чем тут военное время?
— Сейчас они вернутся. Лев Иванович мог дать мне только пятнадцать минут. Десять прошло. А если придет Вревский — не будет и этих минут. Андрюша, у нас нет выхода!
Лидочка расстегнула сумку и достала оттуда тужурку Андрея.
— И все же я надеюсь, что поймают второго дезертира и все уладится, — сказал Андрей. Он надел тужурку.
— Может быть. А может быть, и нет. И еще более вероятно, они все равно сделают тебя руководителем банды. Погоди… не перебивай. В кармане твоей тужурки лежит табакерка.
— Что это даст! — возразил Андрей. — Я уже сбежал на четыре дня, и стало еще хуже. Если бы я вместо того уплыл на лодке в Болгарию, было бы лучше.
— Ты должен уйти вперед больше, понимаешь — не на три дня, а на год, на два.
— И что? Очнуться снова в тюрьме? Или в этом кабинете?
— Ни в коем случае! — испугалась Лидочка. — Ты же подведешь Льва Ивановича. Он столько для нас сделал!
— Ты права. И его, твоего отца… всех подведу. Но если я сделаю это в тюрьме, то очнусь через три года в той же камере!
— Тебя поведут обратно через двор. С тобой будет только полицейский. Ты должен исчезнуть в заднем дворе, между комендатурой и управлением. Смотри. Отсюда видно.
Лидочка показала за окно — оттуда был виден проход, которым Андрей огибал комендатуру. С одной стороны прохода была стена здания, с другой — ряд кустов, за ними — зеленый забор.
— Если будут разбираться, решат, что ты прыгнул через забор, — сказала Лидочка. — Это твой любимый способ убегать от правосудия.
— На несколько дней?
— Нет, на два года, — сказала Лидочка.
— Почему?
— Ты можешь меня раз в жизни послушаться? — спросила Лидочка. — Если бы ты меня всегда слушался, ничего бы не было.
— Я с тобой не так давно знаком.
— Два года! Два года — это срок с долгим запасом. К осени 1916 года мировая война кончится.
— Она кончится раньше. Неужели ты допускаешь, что она протянется еще два года?
— По крайней мере не больше. Это раз. За это время вся история с убийствами станет древним воспоминанием. И мы вернемся в мирное, нормальное, спокойное время. Когда не стреляют, не рвутся снаряды и люди не ненавидят друг друга.
— Мы вернемся? — только сейчас сообразил Андрей. — Ты хочешь сказать, что ты согласна плыть со мной?
— А как же иначе? — Лидочка даже приподняла брови от удивления. — А ты что, хочешь, чтобы я два года старела и встретила тебя старой девой двадцати лет от роду? Да я за эти два года убегу с гусаром.
— И не мечтай, — сказал Андрей. — Я не позволю тебе остаться.
— Вот видишь, как ты заговорил. Слушай. Сейчас придут. С минуты на минуту придут. Времени нет. Табакерка у тебя в правом кармане тужурки. Запомнил? В правом кармане. Она настроена так же, как моя. Тебе надо только нажать на шарик.
— А ты?
— Я буду смотреть в окно. Если все получится хорошо, я вернусь домой, а ночью пойду следом за тобой.
— Ты не сразу вместе со мной?
— Я должна быть уверена, что все прошло правильно. Мало ли что случится, мало ли что… К тому же у меня дома все вещи. И письма.
— Какие письма?
— Андрей, я не перестаю тебе удивляться. Письмо моей маме, что мы ночью уплываем, потому что тебе удалось бежать и оставаться здесь нельзя. Письмо твоей тете, что с тобой все в порядке…
Не переставая говорить, Лидочка начала ворошить бумаги на столе коменданта, вытащила чистый лист, взяла со стола перо, окунула его в чернильницу, изображавшую бочонок в лапах бронзового медведя, и протянула Андрею:
— Пиши, я чуть не забыла. Пиши: «Дорогая тетя, мне приходится уехать, потому что иначе меня обвинят в преступлении, которого я не совершал. Не жди от меня вестей в ближайшее время. Я жив и здоров. Как только очищу себя от подозрений, сообщу тебе. Твой любящий племянник…» — и подпись.
Андрей покорно склонился над столом и написал требуемое.
— Место встречи — платан на набережной. В шесть вечера, — сказала Лида. Андрей кивнул. Когда он подписывался, дверь открылась. Вернулся Лев Иванович. Он выглядел виновато.
— Простите, дети, — сказал он, — но вам пора расставаться. Я видел автомобиль, на котором приехал господин Вревский.
— Но это же афронт! — воскликнул поручик Тизенгаузен, также вошедший в кабинет следом за комендантом. — Он конфисковал вчера автомобиль, притом совершенно незаконно, и уже на нем разъезжает. Я бы на вашем месте, Лев Иванович, задал бы в соответствующей инстанции вопрос: по какому праву следователь Вревский разъезжает на реквизированном моторе?
— Ах, оставьте, — отмахнулся комендант. — Лучше не связываться с этими крючкотворами.
— Как так не связываться! — вскипел Тизенгаузен. — У вас, военного коменданта, нет своего автомобиля, а какой-то следователь разъезжает, словно градоначальник, генерал Думбадзе.
— Ну ладно, ладно, — сказал комендант. — Андрею Сергеевичу пора идти.
Лидочка взяла бумагу, которую подписал Андрей.
— Это прошение на высочайшее имя, — сказала она.
— Правильно! — согласился Лев Иванович. — Надо принимать меры.
Полицейский, видно, почувствовав, что пришел его час, широко открыл дверь в кабинет и замер в дверях.
— Андрюшенька, — ахнула Лидочка, — я совсем забыла. Мама прислала пирожков с капустой.
— Не положено, — сказал полицейский от двери.
— Еще чего не хватало! — возмутился Тизенгаузен. — Ни в одном цивилизованном обществе подозреваемых не морят голодом!
— А кто их морит? — удивился полицейский.
Лидочка вынула один пирожок и протянула Андрею.
— Съешь по дороге.
— Я пошел, — сказал Андрей.
— Нет, так не годится, — расстроился Лев Иванович. — Попрощайтесь, дети!
Андрей поцеловал Лидочку в щеку.
— Черт возьми! — выругался Лев Иванович, готовый пустить слезу.
Андрей отпустил руку Лидочки. Она перекрестила его.
— Будь осторожен, — сказала она.
Лев Иванович отвернулся. Поручик Тизенгаузен вытащил серебряную расческу и начал поправлять пробор.
Андрей пожал руки обоим военным.
— Господин Берестов, — сказал комендант, — если следователь Вревский будет спрашивать, где вы были, отвечайте, что я снимал с вас допрос по поводу дезертиров.
— Разумеется. Я помню.
— Дай я тебя поцелую на прощание, сынок.
Комендант поднялся на цыпочки и чмокнул Андрея в губы.
Поручик Тизенгаузен щелкнул каблуками, прозвенел шпорами и подал худую холодную руку.
Полицейский посторонился, пропуская Андрея в дверь. Ладонь он держал на эфесе шашки.
Андрей обернулся. В прямоугольнике двери вслед ему сочувственно смотрели три человека. Как будто в пантомиме, где в финале актеры замирают.
Андрей спустился по лестнице и, выйдя наружу, задержался. Сунул руку в карман.
Полицейский неожиданно толкнул его в спину и грубо, беря реванш за долгое ожидание в коридоре, сказал:
— Руку вынь!
— Что же это такое! — возмутился Андрей, останавливаясь. — Я не могу вынуть носовой платок?
— Не знаю, что у тебя там. Иди.
Полицейский возвращал себе авторитет, потерянный в комендатуре. Не вынимая руки из кармана, Андрей пошел к проходу, что вел мимо комендатуры к полицейскому управлению. Он поднял голову и увидел, что Лидочка стоит у окна и смотрит вниз. Рядом с ней никого не было.
Андрей нащупал на портсигаре шарик. «Боже мой — какая она предусмотрительная, — подумал Андрей. — Я бы никогда не догадался настроить машинку».
— Сказал тебе — руку вынь! — рявкнул полицейский.
— Какую руку? — Андрей обернулся к нему и, глядя в его маленькие, настороженные глаза, нажал на шарик. Шарик поддался пальцу, и тут же окружающая действительность исчезла.
И Андрей начал проваливаться в знакомую уже бесконечную пропасть.
На этот раз падение было куда более долгим и страшным — нечто могучее вертело Андрея, как щепку в потоке, причем вращение было не мерным и последовательным, а меняло направление так, что внутри все холодело и сворачивалось, как на высоких качелях… к горлу подкатывала дурь. А потом все пропало…
Андрей очнулся от удара — ибо, не удержавшись на ногах, он упал на каменную дорожку, что тянулась за комендатурой.
Было утро. Солнце поднялось невысоко, и в проходе за комендатурой была морозная тень, тогда как второй этаж здания был ослепительно освещен солнцем.
Если все правильно, то сейчас конец 1916 года, сказал себе Андрей и обернулся — нет ли там полицейского…
Лев Иванович, преисполненный сочувствия к дочери доброго знакомого, бубнил за спиной о том, что суд может посмотреть на это дело иначе, а хороший адвокат камня на камне не оставит…
Лидочка стояла вполоборота к нему, чтобы видеть, что происходит за окном. Когда в проходе показались Андрей и его конвоир, Лидочка подалась вперед, но, к счастью, Лев Иванович, который преодолевал сложное придаточное предложение, не заметил этого движения. «Ну, — шептала беззвучно Лидочка, — вот сейчас! Еще шаг, и будет поздно». Андрей взглянул наверх, но окно было закрыто, и вряд ли он увидел Лиду. Рука его была в кармане. Рот полицейского открылся — он кричал что-то. Андрей обернулся к нему… что случилось? Неужели не действует машинка?
И в то же мгновение Андрей исчез.
Как будто лопнул большой мыльный пузырь. Лидочке даже почудился хлопок воздуха, который устремился в оказавшееся пустым пространство.
Хоть Лидочка ждала этого мгновения, даже торопила его, страшилась, что оно не наступит, исчезновение Андрея было столь окончательным и сказочным, что Лидочка в ужасе отпрянула от окна.
— Что случилось? — перебил сам себя Лев Иванович. — Ты слушаешь меня? Может, тебе лучше уйти? Пойди отдохни, скажи маме, чтобы дала тебе валерьянки, скажешь?
Лев Иванович повел Лидочку к двери и потому не слышал приглушенных стеклом криков полицейского. Что касается Тизенгаузена, то он тем более ничего не слышал, потому что любовался Лидочкой и тешил себя абстрактными надеждами на то, что Андрея, хоть он и добрый малый, повесят и тогда можно прийти к Лидочке с искренними утешениями.
Тизенгаузен проводил Лидочку до выхода, посоветовал ей держаться молодцом, так как все образуется, и склонил, целуя ручку, слишком прямой пробор.
— Простите, — сказал он.
— Да? — Во взгляде Лидочки и напряженности ее фигуры читалось столь откровенное нетерпение, что Тизенгаузен только сказал:
— Желаю вам всего наилучшего.
Хотя собирался спросить, не играет ли Лидочка в лаун-теннис, которым он так увлекался.
Лидочка поспешила прочь по улице, хоть оснований теперь для спешки не было, Андрей, дай Бог, уже ждет ее в шестнадцатом году. Ноги сами бежали, и лиловый, обшитый по краю кружевом зонтик все время норовило вырвать встречным ветром.
Мать встретила Лидочку сразу десятью вопросами, и та ответила лишь:
— Все хорошо, мамочка, я тебе потом расскажу.
Она прошла к себе, закрыла дверь и осмотрелась…
Вроде все готово. Можно прощаться.
Сначала надо попрощаться с вещами, со стенами комнаты, с видом из окна, с беседкой в саду, с этим, особого цвета, небом 1914 года… Бог знает, какого цвета оно будет через два года.
— Как хорошо, — сказала себе Лидочка, — что Андрюша уплыл.
Она села за свой письменный стол и вытащила из сумки письма.
Мама постучала в дверь:
— Ты есть будешь? Ты ведь голодная убежала.
— А папа обедать придет? — спросила Лидочка, не открывая двери.
— Придет, обязательно придет. — Мать сразу осмелела и приоткрыла дверь. — А как Андрюша? Как он выглядит? Он очень осунулся?
— Ма-ма! — строго сказала Лидочка. — Я же просила.
Евдокия Матвеевна расстроилась и закрыла дверь с легким стуком, чтобы показать, насколько она недовольна бездушием дочери.
Первое письмо — для глаз следователя Вревского, хотя адресовано оно маме:
Дорогая мама!
Я сегодня была у Андрея. Положение его безвыходное. Следователю Вревскому удалось состряпать дело, в котором Андрей выглядит убийцей. Вревский намерен сгноить Андрюшу в тюрьме или отправить его на эшафот. Спасения нет. Как ты уже знаешь, дорогая мама, Андрею удалось бежать. Но и это не спасение. Его доброе имя погублено. Мы никогда не сможем жить с ним в мире и покое. Поэтому мы вместе добровольно решили уйти из этой жизни. Коли нет справедливости на этом свете, мы будем искать ее у Небесного престола. Не плачь, мама, не сердись на меня — другого выхода у нашей любви нет.
Прощай, твоя несчастная дочь Лидия.
P. S. В нашей смерти просим винить следователя Вревского. 15 октября 1914 г. Ялта.
Об этом письме Андрей не знал — она расскажет о нем позже, при встрече. Если бы Лидочка постаралась ему объяснить свой план за те минуты, что были в ее распоряжении, Андрей стал бы возражать. Но Лидочка была убеждена, что это первое, лживое, хитрое письмо требуется написать обязательно. В ином случае их будут искать, ждать возвращения Андрея и уголовное дело не закроют. Так объяснил старый адвокат Розенфельд. В случае же, если следствие убедится, что его жертва мертва, об Андрее забудут.
Второе письмо также было адресовано Евдокии Матвеевне.
Дорогая мамочка!
Как прочтешь это письмо, ты должна его сразу сжечь. И сделать вид, что получила лишь то, что лежит в маленьком конверте. Андрюше удалось бежать. Ты об этом уже знаешь. Если мы с ним останемся в Ялте, его скоро поймают. И участь его будет ужасна. С помощью верных друзей мы бежим из Ялты. Бежим далеко. Мамочка, дорогая моя, ты должна быть готова к тому, что долго меня не увидишь, может быть, год или даже больше. Но я жива и здорова. Не беспокойся. Как только будет возможность, я тебе сообщу. Но не по почте, потому что письмо может случайно попасть в руки нашим врагам. Не сердись, что я не осталась дома, а убежала с Андрюшей. Я уже выросла, и у меня есть возлюбленный. Поставь себя на мое место, неужели ты бы оставила папу, если бы ему грозила беда?
Мама, напоминаю: сразу сожги это письмо. Правда, можешь показать его папе, чтобы он не переживал. Тебе еще придется поехать в Симферополь и рассказать тайком правду Марии Павловне Лещинской, которая живет в Глухом переулке, дом семь. Но ни в коем случае не пиши! Ты можешь нас погубить! Потому что, если они будут думать, что мы утонули, они забудут об Андрее. Но если они догадаются, что мы бежали, они будут искать нас, как охотничьи псы. Ты меня поняла?
Прости еще раз, мамочка. До встречи.
Лида.
Затем Лида положила второе письмо в большой конверт, а первое, предназначенное для глаз следователя, в маленький розовый. К большому письму приколола записку Андрея для тети.
Лидочка спрятала письмо под подушку, потому что услышала, что пришел папа. Она вышла из своей комнаты. Папа снимал галоши, шмыгал крупным носом и бурчал, что, если такая погода будет продолжаться, все изведутся от воспаления легких. Потом он увидел Лидочку и спросил:
— Ну как, Лев Иванович устроил тебе свидание?
Кирилл Федорович в глубине души никак не мог принять всерьез угрозу, нависшую над Андреем. Андрея он считал порядочным молодым человеком из хорошей семьи и был глубоко убежден, что порядочные молодые люди из хороших семей преступлений не совершают. А потому, будучи человеком служивым, полагал, что правда восторжествует сама собой, потому что в империи еще сохранился порядок.
— Да, папочка, я видела Андрея.
— И как он, скучает? Я думаю, надо подать прошение, чтобы до суда его отпустили. Это всегда делается.
— Следователь Вревский его не отпустит.
Отец разделся, прошел, растирая закоченевшие руки, в столовую, и мать крикнула ему из спальни, где она только что рыдала и потому не смогла его встретить, чтобы он немедленно шел мыть руки.
Свое предприятие Лида полагала осуществить вечером. Она боялась, что ее увидят, а для ее планов надо было исчезнуть загадочно. До вечера было безумно много времени, и после обеда она решила погулять по Ялте. Но не успела Горпина разлить суп из бабушкиной мейсенской супницы, как раздался звонок. Пришел встрепанный, разгневанный Лев Иванович.
Появление Льва Ивановича было совершенной неожиданностью для всех, кроме Лидочки.
— Лев Иванович, обедать, обедать, грибной суп на столе, вы его любите, — пела Евдокия Матвеевна, которая, как собака, почуявшая опасность, завиляла хвостом.
— Супов — не желаю! — отрезал полковник, сбрасывая шинель на руки хозяйке дома и скрипя галошами, которые никак не слезали с сапог.
— Что-нибудь произошло? — спросил Кирилл Федорович, появившись в дверях залы с газетой в руке.
— А вы не знаете? — Лев Иванович изображал гнев. Но не очень убедительно. Его почти никто не боялся. Если не считать проштрафившихся прапорщиков и фельдфебелей, задержанных патрулем в непотребном виде: что-что, а сверкнуть орлиным взором он умел. — Вы не знаете? Что он сбежал?! — повторил Лев Иванович, и галоши полетели вдоль коридора.
— Ах! Какое счастье! — воскликнула Лидочка.
— Что? Кто сбежал? — спросила Евдокия Матвеевна.
— Вот именно. — Лев Иванович, проходя в залу, уткнул перст в грудь Лидочки. — Он сбежал! Скажи, это было подстроено? Скажи, ты специально это сделала, чтобы отправить меня по этапу? Что подумает генерал Думбадзе?
— Лева, садись и расскажи по-человечески, — попросил Кирилл Федорович, который умел управляться со своим приятелем. — Кто сбежал, куда, зачем сбежал. И при чем здесь Лидия и Думбадзе?
— Я выполнил вашу просьбу? Я, рискуя карьерой, устроил свидание в моем кабинете? Они беседовали с глазу на глаз. А потом что?
— Что? — спросил Кирилл Федорович и налил из лафитничка с лимонными корочками добрую рюмку. Протянул коменданту. — Что потом?
— Потом он убежал. Особо опасный преступник! И я способствовал, да?
— Он из твоего кабинета убежал? — спросил Кирилл Федорович.
— Как он мог из моего кабинета? Там второй этаж и окно закрыто. Нет, когда все кончилось, его увели. Потом Лидочка ушла. Ну, я думаю, все обошлось. Тут врывается этот парвеню Вревский и начинает на меня кричать!
— Так что случилось, в конце концов? Ты пей, Лева, пей.
— Спасибо. Когда этого юношу вели в полицейское управление, по дороге, на улице, он прыгнул через забор — и был таков.
— Лев Иванович, я ровным счетом ничего не понимаю, — вмешалась в разговор сообразительная Евдокия Матвеевна. — При чем здесь вы? При чем комендатура? Вы принимали у себя…
— Лева не принимал, а допрашивал, — поправил жену Кирилл Федорович. — И после допроса отправил обратно. И где-то потом, в неизвестном месте, при невыясненных обстоятельствах, арестант исчез. Может быть, убежал, а может быть, отправлен на каторгу.
Кирилл Федорович налил и себе, они выпили с комендантом, и комендант, повторяя порой: «А чего же Вревский, а? Нет, ты скажи, какой мерзавец этот Вревский — говорит, что меня самого упечет… ну, Вревский!..» — постепенно пришел в себя и даже развеселился, представив, как полиция носится по Ялте в поисках преступника.
— А он — приятный молодой человек, — сказал Лев Иванович, успокоившись, и Кирилл Федорович добавил, что он из хорошей семьи.
— Ну, от семьи уж ничего не осталось, — вздохнул комендант.
— У Андрюши есть тетя в Симферополе. Она его воспитывала. Она служит по ведомству императрицы Марии Федоровны, — сказала Лидочка.
— Очень похвально, — сказал комендант, будто это его окончательно утешило. Он остался обедать и ушел в шесть часов.
Время до вечера тянулось невыносимо медленно. Мужчины всерьез обсуждали политические пустяки, мама нервничала, сердце ее подсказывало, что все неладно, и более всего ее смущало, что Лидочка не бежит искать своего мальчика. Евдокия Матвеевна подозревала, что побег был устроен не без участия ее дочери, но лучше, если она ошибается. Ведь если Андрюша пойдет на каторгу, то молодость возьмет свое — Лидочка найдет себе другого жениха, и все образуется. Только нельзя об этом говорить. Порядочные люди так себя не ведут… Теперь же, когда он убежал, можно всего ожидать. За ним сейчас гоняются полицейские, и его могут застрелить. И неизвестно, чего ждать от Лидочки. Русская история полна дурных примеров. Достаточно вспомнить о женах декабристов… «Она такая непосредственная и благородная. Ну почему мы не воспитали ее циничной? Ах, что я несу! Кому нужен цинизм? Девочка влюблена, и нужно оценить ее благородное чувство…»
Лидочка бродила по своей комнате, брала вещи и отбрасывала их. Еще вчера ей казалось, что она будет не в силах оторваться от пуповины своей семьи, своей комнаты, кроватки и бывших игрушек, — она была домашним котенком, который привык спать на своей подушечке в своем уголке. Еще вчера, собирая втайне от мамы свою сумку, она чуть было не положила в нее любимую вышитую подушечку. Но на рассвете выбросила из сумки все, что связывало ее с домом. И сейчас, раз уж мама не сможет проверить, она начала аккуратно класть в сумочку — в маленькую, учтите, сумочку, потому что она не знала, какие сумки может протащить с собой машина времени, — только вещи абсолютно необходимые и ничего из того, что можно купить в любом магазине. У них с Андреем достаточно денег на первое время.
Лидочка оборвала пуповину еще утром, когда увидела через окно, как исчез Андрей. Теперь же ею владело лишь одно жгучее нетерпение: скорее присоединиться к нему, потому что он ее ждет, потому что без нее он может пропасть… скорее! Но скорее было нельзя, потому что надо дождаться сумерек.
В сумке, той самой, с которой она выходила в город, нашлось место для всех документов Сергея Серафимовича и для ее маленьких драгоценностей — колечка, подаренного покойной бабушкой к шестнадцатилетию, и золотых часиков, которые дал папа к окончанию гимназии. Туда же она положила кожаный кошель с предметами туалета: мылом, зубной щеткой, ватой, кремом — всем, что может понадобиться немедленно. Потом, подумав, положила туда и жестяную коробочку с таблетками от кашля, бинтом и пластырем, в сумку еще вместилась фуфайка и теплые чулки. Вот вроде и все. Если не считать фотографии папы с мамой.
Теперь самое трудное:
— Мама, я пойду погуляю по набережной.
— Лидочка, ты сошла с ума! Разве сегодня погода для гуляния?
— Мамочка, у меня голова разламывается. Ты забыла, сколько у меня сегодня переживаний?
— Я все понимаю, но лучшее для тебя — лечь спать. Завтра проснешься со свежей головой.
— Мама, я полчасика погуляю и вернусь.
— Уже почти темно!
— Зато дождь кончился.
Дождь в самом деле перестал.
— Все равно возьми зонтик! — Мама, отступив с передовых позиций, решила заднюю линию не отдавать.
— Мама, ну зачем зонтик, если дождя нет?
— Или ты берешь зонтик, или ты никуда не идешь! — Мама билась, как спартанцы под Фермопилами.
— Ну ладно, ладно. — Лидочка зашла к себе в комнату. Теперь надо было действовать стремительно. Пока мама полагает, что она победила. Через две минуты она опомнится.
Сумка была заблаговременно привязана к длинной веревке. Лидочка мгновенно опустила ее через окно на мостовую — в это время никого на улице не было. Теперь письмо. Ни в коем случае нельзя оставлять его на столе — мама прочтет его через пять минут. Письмо должно быть в почтовом ящике. Отец вернется, проводив Льва Ивановича и погуляв по свежему воздуху, примерно через час. Он всегда, возвращаясь домой, открывает почтовый ящик.
Лидочка взяла зонтик, надела шляпку.
— Мамочка, — сказала она, — я пойду.
Евдокия Матвеевна окинула дочь подозрительным взглядом: но та даже сумочки не взяла. А мать знала, что ни одна воспитанная женщина не отправится в плавание без ридикюля.
— Только не задерживайся. Зонтик взяла?
— Ты же видишь!
И только не расплакаться, только не броситься маме на шею: мамочка, мамочка любимая, единственная, драгоценная! Мамочка, я не хочу от тебя уходить, я не хочу, чтобы ты плакала, мамочка, прости меня…
— Что с тобой? Ты идешь?
— Иду, мама.
Лидочка не осмелилась поцеловать маму, потому что глаза были настолько полны слез, что при прикосновении к маминой щеке слезы наверняка хлынут через край — и тогда все погибло.
Лидочка, считая про себя, чтобы не сбиться с шага, дошла до двери, открыла ее, не оглядываясь, не задерживаясь, захлопнула дверь, кинула письмо в щель почтового ящика, висевшего на двери, — все! Этим как бы отрезана прошлая жизнь.
Тук-тук-тук, знакомо проскрипели под ногами ступеньки. Бабах! — хлопнула притянутая пружиной парадная дверь.
Три шага вдоль стены, чтобы взять сумку, и вдоль же стены бегом, чтобы мама не успела выглянуть из окна, — это самый опасный момент. От поворота улицы Лидочка оглянулась — вроде бы успела.
С каждым шагом, отдалявшим ее от дома, Лидочка все более уходила в будущее, погружалась в мысли о том, что ей еще предстояло сделать.
Во-первых, пройти набережной за «Ореанду», спуститься к морю у края городского парка, к пляжу, где имеют обыкновение гулять по утрам немногочисленные обитатели небольших пансионатов.
Это путешествие заняло минут двадцать, и никто из знакомых, к счастью, не встретился. В парке фонари были совсем редкими, и между ними провалы густой темноты, пробегать которые было страшно. Даже не за себя страшно, а из-за Андрюши. Он очутится в шестнадцатом году, а ее нет. Он будет искать и не найдет, он начнет опрашивать, и ему скажут, что именно 15 октября 1914 года прекрасную юную девушку Лидию Иваницкую нашли зарезанной в городском парке, куда и днем девушки поодиночке теперь не ходят. И Андрюша содрогнется, считая, что виноват в ее гибели…
Лидочка так ясно представила себе картину Андрюшиного горя, что не заметила, как добежала до берега. Хоть октябрьский вечер был тих, море встретило ее усиливавшимся грохотом. Еще десять минут назад, когда она проходила мимо платана, волны накатывались на берег полого и без грохота. А пока Лидочка шла парком, разыгрался самый настоящий шторм — видно, море раскачивалось где-то у Турции, и волны побежали оттуда к Крыму. Шторм был злобным — гневливость его подчеркивалась безветрием. Небо было темно-серым, но сквозь облака прорывались желтые и оранжевые зловещие отблески. Само море казалось почти черным, а пена и брызги, вздымавшиеся, ударившись о гальку, были белыми, как привидения, и фосфоресцировали.
Несколько секунд Лидочка стояла, завороженная этим зрелищем, а потом поняла, что шторм — это совсем не страшно и не плохо. Если бы они в самом деле отправились топиться, шторм не только помог бы им сделать это быстро, но и выбросил на берег улики. А улики у Лидочки были заготовлены. И лежали в сумке. Одна ее почти новая туфля (вторую она еще вчера вечером выбросила на помойку на соседней улице), большая яркая заколка для волос с искусственными жемчужинами, которую мама сразу узнает, а главное — кружевной подол от нижней сорочки.
Лидочка спустилась к воде и пошла вдоль пляжа. Стараясь не замочить ног, она дождалась, пока очередная волна отхлынула от берега, и, спускаясь следом за ней, намочила улики. Но тут новая волна поднялась так неожиданно и так резво кинулась на Лидочку, что ей пришлось со всех ног, скользя по гальке, бежать наверх — но все же пальцы волны настигли ее, и брызги промочили юбку.
С мокрыми уликами в руках Лидочка пошла вдоль пляжа, отыскивая место, куда волны имеют обыкновение выкидывать остатки одежды утопленников. Туфлю она заткнула между двумя каменными глыбами, заколку воткнула в гальку, а кружевной лоскут закинула к кустам.
Полюбоваться плодами своего труда было некогда, да и темно. Лидочка пошла дальше по пляжу и тут поняла, что нет смысла искать укромное место, потому что любое место может оказаться плохим или хорошим — разве угадаешь?
Найдя углубление в нависшей скале, возле которой лежала большая плоская плита, Лидочка уселась на плиту и вытащила табакерку.
Когда она еще рано утром устанавливала шарики на обеих табакерках так, чтобы не разминуться с Андреем, получилось, что они должны будут встретиться ровно через два года — в октябре 1916-го. Теперь же, мысленно повторив движения пальцев, Лидочка начала сомневаться. И в том, что она правильно рассчитала время, и в том, что на обеих табакерках поставлены одинаковые деления. Не было уверенности, что обе машинки будут работать одинаково.
Господи, а вдруг Андрей не услышал про то, что она будет ждать его ежедневно в шесть часов у платана? Ведь она может оказаться в будущем утром, а он — вечером. Ведь может так быть?
Лидочка, щурясь — она была немного близорука, но стеснялась этого и от всех скрывала свой порок, даже от мамы, — разглядывала такую маленькую и тонкую реечку и миниатюрный шарик на ней. Правильно ли она все поставила? Точно ли так же, как Андрею? Тогда было светло, и она не должна была ошибиться.
Надо было нажать на шарик и перенестись в осень шестнадцатого года. Только и всего — Андрей говорил, что этот перелет почти незаметен. А вдруг он не хотел ее пугать? Вдруг это плавание полно ужасов и кошмарных снов?
Андрею легче было начать путешествие, потому что ни в первый раз, ни во второй у него не было секунды, чтобы поразмышлять. Лидочка же сидела на берегу, поблизости ни души…
«Не заставляйте меня спешить!» Подождет ее Андрюша полдня, ничего с ним не случится! А вдруг она состарится на два года за это путешествие? И это будет как бы летаргический сон — уничтожение, сожжение времени на костре любви!
Хватит пустых рассуждений! Все в порядке! Андрюша в безопасности в октябре 1916 года. Письмо в почтовом ящике. Улики разбросаны. Погони нет… «Мне страшно? Нет, мне не страшно, мне не нужно бояться — через несколько секунд я встречусь с Андрюшей».
Шумело море, сердилось, что Лидочка не досмотрит шторма.
На всякий случай, чтобы не потерять сумку в пути, Лидочка обняла ее левой рукой, крепко прижала к груди. Правой подняла табакерку к глазам и нажала на шарик.
И мгновенно рухнула в черную пропасть…
ШТУРМ ДЮЛЬБЕРА
Глава 1
Декабрь 1916 г
Я чувствовал, как неведомая сила охватывает меня и разливается теплотой по всему телу. Вместе с тем я весь был точно в оцепенении: тело мое онемело. Я пытался говорить, но язык мне не повиновался, и я медленно погружался в сон, как будто под влиянием сильного наркотического средства. Лишь одни глаза светились надо мной каким-то фосфорическим светом, увеличиваясь в один яркий круг.
До моего слуха доносился голос старца, но слов я различить не мог, а слышал лишь неясное его бормотание.
В таком положении я лежал неподвижно, не имея возможности ни кричать, ни двигаться. Только мысль моя еще была свободна, и я сознавал, что постепенно подчиняюсь власти загадочного и страшного человека.
Но вскоре я почувствовал, что во мне, помимо моей воли, сама собой пробуждается моя собственная внутренняя сила, которая противодействует гипнозу. Она нарастала во мне, закрывая все мое существо невидимой броней. В сознании моем смутно всплывала мысль о том, что между мной и Распутиным происходит напряженная борьба и в этой борьбе я могу оказать ему сопротивление, потому что моя душевная сила, сталкиваясь с силой Распутина, не дает ему возможности всецело овладеть мной.
Так Феликс Феликсович Юсупов-младший писал в своем дневнике в конце ноября 1916 года.
В обычные дни князь не вел дневника, ленился, хотя полагал это полезным для внутренней дисциплины. Записи появлялись в моменты душевных волнений, к примеру, накануне свадьбы с Ириной. Тогда казалось, что Александр Михайлович, имевший, кажется, иные планы для своей старшей дочери — как-никак племянница императора! — наотрез откажет Юсупову. Но заступницей выступила Ксения Александровна, мама Ирины.
— Сандрик, — сказала она, не смущаясь присутствием Феликса, — ты забыл, как ночи не спал, уверенный в том, что батюшка тебе мою руку никогда не отдаст?
Феликс с детства был влюблен в тетю Ксению, и, возможно, не последней причиной его увлечения красивой, но холодной Ириной была безнадежная юношеская любовь к грубоватой, полной жизненной силы Ксении Александровне, которую обожавший ее отец называл «барышней-крестьянкой».
Наверное, в такой ситуации легче бы разобраться Фрейду, но Фрейда Феликс так и не прочел. Году в двенадцатом, когда он учился в Оксфорде, кто-то из тьюторов предложил ему прочесть труд австрийского гения. Но труд был напечатан в Берлине готическим шрифтом, прочесть его было выше сил русского князя.
Теперь уже все позади. Третий год Ирина — его друг и жена. Она стала ему ближе любого из мужчин. Может, оттого, что у Феликса не было друзей. Феликс был откровенным англоманом, хотя в столице ходили сплетни о том, что курса в Оксфорде он не одолел и потому по возвращении из Лондона вернулся в Пажеский корпус. К тому же Феликс не скрывал, а даже бравировал печоринским презрением к петербургскому высшему свету, ненавистью к продажным чиновникам и выжившим из ума генералам, которые тащат Россию к военному поражению.
Одиночество Феликса определялось и тем, что он, воспитанный в атмосфере превосходства его семьи по отношению к этим выскочкам Романовым, оставался монархистом, для которого близость к правящему дому составляла смысл жизни. Может, таким его воспитала мама, которая долгие годы состояла в близких фрейлинах Марии Федоровны, полагая себя как бы членом романовского семейства.
Феликс сумел отбросить мамино «как бы».
Он сам — член семейства. Он — муж Великой княжны, его дети будут племянниками и племянницами императора и, при определенных обстоятельствах, даже смогут претендовать на корону. Как бы ни были знатны Юсуповы, ни один из них не поднимался так высоко.
И в то же время Феликс оставался подобен Потемкину или Зубову. Он стал одним из Романовых через постель. И для высшего света никогда не станет настоящим Романовым. Значит, он должен быть более Романовым, чем все Романовы, вместе взятые.
А как это можно сделать?
Приблизиться к Николаю и возглавить армию?
Чепуха! Николай был холоден к Феликсу и почти игнорировал его.
Другие Великие князья? Более всего было равнодушных. Что он есть, что он пропал — проходимец!
Может, так о члене одного из древнейших родов (правда, из татарских мурз) и не думали, но Феликсу все время чудился шепот за спиной.
Уехать бы снова в свою любимую Англию, да и там ему вряд ли откроется настоящая дорога к славе.
Ирина тоже была рабыней тщеславия, она тоже была спесива, а ее брак оказался мезальянсом. Увлекшись блестящим мужчиной, она выиграла его, она утерла нос всем остальным Великим княжнам, которые исчезали навечно в каких-то Гессенах и Вюртембергах, но радость достижения рассосалась, а Феликс оказался в тупике — со всех сторон на него глазели враждебные физиономии, все двери были закрыты…
Феликс понимал, что для него существует лишь один выход — он должен стать Спасителем Отечества, новым князем Пожарским, благо война открывала некие новые области применения сил. Нет, не на фронте, тот путь был бы тупиком. Решать все надо в нервном центре страны — в Петербурге.
Как в доме Александра Михайловича, где молодые проводили большую часть времени, так и в светских салонах военные и политические проблемы обсуждались весьма горячо. Осень 1916 года не принесла успехов на фронте. Наступление провалилось, Австро-Венгрию не удалось вышибить из войны, и если австрияков немного потеснили, то немцы на севере продолжали успешно наступать, они уже оккупировали важнейшие западные губернии — всю Польшу, Прибалтику, грозили Малороссии и Белоруссии, а вскоре приблизятся и к Петербургу. На Западном фронте надежды, которые вспыхнули было со вступлением в войну Североамериканских Соединенных Штатов, к концу года угасли — американский корпус не смог внести в войну перелома. А все разговоры о том, что немцы остались без горючего, едят крыс и мечтают свергнуть кайзера, оставались не более как разговорами. Может, и ели — Бог их разберет, но и получали от того патриотическое наслаждение.
Русскому уму нужна ясность. Ясность заключается в имени врага. Как только врага обнаружат и уничтожат, наступит райская жизнь, и по кисельным берегам будут бродить молочные коровы, проваливаясь в кисель по самые рога.
Во время войны наиболее популярным становится крик: «Предали!» Он дает возможность бежать в тыл, не боясь обвинений в трусости. Предать могли только те, кто в этом предательстве заинтересован. Конечно, соблазнительно пустить в дело евреев, но известно, что немцы их не жалуют, да и среди генералов евреев, как назло, почти не нашлось. Зато в России, где правящее семейство за последние двести лет стало немецким по крови, а подпирали трон лица немецкой национальности, из которых династия и черпала кадры губернаторов, генералов и полицмейстеров, не надо было показывать пальцем — куда ни ткни, упрешься в немца.
До войны в том не было беды. От немца исходил порядок и продовольствие. Во время войны положение изменилось.
Сложность заключалась в том, что лица с немецкими фамилиями в шпионы не шли, потому что, как настоящие немцы, они были более русскими, чем русские, и, уж конечно, настоящими российскими патриотами. Продавали Россию, если находилось кому заплатить, вполне русские типы, умевшие при том кричать «Предали!» и «Держи вора!».
Сам государь император был вполне приемлем, с бородкой, тихий, похож сразу и на мужика, и на английского короля. Потому что с последним был в родстве через немецких предков. Зато его жену Александру Федоровну русский мещанин не принял — уж очень она была гордая и холодная, даже улыбаться не умела. Над государем в постели измывалась — впрочем, так ему и надо, — рожала только дочек, а потом разродилась наследником, еле живым. В этом можно было усмотреть злой умысел.
Наследника, как в итальянском фарсе, лечили всевозможные врачи и шарлатаны, государыня большую часть времени проводила в монастырях и соборах — такой богомольной царицы из русских бы не отыскать. И пока государь подавлял революционеров, проигрывал войну каким-то малоизвестным япошкам, а потом и вовсе ввязался в войну с собственным кузеном Викки, русский народ искал виноватых.
И тут как нельзя лучше помог Распутин. Вполне русский человек, сибиряк, конокрад. Такого шарлатана русская история и не припомнит. Это был гипнотизер, сексуальный гигант — воплощение всего, в чем столь нуждался малокровный двор, дрожавший над малокровным наследником.
Чем дольше тянулась война, чем хуже были дела на фронте и дома, тем явственней виделся образ врага и виновника наших бед. В разных слоях общественности его именовали по-разному, не сознавая, что речь идет об одном и том же козле отпущения.
Социалисты имели в виду прогнивший режим и немецкую династию в целом.
Мещанство ненавидело царицу и всяких там при ней Штюрмеров и Ранненкампфов. Царицу даже никто не звал русским православным именем, на которое она по крещению имела право, — Александрой Федоровной.
Ее именовали Алисой.
Знать и политики правого толка не смели поднять лапу на государыню, как бы она ни была противна их духу. Зато утверждали, что Алиса, сама того не ведая, попала в моральный плен к подлому развратнику Распутину, а подлый развратник давно уже находится на содержании немецкой разведки. Сам император — жертва этого гнусного заговора, и если бы удалось найти способ, чтобы избавиться от самозванца, тогда все пойдет как надо — заиграют трубы, пойдут в бой сытые полки, испуганно спрячется социалистическая крамола, мы вступим в Берлин, захватим проливы, возьмем Царьград и, может, даже прибьем к его воротам щиты, что делали наши предки в тех случаях, когда их не хотели пустить в город, зная, что они нечисты на руку.
Шли месяц за месяцем, год за годом, и сколько бы людей, близких и далеких, ни открывали глаза императору и императрице на то, что они находятся в плену у самозванца, те и в ус не дули. Нравился им Распутин, верили они в его целительные силы и вовсе не верили родственникам и политикам, даже маме князя Юсупова не поверили, пришлось Зинаиде Николаевне возвращаться ни с чем.
Распутин, как и положено российскому временщику, беззастенчиво брал взятки, пил по-черному, спал с цыганками и графинями, существовал в окружении истеричных дам и продажных мужчин, умело влиял на назначения в верхах России, но, разумеется, ничего изменить не мог — от того, занимал ли пост Хвостов, Трепов или Штюрмер, сумма не менялась. С Распутиным или без него империя катилась в пропасть, а имперская знать сидела по гостиным и стенала — как избавиться от Распутина? как спасти Отечество?
Эти стенания продолжались бы до самой революции, которая была близка, если бы не комплекс неполноценности князя Феликса Юсупова, который повлиял на течение российской истории. Но, как оказалось, это не сделало князя Феликса российским Бонапартом.
Слово «убить» не произносилось в салонах, хотя витало в воздухе. Некогда предки собиравшихся там князей резали друг друга и более удачливых временщиков, не гнушались порой и императорами. Но к концу 1916 года они выродились и уже не смели рискнуть — не смели поднять руку на особу хоть и порочную и низкого происхождения, но приближенную к императору. Поднимешь, а что потом? Что сделает с тобой государь?
Когда Юсупов понял, что именно он должен избавить Россию от Распутина, он поделился этой, пока еще туманной, мыслью с прекрасной Ириной.
Ирина отнеслась к рассуждениям мужа трезво и даже деловито.
— Феликс, — сказала она. — Может быть, в этом и есть твой шанс. Если ты спасешь Россию, спасешь империю раньше, чем это сделает Дмитрий Павлович или кто-нибудь другой из Великих князей, который наймет пару убийц, тебе не будет равного в России.
— Ты предлагаешь нанять убийцу? — с деланым возмущением, а в самом деле с некоторым облегчением спросил Феликс.
— Ни в коем случае, — ответила Ирина. — Подвиг такого рода нельзя путать с уголовщиной. Если ты хочешь убить Распутина, то именно твой кинжал должен вонзиться в грудь временщику.
Феликс замолчал.
Вся эта сцена его смутила. Он полагал, что Ирина бросится отговаривать его, умолять… она же толкает его… может, к тюрьме? к казни?
— Не бойся, — сказала Ирина, — никто не посмеет поднять руку на героя. Вся Россия будет носить тебя на руках.
Феликс пожал плечами. Ему не было дела до того, как себя поведет Россия, если его в то время зарубят шашками жандармы.
Разговор на том закончился и возобновился вновь, когда Ирина собралась на юг, в имение своего папа, чтобы избавиться от петербургского кашля.
Они обсуждали ее отъезд, и вдруг Феликс вспомнил один из ялтинских вечеров трехлетней давности.
— Ты не помнишь такого… Сергея Серафимовича? — спросил он.
— Берестова? Мы были у них. Такой седой, благородный джентльмен. Его потом загадочно убили, — ответила Ирина.
— Я помню, что в тот вечер был спиритический сеанс. И мы говорили о Распутине. О том, что его надо убить, чтобы спасти страну. А может, это мне только кажется?
— Тогда Распутин не был столь опасен, — сказала Ира.
Она поежилась, глядя перед собой. Вспомнила:
— Какой был страшный человек тот медиум у Берестова. Помнишь?
— Общение с тайными силами не проходит даром, — попытался улыбнуться Феликс.
Тот разговор с Ириной, которая вскоре уехала на юг, был еще одной песчинкой на весах.
Феликс не относился к героям — в нем даже не было военной косточки, как в его отце, чересчур бравом, но недалеком офицере. Он и на фронт не спешил, хотя на него по этой причине поглядывали косо.
Впоследствии в исторических исследованиях, написанных в основном после Октября, будут приняты фразы типа: «В конце 1916 года в среде крайне правых политиков и в окружении императора преобладали намерения физически устранить Распутина, которого все, даже члены императорской семьи, считали виновником военных поражений».
Это было не совсем так.
За десять лет в России не нашлось ни одного смельчака, который бы перешел от слов к делу. Все смельчаки состояли в партии эсеров и уничтожали губернаторов и полицмейстеров. Распутин как представитель крестьянства вызывал у них презрение, но не считался кандидатом в мученики.
Должен был появиться человек, для которого смерть Распутина — не только освобождение России от наваждения, но и источник корыстного интереса, пересиливавшего любые опасности, проистекающие от поступка.
Ирина, которая и была мотором в том семействе, не переставала подталкивать робевшего Феликса. Как-то, озлившись, он даже рявкнул: «Ты-то найдешь себе другого мужа, а я новую голову не отыщу». Ирина взглянула на него, чуть склонив голову, — она умела так смотреть, как на насекомое, и вышла из комнаты. Он помаялся с полчаса, пошел просить прощения. Ирина чуть усмехнулась и ответила, что не обижена.
В тот день, когда Феликс решился познакомиться с Распутиным, он совершил шаг, не позволяющий думать об отступлении. Если ты, Феликс Юсупов, близкий к престолу, богатый и красивый, пошел в товарищи к конокраду, значит, тебе не место среди чистых. Особенно если ты пошел на это именно для того, чтобы протиснуться в среду чистых.
Феликс с Ириной тщательно продумали дебют своей партии.
На Мойке, неподалеку от дворца Александра Михайловича, в котором в 1916 году, пока шел ремонт в юсуповском особняке, поселились молодые, стоял дом Головиных, фактической главой которого за неимением в Петербурге мужчин была Маша Головина, некогда приятельница Феликса. Уже не первый год она себя открыто почитала в верных сторонницах Распутина, в свете над ней посмеивались, впрочем, ей до мнения света и дела не было.
Феликс нанес Маше визит. Навел разговор на Распутина, что было несложно, выслушал панегирик старцу. Феликс осмелился внести нотку сомнения.
— Как же, — спросил он, — такой праведный, как ты говоришь, человек может проводить жизнь в кутежах и разврате?
Маша покраснела и стала отмахиваться ручкой от Феликса, как от осы:
— Ты попал в сети клеветы! Так говорят враги старца! Ведь враги нарочно подтасовывают факты, чтобы очернить его в глазах государыни.
— Но мне говорили, что в «Вилли Родэ», где он чаще всего бывает, у него есть собственный кабинет. Он там танцует с цыганками…
— Замолчи, если не хочешь, чтобы я навсегда с тобой поссорилась!
Добившись молчания, Маша вдруг сказала:
— Возможно, старец и делает это.
— Вот именно!
— Погоди! Если он так делает, то только для того, чтобы нравственно закалить себя путем воздержания от окружающих соблазнов.
Фраза была так ловко построена, что Феликс понял: она заготовлена и отрепетирована заранее.
— А министров твой старец назначает и снимает ради нравственного совершенствования?
— Феликс, давай прекратим разговор об этом. Он ничего не даст. Ни мне, ни тебе. Лишь останется осадок. Если ты хочешь, то я тебя представлю Григорию Ефимовичу. Скажу, что ты хочешь его видеть. И тогда ты сам сможешь убедиться, какой это святой человек!
Феликс сделал вид, что размышляет.
Обстоятельства складывались в его пользу. Ему даже не пришлось просить о встрече. Он даже мог показать сомнение… что он и сделал.
Маша Головина позвонила Юсупову через неделю.
— Завтра у нас будет Григорий Ефимович, — сказала она. — Ты еще не раздумал убедиться лично в том, какой это человек?
— Я готов, — ответил Феликс.
Все, Рубикон перейден.
— Тогда я жду тебя завтра, к чаю. К четырем часам. Григорию Ефимовичу я уже сказала о твоем желании с ним познакомиться. Он отнесся к этому тепло, даже радостно. Он любит новых людей… Он хочет, чтобы люди его понимали. Я сказала, что ты женат на племяннице государя. Оказывается, он об этом знает.
«Еще бы, — подумал Феликс, — десять лет в Петербурге — он собрал сведения обо всех. Ему лестно знакомство со мной».
Распутин опоздал, вошел шумно, как хозяин, облобызал Машу и ее мать, подбежавших под его благословение, как гимназистки.
Он был точно такой же, как на фотографиях и литографированных портретах. Но одна черта, не увиденная на фотографиях, привлекла внимание Феликса. Это были его глаза.
Они были малы и бесцветны, посажены очень близко друг от друга и так углублены в череп, так затенены бровями, что терялись в орбитах и поблескивали оттуда, как два холодных хрусталика. Даже трудно было порой понять, открыты глаза или нет, но чувство, подобное пронзающей тебя игле, заставляло держаться настороже. Во взгляде, как понял Феликс, таилась нечеловеческая сила.
Старец опустился на соседний с князем стул и завел нервный, быстрый, сбивчивый разговор.
С Распутиным всегда было трудно говорить. Мысли опережали возможности его речи, он не договаривал фразу, бросал на половине, начинал новую. Он пересыпал речь неопрятными словечками и стремился приставить к словам уменьшительные суффиксы, что в его речи не давало комического эффекта, потому что он оставался личностью значительной и даже страшной.
И Феликс испугался того, что намеревался убить этого человека.
«Он же догадается, что я думаю. Он сотрет меня в порошок. Как подойти к нему с кинжалом?»
Распутин похвалялся близостью с государем, словно Феликс об этом мог не слышать. Но Головины слушали его так, будто он открыл им глаза на правду жизни.
Потом разговор перешел на врача Бадмаева, которого травят придворные завистники, а он знает все травки. И тут Феликс догадался, каким образом он сможет приблизиться к Распутину, не вызывая подозрений.
— Меня собирались к нему вести, еще в детстве.
— Чем же в детстве ты страдал, мой ласковый? — спросил Распутин.
— У меня, насколько я себя помню, бывают головокружения. Я вообще теряю способность двигаться.
— И болит?
— Нет, болей я не испытываю, — сказал Феликс. — Но порой теряю сознание.
Головины смотрели на Распутина, приоткрыв изящные ротики, словно ожидали, что он сейчас превратит гадкого утенка Феликса в лебедя.
— Ясное дело, — сказал Распутин. — Нуждаешься ты, голубчик, в сильном моем влиянии. Придешь ко мне, не бойся, зла я еще никому не сделал. Поможем. А теперь еще по чашке чаю, и мне идти надо. Государственные дела призывают.
Не делал зла, произнес про себя Феликс. Если бы ты ограничился легковерными дамочками или гусарами с перепою, тебе бы цены не было. Но твои государственные дела и есть страшный вред для России.
Феликс все более убеждал себя в том, что он несет крест, врученный ему свыше… «Вот он, сидит передо мной, дьявол во плоти, губитель моей России. А я, как белый жертвенный паладин, выхожу на открытый бой с обнаженным мечом».
— Ты чего задумался? — спросил Распутин. — Или оробел? Тебе передо мной робеть не след. Ты лучше скажи, умеешь на гитаре играть и петь? Или врут про тебя?
— Я играю немного…
— Ох уж притворяешься… Сейчас со мной выйдешь. Не спешишь?
— Нет, Григорий Ефимович, не спешу.
Они вышли на мороз. Григория Ефимовича ждал автомобиль с заведенным мотором, чтобы не заглох. Шоффэр был в шубе и меховой шапке. У Феликса авто не было — ему идти от Головиных до своего дворца два шага. Но он почувствовал укол ненависти к этому мужику, который осмелился приехать на собственном авто, тогда как он, Юсупов, таится даже от собственных слуг.
— Садись, — сказал Распутин, копаясь пальцами в длинной черной бороде. — К цыганам поедем.
— Стоит ли?
— А ты, Феликс, не рассуждай. Никто тебя не увидит. Мы ресторан закроем, всех вышвырнем. Меня ждут.
И тогда Феликс, вздохнув, подчинился, потому что, раз уж ты пошел на жертвы, вряд ли стоит останавливаться на полдороге. Да и любопытно поглядеть — что же такое распутинский кутеж. О них в Петербурге чего только не говорили.
Кутеж оставил гудящую голову, стыдные и вовсе не разгульные воспоминания и память о чувстве постоянного страха — а вдруг появится кто-то из знакомых?
После этой бурной ночи Распутин стал благоволить к красивому камер-пажу. Несмотря на слухи, Григорий Ефимович не был склонен к содомскому греху, впрочем, как сам признавался, по пьяному делу баловался и мальчиками. Но любил баб.
Вот и на лечебном сеансе, когда Феликс отчаянно боролся с гипнозом, он князя трогал, оглаживал, чуть не слюнявил, но знал меру и предел.
Лечил он князя в своей спальне — небольшой комнатке в обширной, многокомнатной, но тесной и неуютной квартире на Фонтанке.
Вдоль одной стены стояла узкая кровать, небрежно застеленная спальным мешком из лисьих хвостов, — подарок, как сказал старец, от Анны Вырубовой, его главной покровительницы и почитательницы. Напротив кровати стоял громадный сундук, в нем можно было упрятать медведя, а опершись о него спинкой, раскинуло лапы подлокотников старое продавленное кожаное кресло — в нем-то и полулежал Феликс, пока старец совершал над ним свои действия.
В красном углу висело несколько образов, горела лампада, на стенах в рамках, а то и без — прикнопленные, висели портреты государя, государыни и их детей, а также лубочные картинки, изображавшие сцены из Священного Писания, — такие листки можно было купить на базаре по пятаку.
— Все, — сказал старец, — поднимайся, пошли чайком побалуемся. После сеанса обязательно надо горячим настоем жилы разогреть.
В столовой на овальном столе кипел золотопузый самовар, стол был накрыт скатертью, на ней расставлены блюда и тарелки со сладостями, до которых Распутин был большой охотник. Полюбившемуся Феликсу он подвигал тарелки и хвалил халву, конфеты и печения. Феликс глядел на толстые, расплющенные на концах пальцы — под ногтями черно — и холодно, разумно радовался решению — он отравит Распутина. Он подсыплет яда в пирожные. Где бы отыскать надежного доктора?
— Гитару принес? — спросил Распутин, хотя знал, что гитара у князя с собой. Сам отобрал гитару, встретив у черного хода — на секретности визита настоял князь.
Князь, все еще находясь в некотором трансе, потому что его воображение диктовало ему сцены смерти Распутина, пел задумчиво, негромко, в основном цыганские романсы, которыми прославился в Оксфорде.
Распутин сидел, опершись о ладони согнутых в локтях рук, всхлипывал и твердил, что пение Феликса — ангельское. И что он ни попросит — старец ему сделает. Хочешь любую бабу, даже Великую княгиню? И тут же спохватился, захохотал, вспомнил, что у Феликса уже есть Великая в женах.
— Но, может, хочешь министерское место? Какое министерство тебе по нраву? Ведь ты будешь получше министром, чем эти старые грибы? Ты орешка попробуй, в сахаре орешек, а потом еще нам сыграешь.
Феликс понимал, что ему хочется подчиняться старцу, хочется угодить ему. Это наваждение, от которого надо избавиться. Если не избавишься, Распутин разоблачит тебя и убьет. И Феликс радовался тому, что осознает опасность и потому будет в силах с ней бороться.
На прощание старец принялся упрашивать Феликса, чтобы он как-нибудь привел с собой красавицу жену. Обещал, что посмотрит, здорова ли она, а если нужна помощь, то помолится за нее. Он говорил вроде бы серьезно и доброжелательно, но глазки пронзали страхом, а по лицу блуждала гадкая ухмылка — может, она и привиделась князю.
Медлить более было нельзя еще и потому, что Феликс подлежал мобилизации — все члены императорской фамилии, ее младшего поколения, были на фронте. Впрочем, удивляться тому не приходилось — по традиции все без исключения, даже хронически больные принцы, с раннего детства были приписаны к полкам, кончали кадетские корпуса и офицерские училища. Это тоже сыграло плачевную роль в истории России — ее правящая верхушка, если не считать наследника престола, который получал более широкое образование, состояла из кадровых офицеров армии или флота, то есть к современной политической жизни была не приспособлена. Впрочем, и сам Николай II лучше всего чувствовал себя во главе полка, на параде или на учениях. Но уже в штабной комнате он терялся, потому что офицером был старомодным, бесталанным, для парадов, а не для танковых сражений. Беда русского командования, когда все определяла близость к престолу, была связана, разумеется, с деградацией самой империи. Ведь в наполеоновских войнах император не смел после первых неудачных попыток командовать Кутузовым и Барклаем. А вот Плевну в 1877 году штурмовали долго и неудачно — августейшие полководцы на роль Наполеонов не годились.
Феликсу помогло то, что казалось ему проклятием, — он не принадлежал по крови к царской семье, и никто не мешал его отцу дать сыну гражданское образование. Отец полагал, что Оксфорд откроет сыну истинную карьеру в современном государстве. Оксфорд ничего не открыл, только прибавил сплетниц и врагов. И Феликс, уже по собственному разумению, резко сменил карьеру и по возвращении из Лондона отправился в Пажеский корпус. Он стал камер-пажом, правда, с опозданием. Но теперь после трех лет войны камер-пажей стали отправлять на фронт.
Так что надо было торопиться со своими планами.
Главного кандидата на роль соучастника подобрала Феликсу Ирина. Им нужен был член императорской фамилии. Если не будет Великого князя, то Феликс рискует оказаться на каторге, как бы ни радовалось общество. Великий князь станет щитком. Но где найдешь такого, кто не струсит, не спасует перед фактом измены государю? Кто не выдаст заговор по глупости — быть участником провалившегося заговора позорно, и тут рискуешь оказаться посмешищем.
Ирина недаром собирала сплетни и слухи. Она нашла соучастника там, где, казалось бы, и не отыщешь такового. Им был Дмитрий Павлович, кузен государя, сын отщепенца в семействе, ибо Павел Александрович умудрился жениться вторым браком на разведенной жене полковника. Незнатной женщине, да еще разведенке, нечего было делать во дворце. Павел прожил несколько лет в Париже, а сейчас командовал гвардейской дивизией без особого успеха и желания — но он исполнял свой долг. А сыну не досталось даже дивизии. И сын не скрывал своей ненависти к Распутину и его клике, за что был в немилости. Ему тоже хотелось стать спасителем Отечества.
Феликс позвонил Дмитрию Павловичу. Сказал, что должен встретиться по неотложному делу.
Знакомство их было чисто светским, в их кругу так по телефону не разговаривали. Из этого следовало, что дело не бытовое, не семейное… Дмитрий Павлович согласился принять Юсупова в пять часов.
Феликс подготовил речь перед Дмитрием Павловичем. В ней были сакраментальные слова о том, что уничтожение Распутина спасет царскую семью, откроет глаза государю и он, пробудившись от страшного распутинского гипноза, поведет Россию к победе.
Но Феликсу даже не пришлось держать речь. Через несколько минут Дмитрий Павлович, сначала принявший Юсупова официально и даже сухо, предложил перейти к делу.
Он был достаточно умен, чтобы сообразить, что судьба принесла ему в лице этого красавчика шанс спасти Отечество и кузена.
— По правде говоря, — сказал подобревший Дмитрий Павлович, звеня в колокольчик, чтобы принесли по чарке доброй водки за успех предприятия, — я с внутренним негодованием узнал, что вы были замечены в последние недели в обществе этого изверга. И при первых ваших словах я заподозрил интригу.
— Это невозможно, я человек чести. Я согласен взять на себя исполнение смертного приговора старцу. Мне важнее ваше сочувствие, чем участие. Ваше имя не будет запятнано.
— Запятнано? — Дмитрий Павлович был выше ростом, чем его гость, он принадлежал к той кавалерийской породе Романовых, что до конца жизни оставались поджарыми. Походная форма сидела на нем ладно, как на ветеране, не думающем о том, чтобы она сидела ладно. — Запятнано? — повторил Дмитрий Павлович, глядя в окно кабинета. — Это благородное пятно. Пятно чести. Наступает время жертвовать собой ради идеи, ради империи. Если мы с вами, князь, не возьмем на себя риск замарать наши фраки, то грош нам цена. История приговорит нас к забвению.
Это были высокие слова, и они прозвучали искренне. Князь Юсупов был посланцем небес, призванным спасти князя от забвения.
— У меня есть помощник, — сказал Юсупов. — Штабс-капитан Васильев. Военлет. Он находится в Петрограде на излечении после ранения. Мы с ним познакомились в Ялте. Ирина встретила его на благотворительном вечере, и вот на днях он появился здесь.
— Вы намерены привлечь к заговору иных лиц? Я не советую.
— Я полагаю, Ваше Высочество, поговорить с кем-то из ведущих монархистов. Политиков. Может так статься, что нам пригодится поддержка определенной части общественного мнения.
Дмитрий Павлович не скрыл улыбки.
— Подстилаете сено, князь? — спросил он.
— Моя цель состоит не в простом убийстве, не в дворцовом перевороте, — возразил Юсупов, — а в акте гражданского сознания. Мне хочется объединить в нем аристократию, царское семейство и верных престолу политиков.
— Но помните, — сказал Дмитрий Павлович, — что за пределами узкого круга заговор превращается в предмет для разговоров и обязательно провалится.
— Я помню об этом.
— Тогда действуйте, с Богом. Я не смогу вам помочь на этом этапе, так как через несколько дней возвращаюсь на фронт.
— Я возьму на себя самую отвратительную часть заговора, — сказал Феликс. — Я буду общаться с этим человеком. Я должен быть хитрым, как змий.
— Именно об этом я хотел вам напомнить. С Богом, я благословляю вас на благородное дело. Будьте осторожны, мой друг.
И они подняли по рюмке за успех предприятия.
На прощание договорились — ни одной бумажки, ни одной строчки, могущей повредить заговору. Все переговоры только устно, только в надежном месте, только без свидетелей.
И когда они расстались, Феликс кинулся к Ирине с радостной вестью. Теперь следовало подыскать известного влиятельного думца, у которого есть те же проблемы, как у Юсупова и Великого князя. А может, иные, но могущие толкнуть его к отчаянному акту убийства.
Сначала Юсупов посетил профессора Маклакова. Его прочили в премьеры конституционного правительства, он был уважаем банкирами и адвокатами — само воплощение здорового консерватизма.
Маклаков выслушал Юсупова, который в этой беседе не ставил точек над i, ибо собеседник его не был связан кастовыми интересами с Феликсом и мог, несмотря на данное слово, поведать миру с трибуны Государственной думы о существовании заговора.
Но Маклаков отлично понял Юсупова. Понял и оробел.
У него был образ, утвержденный мнением общества. И в образ консервативного профессора убийство никак не вписывалось. Если Маклаков окажется участником заговора, он никогда уже не вернет себе облик интеллигента с чистыми руками. К тому же Маклаков отлично понимал, что Распутин — лишь надводная часть айсберга и империя рухнет, в чем он не сомневался, не из-за Распутина, а по причинам куда более глубинным и неотвратимым.
Так что Маклаков ничего не выигрывал, а слишком многое терял.
Он ответил Юсупову уклончиво, дал слово никому не обмолвиться о визите князя. И они расстались, понимая, что Маклаков в заговоре участвовать не будет.
И тогда решено было обратиться к крикуну и демагогу.
Таких в Думе было несколько. Но последовательно злобный, монархист из монархистов — один. Пуришкевич. Респектабельный джентльмен с бородкой, в пенсне.
Такие есть в каждом русском парламенте. Их движущая сила — ненависть. Причем ненависть крикливая, очевидная настолько, что порой кажется наигранной. Набор врагов у Пуришкевича (они же враги короны и национального духа) был устрашающим. Если бы они когда-нибудь объединились, Пуришкевич рухнул бы под грузом их чувств. Но враги никогда не могли объединиться. Одни по причине несходства характеров или политических позиций, другие потому, что не принимали или делали вид, что не принимают Пуришкевича всерьез.
Разумеется, Распутин в устах Пуришкевича был пугалом номер один, он не раз выступал с требованием избавиться от старца ради спасения Отечества. И в отличие от Маклакова Пуришкевич был достаточно безответственным типом — он отлично подходил в качестве третьего (если не считать таинственного штабс-капитана) участника заговора тщеславных циников. Убить Распутина? Это гениальная мысль! Давно только об этом и мечтаю. Для этого есть исполнитель? Еще лучше. Я сделаю все, чтобы заговор удался.
Пуришкевич видел себя во главе правительства доверия, которое придет ради спасения Руси, правительства честных монархистов, в котором он возьмет в руки власть.
Далекоидущие планы заговорщиков были обречены на провал, потому что сама постановка вопроса — ликвидируйте Распутина, и Россия вздохнет свободно! — была порочна.
Но выступить катализатором процессов, кипящих под крышкой котла российского общества, они были способны.
Устраивая вместе с Сергеем Серафимовичем спиритический сеанс в Ялте перед войной, пан Теодор понимал, что жизнь и смерть Распутина станут одним из узловых моментов в истории России, и потому старался не выпускать из виду старца и тех, кто мог реально ему противостоять. Ему было приятно сознавать, что уже в 1914 году он заметил молодого Феликса Юсупова. Сейчас же Феликс настолько близко сошелся с Распутиным, что Петроградский Совет был вынужден обратить на это внимание. Феликс докатился до того, что ездит с Распутиным к цыганам, безумствует там и — вы не поверите! — играет на гитаре в сомнительных компаниях, словно жалкий тапер. И до этого докатился владелец юсуповских миллионов!
Теодор из своих источников знал, что все не так просто. Феликсу не было нужды в Распутине, тем более что он не стремился к карьере и тщеславие его могло бы обойтись без дружбы с временщиком.
Феликс что-то замыслил, понял Теодор. И так как его роль в нашем мире заключалась, в частности, в том, чтобы знать о событиях, могущих повлиять на пути развития земного общества раньше, чем они произойдут, он удвоил внимание и попытки проследить за каждым шагом Юсупова.
Поэтому Теодор знал о беседе Феликса с Дмитрием Павловичем, о его разговорах со штабс-капитаном Васильевым, который вообще переселился во дворец Юсуповых на Мойке, так как неудобства, связанные с ремонтом, его не удручали. Зато он мог исподволь подготавливать сцену для драматического действия.
Теодор даже пошел на то, чтобы познакомиться со штабс-капитаном. Авантюра с Распутиным, в которую военлет с удовольствием впутался по причине своего беспутного характера, не занимала целиком его времени и мыслей. Потому он посещал увеселительные заведения, правда, не высшего толка, так как денег у Юсупова просить не хотелось, да Феликс и не был самым щедрым из друзей. В ресторане «Каприз» напротив Елагина острова он встретил как-то поляка или серба с густыми черными бровями и огненным взором, они славно посидели, и Теодор, как звали нового друга, заплатил по счету. Это расположило к нему Васильева, и он поведал другу детства (к тому времени Теодору удалось внушить Васильеву, что он — его друг детства) все, что он знал о заговоре. И обещал держать Теодора в курсе дел, тем более что живой ум штабс-капитана подсказал ему, что Теодор — человек не жадный и готов в будущем угощать бедного пилота.
Пуришкевич рекомендовал в заговор еще одного человека — толстого и мрачного доктора Лазаверта, которого он представил как идейного борца за интересы самодержавия. Доктор Лазаверт от идейности не отказывался, но сразу же заговорил с Юсуповым о гонорариуме. Он произносил это звучное слово со смаком, будто речь шла не о деньгах, а о букете цветов либо Нобелевской премии.
Юсупов обещал доктору щедро оплатить его услуги. Доктор был нужен, потому что убийство предполагалось цивилизованным, а не азиатским преступлением. Доктор должен был составить яд и потом проверить, помер ли Распутин.
Когда заговорщики вчетвером впервые встретились во дворце Александра Михайловича (Дмитрий Павлович еще не возвратился из Могилева) и разрабатывали детали плана, то решено было не привлекать к делу слуг. Но кто-то должен был управлять авто. Васильев был готов на это, но Юсупов указал на то, что с рукой на перевязи ему будет нелегко это сделать, к тому же такой шоффэр запомнится случайному взгляду.
Тогда Пуришкевич предложил кандидатуру доктора Лазаверта. Лазаверт признался, что обучился этому искусству на фронте, когда занимался поставками медикаментов в госпитали, а теперь намерен даже приобрести себе автомобиль. Он был готов вести авто. На том и порешили.
В начале декабря Юсупов два раза встречался с Распутиным, который демонстрировал свою любовь к князю, они подолгу беседовали. Распутину было лестно выступать перед слушателем, который не заискивал перед ним, а казался улыбчивым и любезным.
Юсупову было нелегко сохранять вид легкомысленный и беззаботный. Он жил в ощущении убегающего времени. Зима была в разгаре, на фронтах затишье, но в городах было неспокойно, железные дороги работали все хуже, и начались перебои с хлебом. Даже самые горячие патриоты уже не смели кричать о жертвах во имя победы. Нужно было подстегнуть страну, прежде чем она вырвется из рук властей и поплывет, кружась, к водовороту. В любой момент затея Юсупова могла лопнуть, и с каждым днем риск все увеличивался. Ведь если в тайну посвящены пять человек, значит, реально о ней знает дюжина. Ведь не смог же Феликс скрыть приготовления от Ирины, хоть ему и удалось уговорить ее уехать в Крым, не столько ради ее безопасности, сколько опасаясь настойчивых требований Распутина познакомить его с женой. Женщины непредсказуемы — Ирина тем более.
Если о заговоре узнавали власти, то, желая того или нет, они обязаны были принять меры. И Юсупову грозила опасность очутиться в Петропавловской крепости, ничего не совершив. Но была и другая опасность, тоже реальная — некая вторая группа, желая также пробиться в бессмертие, опередит Юсупова и получит все лавры и терновые венцы.
Юсупов назначил покушение на середину декабря. Благо сам он пользовался полным доверием старца. Но ведь и это — не вечно. Старец капризен и подозрителен. В любой момент по навету или по справедливости Юсупов лишится доверия Григория Ефимовича. И тогда провалится заговор, который именно на доверии жертвы и основывался.
В одну из последних встреч Распутин и вовсе испугал Юсупова. Он откровенно заговорил о мире.
Они сидели в тесной, заставленной темной тяжелой мебелью гостиной, пили чай. Распутин хватал с подноса эклеры и кидал их в рот, как орехи. Губы его блестели, пальцы лоснились от жира.
— Вот что, дорогой, — говорил он наставительно. — Хватит воевать, довольно крови пролито, пора кончать всю эту канитель. Разве немец не брат тебе? Господь говорил: «Люби врага своего, как любишь брата своего», а какая же у нас любовь получается? Сам-то все артачится, да и Сама чего-то уперлась: не иначе как их опять там кто-нибудь худому научает, а они развесили уши, слушают! Тьфу ты! Но ты не думай. Я своего добьюсь. Я их уломаю. Они все по-моему сделают, хоть и спешки нету…
— Нет! — вырвалось у Юсупова. — Мир — это позор для России! Вы, Григорий Ефимович, о нашей национальной чести подумали?
— Национальная честь — это не для нас, мужиков, — возразил старец. — Вы же знатные, о людях и думать не можете. Только я один и пекусь о народе. Вот покончим с этим кровавым делом и объявим правительницей Александру с малолетним сыночком, а Самого пригласим в Ливадию, на отдых… Вот-то будет радость ему огородником заделаться. Устал он больно, отдохнуть надо, а глядишь, в Ливадии, около цветочков, к Богу ближе будет. У него на душе много есть чего замаливать… одна война чего стоит! За всю жизнь не замолишь!
— А как же Дума? — спросил Юсупов.
— Говорунов сразу разгоним. Ишь надумали! Против помазанников Божьих пошли! Давно пора их к чертовой матери послать… всех, всех, кто против меня кричит, — всем худо будет!
«Надо не забыть, — думал Юсупов, — все пересказать Пуришкевичу. Он в последние дни избегает меня. Дмитрий Павлович тоже испугается конца войны. Кому нужен мир без победы? Всем нужна победа, тогда и будем мириться».
— Вот евреи просят меня свободу дать, — гудел голос Распутина. — Чего ж, думаю, не дать? Такие же люди, как и мы с тобой, Божья тварь.
Когда вечером того же дня Юсупов рассказывал Пуришкевичу о последнем визите, он добавил кое-что от себя.
Он поведал о том, как их беседу якобы прервал звонок в дверь, тогда Распутин отвел его в спальню и велел не высовываться. А сам принял гостей в кабинете. Оттуда Юсупову были слышны голоса, и он, конечно же, не утерпел, выглянул в щель. Оказалось, что в гостях у старца собралось несколько неприятных типов, у четверых был, несомненно, еврейский облик, трое других были белобрысые, с красными лицами и маленькими глазами.
— Вся эта группа производила впечатление грязных заговорщиков, — закончил свой рассказ Юсупов. — Распутин же сидел среди них с важным видом и что-то им рассказывал. Заговорщики посмеивались и записывали его слова в свои черные книжечки.
Пуришкевич кивал, давая понять, что понимает подсказку Юсупова — противоестественный союз мирового еврейства с тевтонскими шпионами угрожал самому существованию России.
— Мы не можем терять ни минуты, — сказал политик. — Я готов к выступлению.
— Дмитрий Павлович днями будет в Москве, — сказал Юсупов.
На последнем совещании заговорщиков, которое происходило в санитарном поезде Пуришкевича, был разработан план, как сказали бы через полсотни лет, «сценарий» убийства.
Подобно мальчикам, планирующим набег на соседский сад, который стережет вредный сторож, группа взрослых мужчин просидела три часа, разложив на столе бумажки, чертя на них стрелы и крестики, потом, обо всем договорившись, сожгли их в печке, чтобы не осталось даже пепла. А затем все заговорщики кинулись по берлогам, чтобы занести события и решения рокового дня в свои дневники, ибо все без исключения вели дневники, в которых намеревались оправдаться перед потомством.
Решено было следующее: Юсупов приглашает Распутина посмотреть свой холостяцкий уголок в доме родителей на Мойке, где как раз кончался ремонт. Приглашать старца надо на ночной кутеж, потому заехать за ним требуется в полночь.
Следует отравить Распутина пирожными, начиненными цианистым калием. После чего вынести труп Распутина во двор и погрузить в автомобиль Великого князя, так как на радиаторе этого авто был укреплен великокняжеский флажок и полиция не имела права этот автомобиль останавливать.
Точнее место, куда надо сбросить труп, поручалось отыскать князю, который может проехать по подходящим местам в том же авто.
Затем заговорщики поклялись, что ни один из них не проговорится об участии остальных в покушении и будет отрицать осведомленность об убийстве.
Каждый понимал, что эта клятва по крайней мере условна. Обстоятельства могут сложиться так, что сознаться окажется выгодным. И вряд ли кто из заговорщиков удержится от соблазна.
Ирина срочной телеграммой просила мужа не начинать ничего, пока она не возвратится из Крыма. Никто из заговорщиков не подозревал, что движущей силой их предприятия была стройная застенчивая женщина редкой робкой красоты.
Ирина простудилась, и пришлось начинать без нее, так как 16 декабря стало последним сроком — надвигался Новый год, государь вернется в Петербург из Ставки — заговорщики не смели совершить убийство в его присутствии. Хотя царя считали слабовольным, у него могло хватить воли, чтобы пресечь заговор или быстро раскрыть его.
У Феликса возникло небольшое осложнение — 17-го утром ему надо было сдавать в корпусе экзамен по тактике, прогулять его — навлечь на себя ненужные подозрения. Следовательно, надо было провести убийство с наименьшей потерей сил… к тому же даже такому холодному человеку, как Юсупов, было нелегко готовиться шестнадцатого к экзамену, если ночью предстояло стать спасителем Отечества и убить — все же ему раньше этого делать не приходилось — очень живого, сильного и хорошо относящегося к Феликсу человека. Впрочем, Феликс старательно занимался весь день шестнадцатого декабря, и это помогало ему не думать о предстоящей ночи.
В час дня Феликс сделал перерыв в занятиях и, вызвав авто, отправился во дворец Юсуповых на Мойке.
Феликс приказал остановить авто, не сворачивая к подъезду.
Окна в комнату, где все произойдет, — узкие, почти вровень с землей, — выходили на речку. Набережная была пустынна, и в снегу редкими экипажами и телегами были промяты колеи.
Несмотря на середину дня, в окнах горел свет и мелькали очертания людей. Там кипела работа.
— Могли бы завесить окна! — закричал князь от дверей, сбежав в подвал.
Старый камердинер Василий Иванович, человек верный, ездивший с Феликсом в Англию, который командовал убранством комнаты, ничем не показал удивления.
Прошел, перешагивая через вещи, к окнам, задернул уже повешенные шторы, сразу стало темно.
— Лампы принесут к вечеру, — сказал Василий Иванович.
— Бог с вами, — отмахнулся Юсупов, не признавая упрека, — открывайте окна, только не шумите и не мелькайте. Не хочу, чтобы весь город знал.
Феликс глядел, как слуги вешали на стены ковры.
Он сам придумал и нарисовал комнату, стараясь, чтобы она понравилась гостю.
Ловушка была сделана из винного погреба дворца. Комната была мрачная, узкие окна давали мало света. Ровный гранитный пол рождал холод, стены были облицованы серым камнем, своды побелены. Казалось бы, невозможно превратить этот подвал в приятное жилище, но Феликс был уверен, что сможет сделать так, чтобы старец согласился выпить чаю, не спешил и не волновался.
Две невысокие арки делили подвал на неравные части. Узкая часть была прихожей — оттуда дверь вела на лестницу. Если подняться по ней на пролет, выйдешь во двор, а еще выше располагался кабинет Феликса, лежавший как раз над подвалом. Лестница эта была винтовой, из темного дерева.
Вошедший в прихожую со двора сразу видел две большие разноцветные китайские вазы, стоявшие в нишах.
Пройдя под арку, он оказывался в широкой части подвала, которая должна была имитировать столовую.
Сюда Юсупов велел принести много темной мебели, зная, что именно так обставлена гостиная в доме Распутина. Обтянутые кожей стулья, мягкие черные кресла теснились между шкафов и буфетов, еле уместившихся по стенам и снабженных ящиками и ящичками. Между креслами, стульями и шкафами размещалось несколько инкрустированных столиков, на них стояли кубки из слоновой кости и фарфоровые вазы.
Во весь пол был расстелен пышный персидский ковер, а в углу, где ковра не хватило, положили шкуру белого медведя.
В центре комнаты располагался овальный стол, за которым предстояло сидеть Григорию Ефимовичу.
Удовлетворившись тем, как идут работы по приготовлению комнаты, Феликс отдал последние указания Василию Ивановичу — купить побольше печений, пирожных и всяких сладостей, а также принести из подвалов доброй мадеры. К одиннадцати часам вечера следует накрыть наверху, в кабинете, чай на четверых и внизу на двоих и ничего не жалеть, словно будут гулять человек пять.
В одиннадцать Феликс возвратился в подвал. Он совершенно подготовился к завтрашнему экзамену — успел!
В подвале его ждал только Василий Иванович. Хоть дом и протопили после ремонта, в подвале было сыровато и зябко. Василий Иванович сидел на корточках перед камином и кормил его деревянными чушками. При звуке быстрых шагов Феликса он с трудом поднялся, и Феликс подумал, как он уже стар. Ведь Феликс помнил его с детства — точно таким же, без перемен.
— Людей отпустил? — спросил Феликс.
— Так точно.
Феликс прошел вокруг стола. Стол был уставлен сладостями густо, словно собирались пировать большой компанией. Мадера была открыта. Феликс хотел было попробовать — мадера была своя, из маминого подвала в Ай-Тодоре, но тут же спохватился — его остановил иррациональный страх — словно мадера уже отравлена, будто кто-то обогнал Феликса и подготовил ловушку для самого охотника.
— Ты иди, — сказал Феликс.
Василий Иванович удивился:
— А кто же подавать будет?
— Я сам.
— Тогда я останусь, ваше сиятельство. От меня будет польза.
Феликс усмехнулся. Преданность слуги, как в хорошем английском романе, всегда трогала его.
— Василий, — сказал он, пытаясь не дать волнению отразиться в голосе. — Чем ты дальше будешь отсюда сегодня ночью, тем лучше.
— Я понимаю, что не с девицей остаетесь, — сказал Василий.
— Какая может быть девица — ты бы первым княгине донес.
— Может, и не донес бы, — сказал Василий Иванович.
— Тогда иди, иди, справимся. Завтра с утра пораньше приходи. Понадобишься.
Василий Иванович колебался. Он не мог ослушаться князя, но не хотелось оставлять его. Тревожно.
Феликс подтолкнул слугу к дверям и сам вышел за ним следом.
И вовремя.
Во дворе, переступая с ноги на ногу, словно морж, в обтекающей бобровой шубе, покачивался доктор Лазаверт. Он пришел раньше остальных гостей.
— Вы на извозчике? — спросил Феликс вместо приветствия.
— Не беспокойтесь, — ответил доктор высоким, как бывает у больших толстых людей, голосом, — я расплатился на углу Невского.
Было темно, мела поземка, яркий фонарь покачивался от ветра над входом в подвал. Еще один фонарь был на набережной, недалеко от ворот, он тоже качался и гонял длинные тени на золотом снегу.
Две фигуры — высокий князь и приземистый Пуришкевич — возникли в воротах, сначала силуэтами, подсвеченные сзади, потом их осветил фонарь над дверью.
— Мы не опоздали? — громко спросил Пуришкевич.
— Нет, все в порядке, — сказал Феликс.
Великий князь стянул с руки перчатку, все смотрели на это и ждали, когда же он освободит длинные пальцы. Затем Великий князь поздоровался за руку со всеми заговорщиками.
Наступила пауза, ее прервал Феликс.
— Добро пожаловать, так сказать, — произнес он с кривой усмешкой.
Намек на шутку не прозвучал.
Феликс первым открыл дверь в дом и пошел вниз по винтовой лестнице. Остальные чуть задержались, и Пуришкевич спросил оттуда:
— А мы где будем?
Хотя знал, еще вчера осматривали место.
Из кабинета Феликса на верхнюю площадку вышел штабс-капитан Васильев. Юсупов и не заметил, как он прошел наверх.
— Нет, нет, — сказал Дмитрий Павлович, — сначала посмотрим, как вы все подготовили, княже.
В столовой было тесно. Все стояли вокруг стола, обозревали тарелки и блюда с пирожными, словно макет поля боя, какие устанавливают в военной академии на занятиях по тактике.
— Начнем? — спросил Феликс. Голос сорвался, пришлось откашляться и повторить вопрос. Феликс был зол на себя за такое мелкое проявление слабости.
Он открыл дверцу резного шкафа черного дерева и достал оттуда заготовленную коробку.
Пуришкевич посмотрел на нее жадно, Феликс подумал, что он оголтелый человек. Очень опасный.
Доктор Лазаверт подошел к столу поближе, шуба мешала ему.
— Позвольте, — сказал штабс-капитан и стащил шубу с доктора. Он кинул ее на кресло. И Феликс подумал — только не забыть ее здесь. Только не забыть. Все может сорваться из-за пустяка.
В коробке была небольшая широкогорлая склянка, и в ней — несколько палочек цианистого калия.
Доктор взял блюдце, положил на него палочку и принялся разминать ее чайной ложкой. Палочка была не очень твердой и послушно рассыпалась в порошок. Доктор растирал порошок, он был при деле и успокоился — он мог не думать об убийстве, достаточно заняться приготовлениями к медицинскому опыту.
— Пирожные, — приказал доктор Феликсу, словно хирург, который велит сестре милосердия подать ему скальпель. Феликс подвинул коробку с пирожными.
— Вы уверены, что он любит именно эти пирожные? — спросил доктор.
— Да, я видел, как он их пожирал, — сказал Феликс. — Как грязная скотина.
Он пытался раззадорить себя.
Пирожные оказались эклерами — доктору было нетрудно отделить верхнюю половину и положить по толике порошка в шоколадный крем. Остальные следили за движениями рук доктора, словно учились делать так сами, в следующий раз.
Никто не произнес ни слова, пока доктор, нашпиговав последнее, десятое пирожное, не распрямился и не ссыпал остатки порошка в коробку.
— Что-то спина болит, — сообщил он, — видно, погода меняется.
Штабс-капитан Васильев, единственный из всех, нашелся и ответил:
— Судя по приметам, грядут морозы, и значительные притом.
— А в рюмки будем насыпать? — спросил Феликс.
— Рискованно, — сказал доктор. — Он может заподозрить, если Феликс Феликсович откажется пить с ним. Лучше не рисковать.
— А пирожные? — спросил Пуришкевич. — Князь тоже откажется.
— Я не люблю сладкого, — сказал Юсупов. — Григорий знает об этом.
— Следует сделать на столе некоторый беспорядок, — вдруг заговорил Великий князь. — У вас были гости и ушли. А убрать не успели. Разоренный стол вызывает доверие. Одни гости ушли, другие пришли, вы человек гостеприимный, но порядка в доме нет.
Все придвинулись к столу и с облегчением начали разрушать созданную слугами картину — наливали в чашки чай, разворачивали конфеты и оставляли их рядом с блюдцами. Васильев даже плеснул чаю на скатерть и выдержал осуждающий взгляд хозяина дома.
Пуришкевич налил себе мадеры, выпил и потом спросил:
— А вы уверены, доктор, что не успели отравить?
Все нервно засмеялись, смеялись долго, не могли остановиться.
— Пора ехать, — сказал Феликс, самый молодой, но и самый выдержанный и холодный.
Доктор первым перестал смеяться. Еще вчера было обговорено, что он поведет автомобиль, потому что с этого момента ни один из слуг, даже самых верных, допущен к тайне не будет. Кроме доктора, вести авто было некому — у Васильева рука на перевязи, Пуришкевич и близко к машине не подходил — его возили на думском авто. Вот и остался толстый Лазаверт, единственный безыдейный заговорщик. Ему что мертвый Распутин, что живой — было безразлично.
Наверху в кабинете Феликс приготовил доктору костюм шоффэра — кожаную куртку, фуражку с квадратными очками, прикрепленными к околышу, краги. Костюм был тесноват, но доктор не жаловался, ему трудно было подобрать костюм по размеру.
Там же Юсупов облачился в длинную доху и меховую шапку со спущенными наушниками, чтобы скрыть лицо.
Потом в кабинете присели на дорожку. Словно перед долгим и опасным путешествием к Северному полюсу.
— С Богом, — сказал Дмитрий Павлович, словно старший по званию.
Гости втроем остались наверху и приготовились к долгому ожиданию, а князь с Лазавертом сошли во двор, доктор сел на водительское место, а князь стал крутить заводную ручку. К счастью, мотор был славным, английским «Роллс-Ройсом», несмотря на мороз, завелся после нескольких оборотов.
Во дворе осталась вторая машина, Великого князя.
Через несколько минут автомобиль остановился на улице, не доезжая нескольких саженей до дома, а Юсупов пошел к воротам. Там стоял дворник, он не хотел пускать Феликса, но тот сказал, что господин Распутин его ждут и велели прийти с черного хода, чтобы не беспокоить агентов охранки.
Дворник не узнал князя, на что тот и рассчитывал, оставаясь в темноте за воротами и поднимая воротник дохи, словно замерз. Пришлось дать ему четвертной. Дворник помял ассигнацию в пальцах и пропустил гостя.
В черном ходе было темно. Завизжала, кинулась из-под ног кошка. Все-таки Россия — всегда Россия, размышлял Юсупов, ощупью поднимаясь наверх. В доме живет диктатор империи, его надо охранять днем и ночью. И что же? Охранники сидят в парадном подъезде, а с черного хода любой может подняться к старцу неузнанным, в худшем случае подкупив дворника. Ну ладно, не хватает агентов — так повесьте лампочку!
Феликс не был уверен, нужная ли ему дверь перед ним. Но на дверях черного хода не было табличек с номерами квартир.
Он тихонько постучал, рассчитывая на то, что если квартира чужая, то обитатели ее спят и не услышат, что кто-то скребется с черного хода.
Тут же из-за двери послышался приглушенный голос старца:
— Кто там?
— Григорий Ефимович, это я, Феликс. Приехал за вами, как договаривались.
Оба таились, словно мальчишки, которые собрались за яблоками в монастырский сад.
Загремела цепочка. Затем скрипнула задвижка — без помощи хозяина с черного хода войти нелегко.
На кухне тоже было темно. Только у Распутина в руке свечка.
— Ты чего закрываешься? — Распутин подозрительно смотрел на шапку с опущенными ушами и поднятый воротник.
— Мы же сговорились, — нашелся Юсупов, — чтобы сегодня про нас никто не знал.
— Верно, верно, — сказал старец.
Он тоже был взволнован — он ждал визита в знатный дом, ибо был тщеславен и в глубине души пресмыкался перед знатью. Потому проклинал и клеймил князей и графов за то, что не любят народ и не помогают государю править Россией.
Они прошли в спальню, где Распутин, бывший до того в длинной ночной рубахе, натянул черные бархатные шаровары, белую шелковую рубашку, вышитую васильками, подпоясался малиновым шарфом. И сразу стал похож на скомороха или на актера, изображающего русского мужика. Шуба и бобровая шапка валялись на сундуке, и Распутин молча одевался, потом сунул ноги в высокие валенки.
— Теперь и идти можно, — сказал он.
Теперь и умирать можно, мысленно поправил его Юсупов.
— Ну что, сначала к цыганам или потом? — спросил старец. — А то ждут нас там.
— Можно и к цыганам, — стараясь казаться равнодушным, произнес князь.
Распутин сразу всполошился.
— А что? К тебе нельзя? — спросил он. — Мамаша приехали?
— Не беспокойтесь, — сказал Феликс. — Мама с Ирэн в Крыму, еще не приехали. У меня сегодня товарищи были, да разъехались.
— Не люблю твою мамашу, — признался старец, направляясь к кухне. — Небось с теткой Лизаветой дружит. Они все на меня матушке клевещут. Матушка мне их клеветы сразу передает. Не получится у них.
Во дворе старец сказал:
— Хочу посмотреть, как ты дворец отремонтировал. Люди хвалят, говорят, как царский.
— Сейчас и посмотрите, — сказал Феликс.
Вдруг его начала молотить дрожь, и он, чтобы скрыть ее, сказал:
— Что-то сегодня мороз сильный.
— К утру еще сильнее будет, — ответил Распутин. — А ко мне днем Протопопов приезжал. Знаешь зачем? Не выходи, говорит, из дому два дня. Есть сведения, что тебя ночью убивать будут. Или сегодня, или завтра. Ничего себе, даже охранить не могут. За что им батюшка деньги платит?
Распутин говорил не уставая, ворчал, но без злобы, хотя Феликсу, конечно же, было страшно слушать эти слова — словно старец испытывал его, намекал на то, что обо всем ему известно.
— Поедем, поедем. — Князь старался казаться спокойным. Он взял с сундука шубу и стал надевать ее на Распутина. Если бы нож — сейчас бы ударить его — никто не догадается. Или еще лучше — пистолет! Нет, так нельзя, у него в комнатке за кухней прислуга спит.
— Деньги-то, деньги забыл! — Распутин вырвался, открыл сундук. Пачки денег лежали там, завернутые в газеты. Распутин вытаскивал деньги из бумаги и совал в карманы шубы.
— Столько денег? — Князь не удержался, вопрос получился глупым.
— Сегодня получил, — ответил старец. — Добрые люди принесли. Мне добрые люди много денег приносят, а я их на добрые дела пускаю. Я их и не считаю, на что мне деньги считать, что я — Митька Рубинштейн, что ли?
Распутин рассмеялся, но, когда пошли по черному ходу, оборвал смех, чтобы не разбудить прислугу.
Они очутились на площадке лестницы. Дверь закрылась, и наступила полная темнота. Юсупову стало страшно, как никогда в жизни. Он даже присел от страха, опершись о стену, — сейчас Распутин задушит его, обязательно задушит. Он обо всем догадался и только ждет момента, чтобы разделаться с Феликсом.
Князю было страшно жалко себя, такого молодого, талантливого, красивого, у которого вся жизнь впереди. И какое право имеет этот темный старец, мошенник и совратитель женщин, убить его?
Он хотел закричать, но крик не получился, а снизу, с нижней площадки лестницы, послышался грубый голос Распутина:
— Ты чего застрял? Темноты боишься, что ли?
— Иду. — Феликс не сразу заставил себя последовать за старцем. Внизу хлопнула дверь. Распутин вышел во двор.
В доме Распутин хотел было идти наверх, к кабинету, но Юсупов за рукав шубы потащил его вниз.
— Там все накрыто, — сказал он.
Только бы друзья не зашумели! Распутин чуткий, как лесной зверь.
— Почему в подполе? — удивился Распутин. — Ты мне не говорил. Что же, ты меня в дворницкой принимать будешь?
— Я люблю те покои. — Юсупов вел его вниз по лестнице, толкнул дверь в подвал. — Никто не побеспокоит, можно с друзьями посидеть. У меня сегодня уже были, только ушли. Видишь, я слуг отпустил, некому со стола убрать.
— Ну и правильно, что отпустил. — Вид стола с остатками чаепития успокоил Григория. Он повесил шубу на вешалку в узкой комнате, а сам прошел в столовую. Но садиться не стал, а повторил: — И чего этот Протопопов меня оберегает? Я ведь заговорен от злого умысла. Пробовали, не раз пробовали меня жизни лишить, да Господь все время просветлял. Вот и Хвостову меня погубить не удалось. Прогнали Хвостова, где он? А я вот тут, добро людям несу. А кто меня тронет, тому плохо придется.
Если бы Юсупов был в заговоре одинок, если бы не было товарищей, что сидели над головой, шептались и ждали, он не посмел бы тронуть старца. Но сейчас отступать нельзя — жизнь один раз дается, сегодня не сделаешь обязательного, и упустил свой жизненный шанс!
— Шоффэр у тебя толстый, на шоффэра непохожий. Иудей?
— Француз, — сказал Феликс. — Жан.
— И лицо у него такое странное — где я его видел?
— Да в моей машине и видел.
— У тебя другой был, рыженький.
— Они сменяются, — сказал Юсупов.
Им овладело нетерпение. Надо все сделать скорее — пока не сорвалось. Как будто тянешь тяжелого сома и думаешь, порвет ли он леску — еще минутку… уже берег близко. Но вот сорвался, ушел в глубину!
Распутин уселся за стол, оглядел тарелки и блюда, словно полководец поле боя с вершины холма.
Юсупов сразу подвинул ему блюдо с пирожными.
— Вы эклеры любите, Григорий Ефимович, — сказал он.
Несколько секунд пальцы Распутина висели над блюдом с пирожными, потом он убрал руку.
— Нет, сладкие больно.
— Мадеры?
Все. Охота началась. Сомнения покинули Феликса. Он знал, что Распутин не выйдет отсюда живым.
Юсупов налил чаю. Самовар был велик и потому не остыл. Но угли в нем потухли. Распутин пил, не замечая, что чай едва теплый. Он начал рассуждать о том, как спасет Россию, и перешел на близкую свадьбу дочери, которую отдавали за офицера, георгиевского кавалера, что его весьма волновало — он вот-вот породнится с настоящим дворянином.
Разговаривая, Распутин протянул снова руку и взял пирожное с блюда. Юсупов смотрел, как он подносит пирожное ко рту, как рот раскрывается, шевелятся губы, а пальцы у Распутина — плохо мытые, с черными ногтями.
Юсупов готов был закричать заговорщикам: «Он съел пирожное! Конец! Сейчас он упадет!»
И было не страшно — только бы скорее кончилось.
— Ты чего так смотришь? — спросил Распутин. — Будто привидение увидал.
Распутин засмеялся. Он не боялся в гостях у князя. Почему-то в его голове жило убеждение, что князья гостей не обижают.
Он взял еще одно пирожное.
Юсупов налил в бокал мадеры.
— Попробуйте, Григорий Ефимович, — сказал он. — Из Ай-Тодора, с наших виноградников.
Распутин отпил мадеры, похвалил ее и спросил:
— Ну, поедем к цыганам? Чего здесь засиживаться?
— Поедем, конечно, поедем. — Он утвердительно кивал и ждал, когда же Распутин будет падать?
В подвале пахло дешевым одеколоном Распутина и ваксой. Хорошо, что не дегтем сапоги мажет.
Мадера Распутину понравилась, и он пил бокал за бокалом, закусывая отравленными эклерами. На блюде их почти не осталось. «Неужели доктор что-то спутал? Нет, так не может быть! Я не соберусь с силами повторить все снова!»
Распутин поднес руку к горлу и отставил рюмку.
— Вы что? Болит? — с надеждой спросил князь.
— Нет, просто першит, — ответил старец.
Он ласково улыбнулся князю, и тот понял, что еще минута — и он убежит отсюда.
И вдруг выражение лица старца изменилось. Его брови сошлись к переносице, лоб пересекся морщинами. Он дышал быстро и лихорадочно.
— Что с вами? — с надеждой спросил князь.
Распутин уронил голову на руки и глухо произнес:
— Налей чаю. Жажда мучает.
Юсупов начал наливать чай, он видел, как трясутся его руки, но остановить дрожь был бессилен. Только бы не заметил Распутин… Ну почему он не умирает! Он же должен давно умереть!
Неожиданно Распутин уперся ладонями в стол и поднялся. Сделал несколько шагов по комнате, увидел гитару Юсупова.
— Сыграй, голубчик, что-нибудь веселенькое, — попросил он. — Люблю, когда ты поешь.
Юсупов покорно взял гитару. Тяжкое, тупое чувство провала овладело им.
Он запел «Степь да степь кругом…».
— Не то, — сказал Распутин, — совсем не то. Я же веселенького просил.
— Не могу, — искренне ответил Юсупов, — настроение невеселое.
Юсупов пел и смотрел на часы.
Оказывается, уже пошел второй час, как Распутин сидит в подвале.
— Спой еще, к цыганам не поеду, — сказал Распутин. — Тяжко мне…
Он прикрыл глаза, словно задремал.
Более Юсупов не мог выдерживать этого поединка.
— Я сейчас приду, — сказал он.
— Ты куда?
— По-маленькому, отлить, сейчас вернусь.
— Ну иди, потом и я схожу. — Распутин вяло улыбнулся.
Юсупов выбежал из комнаты и в несколько прыжков преодолел два пролета лестницы.
Его шаги услышали. Когда он распахнул дверь, за ней стояли Пуришкевич и Васильев.
Юсупов приложил палец к губам.
— Он жив? — спросил Великий князь. — Не вышло?
— Яд не подействовал! — сказал Юсупов.
— Этого не может быть! — откликнулся доктор. — Как медик, я ответственно заявляю вам, что яд совершенно свежий и доза его достаточна, чтобы убить роту.
— Может, он выплюнул? — спросил Пуришкевич.
Юсупов только отмахнулся. Ему показалось, что за спинами его сообщников стоит знакомый человек, которому здесь быть не положено, но он никак не мог приглядеться к нему и узнать.
— Мы пойдем все вместе, — сказал Пуришкевич, — мы накинемся на него и задушим.
Все двинулись к выходу из кабинета. Ими руководило нетерпение, чувство волчьей стаи.
Феликс расстался с Распутиным, но не со страхом перед ним. Он представил себе, как, мешая друг дружке, вся эта компания вваливается в подвал и Распутин, который жив и здоров, встречает их, подняв стул или схватив в руку бутылку вина. Еще неизвестно, кто возьмет верх.
— Стойте. — Князь загородил соратникам дорогу. — Я сам. Мне только нужен револьвер. Дмитрий Павлович…
Дмитрий Павлович был в походной форме, ремень через плечо, на нем кобура.
Великий князь не раздумывал, расстегнул кобуру и протянул револьвер Юсупову.
Возвращаться в кабинет не стали. Так и стояли на лестнице, уверенные в том, что ожидание вот-вот закончится.
Юсупов оказался почти прав.
Распутин был жив. Он сидел за столом, опустив голову. Юсупов стоял в дверях, сжимая за спиной рукоять револьвера, сейчас бы и выстрелить… Распутин поднял голову и мрачно поглядел на князя.
— Чем ты меня отравил? — спросил он. — В животе все жжет. Дай-ка мадеры. Может, полегчает?
Юсупов вздохнул с облегчением. Можно еще на минуту отложить убийство.
Свободной рукой он налил в рюмку мадеры, Распутин выпил ее одним глотком.
— Так-то лучше, — сказал он. — А теперь поехали к цыганам.
— Поздно, — ответил Юсупов.
— Они привыкли. Бывает, в Царском задержат меня дела, так я ночью на авто к ним еду. Они ждут. Мыслями-то я с Богом, а телом с людьми.
Он подошел к буфету. Внутри на полке стояло хрустальное распятие.
— Красивая вещь, — сказал он.
— Вы бы помолились, — помимо воли вырвалось у Юсупова.
Распутин обернулся к Феликсу и смотрел на него покорно, внимательно, как будто не узнавая.
Юсупов повторял про себя: «Господи, дай мне сил! Дай мне сил, Господи!»
Он вынул руку из-за спины, поднял пистолет и направил его на старца.
Странно, но тот не увидел этого движения. Он ждал.
Покорно, как будто они с князем сговорились заранее.
Куда стрелять? В сердце?
Юсупов прижал дуло револьвера к розовой рубашке и нажал на спуск.
Распутин страшно взревел, как раненый зверь.
Он грузно повалился навзничь на медвежью шкуру, покрывавшую пол.
На выстрел откликнулись нетерпеливые громкие шаги — остальные заговорщики кинулись по лестнице вниз, кто-то из них неловко задел выключатель, и свет в подвале погас.
Кто-то налетел на Юсупова, вскрикнул. Юсупов боялся ступить в сторону, чтобы не наступить на труп.
— Свет! — закричал он. — У двери выключатель.
Свет вспыхнул почти сразу.
Комната была полна людьми. Распутин лежал навзничь, кулаки сжаты на груди, на розовой рубашке расплывается кровяное пятно.
— Он жив, — прошептал Пуришкевич.
Лицо Распутина подергивалось от судороги. Будто он силился открыть глаза.
Юсупов поднял было пистолет, но остерегся выстрелить.
Он не хотел, чтобы кровь залила медвежью шкуру.
Лицо Распутина застыло, кулаки разжались.
— Все, — сказал Лазаверт, но наклоняться и проверять не стал — ему было достаточно того, что он видел.
Юсупов наклонился, Пуришкевич помог ему, и они стащили тело с медвежьей шкуры на каменный пол.
И тут все забыли, что делать дальше. Конечно, был план вывезти тело на речку и кинуть в прорубь подальше от дворца, но сразу перейти к этому прозаическому делу не хотелось. Да и Юсупов был так измочален последними часами. Холодный Дмитрий Павлович произнес слова, которых все ждали:
— Я предлагаю, господа, подняться в кабинет и выпить по рюмке за успешное завершение нашего предприятия.
На лежащего в углу Распутина никто не смотрел. Даже любопытства не было. А может, боялись его.
Все с облегчением потянулись прочь из подвала. Юсупов вышел последним, выключил свет и запер подвал на ключ. Он не хотел, чтобы кто-то случайно забрел туда и увидел.
Лестница была освещена скудно, и Юсупов, поднимавшийся последним, посмотрел наверх — еще на пролет. Но там было темно и пусто. И все же тревога его не оставляла.
Сначала в кабинете было тихо. Юсупов сам разлил по рюмкам мадеру, такую же, какой угощал Распутина.
Дмитрий Павлович коротко поблагодарил Феликса от имени нации за его подвиг, и все стоя выпили за здоровье князя.
Затем занялись делами.
Лазаверт в виде шоффэра и штабс-капитан Васильев, изображавший Распутина — в его шубе и шапке, а также Великий князь, сжавшийся на заднем сиденье, инсценировали отъезд Распутина из дворца — мало ли кто мог следить за Юсуповым!
Машина должна была завезти Дмитрия Павловича в его дворец, чтобы он мог пересесть в свой, крытый автомобиль и вернуться на нем к Юсупову. На этом автомобиле и вывезут тело Распутина.
Приготовления заняли несколько минут. Переодетый Васильев и его спутники покинули дворец. Юсупов остался в узкой прихожей подвала, откуда только что вынесли распутинскую шубу.
В доме, кроме него, оставался лишь Пуришкевич, который поднялся в кабинет и набрасывал что-то в большом черном блокноте, возможно, свою завтрашнюю речь в Думе. Завтра перед освободившейся от кошмара Россией откроются новые дали.
Смутная тревога мучила Юсупова. Не могло все так легко и просто кончиться — неправильно это.
Он прошел в большую комнату. Распутин все так же лежал на полу. Лишь пятно крови на рубахе расплылось шире. Нет, он мертв, он не мог остаться живым!
Юсупов смотрел на Распутина и думал, почему он не жалеет его и вообще не испытывает никаких чувств. Как будто не имеет к смерти этого чернобородого человека никакого отношения.
И вдруг у него все внутри сжалось.
Веко Распутина заметно дрогнуло.
Старец сначала открыл левый глаз, затем правый.
Он смотрел на Юсупова. Будто только что проснулся.
Это кошмар, такого быть не может…
Ноги приклеились к полу, он хотел крикнуть, но голос не повиновался.
Вдруг Распутин вскочил на ноги. Нет, так не поднимается немолодой, почти убитый человек. Он вскочил, как резиновая игрушка — подпрыгнув, — и тут же вцепился в горло Феликсу.
— Феликс! — повторял он негромко, но со злобой… а может, с мольбой? — Феликс…
Юсупов все же вырвался, потому что в нем удесятерились силы, — он боролся за свою жизнь.
Он кинулся прочь и, столкнувшись, чуть не сшиб с ног человека, который от дверей снимал ручным переносным аппаратом эту страшную сцену на синема.
В тот момент Юсупов был слишком перепуган, чтобы его узнать и даже удивиться его появлению.
Он ворвался в кабинет и закричал Пуришкевичу, уютно устроившемуся за княжеским письменным столом:
— Он жив! Он уйдет!
— Револьвер! — Пуришкевич вскочил из-за стола. — Где ваш револьвер?
— Я вернул его Великому князю! А ваш? Дайте ваш!
— Нет, — отрезал Пуришкевич.
Если до того момента он был лоялен и довольствовался вторыми ролями в спектакле, то сейчас наружу вырвалось его действительное отношение к Юсупову:
— Вы умудрились погубить дело, мальчишка! Теперь пора действовать мужчинам.
Может быть, это была цитата, может быть, Пуришкевич придумал эти слова когда-то по другому случаю. Но сейчас он был грозен и убедителен.
Он бегом направился к двери, отстранил темную тень — человека со съемочным аппаратом — и выбежал на лестницу.
Он увидел, что Распутин уже поднялся из подвала на лестничный пролет.
— Он не выйдет! — крикнул Юсупов. — Там заперто.
Но на деле дверь была открыта.
Распутин скрылся в темноте за дверью.
Остался лишь его хрип и невнятный звук голоса.
Юсупов прислонился к стене. У него опустились руки.
Все впустую! Погибла жизнь. Тюрьма, может, казнь — и за что? Он же все сделал. За всех!
— Нет! — закричал Пуришкевич. — Не позволю!
Он кинулся на двор, чуть не сшибив по пути Юсупова и человека с киносъемочным аппаратом, нахально снимавшего фильму, словно он был у себя дома.
Наконец Феликс узнал его.
Он пришел из далекого прошлого, из довоенного года, из вечера у высокого джентльмена в Ялте, которого потом убили… Это же медиум!
Юсупов думал о медиуме отрешенно — это не имело отношения к главному. Но легче думать о медиуме, чем о собственной судьбе.
Снаружи донесся выстрел. Потом еще один.
Может, еще не все потеряно? Может, его догнали?
«Но у меня нет оружия!» — хотел было сказать Юсупов, но не к кому обратиться. Он поднял руку и с удивлением увидел, что держит в руке тяжелую резиновую дубинку, которую дал ему Маклаков, отказавшись участвовать в заговоре. Помог, чем мог.
Юсупов выбежал во двор как раз в тот момент, когда раздался третий выстрел.
Распутин был уже у открытых ворот; еще два шага — и он на улице.
Пуришкевич отставал от него шагов на двадцать. Он стоял и палил из револьвера.
Распутин упал в сугроб. Пуришкевич догнал его и почему-то ударил каблуком в висок. Потом отшатнулся.
— Я попал! — крикнул Пуришкевич, обернувшись к Юсупову.
И побежал к дому.
— Вы куда? — спросил Юсупов.
Слова гулко раздавались в сверкающей морозной ночи.
— Меня нельзя видеть! — откликнулся на бегу Пуришкевич. — Меня здесь не было!
Юсупов чуть было не улыбнулся. Убийца в конечном счете оказался трусом, но издевка мелькнула и пропала — он пошел к сугробу. Наполовину утонув в нем, лежал Распутин — Юсупов уже не верил старому хитрецу. Он опять обманывает!
Но Юсупов ничего не успел сделать — с улицы послышались голоса.
В открытые ворота бежал городовой! Этого еще не хватало!
Юсупов кинулся к воротам.
— Тут стреляли, вашество! — Городовой был молод, простоват и напуган.
— Ничего страшного. — Юсупов выталкивал городового из ворот — только бы он не увидел лежащего тела. — У меня гости были, офицеры. Выпили, постреляли, дело молодое.
В волнении Юсупов не замечал, что выталкивает городового резиновой дубинкой, но городовой видел и дубинку, и тело, лежавшее у сугроба, возле которого неподвижными тенями маячили фигуры слуг, выбежавших на выстрелы из людской. Там же стоял медиум из Ялты, продолжавший снимать фильму, хотя никто его уже не замечал.
Выйдя со двора, городовой куда-то быстро пошел, придерживая шашку. Юсупов почувствовал облегчение и кинулся к Распутину.
Тот лежал, но не в той позе, в которой Юсупов его оставил.
Он еще жив?
Не может быть!
Нервы князя окончательно не выдержали, и он побежал внутрь, к себе в кабинет, где спрятался Пуришкевич.
Пуришкевич стоял в кабинете у окна, наблюдая за событиями во дворе.
— Что с вами, князь? — спросил он. — Почему вы не принимаете мер? Разве вы не видите, что там посторонние?
Юсупов был готов убить своего сообщника. И Пуришкевич даже отступил, увидев, как судорожно дернулась рука князя с зажатой в ней резиновой дубинкой.
— Выпейте воды, — сказал он. Он взял со стола стакан и стал лить в него из хрустального графина, но промахивался, и вода брызгала на ковер.
Юсупов отмахнулся от воды.
— Где Дмитрий Павлович, наконец? — сердито воскликнул Пуришкевич. — Мы же должны увезти тело.
В дверь кабинета постучали.
Юсупов сделал было шаг к двери, но дверь уже отворилась ему навстречу.
Там стоял камердинер Василий Иванович.
— Простите, ваше сиятельство, — сказал он ровным голосом вымуштрованного слуги, — там вернулся городовой. Они вас просят.
— Я сам! — сказал Пуришкевич. — Я сам поговорю. Я умею говорить с народом.
Поведение его было нелогично — только что он боялся огласки и тут же забыл об этом. Юсупов хотел было остановить думца, но передумал — пускай бежит. «Только бы Распутин был мертв. Если он оживет снова, я этого не вынесу!»
Городовой переминался с ноги на ногу возле сугроба. Слуги тоже стояли там.
Юсупов услышал, как Пуришкевич излишне громко, как с трибуны, объясняет городовому:
— Знаешь, кто с тобой говорит?
— Не имею чести, вашество…
— С тобой говорит член Государственной думы Владимир Митрофанович Пуришкевич. Неужели не слыхал обо мне?
— Так точно, слыхал.
— Выстрелы, которые ты слышал, убили Распутина. Того самого мерзавца и самозванца, который продавал нас немцам и губил батюшку-царя и наших героев-солдатиков!
Господи, как все это лживо и фальшиво! Юсупов не подходил ближе.
— Если ты любишь царя и свою Родину, — продолжал речь Пуришкевич, — ты будешь молчать! И это относится и к вам, господа. — Жест в сторону слуг.
«Он добьется совершенно обратного эффекта. Он нас всех выдаст!»
— А теперь иди прочь и забудь о том, что видел. Забудь!
— Так точно!
Городовой пошел прочь. Он шел неуверенно, будто с каждым шагом ему приходилось вновь решать задачу, слушаться ли голоса разума и дисциплины или этих господ, которые убили Гришку Распутина?
Пуришкевич остался без аудитории, но это его не смутило.
— А теперь, голубчики, попрошу перенести тело внутрь!
Слуги послушно потащили тело Распутина к открытой дверце в подвал.
Пуришкевич командовал ими, но до тела не дотрагивался.
Распутин лежал на лестничной площадке, откуда вели ступеньки вниз, в подвал, где его убивали, и наверх — в кабинет.
Там горела верхняя лампа, и Юсупов, подошедший к телу, смог разглядеть, как зверски был убит временщик. Лицо было обезображено многими ударами… Но вдруг Юсупов увидел, как вновь дрогнуло веко старца…
Это уже случалось не раз за ту ночь. И никогда Юсупов не сможет точно сказать, что это случилось на самом деле или было плодом его взболтанного воображения.
Но Юсупов окончательно сорвался с катушек.
Неожиданно для самого себя он кинулся к трупу и принялся бить его резиновой дубинкой, ударять сапогами и притом вопил, матерился, как извозчик… а слуги, которые только что принесли труп и не успели уйти, и Василий Иванович с Пуришкевичем, стоявшие выше на пролет, замерли от невероятного ужаса этой сцены.
Любопытно, что впоследствии все участники этого злодейства написали мемуары, и во всех мемуарах сцена избиения трупа стала как бы кульминацией этой ночи.
«Я ринулся на труп и начал избивать его резиновой палкой… В бешенстве и остервенении я бил куда попало… Все божеские и человеческие законы в эту минуту были попраны», — признавался князь.
Ему вторил Пуришкевич: «Он не мог поверить в то, что Распутин уже мертвое тело, и, подбежав к нему, стал изо всей силы бить его двухфунтовой резиной по виску с каким-то диким остервенением и в совершенно неестественном возбуждении.
Я, стоявший наверху у перил лестницы, в первое мгновение ничего не понял и оторопел, тем более что, к моему величайшему изумлению, Распутин даже и теперь еще подавал признаки жизни. Перевернутый лицом вверх, он храпел, у него закатился зрачок правого глаза… Но я пришел в себя и крикнул слугам скорее оттащить Юсупова от убитого, ибо он может забрызгать кровью и себя, и все вокруг и в случае обыска следственная власть, даже без полицейских собак, по следам крови раскроет дело.
Слуги повиновались, но им стоило чрезвычайных усилий оттянуть Юсупова, который как бы механически, но с остервенением, все более возраставшим, колотил Распутина по виску… Наконец его оттащили. На него было страшно смотреть, до такой степени ужасен был его вид, с блуждающим взглядом, с подергивающимся лицом, он бессмысленно повторял: «Феликс, Феликс, Феликс…»
Под монотонное бормотание рехнувшегося Юсупова Пуришкевич велел слугам принести материи, чтобы обернуть труп и связать его.
Юсупов потерял сознание.
Вернувшийся на авто Лазаверт осмотрел его и сказал, что теперь князь будет спать.
Пуришкевич велел ему подсобить слугам и втащить труп Распутина в крытое авто Дмитрия Павловича, но тут Лазаверту стало плохо, он отбежал в сторону, и его вырвало на снег. В перерыве между спазмами он сказал Пуришкевичу, что виновата его комплекция.
Дмитрий Павлович сам сел за руль. Они со штабс-капитаном и управились, скинув труп в полынью с Петровского моста.
Юсупов проснулся часа через три. Не без помощи Пуришкевича, который собрался уйти до рассвета. Он не сразу вспомнил, что произошло.
Пуришкевич велел Василию Ивановичу пожертвовать одной из дворовых собак.
В сарае было два пса, они должны были сторожить дом, но в ту ночь их не выпускали. Василий Иванович из револьвера Пуришкевича застрелил пса в сарае, потом вместе с Пуришкевичем, которому нравилось планировать и устраивать заговоры, протащили тяжелое кровоточащее тело пса по двору, где бежал Распутин, и бросили его в сугроб туда, где Распутин окончательно упал, добитый Пуришкевичем.
— Вы знаете ваш урок, — сказал Пуришкевич.
Юсупов стоял рядом, ежился на холоде в накинутой на плечи шубе. Казалось, он с трудом соображает, что же произошло.
Василий Иванович от имени остальных трех или четырех слуг, что собрались проводить хозяина, заверил Пуришкевича, что они сейчас же начнут замывать подвал и лестницу.
Тогда Пуришкевич взял Юсупова под руку и вывел его на набережную.
Пошел легкий искристый снежок, искорки легко порхали под фонарем. Извозчик вовсе не удивился, увидев пьяных загулявших господ. Пуришкевич отвез Юсупова до дворца Александра Михайловича, а сам поехал домой.
Юсупова встретил Федор, брат его жены. Федор был восторженным юнкером, который давно заподозрил, что Феликс занимается делами секретными и государственными. Феликс в свое время не удержался — в порыве откровенности признался юноше, что намерен убить Распутина.
Федор не спал всю ночь — он догадался, что Феликс совершит свой подвиг именно этой ночью.
Он встретил Феликса в передней. Он был бледен и курил не переставая.
— Слава Богу! — кинулся он к Феликсу. — Наконец ты… так что же?
— Распутин убит, — ответил Феликс голосом полководца, который только что разгромил Наполеона, — но больше я ничего тебе не скажу. Я смертельно устал и хочу спать.
Юсупов уснул без задних ног. Но в десять его разбудили.
Оказывается, его желал видеть у себя полицмейстер Казанской части генерал Григорьев по делу, не терпящему отлагательства.
Юсупов привел себя в порядок и вышел в кабинет, где его ждал генерал.
— Вы хотите спросить меня о ночных выстрелах в доме моих родителей? — спросил Юсупов.
Он был свеж, подтянут, доволен собой. Он сделал шаг в историю, и теперь его ничто не остановит. Но вести себя надо осмотрительно, неизвестно, как поведет себя императрица. Что она заставит сделать своего мужа? Потребуется ли мученик Новой России?
Мучеником Юсупов становиться не намеревался.
Генерал Григорьев был толст, потлив, собирался на пенсию, и для него визит к Юсупову был неприятен и опасен. Он тоже не знал, чем обернется дело, и его терзали самые мрачные предчувствия. Что бы ни случилось во дворце Юсупова, будут искать стрелочника. А когда ты так велик и толст, голубчик, то мимо тебя не промахнешься.
— Я хотел бы спросить вас, ваше сиятельство, — сказал Григорьев, — не был ли вчера ночью у вас в гостях Григорий Распутин?
— Распутин? — Юсупов был искренне удивлен. — Мы с ним знакомы, но чтобы он посмел явиться ко мне в дом? Нет, это исключено!
— История странная и даже загадочная, — сказал генерал.
— Вы расскажете мне, что случилось?
— К сожалению, долг повелевает мне сохранить служебную тайну.
— Но, может быть, вы сначала выпьете рюмочку коньяку, ваше превосходительство?
После рюмочки генерал помягчел — она стала как бы знаком того, что он пришел не в дом к подозреваемому, а посещает отпрыска одного из самых знатных и богатых родов империи.
— Представляете, Феликс Феликсович, — рассказал генерал. — Ко мне только что заявился пристав и поведал удивительную историю. Оказывается, он получил рапорт городового, что дежурит по соседству с вашим дворцом. И тот утверждает, будто с ним случилось вот что: он услышал ночью выстрелы, доносившиеся из вашего дома. Когда он прибежал туда, то его встретил человек, назвавшийся членом Думы Пуришкевичем, который признался, что Распутин убит, и взял с городового слово молчать об этом. Городовой утверждает, что также видел тело, но рассмотреть его не смог.
— И вы поверили в эту чепуху? — Юсупов был возмущен.
Он был на самом деле возмущен. Но не Пуришкевичем.
Да, мы все хотим войти в историю, но история не приемлет нахрапа. Неужели он себя уже видел российским диктатором? Такой диктатор может все погубить — в результате все мы окажемся в камере предварительного заключения и Пуришкевич будет вопить на весь мир о парламентской неприкосновенности, которую, к счастью, в России еще не придумали.
— Это прямо невероятная история, — возмутился Юсупов. — Ваш городовой — большой путаник. Позвольте я вам расскажу, как было дело.
Генерал послушно кивал — ему нужно было объяснение, он жаждал объяснения.
— У меня ужинали друзья. В том числе Великий князь Дмитрий Павлович, Пуришкевич и несколько офицеров. Когда гости разъезжались, я услышал два выстрела. Сбежавши вниз, я увидел собаку, лежащую на снегу. Оказывается, один из моих гостей решил дать салют в честь хозяина дома и, неосмотрительно выстрелив из револьвера, убил собаку.
Генерал Григорьев покорно качал головой. История с собакой была шита белыми нитками. Для того чтобы их увидеть, не надо быть жандармским генералом.
Юсупов, увлекшись, реакции генерала не почувствовал. В его воображении придуманная картина уже наложилась на действительную и вытеснила ее.
— Я вызвал городового, — продолжал князь, — чтобы объяснить ему причину. К тому времени гости разъехались, остался только Пуришкевич. Он и беседовал с городовым. Насколько я понимаю, он сравнил собаку со старцем и вслух пожалел, что убили собаку, а не Распутина. Вот ваш городовой, смущенный этими речами, и перепутал…
Генералу было грустно. Он уже не сомневался в том, что слухи о смерти Распутина в юсуповском дворце полностью подтверждаются неловкой ложью князя.
— Теперь мне все ясно, — сказал генерал. — Не скажете ли вы мне фамилии офицеров, которые были у вас в гостях?
— Поймите меня правильно, — ответил Юсупов. — Дело это пустячное, но может получить огласку в левых газетах. Мои друзья — люди семейные, их репутация может серьезно пострадать.
Генерал поднялся.
— Я доложу градоначальнику о ваших словах, князь, — сказал он. — Надеюсь, что недоразумение будет рассеяно.
— Я и сам хотел бы посетить градоначальника, — сказал Феликс. — И все ему рассказать. Спросите его, когда он сможет меня принять?
Генерал откланялся.
Федор ждал Юсупова в гостиной.
— Ну что? Они подозревают?
— Надеюсь, что я его запутал, — улыбнулся Феликс.
Федор был растерян.
— Я не совсем понимаю тебя, — сказал он. — Я думал, что, совершивши этот подвиг, ты, подобно Бруту, выйдешь к народу и провозгласишь себя убийцей тирана. Почему же ты молчишь и таишься?
— Тиран убит, — ответил Феликс после короткой паузы. — Наше дело сделано. Мы не стремимся к власти… К тому же Пуришкевичу как убийце может грозить опасность…
Зазвонил телефон, и Феликс поспешил к аппарату.
Он не смог объяснить Федору, что в самом деле находится в растерянности куда худшей, чем в момент убийства.
Не только Россия вела себя не так, как они ожидали, — ничего пока не произошло, так же дворники мели снег и шагали запасные роты к вокзалу, а в оперетке давали «Летучую мышь». Но и внутри себя Феликс не ощущал никакой радости, никакого торжества. Словно соблазнил горничную и теперь презираешь себя и ее. И боишься дурной болезни, и боишься, что узнает мать и выпорет тебя, и больше всего боишься любовника горничной, дворника Матвея. Сравнение было нелепым, слишком приземленным, но Юсупов не мог от него отделаться и даже украшал несуществующий адюльтер скоромными деталями.
Прошел буйный бой, охота, погоня, ощущение смерти — ты впервые убивал человека! И пришел тягучий страх. То, к чему Юсупов так стремился день назад, обернулось неожиданно страхом… И даже известно, когда наступил перелом, — когда он избивал мертвого человека дубинкой, когда из тебя, боярина в двадцатом поколении, вылез подлый трусливый мерзавец. И останется с тобой на всю жизнь. Ты уже не сможешь стать спасителем нации — истерика на лестнице останется с тобой навсегда.
Как только полицмейстер ушел, позвонила Головина.
— Что вы сделали с Григорием Ефимовичем? — закричала она, не здороваясь.
— Клянусь вам, я ничего не знаю!
«Ну почему я не сознаюсь сейчас? Через полчаса весь Петроград, весь мир будет знать имя человека, освободившего империю от проклятия».
— Вы клянетесь? — рыдала в трубку Маша Головина.
— Разумеется, клянусь.
— Тогда приезжайте и сами расскажите маман. Она умирает от ужаса.
Юсупов повесил трубку и, заложив руки за спину, принялся бегать по кабинету. Что делать? Скрыться? Уехать в Крым? Или вести линию полной невиновности? Тогда придется ехать к этим глупым курицам.
И поехал.
Его встретили слезами и запахом валерьянки.
Феликс подробно и терпеливо врал, уже сам начиная верить в убитую собаку и глупого городового.
Но государыня не находит себе места! Старец пропал!
Юсупов потребовал помощи куриц во встрече с Александрой Федоровной. Он хочет лично рассказать императрице всю правду.
Маша Головина бросилась к телефону и стала дозваниваться до Царского Села. Ей казалось, что если Феликс ни в чем не виноват, то старец найдется. Загулял где-то, уехал в Сибирь — все может случиться со святым человеком…
— Государыня согласна тебя принять! — радостно объявила она.
Юсупов уже был не рад, что напросился на встречу. Царица может разоблачить его.
И тут, на счастье или несчастье, позвонил телефон — из Царского!
Императрица сообщала, что посоветовалась с близкими людьми и категорически отказывается видеть Юсупова. И не верит и не будет верить ни единому его слову.
Феликс был уязвлен. Он хотел сказать правду! Маша тоже растерялась, ей хотелось верить Феликсу. Но когда он начал было говорить, что все равно поедет во дворец, сама же стала отговаривать, потому что боялась, что оттуда он уже не вернется.
Юсупов пошел домой пешком, благо недалеко. Через несколько шагов встретил однокашника по Пажескому корпусу, который радостно сообщил новость:
— Феликс, Распутина убили!
— Не может быть. Кто убил?
— У цыган. Ввязался в пьяную драку, кто-то из офицеров застрелил.
— Слава Богу.
Дома Юсупов узнал, что градоначальник генерал Балк согласен принять его у себя в двенадцать.
Балк был сдержан и неулыбчив, хотя они были с Юсуповыми знакомы домами.
Он расчесывал двойную бороду маленьким гребешком, кивал и молча слушал рассказ о собаке и пьяных друзьях. Потом неожиданно сказал:
— К сожалению, я должен попросить вас не покидать столицу. По указанию императрицы я должен произвести тщательный обыск во дворце Юсуповых. Надеюсь, вы не будете возражать отправлению правосудия?
— Буду! — вскинулся Юсупов. — Вы забываете, что моя жена — племянница государя и наше жилище как жилище члена императорской фамилии неприкосновенно. Пока не будет отдано распоряжение императора, никто не смеет войти в дом.
Балк не стал спорить. Ему менее всего хотелось впутываться в эту историю. Он обещал связаться со Ставкой и отпустил князя, который ринулся во дворец.
Юсупов оказался прав в своих опасениях. Несмотря на строжайший приказ камердинеру проследить за уборкой в подвале, Феликс без труда нашел пятна и следы крови и даже перламутровую пуговицу от рубахи Распутина. А на снегу пятен было еще больше. Пока Василий Иванович мыл пол в подвале, Юсупов с помощниками забрасывал снегом красные пятна на снегу.
Убедившись, что дома все в порядке, Юсупов помчался к Дмитрию Павловичу. Оставаться одному было невмочь.
Дмитрий Павлович принял Юсупова с радостью — ему тоже было одиноко без подельщиков; штабс-капитана Васильева и доктора Лазаверта он приглашать не мог или не хотел, Пуришкевич готовил на вокзале свой санитарный поезд, на котором должен был вечером отбыть на фронт, так что Юсупов был единственным возможным собеседником.
Дмитрий Павлович уже подробнее рассказал, как они топили труп Распутина. Он был завернут в синюю материю и связан веревками. В машине оказалась шуба старца, его сапоги и шапка. Дмитрий Павлович потребовал было, чтобы вещи отвезли к Лазаверту и сожгли, но когда доктор взбунтовался, шубой обмотали ящик с инструментами. Шубу кинули в прорубь, ящик вывалился из нее, и шуба не хотела тонуть, закрыв почти всю черную гладь проруби.
Они вытащили из машины и перевалили через перила моста синий сверток, страшно тяжелый и неподатливый. Говорили шепотом, боялись разбудить часового в будке, на том конце моста. Труп ушел в воду и потянул за собой шубу. Вроде бы обошлось.
Но мотор застыл и долго не заводился. Великий князь, Лазаверт и Васильев по очереди крутили ручку, солдат даже проснулся, выглянул из будки, и видно было, как он стоит под дальним фонарем и вглядывается в темноту…
Юсупов договорился с князем, что они будут держаться своей версии о случайных выстрелах и собаке, потом Юсупов пошел во дворец тестя.
Новости были неприятными.
Оказывается, во дворце побывала полиция. Снимали допрос со всех слуг и выясняли, когда Юсупов уехал из дому и каким он вернулся под утро.
Ничего опасного для Феликса в этих допросах не было — хуже был сам их факт. Кто-то посмел нарушить неприкосновенность жилища самого Александра Михайловича, несмотря на то что Балк поклялся никого без распоряжения императора не посылать.
А вдруг уже есть распоряжение императора?
Юсупов не мог сидеть дома и ждать событий. Он предпочел их опережать. Через полчаса он был уже в Министерстве юстиции у Макарова с протестом против действий полиции.
Министр Макаров, с седой бородкой, мягким голосом и округлыми движениями маленьких рук, был слишком вежлив. Юсупов еще раз повторил свой рассказ о прошедшей ночи и попросил разрешения покинуть вечером Петроград и отправиться в Крым, в Ай-Тодор, где его ждет молодая жена. Макаров сказал, что не видит препятствий к отъезду.
Затем Юсупов побывал у председателя Думы Родзянки, который уже знал правду или догадывался о ней, потому что горячо обнял Юсупова и стал шептать нечто нежное о спасении нации. На прощание он заявил, что Родина Юсупова не забудет.
Можно было ехать домой собираться к отъезду.
Вроде бы все обстояло хорошо, главное сейчас — скрыться из Петрограда и отсидеться в Крыму. Благо тело Распутина не нашли, и Дмитрий Павлович полагает, что его уже вынесло течением реки в залив.
Федор поехал провожать Феликса на вокзал. В автомобиле он спросил, не боится ли тот ареста.
— Нет, — уверенно ответил Феликс. — Сам министр юстиции разрешил мой отъезд.
Он уговаривал себя и Федора, хотя боялся, что все сорвется. На вокзале они увидели полицейских. Слишком много полицейских для обычного вечера.
— Меня торжественно провожают, — сказал Юсупов, и голос его дрогнул.
До поезда дойти они не смогли.
В зале их встретил жандармский полковник, который сообщил, что князю Феликсу Юсупову запрещено покидать столицу, он должен вернуться в дом Великого князя Александра Михайловича и оставаться там под домашним арестом. Это повеление Ее Величества.
Тем же вечером государыня своей властью задержала всех участников покушения, что говорило о немалой осведомленности полиции и правительства.
Весь Петербург горячо обсуждал обстоятельства гибели Распутина, колесо раскручивалось, восторженные дамы и пьяные полковники звонили Юсупову, в воображении которого уже разыгрывалась его казнь на Сенатской площади и для которого роль спасителя нации уже потеряла привлекательность. Лучше бы уехать в Крым без визита к Макарову!
Заговорщикам, которые все же рассчитывали на то, что Распутина не отыщут, сильно повредила экзальтированная сестра императрицы Елизавета Федоровна, мужа которой, брата царя Сергея Александровича, убили революционеры. Впрочем, никто в России его не жалел. Елизавета Федоровна, полагавшая, что Распутин — слуга дьявола, давно уже рассорилась с сестрой. Узнав об исчезновении Распутина, а также об участии в его убийстве Дмитрия Павловича, она не придумала ничего лучше, как послать Великому князю поздравительную телеграмму с просьбой передать ее благодарность Феликсу Юсупову. Протопопов велел снять с телеграммы копию и передал ее императрице, которая решила, что Елизавета — участница заговора и, может быть, его руководительница.
Одной цели Юсупов уже добился. Если неделю назад он был на периферии внимания двора, то теперь все Великие князья и княгини, находившиеся в оппозиции к Александре Федоровне, считали своим долгом поговорить с Феликсом по телефону и справиться о его здоровье.
Частым гостем у Юсупова стал Великий князь Николай Михайлович, либерал и ученый, глава семейной оппозиции Николаю, полагавший, что его племянник ведет страну к катастрофе. Почтенный старец рассказывал Феликсу новости и вел себя как родной дядя. Он же и поведал Юсупову самое страшное: императрица требует немедленной казни Юсупова и Пуришкевича и тяжкого наказания для Великого князя. Протопопов уговаривает ее подождать возвращения императора из Ставки, куда уже направлена телеграмма. Тот же Николай Михайлович добавил, что по получении известия о смерти старца государь возрадовался и говорил приближенным, что наконец-то освободился, что готов наградить убийц… Впрочем, Николай Михайлович и сам до конца не верил последней версии, но полагал ее полезной. Пускай Юсупов надеется на лучшее. Мы не дадим тебя в обиду!
19 декабря из Ставки приехал государь.
Он проехал прямо в Царское Село и никого не захотел видеть. Надежды Николая Михайловича развеялись как дым.
Государь заперся с женой.
В доме Александра Михайловича собрались почти все члены царского семейства. Это была демонстрация поддержки Юсупову.
Нигде, кроме официальных приемов во дворце, он не видел стольких Романовых сразу.
Великие князья не расходились, они как бы закрывали своими телами молодого спасителя нации.
Юсупов повеселел. Его мечты начинали сбываться.
Николай Михайлович заявил во всеуслышание, что именно таким, как Феликс, он видит министра внутренних дел.
— Нет, премьера! — крикнул князь Федор.
— Может, и премьера.
И тут зазвонил телефон.
Это было подобно финальной сцене в «Ревизоре». Сообщили, что только что найдено тело Распутина.
Один из агентов полиции случайно увидел на Петровском мосту «черную калошу № 11 черного цвета, покрытую свежими пятнами крови». Он доложил своему начальнику, и калошу отправили домой к Распутину, а мост осмотрели. На нем нашли следы автомобильных шин и многих ног. Причем следы шин тянулись до самых перил моста.
Тогда поиски тела Распутина в доме Юсуповых были прекращены, и полицейские кинулись к мосту.
Сам министр юстиции и петроградский прокурор прибыли на мост.
Там агенты показали чинам новую улику — на перилах моста в одном месте снег был сброшен, словно через них в реку переваливали нечто тяжелое.
Были вызваны водолазы. Два часа они ныряли возле моста, ничего не нашли и заявили, что если тело и было, его унесло в залив, так как течение Невы в том месте весьма быстрое.
Но в тот момент один из полицейских, что бродили внизу по льду, высматривая, нет ли там еще какой-нибудь улики, увидел в щели между льдинами рукав шубы.
Тут же начали рубить лед у того места. Стоял сильный мороз, но никто не уезжал с моста, даже старенький Макаров.
Работали энергично, и через пятнадцать минут во льду была пробита новая полынья, а из воды извлекли примерзший ко льду снизу труп Распутина.
Тело старца было обезображено — видно, перед смертью его жестоко пытали. Руки и ноги туго стянуты веревкой.
Тело перенесли на берег и заперли в дровяном сарае.
Через некоторое время к Петровскому мосту прибыли министр внутренних дел Протопопов и начальство Охранного отделения. Прокурор Галкин начал снимать протокол наружного осмотра трупа. Судебный врач показал, что в теле Распутина находятся две пули — одна в области груди, другая в шее. Оба ранения смертельные.
После этого тело отвезли в Чесменскую богадельню и начали вскрытие. Но вскоре по приказу императрицы вскрытие было прекращено, тело старца облачили в монашескую одежду, положили в богато убранный гроб и увезли в неизвестном направлении.
А между тем почти все газеты писали о смерти Распутина в восторженных тонах, утверждая, что теперь наконец-то положение на фронтах переменится к лучшему, взяточничество и разврат прекратятся, страна в едином порыве рванется к новым победам.
Под разными предлогами в церквях служили благодарственные молебны. А в театрах после представления публика требовала государственного гимна и даже повторения его на бис. И все понимали, почему играют гимн и почему в столь горячем порыве вся публика смахивает нечаянные слезы радости.
Два дня никто не знал, что происходит за стенами дворца в Царском Селе. Даже ближайшие родственники царя, жаждавшие открыть ему глаза на истинную суть событий, были лишены такой возможности.
Утром 21 декабря в Петербург примчался шурин царя, командующий авиацией адмирал Александр Михайлович, тесть Феликса Юсупова. Он просил аудиенции и получил ее.
Николай любил своего кузена Сандрика, веселого и доброго. Александр Михайлович был олицетворением человеческих черт, которых столь не хватало императору.
Александр Михайлович просил о снисхождении к убийцам, мотивируя свое заступничество интересами страны. Он доказывал, что жестокое наказание отвратит от царского дома подданных императора, и без того недовольных тем, что олицетворял Распутин. Александр Михайлович отыскал какие-то слова, что перевесили аргументы императрицы.
Выслушав Сандро, государь отпустил его, а сам, несмотря на жгучий мороз, со всей семьей отправился хоронить Распутина, о чем никто не узнал.
В своем дневнике от 21 декабря император записал:
В 9 ч. поехали всей семьей мимо здания фотографий и направо к полю, где присутствовали при грустной картине: гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17-е дек. извергами в доме Ф. Юсупова, кот. стоял уже опущенным в могилу. Отец Ал. Васильев отслужил литию, после чего мы вернулись домой. Погода была серая при 12° мороза. Погулял до докладов. Принял Шаховского и Игнатьева. Днем сделал прогулку с детьми. В 4 1/2 принял нашего Велепольского, а в 6 ч. Григоровича. Читал.
Александр Михайлович привез приказ императора с наказаниями для участников заговора:
Дмитрий Павлович отправляется на Кавказский фронт в распоряжение генерала Братова. Поезд Великого князя должен был отойти в два часа ночи.
Юсупову было предписано немедленно отправляться в Курскую губернию в имение Ракитное. Его поезд отходил в ту же ночь.
Через два дня в Ракитное прибыл Александр Михайлович, демонстрируя этим солидарность с преступным зятем, а затем приехала и Ирина, которая жалела лишь о том, что не была в Петербурге в ночь убийства.
Убийство Распутина ничего не дало — ни убийцам, ни врагам, ни сторонникам старца.
Может быть, даже ускорило распад России, ибо показало еще раз бессилие царской власти, неспособной защитить своих друзей и наказать врагов.
Юсупов провел в Ракитном всего два месяца.
Зима была холодной, скудной и злой.
«Настроение в столице, — сообщало Охранное отделение в середине февраля, — носит исключительно тревожный характер. Циркулируют в обществе самые дикие слухи… все ждут каких-то исключительных событий и выступлений как с той, так и с другой стороны».
24 февраля Охранным отделением было сообщено для сведения полицейских приставов: «23 февраля с 9 часов утра, в знак протеста по поводу недостачи черного хлеба в пекарнях и мелочных лавках, на заводах и фабриках Выборгской части начались забастовки рабочих… в течение дня прекращены работы на 50 предприятиях, где забастовали 87 534 рабочих».
К вечеру 24 февраля бастовало больше 150 тысяч рабочих, а солдаты, которых посылали разгонять демонстрации и митинги, начали отказываться стрелять.
Император отправил командующему Петроградским округом генералу Хабалову телеграмму:
25 февраля. 21 час. В генеральный штаб. Хабалову. Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией.
Николай.
Глава 2
Март 1917 г
Дело об убийстве Сергея Серафимовича Берестова и его служанки Глафиры Браницкой не было закрыто, но после исчезновения основного подозреваемого оно пылилось на полке в железном шкафу следователя Вревского. Там же лежало дело о смерти Тихона Денисенко и дезертирстве Бориса Борзого. Иной следователь на месте Вревского с облегчением выкинул бы из памяти мертвый груз, но во Вревском было нечто от бульдога — раз сомкнув челюсти, он с трудом мог отпустить добычу. И неудивительно, что в один из последних своих дней в Ялте он достал дела из шкафа, перелистал и вызвал к себе все еще служившего в Феодосии прапорщика из вольноопределяющихся Николая Беккера. Но так как не был убежден в полной непричастности Беккера к давним событиям, то обставил вызов как формальность, связанную с закрытием дел.
В конце февраля 1917 года Беккер поднялся в кабинет на втором этаже. И сразу узнал комнату — ничего не изменилось, только стены стали еще темнее да больше пыли в углах, куда, видно, не доставала щетка уборщика. Тот же стол справа от двери, та же лампа под зеленым абажуром и такой же Александр Ионович. Следователь приподнялся при виде Беккера, показал ему на стул, но руки протягивать не стал, показывая этим, что находится при исполнении обязанностей.
Усевшись по другую сторону стола, Беккер понял, что изменения, хоть и небольшие, коснулись и следователя. Он несколько обрюзг, его желтоватый бобрик стал короче — как у немецкого маршала Гинденбурга, от чего лицо казалось еще более грубым, чем раньше.
Вревский объяснил Беккеру, что вызов связан с закрытием дел, так как следователь отъезжает в Киев.
Затем Вревский осведомился, хорошо ли Беккер доехал, как дела в Феодосии, где следователь не был уже полгода.
Беккер сказал, что в Феодосии за всем очереди — ни крупы, ни сахара. Хорошо еще, что большинство обывателей имеет свое хозяйство и потому поддерживает жизнь плодами труда своих рук.
— В Петрограде совсем плохо, — сказал следователь. — Вы читали о забастовке женщин? Да-да, двадцать третьего жены рабочих вышли на улицы — там буквально голод.
— Я не видел последних газет. Почему они не объявят военное положение?
— А наше российское авось? Я думаю, что на самом верху также полагают, что обойдется. Ведь обходилось раньше…
— Не могу согласиться с вами, — сказал Беккер. — Всегда должны находиться люди, которые берут на себя ответственность. Подобно князю Юсупову.
Вревский с интересом рассматривал Беккера, отмечая для себя мелкие частности, незаметные не столь тренированному глазу. На длинных несильных пальцах, хранящих следы загара, две белые полоски. Значит, перед поездкой в Ялту Беккер предпочел снять перстни, которые обычно носил. Не хочет показывать следователю, что богат? А вот материал, из которого пошит мундир, хорош! Даже хочется пощупать сукно…
— Князю Юсупову, женатому на Великой княжне Ирине Александровне, было спокойно идти на уголовное преступление, — сказал Вревский, — он знал, что ненаказуем.
— Вы сочувствуете Распутину?
— Я сочувствую закону. Не жертве, нет. Жертва может быть отвратительна. Но закон должен соблюдаться. Иначе в государстве наступит хаос.
Вревский поднялся, повернул ручку плохо покрашенного железного шкафа, достал с верхней полки две синие папки, вернулся к столу и положил их рядом, так что получился синий квадрат.
— Ну что ж, — сказал он. — По правилам я должен передать эти папки другому следователю…
— Когда вы уезжаете?
— В марте возвращаюсь в Киев. Но другого следователя нет. Некому заниматься этим делом. Хотя как юрист и как сыщик я жалею… искренне жалею. Дело фактически закрыто.
Беккер чуть откинулся на стуле, будто сообщение о закрытии дела принесло ему облегчение.
— Эти два дела, как вы отлично знаете, тесно связаны, — сказал Вревский.
Он положил короткопалую ладонь на правую папку: «Дело об убийстве г-на Берестова С.С. и г-жи Браницкой Г.Г. неизвестными лицами».
— Это первая половина загадки, — сказал следователь и перенес ладонь на вторую папку, на которой тем же писарским почерком было написано: «Дело о без вести пропавших солдатах феодосийской крепостной артиллерийской команды Денисенко Т.И. и Борзом Б.Р.». — А это вторая.
— Жалко Андрея, — неожиданно сказал Беккер.
— Ах да, вы же вместе учились, — с попыткой сочувствия произнес Вревский. — Вы даже приятельствовали.
— Да, я любил Андрея. Он был добрым, совершенно безобидным юношей. Знаете — это я познакомил его с Лидой Иваницкой…
— Он был добрым и безобидным… — задумчиво повторил следователь. Он встал и еще раз повторил: — Он был добрым и безобидным! А я ведь не исключаю, что отчима и его служанку убил ваш друг.
Набычившись, Вревский смотрел на Беккера, словно перед ним был Андрей Берестов. Потом отвернулся к окну и сказал куда спокойней:
— Старались, спешили, планировали побег!
— Побег? — удивился Беккер. — А разве не установлено со всей очевидностью, что Лида покончила с собой?
— Нет, не было это установлено, — отрезал Вревский. Он отошел к окну и стал смотреть вниз, сплетя пальцы рук за спиной. И Беккер зачарованно смотрел, как сплетаются и расплетаются пальцы.
— Но ведь даже вещи… я помню, что море выкинуло вещи. Я читал, — сказал Беккер.
— Как раз эти вещи и убедили меня в обратном. — Вревский обернулся к Беккеру, опершись ладонями о край узкого подоконника. — Именно эти вещи — клочок кружева, заколка, туфелька Золушки — столь растрогали прессу и общественное мнение, что все убедились: следователь Вревский — чудовище, затравившее бедных возлюбленных.
— Честное слово, я не понимаю…
— Сейчас поймете! Конечно, какие-то вещи могло сорвать волнами с тела утопленницы. Но уж очень удачно все эти вещи оказались на оживленном пляже. И были узнаваемы!.. Я был зол, что меня одурачили. И я рассудил: если туфелька подброшена, значит, вторая спрятана — куриные мозги гимназистки додумаются до того, что туфелька должна быть одна, но не додумаются надежно спрятать вторую. Знаете, что я сделал? — Вревский плотоядно усмехнулся — он вновь переживал момент своего торжества — победу логики над уступившим ему умом жертвы. — Я послал полицейских проверить помойные баки вокруг дома Иваницких. Так просто! Особенно по тем дорогам, что вели к морю. И уже к полудню мне принесли вторую туфельку. Просто?
— Дедуктивный метод?
— Профессия, голубчик, профессия. В нашем деле не обойтись без собачьего нюха. Я ничего не должен брать на веру.
— Значит, вы подозреваете все человечество?
— Недостойную его часть.
— Вы опасный противник, господин Вревский.
— Еще какой опасный! Вы и не подозреваете! Если бы не загруженность делами и нежелание возиться месяцами без ощутимых достижений, я бы внимательнее пригляделся к вам.
— Ко мне?
На красивом, несколько огрубевшем и потерявшем юношеский пушок и юношескую мягкость черт лице Беккера отразилось удивление.
— А вы подумайте: пропавшие солдаты — из вашей команды. Оба ваши земляки. К тому же вы совершаете, на мой взгляд, совершенно нелогичный поступок: вдруг даете показания против вашего гимназического друга, которые могут послать его на виселицу. Именно вы, а не кто другой.
— Я никаких показаний не давал!
— Давали, голубчик, давали. Именно от вас, и только от вас, я узнал, что Берестов был замечен в компании Денисенко и Борзого в Симферополе.
— Я и не подозревал, что мои слова могут повредить Берестову.
— Ах, святая наивность! Один солдат убит, при нем найдена похищенная шкатулка. Пустая. Второй солдат в бегах. А вы ни о чем не подозреваете.
— Я не знал, что Берестов связан с этим делом!
— А теперь знаете?
— Не ловите меня на слове! Я не знал, не знаю и знать не намерен.
— Но Берестова в обществе преступников видели?
— Я ничего не придумал! Маргарита Потапова может подтвердить!
— Она подтвердила, — сказал рассеянно Вревский, глядя в окно, и Коля не поверил равнодушию следователя. Внутри все сжалось от нехорошего предчувствия.
— Вы ей написали? — спросил Коля, чувствуя, как неестественно звучит его голос.
— Разумеется, — ответил следователь, не глядя на Колю. — Тогда же, когда вы дали свои показания.
Он резко повернулся к Коле и вперил в него тяжелый взгляд.
— Мой долг — проверять сомнительные показания.
— Почему сомнительные? — «И зачем я ввязался в этот разговор, — проклинал себя Коля. — Лучше было бы мне промолчать».
— Потому что они вызвали во мне новые подозрения.
— А почему вы молчали? — нашелся Коля. — Два с лишним года молчали?
Вревский тяжело положил ладони на синие папки.
— Кончим об этом, — произнес он. — Этот разговор никуда не приведет. И те сведения, которые я получил касательно вас, тоже останутся здесь. — Вревский стукнул ладонью по папке. — Из тяжких преступлений, дай Бог, только каждое пятое раскрывается. И то по глупости обвиняемых. Вы же не дурак.
Беккер готов был изобразить негодование — он истинно испытывал негодование. Но потом понял, что следователь ждет именно негодования. Беккер стиснул зубы, глядя на железный сейф.
— Молчите? — сказал Вревский с разочарованием. — И правильно делаете — сколько мы узнаем, когда подозреваемый возмущен!
— Я полагал, что я свидетель.
— Свидетели вон там, по улице ходят. А все, кто попадает ко мне сюда, подозреваемые. И не думайте, что вы — исключение.
Они сидели друг против друга, как старые знакомые, которым не о чем более беседовать, но которые не расстаются, потому что испытывают взаимную неловкость — кто-то должен оказаться менее вежливым и подняться первым.
— А какова судьба Лиды? — спросил после тягучей паузы Беккер. — Вам о ней что-нибудь известно?
— Я был убежден, что они бежали на лодке. Но на море в тот вечер поднялся жестокий шторм. Несколько рыбачьих лодок было опрокинуто. Я полагал, что судьба догнала Берестова и Иваницкую. И искренне удивился, узнав, что этой осенью Берестов объявился в наших краях.
— Андрей не заслужил смерти!
— Что ж — стремясь уйти от одного наказания, мы находим себе другое, куда более жестокое. Не убежал бы Берестов, был бы жив.
— А как он погиб? Я слышал от общих знакомых, но не знаю подробностей.
— Случайный выстрел комендантского патруля.
— А что известно о Лиде Иваницкой?
— Возможно, она мертва. Но так не хочется закрывать следствие!
— Что же вас удерживает?
— Интуиция… нет, не интуиция. Опыт. Я почти уверен, что в самое ближайшее время многое изменится. Произойдут события, которые помогут нам узнать правду. Ведь не бывает идеальных, совершенных преступлений, как не бывает красавицы без изъяна.
— Ну уж тут вы преувеличиваете! — Беккер потерял первоначальную настороженность, как бы развел руки в боксе, забыв о коварстве противника.
— Почему же? Если я вижу совершенную женщину, то думаю, каким же образом ей удалось скрыть неведомый мне пока изъян? И проверяю — не длинна ли ее юбка, не слишком ли густа вуаль?
— А кого вы имеете в виду?
— Вам обязательно нужно, чтобы я кого-то имел в виду? Я могу признаться — но ведь это ничего не изменит.
— Мне любопытно.
— Любопытство не просто порок, но и опасный порок. Допустим, что совершенная красавица под слишком густой вуалью для меня вы, прапорщик. Порой я думаю, что если бы я не увлекся Берестовым, то куда большего достиг бы, обратив внимание на вас.
— Еще не поздно, — сказал Беккер, проводя пальцем по усикам. Жест получился опереточным.
— Не знаю, не знаю, — вздохнул Вревский. — Уж больно времена ненадежные…
— Вы боитесь будущего?
— Я русский человек, — сказал Вревский. — Авось обойдется. Авось государь придумает наступление или французы возьмут Берлин… Впрочем, даже если в нашей богоспасаемой России будет бунт… Следователи и палачи нужны любому режиму.
— На ваше место может оказаться немало желающих.
— Хватит, Беккер. Потрепали языками, и хватит, — сказал Вревский тоном, которому не возражают. — Перейдем к делу.
Они говорили до обеда. Впрочем, это был не разговор — это был допрос, однообразный, ходящий по кругу, изматывающий жертву. Беккер чувствовал, что он теперь жертва, и ненавидел Вревского за эту жестокость и Андрея за то, что тот погиб, избегнув уготованной ему судьбы и как бы подставив на свое место Колю.
Но еще более удивило Колю то, что в разговоре с постоянством, исключающим случайность, стало упоминаться имя Маргариты. Коля был убежден, что Вревский никак не связывает ее с этими событиями, да и не было к тому оснований. Так что же тогда произошло, неизвестное Коле и, может быть, опасное для него?
Ничего, видно, не добившись от Беккера, проголодавшись, Вревский объявил, что прерывает разговор до понедельника 6 марта и просит Колю не отлучаться из Ялты либо возвратиться туда с утра в понедельник.
27 февраля был последний день империи. Со следующего дня, оставаясь еще императором, Николай уже был бессилен что-либо сделать.
Да и решения его кажутся сегодня робкими, как у больного, который старается убедить себя, что все обойдется, что все не так уж и страшно… В тот же день император написал своей жене: «После вчерашних известий из города я видел здесь много испуганных лиц. К счастью, Алексеев спокоен (Алексеев — начальник штаба верховного главнокомандующего), но полагает, что необходимо назначить очень энергичного человека… Беспорядки в войсках происходят от роты выздоравливающих, как я слышал».
Рота выздоравливающих — нелепый, наивный бабушкин слух — возникла в соображениях императора уже после того, как Родзянко телеграфировал из Думы:
«Правительство совершенно бессильно подавить беспорядок. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом… Гражданская война началась и разгорается».
Командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов сообщал, что потерял контроль над столицей и верных войск у него не осталось. В Ставке решили сменить генерала и послали Иванова с полком георгиевских кавалеров, словно надеялись ковшиком вычерпать море.
Следом двинулся император. Рано утром поезд поехал к Петрограду, император намеревался взять судьбы страны в свои руки и отправить в казармы мифическую роту выздоравливающих.
Но железная дорога была в руках восставших. Царский поезд после нескольких неудачных попыток прорваться к Петрограду повернул на Псков и замер.
Там царь уже более получал телеграммы, чем посылал их. Он покорно брал ленты, выползавшие из аппаратов. Телеграфировали командующие фронтами:
Великий князь Николай Николаевич требует передачи престола наследнику.
Генерал-адъютант Брусилов умоляет отказаться от престола!
Генерал-адъютант Эверт предлагает передать власть Государственной думе.
В Петербурге верноподданные вожди Думы метались между вариантами власти, стараясь спасти видимость империи, — престол предполагалось отдать Михаилу. Гучков и Шульгин поехали в Псков принимать у царя отречение. В Таврическом дворце заседал уже Петроградский Совет рабочих депутатов во главе с Чхеидзе.
Когда император в своем вагоне подписал Акт об отречении от престола, он сказал окружающим, что хочет попрощаться с матерью и потом уедет на юг, в Крым.
На следующий день, понимая, что революция зашла слишком далеко и сама идея монархии умерла, Михаил также отрекся от престола, и власть перешла к Временному правительству во главе с князем Львовым, представлявшим в Думе Всероссийский земский союз, организацию, что, в частности, заботилась о больных и раненых солдатах и была императором нелюбима.
Министром юстиции в правительстве стал стриженный бобриком трудовик Керенский.
В считаные дни революция победила во всей стране — потому что, как оказалось, империю защищать было некому.
Император еще несколько дней провел в штабном вагоне в Могилеве. 4 марта из Киева приехала его мать. Погода держалась морозная, но император много гулял.
7 марта новыми властями императору было велено переехать под охраной в Царское Село, там воссоединиться с семьей и ждать дальнейших распоряжений.
Все вокруг совершали поступки. Дурные или отважные, трусливые или талантливые. Император не был способен на поступки. Он ждал обстоятельств, не пытаясь воздействовать на них.
Государя искренне и глубоко обижало то, что он так сразу стал никому не нужен. Даже из газет вылетели упоминания о нем, вытесненные актуальными новостями и реальностью политической борьбы. Поэтому, возвращаясь поездом в Царское Село, Николай Александрович мечтал о торжестве справедливости, о верных долгу и присяге генералах, адмиралах и простых обер-офицерах. Эти люди обязательно соберутся с силами и защитят империю.
В Царском Селе его встретили «душка Аликс и дети», все здоровые, кроме Марии, у которой еще не прошла корь.
Свобода никогда не приходит сразу, в окончательном, порой страшном в своей окончательности виде. Ее первые шаги сегодня пугают своей смелостью, но кажутся микроскопическими уже через неделю.
Существует определенный стереотип развития свободы.
Сначала (этот шаг может быть неожиданным для обывателя) происходит формальный момент революции. Голодные и недовольные выходят на улицу, потому что рассчитывают стать счастливыми.
И они штурмуют Бастилию. Или свергают русского императора.
Бастилия взята. Революция победила. Всем кажется, что свобода безгранична — ничего подобного ранее не случалось.
Император превращается в простого гражданина, а в стране формируется первое правительство.
Правительство тут же начинает подвергаться давлению слева, потому что ожидание сочных плодов революции сменяется растущим разочарованием.
Верноподданные Родзянки и Шульгины недолго удерживаются у власти, потому что эти революционеры недостаточно революционны.
Проходит полгода со дня светлой революции, и она уже никому не кажется светлой и победоносной. Отречение Николая было напечатано на машинке, отречение его брата Михаила написано от руки. Михаил призывал уже не к улучшению монархии, а к победе Временного правительства Думы. Вскоре ореол легитимности, окружавший монархов, исчезает. Романовы и граждане Капеты становятся обычными заключенными в обычных тюрьмах.
Революции катятся к демагогии и жестокости.
После законопослушных Родзянок у власти несколько месяцев держится куда более левый Керенский, но в октябре он уступает главенство большевикам. Революция озверевала, упившись кровью. Диктатура пролетариата далеко превзошла террор французских якобинцев, но суть движения была одинаковой. И даже казнь монархов, включая членов семей, — знак революционной трусости диктатур: ибо все диктатуры и диктаторы мира едины страхом лишиться власти и погибнуть, и страх этот исходит от того, что они мерят подлость противников собственной подлостью.
Но главное сходство революций в том, что через полгода после их начала любой человек, попавший в их тенета, в силу того только, что жил в городе или стране с такой неладной судьбой, с умилением и ностальгией вспомнит первые недели революции, когда она, как веселая распутная дева, шла по улицам и полям, а гробы с первыми жертвами несли по центральным улицам на вытянутых руках и пели скорбные марши. И революция не только брала, брала, брала, но и обещала дать или даже что-то давала.
В первые дни любой революции раскрываются двери тюрем, выходят на волю заключенные. Даже карманники в такие дни полагают себя жертвами политического террора и надевают алые банты. В первые дни революции самые главные враги народа — полицейские и тюремные стражники. Некоторых из них убивают. Остальные переодеваются в штатское и ждут момента, когда их услуги понадобятся снова. Так и случается, потому что раскручивающейся машине революционного террора необходимы специалисты заплечных дел.
Но упаси Боже попасть полицейскому на глаза революционной толпе в первый, светлый день революции!
…В Ялте громили здание суда и полицейские участки.
Всем уже было ясно, что в России произошла революция, что она необратима, что царя более нет, и, помимо хождения по городу с красными бантами или повязками, следовало принять меры по вещественному оформлению революции. Надо было оставить потомкам некое революционное действие, которое будет внесено в учебники истории.
Штурм здания суда с последующим сжиганием дел был в интересах вовсе не революционеров, дела которых были пропуском в бессмертие и должны храниться в музеях, а тем лицам, которые не хотели, чтобы свободные потомки когда-то узнали о слабости духа, продажности, предательстве лиц, числившихся в революционерах. Эту точку зрения разделяли и уголовники, которые понимали, что их делам лучше бы и не существовать. Власть всегда власть — спохватится, снова посадит.
В толпе, что собиралась с утра возле здания суда в Ялте, заводилами были именно уголовники, а может, и тайные полицейские агенты, хотя они вперед не лезли, а шумели из недр толпы.
Ввиду того, что у народа, собравшегося на кривой площадке, еще не было опыта брать штурмом государственные учреждения, то должно было пройти некоторое время, прежде чем штурмующие разгорячатся достаточно для поступков. Так что вначале получился очередной митинг, на котором выступала чахоточная студентка Чернякова, не пропустившая за последние три дня ни одного митинга — ни дневного, ни ночного. Разумеется, до революции она не сталкивалась с ялтинской полицией, ее дела в суде не было, и ее требования разобрать по кирпичику этот символ монархического произвола были бескорыстны. Затем долго говорил гимназист восьмого класса, прирожденный оратор, но дурак. Попытался выступить Косичкин от Городской думы, но его быстро выгнали — толпа постепенно накалялась, потому что дело двигалось к обеду и многим пора было уходить, но без настоящего события уходить не хотелось.
Беккер, стоявший на дальней окраине толпы, вроде бы и принадлежал к ней, и в то же время оставался только свидетелем, несколько раз поглядывал на часы, стараясь мысленно поторопить революционеров, — нетерпение и надежда пробраться в здание суда смешивались с желанием не пропустить дневного пароходика на Феодосию.
В тот день он еще думал, что вернется в свою часть.
Покинув после разговора с Вревским здание суда и прочтя газеты, Беккер понял, что в Петрограде в самом деле бунт превратился в революцию, получая тем самым индульгенцию от истории.
Последующие три дня он провел в нервной нерешительности, разрываясь между желанием сесть на пароход и вернуться в Феодосию либо укрыться на Кавказе в надежде, что после революции никто никогда не вернется к делу об убийстве Берестова-старшего. Но в то же время Беккер боролся с этим желанием, понимая, подобно простому уголовнику, что дело, лежащее в сейфе, всегда остается бомбой замедленного действия, и тем более опасной бомбой, раз Беккеру неизвестно, что же известно Вревскому. Беккер понимал, насколько важно для его будущей жизни прочесть содержимое двух синих папок.
Сейчас, стоя позади толпы, Беккер придерживал под шинелью большой гвоздодер — он заранее подготовился к сегодняшнему дню.
Надежда, приведшая Беккера на площадку перед судом, зиждилась на том, что газеты и телеграммы со всех сторон России сообщали именно о нападениях революционеров на суды и полицейские участки. В последние два дня люди приходили к суду и искали приготовлений к штурму. Не увидев приготовлений, уходили домой. А вчера наконец-то матросы и солдаты, а также рыбаки из соседних мест разгромили тюрьму и выпустили заключенных. Заключенные были большей частью контрабандисты и мошенники, а также дезертиры, не поместившиеся на гауптвахте. Узнав об этом, Беккер предположил, что нападение на суд и полицию состоится завтра, ибо местный темный люд с разгромом тюрьмы обрел настоящих вождей.
Беккер не ошибся. Толпа собралась с утра, но все никак не решалась на штурм ялтинской Бастилии, теряя время в спорах и призывах, а Беккер боялся, что из Симферополя пришлют жандармов и толпу разгонят.
К счастью для Беккера, проголодавшаяся толпа решила все же пойти на штурм. Начал его подросток в смятом цилиндре, обтянутом красной тряпкой. Его как бы выбросило из толпы, и он легко, почти не касаясь башмаками ступенек, взбежал к дверям затаившегося дома.
Сразу все замолчали, а Беккер сделал шаг назад, ближе к углу дома, понимая, что, если начнется стрельба, он успеет спрятаться.
Парень в цилиндре начал бить кулаком в дверь. Удары получились негромкие, они таяли в зимнем воздухе, разозленные шумом вороны поднялись с деревьев и летали, каркая, над площадью.
— Молчат! — закричал парень, оборачиваясь к напрягшейся толпе. — Трепещут народного гнева!
Толпа ответила утробным гулом, чтобы еще более испугать врагов народа, засевших за толстыми стенами.
Парень ударил плечом в дверь. Дверь была толстая, надежная. Она даже не дрогнула.
Толпа была возмущена трусостью полицейских и судейских. Тут, презрев опасность, к парню подбежала чахоточная Чернякова в лиловой шляпке, и они начали бодать дверь вдвоем.
Толпа подбадривала их криками, постепенно сдвигаясь к входу в суд, оттого что в каждом было желание участвовать, но желание пока робкое, таящееся в недрах толпы. Внутренний напор становился все более цепким и тягучим, пока не разрядился внезапным оглушительным звоном — кто-то из толпы кинул камень в окно второго этажа — стекла вдребезги. На несколько секунд стало совсем тихо, многие даже отступили назад в опасении мести за такой поступок… А потом — по стеклам! Посыпались камни.
Кидали все: и мальчишки, и пожилые дамы. Это было бурное развлечение, и люди спешили кинуть — хоть что-то, хоть кусок промерзшей грязи, — только бы успеть, пока еще остались невыбитые стекла.
Все больше становилось помощников у подростка и чахоточной. Вместе с ними они бились в дверь, но та не поддавалась.
Очевидно, надо было взломать замок, но пока что никто до этого не додумался — может, потому, что во взломе замков есть нечто, противоречащее честному революционному штурму.
Беккер, с нетерпением наблюдавший за этими событиями, уже пришел к убеждению, что в здании суда нет ни души — это чувствовалось и по тому, как покорно разлетались стекла, и по гулкой пустоте, которой отзывался дом на удары в дверь.
И тогда Беккер принял решение, выделявшее его из толпы, потому что оно шло наперекор ее решениям и вкусам.
Протиснувшись за спинами заполнивших площадь людей, Беккер вошел в полуоткрытые ворота за зданием суда. Оттуда во двор. Двор был совсем пуст, и черный ход заперт. Беккер достал гвоздодер, подцепил его острым раздвоенным концом дверь у замка и с натугой вывернул язычок. Дверь распахнулась — быстро и послушно. Внутри было пусто. Шум толпы сюда не долетал. Из революционера, штурмующего Бастилию, Беккер превратился сразу в банального взломщика, которого можно взять за воротник и отвести в участок.
Беккеру хотелось бы попасть в кабинет Вревского раньше, чем в здание ворвутся революционеры, но шансов на то было немного. Единственное, что утешало, — никто, кроме Беккера, не имел уже готовой программы действий.
Поднявшись на второй этаж, Беккер повернул направо по пустому коридору. Окна коридора выходили на улицу. Осколки стекол устилали коридор, будто лужицы. Они отражали синеву казенных стен и серое небо. С улицы доносились голоса — Беккер осторожно подошел к окну и выглянул наружу, стараясь сделать это так, чтобы самому не попасть кому-нибудь на глаза. Но никто и не обратил на него внимания: толпа утекала, как песок в песочных часах, в открытую дверь — ее только что взломали или открыли.
И тут же шум переместился с улицы внутрь здания, превратился в топот многих ног по лестнице, в хлопанье наугад раскрываемых дверей, крики и голоса, совсем иначе звучащие в казенных стенах.
Беккер испугался, потому что бунтовщики, ворвавшись в коридор, могли принять его за полицейского и невзначай убить.
Он не помнил точно, какая дверь ведет в комнату к Вревскому, и побежал по коридору, стараясь угадать ее или вспомнить номер, и тут понял, что множество сапог и башмаков стучат по коридору, гонясь за ним. Беккер не посмел обернуться — он уткнулся лицом в стену и замер.
Шаги, запах людей и шум дыхания пронеслись рядом и промчались далее — видно, его приняли за своего, взявшего Бастилию чуть раньше остальных.
И когда Беккер увидел спины сотоварищей, он сразу же успокоился и пошел сзади, разглядывая двери. У третьей остановился, потому что узнал ее и вспомнил номер.
Он толкнул дверь, почему-то уверенный, что она откроется, и удивился, обнаружив, что дверь заперта. Беккер стоял в недоумении, забыв о гвоздодере.
На помощь ему неожиданно пришла чахоточная Чернякова, уже обретшая некоторый опыт по штурму Бастилии. Она приподняла юбку, подпрыгнула, сильно и резко ударила подошвой высокого зашнурованного башмака по филенке и пробила ее рядом с ручкой. Для такого подвига ей пришлось взлететь, но тут-то ее подстерегла беда — башмак ушел внутрь, а голову потянуло вниз, к полу.
К счастью, Беккер не растерялся, рванул девицу на себя, освободил ее ногу и, подержав некоторое время головой вниз, перевернул легкое и горячее тело — девица ничуть не испугалась.
— Открывайте! — приказала она. — Путь свободен!
— Спасибо, — сказал Беккер, ставя Чернякову на пол. — Вы были очень любезны.
— Мы увидимся… на баррикадах, — сказала девица, вприпрыжку убегая по коридору — видно, почувствовала, что кому-то еще понадобится ее помощь.
Беккер сунул руку в отверстие в филенке, повернул ручку изнутри, дверь открылась, и он оказался в кабинете, где еще столь недавно был бесправен и напуган, а сегодня вернулся как бы мстителем, хотя его мучитель отсутствовал.
Беккер прошел к железному шкафу и с помощью гвоздодера, помучившись минут пять, взломал его старый замок. Внутри было много синих папок, и Беккер, чувствуя наслаждение от возможности вести себя так, кидал папки на пол. Кто-то заглянул в дырку в двери и крикнул:
— Так их, давай! Жги!
Нужных папок все не было — Беккер уже опустился на корточки, вороша на нижних полках, хотя помнил, что Вревский доставал папки сверху.
Не найдя папок, Беккер принялся ползать по полу, разбрасывая синюю груду папок, лелея надежду отыскать нужную. Папок не было и там.
По коридору бегали люди, кто-то кричал издали:
— Ты керосину неси, керосину! Так быстрее загорится!
Беккер понял, что революционеры решили устроить большой пожар. Но он не мог уйти. Шкаф был пуст. На полу искать бессмысленно. Донесся взрыв криков — радостный взрыв. Беккер понял, что это означает, — удачное начало пожара.
Беккер постарался думать спокойно. Куда еще могли деться папки? Может быть, они в столе?
Ящики стола были заперты. Беккер начал взламывать их гвоздодером и выкидывать из них бумаги, старые растрепанные тома кодексов и уложений. Поднялась пыль.
— Беги! — сунулась черная рожа из коридора. — Сгоришь!
Дым полз в дверь.
Беккер продолжал взламывать ящики. Ящиков было шесть — папки нашлись в нижнем, правом, под пустыми бумагами… Коля уже убедил себя в том, что Вревский увез их в Киев.
Папки остались в кабинете случайно. Вревский намеревался забрать их с собой, надеясь распутать дело. Поэтому спрятал к себе в стол, ключ от которого пока не сдал.
Неожиданно отъезд перенесли на несколько часов вперед — шоффэры суда и комендатуры опасались оказаться на перевале в темноте: по слухам, там подстерегали татарские бандиты.
Поэтому у Вревского не хватило времени вернуться в суд за своими вещами и папками…
Было трудно дышать. Глаза слезились. Беккер выбежал в коридор. Коридор был в дыму, и дым заползал наружу через выбитые окна, отчего воздух быстро перемещался, создавая едкие сквозняки. Впереди грозно трещало. Беккер выглянул в окно — дым закрыл видимость. Но на площади было много народу — любовались делом своих революционных рук. Можно бы выпрыгнуть, но второй этаж высокий, в недобрый час поломаешь ноги.
Беккер сориентировался и побежал к черной лестнице.
Она тоже была вся в дыму, и непонятно, что ждет внизу — выход или столбы пламени?
Беккер решился. Он скинул шинель, закутал в нее голову и побежал по лестнице вниз, стараясь бежать быстро и не задумываясь, лишь бы все скорее кончилось.
Через несколько секунд он оказался во дворе.
Беккер привел себя в порядок и вышел задами мимо военной комендатуры на другую улицу.
Беккера сжигало нетерпение.
Почти бегом он миновал два квартала, пока не увидел небольшой сквер, где под каштаном стояла черная от влаги деревянная скамейка. Под ней сохранился голубой снег, а вокруг была бурая с зелеными весенними пятнышками трава.
Беккер уселся на скамейку, положил папки на колени. Сверху оказалось дело о дезертирах. В конверте — несколько уже виденных им фотографий убитого солдата. Отдельно — фото раскрытой шкатулки. Протоколы допросов, письма из Симферополя по установлению личностей… дальше, дальше! Коля не стал читать документы, успеется. Он отложил папку и раскрыл вторую, берестовскую. Она была куда толще и потрепаннее первой — видно, ее чаще открывали. Протоколы, записи допросов, фотографии… Коля листал быстро, но тщательно, чтобы не пропустить какой-нибудь важной бумаги.
Листок оказался столь мал и строчек на нем так немного, что Коля проглядел его сначала, не остановившись. И лишь через минуту сообразил, что строчки были написаны крупным, с обратным наклоном, почерком Маргариты.
Милостивый государь!
Вы просите подтвердить показания, которые Вам дал господин Беккер относительно нашей встречи с господином Берестовым в компании двух пьяниц. К моему глубокому сожалению, вынуждена Вам сообщить, что не имела чести гулять по Симферополю в обществе господина Беккера, которого знаю лишь как приятеля моей подруги. Я не имею представления, о каких пьяницах и каком господине Берестове идет речь, и не знаю, зачем господину Беккеру понадобилось впутывать меня в эту некрасивую историю. С уважением
Маргарита Потапова.
Одесса. 23 ноября 1915 года.
Коля еще раз перечитал записку Маргариты.
Она его предала!
Ну кто тянул ее за язык?
Ведь Вревский неизбежно должен насторожиться, получив такое письмо. Вот почему он спрашивал о Маргарите во время последнего допроса.
«Маргошка, Маргошка, чего же ты испугалась? Я вовсе и не собирался впутывать тебя в это дело. А упомянул твое имя, потому что хотел, чтобы следователь мне поверил. Ведь мы же с тобой там были?! Мы же видели Берестова! И пьяниц этих — тоже видели! А если мы видели их, не исключено, что и нас кто-то заметил. Так что честность — лучшее оружие».
Впрочем, Беккер не сердился на Маргариту. Она была вправе отречься от него, потому что он не спросил разрешения, прежде чем упоминать ее имя в разговоре с Вревским. Грустно… как быстро проходит женская любовь!
Коля осторожно вырвал письмо Маргариты из синей папки, смял его и хотел было выкинуть, но передумал. Он достал из кармана шинели зажигалку, сделанную из винтовочного патрона, и, зажегши ее, поднес язычок пламени к уголку письма. Письмо легко и весело занялось почти невидным в яркий солнечный день пламенем. И рассыпалось в прах. Лучше, чтобы показаний Маргариты Потаповой не было.
Когда Коля Беккер по вызову следователя покинул Феодосию, Россия, без сомнения, была монархией, и иные способы управления ею казались делом отдаленного и невероятного будущего. Когда же — менее чем через две недели — он сошел с парохода «Алушта» в Севастополе, Россия уже давно (по крайней мере так казалось) и окончательно стала республикой, словно никогда и не была в ином положении.
Коля понял, что прошлое не вернется, когда первый камень разбил стекло в здании ялтинского суда и во всей России не нашлось никого, кто постарался бы защитить достоинство империи.
Убедившись в этом, он рассудил, что ему не следует возвращаться в Феодосию. Так может поступить лишь человек, сознательно упускающий свой шанс. Там, в диком углу, революция может означать лишь смену вывесок. Коле были нужны вольные просторы.
Вряд ли можно считать Колю дезертиром, сам он себя таковым не считал, потому что присягал на верность государю императору, который добровольно отрекся от престола. В будущем же Коля не намеревался никому присягать. Если уж государь император не оправдал ожиданий, можно ли ждать защиты от Гучкова?
Итак, в России не было императора, а в Российской армии стало прапорщиком меньше.
В Севастополе Коля рассчитывал на гостеприимство Раисы Федотовны, кондукторской вдовы, у которой был шестилетний сын, любивший дядю Колю. И сама Раиса любила Колю, но никогда не выказывала желания оставить Колю в своем побеленном домике за белым забором у белого тротуара. Впрочем, забор и тротуар были изобретением вечно пьяного и шумного дурака — генерала Веселкина, коменданта Севастопольской крепости, того самого, что хватал, проезжая по Нахимовскому проспекту, гимназисток, не по форме причесанных или одетых, и развозил на коляске по домам. Заборы и тротуары белили, потому что город по ночам не освещался, чтобы его не отыскали рыскающие по морю турецкие подлодки. Зато обыватели находили дорогу домой под светом звезд.
Днем к Раисе идти было нельзя — она работала в магазине готового платья на Николаевской, а мальчика отдавала одной доброй немке, что держала киндергартен — группу детей, с которыми гуляла и обучала их немецкому языку.
Поэтому Коля решил, что он походит по городу, присмотрится, посидит в кафе и заявится к Раисе после шести.
Он не спеша дошел до памятника Корнилову и уселся возле него на скамейке, наблюдая за гуляющими по площади. Матросов было немного, это объяснялось тем, что вице-адмирал Колчак, командующий флотом, не давал командам воли и половина флота у него всегда находилась в море, вторая занималась уборками, ремонтом и погрузкой. Чаще, чем матросы, встречались солдаты из крепостной артиллерии и гарнизонных рот. Они собирались в кучки, оживленно обсуждали что-то, будто спешили все решить, прежде чем вернутся моряки.
Возле Коли остановились, разговаривая, два солдата. Коля отвернулся от них, чтобы не встречаться взглядом. Солдаты не заметили афронта, сели на скамейку, продолжая беседовать, и задымили вонючей махоркой. Революция быстро меняла нравы — посмели бы недавно солдаты днем в центре города усесться на скамью, закурить и даже не спросить разрешения у сидящего там прапорщика!
Солдаты говорили не о революции, а об их артельном, который жулик, пробы ставить негде, и мяса в супе почти не бывает.
Но тут же революция возникла и в их разговоре, потому что солдаты намерены были не только скинуть артельщика, но и отделаться заодно от какого-то штабс-капитана, который всем надоел.
Потребности у солдат были невелики, и Коля подумал, что свержение императора — несоразмерно большая плата за свободу скинуть еще и артельщика.
Никого пока что революция не воодушевила — все ее опасались. В том числе и Раиса Федотовна. Она как раз вернулась со службы, кормила своего сына Витеньку, который несказанно обрадовался дяде Коле, хоть тот и не привез никакого гостинца.
— Какое счастье, — сказала Раиса. — Хоть какой-то мужик дома. Вы надолго?
— Пока на несколько дней, — ответил Коля.
Раиса Федотовна была мягкая, невысокая, склонная к полноте женщина — у нее были длинные и пышные волосы, которые она распускала в моменты ласк и грозила шутя: «Я тебя ими задушу!»
Раиса начала целовать Колю раньше, чем Витенька успел доесть котлетку, Витеньке нравилось, как мама целует дядю Колю, и он не хотел спать, а хотел смотреть, что будет дальше.
Его, конечно, выгнали, уложили, но он, стервец, через час неожиданно вошел с трехлинейной лампой — крошка в длинной, до пят, ночной рубашечке и горящим от любопытства взором.
— Я подслушивал, — сообщил он. — А теперь буду подглядывать. А вы меня будете бить?
Никто его бить не стал — всем стало смешно.
Потом Раиса рассказывала Коле о новой книжке, которую читала, — лечебник о естественном природном исцелении. Коля хотел узнать, что нового в городе, но Раиса только знала, что все скупают, несмотря на дороговизну. «А один татарин купил смокинг, ты представляешь?»
Под кожей Раисы была мягкая плоть, словно желе, но пахло от нее приятно. Раиса ничего не требовала, зато хорошо кормила и добродушно ворчала, когда Коля забывал вытереть ноги или вымыть руки перед едой.
Коля спал беспокойно — он всегда не высыпался на новом месте. К тому же часа в три Раиса разбудила его влажными поцелуями.
— Еще, мой дорогой, — шептала она, — только Витеньку не буди, он такой нервный.
Утром Коля проснулся от разговора за стенкой, в прихожей. Уже было светло, Раиса ушла. Витенька топал и пел боевую песню. Потом он заглянул и сказал:
— Не спишь, дядя Коля? Ты солдатиков раскрашивать умеешь? А то Мученик совершенно не умеет.
— Какой еще Мученик? — потянулся Коля. Ему было легко и приятно. Кровать была мягкой и нежной, простыни пахли Раисой и лавандой, собственное тело было ловким и послушным.
— Ну тот, который с мамой на кухне разговаривает. Он раньше на этой кровати спал.
— Вместе с мамой? — спросил Коля.
— А то как же, — сказал Витенька. — На всех разве напасешься? У нас другой кровати нету. Вот и приходится думать — то ли со мной спать, то ли с мамкой, а со мной нельзя — раздавите.
Вошла Раиса, в халате, волосы распущены до пояса, от двери ловко дотянулась до Витеньки, дала ему подзатыльник.
— Елисей Мученик приходил, — сказала она. — Все политикой занимается. Я ему говорю — на что вам, евреям, политика? Ведь погромят потом. А он хи-хи да ха-ха. В Ялту уезжает. Говорит, по торговым делам, а я знаю — агитировать.
— Витенька сообщил мне, — сухо сказал Коля, садясь на кровать и спуская ноги.
— Уж он-то сообщит, — ответила Раиса, — недорого возьмет. А ну кыш отсюда!
Раиса присела на кровать рядом с Колей, поцеловала его в щеку мягкими губами. Коля отстранился.
— Не ревнуй, — сказала Раиса, — и пойми: я тебе не жена и не любовница. Ты ведь тоже ко мне приехал, потому что квартира нужна. А Елисей добрый, солидный, эсдек, может, после революции будет большую роль играть. Так что я ему не говорила, что ты у меня есть.
— И на том спасибо, — мрачно сказал Коля. Неприятно было сознавать, что Раиса кругом права. Если бы она прибежала с утра, воскликнула бы, как она любит Колю, предложила бы жить здесь, обещала бы свою верность — ему тоже было бы неприятно. Менее всего он намеревался привязывать себя к этому сложенному из плит, под черепичной крышей белому домику, сопливому мальчику Витеньке и мягкой шелковой наседке Раисе. Но неожиданная в ней трезвость и даже жесткость, освобождая Колю от обязанностей, чем-то унижала.
— И только не вздумай, — сказала Раиса, искренне и весело улыбаясь, — попрекать меня. У меня после мужа никого, кроме тебя и Мученика, не было. На что мне? Вставать будешь? Завтрак на столе.
— Что в городе? — спросил Коля за завтраком.
— Елисей говорит, — ответила Раиса, намазывая ломоть булки ломким, из погреба, маслом и кладя сверху шмат ветчины, — что немцев резать будут. Одного уже зарезали. Или застрелили. А я его спросила: а как вам, евреям? Ведь вас всегда в первую очередь? А он смеется и говорит — нас погодят, потому что мы Россию немцам не продавали.
Коля представил себе этого Мученика, из анекдота — длинноносого, с пейсами, обсыпанного перхотью и говорящего с глупейшим акцентом.
— Говорят, — продолжала Раиса, — что патрули у всех документы проверяют. Как увидят немецкую фамилию — сразу к стенке.
Она посмотрела на Колю, склонив голову. И Витенька, подражая маме, тоже склонил голову. Раиса знала, что фамилия Коли — Беккер — куда как немецкая.
— Я документы дома оставлю, — сказал Коля.
— Ты далеко не уходи, — сказала Раиса. — Неладен час кто заподозрит.
— Я буду осторожен, — сказал Коля. Он понимал, что нельзя сидеть, держась за юбку этой женщины. Революцию не пропускают, даже если кто-то охвачен шпиономанией.
У Раисы были пиджак и пальто, оставшиеся от мужа. Коле уже приходилось в них ходить по улицам, когда он не хотел встречи с патрулем. Но на этот раз наряжаться шпаком в городе, где две трети мужчин — военные, не захотелось.
— К обеду будешь? — строго спросил Витенька, которого собирали гулять на улицу.
— Буду, буду, — сказал Коля, уже не сердясь на Раису.
Та почувствовала, что Коля не сердится, и сказала ему тихо:
— Я Елисею сказала, что теперь ты у меня. Чтобы он больше не надеялся.
Она поднялась на цыпочки и поцеловала Колю в губы.
У Раисы Федотовны еще недавно был супруг. Этому большому деловитому мужчине нравилось что-нибудь делать руками. Он всегда чинил, строил и почитал своим долгом оберегать Раю от тяжелого труда. Муж был крепким, вечным, и Раиса ночами просыпалась от счастья, потому что можно было потянуться и всем своим мягким телом обволочь это теплое сопящее бревно. Она прижималась к мужу и боролась со сном — казалось греховным тратить на сон минуты такого счастья.
Год с лишним назад муж умер — за несколько минут умер, от разрыва сердца. Раиса так до конца и не поверила в то, что его больше никогда не будет, но первые недели брала с собой в постель Витеньку, так страшно было спать одной. Последнее время у нее появлялись любовники — правда, было их немного, чтобы соседи не особо злобствовали. Ходил Мученик, который говорил, что сделает революцию и станет министром, приезжал прапорщик Коля Беккер. Мученик, как местный, никогда не оставался ночевать, хоть и был вдов. Коля — ночевал. И порой Раиса просыпалась ночью от счастья, что вернулся муж, но оказывалось, что это — Коля. И хоть Коля был вдвое моложе мужа и куда лучше его телом и лицом, никакого счастья не получалось — от Коли не исходило защиты и надежности. Раиса поднималась, шла на кухню и там плакала.
Коля вышел на улицу — хотел сначала дойти до Нахимовского, купить там газет.
На скамейке у ворот Раисиного дома сидел гладкий, благородный молодой человек романтической внешности — орлиный нос, курчавые черные волосы, карие блестящие глаза. Человек был в широкополой шляпе и крылатке и при всей непохожести на Максима Горького казался почти его близнецом.
При виде Коли человек вскочил и пошел рядом с ним, отставая на полшага.
— Прошу прощения, — сказал Коля, — вы хотите что-то сказать?
— Вы обо мне должны были слышать, — сказал уверенно романтический человек. — Я — Мученик, Елисей Мученик. Я должен вам сказать, что люблю Раису Федотовну, да и давно люблю. Потому я попрошу вас покинуть этот дом, чтобы не ставить под сомнение репутацию дамы моего сердца.
Мученик был гневен, он махал длинными руками, не думая, что его могут услышать прохожие, и в любой момент, как показалось Коле, в его руке мог сверкнуть булат.
В то же время он был нестрашен, как распустивший перья чибис, старающийся отвести от гнезда куда более крупного хищника.
— Простите, — Коля не выносил, когда ему начинали указывать, особенно те, кого он считал стоящими ниже себя, — какое вы имеете право так разговаривать со мной?
— Право любви! — воскликнул Мученик. — Право страданий!
В своем пафосе Мученик был забавен, и Коля великодушно простил его.
— Не суетитесь, — сказал он. — Я уеду. Кончу дела и уеду. Мое отношение к Раисе чисто приятельское — она приютила меня на несколько дней.
— Вы даете мне слово? — воскликнул Мученик. — Вы искренне не претендуете на ее руку? Вы не увезете ее с собой?
Театральность этих восклицаний выходила за пределы разумного. Или Мученик был сумасшедшим, или ломал комедию.
— Слово джентльмена, — сказал Коля, полагая, что Мученику приятно такое выражение, ибо джентльмены дают слово только себе подобным.
— Замечательно, — заявил Мученик куда более трезвым голосом. — Видите лавочку, мы сейчас посидим на ней и выкурим по папироске. У меня хорошие папиросы — я только что привез их из Керчи. Мне приходится немало ездить.
Они уселись на лавочку под каштаном. Было тихо, мирно, никакой революции в этом садике не намечалось.
— Я человек двухслойный, — признался Мученик. — Внешне я солидный и респектабельный торговый посредник. В душе — страстный революционер и романтик. Я еду делать свои дела и зарабатывать деньги. Это для обычных людей. Затем я переодеваюсь, меняю личину и оказываюсь одним из самых страшных революционеров Крыма!.. О нет, не смотрите на меня так, господин прапорщик! Я сам никогда никого не убил, но я организатор. Люди подчиняются мне, не подозревая чаще всего, что оказываются игрушками в моих руках.
И Мученик показал Коле свои руки — руки музыканта или хирурга. Очень красивые руки.
— У меня прекрасные руки, — сказал Мученик. — Меня долго учили музыке. Считается, что ребенок из небогатой еврейской семьи должен учиться музыке. Я ненавидел ее. Я перекусывал струны в пианино. Я уже в пять лет стал из-за этого революционером. В десять я устроил котел с супом, который упал на голову учителю музыки. Его увезли в больницу с тяжелыми ожогами. Вот так.
— Сколько вам лет?
— Тридцать. Но я проживу еще шестьдесят. В моем роду все страшно живучие.
— А Раиса согласна?
— Она обязательно согласится, — сказал Мученик, запуская пальцы в буйную вороную шевелюру. — Я люблю ее. Я люблю ее безумно и готов ей все простить. Такого тела я еще не трогал! И поэтому я на ней женюсь, чтобы ни один мальчишка вроде вас — вы меня, конечно, простите за резкость — не смел трогать ее грязными руками!
— Но она православная, а вы иудей, — сказал Коля, который совсем не обиделся на Мученика.
— Потому я утроил свои усилия и приблизил революцию. Революция очищающим девятым валом сметет все условности рас и наций, она отменит ваши замшелые религии и предрассудки. Вы хотите жениться на дочке султана — прошу вас, сделайте милость! Раисочка обвенчается со мной в храме революции! Их построят на всех углах.
«Ну и хватит, — подумал Коля. — Он мне надоел. Он и в самом деле думает, что я хочу жениться на этой медузе. А у него, наверное, была толстая мама или горничная, за которой он подсматривал в уборной. Читайте Фрейда и все поймете».
— Желаю успеха, — сказал Коля.
— Вы мне симпатичны, — сказал Мученик. — Я возьму вас к себе! Мы с вами далеко пойдем. Сейчас людям с нерусскими фамилиями лучше числиться среди победителей.
— Вы имеете в виду немцев? — спросил Коля.
— Немцев? А почему бы и нет? В конце концов, должны когда-нибудь взяться за немцев! Почему надо преследовать только евреев?
— Может, это только слухи?
— Слухи? Нет, на этот раз это не слухи. Сегодня ночью чуть было не взорвали «Императрицу Екатерину».
— А при чем тут немцы?
— Злоумышленник мичман Фок покончил с собой, — сообщил Мученик торжественно, будто о кончине императора.
А так как Коля не задал следующего вопроса, а Мученику не терпелось рассказать — не на каждом шагу встречаются слушатели, которые еще не знают самого главного, то Мученик сам продолжил:
— Он спустился в бомбовый погреб, и тут его схватили матросы.
Распростившись с Мучеником, Коля пошел в центр города, полагая там узнать новости. Газет в киосках не было, и газетчиков тоже не видно. Очевидно, все раскупили раньше.
На улицах было много бездельного народа — правда, матросов почти не встречалось. В большинстве ходили солдаты, гимназисты, чиновники и просто люди разного звания.
Проехал открытый черный автомобиль «Руссо-балт». На заднем сиденье сидел вице-адмирал, еще нестарый, с сухим острым лицом, фуражка надвинута на брови. Адмирал был сердит, не смотрел по сторонам и, когда в толпе раздались приветственные крики, даже не обернулся на них.
Рядом с адмиралом сидел морской офицер, с черной бородкой и выпирающими красными щечками. Офицер что-то говорил, склонившись к адмиралу, крики удивили его, он прервал свою речь и стал оглядываться, не понимая, что происходит.
Картинка промелькнула и исчезла.
— Это кто? — спросил Коля у путейского чиновника, скучного и согбенного, но с красным бантом на груди и красной повязкой на засаленном на локте рукаве шинели.
— Вы не знаете? — удивился чиновник. — Адмирал Колчак. Командующий флотом. Надежды нашей революции связаны именно с ним.
И чиновник вызывающе посмотрел на Колю, будто вызывая его на спор.
Впереди были слышны крики, звук клаксона. Беккер понял — что-то случилось с машиной командующего флотом. Он поспешил туда и был не одинок — звук возбужденной толпы, вместо того чтобы отвратить обывателей, еще непривычных к насилию и исчезновению городового как последней инстанции при беспорядках, влек зевак к себе. Людям хотелось смотреть — первый этап любой революции театрален, и люди, независимо от степени участия, спешат использовать свое право увидеть и послушать, как делается история, хотя не видят в этом саженцев будущих тюрем и казней.
Беккер увидел, что автомобиль адмирала остановился, потому что улица была перекрыта толпой, в которой черные матросские бушлаты соседствовали с серыми солдатскими шинелями и партикулярными пальто. Правда, шинелей было более всего.
Шоффэр адмиральского авто нажимал на клаксон, но толпа не желала пропускать его, и тогда адмирал Колчак встал, держась тонкими пальцами за переднюю спинку. Голос у него был высокий, в промерзшем воздухе пронзительный.
Крики и требования толпы были уже понятны адмиралу, и он готовился ответить ей.
— Господа! — крикнул в толпу Колчак. Он поднял непропорционально длинную руку. Под ярким мартовским солнцем видно было, что кожа у него матовая, оливковая, и Коле он показался схожим с римским патрицием — крупный, с горбинкой, нос, темные глаза, узкие губы. Будто видел этот портрет в зале римских копий в Эрмитаже. — Господа, я сейчас же направляюсь на «Екатерину»!
Толпа замолчала, схватив машину в плотное кольцо.
— Я так же, как и вы, огорчен известием о смерти мичмана Фока!
Толпа неприязненно загудела.
— Я повторяю — огорчен, потому что этот молодой человек куда больше принес бы пользы Отечеству, если бы сложил голову на поле боя.
— Какому Отечеству? — выкрикнул из толпы солдат в папахе набекрень. — Немецкому небось?
— Какой дурак решил, что мичман Фок — немецкий шпион? Кто подсунул вам эту зловредную сплетню? Ну! Я вас спрашиваю!
Разумеется, толпа не отвечала, но несколько оторопела.
Беккер удивился, увидев, какие плохие зубы у адмирала — они, должно быть, его всегда мучают, — даже на расстоянии двадцати саженей видно было, что в верхней челюсти справа остались лишь черные пеньки. Коля не подозревал, что беда адмирала — следствие голодных, изнурительных путешествий в Ледовитом океане.
— Я даю слово офицера и русского дворянина, — кричал Колчак, — что Павел Иванович Фок такой же русский, как и мы с вами! Он происходит из старой дворянской семьи в Пензенской губернии. Там и сейчас живут его родители и невеста. Они не подозревают еще, что осиротели. Они посылали сюда защитника Отечества и честного офицера. А такие, как вы, затравили его и довели до самоубийства!
Толпа молчала, но за этим скрывалось глухое рычание, почти беззвучное недовольство пса, которого порет хозяин, а пес не может взять в толк, за что на него такие напасти — он же рвал брюки гостю, защищая дом!
— Если мы будем устраивать здесь травлю честных людей, потому что нам не нравятся их фамилии или форма носа, это будет на пользу только настоящим немецким шпионам. Фамилия у настоящего шпиона, скорее всего, будет Федоренко или Иванов. Сейчас, когда Россия переживает годину тяжких испытаний, нас сможет спасти только единство и строжайшая дисциплина. Тогда мы сделаем то, к чему толкает нас историческая справедливость. Мы ударим по проливам, по Константинополю. Перед вами откроются золотые ворота Османской империи… Но если вы будете убивать честных людей — вас возьмут голыми руками. Вперед, к победе! Да здравствует свободная Россия!
— Урра! Да здравствует! — вопила раздавшаяся под напором автомобиля толпа.
Беккер несколько успокоился — в адмирале было некое качество, дававшее ему право распоряжаться людьми. То есть существование Колчака в Севастополе давало надежду на торжество порядка.
Коле захотелось поглядеть на флот, на те корабли, что стояли на якорях в Корабельной бухте. Если повезет, он увидит, как катер адмирала подлетит к «Екатерине».
Стоя на бульваре, перед открывшимся видом на море, Коля понял, что отсюда ему никогда не догадаться, какой из кораблей «Екатерина», а какой «Севастополь». На таком расстоянии размеры съедались и все корабли казались игрушечными. Между кораблями сновали катера, на серой воде замерли ялики рыбаков. В бухту сел неизвестно откуда взявшийся гидроплан. Он затормозил, приподняв носы поплавков, а с кораблей, нагнувшись, глядели на него блохи — матросы.
— Прапорщик! — окликнули над самым ухом.
Коля вздрогнул, резко обернулся. Рядом стоял морской кондуктор, за ним — два солдата-артиллериста.
— Чего надо? — Коля машинально ответил в тон окрику. Он не желал казаться наглым. Так получилось.
— Надо нам твои документы, — сказал один из солдат, и от того, как плохо слушались его губы и какая зловещая, но неуверенная улыбка блуждала на его губах, Коля понял, что он пьян.
— Вы не патруль, — сказал Коля. Получилось посередине — между вопросом и утверждением.
— А вот это тебя не касается, — сказал солдат.
— Простите, — вмешался менее пьяный кондуктор. — У нас революция, господин офицер… Вы тут стоите, смотрите на боевые силы флота с неизвестными намерениями, что вызывает наши опасения.
— Разве мне нельзя смотреть?
— Покажешь документы и будешь тогда смотреть, — сказал второй солдат, скуластый, узкоглазый, похожий чем-то на Борзого и потому особо неприятный Коле.
Первый солдат снял с плеча винтовку. Лениво снял, будто это движение не имело отношения к Беккеру, но в то же время показывая, что именно против Беккера и было оно направлено.
— Нет у меня с собой документов, — сказал Коля. — Зачем мне их таскать, правда? — Ему было неприятно услышать собственный, на октаву выше, чем обычно, заискивающий голос.
— Не повезло тебе, прапорщик, — сказал кондуктор. — Хотел ты — не хотел, но как немецкого шпиона и пустим в расход.
— Ну ладно, пошутили, и хватит, — сказал Беккер.
— А мы не шутим.
— Если вам деньги нужны, у меня немного совсем…
— А вот это усугубляет твою вину, — сказал скуластый солдат.
Кондуктор толкнул Колю в спину, и тот послушно пошел по бульвару. Немногочисленные прохожие смотрели мельком, стараясь не поворачивать головы, не привлечь к себе внимания.
— В экипаж? — спросил первый солдат.
Голос его донесся издалека, словно Коля шел в стеклянном стакане, а все люди, и его солдаты, и те, кто ходил по бульвару, — все остались за пределами этого стакана.
— А может, выведем к морю и капут? — спросил второй солдат. — Очень мне этот прапорщик не нравится.
— Отведем в экипаж, — сказал уверенно кондуктор. — Пускай все будет по закону. Обыщут, если немец или шпион — в расход.
Хоть эти слова тоже долетели издалека, они пронзили тупую покорность Коли. Тот молодой и жаждущий жить человек, который спрятался за сердцем, услышал и понял, что именно этого допустить нельзя.
Между тем время шло, и надо было придумать спасение раньше, чем они дойдут до экипажа. Но в голове ничего не было — пусто. Будто он, Коля Беккер, прыгал вокруг запертого дома, стучал в дверь, в окна, но никто не отзывался.
— Ты чего молчишь? — Кондуктору надоело идти молча. Он догнал Беккера. — Тебе что, жить не хочется?
— А что делать? — спросил Коля заинтересованно, искренне, будто кондуктор был доктором, могущим спасти от тяжкой болезни.
— Как что делать? Дать нам документы, доказать, что ты не немец и не шпион ихний, — простое дело! Где у тебя документы?
— Где?.. Дома, — сказал Коля. — Дома лежат. Я же не знал.
— Врет, что не знал, — сказал скуластый, — как же это в военное время в Севастополе без документов? Его нынче из Турции перекинули. — И он засмеялся, словно сказал что-то очень смешное.
— А где живешь? — спросил кондуктор, он и в самом деле почему-то проникся к Коле симпатией, а может, был добрым человеком.
Коля уже знал, что он сделает.
И оттого, что он представил себе собственные действия, стало легче, словно он их уже совершил.
— Есть у меня документы, — сказал Коля, — все есть, только дома лежат. Не верите — два шага пройдем, покажу.
Тут же завязался долгий и пустой спор между конвоирами, потому что одному из солдат лень было идти, он вообще хотел в экипаж. Второй склонялся к тому, чтобы Колю расстрелять. Говорил он об этом громко, чтобы слышали прохожие. А кондуктор решил было отпустить пленника. Но, на несчастье Коли, к ним тут прибился худой телеграфист с красным бантом, который стал требовать соблюдения революционной дисциплины. В конце концов один из солдат отстал, а его место занял телеграфист.
Телеграфист стал рассказывать, как мичман Фок взорвал «Екатерину», и, хоть слушатели отлично знали, что «Екатерина» стоит у стенки и ничего плохого ей мичман Фок не сделал, слушали они внимательно, будто хотели этим показать: знаем-знаем, на этот раз не удалось, а на следующий — мы не допустим.
У Коли был ключ от квартиры Раисы. Он открыл дверь. Витеньки, к счастью, не было дома, самой ей рано было возвращаться.
— Погодите здесь, — сказал Коля, — натопчете.
— Нашел глупых, — обиделся телеграфист. — Мы тут будем стоять, а ты через окно — и бежать.
— Тогда снимайте сапоги, — сказал Коля. — Это не мой дом.
— Ничего, — сказал телеграфист, который был агрессивнее остальных, потому что не был уверен, что его принимают всерьез. — Вымоешь.
И он решительно пошел в гостиную. Там осмотрелся и заявил:
— Богато живете!
Раиса жила небогато, каждому ясно, но телеграфист был готов увидеть богатое шпионское лежбище и увидел его.
— Давай неси, — сказал кондуктор. Они с солдатом остались у дверей, чтобы не наследить. Но от телеграфиста остались грязные следы на половиках и половицах.
Коля прошел в спальню, там на стуле стоял его саквояж.
Он вынул документы и протянул их кондуктору.
Когда кондуктор читал их, из залы вернулся недовольный телеграфист.
— Сколько можно ждать? — спросил он.
У Коли мелькнула мысль, что телеграфист задерживался, чтобы что-нибудь реквизовать. То есть свистнуть. Но некогда было выяснять — кондуктор рассматривал документы. Что-то ему не понравилось.
— А фото? — спросил он наконец.
— Фотографию у нас не клеят. С будущего года обещают.
— Покажи-ка, — велел телеграфист. Он поднес к носу, обнюхивал по-собачьи книжку в серой обложке, взятую Колей в синей папке — деле об убийстве Сергея Серафимовича. — Студенческий билет. Ясно. Берестов, Андрей Сергеевич.
— Чужие документы, — сказал солдат. Он их не читал, даже не глядел на них. Может, ему хотелось уйти, может, расстрелять Колю.
— А что еще? — спросил кондуктор.
— Ну вот, вы же видите — проездной билет. Единый. На мое имя. Московский трамвай.
— А кто подтвердить может, что ты — это ты? — спросил кондуктор.
— Сейчас никого дома нет. А вы приходите вечером.
— Вечером он предупредит, — сказал телеграфист, продвигаясь к двери. — Вечером он всех подготовит.
— Ну что я могу поделать? — Коля обезоруживающе улыбнулся кондуктору, которого выделял и уважение к которому подчеркивал.
— Пошли, — сказал кондуктор. — Чего мы к человеку пристали.
— Я в Симферополе живу. В Глухом переулке.
— И в самом деле, — сказал телеграфист.
«Что же он уволок? — думал Коля. — Ведь Раиса подумает на меня».
— Нет, я думаю, раз уж столько времени потеряли, — сказал солдат, — поведем его в экипаж. Там проверят.
Этот момент нерешительности разрешила своим неожиданным появлением Раиса.
Она открыла дверь в прихожую и увидела, что там стоят незнакомые люди.
Ей бы испугаться, но законы революции, позволяющие вооруженным людям входить в любую дверь и брать что им вздумается, включая жизнь любого человека, эти законы еще не были усвоены Раисой. Впрочем, они еще не стали законами и для тех, кто привел Колю.
Коля от звука ее голоса сжался. Еще мгновение, и она убьет его. Убьет, не желая того. Сейчас она скажет: «Коля».
— Это я! — почти закричал Беккер. — Это я, Андрей. Ты слышишь, Рая? Это я, Андрюша! Меня на улице задержали, документы потребовали, а у меня с собой не было.
Сейчас она удивленно скажет: «Какой еще Андрюша?»
Но Раиса скорее чутьем, чем умом, угадала, что надо молчать. В доме опасность. Угроза.
Телеграфист уже вышел в прихожую и, задев Раису, пошел к двери. Та отстранилась, чтобы пропустить его.
И тогда солдат, самый недоверчивый, спросил:
— А как будет фамилия твоего постояльца?
— Чего? — спросила Раиса.
И в тот момент Коля понял, что же взял телеграфист.
И в этом было спасение.
— Держи вора! — закричал он. — Держи вора! Он серебряную сахарницу со стола унес!
А так как видимость законности еще сохранялась, то телеграфист кинулся к двери и замешкался, спеша открыть засов. Раиса сразу сообразила — вцепилась ему в плечо. И тут уж было не до документов, потому что телеграфист выскочил на улицу и побежал, высоко подбрасывая колени. Раиса неслась близко за ним, но все не могла дотянуться, а Коля бежал за ней, понимая, что с каждым шагом удаляется от опасности. Правда, и кондуктор с солдатами топали сзади, но Коля понимал, что не он уже цель их погони.
Впереди показался господин в распахнутой шубе, похожий на Шаляпина, он ринулся к беглецу, чтобы помочь преследователям. Телеграфист увернулся и выкинул сахарницу. Сахарница была круглая, без крышки — крышку потеряли уже давно. Она покатилась по камням мостовой, Раиса побежала за ней, а кондуктор и солдат обогнали Колю и скрылись за углом, преследуя телеграфиста.
Коля дошел до угла и увидел, что они все еще бегут, огибая встречных.
Раиса стояла, тяжело дыша, прижимала сахарницу к груди.
— Зря я тебе ключи дала, — сказала она.
— Скажи спасибо, что я живой остался, — сказал Коля.
— Спасибо, только не тебе, а мне. Может, еще чего в доме украли?
Оказалось, что ничего больше телеграфист украсть не успел, зато наследил, и Раиса была недовольна, даже не смеялась, когда Коля попытался юмористически рассказать, как воспользовался случайно найденными документами какого-то Берестова. Коля стал целовать Раису, но та уклонилась от ласк, сказав, что сейчас из киндергартена придет ее Витенька.
Но ближе к вечеру они помирились.
5 марта командир «Екатерины» напечатал в «Крымском вестнике» письмо, в котором сообщал, что мичман Фок Павел Иванович — чистый русак из Пензенской губернии. Там же говорилось, что в ночь с третьего на четвертое, будучи на вахте, мичман проверил часовых в подведомственной ему носовой орудийной башне. Затем он хотел спуститься в бомбовый погреб, но часовой, не доверяя немцам, не пустил Павла Ивановича. Часовой был напуган недавним взрывом на «Императрице Марии», взрыв был именно в бомбовом погребе. Говорили, что это дело рук немецких шпионов.
Павел Иванович, получив такой грубый отказ, счел свою офицерскую честь полностью погубленной. Он поднялся к себе в каюту и тут же застрелился. Но застрелился не потому, что в самом деле испугался разоблачения, как говорили досужие сплетники в городе, а в глубоком душевном расстройстве.
Более того, командир дредноута сообщил, что торжественные похороны мичмана Фока по постановлению команды состоятся 6 марта в десять утра.
Следовало пережить 5 марта.
Пережить — значит выиграть партию в игре, где ставка — Россия.
Окно выходило на площадь, было раннее утро — даже бездельников и зевак на площади еще не было: соберутся через час-другой.
Перелом в судьбе должен был свершиться именно сегодня. Все, что делалось дальше — по мере свободы и инициативы, — было задумано другими, и славу тоже делить с другими. Когда приехавший якобы на отдых генерал Жанен, соглядатай Клемансо, воодушевляясь, слушал планы Колчака и по карте следил за воображаемыми движениями флота и десантов к Константинополю, он делал вид, что заслуга в этом плане принадлежит именно деятельности и энергии Александра Васильевича, но тот-то знал, что решения принимаются даже не в Петрограде — скорее в Париже.
Сегодня будет не только испытание его силы и умения управлять людьми, но и его стратегического чутья.
В России два флота — Балтийский и Черноморский. Остальное — флотилии, не стоящие упоминания. Даже если они называются Тихоокеанским флотом, так и не пришедшим в себя после Порт-Артура. Балтийский флот вроде бы главный — под боком императора, на виду. Но всю войну простоял на якорях. Кроме экипажей субмарин да тральщиков, мало кто нюхал порох. Флот без цели — флот, наверняка уже разагитированный социалистами, готовый к слепому бунту и в будущем, — страшная опасность для порядка в государстве — за три года безделья и мужеложства по кубрикам и гальюнам из балтийских моряков создались отряды черных убийц. Об этом Александр Васильевич говорил Жанену и Ноксу, старался убедить их. Но союзные представители только вежливо кивали, не давая себе труда задуматься. Согласился только генерал Алексеев, но станет ли он реально главковерхом — одному Богу известно.
На Черном море он, Александр Васильевич, сознательно и последовательно проводил в жизнь разработанную программу. У него была великая цель, цель настоящего флотоводца и вождя — отнять у Турции проливы. То, что не удалось князю Олегу, удастся Александру Колчаку. Этой идее Колчак был предан с момента своего вступления в командование Черноморским флотом и до последнего дня на этой должности. В отличие от десятков куда более заслуженных и высоких чинами генералов и адмиралов, князей и министров Александр Васильевич отлично понимал, что страна движется к пропасти и единственное, что может остановить ее от падения, — это победа в войне. Победа спишет все — после побед революций не бывает. И если удастся выиграть эту гонку — они толкают к пропасти, а мы оттягиваем оттуда, — будет спасена империя. Империя, республика — не суть важно, хоть Колчак и не считал себя демократом, рассуждая, что демократия хороша для европейских стран, где хабеас корпус и прочие законы о личности уже пятьсот лет как существуют и любой швейцарец скорее поставит яблоко на головку сорванцу, чем поступится свободой. В России нужна твердая рука. Рука, которая приведет к порядку, потому что даже в Англии сначала был Вильгельм Завоеватель, а лишь через много лет — парламент.
Поэтому Александр Васильевич завел на флоте строгие порядки и поддерживал их неуклонно, добиваясь одного: матрос должен быть сыт, но занят, занят так, чтобы ни минуты свободной, чтобы отработал — только спать! Но сыт.
Флот был поделен на отряды. Отряды поочередно уходили в крейсерство, до самых турецких и болгарских берегов, несли охранение, проводили стрельбы. Как только возвращались в Севастополь, тут же начиналась погрузка боеприпасов и угля, уборка и ремонт — и так до следующего выхода в море. Матросы редко выходили на берег — это объяснялось войной. И не бунтовали. И даже не было среди них столько агитаторов и недовольных, как в пятом году, когда восстал «Князь Потемкин». Правда, Александр Васильевич был не столь наивен, чтобы полагать, будто на флоте все идеально и что Севастополь, бастион порядка, устоит в море бунтов, готовых охватить Россию. В частности, адмирал с опаской поглядывал на город, где, словно тифозные микробы, вылезали на свет мастеровые многочисленных морских и иных фабрик и мастерских, запасники и резервисты, а также солдаты береговых частей. Так что водораздел проходил не только между Севастополем и Россией, но и внутри Севастополя — между флотом и берегом.
Печальный инцидент с мичманом Фоком, хоть и был улажен, на самом деле ничего еще не решал. Вечером Колчаку доложили, что в городе происходят аресты лиц, коих подозревают в немецком происхождении. В городе подготовлены манифестации. Именно завтра и следует противопоставить анархии порядок.
Чепуха, чепуха… Александр Васильевич все стоял у окна, не замечая, как течет время. Всю жизнь он презирал Романовых, всегда надеялся на то, что скоро они исчерпают свою карму и падут, потому что веревки, которыми привязаны эти гири к ногам народа, уже сгнили. И уж кого-кого, но Александра Васильевича нельзя было заподозрить в приспособлении к обстоятельствам. Милая, талантливая Аня Тимирева могла бы подтвердить, что еще в конце прошлого года он писал ей, «что готов был приветствовать революцию, которая установила бы республиканский образ правления, отвечающий потребностям страны». Он был искренен — он всегда был искренен с возлюбленной. Но не всегда договаривал до конца. Колчак был убежден, что России нужен республиканский строй, чтобы он успел ворваться в Дарданеллы и прибить свой червонный щит к вратам Царьграда: красный цвет — цвет власти.
Придется стать паладином революции — раз уж нет иных на эту должность. Еще несколько дней назад даже для себя самого эти мысли были табу — запечатаны семью печатями. А сегодня? Сегодня можно спокойно и трезво взвесить шансы на будущее основных деятелей России. Сила человека определяется не только и не столько его способностями и амбициями, как той поддержкой, на которую он может рассчитывать. Корнилов популярен в армии, в ее правом крыле, но за исключением ударного полка не имеет частей, непосредственно ему подчиненных и верных. Рузский и Брусилов — штабные полководцы, скорее исполнители, чем вожди. Вице-адмирал Максимов, командующий Балтийским флотом? Он ничем не командует… А вожди политические? Лидеры эсдеков — говоруны либо темные лошадки, скрывающиеся по Ментонам и Базелям, — вряд ли у них есть поддержка более чем нескольких сотен таких же заговорщиков. Эсеры — Чернов? Спиридонова? Крестьяне могут клюнуть на их призывы отдать землю, но крестьянство — слишком расплывчатая категория. В России оно ни на что не способно, кроме вспышек слепого бунта. Остаются правые. Дума. Родзянко. Милюков. Гучков. О либералах вроде Львова и Керенского можно и не думать — они ничтожны…
Как ни поверни — в России нет лица, имевшего бы организованную и дисциплинированную поддержку, подобную той, что имеется у Колчака в Черноморском флоте. У Колчака. Он думал о себе в третьем лице, отстраненно, будто читал книгу о жизни великого человека… А не поздно? Тебе сорок семь, Александр Васильевич, у тебя неладно со здоровьем, в тебе нет того задора и силы, как десять лет назад.
Но отказаться от исторического шанса спасти Россию, повернуть ее историю в спасительном направлении — значит не выполнить предначертания судьбы, а за это судьба жестоко отомстит.
— Жребий брошен, — сказал Александр Васильевич вслух и оглянулся — не слышит ли кто. Но он был в кабинете один.
Александр Васильевич взял со стола колокольчик. Звон его был мелодичен, но проникал за много стен. Адъютант тут же появился в дверях.
— Все ли в порядке? — спросил Колчак.
— Как вы приказали, Александр Васильевич, — ответил адъютант.
— Через час?
— В десять ноль-ноль, — сказал адъютант.
В десять ноль-ноль утра 5 марта вице-адмирал Колчак и прочие высшие чины Севастополя и Черноморского флота закончили слушать литургию, совершаемую в Николаевском соборе епископом Сильвестром. После этого процессия крестным ходом двинулась от собора на Нахимовскую площадь, к Графской пристани.
Здесь уже были выстроены для парада сводные команды кораблей, запасной полк, а также отряды гимназистов и реалистов. Народу собралось множество. Хоть о параде стало известно лишь в восемь утра, но народ в городе уже несколько дней ждал какого-то большого праздничного события, которое было бы достойно революции и душевно бы соответствовало ей.
Именно потому Колчак и устроил парад с молебном и оркестрами. Инициатива в решениях должна была исходить от него, потому что в ином случае нашлись бы желающие взять власть в свои руки.
Мартовский день выдался солнечный, даже припекало. Зеленая трава выбивалась на косогорах и на бульваре… Солнце отражалось в воде, и было весело.
Там же, на Графской пристани, епископ Сильвестр отслужил молебен во славу народного революционного правительства и всего российского воинства. Затем, когда священнодействие закончилось, он позволил адмиралу перейти к следующему этапу праздника.
Александр Васильевич пошел вдоль строя матросов и солдат, останавливаясь, и громко, высоким, пронзительным, слышным по всей площади голосом, выкрикивал:
— Народному правительству — ура! Верховному главнокомандующему — ура!
Матросы, солдаты, а особенно гимназисты весело и дружно подхватывали: «Уррра! Уррррааа…»
Завершив обход войск, Александр Васильевич поднялся на ступени Морского собрания, откуда и принял парад. Оркестр играл церемониальный марш, части с различной степенью выучки разворачивались и проходили по площади мимо адмирала. Колчак стоял на шаг впереди остальных генералов и офицеров, держа ладонь под козырек черной фуражки. Тонкие губы были тесно сжаты.
Обывателям, которых накопилось уже несколько тысяч, зрелище парада было по душе. Многие стояли, украшенные красными бантами и розетками, над толпой виднелись два или три красных флага. Но ни Колчак, ни иные лица, принимавшие парад, никаких бантов и ленточек себе не позволяли — тем более что пока и не было указаний из Петрограда по части дальнейшей судьбы армейского церемониала.
Когда последний отряд реалистов, сопровождаемый оркестром, прошел мимо собрания и площадь опустела, если не считать зрителей, не спеша расходившихся по домам, потому что было уже около часа и пора обедать, Колчак обратился к стоящим ближе прочих генералу Веселкину и епископу Сильвестру и произнес благодушно:
— Кажется, мы успели.
Глупый Веселкин хохотнул, не поняв, чего же успели, и сказал:
— Пора, пора, желудок пищи просит!
И сам захохотал.
— Свой долг перед революцией мы сегодня выполнили, — заметил ехидный Сильвестр, и остальные вокруг засмеялись.
— Впрочем, вы правы, — позволил себе улыбнуться Колчак. — Мы заработали обед. Революционерам уже поздно начинать демонстрации.
Он был уверен, что достаточно долго отвлекал внимание горожан и нижних чинов.
В час уехали обедать к Веселкину, полагая, что праздником революция завершилась. Но не учли, в том числе и умный Александр Васильевич, что дальнейшие события могут включать иных участников, вовсе не тех, что прошли парадом или отхлопали в ладоши.
Пока шел обед, сложилась иная ситуация.
Бухта была буквально наполнена шлюпками, катерами, яликами, баркасами — шло первое воскресенье после революции, и если в будний день матроса можно заставить красить палубу или грузить уголь, воскресный день — святое дело, отдых. На то есть закон и порядок.
Всю неделю матросы на кораблях питались слухами и случайными новостями. Все жаждали узнать — что же случилось. Ведь если революция — это нас касается или нет?
Матросы сходили на Графской пристани, встречали знакомых из других команд и экипажей, мало кто спешил на свидание — наступал день политики, а не любви. Даже для самых от политики далеких, даже не знавших, что такое политика, новобранцев.
Обычно матросы, сходя на берег, на Графской пристани или Нахимовском не остаются — зачем маячить на глазах у начальства? Они переходят туда, где тише, — на Исторический бульвар, а то в Татарскую слободку или на Корабельную сторону, к полуэкипажу.
К полуэкипажу тянулось больше всего народу. Там, на громадном плацу, окруженном казармами, и оставались. В полуэкипаже народ самый осведомленный, они не грузят уголь, к ним попадают газеты — они на берегу.
Почему-то Александр Васильевич, который все старался предусмотреть, объединяющей роли полуэкипажа не учел, как не учел и святости воскресного дня. Впрочем, если бы учел — может быть, задержал бы течение революции в Севастополе на день-два. А потом все равно колесо судьбы, катившее по России, взяло бы свое — и закрутило бы и Севастополь, и Черноморский флот, и весь Крым так же, как это случилось во всех других городах и гарнизонах.
Часам к трем во дворе полуэкипажа скопилось несколько тысяч человек — большей частью матросов. Но было немало солдат и портовых рабочих. Чтобы ощутить силу, хотелось быть вместе со своими. И когда своих стало много, потом очень много — ощущение силы пронизало весь плац. Ораторы, которые поднимались на большие ящики, стащенные на середину плаца, сначала говорили то, что узнали из газет, — говорили о Петрограде. Но вскоре оказалось, что революция имеет иное понимание — кто-то первый вдруг выкрикнул:
— А у нас революции нету! Ее адмиралы в кармане держат!
Толпа радостно загудела — эти слова были важнее, чем то, каков состав Временного правительства в Петрограде.
Ораторы выстроились в очередь. Толпились, спешили сказать. Всех слушали, если недолго. Ораторы произносили слова, которые можно говорить жене или другу, но вслух, для всех, с трибуны их никогда не произносили и не думали, что будет возможно.
К невозможному в политике человек привыкает за несколько минут. Шок короток — как, неужели это и мне можно? На глазах рождаются ораторы, никогда ранее не витийствовавшие за пределами своего кубрика, а оказывается, вполне приемлемые ораторы, потому что куда лучше Гучкова или Шульгина отражают желания тех тысяч, что стоят вокруг разинув рты, слушают, удивляются сопричастности к великим делам.
— На улицах городовые, как при царе!
И царь уже далекое историческое прошлое, хоть и прошло-то три дня, как его скинули.
— А политических еще из тюрем не выпустили! Куда это годится?
И уже в углу плаца собрались, создают комиссию по освобождению заключенных.
И наконец кто-то, солдат, выкрикивает самую крамолу:
— Вызвать сюда Колчака! Пускай ответит народу, что это делается!
Эта крамола пришлась по душе — потому что иначе получался тупик. Говорили о безобразиях друг другу — и никто не слушал. Значит, все так и останется? А вот если вызвать Колчака, если сказать ему всю правду, командующий послушает, и что-то произойдет.
Никто на плацу еще не понимал, что само обращение к Колчаку как к инстанции, которая обязана распоряжаться, принимать меры и командовать, подразумевает подчиненность этой массы людей адмиралу. Никто еще не решался объявить себя или себе подобных инстанцией решающей — себе подобные оставались пока просителями.
В той части толпы, что была ближе к казармам, произошло возмущение, словно по ней пробежала волна — центром волны был невысокий человек в черной фуражке, его выталкивали толпой к трибуне и наконец выбросили на ящики. Человек оказался капитаном первого ранга со странной фамилией Гсетоско, который служил командиром полуэкипажа и по требованию активистов только что говорил по телефону с адмиралом Колчаком, который вернулся в Морской штаб после обильного веселкинского обеда. Александр Васильевич сам взял трубку…
Каперанг Гсетоско говорил сбивчиво, был напуган, хотя Колчак знал его как рассудительного, спокойного человека. Он произносил «митинг», «президиум», «представители», и Александр Васильевич старался не показать раздражения и в то же время внушить собственной выдержкой спокойствие растерянному каперангу.
— Передайте членам президиума, — говорил Александр Васильевич тихо, а Гсетоско тут же повторял слова набившимся в комнату людям, — что я поручаю вам, господин капитан первого ранга, ознакомить публику с текущими событиями и положением дел в столице. Сам же я занят неотложными делами и не смогу приехать.
Отказ адмирала вызвал гнев толпы. Гсетоско заперли в кабинете, а двух лейтенантов послали в Морской штаб гонцами.
Толпа вовсе не намерена была расходиться, и в ней возник уже спортивный азарт. Ей нужен был именно Колчак — никто другой. И иные кандидатуры отвергались немедленно — требовалось переспорить самого адмирала.
Противостояние кончилось тем, что на плац гневно ворвался «Руссо-балт» адмирала.
Колчак поднялся на сиденье раньше, чем остановился автомобиль, и потому сразу оказался выше ростом, чем остальные. Так с автомобиля он и говорил — не так громко, — многим не было слышно, но все молчали, откричав торжествующе: «Колчак приехал! Ура! Наша взяла!» — и, придя в благодушное настроение, замолчали и слушали адмирала, полные милосердия к поверженному противнику.
Александр Васильевич полагал, что само его появление успокоит толпу. Потому он сухо и быстро сказал, что не имеет новых вестей из столицы, а завтра, по получении новостей, разошлет их по кораблям.
Больше говорить было нечего, и Колчак собрался — и все это увидели — приказать шоффэру ехать прочь. А ехать-то надо было через толпу — автомобиль стоял почти в центре плаца.
От этого жеста или намерения жеста в толпе, расходясь к ее краям, пошел недовольный гул. Получалось, будто Колчак приехал только для того, чтобы сделать выговор за непослушание.
Гул все рос, а толпа начала напирать на автомобиль. На ящик взобрался телеграфист и кричал:
— Пускай господин адмирал выскажет свою точку зрения на нашу революцию!
Колчак пытался, надеялся переждать зловещий, в несколько тысяч глоток гул, но сдался, и не потому, что оробел, а за отсутствием опыта таких встреч. До того он встречал толпы матросов разведенными по шеренгам. И он заговорил, а толпа затихала, стараясь уловить те, особенные слова, что доступны командующему:
— …Мое мнение заключается в следующем: в данный момент и в той обстановке, которая нас окружает, нам не следует предаваться излишней радости и спешить с необдуманными решениями.
По мере того как Колчак успокаивался и замирала толпа, голос адмирала крепнул, а площадь, в старании слушать, становилась покорной.
— Вам известно, что война не кончена, армия и флот должны вынести максимум напряжения, чтобы довести ее до победного конца. Враг еще не сломлен и напрягает последние усилия в борьбе. Если мы это забудем и все уйдем в политику, вместо победы мы получим жестокое поражение. Боевая мощь флота и армии должна быть сохранена. Матросы и солдаты должны выполнять распоряжения офицеров! Это будет залогом наших успехов на фронте!..
Когда Колчак закончил свою короткую речь, на площади еще некоторое время царила тишина, так как неясно было, как же адмирал: за революцию или за что еще?
Но что положено делать, никто не знал, пока из толпы не донесся отчаянный крик, будто человека озарило и он боялся, что упустит момент и не успеет сделать самое важное.
— Телеграмму! — вопил надтреснутый голос, перебиваемый кашлем. — Телеграмму!
— Телеграмму! — подхватили люди, тысячи глоток.
Колчак был растерян. Он не сразу понял, даже наклонился к флаг-офицеру, который сидел рядом с шоффэром. Тогда Колчак облегченно улыбнулся.
Он поднял длинную руку.
— Я с радостью разделяю… — закричал он, и на этот раз голос адмирала завладел всей площадью. — Я разделяю ваше стремление. Сегодня же будут посланы в Петроград телеграммы, в которых будет выражена твердая поддержка Черноморским флотом Временного правительства. Завтра же телеграммы будут напечатаны в газетах!
И тут толпу охватило облегчение: главное было совершено — было принято решение. Было достигнуто единство!
Отъезжавшего Колчака провожали криками «ура!», вверх летели бескозырки и папахи.
Александр Васильевич уже не верил, что в Севастополе будет мир, и понимал, что его отъезд, какими бы криками ни провожали его матросы и солдаты, вызовет не успокоение, а новые сомнения и стремление участвовать и далее в великих событиях, хотя никто толком не знал, как лучше это сделать.
Колчак домой не поехал, а уединился в своем кабинете в Морском штабе, потому что там была связь с Петроградом, хотя, впрочем, из Петрограда не поступало достойных внимания вестей. Там революция по случаю воскресенья отдыхала, упиваясь недавней победой.
Коля Беккер робел выходить в город, но Раисе, умаявшейся за день за уборкой и готовкой, хотелось погулять по свободной России, и она сказала Коле, что рассчитывает на его общество.
Коля, размякший после сытного южного обеда под домашнюю настойку, попросил только, чтобы прогулка произошла попозже — ему хотелось спать. Раиса не стала спорить. Они не могли лечь вместе, потому что в любой момент мог прибежать с улицы Витенька, и Коля был тому рад — он как провалился в сон.
Раиса разбудила гостя через полтора часа, она была в нижней рубашке и горячими щипцами завивала волосы. Коля с облегчением подумал: какое счастье, что эта женщина — не его жена, что он может в любую минуту уйти отсюда и забыть Раису. И сознание такой свободы было приятно и даже расположило к этой толстеющей вульгарной мещанке. Пускай это сокровище достанется Мученику.
Когда Коля, наученный горьким опытом, хотел было надеть пиджак, Раиса воспротивилась — она хочет гулять с офицером. На его опасения она ответила с ухмылкой:
— Ангел ты мой! Так кто же в Севастополе посмеет моего мужика тронуть?
Как ни странно, эти слова убедили и успокоили Колю. Он сам был родом из небольшого города, в котором некоторые фигуры, вроде бы и не имеющие официального статуса, пользовались полной неприкосновенностью и авторитетом.
Так что Коля отправился гулять по вечернему Севастополю под руку с Раисой — в бумажнике студенческий билет Андрея Берестова и его же единый билет на московский трамвай.
Билет Берестова был взят Беккером из синей папки, где в числе прочих дел лежал конверт с бумагами арестанта Андрея Берестова. Разумеется, убегая, Берестов взять их не мог. Вначале Беккер не намеревался каким-либо образом использовать чужие документы, но обстоятельства заставили его это сделать. Оказалось, что этот шаг, предпринятый в минуту отчаяния, в самом деле вполне разумен. Революция должна дать возможность начать новую жизнь. Надо раствориться, стать незаметным, обыкновенным, как все, и именно с такой позиции можно двигаться вперед. И куда лучше быть Андреем Берестовым, нежели Николасом фон Беккером. Думая так, Коля усугубил свое положение — фон Беккером себя называл только он сам.
Был вечер, стало примораживать, на лужах, что натекли за день, появился хрустящий лед. К шести большие толпы собрались на Историческом бульваре, у городской управы. Городская управа заседала, и люди хотели знать, какие будут решения. По обе стороны толпы скопилось немало трамваев, пролеток и автомобилей, которые, не в силах пробиться, уже устали звонить и гудеть. Но толпа шумела так, что гудков не было слышно. Время от времени на верхней ступеньке управы появлялся кто-либо и сообщал, как идет заседание в Городской думе.
Когда Коля с Раисой под руку подошли к толпе и даже вклинились в нее, насколько можно было, в дверях появился красный, распаренный городской голова Еранцев, на груди которого, поверх жилета, висел на цепи серебряный знак.
Еранцев умолял людей не мешать работе, утверждал, что Дума принимает меры — все жандармы будут арестованы и полиция разоружена. Но из толпы уже требовали разоружить и всех офицеров, потому что хороший офицер — это мертвый офицер.
Услышав эту филиппику, в толпе засмеялись, и соседи спрашивали: «Что он сказал?», «Что там сказали?» Фразу передавали, и она катилась по площади до трамваев, и все смеялись. Коля впервые услышал смех, вызванный предложением кого-то убить.
— Может, пойдем отсюда, а? — спросил Коля.
— Погоди, раз уж пришли, — ответила Раиса.
— Мы непрерывно вызываем по телефону господ Колчака и Веселкина! — кричал потный Еранцев. — Но в Морском штабе никто не берет трубку.
Еранцев ушел внутрь, на ступеньки поднимались люди из толпы — лица их в сумерках были плохо различимы, а свет на улице не зажигали. После каждой речи в толпе кричали «ура!» — люди замерзли и криками согревались.
На ступени поднялся солдат крепостной артиллерии. Говорил он хорошо, видно, был городской. Он сказал, что офицеров здесь нет — офицеры скрываются, готовят заговор — хотят вонзить ножи в спину революции.
Тут же рядом появился матросик — бушлат нараспашку, видна тельняшка.
— Я знаю — они в морском собрании в карты играют, коньяки распивают. Пошли туда! Возьмем всех на цугундер и спросим: а ну, за кого вы — за народ или за царя?
Тут уж кричали «ура!» так громко, как никому иному не кричали.
Раису почему-то это обидело. Она начала громко говорить, обращаясь к окружающим:
— Ну что же это за порядки? Зачем так на офицеров говорить? Ну, Коля, возрази! Выйди и скажи, Коля!
— Офицер! — закричал мужик рядом с Колей. — Здесь он! Пускай говорит! Чего попрятались?
— Пускай говорит! — шумели вокруг.
— Ну вот, — сказал Коля укоризненно Раисе, но та была уверена в себе.
— Иди, — сказала она. — Почему не пойти.
Колю толкали в спину, тянули за рукав.
— Давай! Давай! — кричали издалека. — Где офицер?
Колю вытолкнули из толпы на лестницу — он выпрямился, оправил шинель, фуражку.
— Разве это офицер? — закричали из толпы. Но кто кричал, Коле было непонятно, потому что все лица были серыми пятнами — все одинаковые. Да и сам он для людей был лишь силуэтом на фоне открытой двери в городскую управу, вестибюль которой был ярко освещен.
— Какой это офицер? — кричали совсем рядом. И еще кто-то засвистел: — Это же прапорщик!
— Господа! — закричал тогда Коля, который понимал, что, если не найти нужных слов, его могут растоптать, избить, убить. — Вы не правы, господа! Офицерство совсем не однородное! Я сегодня стоял рядом с адмиралом Колчаком! Это настоящий патриот — он тоже за революцию!
Несколько человек закричали «ура!». Дальше по бульвару, те, кто ничего не слышал, подхватили, крик прокатился вдаль. У управы давно уже молчали, а окраины толпы все шумели.
— Вспомните лейтенанта Шмидта! — Коля поднял руку, как Суворов, который шел впереди своих гренадеров. — Он был золотопогонником, но отдал жизнь за свободу народа… Гарантия свободы — сплочение всех сторонников Временного правительства!
Коля говорил и еще — ему кричали, ему свистели, впрочем, мало кто понимал или слышал, что говорил этот худой высокий прапорщик. Самый упрямый из трамваев двинулся, пробиваясь сквозь толпу. На темной улице особенно ярко светились его окна.
Коля хотел спуститься к Раисе, но за его спиной уже стоял сам городской голова и еще какие-то чины из Думы. Еранцев тянул Колю внутрь здания:
— На минутку, господин прапорщик. На минутку.
В вестибюле толпились люди состоятельного и весьма напуганного вида.
— Мы вам искренне благодарны за то, что вы успокоили толпу, — сказал Еранцев.
Один из гласных, тучный и тоскливый, протирая пенсне, добавил:
— Мог быть мордобой или даже смерть, да, смерть!
Остальные в вестибюле недовольно зашумели — гласный был нетактичен, никто не намеревался говорить о смерти.
— Господа! — возопил тучный гласный. — Вы забываете о судьбе мичмана Фока!
— Надеюсь, никто из нас не последует его глупому примеру, — отрезал Еранцев. — В десять здесь будет адмирал. Давайте выберем президиум. — Еранцев обернулся к Коле: — Надеюсь, вы не откажетесь представлять наше боевое офицерство.
— Неужели не найдется более достойного офицера? — спросил Коля. Он вспомнил, что Раиса стоит на улице, среди солдат, в темноте, ждет его — надо спешить.
Но Еранцев тут же повлек Колю, расталкивая людей, толпившихся на лестнице, на второй этаж, к буфету, чтобы подкрепиться, а вокруг в тесноте и различии мнений согласовывали состав президиума. Пока спорили, Коля успел съесть холодную куриную ножку и запить хорошей мадерой.
Колчак прибыл в Думу в десять ноль-ноль. Его приближение издали анонсировалось перекатывающимся криком «ура!», что приближался по бульвару.
Включили привезенный прожектор и им осветили ступени управы. Колчак стоял прямо, не щурился, хотя лицо было мертвенно-белым — свет прожектора бил прямо в глаза. Колчак сообщил, что приветственные телеграммы правительству посланы. Затем он дал согласие на разоружение полицейских и жандармов. Караул у казначейства и учреждений будут пока нести матросы.
Затем Колчак прошел внутрь управы, и там, в зале, наполненном гласными Думы, а также зрителями, заседание продолжалось. Отвечая на вопросы, Колчак вел себя сдержанно и ничем не выдавал ни усталости, ни раздражения. Что ж, показывал он каждым жестом и словом, вы так хотите. Я ваш верный слуга. Соратник.
Правда, не все так это понимали. Возмутителем спокойствия оказался вертлявый вольноопределяющийся, который стоял у сцены и держал в руке блокнотик. Он выкрикивал свои вопросы невпопад и нагло, чем вызывал восторг гимназистов и мальчишек, набившихся на галерку.
Вот этот вольноопределяющийся и оказался соломинкой, сломавшей спину верблюду. Колчак неожиданно остановил Еранцева, сделал шаг вперед и со злобой, сквозь зубы, но достаточно громко спросил:
— Вы кто такой, ну?
И в глазах, и голосе Александра Васильевича была такая сила, что зал послушно замолк, а вольноопределяющийся вытянулся во фрунт и покорно сообщил:
— Вольноопределяющийся Козловский, ваше превосходительство!
Галерка шумела, свистела, поддерживая Козловского. Колчак замолчал. Он смог пристыдить, испугать одного человека, но не мальчишек, защищенных от него расстоянием, высотой и обществом себе подобных.
И тогда Коля понял, что он может и должен помочь адмиралу. Коля встал, прошел несколько шагов к краю сцены и, подняв руку, закричал:
— Тишина!
Голос у Коли зычный, глубокий.
— Я требую, — продолжал Коля, и все замолчали, — немедленно вывести из зала этого подонка! Он позорит весь город. Он позорит революцию!
Второе выступление за вечер оказалось даже более успешным, чем первое.
— Долой! — закричали в зале.
— Нет, — перекрыл шум голосов Коля. — Так не пойдет. Господин Еранцев, поставьте вопрос на голосование!
Проголосовали. Через три минуты Козловский покорно пошел к выходу. На демократических основаниях. Галерка свистела разрозненно и неуверенно.
Когда собрание кончилось, Колчак остался на сцене, разговаривая с гласными.
Еранцев увидел, что Коля намерен уйти, сказал:
— Нет, ты теперь наш, ты теперь политик.
Он под локоть повел Колю на сцену.
Они подошли к группе беседующих, и Колчак, не оглядываясь, почувствовал их приближение. Он резко повернулся к Коле и сказал:
— Спасибо, прапорщик. Вы оказали мне ценную услугу.
— Ну что вы, ваше превосходительство, — искренне смутился Коля. — Это был мой долг.
— Мы намерены привлечь молодого человека к нашей деятельности, — сказал Еранцев.
— Похвально, — согласился Колчак.
Он улыбнулся открыто и дружески — он умел это делать и знал эффект открытой улыбки на сухом жестком тонкогубом лице. И протянул руку.
Пальцы адмирала были холодными и чуть влажными.
— Рад с вами познакомиться, — сказал Колчак. — Прапорщик…
— Берестов, Андрей Берестов.
— Где служите?
— В Симферополе. Здесь я в отпуске по семейным обстоятельствам.
— Завтра прошу вас быть в моем штабе на борту «Георгия». Вам будет удобно в десять утра?
— Так точно, — сказал Коля. — Разумеется.
Еранцев полуобнял Колю за плечи и запел:
— Не забудь, что ты наш — наш, наш…
Раиса дождалась Колю. Она пробралась в зал, только он ее не заметил, и видела его триумф.
Она ждала его у выхода, выскочила из темноты, подхватила под локоть — Коля даже испугался.
— Что он тебе говорил? — спросила она.
— Кто?
— Ах, не притворяйся — Колчак, — засмеялась Раиса и ущипнула Колю за локоть. — Сам адмирал. Думаешь, я не видела?
— Он завтра ждет меня.
— Ой, Пресвятая Богородица, — пропела Раиса. — И за дело! Ты как того, прапорщика, осадил. Ты смелый!
Раиса поднялась на цыпочки и поцеловала Колю в угол рта.
— Погоди, — сказал Коля, — домой придем.
— Сама еле терплю, — сказала Раиса. — Я как волнуюсь, сразу желания возникают. И аппетит!
Это показалось ей очень смешным.
Улицы были совершенно темными, только белели заборы да полосы по краю тротуаров. В конце концов, Веселкин не такой уж дурак.
— Может, адмирал тебя к себе возьмет, — сказала Раиса.
— Ну уж… оставь.
— А как мне тебя теперь звать? — засмеялась Раиса. — Колей или Андрюшей?
— Как хочешь.
— А зачем ты имя поменял? Может, его полиция ищет?
— Я тебе обязательно расскажу, — сказал Коля. — Ты не бойся. Я честный человек.
— А мне на что твоя честность? — засмеялась Раиса. — Мне мужик нужен, а не монах.
Глава 3
Март 1917 г
Путешествие Лидочки, бесконечное, пока длилось, показалось мгновенным, когда она очнулась. Как обморок. Лидочке раз в жизни пришлось упасть в обморок, на молебне в гимназии, прошлой весной. Ей было душно, потом стало тошнить, и все поплыло. А когда она открыла глаза, легкие были наполнены отвратительным запахом нашатыря. Ей сказали, что она пробыла в обмороке минут десять, пока все суетились, бегали за доктором и искали нашатырь. Именно эта краткость даже долгого беспамятства лежит в основе тех религий и учений, что проповедуют переселение душ, — смерть в них становится секундным переходом в иное состояние.
Еще не открыв глаза, Лидочка поняла, что проснулась ранней весной.
Наверное, это стало ее первой мыслью, потому что, отправляясь в путешествие и страшась его, Лидочка начала думать — куда она попадет. А когда завершила путешествие, подумала, что такой холодный, но уже включающий в себя пробуждающиеся запахи завтрашней листвы, теплоту уже греющего солнца воздух бывает лишь в марте.
Лидочка открыла глаза и зажмурилась вновь, потому что в лицо ударил солнечный луч.
Она повернула ладони к земле и поняла, что лежит на гальке, к счастью, сухой. И даже не очень холодной. Видно, солнце за день согрело ее. За день? Конечно же — солнце справа, на западе. И уже садится. Значит, скоро вечер.
Лидочка села, опершись на ладонь, и галька под ладонью разъехалась, отчего пришлось коснуться холодных и мокрых голышей, что скрывались под верхним прогретым слоем. Лидочка встала. Пляж был пуст — ни одного человека. Лидочка перевела взгляд на море — море также было пусто. Впрочем, в такое время года, да еще к вечеру, ялтинские рыбаки в море не выходят.
Чайки кричали, дрались вдали у воды — но это был единственный звук, и оттого было тревожно.
«Я оказалась в будущем весной вместо осени. Может, сломалась машина? Если я здесь одна… Тогда надо скорее домой — а то вдруг родители куда-нибудь уедут?» Лидочка поймала себя на том, что идет, ускоряя шаг, скользя по гальке, к тропинке, чтобы скорее подняться наверх… И тут она остановилась с облегчением.
Глупая, сказала она себе. Почему надо ждать? Если ты отстала, нажми снова на кнопку — только аккуратнее, и догонишь.
Лидочка даже рассмеялась — глупые страхи! И в мгновение ока море и крики чаек перестали казаться зловещими.
«Не исключено, — рассуждала Лидочка, — что Андрюша уже ждет меня у платана. Может, даже сегодня. В шесть часов. Каждый день — в шесть часов…»
Лидочка поднялась наверх и быстро пошла по узкой аллее к выходу из сада, мимо пустой эстрады, металлических прутьев, что держат летом тент у шашлычной, мимо заколоченного ресторанчика… Сад был совершенно пуст и беззвучен, и оттого тревожные мысли возникали вновь.
Если табакерка могла ошибиться на полгода, она могла ошибиться и на пять лет? И на десять? Она могла забросить ее за десять лет, а Андрюшу — за сто… Что знает она об этой табакерке? Почему так легко доверилась ей?
— Выхода не было! — сказала Лидочка вслух, будто хотела отогнать кем-то навеваемые сомнения. — Что мы могли сделать?
Никто ей, разумеется, не ответил, даже эхо молчало.
Лидочка быстро шла к набережной, с каждым шагом все более оказываясь во власти воображения, рисовавшего ей картины пустого города, подобно умершим городам будущей Земли, как описывал их Герберт Уэллс. Сейчас начнет темнеть, и изысканные, слабые, изнеженные элои спрячутся в развалинах своих замков, отдав землю во власть страшных морлоков. А она? Беззащитная, никому не нужная, никому не известная…
Захотелось спрятаться — в теплом темном углу, где тебя никто не отыщет до тех пор, пока не придет мама и не велит идти ужинать. Лидочка даже оглянулась в поисках убежища, но за исключением заколоченного на зиму киоска с плохо, но весело нарисованным белым медведем, держащим в когтях стаканчик с мороженым, никакого иного убежища поблизости не было.
«Но может быть… может быть, спаси Господи и помоги, Пресвятая Дева, не оставь меня здесь одну, я же ни в чем не виновата…» В ушах звенело от страха, и потому пожилой женщине, что подошла совсем близко, пришлось раза три окликнуть Лидочку, прежде чем та услышала.
— Не бось, не бось, — сказала женщина, сама отступив назад от перепуганного взгляда девушки. — Я тебя не трону, я только спросить хотела — ты дубков не возьмешь? Глянь, какие дубки, розовые, желтые, пышные, как хризантемы, — дешево отдам, домой пора… Да ты не бось, не бось…
— Ой, — сказала Лидочка, готовая расплакаться от благодарности к этой женщине, — я не боюсь, я от неожиданности. Давайте я вам корзинку донесу, помогу…
— Не надо, — твердо ответила женщина, сообразившая, что с Лидочкой лучше дела не иметь. — Иди куда знаешь.
— Я могу купить, — нашлась Лидочка. — Сколько за букет?
— Купишь? — недоверчиво спросила женщина.
— А как же?
Лидочка открыла свою сумку, большую, набитую, сразу запуталась в плотности переплетенных вещей, но, к счастью, быстро отыскала кожаный кошелек.
— За рубль, — сказала женщина твердо. — За рубль букет.
— Что же так дорого? — удивилась Лидочка.
— А где ты дешевые видала? Деньги-то чего стоят? Деньги ничего не стоят.
Женщина поставила корзинку на скамейку и поправила серый платок. Щеки и подвижный от постоянного шмыганья длинный нос были красными.
Лидочка нашла серебряный рубль и протянула женщине как раз в тот момент, когда та, отобрав два хилых дубка, размышляла, добавить ли ей третий. Женщина увидела серебряный рубль и была поражена этим настолько, что не могла скрыть удивления.
— Вы что? — спросила Лидочка. — Если не хотите серебряный, тогда разменяйте, у меня только пятерка — и вот рубль.
— Беру! — крикнула женщина, словно прикрикнула на кошку. — Давай!
Она выхватила рубль, потом вытащила из корзины, не глядя, еще несколько дубков и протянула Лидочке.
— На счастье, — сказала женщина. — Дай Бог тебе жениха хорошего.
— Ой, спасибо!
Глядя вслед женщине, Лидочка с наслаждением ощущала, как узлы, в которые собрались ее нервы, расслабляются и становится легче дышать…
— Морлоки цветов не покупают и цветами не торгуют, — сказала вслух Лидочка, — значит, это не далекое будущее, а наше.
Лидочка шла дальше, и вскоре перед ней открылась вся длина вогнутой набережной, и на ней точками и блошками раскиданы неспешные человеческие фигурки. Город был жив, а это главное…
Проходя мимо «Ореанды», возле которой, как обычно, дежурили извозчики и стоял закрытый черный автомобиль, Лидочка пожалела, что не спросила у торговки цветами о сегодняшней дате.
Только Лидочка так подумала, как увидела, что по набережной, волоча ноги, бредет мальчишка, прижимая к груди пачку сложенных газет. Он был прислан свыше, чтобы избавить Лидочку от терзаний.
Пожалуй, газетчик менее всего удивился бы, если б Лидочка спросила у него, какое сегодня число, нежели тем, что девушка скупила по штуке все оставшиеся у него газеты: и «Таврию», и «Русское слово» двухдневной давности, и газету «Ялтинский вестник», и новую — «Таврическую правду», доставленную вчера из Симферополя.
Мальчишка долго еще смотрел, как жадно эта странная девушка впилась глазами в газеты. Словно из тюрьмы сбежала, подумал мальчишка, потому что у него старший брат и отец были в Сибири за контрабанду и теперь в семье надеялись, что революция их скоро выпустит, как выпустила тех, кто был в ялтинской тюрьме.
Девушке не грех бы причесаться. А то стоит как чучело гороховое, не замечает, что шляпа у нее на ухо съехала…
Лидочка чувствовала невысказанные мысли мальчишки, не зная, что чувствует их, — само путешествие во времени не проходит бесследно для организма, попавшего в поток и пересекающего, обгоняющего время. Мало кто еще, даже за пределами Земли, задумывался о конкретных проявлениях этих перемен, но те, кто начал путь раньше, кто прошел через несколько прыжков, уже догадывались о приобретении особых качеств, в том числе умения угадывать мысли — не читать, но именно угадывать. Но ни Лидочке, ни Андрею никто не успел и не смог рассказать о цели их путешествий и, конечно, об их новых качествах или ощущениях.
Проглядывая первую страницу «Таврии», Лидочка поправила шляпку и заправила под нее выбившуюся прядь волос.
Она уже поняла, что совершила ошибку, но ошибку, пожалуй, выгодную для себя, — она прилетела в день 5 марта 1917 года, то есть на несколько месяцев позже, чем нужно. Значит, Андрюша, если у него все в порядке, уже давно ждет ее, может, всю зиму, коли не догадался сделать новое движение в будущее, чтобы догнать Лидочку.
Сегодня 5 марта, воскресенье, до вечера время есть, можно осмотреться и понять, что произошло за два с лишним года ее отсутствия в городе.
Лидочка аккуратно сложила газеты и отправилась искать публичный туалет — раньше ей там бывать не приходилось, мама полагала это заведение негигиеничным!
Старухе, похожей на престарелую императрицу Екатерину Великую, Лидочка заплатила полтинник (как поднялись цены!) за бумажную салфетку и мыло. И увидела себя в зеркале. Она долго и внимательно разглядывала свое лицо в поисках морщинок — ничего не отыскала, хотя цвет кожи ей не понравился — можно подумать, что она выбралась из подземелья. И глаза лихорадочно блестят, словно поднялась температура.
Как только Лидочка умылась и причесалась, тут же вернулся интерес к газетам. Лидочка уселась в сквере на лавочке и погрузилась в чтение.
Больше всего ее волновало, кончилась ли война. Она почти не сомневалась в том, что война кончилась — войны не бывают такими долгими. Важно было, кто победил и что сделали с побежденными. Хотя и здесь особых сомнений у Лидочки не было — победят «наши», Антанта, потому что противники окружены со всех сторон, лишены топлива и припасов. Это было известно уже осенью четырнадцатого года и потому должно было быть втрое более очевидным весной семнадцатого.
Но узнать о войне Лидочке не пришлось, потому что первым большим заголовком в «Таврии» были слова:
«ЗАСЕДАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. РЕЧЬ МИНИСТРА КЕРЕНСКОГО».
…Ты идешь в лес, ты рассчитываешь найти белый гриб. Ты не очень удивишься, если узнаешь, что другие грибники тебя обогнали и все белые грибы собраны. Ты согласен даже собрать свинушки или сыроежки. Но если вместо белых грибов в лесу ты видишь маленькие мотоциклы, ты, наверное, решишь, что сошел с ума.
Нечто подобное пережила Лидочка, поняв через несколько минут чтения, что в России свергнут законный император. Разумеется, не надругательство над священной особой потрясло ее — в ее круге о Николае никогда не говорили иначе как с презрением, она была страшно разочарована, что не присутствовала при этом событии, что оно разворачивалось и происходило — как и вся революция — без ее участия. Это было подобно тому, как проспать приход Деда Мороза.
Оказалось, что теперь в России есть Временное правительство князя Львова, а государь заточен с семьей в Царском Селе. Люди празднуют свободу и ждут выборов в Учредительное собрание, а Лидочка из-за этой проклятой табакерки, которая не может толком отправить человека в будущее, пропустила самое главное событие в жизни страны. Все видели революцию, все участвовали в ней… Все, кроме Лидочки.
Теперь выгонят генерала Думбадзе, решила Лидочка. Он типичный угнетатель и царский сатрап. И тут же взгляд Лидочки упал на сообщение:
ОТЪЕЗД ГЕНЕРАЛА ДУМБАДЗЕ В СИМФЕРОПОЛЬ
Известного ялтинского градоначальника, с именем которого связаны как светлые, так и многочисленные темные страницы в истории нашего города, вызывают наверх — возможно, в Петроград, где он должен будет дать ответ перед народными избранниками о своих сомнительных деяниях, — смело утверждала газета, и Лидочке было приятно сознавать, что ее позиции и позиции газеты совпадают.
Лидочка перевернула газету, поглядела на последнюю страницу, где большую часть текста занимали объявления, а над ними несколько кратких колонок — куда более кратких, чем в 1914 году: «Вести с полей боев».
Война все шла и шла, война еще не кончилась… Это было второй невероятной новостью после пропущенной революции.
До темноты, до редких фонарей и холодных звезд, Лидочка просидела на набережной, глядя издали на платан. В восемь часов Андрюши все не было, и окоченевшая Лидочка побежала по набережной, совсем забыв о том, что ее могут увидеть и узнать, ведь половина Ялты — ее знакомые. Но уже темнело, народу на набережной было мало, да местные жители и не ходят на набережную — что там делать?
Надо было думать о ночлеге, и хоть более всего ей хотелось вернуться домой и увидеть маму, именно этого делать не следовало, пока она не отыщет Андрея и не узнает, что за это время произошло дома.
Добежав до ряда гостиниц, Лидочка замерла, не в силах решить вопрос, куда идти дальше. За свои восемнадцать лет она в гостинице никогда не останавливалась и даже толком не знала, как это делается.
Уже обнаружилось, насколько непродуманно и не подготовлено было ее путешествие. А ведь Андрюше, понимала Лидочка, куда хуже, потому что у него совсем нет денег — она даже забыла ему передать. Когда одна мысль подавляет все прочие, о деньгах забывают. К примеру, в настоящем душераздирающем романе у героини никогда не заболит живот.
Лидочка решила выбрать гостиницу чистую и имеющую хорошую репутацию. Это было несложно, потому что репутации гостиниц были всем известны.
Сначала она зашла во «Францию», но там у нее потребовали документы — а какие могут быть документы у вчерашней гимназистки, которая живет со своими родителями?
Остановилась Лидочка в номерах «Мариано», где было тихо, пустынно, холодно, а портье долго разглядывал Лидочку. Лидочка вписала фамилию — Берестова. Портье — желтый, скучный, цветом и блеском лысины как старый бильярдный шар — прочел фамилию, и она ему ничего не сказала. Потом получил деньги за три дня вперед (как же иначе, если мадемуазель без багажа?), кинул на стойку ключ с большой деревянной грушей и сказал:
— С водой перебои, повар уволился — кушать будете в кафе, но если скажете мне или горничной — принесем чаю.
Глаза у портье были шоколадные, непроницаемые, будто взболтали какао без молока.
Лидочка поднялась на второй этаж — номер был длинный, как пенал. У двери был прикреплен рукомойник, в котором не было воды. Шкаф, кровать и столик вытянулись в струнку, иначе по ширине аршинной комнаты ничего бы не поместилось. Окно было узкое и выходило на двор.
Лидочка стояла у темного окна, глядела в ночь, в тщании понять — что же с ней происходит.
Ее не было в этом городе — несколько мгновений? Или два с половиной года? Угадать, сколько же в самом деле прошло времени, было невозможно. Сама она не постарела — по крайней мере так сказало зеркало. Значит, для нее прошло несколько секунд — ну ладно, пускай день… А здесь же в самом деле минуло два с половиной года. И никуда от этого не денешься. Значит, получается, что Лидочка как бы была в летаргическом сне или заколдована злой мачехой. Она спала, прекрасная и неподвластная времени, а весь мир катился вперед по своим законам — умирали и рождались люди, играли свадьбы и погибали на войне — сколько же людей погибло на войне, если война, оказывается, идет уже три года! А чем это кончится? Как мы учили в гимназии — Тридцатилетняя война, Столетняя, война Алой и Белой розы?
Лидочка пыталась вызвать горничную звонком, но никто не откликался, хотя Лидочка слышала, как где-то в конце коридора ссорились женские голоса. Лидочка пошла туда и нашла сразу двух горничных, но они не хотели носить воду, а собирались на заседание женского совета, потому что женщины должны участвовать в революции и бороться за свои права. За водой Лидочка ходила на кухню и оттуда принесла целое ведро. Она тащила это ведро и думала, как быстро люди ко всему привыкают — еще день назад (а для остальных два с половиной года назад) никому и в голову не пришло бы идти на кухню за водой. Нет воды — мы покидаем вашу паршивую гостиницу, и ищите клиентов где-нибудь в другом месте!.. Лидочка понимала, чувствовала, что жизнь изменилась, потому что теперь некому жаловаться. Лидочка беззащитна — и все обыкновенные люди потеряли свои права. Они получили свободу, которую дают людям революции, но это великое право совсем не означает свободы в повседневной жизни — они лишь делают эту жизнь хуже, а людей злее, так что правами могут пользоваться лишь сильные и плохие, а остальные лишаются и тех прав, что происходили у них от существования порядка.
Вымывшись холодной водой, Лидочка пошла на набережную — она проголодалась и надеялась, что ей удастся чего-нибудь купить, если не в кафе, то в магазине, и принести с собой в номер.
Магазин Тарасова, что выходил фасадом на набережную, оказался закрыт, зато по вкусному запаху Лидочка отыскала чебуречную на улице и стоя съела, штука за штукой, пять чебуреков, чем вызвала уважение чебуречника.
— Ты ешь, — сказал он, — а я буду тебя показывать — какие у меня вкусные чебуреки, какие хорошие чебуреки!
Старик говорил добродушно, и Лидочка не обиделась. А торговцу было скучно, потому что никто, кроме Лидочки, к нему не шел.
На удивление мало встретилось Лидочке на набережной знакомых. Почему-то ей казалось, что каждый второй будет узнаваем, — но нет, встретилась ей одна соученица по гимназии, которая шла с подпрапорщиком и, конечно же, никого вокруг не видела, встретился пожилой мужчина из соседнего дома — Лидочка с ним и в старой жизни не здоровалась, а сейчас — тем более.
Лидочка дошла по набережной до платана-свидетеля, но никого там не было, и ноги незаметно привели ее к родному переулку.
«Я только погляжу на окна, — уговаривала себя Лида, — и сразу уйду. Сначала надо найти Андрюшу. Ведь если мне придется снова уплывать в будущее, мама этого не переживет».
Окна на втором этаже не горели, значит, родителей не было дома. Может, они ушли куда-то в гости. Почему-то это показалось обидным, будто родители все эти годы должны были сидеть вечерами дома, слушая, не звякнет ли звонок, не вернется ли единственная дочь.
Впрочем, вернее всего, мать задержалась в госпитале, а отец — в порту.
Тогда Лидочка решилась — она быстро взбежала наверх и, достав из сумочки ключ, сунула его в замочную скважину.
Но ключ не повернулся. Он вошел до половины и не повернулся.
Лидочка замерла в растерянности — ключ должен был повернуться легко, но не поворачивался.
Она начала дергать его, стараясь повернуть, и тут услыхала изнутри коридора шаркающие шаги — шаги дошли почти до двери и замерли.
Таких шагов в доме быть не могло.
— Кто там? — донеслось изнутри — и голос был совершенно чужим, старческим, совершенно чужим.
В доме жили другие люди. Вернее всего, другие.
Лидочка вытащила ключ и сбежала вниз по лестнице. Звонить к соседям внизу и спрашивать их, где Иваницкие, она не посмела.
Лидочке не хотелось думать, что за эти годы дома случилось что-то плохое. Такое она просто изгнала из головы.
Лида вернулась в гостиницу, ничего не узнав и никого не найдя, а устала так, словно весь день таскала дрова.
Портье дремал за стойкой, обратив к подходившим сверкающую под многоламповым бра лысину. Лидочка попросила ключ — лысина ушла назад, появились шоколадные глаза.
— Мадемуазель Берестова? — сказал он. — Вас спрашивали.
— Кто? — Сердце от неожиданной радости пропустило удар.
— Немолодой мужчина, — сказал портье, — очень худой, но, по всему судя, солидный господин.
Может, Андрюша так переоделся и замаскировался?
— Плешивый, худой и весь в черном — и с такой эспаньолкой — как у Мефистофеля, простите, в опере. — Портье постарался улыбнуться, но мышцы его лица были к такому не приучены, и потому вместо улыбки вышла гримаса.
— Спасибо, — сказала Лидочка, забирая ключ. — Я знаю.
Она ничего не знала и не понимала — конечно же, это был не Андрюша, по описанию тот человек не мог походить и на отца, даже если тот каким-то чудом узнал, что Лидочка в Ялте… Да и кто знал, что Иваницкая и Берестова одно лицо? Значит, ошибка.
Лидочка поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж — зеленые стены коридора были изукрашены водорослями и лотосами. Дверь была коричневая. Лидочка открыла ее, зажгла свет.
В номере было, разумеется, пусто, но у Лидочки возникло ощущение, что там либо кто-то есть, либо кто-то был недавно. Трудно объяснить такую уверенность, но ничего мистического в ней не было — следы чужого запаха, неладно поправленное покрывало на кровати, на полу под сдвинутой ножкой кресла обнажился квадратик, обрамленный пылью… кто-то наверняка был в номере и осматривал его, трогал и передвигал вещи, что-то искал.
Лидочка нервно схватилась за сумку, которую держала под мышкой, — все ее ценности — и деньги, и бумаги Сергея Серафимовича — были с собой, она не смела расстаться с ними ни на секунду. Так что грабитель или сыщик, что осматривал комнату, ушел ни с чем.
Вот так-то, сказала себе Лидочка, почему-то обрадовавшись, что обхитрила жулика. Но тут же испугалась — ведь человек, обыскивавший ее номер, если он искал что-то ценное или известное ему самому, также понял, что Лидочка унесла ценности с собой. И если он в самом деле что-то знает или подозревает, то вернется ночью, когда она будет спать, или нападет на нее на улице, чтобы вырвать сумку.
Но такого человека быть в Ялте не могло — разве кто-то отправился в путешествие во времени следом за Лидочкой! Но могло быть другое и куда более страшное — Андрюша, прибывший сюда раньше, попал в руки к преступникам, которые пытали его и выманивали из него тайну, а теперь ищут Лидочку, чтобы отнять у нее деньги.
Нет, сказала она себе, эта история слишком романтическая, из приключенческого романа. Надо искать более простое объяснение. А более простое означает, что Лидочку приняли за кого-то другого. Мало ли Берестовых на свете…
Лидочка попробовала замок — замок был самый простой, его ничего не стоило отжать ножом. И крючок болтался без дела — не за что было его закидывать.
Все-таки Лидочка заперла дверь. Какой ни есть — но замок.
Несмотря на усталость, спать расхотелось. Она взяла сумку и стала думать — куда ее спрятать, чтобы грабитель, вернувшись, ее не нашел. Она подставила к шкафу стул и положила сумку на пыльный верх шкафа, но потом поняла, что если грабитель высок ростом, он без труда заглянет на шкаф и увидит сумку. Положить ее под матрас? Грабитель первым делом будет искать именно под матрасом и под подушкой, туда кладут свои секреты все женщины и дети.
Так она и стояла с сумкой в руке посреди комнаты, словно окаменела от невозможности решить задачку — как подыхающий от голода буриданов осел.
В коридоре глухо пробили часы. Лидочка считала их астматический бой: девять. Гостиница еще не стихала — по коридору проходили, разговаривая на возвышенных тонах, пьяные люди, хлопали двери — снизу доносился звук молдаванского оркестрика. На улице послышалась нестройная песня.
В дверь постучали.
Вот он! Лидочка стояла у окна, прижав к груди сумку. Пальцы ее тут же жутко замерзли — отнять у нее сейчас сумку значило отломать пальцы — иначе не возьмешь.
Постучали снова. «Проверяет, — поняла Лидочка, — здесь я или нет. Если я не откликнусь, он начнет взламывать замок».
— Откройте, — раздался голос. — Я смотрю в замочную скважину и знаю, что вы в апартаментах.
Голос был пьяный, глухой и неповоротливый.
Лидочка молчала, она прикрыла ладонью сердце, чтобы оно стучало не так громко.
— Вы будете моей, чего бы то ни стоило, — сказал голос. — Я видел вас и понял — обладание вами превратилось в смысл моей жизни. Вы меня слышите? Да ответьте мне, в конце концов! Неужели вам нужно, чтобы я ломал дверь?
После недолгой паузы последовал удар в дверь.
Лидочка отбежала на цыпочках к окну — посмотрела вниз — в комнате не было балкона, внизу, метрах в четырех, был тротуар.
— Мас-ка! — сказал голос из-за двери. — Ма-ас-ка! Я тебя знаю! Ты будешь моей! Соединись со своим пилотом!
Человек засмеялся и тут же продолжил трезво:
— На втором этаже есть камин. Я видел у печки ухват. Его достаточно, чтобы взломать дверь. Клянусь честью! Жди, птичка!
Лидочке слышно было, как преувеличенно твердые шаги удалились по коридору. За каждым тянулся хвостик тонкого звона — на нем были сапоги со шпорами!
Она считала секунды и не смела подойти к двери — пьяный мог караулить за углом. Но если он принесет лом или что-то подобное, то легко вскроет дверь.
Лидочка решилась. Она схватила сумку и приоткрыла дверь. Коридор был пуст. Тусклая голая лампочка светила из остатков разбитого абажура.
Лидочка со всех ног побежала по коридору и, когда увидела, что одна из дверей впереди резко открывается, — побежала еще быстрее, надеясь проскочить это место, но не успела и столкнулась — больно, висок расшибла — с лохматым мужчиной в синих очках, одетым в старую солдатскую шинель, — даже в тот момент Лидочка сообразила, насколько породистость носа и осанка не соответствуют одежде. Мужчина охнул, Лидочка вскрикнула, отлетая к стене:
— Простите, я нечаянно!
Мужчина покачал пышной шевелюрой и произнес:
— Такие времена, такие нравы. Вы не помните, как это звучит по-латыни?
Лидочка тут же побежала дальше — лестница была темной, дверь внизу прикрыта, но не заперта — через минуту Лидочка оказалась в фойе.
Портье с удивлением повернул голову, и Лидочка поняла, что он более всего похож на кондора или грифа с картинки из папиного Брэма. Голова голая, костяной желтый клюв и жабо вокруг тонкой шеи — шарф, замотанный, видимо, от простуды.
— Если так будет продолжаться, — закричала Лидочка, полагая, что говорит внушительно и негромко, — я тут же иду в полицию! Что это такое?
— А что такое? — спросил заинтересованно портье. — Я ничего не слышал.
— Полиция! — сказал лохматый мужчина в синих очках, спустившись по главной лестнице и подходя к стойке. — Полиция сама скоро будет в тюрьме, а пока что она прячется по домам. Власти, должен вам сказать, больше нет. Никакой власти! Каждый — сам власть! Наступили времена апокалипсиса, о которых наша партия предупреждала. А вы, девушка, возьмите платок и промокните кровь.
Откинув полу шинели, мужчина вытащил чистый платок и протянул Лидочке.
— Эта девица, — пояснил он, обернувшись к портье, — пыталась меня забодать. Я возмущен до глубины души!
Лидочка приложила платок ко лбу. Она посмотрела — на платке была кровь, немного, но была.
— Как только вас отпускают папа и мама, — проворчал мужчина. — Смочите платок водой. Георгий Львович (это относилось к портье), пропустите ребенка за стойку, пускай она возьмет графин.
— Я сам, — сказал портье, — разрешите платочек.
Лидочка покорно отдала платок.
— А вы отбываете, мосье Мученик? — спросил портье у старика.
— Тише, я здесь инкогнито, — театрально прошептал мужчина. — Я секретно проверял нашу организацию. Меня не должны узнать.
— Если вы думаете, кто-нибудь поверит тому, что вы солдат, — сказал портье, — то глубоко ошибаетесь.
— Я не солдат, а бывший солдат, — ответил Мученик. — Не ездить же мне в такие дни в собственной бобровой шубе?
Покачиваясь и стараясь при том делать вид, что совсем не пьян, по главной лестнице спускался широкоплечий военлет с рукой на черной перевязи.
— Глоток воздуха! — воскликнул он театрально, обернувшись к портье. — Желаю здравствовать!
Лидочка узнала голос и хотела спрятаться за лохматого. Но военлет не обратил на нее внимания, а Мученик спросил:
— Что вам надо?
— Господин Васильев, — сказал портье, — в одиннадцать я запираю двери!
— Еще чего не хватало! Это гостиница, а не приют благородных девиц!
— Такие времена, — сказал мужчина в синих очках, — такие нравы.
— Вот и отлично, — сказал Васильев. — Тогда вы, господин Мученик, дадите мне триста рублей. А я вас не застрелю.
— Погуляйте, — сказал Мученик, — проветритесь. Я не знаю никакого Мученика. У меня чистые документы на Иванова.
Васильев выругался и хлопнул дверью, выходя на улицу.
Лидочка отошла к зеркалу, рассматривая себя критически и чуть ли не враждебно. Она ожидала, пока портье освободится. Тот почувствовал, что Лидочка ждет, и спросил:
— Что еще, мадемуазель?
— Я прошу вас перевести меня в другую комнату.
— Это еще почему? Разве ваша плоха? Раньше никто не жаловался.
— Ко мне ломились — вон тот господин, он врывался ко мне и угрожал, что высадит дверь.
— Это ошибка, — сказал портье. — Он не вас искал, клянусь честью, не вас. Пока он был в Петрограде, его пассия Фурсова уехала с одним земгусаром. Честное слово. — И портье засмеялся высоким тихим смехом, глядя на Мученика, который должен был знать, почему это воспоминание так забавно.
— Первым делом, как доберусь до Севастополя, поставлю там вопрос о милиции… — сказал Мученик. — Как во Французской республике.
— Не спешите, — сказал портье. — Во Французской республике тоже начали «Марсельезой», а кончили гильотиной.
— Гильотина порой не мешает, — решительно заявил Мученик.
— Как бы не добрались до евреев, — сказал портье.
— Кстати, о девушке, — улыбнулся Мученик, которому замечание портье было неприятно. — Я бы на вашем месте пошел навстречу ее желанию. Не дай Бог, ваш Васильев сломает дверь. Ночью он не станет разбираться, та ли это женщина или иная.
— Хорошо, — не стал спорить портье. — Переходите в соседний. Хотя я не гарантирую, что Васильев не станет стучать и туда.
— Спасибо. — Лидочка вернулась к стойке и поменяла ключ. — Я должна вам доплатить?
— Бог с вами, — отмахнулся портье. — Вещи перенести? Ах да, вы же путешествуете налегке!
Разумеется, Лидочка меняла номер не из-за Васильева. Ее больше волновал второй человек, тот, кто обыскивал ее номер и наверняка вернется.
Новый номер тоже выходил во двор, но под окном были кусты и зелень.
Теперь, когда Лидочке было уже не так страшно, она спокойно разложила на столе свои вещи, пересчитала деньги и задвинула сумку под кровать. Потом уселась в низкое кресло под торшером и пожалела, что у нее нет с собой книжки для чтения. Она чуть было не отважилась попросить книгу у портье, но часы показывали половину одиннадцатого — может быть, грабитель уже подбирается к старой комнате…
Когда Лидочка проснулась, было совсем темно и тихо.
Так тихо, что из соседней комнаты был слышен каждый осторожный шаг. Лидочка вскочила — она сразу вспомнила, почему сидит одетая в кресле.
Она права — он явился! Лидочка глубоко вздохнула, чтобы унять биение сердца, потом на цыпочках подошла к двери. Осторожно-осторожно, чтобы никто не догадался, Лидочка приоткрыла дверь на узенькую щелочку. В коридоре было полутемно, но после кромешной темноты комнаты Лидочке пришлось зажмуриться.
Сейчас таинственный грабитель должен выйти. Лидочка считала про себя. Она досчитала до ста. Никто не выходил. Но что же тогда он делает в номере? Он же убедился, что Лидочки там нет. Неужели все равно обыскивает? Было тихо. Лидочку стало трясти от холода — из коридора тянуло, как из подвала. А надо стоять неподвижно — чуть переступишь с ноги на ногу, начинают поскрипывать половицы.
Тихо. Гостиница спит. Даже самые пьяные военлеты Васильевы уже успокоились. А у грабителя наверняка случился сердечный припадок. Не может человек вести себя так тихо! А если он тоже затаился? Так и стоят они за дверями и ждут — у кого первого не выдержат нервы!
Только разница в том, что у него есть нож! Нет, пистолет! А она беспомощна.
От нахлынувшего страха Лидочка чуть было не побежала вниз, к портье. Ее удержало лишь опасение, что грабитель окажется проворнее и догонит.
Что же делать?
Лидочка приоткрыла дверь чуть шире и высунулась из нее, чтобы лучше слышать, что происходит в ее бывшем номере. Но оттуда не доносилось ни звука. Может быть, заглянуть туда?
И вдруг звук донесся. И был он в тиши настолько неожиданным и непонятным, что Лидочка отпрянула внутрь и захлопнула за собой дверь.
И ей понадобилось более минуты, чтобы понять, что означает равномерное рычание собаки Баскервилей, готовящейся совершить смертельный прыжок.
А когда Лидочка догадалась, она не поверила себе самой и, вновь выглянув в дверь, долго прислушивалась, пока не убедилась окончательно, что грабитель заснул и потому громко храпит.
Она прождала еще минут десять, не менее, пока не убедилась: ни один человек не смог бы так долго, разнообразно и буйно изображать храп.
Потому она в два шага перебежала пространство между дверьми и смело отворила дверь в свой бывший номер. Там горел ночник — кровать была разворошена, словно целый полк принцесс разыскивал в ней горошину. Поперек кровати лежал навзничь, скрестив на груди здоровую руку и руку в черной повязке, военлет Васильев. Он и храпел.
И вот тогда Лидочка поняла, как смертельно устала за день. Еще бы не устать, если ты утром еще была в четырнадцатом году, а вечером пытаешься заснуть в начале семнадцатого, да еще скрываешься от разного рода грабителей и соблазнителей.
Не таясь, Лидочка вернулась в новый номер. Лениво разделась — мыслей не было никаких, даже об Андрюше думать не было мочи, — бросила, не складывая, одежду на стул и помыться забыла, чего с ней не случалось в жизни. Потом натянула на нос одеяло — от пододеяльника пахло соленой водой и дешевым мылом. И заснула.
Она проснулась через какое-то субъективное мгновение — может, через час, а может, больше, — но той же ночью. Неясный, то ли лунный, то ли звездный, то ли отраженный земной свет наполнял комнату чуть ощутимой синевой, в которой можно было разгадать силуэты предметов. Она проснулась от страха — утомительного давнего страха, от которого не бежишь и не прячешься, а лишь говоришь безнадежно: «Снова?» — и хочется закрыть ладонями глаза, чтобы не видеть и не знать, что произойдет дальше.
В комнате медленно двигался темный силуэт — он был бесплотен, но непрозрачен. Движения его были неверными и замедленными, как под водой. И Лидочка сразу угадала, что это не Васильев, а настоящий грабитель, и если от обыкновенного человека можно убежать, спрятаться, можно закричать и позвать на помощь портье, от этого лучше и не пытаться бежать — никуда не денешься, не спрячешься. Грабитель передвигался столь уверенно и спокойно, что казалось, превращался в тонкую змею, проникая между стульями. И руки его в черных перчатках, невидимые, но ощутимые, уже тянулись к ее горлу…
Лидочка пискнула — предсмертным заячьим голоском.
Черная тень замерла — видно, от неожиданности, потом ступила назад, рассыпался непонятный и зловещий грохот.
Тут же мужской голос взревел:
— Черт побери, понаставили стульев!
Тяжелое дыхание.
И после паузы:
— Зажгите ночник, раз уж вы все равно не спите!
Это было спасением — Лидочка трясущейся рукой нащупала выключатель на ночнике. Зажглась лампа под толстым зеленым стеклянным колпаком. Комната сразу уменьшилась в размерах, съежилась, стала обыкновенной.
Посреди комнаты, наклонившись набок, почесывая ногу в черной штанине — видно, ударился, — стоял очень высокий плешивый человек с глубокими глазницами, в которых поблескивали невидимые, антрацитовые глаза.
— Так-то лучше, — сказал человек, усаживаясь в дешевое плетеное кресло лицом к постели. — Прошу прощения, что вторгся к вам среди ночи, но мне завтра на рассвете уезжать и я не мог задерживаться. Впрочем, если бы вы не сменили комнату, я бы пришел к вам куда раньше, и мне не пришлось бы вас будить.
Его голос был ворчлив, даже раздражен, но в то же время он будто защищался, будто был не совсем уверен в себе, — и Лидочка сразу почувствовала это.
— Сейчас же уйдите! — сказала она, правда, тихо, словно не желая, чтобы ее услышали. А это значило, что она вовсе не так испугана, как была всего минуту назад.
— Я готов уйти, — согласился гость, мирно и спокойно, словно они встретились на скамейке в солнечном парке. — Однако я полагал, что ваше женское любопытство должно было задать мне вопрос — кто я, зачем преследую вас, чего хочу. Не сродни ли я насильнику, что заснул в соседнем номере?
— Он не насильник, — сказала Лидочка. — Я его совсем не боюсь. Он раненый военлет и ищет свою возлюбленную.
Гость фыркнул:
— Сначала я должен задать вам несколько вопросов.
Лидочка опустила ноги на пол, чтобы ринуться к двери.
— Да погодите вы! — рассердился гость, правильно истолковав ее намерения. — Успеете убежать за несуществующей полицией. Неужели я произвожу впечатление грабителя и бандита?
— Не все бандиты на одно лицо, — сказала Лидочка. — Но нормальные люди по чужим комнатам не лазают.
— Хорошо, я все объясню. Это не займет много времени. Я должен сознаться, что когда, будучи здесь проездом, увидел вашу фамилию, это весьма заинтересовало меня. Весьма. Фамилия Берестовых не так уж часто встречается в России, а уж в Ялте — она почти исключительна. Заинтересовавшись, я хотел понять, ваша ли это фамилия или фамилия вашего мужа, хоть вы и не выглядите достаточно взрослой, чтобы быть замужем.
— А уж это не ваше дело!
— Это не мое дело? Совершенно согласен. Вернее, был бы согласен, не будь фамилия Берестов связана с трагическими и загадочными событиями.
— Вас Вревский послал? — спросила Лидочка и поглядела, далеко ли до окна. В крайнем случае она выбросится в окно, потому что лучше смерть или увечье, чем стать игрушкой в руках Вревского или угрозой Андрюше — ведь ясно же, что им нужен Андрюша!
— Вревский — это следователь, который вел дело о Берестовых?
Лидочка кивнула.
— Вы позволите курить?
— Не позволю! Мне это противно.
— Ладно, ладно, только не сердитесь. Ни мне, ни вам не нужно, чтобы прибежал портье или толпа обывателей. Нет, меня не посылал Вревский, я в жизни его не видел. Я покинул Сергея Серафимовича за несколько месяцев до его смерти. И был настолько далеко от этих мест и времен, что смерть его, случившаяся ранее, не стала мне известна, пока я снова не попал в эти края. Мне стоило больших трудов узнать, что же случилось. Но я узнал даже, что главным подозреваемым оказался Андрей Берестов, пасынок Сергея Серафимовича, в виновность которого, будучи близко знаком с покойными, я не мог поверить. Но Сергей Берестов погиб. Андрей Берестов исчез. Исчезли некоторые документы, важные не только для Берестовых, но и для всех нас. И вот, кружась здесь в попытках понять, что же в самом деле произошло, я узнаю, что некая молодая особа, которая называет себя Лидией Берестовой, приехала в Ялту неизвестно откуда и поселилась в «Мариано». Поэтому я и позволил себе проникнуть вчера в ваш номер и проверить, нет ли там не принадлежащих вам бумаг, и понять, кто же вы такая, имеете ли отношение к Андрею Берестову. Ясно?
— И что вы узнали? — спросила Лидочка.
Теперь все стало иначе. Раньше — неизвестный грабитель, таинственный враг, угроза. А сейчас — сейчас напротив нее сидит цивилизованный человек, в черном костюме, причесанный и ухоженный, ведет себя в меру вежливо, даже улыбается и, конечно же, не собирается набрасываться на Лидочку с побоями. И в то же время в Лидочке поднимался страх — иной, чем прежде, не таинственный, а самый понятный и конкретный. Этот человек в самом деле разыскивает Андрея. И не так важно, Вревским он послан или теми, кто убил Сергея Серафимовича. Важно, что этому человеку нужны документы и, может быть, деньги Андрея. И если она жестом или взглядом выдаст, что бумаги лежат в ее сумке, — только руку протяни, не остановится ни перед чем, чтобы их отнять…
— Я полагаю, — отвечал между тем грабитель, — что вы — Лидия Иваницкая, которая была невестой или, скажем, близкой подругой Берестова и исчезла одновременно с ним в октябре 1914 года — то есть два с половиной года назад. Можете поверить, что добыть эту информацию мне было нелегко — в России сейчас горят бумаги. И всегда находятся люди, готовые и желающие сжечь архив или хранилище. Во время бунтов и революций бумаги вызывают не только раздражение — буйную ненависть революционеров, может, потому, что на бумаге закреплен свергаемый порядок вещей.
— И что вы еще узнали?
— Я узнал, что, вероятно, вы помогли бежать Андрею из-под стражи. Я прав?
— Это нечестно. Вы знаете обо мне так много, а я даже не знаю, как вас зовут.
— Конечно, вы правы, мы же с вами раньше не встречались. Андрея я видел, разговаривал с ним. Могу считать, что знаю его с младенчества, а вас встречать не приходилось. Но даже то немногое, что мне о вас известно, заставляет меня проникнуться к вам искренним уважением…
— Вы не сказали…
— Можете называть меня паном или господином Теодором. Так принято. Даже мой друг Сергей Берестов часто именовал меня именно так. Можете спросить об этом Андрея. Если вы его отыщете.
— Господин Теодор, — спросила Лидочка, — вы все выясняли, а может, знаете, где мои родители?
— Разумеется, знаю. И не бледнейте, не ломайте пальцев. Ваши родители живы-здоровы, только у меня не было нужды их видеть.
— А где они?
— Они живут в Одессе. Вашего отца перевели туда по службе, а ваша мать часто приезжает в Ялту в надежде, что вы уже вернулись. Наверняка она оставляет какие-то весточки для вас. Вы не пробовали обратиться на почту рестанте?
— Ой, конечно, спасибо! — воскликнула Лидочка. — Конечно же, до востребования! Я завтра же пойду.
— Вы чудо, — улыбнулся снова Теодор. — Сколько вам лет?
— Мне? Уже восемнадцать.
— Вот видите. — Теодор откинулся в кресле и сплел длинные пальцы. Улыбка была как приклеенная. — Разве можно так себя выдавать?
— Выдавать?
— Если вам восемнадцать, сколько вам было два с половиной года назад?
Теодор рассмеялся скрипучим смехом человека, который так редко смеется, что не знает, насколько неприятно его смех звучит для окружающих.
— Осталась последняя загадка, — сказал Теодор, вдоволь насмеявшись, — откуда у вас второй транслятор?
— Транслятор?
— Небольшой прибор, похожий на табакерку. Прибор, который дает возможность плыть во времени. Один вы получили или унаследовали от Сергея Серафимовича. А второй?
— Второй был у Глаши. Она же отдала его Андрею!
— Так я и думал. Все сходится. Теперь, прежде чем я скажу вам главное, моя девочка, — сказал Теодор отеческим голосом, — скажите мне, где бумаги Сергея Серафимовича.
Но Лидочка была уже готова к этому вопросу — разговор давно двигался именно к нему.
— Их спрятал Андрей, — сказала она спокойно, по крайней мере ей казалось, что она говорит спокойно. — Он успел их спрятать.
— Где? Неужели он не сказал вам где?
— А зачем? Зачем они мне?
— Чтобы отдать тем, кому они принадлежат.
— Простите, но ваши вопросы мне кажутся чересчур настойчивыми. Задавайте их Андрею.
Теодор помолчал. Потом сказал тише:
— Впрочем, вы правы. Вряд ли у вас было время, чтобы обсуждать содержание этих бумаг.
Теодор медленно поднялся с кресла и навис над Лидочкой.
— Разумеется, я мог бы проверить — не обманули ли вы меня, не скрываете ли бумаги здесь, — но мне так хочется вам верить! К сожалению, так часто обманывают те, кто по всем законам божеским и человеческим должен быть безукоризненно честным. И знаете почему? Для людей благородных и искренних ложь во спасение близких оказывается выше абстрактной честности. Вряд ли вы это сейчас поймете. Но предупреждаю — берегитесь честных людей. Уж они обманывают так обманывают!
Теодор на цыпочках подошел к двери и приоткрыл ее, прислушиваясь, но неожиданно для него некто из коридора рванул дверь на себя, и не ожидавший этого Теодор потерял равновесие и буквально вывалился в коридор — это было как в цирке, где мим борется с собственной тенью. Потеряв равновесие, Теодор упал на колени, а над ним возникла дурацкая физиономия военлета Васильева.
— Ты здесь, моя крошка? — спросил он сонно. Но, приглядевшись, он понял, что Лидочка — не его дама сердца, и сказал: — Экскьюзе муа, поняла?
Теодор быстро и ловко вскочил с пола и толкнул Васильева в грудь. Но для того, видно, толчок не был неожиданностью. Он его парировал, и после этого получилось так, что мужчины как бы обнялись и начали толкаться и рычать.
Лидочка кинулась на помощь Теодору, повисла на Васильеве, стараясь разжать его пальцы, — все они забыли, что всего четыре часа утра. В коридоре начали открываться двери, люди высовывались в коридор, ругались, проклинали пьяниц.
Теодор вывернулся, ловко заломил Васильеву руку за спину, и из руки, звякнув, выпал пистолет — Лидочка даже и не успела разглядеть, как Васильев успел его вытащить. Затем Теодор повел согнутого Васильева к лестничной площадке и ударил ниже спины. Васильев исчез.
Лидочка подбежала к Теодору.
— Он вам не сделал больно? — спросила она.
— Нет, ничего, — сказал Теодор. Он спрятал в карман пиджака пистолет Васильева. — Не стоит оставлять ему пушку, правда?
— У него рука раненая.
— Я его знаю уже три года — он не расстается с черной повязкой, — сказал Теодор. — Вернемся к вам в номер — здесь нас могут услышать. У меня осталось две минуты.
Теодор закрыл за собой дверь, прошел к окну и стал отрывать клейкую бумагу, чтобы раскрыть его. Рама раскрылась со скрипом, и из окна потянуло холодом.
— Слушайте и не перебивайте меня. Вы не встретите Андрея. Вы меня поняли? Здесь вы не встретите Андрея.
— Что вы говорите! Не смейте!
— Не перебивайте, говорю вам! — В дверь постучали. — Вы должны уйти еще на сто дней вперед. Но только осторожно. Никогда не ставьте указатель между рисок. Вы меня поняли? Завтра же или сегодня — лучше сегодня — аккуратно уйдите на сто дней вперед. Иначе потеряете Андрея…
Дверь раскрылась. В ней стоял портье. За его спиной — другие лица. Теодор прыгнул на подоконник и исчез в синеве. Всей толпой люди от двери побежали к окну и стали смотреть вниз и что-то кричать вслед убегающему Теодору.
Портье первым повернулся к Лидочке, вспомнил о ней.
— Как он здесь оказался? — спросил он строго, будто именно Лидочка была во всем виновата.
— Я же вам говорила, я же говорила! — чужим кухонным голосом закричала на него Лидочка. — Я же просила, умоляла перевести меня в другой номер!
Портье даже опешил и развел руками. Он сказал, обращаясь не к Лидочке, а к прочим свидетелям:
— Я перевел, как и просили, а почему-то он здесь оказался.
— И ваш военлет Васильев здесь оказался! — Лидочка тоже апеллировала к свидетелям. — Что, я его тоже привела?
— Это безобразие какое-то, — сказал господин в ночном колпаке и длинной белой ночной рубашке.
Неясно было, кого он обвиняет. А может, он и сам не знал.
— Вот что, — сказал портье, — пойдете со мной, мадемуазель. Будете досыпать в швейцарской — мне вход в нее виден, — я за вами буду присматривать. И не возражать! — последнее было рявкнуто по-фельдфебельски.
По охваченной рассветной дрожью публике прошел гул. Некто, облеченный доверием и авторитетом в дни, когда не стало ни доверия, ни авторитетов, взял на себя ответственность за жизнь юной особы.
— Ясно, — сказала Лидочка. — Спасибо вам большое.
В швейцарской стоял старый кожаный диван, когда-то мягкий, но теперь весь словно горная система — пружины неровно торчали сквозь порванную кожу. Поверх пружин был положен плед, от которого пахло псиной и табаком.
Лидочка больше не заснула. Лидочка думала. И ей казалось, что если она уснет, так и не решив загадок, возникших здесь, то случится нечто страшное.
Кто тот господин Теодор? Посланник Вревского? Грабитель? Или, может быть, в самом деле тот, за кого себя выдает, — друг покойного Сергея Серафимовича и также путешественник во времени? Ведь если есть один путешественник, если их два — может быть и десять, и сто… А вдруг каждый десятый человек умеет путешествовать во времени и именно от этого возникает недонаселенность мира в давние эпохи и перенаселение, о котором столь много писали в газетах, в мире сегодняшнем и завтрашнем? Может быть, в самом деле сотни и тысячи людей, подобно Лидочке, несутся в будущее, чтобы избавиться от страхов и несчастий нынешнего дня, и там, завтра, собираются, подобно божьим коровкам по весне, чтобы в покое обсудить свою давнюю жизнь? Нет, эта мысль никуда не годится — если бы путешественников во времени было много, кто-то, не имеющий табакерки, давно бы узнал об этом и, узнав, позавидовал. А позавидовав, сообщил другим людям. Значит, почти наверняка обладание табакеркой редчайший дар… Дар? А если так, он предусматривает дарителя? Ведь не Сергей Серафимович выдумал и изготовил табакерку и портсигар. Наверное, нужна для этого специальная лаборатория, а то и фабрика, и, уж конечно, не российская, а немецкая. Левши подковывают блох только в произведениях патриотически настроенных российских писателей.
Господи, тут клопы! Лидочка, панически боявшаяся клопов, вскочила с дивана и пересела на стул. Потом осторожно выглянула из приоткрытой двери. Портье дремал, положив голову на скрещенные на стойке руки. Лидочка хотела перейти на кресло в холл, но потом поняла — лучше остаться здесь, в уголке, в темноте, где ее никто не видит.
Если господин Теодор — путешественник во времени, это многое объясняет, и тогда ему можно верить. Впрочем, а почему ему надо верить? Если его поведение в первые минуты разговора можно было понять — он искал бумаги и хотел узнать подробности о случившемся с Сергеем Серафимовичем, то последние его слова все разрушали. Почему он, вместо того чтобы выхватить у Лидочки сумку, начинает говорить о какой-то ошибке, что совершила Лидочка, неаккуратно поставив риску на шкале табакерки… или как ее называют путешественники во времени? Транслейтор? Нет. Транслятор. Зачем ему понадобилось именно в последнюю минуту пугать Лидочку? И говорил он так нервно, так быстро, как человек, который решил объясниться в любви после того, как ударил колокол к отправлению поезда. Чего он потребовал от нее? Чтобы она немедленно перешла еще на сто дней вперед. «Если хотите, я сам поставлю вам срок», — а она тогда схватила сумку и прижала ее к груди, выдав этим местонахождение табакерки и показав, что не доверяет пану Теодору. Вот тут-то ему и надо было хватать сумку — все равно убежит. А он печально покачал головой и не сделал попытки овладеть сумкой и табакеркой. «Вы потеряете Андрея». Что означают эти страшные слова?
Портье тяжело закашлялся. Лидочка замерла.
Слышно было, как он поднялся и подошел к двери в швейцарскую. Лидочка хотела было кинуться к дивану и хотя бы сделать вид, что спит, но отвращение перед клопами было сильнее ее.
Портье удивился:
— А это что такое?
— Не хочется спать.
— Боишься?
— Клопов боюсь.
— Это так… Если бы три года назад мне сказали, что в «Мариано» будут клопы, я бы собственными руками его задушил.
— Вы бы лучше клопов задушили.
— Они живучие, — неожиданно усмехнулся портье, и лицо у него стало добрее. — Я тебя знаю? Видел?
— Может быть, — сказала Лидочка. — Я здесь раньше жила. До войны. Потом уезжала.
— Знакомая фамилия. И что-то у меня с ней связано. Какое-то воспоминание.
— Вы тоже из-за меня не выспались, — сказала Лидочка.
— Ничего, постояльцев немного. Ты постарайся поспи. Клоп до смерти не закусает.
Портье ушел. «Сейчас он вспоминает, — подумала Лидочка. — Он думает и к утру обязательно вспомнит — зачем я сказала ему, что здешняя?» И тут же в ушах зазвучал голос Теодора — он грозил ей, что если она не нажмет на кнопку, то никогда больше не увидит Андрюшу… Но почему?
— Почему? — спрашивала она Теодора. — Почему?
Но он уходил, не оборачиваясь, и, уже заснув, Лидочка поняла, что видит сон.
Утром Лидочка пошла на почтамт и там получила целую пачку писем «до востребования» от мамы, которая не уставала ей писать в расчете на Лидочкину сообразительность. Лида отписала маме, что у нее все в порядке, она здорова и надеется, что сможет в ближайшие месяцы ее увидеть. Обратного адреса на конверте она не написала из осторожности и опасения не столько Вревского, сколько маминого немедленного приезда.
Она много думала, не подчиниться ли совету Теодора, но в конце концов решила им пренебречь. Она не может рисковать — лучше уж дождаться Андрюшу, чем рисковать разойтись с ним снова.
Глава 4
Март — апрель 1917 г
Формально переговоры вел Фриц Платтен. Он был респектабельным швейцарцем. Германский советник в Берне мог принимать его, не привлекая особого интереса корреспондентов и не рискуя потерять лицо. Впрочем, опасения дипломата были не столь уж обоснованны. При том, что сделка, которую они с Платтеном готовы были совершить, призвана была перевернуть судьбы мира, мало кто ожидал, что перемены в мире могут исходить именно отсюда — от русских социалистов, которые, числом несколько десятков, давно уже жили на подачки сочувствующих, проводя дни по тихим библиотекам Женевы и Базеля, либо так же спокойно и аккуратно, подчиняясь швейцарскому воздуху, вели дискуссии о судьбах революции в России. Журналисты полагали, что судьбы революции решатся именно в России, а судьбы Европы — на полях Бельгии и Франции, в крайнем случае на Дарданеллах, но уж никак не в Швейцарии.
Журналисты ошибались. Будь Александр Васильевич Колчак чуть более везуч, а секретные агенты Германии чуть менее прозорливы, все могло бы произойти иначе.
До Цюриха сведения о революции дошли лишь на третий день. Владимир Ильич Ленин узнал обо всем, когда собирался после обеда в библиотеку. Он уже надел пальто и потянулся за мягкой серой шляпой, как в дверь зазвонили отчаянно и нервно, отчего Владимир Ильич поморщился — он знал, насколько это было неприятно хозяйке, обладавшей обостренным слухом.
Ворвался Бронский. Бронский был без шляпы и растрепан, будто спал на бульваре. Не вытерев ног, он закричал с порога:
— Вы ничего не знаете? В России революция!
— Голубчик, — оборвал его Ленин, — прихожая не место для политических бесед. Давайте пройдем в комнату, и вы мне все расскажете.
Бронский был потрясен столь спокойной реакцией Ленина на новости. Но Владимир Ильич умел владеть собой, и лишь слишком крепкая хватка пальцев, сжавших тонкие косточки локтя Бронского, выдавала волнение Ленина.
Ленин не дал Бронскому долго разглагольствовать. Он спросил, вычитал ли тот новости из газет либо получил их иным путем.
— Ну каким же иным? — удивился Бронский. — Ко мне почтовые голуби еще не летают.
— Тогда дайте мне сюда газету и помолчите, пока я ее прочту, — сказал Ленин.
И когда он кончил читать — дважды, но быстро, мгновенно скользнул взглядом по скупым строкам — сообщениям различных агентств и корреспондентов — более домыслы, нежели знание обстановки, — когда Ленин кончил читать, впитал в себя всю информацию, он кинул взгляд на замершую у дверей Надежду Константиновну — точно знал, где она должна находиться именно в эту секунду, и сказал ей — не Бронскому же, который не пользовался доверием и уважением:
— Я давно предупреждал об этой революции. Наши социал-демократы проморгали момент. Мы должны немедленно, повторяю, немедленно вернуться в Россию.
— Это невозможно, Владимир Ильич! — воскликнул Бронский.
— Это так опасно, Володя, — сказала Надежда Константиновна.
— Революционер не должен бояться опасностей, — сказал Владимир Ильич. — В конце концов, сделаем себе парики, сбреем бороды и проникнем прямо в центр! В центр событий! — И Владимир Ильич показал указательным пальцем направление к центру событий.
Эмигранты еще не покинули пределов законопослушной нейтральной Швейцарии, но мысленно они уже неслись к беззаконной России. Сначала возник проект Мартова — ехать домой через Германию, обещав Германии и Австро-Венгрии передать за пропуск через их территорию нужное, может, даже грандиозное число пленных немцев. Совещание, где выступил со своим проектом велеречивый Мартов, было 19 марта — Мартова никто не поддержал. Все полагали, что на родине у власти находятся в большинстве своем политические противники эмигрантов, и не в их интересах выменивать себе врагов, вступая в сомнительные отношения с другими врагами.
Лишь Ленин поддержал эту идею — сначала безуспешно, на собрании, потом у Мартова дома, где пытался влить в него уверенность. Но тот уже потерял кураж — через всю Германию ехать было страшно.
Давно уже Ленин не был столь энергичен и боевит. За двое суток он побывал у всех мало-мальски достойных внимания эмигрантов, встретился с деятелями немецкими и швейцарскими — отыскал Платтена и Гримма — и даже добился негласного постановления эмигрантской группы уполномочить Гримма на переговоры со швейцарским правительством.
Швейцарское правительство не пожелало вести переговоры, потому что не видело в них никакого смысла. Парвус подключил вездесущего Ганевского — тот начал нажимать кнопки в Берлине. Его люди дошли до Генерального штаба: неужели не ясно, что прибытие в Россию группы влиятельных пацифистов, противников войны и врагов престола, еще более нарушит баланс сил в России и толкнет ее к поискам выхода из войны, а может, и капитуляции? Так что когда Фриц Платтен начал переговоры с германским посольством в Швейцарии, то уже имелись негласные инструкции способствовать переговорам, однако не было инструкций принимать решения. Решения будет принимать Берлин. Там еще оставались сомневающиеся, и чем выше, тем больше, — в провозе русских пацифистов через Германию было нечто постыдное, до чего не опускаются тевтонские рыцари. Кронпринц полагал, что воевать надо честно, а не засылая в тыл противника чуму или бунтовщиков, готовых на любую сделку ради того, чтобы прорваться к власти. Кронпринц не любил революционеров, даже в тех случаях, когда их можно было использовать в интересах державы. Кайзер, занятый проблемами более важными, не был поставлен о переговорах в известность.
Переговоры тянулись до конца марта. Ленин потерял терпение.
Утром в пятницу произошел разговор с Надеждой Константиновной.
Владимир Ильич буквально ворвался на кухню, где Крупская жарила омлет.
— Все! — воскликнул он с порога, терзая в крепкой руке смятую газету. — Больше терпеть нельзя ни часу — промедление смерти подобно! Надюша, пойми, они укрепляют свои позиции. Не сегодня-завтра эсеры раздадут крестьянам землю и полностью одурачат пролетариат. Где мы тогда будем? На задворках истории?
— Но ты же знаешь, Володя, — ответила Надежда Константиновна, — что тебе нельзя волноваться.
— Я больше волнуюсь от безделья! Мы должны ехать. Ехать!
— Фриц сказал, что со дня на день он ждет решения из Берлина.
— Фриц может и не дождаться. Его-то ничего не торопит.
— И что же делать? — Надежда сняла сковородку с плиты.
— Я знаю. Надо достать паспорт шведа. Или норвежца. Да, лучше всего норвежца. Никто не знает норвежского языка…
— Володя, ты руки вымыл? Ты же с улицы пришел.
— Иду, иду…
Ленин бросил газеты на стол и кинулся в туалет к умывальнику.
— Наденька! — донесся оттуда его голос. — Наденька, ты не знаешь, у исландцев есть заграничные паспорта или они ездят по датским?
— Иди в комнату. Я ничего не слышу.
За столом Владимир Ильич разъяснил жене свой план:
— Первое — мы достаем паспорт. Норвежца или шведа. И по этому паспорту мы едем через Германию.
— И как только к тебе кто-то обращается по-шведски, все проваливается, — сказала Надежда Константиновна. — Омлет не соленый?
— Чудесно, чудесно. Тогда это будет глухонемой швед. Да! Великолепно, — Ленин бросил вилку, вскочил и подошел к окну. — Это будет глухонемой швед или даже глухонемой норвежец. Тебе приходилось встречать глухонемого норвежца?
— Володя, не волнуйся, — сказала Крупская. — Садись за стол. Омлет остынет.
— Господи! — Ленин опустился на стул, руки бессильно упали на скатерть. — Сколько лет я ждал этого момента, я положил жизнь ради того, чтобы приблизить его, и, смею тебе сказать, без моей деятельности эта революция могла бы произойти на десять лет позже или не произойти совсем.
— Я это знаю лучше всех, — печально ответила Крупская.
— Да, милая. — Владимир Ильич протянул руку через стол и дотронулся до пальцев жены. — Я знаю и потому именно с тобой могу поделиться своей тревогой. Если я не попаду в Россию в течение двух недель, мое место займут другие люди.
— Другие люди в партии? — спросила Надежда Константиновна. — У тебя в партии нет соперников.
— Я не хуже тебя это знаю. Но при благоприятных обстоятельствах и в мое отсутствие некоторые постараются стать моими соперниками, претендовать на место наверху и, может быть, оттеснить меня.
— Лев Давыдович?
— Он не в партии. Но ради этого вступит. Есть и Зиновьев, и Каменев. Ты всех знаешь. Пока я жив, они не посмеют поднять головы.
— Но могут прийти другие, молодые, наглые, которых ты сейчас не учитываешь, — сказала разумная Надежда Константиновна.
— Партия погибнет, потеряет значение, как только потеряет меня. Власть уже захватили и теперь консолидируют эсеры и псевдосоциалисты, демагоги вроде Керенского. В России опасен не Гучков, нет, бойся Чернова — оратора, крикуна!
— Значит, ты не имеешь шансов?
— А я — демагог, — сказал Ленин и рассмеялся.
Он смеялся высоким голосом, откинув голову, рыжая с проседью бородка выпятилась вперед, как острие меча.
— Ты меня позабавила! — сказал он.
Ленин начал быстро есть омлет, заедая его хлебом, — он ломал булку, забрасывал в рот маленькие кусочки хлеба. Он думал о том, что с годами Надежда стала его «alter ego», она произносит вслух те его мысли, которые он не смеет или не хочет произнести сам. И она, конечно же, не сможет жить без него. Если с ним что-то случится, она тут же умрет, тут же… ему стало жалко Надежду, как будто смерть, о которой он рассуждал, относилась вовсе не к нему…
— Омлет совсем остыл, — сказал Ленин.
— Я принесу кофе, — сказала Надежда Константиновна.
Идея с глухонемым шведом при всей ее авантюрности и нереальности начала приобретать конкретные формы. Недаром Мартов как-то говорил, что под личиной доктринера и начетчика в Ульянове скрывается авантюрист, гимназист, начитавшийся Густава Эмара и стремящийся на Амазонку. И это опасно, потому что стремление к авантюрам он переносит на всю Россию, и не дай Бог ему дорваться до истинной власти — он может вылепить из России настоящего монстра.
Многие смеялись, но те, кто знал Ленина многие годы, даже не улыбались. Человеческой привязанности к нему не испытывал почти никто, потому что трудно привязаться к человеку, который не только может, но и готов пожертвовать любой привязанностью ради власти. Впрочем, это отличительная черта многих больших политиков, иначе они не становятся большими политиками.
В конце марта 1917 года стремившемуся в Петербург Ленину помог случай, что неудивительно, так как Ленин именно его и искал. Некто Нильс Андерссон, шведский социал-демократ, близкий знакомый Гримма, оказался в Женеве. Он был из тех сытых, вскормленных на хорошем молоке и доброй пище, в чистоте и уюте молодых людей, которых так тянет отведать дерьма для внутреннего равновесия, что они готовы устроить кровавую революцию на Мадагаскаре, только бы выдраться из скорлупы респектабельности. Нильс Андерссон мечтал побывать в России и с винтовкой в руке, по колено в грязи и крови, насаждать там социальную справедливость. Гримм обещал ему место в первых рядах бойцов, но ранее он должен совершить для русской революции благородный поступок — принести жертву, которая, в сущности, даже и не является жертвой, — одолжить свой паспорт товарищу Ленину, одному из вождей русской социал-демократии, ее левого крыла, — да вы видели его, товарищ Андерссон, в Стокгольме! О да, я, конечно, имел счастье видеть одного из вождей русской социал-демократии. И пока что я буду ждать нового паспорта вместо мнимо утерянного, я буду собирать деньги для России.
Так и вышло, что совершенно нереальный план удался — Ленин отправился через всю Германию под видом глухонемого шведа.
Но прежде чем отправиться, по крайней мере неделю, весь конец марта, Владимир Ильич с увлечением и тщательностью, с которой он всегда приступал к новым занятиям, изучал язык глухонемых, правда, не шведских, а немецких, так как уроки немецких глухонемых были доступнее. Тем временем и Нильс Андерссон давал Владимиру Ильичу уроки шведского языка.
Надежда требовала, умоляла разрешить ей поехать вместе с Лениным, но тот был неумолим. Он полагал, что риск узнавания при таком варианте удваивается. Он предпочел ехать с братом Фрица Платтена Карлом Платтеном, невероятно отважным, правда, рассеянным молодым человеком, швейцарский паспорт которого вызывал доверие. А Надежда должна была отправиться с остальной группой в закрытом вагоне, который, судя по сведениям Фрица, немцы все же готовы были предоставить, — правда, еще неизвестно, когда и с какой скоростью он будет добираться до Дании.
31 марта — всего месяц миновал с начала русской революции, и еще не все было потеряно для Ленина и большевиков — Владимир Ильич в котелке, синих очках, без бороды, в пальто с поднятым бархатным воротничком вошел в вагон второго класса. За ним шла, сдерживая слезы, Надежда Константиновна. Бронский нес чемодан, а Карл Платтен шагал последним, держа в одной руке русско-немецкий словарь, в другой — книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», по которой намерен был в дороге изучить русский язык.
Незамеченным остался стоявший на перроне агент русского охранного отделения Петров, не изменивший долгу по случаю революции и надеявшийся, что его услуги будут нужны любому режиму в России. После отправления поезда, дождавшись ухода Крупской и Платтена-старшего, Петров прошел на телеграф и послал невинно звучащую телеграмму в Петербург, где говорилось, как и положено в шпионских телеграммах, о тюках с хлопком и игрушках из миндальных косточек. В самом же деле получатели должны были понять, что известный и опасный социалист Ульянов-Ленин возвращается в Россию под видом глухонемого шведа и едет таким-то поездом. Так что можно принять меры.
Полковник Ряшенцев, оставшийся на своем месте и в своем кабинете, хоть правительство и сменилось, счел своим долгом сообщить о донесении тому из министров, кто, по мнению полковника Ряшенцева, был наиболее толковым и перспективным в этом сборище старых говорливых баб из Думы.
Министр юстиции Александр Керенский, получив донесение, не испугался так, как ему следовало бы испугаться, потому что недооценивал силу и ум Ленина. Поэтому он, поблагодарив полковника Ряшенцева, передал его секретное донесение господину Чхеидзе, состоявшему председателем Петроградского Совета, который, будучи социалистом и политическим соперником Ленина, должен был принять меры. Господин Чхеидзе не любил Ленина, но отдавал ему должное как умелому тактику и мастеру политической интриги. Ленин был соратником Чхеидзе, вложившим немало сил и принесшим жертвы (как и все семейство Ульяновых) на алтарь революции. Мог ли Чхеидзе возражать против возвращения Ленина, как и прочих социалистов, из Швейцарии? Разумеется, нет.
Так что агент Петров остался в Женеве наблюдать за приготовлениями к отъезду остальных революционеров, полагая, что авторитетные лица в Петербурге заготовят кандалы для Ленина, в чем он глубоко ошибся.
Основные опасности для глухонемого шведа лежали на территории Германии. Путь этот был относительно недолог, он должен был занять не более суток, если, конечно, не вмешаются трудности военного времени, которые, к крайнему раздражению Владимира Ильича, горячего поклонника немецкого железнодорожного порядка, уже чувствовались по всему пути. На некоторые станции, в частности в Кельн, поезд прибывал с пятиминутным опозданием.
До Франкфурта ничего достойного интереса не произошло. Помимо Ленина и Платтена-младшего, в купе был лишь один пассажир из Женевы, швейцарский вице-консул в Стокгольме, который был удручен тем, что вынужден ехать, сидя целые сутки во втором классе. Он был относительно молод, но нес на себе вневозрастную печать чиновника из министерства иностранных дел, которые изготавливаются, как подумал с улыбкой Владимир Ильич, во всем мире по одной выкройке.
Платтен выбегал на каждой станции за газетами — и не зря, потому что новые газеты — новые вести из России. И хоть Германия была от России оторвана и своих корреспондентов там не имела, могучая сила телеграфа и радиоволн позволяла получать новости даже из враждебных стран в тот же день. Так что утренние газеты в Штутгарте несли информацию о намерениях русского Черноморского флота выйти в море и совершить демонстрацию в сторону Босфора. Прочтя это, Ленин фыркнул, засмеялся и чуть было не сказал Карлу: «Нет, вы только посмотрите, до чего докатились эти газетчики». Но спохватился, в последний момент кинул взгляд на севшего во Франкфурте плотного глазастенького бюргера, сопровождаемого плотной и тоже глазастенькой женой, — впрочем, она могла быть и его сестрой.
Бывают моменты обоюдного недоброжелательства — такое случилось в купе: с первого взгляда бюргерская парочка невзлюбила Ленина, а тот почувствовал к ним ту глухую, глубокую, темную ненависть, которая охватывала его при упоминании фамилии Романовых — убийц, бездарностей, ничтожеств, держащихся цепкими пальцами за престол и потому низвергавших Россию в бездну. И надо же, надо же так случиться, что свержение их произошло без участия Ленина! Впрочем, он понимал, что настоящего свержения еще не было — Романовы, убийцы его брата, убийцы многих святых, благородных людей, еще живы и готовы к реваншу. Его, Ленина, исторический долг — вырвать с корнем всю эту кровавую камарилью! А для этого надо оказаться в Петрограде, изгнать железной метлой Керенских, Церетели, Гучковых и прочих говорунов. И самому взять власть.
Бюргеры глядели на Владимира Ильича одинаковыми голубыми глазками, будто им более некуда было глядеть, а Ильич вынужден был смотреть в окно, чтобы не сталкиваться с ними взглядом.
Не исключено, что шпики, думал он, не успокаиваясь вовсе, хоть за окном проплывали столь милые его сердцу аккуратные и чистые немецкие деревни и кирхи. Очередной Мариендорф возник за округлым холмом, выверенным для гармонии пейзажа белыми домиками, стянутыми темными деревянными помочами. Вот и станция со слишком начищенным колоколом на перроне и слишком чистым начальником у колокола. Когда еще удастся увидеть снова эти места, столь чуждые русскому сердцу и столь милые сердцу Владимира Ильича! Окончательным осуществлением жизненной цели и мечты была не революция в России, а переход ее сюда, возможность отыскать сплоченные социалистические силы, мирно дремлющие сегодня под красными черепичными крышами Мариендорфа, олицетворением которых был Карл, Карлуша, углубившийся в Ленина так, что можно из пушки стрелять над самым ухом, — внутренне чистый, организованный, порядочный человечек. Именно здесь — в Германии, в Швейцарии — и будет построен настоящий социализм. России, несмотря на кажущуюся легкость переворотов и революций, да и склонность народа к мятежу, до настоящего социализма не дорасти. Нет, не дорасти.
— Нет, — сказал Ленин по-русски, — не дорасти! Вот так-то!
И рука его потянулась к блокноту и карандашу, что лежали у него на коленях, чтобы занести на бумагу некоторые мысли, что могут оказаться полезными в предстоящих дискуссиях с соратниками по революционной борьбе.
И он не увидел, как усмехнулся вице-консул, как сузились глазки бюргера, как сжала его кисть цепкими крестьянскими пальцами его жена. Но это все увидел и услышал, несмотря на чтение, Карлуша Платтен. Он отложил, даже отбросил в отчаянии книгу и, толкнув Ленина в плечо, начал изображать пальцами язык глухонемых, а губами стараясь передать испуганно обернувшемуся Ленину всю опасность их положения. Швейцарский дипломат обернул к ним злое холеное лицо и с некоторой усмешкой наблюдал за соседями, в которых угадал жуликов и мошенников, хотя, впрочем, не знал пока целей их мошенничества.
Владимир Ильич, уже углубленный в нужную и срочную работу, лишь отмахнулся от нелепых и непонятных знаков Карла Платтена, так как в авантюрах его интересовали лишь разработка плана и самое начало действия — рутина поддержания авантюры его обычно тяготила. Он мог сбрить бородку, чтобы обмануть этих самых шпиков, но затем забывал брить ее ежедневно. Начисто упустив из памяти, что он — глухонемой, Владимир Ильич счел жесты Карлуши не более как нелепой игрой и отмахнулся от игры.
Карл, бросив опасливый взгляд на соседей по купе — никто из них не скрывал своего интереса к ним с Лениным, — счел за лучшее сделать вид, будто ничего не произошло, а Ленин между тем, вовсе увлекшись работой, начал напевать, не размыкая губ, танец маленьких лебедей из «Лебединого озера».
Более до самого Кельна событий не произошло. В Кельне была стоянка двадцать минут, но кондуктор, проходя по вагону, объявил с нескрываемой скорбью человека, который привык к неизменной точности немецкого айсбана, что отправление поезда задерживается еще на пятнадцать минут.
Вокзал в Кельне расположен близко от центра, над ним буквально нависает серая громада Кельнского собора.
Ленин выразительно ткнул пальцем в пачку газет, лежащую на сиденье между ним и Платтеном, быстро поднялся, как только поезд замер у перрона, и принялся одеваться. Платтен последовал его примеру.
На перроне было ветрено. Ленин застегнул верхнюю пуговицу и надвинул пониже шляпу. Платтен принялся упрекать его за поведение в купе.
— Ничего подобного! — Ленин, как и все великие люди, не любил признавать мелких житейских ошибок. — И если я даже что-то произнес, гарантируемо, что никто в купе этого не услышал.
— Вы забываете, что Германия охвачена шпиономанией, — возразил Платтен. — Вас могли принять за английского шпиона.
— Пускай они это только докажут! — возмутился Ленин, которому была отвратительна мысль о принадлежности к английской секретной службе — Англию в отличие от Германии он никогда не любил, в англичанах было много темного, тупого, и главное, они, по мнению Владимира Ильича, были тайно нечистоплотны и склонны к содомии.
Полицейский агент, который уже шел за ними в достаточной близости, чтобы слышать их слова, мысленно улыбнулся, так как каждому агенту приятно сознавать, что он вышел на настоящего шпиона. Агента послал следом за Лениным и Платтеном голубоглазенький бюргер, в действительности же криминальный советник Ганс Фридрих Розенфельд, уже во Франкфурте заподозривший в шпионаже транзитных пассажиров из Женевы.
Криминальный советник из Франкфурта, ехавший в купе со своей женой Гертрудой, а также агент в Кельне, который спешил по перрону вслед за социалистами, и знать не знали об Ульянове-Ленине и мало представляли себе значение российской революции. Зато были уверены в том, что английские агенты буквально наводнили Германию, и потому были на страже и следили — не попадется ли агент в их поле зрения.
Ленин и Платтен подошли к газетному киоску. Платтен расплатился за газеты — сюда уже поступили газеты с севера Германии и даже из Голландии и Дании. Не отходя от киоска, Владимир Ильич разворачивал газеты, отыскивая сообщения из России. Одно из сообщений заставило его выругаться по-немецки сквозь стиснутые зубы.
— Тише! — прошипел Платтен, оборачиваясь и с недовольством замечая совсем рядом молодого человека в сером пальто и с определенным наклоном головы, что выдавало его принадлежность к секретной полиции.
— Что тише? — ответил Владимир Ильич. — Что тише? Знаете ли вы, что Керенский назначен военным министром? Не сегодня-завтра он объявит себя диктатором!
— О, камрад Ленин, — сказал Платтен громким шепотом. — Вы же — глухонемой швед!
— Я — глупый швед! — ответил Ленин, игнорируя предупреждение Карла. — Если не случится чуда, я опоздал! К тому же нас никто не слышит.
— Простите, — сказал кельнский агент, подходя ближе и давая рукой сигнал Гансу Фридриху Розенфельду, чтобы тот возвращался к поезду. — Но вы ошибаетесь. Я вас слышал. И вам придется снять вещи с поезда и проследовать за мной в управление.
Ленин взмахнул руками, пытаясь изобразить речь глухонемого, но агент лишь устало улыбнулся, как положено улыбаться героям, завершившим трудную и опасную операцию по обезвреживанию группы английских шпионов.
16 марта 1917 года Ялтинский Совет направил телеграмму в Севастопольский Центральный Военный исполнительный комитет (ЦВИК), в которой говорилось, в частности, следующее:
…Имеются также сведения, что Великий князь Николай Николаевич, подавший в отставку с поста главнокомандующего, на который он был назначен Временным правительством, и поселившийся вновь в своем имении Чаир, а также бывшая императрица Мария Федоровна ведут совещания с Великими князьями. Агентами Совета установлено, что совещания проходят, в частности, в комнате, не имеющей окон, в имении гражданки бывшей императрицы, о чем нам сообщил убежавший из имения лакей Иванов Петр. Позавчера состоялся съезд заговорщиков на даче предводителя дворянства Попова, где находится скрытый радиотелеграф, которым Великие князья подают сигнал крейсеру «Гебен». Гражданка бывшая императрица вместе с подозрительными лицами совершает таинственные поездки в черном автомобиле. Связь с германским военным командованием поддерживает житель Ялты граф Тышкевич…
Александр Васильевич Колчак положил это донесение, переданное ему из ЦВИКа полковником Верховским, на стол в адмиральской каюте «Императрицы Екатерины», где он держал свой флаг. Сам же Александр Васильевич быстро ходил по каюте — шаги съедались толстым ворсом ковра, останавливался на секунду у раскрытого иллюминатора, резко поворачивался — кидал издали убийственный взгляд на бумагу, лежавшую на столе. Подходил к ней, намереваясь разорвать, но не рвал, а замирал у двери, где рядом с Верховским стоял Коля Беккер, он же мичман Берестов.
— Ну ведь идиоты? — вкрадчиво, будто и в самом деле хотел узнать, так ли это, спросил Колчак у Верховского. — Мария Федоровна во главе заговора! Как вам это нравится?
Верховский сочувственно склонил голову. Но не более. Он знал, что положение адмирала шатко — неизвестно было, что решат в Петрограде. Севастопольский Совет был адмиралом недоволен, потому что тот никак не желал признавать революцию. То есть формально он ее признавал и присягнул Временному правительству, но не скрывал того, что на первом плане для него остается победа над германскими варварами и их турецкими союзниками, а это может быть достигнуто лишь путем укрепления боевого духа войск и флота, то есть строжайшей дисциплиной, которой, оказывается, мешают митинги и шествия. Совет же, независимо от того, что думал каждый член его в отдельности, зависел от настроений береговых частей и матросов экипажей. А те с каждым днем все менее желали побеждать Германию и соблюдать дисциплину и все менее любили строгого учителя. Полковник же Верховский хотел сберечь голову и желательно пост, даже если это было связано с нелояльностью к Колчаку.
Коля Беккер в отличие от Верховского глубоким искренним вздохом выразил полное согласие с Колчаком. Беккеру было нечего терять, зато он был многим обязан Александру Васильевичу. И только ему. Ведь именно вице-адмирал, умевший ценить преданность и еще более находчивость, после инцидента во время митинга вызвал к себе прапорщика Берестова и предложил ему перейти на флот с повышением в чине и пребывать далее для особых поручений при особе командующего. Карьера Беккера, сделавшая столь скорый и неожиданный скачок, приобрела новые очертания. Ведь за три года прозябания в Феодосии в крепостной артиллерии он поднялся всего-навсего от вольноопределяющегося до прапорщика. Здесь же за неделю он стал мичманом флота, сшил себе мундир у хорошего портного, и, когда Колчак увидел его впервые в штабе, он несколько секунд, несмотря на свою замечательную зрительную память, никак не мог сообразить — кто же этот знакомый ему высокий, стройный мичман.
— Берестов? — сказал он с некоторым вопросом, потом уже без вопроса: — Берестов Андрей Сергеевич! Вы рождены для морской формы.
За прошедшие дни Беккер пытался вжиться в структуру морского штаба, что было нелегко сделать, а Колчак ему ничем не помогал, полагая, что щенки учатся плавать, только будучи скинуты в воду. В ином случае пловца не получится. Разумеется, у новых коллег Беккера не было к нему никакого расположения. Беккер попал в свиту, которую его новый знакомец капитан-лейтенант Сидоренко, человек, принадлежавший к обидчивой породе украинских националистов, называл сворой. Он должен был ждать поручений, тогда как каждый из прочих людей, окружавших Колчака, имел свое дело, занятие или основания для безделья. Впрочем, последних было мало — они быстро пропадали, если острый взгляд адмирала выхватывал их из толпы, как трутня из роя пчел.
— Мы не можем игнорировать этот глупейший донос, — сказал Александр Васильевич, совершив еще один круг по каюте. — Потому что от нас именно этого и ждут. Мы игнорируем донос, копия его летит, если уже не улетела, в Петроград, где у нас с вами немало врагов.
Верховский кивнул, соглашаясь с тем, что у адмирала много врагов, а Коля вскинул голову, изящно устроенную на высокой шее, потому что оценил слово «мы», сказанное адмиралом.
— И это именно сейчас, когда наша настоящая работа идет полным ходом и достаточно мелочи, чтобы все погубить.
Верховский кивнул, показывая, какая работа их объединяет с адмиралом, но Коля кивнуть не посмел, потому что в святая святых его не допускали.
— Не сегодня-завтра из Петрограда посыплются панические телеграммы, — уверенно сказал Колчак. — У них тоже на шее сидит Совет, и они еще больше нас боятся потерять власть. Меня в худшем случае отправят в Соединенные Штаты закупать оружие или консультировать по минному делу, а им придется идти в отставку… если не на эшафот.
— Достаточно послать туда доверенного человека, — сказал Верховский, — чтобы он установил на месте, кто лжет.
— Вот это, господин полковник, — Колчак остановился напротив Верховского и кончиками сухих пальцев взял его за пуговицу на груди, — было бы роковой ошибкой. Мы должны откликнуться на этот грязный и глупый донос, словно свято верим в каждое его слово. Мы соберем, причем гласно, все возможные комиссии, советы и союзы! Бейте в барабаны, полковник!
— Слушаюсь, — неуверенно отозвался полковник и совершил незаконченное движение плечами, будто собирался уйти, не двигаясь с места.
— Сегодня же с копией письма делегировать представителей Совета и ЦВИКа в Петроград к Керенскому! Включить в комиссию самых серьезных дураков Севастополя. Остальные должны создать грандиозную комиссию. Грандиозную. Но совершенно секретную. Эта комиссия совершенно тайно должна будет обследовать резиденции всех Романовых и близких к ним лиц. Секретно, Верховский. Так, чтобы весь Крым знал и смеялся. Теперь вы все поняли?
— Теперь я все понял, — улыбнулся Верховский улыбкой гимназиста, догадавшегося, что корень из четырех — два.
— Идите. А вы, мичман Берестов, задержитесь на минутку. У меня будет к вам другое задание.
— Ну и как у вас дела? — спросил Колчак, усаживаясь в кресло и показывая Беккеру на соседнее. Садясь, адмирал нажал какую-то невидную для Беккера кнопку, потому что тотчас же отворилась дверь и вошел матрос в белой блузе с подносом, на котором стояли две рюмки, хрустальный графин с коньяком и черная пузатая бутыль.
— Рюмку коньяка, лейтенант? — спросил Колчак, показывая движением руки поставить поднос на столик.
— Благодарю вас, — сказал Коля.
«Что ему нужно от меня? Конечно, не исключено, что адмирал нуждается в преданных людях — достаточно заглянуть в исторические труды, чтобы понять: ни один великий полководец не входил в историю, не окружив себя заранее верными маршалами. Именно умение отыскать этих будущих соратников и есть главная черта таланта покорителя вселенной».
— А я побалуюсь виски, — сказал адмирал, сам наливая себе из черной бутылки, и в Коле возникла жгучая зависть и обида — обида была от той легкости, с которой Колчак, видно, берегший виски, а коньяк имевший в избытке, не удосужился предложить рюмку — одну маленькую рюмочку Коле.
«Жалко, — неожиданно подумал Коля, — жалко, что у меня нет собаки, я бы приходил домой и ее бил», — и он улыбнулся этой детской и очень правильной мысли.
— Вы хотели что-то сказать? — спросил Колчак.
— Нет, ваше превосходительство.
— Давайте договоримся, Коля, — сказал Колчак, — когда мы на людях — я принимаю только формальное обращение мичмана к вице-адмиралу. Но здесь, вдвоем, без свидетелей… Ваше здоровье.
Коля поднял рюмку и заметил, как дрогнула его рука.
Адмирал назвал его Колей. Это не было галлюцинацией.
— Допивайте, допивайте, — сказал Колчак добродушно. — В такое трудное время доверие — основная связь между людьми. Все остальное слишком опасно — ни страх, ни деньги не могут обеспечить длительную преданность — преданность в страшные дни всеобщего предательства. Доверие! А доверие должно быть взаимным!
— Вы не спрашивали меня…
— Зачем? Чтобы заставить тебя лгать? А так твоя маска оказалась прозрачной, и контрразведка полковника Баренца за полдня узнала о тебе столько, сколько ты знаешь о себе сам.
Коля хотел подняться, но Колчак уловил движение, сказал жестко:
— Сиди. Умел врать, умей и слушать. Почему взял документы Берестова?
— Он мне сам их дал, ваше превосходительство!
— Меня зовут Александром Васильевичем, и наш уговор я не отменял. Когда же он успел их тебе дать?
— Я видел его перед бегством. Перед бегством в Румынию. Он хотел, чтобы я передал их его тете. Но тетя умерла, а документы остались у меня.
— Он жив?
— Нет, он погиб. Я бы не посмел взять бумаги живого человека.
— Бунтовщиков испугался?
— Как я могу доказать каждому пьяному матросу, — сказал Коля, — что я такой же русский, как он?
— Разумно. Но чтобы больше мне не лгать. Никогда. Ты хочешь еще что-то сказать?
— Нет, Александр Васильевич.
— Почему ты оказался в Севастополе? Почему дезертировал?
— Здесь тоже делаются дела, Александр Васильевич. Вы смогли бы провести такие дни в феодосийской глуши?
— Я действую иначе. Виски хочешь?
— Нет, спасибо.
— Ты неглуп. Ты догадался, что это моя последняя бутылка. Не посылать же авизо в Одессу? Ладно, Беккер… или фон Беккер?
— Просто Беккер.
— Разумеется, просто — вариант с «фон» годился только до войны. Мне надо, чтобы ты немедленно выехал в Ай-Тодор. Знаешь, где это?
— Разумеется.
— Поедешь туда инкогнито. Отвезешь мое письмо вдовствующей императрице. Оно никому не должно попасть в руки. Только императрице. От этого зависит судьба России, которая тебе, Коля, не должна быть безразлична.
— Когда выезжать? — Коля поднялся.
— Немедленно.
Коля добрался до Ай-Тодора с ветерком; на штабном моторе. Шоффэр, немолодой матрос Ефимыч, был неразговорчив. Когда за Байдарскими воротами дорогу впереди перегородило овечье стадо и пришлось простоять минут пять на людной дороге, шоффэр откинул полу бушлата, расстегнул деревянную кобуру «маузера» и так сидел — рука на рукояти. Видно, имел приказ охранять пассажира.
За Байдарскими воротами поехали вниз, из тумана и холода, спускавшегося с гор, в весеннюю теплынь моря. Проехали Симеиз, и Коля вспомнил далекое лето, Лидочку — милую, смышленую ялтинскую девочку, ставшую спутницей несчастного Андрюши. Коле было искренне жалко Андрея — ничего против него он, разумеется, не имел и, сложись обстоятельства иначе, рад бы отдать руку за своего товарища. Впрочем, он ничего плохого Андрею и не сделал — тому не стоило суетиться и слушаться Ахмета. Ахмет… вот еще одна потеря. Где он? В Стамбуле?
Дворец императрицы в Ай-Тодоре, который она делила со своим племянником Александром Михайловичем, был скромен, и густая растительность тем более скрадывала его размеры. Коля хлопнул себя по груди, проверяя, на месте ли письмо. Он делал это уже сотый раз за дорогу, и грудь немного побаливала. Потом поправил синие очки — как у слепого. Это он сам придумал, чтобы его случайно не узнали по дороге. Автомобиль проехал открытые ворота, остановился у подъезда. Шоффэр поднялся по ступенькам и позвонил в звонок. Дверь долго не открывали.
Сидя в автомобиле, Коля достал из коробки на сиденье фуражку, надел ее вместо кепи, что было на нем для конспирации, снял синие очки, положил их во внутренний карман.
Дверь во дворец открылась — пожилой лакей в красной, обшитой желтым басоном ливрее высунулся из нее, испуганно спросил:
— Вам чего?
— Господин офицер от командующего флотом к императрице! — отрапортовал шоффэр неожиданно громко и четко. Коля и не подозревал, что у него такой голос.
— Ну и слава Богу, — сказал лакей. — Пускай господин офицер внизу подождут.
Он приоткрыл дверь шире, чтобы разглядеть автомобиль и Колю в нем. Вид его удовлетворил, дверь раскрылась еще шире, и лакей стал виден весь. На нем были черные штиблеты и белые чулки.
Коля, думая, что на него смотрят из окон, легко и изящно выскочил из авто и прошел к двери, на ходу расстегивая львиные головы — застежку черного плаща.
Он передал плащ лакею — бакенбарды висели у того по щекам, как брыли дога. Лакей аккуратно подхватил плащ, но так и остался с ним в руках, словно забыл, что надо делать дальше.
В прихожей было холодно, не топили, и сыро. По лестнице спустилась горничная в белом передничке и наколке.
— Я слышала, слышала, Жан, — отмахнулась она, видя, что лакей хочет объяснить. — Пойдемте за мной, господин офицер.
Горничная была миниатюрная, точеная и очень чистенькая. Коля подумал, как она изящна и изысканна в постели.
— Вы надолго? — спросила горничная. Такие вопросы горничные не задают, но если ты так хороша, к тому же служишь императрице…
— Я сегодня же уеду, — сказал Коля. — Но думаю, скоро вернусь.
— Возвращайтесь, — сказала горничная. — У нас совсем мужчин не осталось. Вы не представляете, как все разбегаются. Даже смешно.
Продолжая говорить, горничная, не стучась, вошла в библиотеку, где в кресле, колени накрыты пледом, сидела императрица. Оттого, что шкафы с книгами были столь высоки, а императрица столь ушла в мякоть кресла, чтобы сохранить тепло, она казалась маленькой и беспомощной. И сознание того, что перед ним сама российская императрица, жена и мать императоров, наполнило Колю сознанием важности собственной жизненной миссии, и он почувствовал, что глубоко, до слез, растроган этим моментом.
— Наташа, — сказала Мария Федоровна с акцентом, — так не хорошо разговаривать с молодыми офицерами.
— Других нету, Мария Федоровна, — сказала Наташа, в ответе не было нарочитой наглости — была фамильярность, которую позволяют себе верные слуги. — Господину офицеру от моего разговора веселее. Ему здесь не оставаться, ему на фронт, под пули.
— Я с посланием от командующего флотом, Ваше Величество, — сказал Коля.
— Оставь нас, Наташа, — сказала императрица горничной.
Наташа тут же вышла из комнаты, не выказывая обиды или спеси. Игра есть игра. Так же выходит из комнаты изгнанная хозяином собака, зная, как опасно испытывать хозяйское терпение.
— Я вас слушаю, поручик, — сказала Мария Федоровна, не зная разницы между чинами морскими и сухопутными.
— Разрешите передать вам письмо от вице-адмирала Колчака. — На маленьком овальном столике у локтя, где лежали французские книжки, вязанье и какие-то женские предметы, государыня отыскала костяной ножик для бумаги, вскрыла конверт и, надев очки, принялась читать, с трудом разбирая почерк. Потом отложила конверт и подняла голову. Коля увидел, что ее щеки покраснели.
— Господин поручик, — сказала она, — отправитель этого письма просит передать ответ вам на словах. Мой ответ будет таков: я готова вступить в отношения с господином адмиралом, о котором имею весьма высокое мнение. Что касается присутствующих… Александр Васильевич упомянул Николая Николаевича. Разумеется, его кандидатура бесспорна. Если Петр Николаевич в имении, я пошлю человека — пускай он будет…
Императрица задумалась.
Дверь дернулась, открылась, ворвался ветер, возникший от слишком быстрого движения одетого в адмиральский мундир, средних лет подтянутого человека с правильным приятным лицом.
— Этот господин полагает, — воскликнул он с порога, не видя Колю, — что грузовик и мотор ему нужны для освобождения народа от нашей с тобой власти? Ничего подобного! Он будет на них перевозить вино!
— Мой дорогой, — сказала императрица по-французски, — разреши тебе представить господина поручика…
— Берестов! — сказал Коля. Получилось громко. — Берестов Андрей Сергеевич, к вашим услугам.
— Очень приятно. Александр Михайлович, — сказал племянник императрицы. — Вы не сын покойного Сергея Серафимовича?
— Нет, — твердо сказала императрица. — У меня идеальная память на лица. Наш гость — не пасынок Сергея Серафимовича.
— Я знаю, о ком вы говорите, — поспешил с ответом Коля. — Но я слышал, что он погиб.
— Невероятная трагедия, — сказала императрица. — Это была такая милая семья.
— Скажите, мичман, — обратился к нему Александр Михайлович, — вы не в Севастополе служите?
— Так точно, Ваше Высочество, — сказал Коля, ощущая, как приятно во рту складываются слова — величество, высочество… как естественны они в разговоре.
— Будьте любезны передать там мою жалобу на начальника севастопольской авиационной школы, который потребовал, чтобы я вернул предоставленные мне грузовик и автомобиль.
Коля вспомнил, что Александр Михайлович был командующим авиацией. Он только что уволен от этой должности Временным правительством. Конечно, ему обидно — чернила еще не высохли, а какой-то начальник школы уже требует казенное имущество.
— Я сегодня же доложу о вашей жалобе господину командующему флотом, — сказал Коля.
— Вы меня крайне обяжете, крайне обяжете. — Великий князь был неуверенным в себе человеком. Но магия титула оставалась. Должны, видно, пройти месяцы, прежде чем титул станет клеймом.
— Сандро, — сказала императрица, не скрывая раздражения, — господин Колчак сообщает, что ходят слухи о нашем заговоре против Временного правительства. В Севастополе собирают комиссию, чтобы нас расследовать!
— Нас? Расследовать? Еще чего не хватало!
— А почему бы и нет? — сказала Мария Федоровна. — Мы не присягали новой власти и мечтаем о том, чтобы она пала.
На обратном пути Коля приказал шоффэру проехать по набережной Ялты. Тот был недоволен и не скрывал недовольства, умудряясь не сказать при этом ни слова. Но Коля был в синих очках, цивильном кепи, и вряд ли его кто-нибудь мог узнать.
Не узнала его и Лидочка, которая как раз вышла на набережную, убежденная, как и вчера, что сегодня Андрюша придет к платану. Лидочка увидела автомобиль и успела отойти в сторону, чтобы не попасть под него. Она видела и странного седока — молодого человека в черном морском плаще, сером кепи и синих очках, напомнившего ей английского сыщика Шерлока Холмса, который любил переодеваться. Конечно же — в машине сидел переодетый человек! Но и чем-то знакомый — прямой посадкой головы на длинной шее, линией плеч, скрытых морским плащом. Ощущение знакомства не вылилось в узнавание, и Лидочка отвела взгляд, хотя успела заметить, что синие очки повернулись к ней, как бы изучая.
Коля, разумеется, узнал Лидочку и чуть было не окликнул ее, так обрадовался встрече. Оказывается, он соскучился по ней! Как она похорошела! Сколько прошло — почти три года? Ей уже двадцать один! Значит, она не погибла, как все думали! Значит, она вернулась?
Автомобиль уже миновал «Ореанду» и повернул наверх по плохой мостовой вдоль речки, к повороту на шоссе, а Коля все оглядывался, словно мог увидеть Лидочку.
Сначала он решил, что обязательно приедет в первый же свободный вечер в Ялту, чтобы повидать Лидочку. Но тут же он вспомнил, что живет под именем и по документам Андрея — не дай Бог, если она случайно узнает!
На следующее утро Коля доложил адмиралу о поездке к императрице.
Колчак подошел к столу. Достал оттуда отпечатанный на машинке листок бумаги.
— Комиссия уже создана, — сказал он. — В ней тридцать три члена. Тридцать три богатыря… Все члены ЦВИКа. Цвик-цвик-цвик… Это или кур сзывать, или из Гофмана. Откуда?
— Скорее из Гофмана, Александр Васильевич, — сказал Коля.
— Точно — муниципальный советник бундесрата Герберт Цвик. Здесь у меня список комиссии — вчера утвердили на Совете. Вот здесь расписание их секретных визитов. Под различными причинами. Четвертого апреля — Ливадия, пятого — Чаир, шестого — Дюльбер и так далее. Да, смотрите-ка, не забыли дачу эмира бухарского. Разве он здесь? Значит, здесь. Эту бумагу надо будет сегодня же отвезти императрице, надеюсь, вам это не в тягость, лейтенант? Впрочем, погодите, зайдите потом к каперангу Немитцу, нашему демократу. Если у него есть свободная минутка от встреч и братаний с матросами, пусть подпишет приказ о назначении вас моим адъютантом. Не благодарите. Так удобнее и приличнее — не мичмана Беккера посылаю, а существо десятого класса с аксельбантом.
В тот день Коля возил второе письмо к императрице и потому не успел заказать аксельбант и вколоть в погоны четвертые звездочки. Но когда горничная Наташа — четкие каблучки, круглая попка — сказала, впустив его в прихожую: «Наш поручик приехал», Коля позволил себе ее поправить:
— Я лейтенант, Наташа. Это равно штабс-капитану от инфантерии.
— Фи! — сказала Наташа, отстраняя его руку, по-отечески тронувшую ее плечо. — Меня и генералы за эти места трогали.
— Где они, твои генералы! — парировал Коля. — А я здесь и молодой.
— Вы красивый, — деловито согласилась Наташа. — Как же не понимать.
Государыня Мария Федоровна встретила Колю как старого знакомого. И даже было странно подумать, что два дня назад он знал эту старую женщину только по картинкам в «Ниве». Александра Михайловича не было, но в библиотеке их ждал Великий князь Николай Николаевич — сухой, как говорится — версту проглотил, старик в сапогах, начищенных столь зеркально, что в них отражались книжные шкафы, и голова кружилась при взгляде на такое совершенство.
Мария Федоровна сказала ему о письме Колчака и о комиссии Совета, что приедет искать царский заговор.
— Садитесь, лейтенант, — сказал Николай Николаевич, — мы здесь без чинов. Дайте письмо, Мария Федоровна, я прогляжу его. Какое у них расписание? Ага, ко мне в Чаир шестого! Ничего они не найдут.
— Там нечего находить, — сказала Мария Федоровна, как бы предупреждая Великого князя.
В тот день Колю оставили в Ай-Тодоре к обеду, и он был представлен супруге Александра Михайловича, добродушной и хлопотливой Ксении Александровне, сестре императора, а также внучатой племяннице императрицы Татьяне, склонной к романтическим увлечениям. Коля, разумеется, не знал, что она в некотором роде старая знакомая его бывших друзей — Ахмета и Андрея, потому что была среди гостей в давнишний предвоенный вечер на вилле Сергея Серафимовича Берестова, и Ахмет имел наглость схватить ее за коленку, тогда куда менее округлую. Впрочем, никто, кроме Ахмета, уже не помнил о том инциденте.
— Для визитов нашего юного друга, — сказал за обедом Александр Михайлович, — нужно веское оправдание.
— Вы правы, — сразу согласилась императрица. — Я уже подумала, что вокруг слишком много соглядатаев.
Коля молчал, потому что, к своему стыду, об этом не подумал. Между тем как императрица была права.
— Так что мы предлагаем, — императрица улыбнулась уголками губ, — чтобы господин Берестов увлекся нашей Таней.
Щеки Тани зарделись, Александр Михайлович захохотал, Коля готов был присоединиться к его смеху, но его опередила Таня:
— Меня никто не спросил! Как вы смеете!
— Таня, — успокаивала ее императрица, — никто не требует, чтобы ты в самом деле увлеклась нашим курьером. Он ведь тоже не испытывает к тебе нежных чувств…
— Предпочитая чары Наташи, — добавил Александр Михайлович, и Ксения Александровна тут же сделала ему выговор по-французски.
В конце концов Мария Федоровна восстановила за столом мир, и обед завершился договоренностью о романе Коли и Тани, после чего императрица удалилась к себе читать толстую семейную Библию на датском языке.
«Заговор императрицы» оказался весьма кстати. В ближайшие дни Коле пришлось несколько раз побывать в Ай-Тодоре, и уже без автомобиля, который был слишком очевиден. От Севастополя до Ялты Коля добирался катером, а оттуда брал извозчика.
Таня была с ним холодна, но без враждебности, и Коля предположил, что ее мягкое сердце занято иным мужчиной. И даже высмотрел подозреваемого на эту должность.
Что же касается плана Колчака опередить общественное возмущение и отправить по виллам императорской фамилии специальную комиссию, то эта затея провалилась: слухи о создании комиссии докатились до Петрограда и вызвали там слухи о монархическом заговоре в Крыму, о том, что там готовится мятеж и отделение Крыма от России, будто бы английское правительство уже высылает в Черное море дредноут на помощь заговорщикам, хотя в высшей степени было непонятно, как дредноут прорвется сквозь не покоренные еще турецкие Дарданеллы. Результатом возросших до небес слухов в Петрограде стала следующая телеграмма военного министра Временного правительства № 4689 от 17 апреля:
Немедленно обеспечить Южный берег Крыма от контрреволюционных попыток и контрреволюционной пропаганды.
Колчак выругался. Как последний матрос — так сказала бы покойная мама Коли Беккера. Излишнее внимание к виллам Романовых не входило в его планы. Если там не удовлетворятся его действиями, могут вывезти Романовых в столицу. Это опасно при переменах революционного климата. А адмиралу члены правящей фамилии были нужны в Крыму живыми. Следовало быстро и энергически отреагировать на петроградские подозрения. Желательно было перестараться. И потому родился следующий приказ по Черноморскому флоту:
Срочно. Секретно. Полковнику Верховскому. По приказанию Временного правительства предлагаю вам отправиться в город Ялту с членами Севастопольского Центрального комитета депутатов армии, флота и рабочих и, по соглашению с местным комиссаром, принять мероприятия для обеспечения Южного берега Крыма от контрреволюционных попыток и контрреволюционной пропаганды.
На следующий день с кораблей флота и из частей гарнизона были выделены специальные команды наиболее революционно настроенных солдат и матросов в количестве 1500 человек, которые были разбиты на специальные отряды под общей командой председателя ЦВИКа вольноопределяющегося Сафонова, а над этими отрядами приняли командование более пятидесяти членов ЦВИКа. Координировал усилия полковник Верховский, имевший приказ адмирала как можно дольше занять охотой за ведьмами всех сознательных матросов и руководителей ЦВИКа.
25 апреля экспедиция двинулась в наступление на Ялту с суши и моря. Сухопутные силы на автомобилях и грузовиках, десант был посажен на военные транспортные суда «Дания» и «Король Карл».
В первом часу ночи в двери дворцов в Чаире, Ай-Тодоре, Дюльбере, обезлюдевшей совсем Ливадии, в ворота дач графа Тышкевича, предводителя дворянства Попова и некоторых иных известных на побережье людей, не скрывавших своих монархических симпатий, начали стучать. Стучали одинаково — нарочито громко, часто, будто целью стучавших было не разбудить хозяев, а выломать саму дверь.
Такой стук, призванный не только разбудить, но и смертельно перепугать хозяев, был придуман, как считают некоторые историки, в Варфоломеевскую ночь и широко использовался потом русской полицией.
Обыски всюду начались в час ночи 26 апреля, а завершились от пяти до шести утра. Владельцы вилл и дворцов, а также их немногочисленные слуги провели ночь, сидя на виду у задымивших и забросавших ковры окурками сознательных матросов и солдат.
Владельцы усадеб вели себя по-разному. Некоторые возмущались, некоторые были угодливы, но были и такие, кто не обращал на обыски внимания, словно те были каждодневной неприятной обязанностью. Горничная Наташа и Жан церберами стояли у двери в спальню занемогшей вдовствующей императрицы и не позволяли туда проникнуть ни одному мужчине. Так что поручик Джорджилиани, который командовал обысками во дворце, вынужден был привезти на казенной машине из Ялты родственницу вольноопределяющегося Зороховича, которая была допущена в спальню и вышла оттуда через шесть минут, утверждая, что ничего предосудительного не нашла. Родственнице было под шестьдесят, она робела перед квартальным — так что живая императрица была для нее страшнее архангела Гавриила. Все шесть минут она простояла с внутренней стороны двери, не смея сесть, как ни склоняла ее к тому Мария Федоровна, и не смея взглянуть на государыню.
Ни в Ай-Тодоре, ни в других дворцах не было найдено ничего предосудительного, но так как найти что-то требовалось, во дворцах был конфискован ряд предметов.
Более всего пострадал Великий князь Николай Николаевич, который лишился своей коллекции охотничьего оружия, состоявшей из трех десятков ружей и ножей, а также восемнадцати винтовок и трех револьверов, и окованного железом сундука с перепиской личного характера.
На даче предводителя дворянства Попова вместо предполагаемого скрытого радиотелеграфа был обнаружен синематографический аппарат. Секретная комната, где якобы собирались заговорщики, оказалась всего-навсего фотографической лабораторией, а съезд подозрительных лиц, состоявшийся в том доме, — помолвкой графа Тышкевича-младшего с дочерью герцога Романовского. Таинственный черный автомобиль принадлежал императрице Марии Федоровне, на нем она совершала прогулки в сопровождении своей дочери Ксении Александровны. Все перечисленные выше подозрительные предметы, включая фотографическое оборудование, оружие и автомобиль с шоффэром, были реквизированы от имени революции.
На этом отягощенная добычей экспедиция с победой возвратилась домой. Колчак уже 27 апреля доложил обо всем Временному правительству. И наутро пришел ответ: решительные действия Севастопольского ЦВИКа признаны правильными и своевременными, Черноморскому флоту и Совету выносится особая благодарность Временного правительства.
Для того чтобы опасные Романовы не смогли захватить Крымское побережье, пользуясь удобным расположением своих вилл и дворцов, Севастопольский Совет по предложению адмирала Колчака принял мудрое решение: свезти всех представителей семейства и их прислужников в одно место, которое легко охранять как внутри, так и снаружи.
Был избран Дюльбер, дворец Петра Николаевича.
Петр Николаевич, поклонник Востока, сам начертил когда-то план дворца и набросал его купола и стрельчатые окна. Придворный архитектор Краснов, создавший почти все дворцы в Крыму, послушно сотворил мавританский дворец, подобный строениям в Гренаде и Альгамбре. Этот дворец стал воплощением Востока, как его понимали российские вельможи.
Комендантом дворца, куда свезли всех Романовых, стал поручик Джорджилиани, ярый революционер, скрывавший свое княжеское происхождение, о чем дознался полковник Баренц.
В своих мемуарах, опубликованных через много лет после тех революционных дней, Великий князь Александр Михайлович писал:
Поручик достал план Дюльбера, на котором красными чернилами были отмечены крестиками места для расстановки пулеметов.
«Ялтинские товарищи, — сообщил он, — настаивают на вашем немедленном расстреле, но Севастопольский Совет велел мне защищать вас до получения приказа из Петрограда. Я не сомневаюсь, что Ялтинский Совет, где верховодят большевики, попробует захватить вас силой. Дюльбер с его стенами защищать легче, чем Ай-Тодор».
Я никогда не думал о том, что прекрасная вилла Петра Николаевича имеет так много преимуществ с чисто военной точки зрения. Когда он начал ее строить, мы подсмеивались над чрезмерной толщиной его стен и высказывали предположение, что он, вероятно, собирается начать жизнь Синей Бороды. Но наши насмешки не изменили решения Петра Николаевича. Он говорил, что никогда нельзя знать, что готовит нам отдаленное будущее. Благодаря его предусмотрительности Севастопольский Совет располагал в 1917 году хорошо защищенной крепостью.
Джорджилиани поселился во флигеле дворца.
Работы по срочной разборке бумаг Николая Николаевича поручили рабочему Мигачеву, социал-демократу. Тот обратил внимание на находившуюся в сундуке докладную записку стратегического плана захвата Босфора и Дарданелл через Анатолийский берег, составленную герцогом Лейхтенбергским совместно с капитаном первого ранга Немитцем. Проект не получил хода, потому что военная обстановка тому не благоприятствовала.
Колчак ознакомился с проектом, а на следующий день вызвал к себе Немитца, которого не любил за либерализм, полагая карьеристом. Колчак, ценивший ясные головы у подчиненных, сообщил, что послал в Петроград представление на присвоение Немитцу звания контр-адмирала и делает его начальником штаба операции под кодовым названием «Ольга».
На этом либеральные речи Немитца были закончены, и его вотще ждали в Совете и ЦВИКе и на митингах, которые потеряли за последние недели размах и громкость речей. Немитц, будучи специалистом, с увлечением окунулся с головой в подготовку похода Черноморского флота.
Из Ялты вернулся Мученик.
— Называйте меня Еликом, — сказал он, встречая Колю в зале домика Раисы. Он сидел за столом, одновременно вальяжный и взъерошенный, и Раиса смотрела на него с доброй жалостью. — Я привез ящик массандровских вин — царская коллекция. Их больше не будет. Раиска сказала, что вы с ней дружно живете и она вами довольна. Это хорошо. Я рад, так именно — я рад.
В глазах Мученика была собачья просьба — не бери мою Раю! Я потерплю, пока ты здесь. Мы же с тобой джентльмены?
— Я сейчас уезжаю, — сказал Коля.
— Опять в Ялту? Скажи, Елик, зачем он туда ездит?
— Как зачем? — Мученик подмигнул Коле и повернулся к Раисе. — Как зачем, когда вся Ялта знает, что у господина Берестова есть замечательная любовница. Княжна Татьяна! — И Мученик стал смеяться. — Прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла.
Коля с удовлетворением отметил, что Елисей, как и севастопольские сплетницы, поверил версии, придуманной императрицей.
— Елик, бросьте свои шутки! — рассердилась Раиса. — Мне еще не изменяют!
Мученик совершил роковую мужскую ошибку — он полагал унизить соперника, а в результате невероятно возвысил того в глазах Раисы. Может быть, Елик врет — нет там княжны. А что, если есть? Ну, если не княжна, то хотя бы графиня? Откуда у Коли автомобиль с шоффэром, который всегда молчит и носит под бушлатом «маузер» в деревянной кобуре? Откуда у Коли лейтенантский чин, если всего несколько дней назад он был прапорщиком из вольноопределяющихся?
— Раиса, — Коля вынул из кармана солидную пачку пятерок, — я буду завтра в Ялте, но очень прошу, поговори завтра с тем портным, который шил мне этот мундир. Мне нужен парадный, под эполеты и высокий ворот. Надеюсь, тебе хватит денег.
— Еще чего не хватало! — сказала Раиса гневно. — Я вам, извиняюсь, не жена!
— Все, что останется, возьмешь себе, — сказал Коля. — Витенька давно просил паровоз.
— Уууу! — загудел Витенька. — А Мученик принес мячик! Кому он нужен? Если хочешь, Коля, я его тебе подарю.
— Спасибо, оставь его себе.
— Это странно, — сказал Мученик. — Зачем вам, господин Берестов, два имени?
— Так меня мама в детстве звала, — сказал Коля.
— Разумеется, — согласился Мученик, уловив угрозу в участившемся дыхании Раисы. — Давайте выпьем. Посидим, выпьем, давайте?
Коля, не желая того, почувствовал, как изнемогал Мученик от ревности и унижения. Ради высокой любви он оставил на время свою идеальную подругу — Революцию и приволок из Массандры ящик с вином; но ящик не стал пропуском к счастью. Желающий счастья всему человечеству Елисей Мученик не мог желать счастья Андрею Берестову, который, возможно, даже не Андрей Берестов, а черт знает какой конспиратор.
Раиса стала собирать на стол, а Мученик понял, что должен уйти. Мученик поднялся, стал прощаться — и вышло совсем уж неловко, демонстративно. Раиса почти не уговаривала его: уходишь — уходи. Но была обижена — гости не должны уходить, когда их тарелка уже на столе, каждый знает.
А Мученик ушел. Он шагал по вечерней улице, вниз, к гавани. Он думал о несправедливости судьбы. Ему, Елику Мученику, никогда ничего легко не доставалось. Но он добился многого, к чему стремился. Он хотел быть сытым — он давно уже стал сытым. Он хотел стать образованным — он окончил Коммерческое училище в Одессе. Он хотел стать состоятельным — и основал процветающую посредническую фирму на паях с французским капиталом. Но он понимал, что счастье и состояние нежатся под дамокловым мечом случайности, потому что Мученику выпало родиться в рабской империи. И он стал революционером. Упаси Боже! Нет, не тем, кто кидает бомбы, а тем, кто руководит массами. Революция получилась, но счастья не было.
В прошлом году, зайдя в магазин, он увидел ту самую женщину, которая ему снилась в сексуальных снах начиная с отроческого возраста, и возжелал ее. Революция еще не была завершена, и сам Мученик еще не обеспечил постоянного счастья для себя, своей семьи и всего человечества. Мученик стал приходить к Раисе, но она, даже отдаваясь ему, Елисея не полюбила.
Берестов же был красив и мускулист…
Мученик отлично понимал, где ему обещают, а где его обижают. Он даже понимал, что Раиса его не обижает и не хочет обижать — нет, она добрая, но плотоядная женщина, а он, Мученик, — хищник в политической борьбе, но не способен быть хищником в постели, потому что в постели он жаждет быть одновременно страстным и нежным, ибо воспитан на поэзии Блока и Бальмонта.
Шатаясь, словно пьяный — а ведь ни одной бутылки не открыли, Мученик клял себя за наивность. Раньше он думал, что в жизни всего важнее революция, оказалось — женщина. Революция свершилась и требует от него всех сил — как ревнивая жена. А он не способен отдавать ей силы — он хочет убить этого Колю-Андрюшу! Он хочет отнести мягкую и страстную Раису Федотовну на пышную кружевную кровать и сказать ей: ты моя супруга!
На углу Нахимовского проспекта Мученика встретил рабочий Мигачев, который намеревался доложить на ячейке партии социал-демократов о бумагах Николая Николаевича, которые он как член комиссии тридцати трех прочел, но не знал, что делать дальше. Мученику некуда было бежать. Поэтому он постарался забыть о Раисе и, обняв передового, но еще политически малоразвитого рабочего за плечи, повел по проспекту, раскланиваясь с прохожими, потому что многие знали в лицо столь известного политика.
Автомобиль уже стоял у дома. Ждал его за углом, чтобы не привлекать внимания. Шоффэр, старослужащий матрос Ефимыч — человек пожилой, солидный, громоздкий, отличавшийся презрением к опасности и крайней флегматичностью, — уже привык к поездкам с Колей и сам облекал их в покровы тайны, придумывая всем конспиративные клички. Коля без труда принял эти правила игры.
— Поздравляю, — сказал Ефимыч, — с новой звездочкой.
— К старухе? — спросил он, усаживаясь на заднее сиденье.
Старуха означала, как нетрудно догадаться, вдовствующую императрицу.
— Нет, сначала вызывает король, — прошептал шоффэр.
Король означало Колчака. Ефимыч дал ему эту кличку, потому что хотел, чтобы вице-адмирал хотя бы в условном языке был выше всех.
Коля поглядел на часы. Был уже шестой час.
— Мы не успеем в Дюльбер, — сказал он.
— Мое дело передать приказ.
Поехали к Александру Васильевичу на квартиру, что он снимал для Темиревой. Считалось, что Ольга Федоровна о ней не подозревает. По случаю недавнего приезда возлюбленной Александр Васильевич был в элегическом настроении. Что не отвлекало его от дел.
Вестовой принес поднос — на нем стояли коньяк и виски. Колчак бросил быстрый взгляд на Колю, вспомнил, потом улыбнулся тонкими губами и спросил:
— Коньяк, виски?
Положение Коли изменилось. И он, оценивая слова адмирала, сказал:
— Виски, только немного.
— Как далеко зашел ваш роман с княжной Татьяной? — спросил Колчак.
— Я хотел бы, чтобы он зашел дальше.
— Учтите, Берестов, в нашем революционном Отечестве звание «княжна» лишь недостаток, гиря на ногах.
— Я должен предложить ей руку и сердце?
— Ах, стервец! — засмеялся Колчак. — Впрочем, почему не попробовать?
— К сожалению, — сказал Коля, — я не пользуюсь расположением княжны.
— А она вашим?
— Ни в коем случае! У нее кривые ноги.
— И это вас остановило?
— Вот именно, Александр Васильевич.
— Ну ладно, ладно, не дуйтесь. В конце концов, меня не интересуют ваши любовные дела — хотя я хотел бы, чтобы вы познали любовь.
— Спасибо.
— Не иронизируйте, лейтенант. Я сам люблю и не стыжусь этого чувства… Перейдем к делу. Вы смогли убедить Джорджилиани и соглядатаев из Ялтинского Совета, что увлечены только княжной?
— Я старался.
— Пустые слова, свидетельствующие о провале.
— Нет, не о провале. Татьяна сама увлеклась черными усами тюремщика Джорджилиани.
— Сказочное совпадение!
Коля отхлебнул крепкого душистого виски. Он слышал о том, что виски положено пить с содовой, но так как Александр Васильевич пил его просто, как водку, он не посмел спросить о воде.
— Ваш поздний визит не вызовет подозрений?
— Надеюсь, что Джорджилиани поможет мне. Он добродушен и невнимателен, как поющий соловей.
— Отлично. — Колчак налил себе вторую рюмку. — Я передаю вам письмо, Берестов. Надеюсь, это последнее письмо. Вы проследите, чтобы государыня сожгла его при вас.
— Как всегда, — сказал Коля. — Голова у нее работает четко.
— В письме уточняются детали совещания. Согласие императрицы получите устно. Чем меньше будет бумажек, тем безопаснее.
Колчак поднялся и с бокалом в руке подошел к окну, откуда открывался вид на порт. Там перемигивались огоньки, слышно было, как урчали паровые сердца грузовых кранов и лебедок, доносились гудки и свистки пароходов и боевых кораблей. Порт был оживлен даже более, чем днем, потому что ночью любой звук и свет усиливаются.
— Подойдите, Коля, — сказал Александр Васильевич. — Смотрите и слушайте. Это последний день перед великим походом. И от его исхода зависит судьба каждого матроса, судьба ваша, судьба капитанов, кораблей, наконец, судьба моя и судьба России. А начало зависит от тайны. А тайну во всем ее объеме знаю лишь я. Долю ее, достаточно важную для того, чтобы все погубить, знаете и вы, мой юный друг. Так что даже если вы попадете в лапы социалистов или матросов, если вас будут пытать и убьют — вы должны молчать. Вы поняли, лейтенант?
— Так точно, ваше превосходительство, — ответил Коля, понимая, что он отвечает сейчас как морской офицер. И не важно сейчас, что он вчерашний артиллерийский прапорщик из вольноопределяющихся, что чины он получил в подарок от адмирала и от имени революции. Теперь же он, Беккер, обязан победить революцию.
— С Богом, — сказал Колчак. — Надеюсь, если мы победим, вам будет уготовано достойное место в анналах нашей империи.
От двери Коля не удержался, обернулся — маленький рядом с вертикальной вытянутостью шторы, стоял вице-адмирал Колчак с бокалом виски в сухой руке. Он был серьезен, губы сжаты. Он не смотрел на Колю, которого уже изгнал из сознания, — он смотрел на бухту, на рейд, на сигнальные огоньки на клотиках кораблей. Он был в будущем. Один.
Коля сбежал к машине.
— Поехали, Ефимыч. А то совсем поздно.
Карл Платтен видел, разумеется, как задержали и увели протестующего Владимира Ильича. Он бежал рядом с агентом, который крепко держал Ленина за руку, хотя тот и не старался вырваться, и уговаривал его, что произошла ошибка, что их поезд вот-вот отбудет, а там вещи, что лучше вернуться к поезду и там разрешить это недоразумение.
Агент, не останавливаясь, рявкнул:
— Вот и бегите. А то на самом деле поезд уйдет!
— Да, да, голубчик, — сообразил Владимир Ильич. — Скорее к поезду. Карл, скорее! Там все наши вещи! Там мои рукописи! Бегите! Меня найти легче, чем вещи.
— Истинно, — сказал агент. — Натюрлих.
Платтен все еще стоял в неуверенности, но тут Ленин крикнул:
— Какого черта вы теряете время?
Ему показалось, что он слышит гудок паровоза, донесшийся сюда, за пределы вокзала.
Платтен принял решение и, неумело подкидывая тонкие ноги, побежал к вокзалу.
Владимир Ильич понял, что Платтен не успеет добежать до поезда, а если и успеет, то не снимет багажа, — как жаль, что для сопровождения ему дали мальчика, а не опытного конспиратора! Но право же — сейчас важнее спасти чемоданы, чем голову Ленина, которой в Германии никто не угрожает.
Они поравнялись с Кельнским собором, и Владимир Ильич невольно запрокинул голову, придерживая шляпу, чтобы ощутить полет этой невесомой серой громадины.
— Это величайшее произведение человеческих рук, — сказал Ленин.
— О нет, — возразил агент, оказавшийся начитанным и думающим немцем. — Кельнский собор — произведение немецкого духа. Без возвышения мастеров посредством идеала собор бы не стал таким чудом света, как не стали соборы в вашей стране, господин русский.
Агент уже догадался, что поймал русского разведчика.
— Вы не были в моей стране, — вдруг обиделся Ленин, — и не видели наших соборов. И не знаете российского духа!
— Я допускаю это, — сказал агент, вынужденный остановиться. — Но вы сами вполне искренне отдали Кельнскому собору пальму первенства.
— Именно потому, что знаю, сколько кирпичей было положено в его стены, сколько лет потребовалось мастерам и каменщикам, чтобы возвести их! Я знаю объем труда, стоимость и то, как одни люди угнетали других в процессе этого труда.
— Ах, господин шпион, — сказал агент. Владимир Ильич удивился, услышав такое обращение, и понял, что арест вовсе не был случайным. — Ах, господин шпион, — сказал агент. — Вы же сами забыли о кирпичах и угнетении — потому что вы видите результат. И человечеству нужен только высокий результат, а не низкие беды тех, кто строил храм. С таким же успехом вы могли бы рассказывать мне о гастрите тенора, поющего в «Лоэнгрине». А мне не важен его гастрит! Мне важен тембр его волшебного голоса.
— И то и другое является житейской реальностью, — возразил Ленин. — Только гастрит находит себе выход в заднем проходе, а голос — в бронхах, то есть проходе верхнем.
И тут они оба услышали гудок поезда, и оба поняли, что отходит именно тот поезд, в котором час назад ехал Владимир Ильич, стремясь в объятия великой русской революции. С некоторой надеждой Ленин, когда они возобновили движение, оглядывался, но Карл Платтен был неопытным революционером и, конечно же, не догадался рвануть стоп-кран, объяснив это необходимостью сойти с поезда именно в Кельне. И вот сейчас… нет, невероятно, надо быть реалистом, а так не хочется быть реалистом… вот сейчас Карлуша покажется из-за угла, волоча в руках по чемодану. Ленин так хотел это увидеть, что передал необъяснимым путем желание германскому агенту, тот остановился и минуты две глядел назад, тоже мечтая, чтобы показался Платтен. Но потом агент взял себя в руки, понял, что желает того, чего желать не положено, но не рассердился, а улыбнулся — у него было хорошее настроение рыбака, влекущего домой большую щуку. Ленин отчаялся увидеть Платтена и потому шел молча, покорно, размышляя о позиции, которую предстоит занять на близком допросе, и утверждаясь во мнении, что образ глухонемого норвежца — лучший выход из положения.
А Платтен, ворвавшись в купе за две минуты до отхода поезда, не обратил внимания на то, что вице-консул стоит в коридоре, а супруги Розенфельд сидят на диване, вежливо улыбаясь.
Платтен начал собирать чемоданы, запихивая в них вещи, что были извлечены для пользования в дороге. Он боялся ошибиться и положить к себе вещь, принадлежащую его несчастному спутнику. Прозвенел колокол на перроне, поезд в ответ загудел и дернулся, начиная движение к северу. Платтен в отчаянии кинул взгляд на кран торможения, но не дотронулся до него, потому что рядом с краном была табличка на пяти языках, запрещавшая пользоваться им без особой к тому необходимости. Пока же Платтен размышлял, не наступила ли необходимость, поезд разогнался, и дергать за кран было поздно.
Платтен был европейцем, более того, швейцарцем, и не мог нарушать порядок. Именно потому мировая пролетарская революция была обречена на провал — ведь в любой революции первым делом надо дергать за краны и нарушать правила перехода улиц. Иначе революция называется эволюцией.
К тому времени, когда Карл Платтен сдался, а супруги Розенфельд предварительно изучили содержимое шпионских чемоданов и убедились, что шпионы не устроили в купе тайников, вошел полицейский в сопровождении носильщика. Платтена сняли с поезда на ближайшей же станции. Он долго не мог понять, зачем же германская полиция так коварно разлучила его с Лениным, а Ленина — с багажом.
Никто никогда не объяснил этой тайны Карлу Платтену. Оскорбленный и раздосадованный, а более того удрученный провалом миссии, молодой человек впал в глубокую ипохондрию и на десятый день заключения, так и не промолвив ни слова, повесился на неосмотрительно оставленных ему подтяжках.
Владимир Ильич не знал ничего о судьбе Платтена и надеялся, что вскоре инцидент разрешится именно с его помощью. А тем временем шел розыск родственников умершего Платтена, и первая версия о том, что Ленин с Платтеном — шпионы, в конце концов не выдержала испытания.
Несмотря на долгие, изнурительные допросы, Ленин продолжал держаться за версию о том, что он — глухонемой швед. Правда, быть до конца последовательным ему не удавалось, ибо он все более выходил из себя и порой кричал на тюремщиков и следователя Шикельгросса на немецком языке. Но потом спохватывался и молчал днями напролет.
Так прошел апрель. И лишь в начале мая Платтену-старшему, похоронившему брата в Гамбурге, удалось отыскать Владимира Ильича в кельнской тюрьме, и еще две недели потребовалось Ганецкому и некоторым другим политическим деятелям, чтобы выцарапать Ильича на волю.
Но к тому времени положение в России изменилось.
Когда автомобиль Беккера съехал на дорожку к дворцу Петра Николаевича, уже совсем стемнело. Утомленный нервным днем Коля дремал на заднем сиденье. Но как только мотор резко повернул к воротам, Коля проснулся и начал шарить рукой по сиденью в поисках форменной фуражки.
Из будки вышел часовой, всмотрелся в темноту. Ефимыч сказал ему:
— Не узнал, что ли?
— А кто вас узнает, разъездились по ночам, — беззлобно ответил часовой.
— Поручик здесь? — спросил Коля, когда машина въехала в открывшиеся ворота.
— К господам пошел, — сказал солдат. — Вы ему скажите, комитет серчает — пьет ваш поручик.
— Пьет или другим пить мешает? — спросил Коля.
— К господам пошел, — сказал солдат.
Фонарь освещал его сверху, от чего не прикрытыми тенью от папахи оставались лишь кончик носа и подбородок.
— Поехали, — сказал Коля Ефимычу.
Лакей Жан отворил дверь и принял шинель. В последние поездки Коля перестал маскироваться — только заменял в дорогу фуражку на нейтральную солдатскую папаху.
— Как дела? — спросил Коля голосом старого друга семьи. — Все ли здоровы?
— Спасибо за внимание, ваше благородие, — откликнулся Жан с улыбкой. Может, так же спрашивал его посол английский или шах персидский? Бог знает, отчего улыбаются слуги. — Все здоровы-с.
Жан принял шинель, и Коля привычно прошел в большую гостиную. Он надеялся, что Татьяны с императрицей не будет.
Молодые люди играли навязанные им роли, не скрывая своей неохоты, но старшие заговорщики не придавали этому значения.
Несколько раз Коля прогуливался с Таней по дорожкам Дюльбера так, чтобы их видели солдаты и слуги, раза три они сидели на веранде у всех на виду. Гуляя и сидя на веранде, молодые возлюбленные кое о чем разговаривали. В частности, они поставили под сомнение необходимость романа как конспиративного хода. Пока никто Романовыми не интересовался, приезды и отъезды лейтенанта также никого не интересовали. Когда же ими заинтересуются, то его визиты скорее вызовут подозрение, потому что в их роман никто не поверит…
Коля быстро вошел в гостиную, но императрицы там не было. Коля оглянулся — где ее искать? В этом пустеющем день ото дня дворце не было слуг, которые могли бы провести тебя куда следует.
Коля повернул в библиотеку. В библиотеке на диване возились, словно гимназист и гимназистка на вечеринке, поручик Джорджилиани и княжна Татьяна. Татьяна уютно попискивала и вроде бы сопротивлялась, а Джорджилиани подвывал умоляюще, словно нищий на набережной.
Это было отвратительное зрелище.
Нет, не нужна была Коле Татьяна. Не любил он ее — но это не означает, что можно заниматься паскудством на диване, когда в любой момент могут войти.
— Встать! — неожиданно для себя закричал Коля начальственным голосом.
Возлюбленные, отталкиваясь ладонями, расцепились, и Татьяна, путаясь в складках, стала оправлять лиф, стараясь спрятать грудь.
— Как вы смеете! — кричал Коля, забывшись. — Как вы смеете, когда в любой момент могут войти! Вам что, не терпелось настолько, что вы не могли спрятаться куда-нибудь на чердак?
Джорджилиани, плотный невысокий брюнет, списанный за некие грехи из гвардии в запасной пехотный полк и как оппозиционер попавший на должность при пленных Романовых, вдруг оробел, вскочил и дрожащими пальцами оправлял мундир. Коля со злорадством наблюдал, как поручик неправильно застегивал пуговицы, от чего одна пола была на пуговицу выше другой.
— Андрей Сергеевич! — от двери сказала Мария Федоровна. — Что за шум?
— У меня были к тому основания! — Коля гневно обернулся к императрице.
Мария Федоровна, не подозревая, видно, что на свете есть люди, которые могут не знать французского языка, обратилась тогда к Коле с длинной и гневной французской тирадой. Коля слушал, стыдясь сознаться в собственном невежестве.
Татьяна громко зарыдала и выбежала из библиотеки.
Джорджилиани, не смея побороть роялистских устремлений и грузинского почтения перед старухой, стоял красный, злой, по стойке «смирно» в нелепо, наперекосяк застегнутом мундире и оттого был смешон.
— Нехорошо, молодые люди, — сказала Мария Федоровна. — Вы забыли, где вы находитесь.
— Я надеюсь, что ко мне это не относится?
— Силянс! — оборвала его императрица. Обернулась к Джорджилиани: — Поручик, попрошу вас покинуть дворец и вернуться к исполнению своих обязанностей.
— Ваше Величество…
— То, что вы наш тюремщик, господин поручик, не дает вам права вести себя в моем доме подобно солдату. Идите.
Джорджилиани, не пытаясь оправдаться, четко повернулся и затопал к выходу. Шея у него была такая красная, будто кровь выливалась сквозь поры.
— А вы, господин Берестов, могли бы и не кричать в моем доме, — как бы завершая фразу, произнесла императрица.
— Простите, Ваше Величество, — сказал Коля, чувствуя облегчение, как в детстве, когда закончился нагоняй от мамы.
— Хорошо, что вы приехали, — сказала императрица иным, обыкновенным голосом. — Я так волновалась с утра. У нас плохие новости.
Они прошли в малую гостиную императрицы. Там ждала Наташа.
— Наташа, подожди снаружи, — сказала императрица. — Садитесь.
На самом деле она совсем не сердилась на Беккера — либо не давала себе воли.
— Сегодня днем, — сказала императрица, — Ялтинский Совет принял постановление об аресте всех Романовых. Как и следовало ожидать, толпа выразила шумную радость по поводу этого требования. Более того, какой-то гражданин эмиссар зачитывал якобы телеграмму из Петербурга, где излагалось схожее мнение Временного правительства.
— Когда они хотят вас арестовать?
— Я поняла, что завтра.
— Этого нельзя допустить.
— Вы так полагаете? — спросила Мария Федоровна. — И что же вы намерены предпринять?
— Я не могу принимать таких решений. Вы же знаете, государыня.
— Ах, Берестов, я не ожидала от вас отважных решений. Мой опыт общения с людьми давно уже подсказал, что вы полководец в мечтах, а в жизни — исполнитель чужих решений. Не обижайтесь, в этом нет ничего плохого, это тоже достоинство, и редкое. Будь у Николая достаточно таких исполнителей, как вы, он бы не потерял престола.
Все равно обидно — злобная старуха! Еще неизвестно, что будет завтра. Да, он подчиняется чернозубому адмиралу, он подчиняется, потому что это ему выгодно. Когда в адмирале пропадет надобность, роли переменятся, государыня!
Видно, эти мысли как-то отразились на лице Беккера, потому что Мария Федоровна вдруг поморщилась, как от неожиданного укола зубной боли.
— Простите, капитан, — сказала старуха. — Я запамятовала вас спросить: что вас привело сюда сегодня?
— Письмо от Александра Васильевича, — сказал Коля, нарочно подчеркивая этим свою близость к адмиралу. — С указанием точного места и времени решительной встречи.
— Боюсь, что письмо опоздало, — сказала императрица. Она протянула холеную, совсем не старческую руку. Коля достал письмо.
Императрица прочла письмо. Оно было коротким.
— Вы должны его сжечь, — сказал Коля.
— Сожгите сами. У вас есть спички?
Коля поджег письмо.
— Вы знаете его содержание? — спросила императрица, глядя, как письмо обугливается, занимаясь огнем. Чтобы не обжечься, Коля перехватил его за другой угол и пошел к камину.
— Послезавтра в три часа пополудни, — сказал Коля. — Более терпеть нельзя. Решения уже приняты.
— Но завтра нас арестуют!
— Пусть только посмеют! Послезавтра здесь будет весь Черноморский флот.
— Можно подумать, господин Берестов, — сказала императрица с раздражением, — что вы не ездите сюда инкогнито и не скрываетесь по углам. Можно подумать, что мой сын не является пленником в собственном дворце. Я не знаю, в кого намерен стрелять ваш Черноморский флот, и предпочитаю быть живой, хоть и в тюрьме, чем погибнуть ради сомнительных интересов адмирала Колчака.
— Но вы же согласились участвовать!
— До тех пор, пока участие это не ставило под угрозу жизнь мою и моих близких.
— Я доложу обо всем адмиралу.
— И поспешите сделать это.
В гостиную вошла Татьяна. Она была напудрена, но краснота длинноватого носа и глаз пробивалась сквозь пудру.
— Простите, — обратилась она к императрице. — Но у меня к вам два слова, которые я хотела бы сказать наедине.
— Татьяна, сейчас не время для приличий. Считай, что господина Берестова в нашем дворце нет.
— Вы правы, бабушка, — сказала Татьяна с детским торжеством. — Этого человека нет. Это фантом.
Коля не счел нужным возражать, унижаться в глазах спесивых аристократок.
— Господин Джорджилиани, — сказала Татьяна, — просит моей руки.
— Какая глупость!
— Совсем не глупость, бабушка, в наши дни. Вахтанг происходит из грузинской княжеской семьи…
— Ах, милая, — сказала императрица, подходя к трюмо и открывая стоявший там пузырек с нюхательной солью. — Каждый второй грузин — князь. У них слишком много князей для такой маленькой нации.
— Мы завтра же уедем в Грузию, — сказала Татьяна, — с утра.
— Ты глупа, — после короткой паузы сказала императрица. — Но я тебя не неволю. Я, конечно, желала бы увидеть твою свадьбу иной…
— Подождите! — не выдержал Коля. Не потому, что Татьяна была нужна ему, но в решении княжны был нонсенс, подтверждающий гнилость и смерть романовской династии: с какой легкостью Великая княжна бросается в объятия проходимца, забыв о своем долге перед династией.
— Не надо слов, — сказала императрица, строго поглядев на Колю. — Ты свободна, Татьяна. Можешь поступать, как тебе вздумается.
Татьяна поцеловала бабушке руку и вышла из комнаты, бросив через плечо торжествующий взгляд на Колю — как бы получая развод от опостылевшего мужа.
— Ну и что вы скажете? — спросила императрица, когда за Татьяной закрылась дверь.
— Она пожалеет об этом.
— Глупости. Я не об этом. Откуда мы знаем, пожалеет она или нет? Я о сроке, который установил ей Джорджилиани.
— Я не понял вас.
— И очень жаль. Завтра, сказал Джорджилиани, они уезжают в Грузию. Завтра утром. Вы спрашивали о том, насколько обоснованна моя тревога о завтрашнем нашем аресте и препровождении в Симферополь. Как видите — мы получили доказательство.
— Это могло быть совпадением.
— Даже если вспомнить, что поручик Джорджилиани — начальник караула?
— Это еще ничего не доказывает. — Коля уже понимал, что императрица права.
— Упрямый юноша! — сказала императрица. — Не вздумайте говорить с поручиком — вы сделаете еще хуже.
— А я и не намеревался, — сказал Коля, который только что хотел сделать именно так.
— Тогда подождите меня здесь, я напишу записку адмиралу.
Пока императрицы не было, Коля имел возможность подумать. Он подошел к трюмо.
На полочке стояло множество пузырьков с духами, эссенциями, мазями — Коля не разбирался в них, но взял один небольшой флакон, чтобы сделать приятное Раисе. Он еле успел положить флакон в карман, как вернулась императрица.
— Я надеюсь, — сказала она, — что адмирал прочтет его сегодня.
— Через три часа, — сказал Коля.
— Даже если вам придется разбудить его.
— Хорошо, Ваше Величество, — сказал Коля.
Мария Федоровна привлекла Колю к себе, он послушно наклонился, и императрица поцеловала его в лоб, затем оттолкнула сухой теплой рукой и перекрестила.
— Не сердитесь на старуху, — сказала она. — Вы хороший мальчик.
Колю проводила горничная Наташа. Коля обнял ее в коридоре и поцеловал. Наташа засмеялась, переведя дух:
— Потерял княжну, взялся за меня?
— Дура, — сказал Коля, — у тебя грудь красивее.
Коля уселся в машину, снял фуражку, надел папаху. Ефимыч поднял брезентовый верх — но все равно дуло так, что Коля перелез на переднее сиденье. Конверт был без надписи. И заклеен. Хороший мальчик — поцелуй в лобик, — а ведь не доверяет!
— В Севастополь? — спросил Ефимыч.
— Через Ялту, — сказал Коля. — Я хочу на минутку заехать в Ялтинский Совет.
— Поздно уже, десятый час, — сказал Ефимыч. — Нету там никого.
— Посмотрим, — сказал Коля. — Посмотрим — и дальше.
— Бензина мало, — сказал Ефимыч. — И опасно.
— Ты с солдатами разговаривал? — спросил Коля.
— Они поручиком недовольны.
— Это я знаю! — сказал Коля. — А насчет завтрашнего дня ничего не говорили?
— Нет. А что? Завтра они сменяются.
— Хорошо, хорошо. Ты поскорей поезжай.
— Поскорее нельзя — фары слабые, дороги темные. За войну знаете какие ямы на шоссе стали? У нас в штабе на той неделе Сидоров, вечная ему память, в такую яму угодил — мотор под откос.
— Это когда интендант погиб?
— Два интенданта.
Коля велел остановить мотор в двух кварталах от Ялтинского Совета, который занял — цепь совпадений — дом городского суда. Потом пошел к зданию. Некоторые окна были освещены, люди толпились у входа, переминались с ноги на ногу на холоду. Коля надвинул пониже папаху и решительно направился к входу.
Он знал уже — революционный опыт накапливается быстро, — что в места, куда тебе входить не положено, надо входить так, словно положено. Никаких сомнений.
— Вы куда, гражданин? — спросил его голос.
Коля не оборачивался и не видел хозяина голоса.
— Мне Мученика нужно, — сказал Коля. — Товарища Мученика.
— Какого там еще Мученика? — рявкнул голос.
— Елисея Борисовича, — откликнулся другой голос, изнутри здания. — Только он уехал в Севастополь. Час как уехал.
Коля не осмеливался обернуться, потому что в Ялте он мог быть известен — с гимназических времен. Он топтался в дверях, мешал проходить.
— А завтра он будет? — спросил Коля, незаметно перемещаясь в темноту.
— Эй, Хачик, завтра он будет?
— Завтра он должен быть. Как же завтра без него? — Снова смех. Потом какой-то строгий голос — совсем уж издали — оборвал неуместный в революционном учреждении смех:
— Ну, раскудахтались, воины! На весь свет кричать будете? Кто там Мученика спрашивает?
— Я завтра приду, — сказал Коля и быстро пошел прочь в надежде, что за ним не побегут.
В самом деле не побежали.
Он быстро шел к автомобилю по берегу речки, и веселый гул скоро перекрыл голоса, доносящиеся от Совета.
— Поехали в Севастополь. По крайней мере я узнал, что они на завтра что-то планируют.
На этот раз новая случайность задержала Беккера. Машина не пожелала заводиться. Ефимыч руки себе оторвал, крутя ручку стартера, потом Коля сменил его — в переулке, где они остановились, было совсем темно. Ефимыч достал фонарик и открыл капот. Он ушел с головой внутрь, и из мотора доносились лишь его приглушенные ругательства. Потом он вынырнул из мотора и сказал:
— Полчаса придется погодить, никак не меньше.
— А нельзя короче?
— Откуда я знаю, господин Берестов? — обиделся Ефимыч. — Ну откуда я знаю? Буду стараться.
Было жутко холодно. Шинель продувало насквозь.
— Я тогда вниз спущусь, — сказал Коля, — в кафе посижу.
— В каком кафе?
— Во «Франции» — это ближе всего.
Когда Лидочка вернулась из ежедневной прогулки к платану и поужинала в небольшом кафе возле гостиницы, где ее уже знали, и жена хозяина сама делала ей яичницу с ветчиной, она раскрыла «Свободную Тавриду» в надежде увидеть если не упоминание об Андрюше, то хотя бы какую-нибудь ниточку к розыску его. Скоро месяц, как Лидочка ждет его, не смея отойти от платана, у которого она изучила каждую морщину коры.
Лидочка разулась, надела шлепанцы — незаметно для себя она обросла каким-то добром: и книжками, и бельем, и новой юбкой, и теплыми ботиками, — если теперь придется уезжать, без чемодана не обойтись. Как раз вчера Лидочка побывала в магазине Тарасова и купила там вполне приличный, из натуральной кожи, варшавский чемодан, небольшой и даже элегантный. А сегодня собралась приобрести под цвет чемодана ридикюль, который присмотрела в лавке на набережной.
Усевшись в кресло, Лидочка начала проглядывать газету, внимательно, не пропуская ни строчки, — все равно некуда спешить. Теперь до десяти она никуда не двинется, а в десять они будут с портье Георгием Львовичем пить кофе — он его сам заваривает в швейцарской.
Газетные новости были обычными — к ним Лидочка уже привыкла: споры в Петроградском Совете, перемещения во Временном правительстве, Керенский — новый военный министр… Никаких сведений о бесследно пропавшем вожде эсдеков (большевиков) Ульянове-Ленине. Гучков подозревает международный социалистический заговор. Возможно, В. Ульянов-Ленин уже в Петрограде…
Митинг в Симферополе. Рабочие железнодорожных мастерских требуют ввести восьмичасовой рабочий день. Видный эмиссар Елисей Мученик выступил на митинге в поддержку требований рабочих. Эту фамилию Лидочка запомнила. Мученик успевал быть в трех местах одновременно. Состоялось заседание Ялтинского Совета — приняты важные решения. Из выступления вездесущего Мученика (когда он успел приехать из Симферополя в Ялту?): «В те дни, когда нация должна объединиться в единый тяжелый революционный кулак, чтобы раздавить гидру контрреволюции, атмосфера благодушия опасным болотом растекается по Южному берегу Крыма. Романовы пользуются плодами труда своих рабов, отдыхая в имениях, построенных кровью и потом крепостных…» Наверное, он худой, чахоточный, изможденный и озлобленный ссылками и каторгой. Он мстит Романовым за своих товарищей.
Ниже — мелким шрифтом: сообщение из Севастополя. Вчера там состоялось собрание запасных в полуэкипаже, посвященное плохому состоянию зимнего обмундирования. Капитан первого ранга Гсетоско заверил слушателей, что состав с шинелями и бушлатами уже покинул Киев. После капитана Гсетоско выступил адъютант командующего флотом лейтенант А. Берестов. Он познакомил собравшихся с обстановкой в Питере и ответил на многие вопросы. Он сказал, в частности, что флот стоит перед большими событиями — нужно быть готовыми отразить любое нападение германо-турецких дредноутов…
Сначала, выхватив глазами «А. Берестов», Лидочка чуть было не кинулась собираться — ехать в Севастополь. Но потом перечитала и поняла, что это — однофамилец. Конечно же — однофамилец! Андрюша никогда не служил по флоту, а уж для того, чтобы стать лейтенантом, следует прослужить лет десять. Странное совпадение. Конечно же, она съездит в Севастополь… может быть, завтра. Она посмотрит на того офицера. Ей ведь достаточно посмотреть издали.
Лидочка отбросила газету и хотела было взяться за книжку. Книжки она брала в пустой и холодной городской библиотеке. Ей казалось, что, кроме нее и одного чахоточного студента, никто туда не ходит. Это был исторический роман Конан Дойла, она сама отыскала его на полке — библиотекарь, мрачный, закутанный в серый платок — лишь нос наружу, не возражал, чтобы Лидочка сама выбирала книги. И удивлялся: зачем она приносит книжки обратно?
Она прочла полстраницы. Потом захлопнула книжку. Посмотрела на часы. Нет, последний автобус на Севастополь давно ушел, и лучше будет поехать туда завтра на пароходе. Если не будет шторма. А какое расписание пароходов до Севастополя?
Лидочка уговаривала себя, что Андрюши нет в Севастополе. Это какой-то другой человек, моряк, может, даже немолодой. Важнее оставаться здесь — в Ялте. Только последняя дура помчится в Севастополь.
Убедив себя в бессмысленности такого поступка, Лидочка натянула ботики, быстро оделась и сбежала вниз.
Портье стоял на своем месте за стойкой.
— Лидия? — удивился он. — А я еще не ставил кофейник.
— Я на минутку, Георгий Львович, — сказала Лидочка. — Я на набережную и обратно.
— Может, дать тебе сопровождающего? — сказал портье. Он показал на группу постояльцев, лениво перекидывавшихся в карты за столиком у входа в закрытый ресторан.
— Ни в коем случае! — засмеялась Лидочка, закутываясь шарфом, чтобы защититься от острого весеннего ветра, что несся с моря. Она побежала по скудно освещенной набережной к причалу, где висела доска с расписанием пароходов.
Было уже совсем темно — часов десять, не меньше. Волны за парапетом угадывались только по белой пене… Лидочка добежала до доски с расписанием. Сюда долетали брызги от моря, она сразу окоченела, а фонарь был так далеко от расписания, что не было возможности прочесть, когда же отправляется первый пароход в Севастополь.
Лидочка растерянно оглянулась — о таком препятствии она не подумала. Может, вернуться в гостиницу и попросить у Георгия Львовича фонарь? Пока Лидочка размышляла, ветер неожиданно усилился и принес с собой такой плотный и холодный заряд брызг, что Лидочка кинулась бежать от моря. Впереди была лишь ярко освещенная витрина кафе «Франция», единственного открытого в это время на набережной.
Завидев бегущую от моря женскую фигуру, швейцар «Франции» приоткрыл дверь и впустил Лидочку. За последний месяц она уже не раз бывала здесь.
— Вы что на ночь глядя? Простудиться решили? — Швейцар был ворчлив, усат, броваст — фуражка с золотым галуном на самые глаза.
— Ой, не говорите! — ответила, задыхаясь, Лидочка. — Не думала, что живой добегу.
— Ну погрейтесь, кофейку выпейте. У нас сегодня тихо, биндюжников нету, офицеры тоже по номерам отсиживаются.
— Спасибо. — Лидочка наслаждалась теплым уютом кафе.
Она прошла в небольшой зал и сразу увидела Колю Беккера — в форме морского офицера, повзрослевшего, ставшего еще красивее Колю. Он сидел за столиком один, перед ним стояла чашка кофе и рюмка коньяка. Она обрадовалась, увидев его, но не потому, что соскучилась или была одинока. Коля — именно тот человек, который объяснит ей, кто такой А. Берестов, адъютант командующего флотом. Коля наверняка его видел и обратил внимание на это совпадение.
Лидочка прошла через весь полупустой тихий зал, подошла к столику и спросила лукаво:
— У вас свободно? Вы позволите девушке к вам присоединиться?
Дама за соседним столиком, что сидела в обществе грузного тоскливого полковника, сделала возмущенную мину:
— Ну и нравы!
Коля поднял голову, увидел Лидочку и сказал:
— Я как раз о тебе думал.
Он поднялся и подвинул стул, предлагая Лидочке сесть.
Словно они расстались вчера — добрыми приятелями. И встретились как договорено.
— Ты что здесь делаешь? — спросила Лидочка.
— Могу тебе задать такой же вопрос, — сказал Коля. Он взглянул на дверь. — Ты одна?
— Одна, — сказала Лидочка.
«Даже в самой безопасной ситуации нельзя нарушать правил конспирации, — ругал себя Коля. — Что мне стоило потерпеть на холоду, пока Ефимыч починит мотор? Что потянуло меня в это чертово кафе?» Нет, не Лидочка его пугала — хоть и екнуло нерадостно сердце, когда увидел ее рядом со столиком. Увидел бы ее заранее — скрылся бы. А ведь знал, что она в Ялте. Но чтобы Лидочка, недавняя гимназистка, смело входила одна в вечернее кафе, в такое время! Что должно было произойти с ней?
В тот момент Коля не думал о том, что он — Андрей Берестов. Странно, но, когда увидел мельком Лидочку на набережной несколько дней назад, сразу подумал — где же сам Берестов? Но сейчас ни о чем не подумал.
Изменилась ли Лидочка? По первому взгляду, с Лидочкиной хрупкой красотой ничего не произошло. Но, наверное, это не так — все мы меняемся. И Лидочка осунулась, глаза стали больше и тревожнее. Волосы причесаны иначе — плотно стянуты в пучок на затылке. И это насилие над волосами чуть-чуть оттягивает уголки глаз кверху и резче обозначает скулы. В лице появляется нечто ориентальное.
— Я здесь на минутку, по делу — еду в Севастополь, но вот машина сломалась.
— Ты там служишь?
— В штабе флота.
— Ты получил новые чины? Я плохо в них разбираюсь.
— Ничего интересного, — сказал Коля. — Служу. Как все. Кого-нибудь из знакомых видела?
— Давно никого не видела, — сказала Лидочка.
— Тебе кофе заказать?
— Без сахара.
Коля поднялся и пошел искать официанта. Лидочке было слышно, как за портьерой он ссорится с официантом, потому что официанту не хочется служить, а хочется заседать в Совете.
— Я обратил внимание, — раздраженно сказал Коля, возвращаясь и садясь за столик, — что простонародье ждет от революции не столько благ материальных, как возможности поговорить на пустые темы.
— Тебе не нравится революция?
— Почему? Мне она нравится. В определенных пределах. Например, для меня она открыла дорогу — во времена революционных потрясений открываются пути для смелых и умных людей. Не будь революции, я сидел бы в береговой артиллерии и ждал, пока приплывет «Гебен» и расстреляет меня вместе со всей батареей. Но ты расскажи, что с тобой было эти годы.
— Я уезжала.
— Куда?
— Куда, с кем — это долгий разговор.
— А зачем вернулась?
— Коля, я разыскиваю Андрея.
Кофе был теплый, жидкий — то ли кофе, то ли плохой чай. Молока официант не принес.
— Андрея? А вы… разве он… — Коля был удивлен.
— Мы потеряли друг друга. А мне его надо найти. Я думала, что ты мог встречать его или видеть.
— Нет, я его не видел… — Коля ответил как бы с оттяжкой — это была не пауза, но заминка. И Лидочка, готовая к неискренности, сразу уловила это.
— Не видел или ничего не знаешь? И фамилии не встречал?
— Я ничего не знаю об Андрее. Ты прости, что я не могу с тобой побыть. Но мне надо срочно возвращаться в Севастополь. Ты у родителей живешь? По старому адресу?
— Ты в Севастополь на машине? — спросила Лидочка. Они странно разговаривали, будто почти не слышали собеседника. Даже отвечая на вопросы, в самом деле думали о другом. О своем.
— Да, сейчас уже еду. Ты прости.
Коля достал аккуратный бумажник. У Коли всегда все было аккуратное — и бумажник, и ножик, и носовой платок. Он достал оттуда деньги, положил на стол.
— Мы обязательно увидимся, — сказал он.
— Погоди, — сказала Лидочка. — Ты возьмешь меня с собой.
— Еще чего не хватало!
— А почему? — Лидочка поднялась тоже. — Мне срочно нужно в Севастополь.
— Не на ночь же глядя.
— Мне все равно. Вместо того чтобы четыре часа болтаться завтра на пароходе, я доеду с тобой. И спокойнее. И к тому же на билете сэкономлю.
При последних словах Лидочка улыбнулась, словно приглашая Колю разделить шутку.
— Я и не подумаю тебя брать, — сказал Коля. — Это служебная машина.
Они уже оделись и, продолжая разговаривать, вышли на улицу.
— Наш автомобиль перегружен? — иронизировала Лидочка.
Коля понимал, что она пойдет с ним до автомобиля — и что тогда делать? Какая незадача! Она же назовет его Беккером!
— Коля, я бы не стала тебя просить, если бы не нужда. Ты послан мне Богом, буквально послан.
Ветер несся с моря, колючий, бешеный, порывистый, он нес с собой ледяные капли — будто был ноябрьским, а не майским. Лидочка ухватилась за локоть Коли.
— Где твой автомобиль? — Лидочке приходилось кричать.
— Вон там, за углом. Но я тебя все равно не возьму. Севастополь не место для благородных девиц.
— Город как город! — ответила Лидочка. — Я там жила. Не придумывай глупостей, Беккер!
С каждым шагом автомобиль был все ближе. Мерное урчание двигателя донеслось сквозь шум ветра. В лица им вспыхнули фары.
— Ваше благородие! — послышался голос в относительной тишине переулка. — Я здесь! Мотор как часы работает.
Тут только Ефимыч увидел, что Коля не один, с девушкой, которая повисла у него на руке.
— Здравствуйте, — сказала Лидочка. — Я очень прошу — возьмите меня с собой — мне очень нужно в Севастополь. Срочно.
— Мое дело маленькое, — сказал Ефимыч. — Как господин Берестов?
— Что? — Лидочка обернулась к Коле. Фары били ему в лицо, как лампа на столе Вревского: тот любил поворачивать свет лампы в лицо подозреваемому преступнику — чтобы ослепить.
Коля закрылся ладонью от света.
— Ефимыч! — крикнул он. — Выключи фары! Я же ничего не вижу!
— Коля! — сказала Лидочка. — Что это значит?
— А что случилось?
— Как он тебя назвал?
— Лидочка, завтра я вернусь, даю тебе честное слово — жди меня в том же кафе. Я тебе все расскажу. Честное слово.
— Нет, Коля, я еду с тобой. А если ты меня не возьмешь, я найму за любые деньги извозчика, и он меня к утру довезет до Севастополя. И я тебя все равно найду.
— Лида, ты же ничего не понимаешь.
— Тогда поехали, и по дороге ты мне все расскажешь.
— Лида, я не могу взять тебя с собой.
— Господин матрос, — Лидочка рванулась к машине, — господин матрос, скажите, как зовут вашего начальника?
Ефимыч понял: лейтенант Берестов оставил здесь девицу и скрывается от нее. Может, даже представлялся под чужим именем, а теперь она узнала настоящее. Смешно, конечно, но нам что за дело до господских утех? Ефимыч хмыкнул и счел за лучшее не услышать вопроса.
Лидочка между тем вырвала руку у Коли, подбежала к машине, повернула ручку задней дверцы и влезла внутрь.
— Лидия! — Коля старался говорить с ней, как говорят с маленьким непослушным ребенком как раз перед тем, как начать его пороть: доводы рассудка исчерпаны, терпение лопнуло, еще мгновение…
— Поехали! — крикнула Лидочка изнутри — она исчезла под поднятым верхом автомобиля.
Коля протянул руки внутрь мотора, намереваясь вытащить Лидочку. Он водил руками в темноте, рычал от бессильной ненависти к ней. «Господи, — крутилось у него в голове, — Господи, я целовал ее и клялся ей в любви, Господи, избавь меня от этого кошмара!»
Коле удалось схватить Лидочку за горячую руку. Чуть не сломав ей пальцы, он рванул Лидочку к себе, но короткий предупреждающий звук клаксона пронзил его нетерпение и ненависть. Не отпуская рвущихся пальцев Лидочки, он обернулся:
— Что?
— Патруль!
Коля и сам увидел, как в переулок завернули — то ли на шум, то ли по ритуалу обхода — два солдата с винтовками. Первый, что шел впереди, принялся снимать с плеча винтовку:
— Стой! Что за шум?
Коля отпустил пальцы Лидочки и прыгнул в машину.
— С дороги! — крикнул Ефимыч, нажимая на газ. — Дорогу Черноморскому революционному флоту!
Автомобиль кинулся на солдат, как медведь, и те расступились, освобождая дорогу. Они что-то кричали следом, но машина, набирая скорость, катилась под откос к главной дороге.
Управляя автомобилем, Ефимыч не оглядывался и ничего не говорил, точно ничего и не произошло. Но ему было слышно любое громкое слово с заднего сиденья, поэтому Коля с Лидочкой говорили тихо, и Лидочка имела как бы преимущество перед Колей — в любой момент она могла повысить голос или позвать Ефимыча.
— Ну чего ты добилась? — Коля шепотом наклонился к уху Лидочки. — Зачем тебе это? Лучше сойди. Сойди у «Ореанды», еще не поздно. И вернешься домой. Или мы можем тебя довезти до дому — ты за армянской церковью живешь?
— Мне не надо домой, — сказала Лидочка, не заботясь особенно, услышит ее шофер или нет. — Я хочу знать правду. И думаю, что смогу ее узнать именно в Севастополе.
— Что тебе нужно узнать?
— Мне нужно узнать, кто такой лейтенант Берестов, о котором написано в сегодняшней «Тавриде». Он выступал на митинге в полуэкипаже и рассказал о положении дел с революцией.
— Если ты узнаешь правду, ты уйдешь?
— Не знаю, Коленька, не знаю. Эта правда должна меня убедить.
Глаза привыкли к темноте, и Коля видел, как блестят Лидочкины глаза. Ничего не было видно, но глаза блестели.
Ялта осталась позади — пошли низкие татарские сакли с каменными заборами между ними.
— Ты уже догадалась, — прошептал Коля. — Ты же догадалась, что я взял фамилию Берестова.
— Зачем? — спросила Лидочка дрогнувшим голосом. Признание Коли вдруг испугало ее. Если он так спокойно говорит о том, что он — Берестов, значит, можно? Значит, с Андрюшей что-то случилось?
— Лидочка, я тебе завтра объясню. Я не могу везти тебя в Севастополь. Останови, Ефимыч, дама сойдет.
— Коля, — сказала Лидочка, — ты можешь меня убить, но добром я не уйду.
— Лида, ты что говоришь!
— Ты можешь выкинуть меня из мотора, но я завтра же приеду в Севастополь и найду тебя!
— Лида!
— Ваше благородие, остановимся или дальше ехать?
— Останови, — сказал Коля, решившись.
Машина съехала к обочине. Город уже кончился — близко к дороге подходил обрыв. По обрыву падал маленький водопадик — в палец толщиной. Но шумел как настоящий.
Коля повлек Лидочку за собой. Они шли в свете фар — может, Коля и сам не хотел оказаться в темноте. Они уходили от машины, а фары следили за ними, как два глаза светящейся стрекозы.
— Слушай, — сказал Коля, когда ему показалось, что Ефимыч уже не услышит, — я подробнее потом все расскажу. А сейчас я только коротко, хорошо?
— Говори.
— Мне случайно попали документы Андрея.
— Как так случайно?
— Понимаешь, это уже было давно… полгода назад. Я не хотел ими пользоваться.
— Коля, расскажи все по порядку. Что с Андреем?
— Ты не знаешь? Ты честное слово не знаешь?
— Что я должна знать?
— Что Андрея… нет.
— Почему ты так говоришь? Как ты смеешь?
— Не кричи, Лида. Я знаю, что вы с ним вместе бежали, я не спрашиваю, что произошло и почему ты одна, — я же не спрашиваю. Я понял, что ты осталась там, а он вернулся, да?
— Ты не то говоришь! Ты должен говорить правду!
— Я сказал правду. Я сказал… Когда стало известно про смерть Андрюши, Вревский передал мне его бумаги. Ну зачем они Вревскому?
— Кто тебе сказал, что Андрея… нет?
— Ну это же все знают!
— Ты его обокрал! Ты украл его документы, зачем ты это сделал?
— Клянусь тебе всем святым, что эти документы я получил от Вревского. Он закрыл дело, он отдал мне весь пакет, чтобы я отвез в Симферополь Марии Павловне. Но ты… да погоди ты! Но сначала я не мог уехать — не было отпуска, а потом революция — я попал в Севастополь…
— Нет, — повторяла Лидочка, отходя от Коли, и тот шел за ней по слабеющей дорожке света. — Нет, этого не может быть!
Вдруг она замерла, подняла руку — тень ее была жутко длинной, она уходила в бесконечность, сливаясь с чернотой.
— Если все так, почему ты — Андрей Берестов? Почему не передал тете Марусе, а взял?
— Это самое простое, — сказал Коля. — Когда я приехал в Севастополь, там начались гонения на людей с немецкими фамилиями — тебе этого не понять. И я вспомнил, что у меня есть документы Андрюши. Они же ему уже не нужны. И я их позаимствовал. В этом не было плохого. Если кто и имел на это право — только я. Я же его друг.
— Я тебе не верю! — Лидочка побежала по дороге, в темноту, и ей было все равно, куда бежать, потому что все потеряло смысл: и плавание во времени, такое долгое, и жертвы, и расставание с родными и со своим временем — все теряло смысл без Андрюши.
До той минуты Лидочке не приходила в голову мысль, что с Андреем могло что-то случиться. Она убедила себя, что он опоздал — он все еще плывет по волнам времени, и она его дождется. Известие о смерти Андрея было настолько невероятно и подло, что об этом можно было пока и не думать — нужно было только изобличить Беккера, который все это придумал. Он объявил себя Андрюшей ради какой-то своей выгоды. И в то же время, убегая от Коли, она убегала от страха, который он нес в себе, — ведь он мог повторить, что Андрюша умер.
Коля пробежал за ней несколько шагов и остановился, потому что исчезновение Лидочки во тьме было выходом — вот и нет ее. А куда убежала? Не знаю — наверное, домой, к мамочке.
Но неожиданно на этой сцене появился третий персонаж, которому ранее была уготована роль зрителя.
Ефимыч нажал на газ и, гудя, медленно двинул машину вперед. Коля чуть не попал под колеса, отскочил к обрыву, балансируя на краю, — яркие лучи света гнали перед собой темноту, пока не выхватили из нее светлую фигурку Лидочки.
И та остановилась, как бы прижатая светом к дороге.
Клаксон призывно гуднул два раза. Он звал ее, и Лидочка вернулась к машине. Ефимыч открыл дверцу, и Лидочка взобралась внутрь. Послышались частые шаги — подбежал Коля.
— Это что? — Он задыхался от быстрого бега и гнева. — Ты что? С ума сошел? Да ты понимаешь, что сделал? Ты же меня задавить мог!
— Не дай Бог! — серьезно ответил Ефимыч.
Машина закачалась на рессорах — рядом с Лидочкой устроился Коля.
Он молчал и тяжело дышал, как будто долго бежал в гору, Лида тоже молчала — в голове у нее была экзаменационная тупость: ни одной мысли, ни одного чувства.
Коля перевел дух и сказал:
— Мы подвезем тебя до дома?
— Нет, — сказала Лидочка тоже спокойно — все уже кончилось. И она была сильнее Коли — не только потому, что у нее обнаружился неожиданный союзник, но и оттого, что она ровным счетом ничего не боялась и ей было нечего терять — а Коля и боялся, и терял.
— Чего ты хочешь? — спросил Коля.
— Мы поедем в Севастополь, — сказала она. — Я возьму у тебя документы и бумаги Андрея. Я тебе не верю. Я должна увидеть их собственными глазами.
— Но где ты будешь ночевать? Мне же надо в штаб. Немедленно. У меня очень важные дела.
— В гостинице переночую.
— Ты не попадешь в гостиницу, ты не представляешь, как переполнены гостиницы в Севастополе.
— Да не волнуйся ты за меня! — Лидочка повысила голос. — На вокзале подожду, на пристани, ничего со мной не случится.
— Делай как хочешь. Я покажу тебе эти документы, — сдался Коля.
Наступила тишина — ее лишь подчеркивал ровный шум мощного мотора, который со скоростью пятьдесят километров нес вперед «Руссо-балт». Фары выхватывали скалы, поросшие колючками, а затем уходили в пустоту, когда машина делала поворот.
И тут Лидочка заплакала. Она еще не верила, но уже понимала, что так могло случиться.
— А ты точно знаешь? — спросила она тихо.
— Я хотел бы, чтобы было иначе, — искренне ответил Коля. — Я бы очень хотел, чтобы он был жив. Неужели я бы позволил себе взять это, если бы Андрей был жив?
— А как это случилось? С Андреем?
— Я не знаю. Мне Вревский не рассказал. Кажется, что его узнали — была перестрелка, и он погиб.
— А где… где Андрюша… где его похоронили?
— Я не знаю.
— Ты лжешь. Ты, конечно, лжешь!
— Наверняка об этом было в газетах, — сказал Коля. — Ты можешь проверить. Возьми в библиотеке подшивки газет за осень прошлого года. Там написано — я помню, что писали.
— Хорошо, — сказала Лидочка, — ты прав. Мне надо было раньше догадаться про библиотеку.
Ефимыч затормозил так резко, что пассажиров кинуло о спинки переднего сиденья. Коля умудрился привстать и понял, что дорогу перегородило упавшее дерево.
Мотор остановился — Ефимыч высунулся из мотора, вглядываясь в темноту. И в движении его была тревога, которая сразу передалась пассажирам.
— Что там? — спросил Коля.
Ефимыч сказал:
— Люди.
И они сами увидели людей — из-за дерева не спеша вышли три человека. Двое с винтовками. Один, первый, с револьвером в руке. Одеты они были так, что казались на первый взгляд военными, но потом ты понимал, что они, скорее всего, не военные люди. Одежда была военной, но ни погон, ни петличек, ни кокард у них не было.
— Выходите! — крикнул тот, кто стоял первым, и помахал револьвером, показывая, что нужно выходить.
— Это кто такие? — спросила Лидочка.
— Бандиты, ясное дело кто, — сказал Ефимыч, вылезая из автомобиля.
— Погоди, — Коля остановил Лидочку, которая хотела было последовать примеру шоффэра. Захрустела бумага. Чуть не оторвав пуговицы, Коля расстегнул черную шинель и вытащил из-за пазухи небольшой конверт. — Спрячь, быстро. — Коля смотрел, как вооруженные люди шли к машине. Один остановился и, проводя руками по бокам Ефимыча, обыскивал его.
— Что это? — спросила Лида.
— Спрячь. Далеко, как можно дальше. Тебя не будут обыскивать, а меня будут. И машину будут обыскивать.
— Почему?
— Я думаю, что Ялтинский Совет узнал о моих делах и послал погоню. Если они найдут письмо — мы погибнем. Скорей же!
Лидочка быстро спрятала конверт за корсет — конверт был теплым — это было странно и почти забавно, — он хранил тепло Колиного тела, а Андрюшино тело холодное…
Лидочка дрожала, но от горя, а не от страха. Коля сделал несколько шагов навстречу бандитам, встал к ним почти вплотную — заговорил:
— Я хочу знать, кто посмел остановить мой мотор?
Главный бандит оттолкнул Колю, тот не ожидал толчка, пошатнулся, на секунду его речь прервалась.
Ефимыч отошел к Лидочке, подхватил ее, потому что увидел, что она теряет сознание.
— А ну пошли! — приказал главный бандит. Пистолет он направил на пленников.
— Погоди, — сказал Ефимыч, — видишь, барышне дурно!
— Барышню можешь здесь бросить, — сказал бандит. Второй почему-то рассмеялся. И заговорил, смеясь, не по-русски. Ефимыч был из Пскова, он не догадался, что за язык. А Коля понял — татарский. Правда, он его знал плохо. Плохо, но достаточно, чтобы понять слова бандита: «Оставь и меня здесь. Я посмотрю, она не убежит».
— Молчать! — сказал главный бандит по-русски. — Все молчать!
Ефимыч взял Лидочку на руки, она была легкая, тонкая, он понес ее следом за главным бандитом. Потом шел Коля, потом еще один бандит. Тот, который смеялся, остался у автомобиля.
Они шли недолго, по заросшей кустарником просеке, поднимаясь от дороги вверх, свернули за выступающую скалу и оказались на поляне, где стояла небольшая каменная, в одно окно, хижина, перед ней горел костер, у костра сидели несколько человек. Никто не встал навстречу.
Главный бандит заглянул в слабо освещенную дверь хижины.
— Не приходил? — спросил он по-татарски. Только Коля его понял.
— Скоро придет, — откликнулись из хижины.
Ефимыч опустил Лидочку на землю у костра, но не рядом, а за спинами сидевших там бандитов. Голову ее он положил себе на колени.
— Воды дай, — сказал он.
Люди у костра оглядывались. Потом один из них зачерпнул кружкой из котелка, висевшего на костре, и протянул Ефимычу.
— Ранили или больная? — спросил он.
— Плохо ей стало, испугалась, — сказал Ефимыч.
— Это бывает, — сказал бандит.
Ефимыч принялся дуть на воду. Коля стоял неподалеку, руки за спину. Во всей этой сцене была какая-то задумчивость, замедленность, будто действие происходило во сне или под водой.
Так продолжалось минуты три-четыре. Ефимыч дал Лидочке хлебнуть горячей воды. Она закашлялась. Ефимыч помог ей сесть рядом, на тонкие бревна, лежавшие у костра. Он поддерживал ее. Лидочка плохо соображала.
Из хижины вышел пожилой татарин — если о прочих нельзя было сказать, татары они или русские, потому что одеты они были в военную одежду, то этот человек был одет как татарский крестьянин.
— Ты их обыскал? — спросил он. Опять же по-татарски. Уверенный, что никто из пленников его не поймет. Не мог же он догадаться, что этот морской офицер вырос в Глухом переулке в Симферополе, где каждая третья семья — татары?
— Они не будут стрелять, — сказал тот.
— Ты не знаешь. Ты бумагу возьми.
— Встань — пойди сюда, — сказал бандит Коле. По-русски.
— Зачем?
— Тебе сказали. И подними руки.
— Вы не имеете права! — сказал Коля. — Я представляю Черноморский флот. Вы понимаете, что это значит? Одного выстрела шестидюймовки достаточно, чтобы от вашего логова ничего не осталось.
— Твоя шестидюймовка не знает, куда стрелять, — сказал бандит. — Пускай стреляет. А ты руки подними — подними, подними, я тебя не обижаю, это порядок такой.
— И обыщите машину! — раздался голос из хижины. Голос был знаком Коле.
Коля понял, что они искали письма из Ай-Тодора.
Коля осторожно кинул взгляд на Лидочку. Она могла понимать татарский. Только бы не испугалась и не отдала письмо.
Бандит провел руками по бокам Коли, по ногам, между ног. Полез во внутренний карман — вытащил бумажник. Коля терпел — он пытался уговорить себя, что все это происходит не с ним — что он читает роман Кервуда или Жюля Верна. Руки у бандита были холодные, а изо рта пахло луком. Было противно, но Коля терпел. И думал сейчас не о себе, а о том, что нужно спасти письмо. Это странные бандиты, они ведут себя совсем не как бандиты — они ищут письмо. Если бы не татарская речь, Коля не сомневался бы, что засада подстроена Ялтинским Советом, который подозревает Колчака в связи с Романовыми. Но это были крымские татары. Значит, у Ялтинского Совета есть свои татарские банды?
Бандит сказал:
— Застегивайся. — И понес бумажник Коли своему начальнику.
В одной руке у него был бумажник. Во второй — маленький флакон.
— Это что такое? — спросил татарин строго. — Это яд, да?
Коля не сразу сообразил, что это флакон французских духов, взятый им с трюмо императрицы в подарок Раисе.
— Духи, — сказал Коля с облегчением. — Понюхай, если не веришь.
Теперь наступила очередь Ефимыча.
— Давай подними руки, обыскивать буду, — сказал бандит.
— Мы его у машины обыскали, он пустой, — прозвучало в ответ.
Пожилой татарин зашел в хижину и передал тому, кто был там, бумажник Коли и пузырек с духами. Как жаль, что окошко в хижине так мало и расположено высоко, тысячу рублей отдал бы за то, чтобы увидеть рожу этого ялтинского агента. Ведь не выходит! Значит, узнал Колю и не хочет, чтобы и тот узнал его.
— Эй! — крикнул старый татарин, выйдя из хижины. — А что там в автомобиле?
Как бы в ответ на вопрос из темноты вышли люди.
— Нет, — сказал первый. — Ничего нет.
— Должно быть! — раздался голос из хижины. — У женщины ищите!
— У нее ничего нет! — сказал Коля быстро. — Клянусь честью, у нее ничего нет! Мы только что встретились.
Увидев, что бандиты обернулись к сидящей у костра, обняв колени, Лидочке, Ефимыч встал и вытащил из костра полуобгоревший сук.
— Только троньте, — сказал он. — Только троньте.
— Зачем бабу трогать? — сказал молодой бандит. — Сам трогай.
— Они могли спрятать письмо, — настаивал голос из хижины.
Коля тоже двинулся к Лидочке.
— Сначала убейте меня, — сказал он.
— А почему не убить? — сказал молодой бандит, поднимая «маузер» Ефимыча. Медленно-медленно…
Коля понял, что пришло время рискнуть. Он так волновался, что татарский язык вернулся к нему, будто он играл на дворе десять лет назад. И он закричал на жаргоне городских татарских мальчишек:
— Не смей трогать мою невесту! Только попробуй! Я уйду в ад, но возьму с собой ваши души! Пусть ваших невест щупают чужие лапы! Пусть вашу мать обыскивают русские! Идите сюда, собаки!
Все стояли, будто пораженные громом, словно у них на глазах морской офицер превратился в дива.
Затрещали сучья. От дороги на поляну у костра быстро вышел Ахмет Керимов.
Он остановился на краю освещенного костром круга и, медленно поворачивая голову, пронесся глазами по лицам участников прерванного сражения.
Он увидел своих товарищей-бандитов. Они стояли полукольцом, спинами к костру, будто стая волков, которые остановились перед старым оленем. Он увидел Ефимыча, затем — Колю Беккера. И сделал еще шаг вперед, чтобы понять, кто же та женщина в сером пальто и сбившейся набок шляпке, что сидит у костра, — и узнал Лидочку.
Затем услышал, как из хижины снова звучит голос:
— Ну идите же! Что там у вас происходит?
Ахмет вдруг широко улыбнулся — почему-то ему эта картина показалась забавной.
— Всем вольно, — сказал он. — Перемирие.
— Что такое? Керимов, это вы? Зайдите ко мне, — послышалось из хижины.
— Погодите, — ответил Ахмет. — Я, кажется, встретил друзей, которых не видел целую историческую эпоху. Ведь мы расстались с вами в империи, а встретились в республике.
Остальные бандиты, слыша, насколько спокоен и весел Ахмет, тоже заметно успокоились, распрямились, отступили назад.
— Махмуд, дорогой, — сказал Ахмет, — расскажи, что происходит.
Пожилой татарин ответил по-татарски, говорил он длинно, другие вмешивались, помогали. Коля перестал понимать — в ушах шумело, начала болеть голова.
— Кто такой? — спросил Ефимыч. — Кто этот молодой?
— Так не бывает, — сказала Лидочка. Но осталась сидеть.
Конечно, так бывало, но только в приключенческих романах, где герои, уже привязанные к столбам или кострам, уже взошедшие на плаху, чудесным образом слышат боевой клич своих друзей. И спадают оковы, гремят барабаны — наши победили! Впрочем, Лидочка в этот момент не задумывалась, насколько такое сравнение правомочно, — ей никто не грозил смертью. Хотя неизвестно, чем бы все кончилось.
— Все ясно, — сказал Ахмет, который говорил по-русски из уважения к гостям — незваным и невольным гостям. — Отведите девушку в дом. Ей холодно.
Пожилой татарин быстро заговорил по-татарски. Коля понял: он напоминал, что в доме гость, который не захочет, чтобы его видели.
— Пускай уходит, — сказал Ахмет по-русски.
Одновременно с этими словами из дома быстро вышел высокий человек в длинном черном пальто и надвинутой на лицо шляпе. Левую руку он держал перед лицом, чтобы его не узнали.
— Господин эмиссар! — окликнул его Коля. — От вас, Елисей, я этого не ожидал.
Человек в пальто засмеялся — смех был приглушен — и унес этот смех, свернув за угол дома.
Все смотрели туда, где скрылся человек из хижины, молчали, будто он обязательно должен был что-то сказать.
И тот сказал — из-за угла хижины донесся голос:
— Керимов, ты за это ответишь!
Ахмет не обернулся на крик.
— Лида, — спросил он, — ты сама пройдешь или тебе помочь?
— Спасибо, Ахмет, — сказала Лида. — Я сама.
Коля подошел к Ахмету. Протянул руку. Ахмет поздоровался с ним.
— Спасибо, — сказал Коля, — как всегда, Ястребиный Коготь, друг бледнолицых, прискакал вовремя.
Он тоже вошел в хижину. Там было тепло, теплее, чем снаружи. У дальней стены протянулась низкая широкая скамья. Перед ней на грязном коврике стояла керосиновая лампа — от нее тянуло копотью и запахом горелого керосина. Он смешивался с ароматом французских духов, украденных в Ай-Тодоре.
— Садитесь, — сказал Ахмет. — Извините, что так получилось. Я не знал, что увижу вас.
— Для нас это тоже неожиданность, — сказал Коля, оглядывая себя, словно ища непорядок в своем туалете. — И приятная притом.
Лидочка рассматривала Ахмета — почти месяц она провела в одиночестве, никого не видя, если не считать бывших соседей и соучениц, которых Лидочка избегала, чтобы не отвечать на вопросы, — и вдруг за один час встретила сразу двоих. И, подумав так, Лидочка снова рухнула в пучину своего горя.
— Как вы сюда попали? — спросил Ахмет.
А Лидочка, не в силах терпеть неизвестность, перебила его:
— Ахмет, скажи, что с Андреем? Где Андрей?
— Ты не знаешь?
— Ахмет, ты же его друг. Скажи правду!
— Я думал, что ты знаешь… или тоже…
— Ты его видел? Ты разговаривал с ним?
— Нет, но мне сказали… я думал…
— Врешь! — закричала Лидочка, как базарная торговка. — Врешь, негодяй! Вы все врете, вы все завидуете ему! Вы хотите, чтобы он умер!
И тут Лидочка увидела краем глаза, что Коля показывает пальцем у своего виска — показывает Ахмету, что она, Лидочка, не в себе. И Ахмет чуть заметно кивает.
— Не надо этих заговоров! — кричала Лидочка. — Я все понимаю.
— Эй! — сказал Ахмет обыкновенным голосом, видимо, зная, как тонки стены хижины. — Принеси воды.
Но Ефимыч уже поднялся — он вышел из хижины и вернулся со стаканом теплой воды, из которого уже поил Лидочку.
— Извини, — сказал Коля. — Давай в следующий раз все обсудим. Главное — что мы встретились. Мне надо спешно вернуться в Севастополь.
— Погоди, — сказал Ахмет, — десять минут ничего не решают. Сначала ты ответь мне на пару вопросов.
Он стоял, сложив руки на груди и набычившись, словно Наполеон.
— Можешь не задавать, — сказал Коля. — Я знаю, что ты хочешь спросить. Есть ли у меня письма от Романовых Колчаку, которых Ялтинский Совет подозревает в сговоре с Морским штабом и даже хочет их арестовать… Видишь, я тоже кое-что знаю. Больше того — к тебе приехал эмиссар из Ялты или из Симферополя — не знаю откуда. Фамилия его — Мученик. Я с ним знаком — он из Севастополя. Я думаю, он тебе и заплатил, чтобы перехватить наш мотор и обыскать нас — а может, и пустить в расход. Ну что молчишь? Я в чем-нибудь не прав?
— Звучит глупо, — сказал Ахмет. — В твоих устах, эффенди, мои действия кажутся действиями необразованного бандита, а я, как всем известно, чуть было не окончил Сорбонну.
Ахмет отпустил длинные волосы, на нем был английский френч без погон, широкие щегольские синие галифе и блестящие сапоги.
— Я не хотел тебя обидеть, — сказал Коля. — Но как ты знаешь, от уровня вежливости смысл не меняется.
— Ах как красиво! — отозвался Ахмет, но лицо, тревожно подсвеченное снизу лампой, было резким и зловещим. — Только учти, что меня нельзя нанять или купить. И моих людей тоже. Мы сознательные борцы за счастливое будущее свободного татарского народа.
— Ну вот, — усмехнулся Коля, — теперь ты заговорил еще красивее. Учти, я не возражаю против свободы татар Крыма.
— Боюсь, что ты не понял, — сказал Ахмет. — Мы требуем не только свободы — для всех, для татар, для русских, для хохлов, — мы требуем независимости Крыма.
— Как так независимости Крыма? Это что-то новенькое.
— Надо газеты читать. В Симферополе уже создан комитет.
— Ну хорошо, пускай независимость. Неужели это играет сейчас хоть какую-нибудь роль?
— Конечно, играет. Ты намекнул, что Мученик нас купил. Мученик не может купить Керимова, потому что они с Мучеником союзники. Оба они — и Мученик и Керимов — боятся, что адмирал Колчак и его офицеры захватят власть в Крыму и задушат революцию, что они будут вешать на деревьях и татарских, и русских, и еврейских революционеров, а Керимову тогда висеть рядышком с Мучеником. Теперь ты понял, насколько это серьезно?
— Это теория, Ахмет. Это теория, которую придумали неполноценные люди. Есть Российская империя, и наш с тобой долг, Ахмет, вернуть ей величие и не дать ее распродать.
— Теперь наши позиции выяснились, герр фон Беккер, — сказал Ахмет и делано рассмеялся.
Коля посмотрел на Ефимыча, тот сидел, глядя на пустую кружку. Он не мог не слышать. Но может быть, он не вслушивался?
— Я могу тебе сказать совершенно честно — я бывал на вилле императрицы. И не раз, — сказал Коля.
— Знаю, еще бы не знать.
— Если ты так информирован, то ты знаешь, почему я там бывал.
— Не подозреваю.
— У меня сложились свои, особые отношения, — тут Коля замолчал, словно подбирал соответствующие моменту слова, — личные интимные отношения с одной молодой особой… Ну, влюбился я, черт побери! В княжну Татьяну.
— У нее коленки красивые? — спросил заинтересованно Ахмет и, не дождавшись ответа, сокрушенно добавил: — Опять опоздал! А ведь мы с ней были близки!
— Ты шутишь?
— Ни в коем случае, — ответил Ахмет. — И знаю, что ты лжешь. Не стал бы ты сейчас крутить роман с княжной или с кем-то из камарильи — слишком опасно. Не для тебя такая забава.
— Ахмет, нам пора ехать, — сказал Коля. — Ты не будешь нас задерживать? Дорога дальняя.
— Нет, — сказала Лидочка, глядя на Колю в упор. — Я останусь у Ахмета. Ахмет отвезет меня в Ялту. Хорошо, Ахмет?
Ахмет удивился — ему неясны были отношения Коли и Лидочки, он чувствовал недоговоренность, но не вмешивался.
— Хорошо, — сказал Ахмет. — Я, правда, в Ялту не собирался…
— Я прошу тебя.
— Хорошо! Я же сказал — хорошо!
— А я поехал в Севастополь, — сказал Коля. — Прикажи вернуть мой бумажник.
— Да поезжайте вы все, куда хотите! Поезжайте! — Ахмета неожиданно охватила вспышка злости — непонятно к кому, — он выбежал из хижины, и сразу его резкий голос зазвучал снаружи — он по-татарски отчитывал тех, кто сидел у костра.
— Ты серьезно решила тут остаться? — спросил Коля. — Не боишься?
— Поезжай, Коля, хорошо?
— Ладно. Счастливо тебе оставаться.
— Спасибо, — сказала Лидочка, подходя к Ефимычу и протягивая матросу узкую ладонь.
— Не за что, — мрачно ответил тот. — Вы не расстраивайтесь так. Обойдется. Наверно, ошибка.
— Письмо, — сказал Коля. — Быстро, пока он не вернулся!
— Какое письмо? — не сразу поняла Лидочка.
— Которое я тебе дал. Да тише ты!
— Прости. — Лидочка стала доставать письмо. Коля стоял рядом, ему так хотелось рвануть на себя лиф ее платья, чтобы выхватить письмо — именно чтобы выхватить. И Лидочка чувствовала его нетерпение — совсем иное, чем у мужчины, который мечтает о ней…
Коля выхватил у нее письмо — он не хотел быть грубым, но он очень спешил, и Лидочка понимала, что он прав: если кто-нибудь, в первую очередь Ахмет, увидит письмо, будет плохо.
Коля едва успел — он еще не вынул руку из кармана плаща, так и замер. Вошел Ахмет.
— Вы еще здесь? — спросил он равнодушно и протянул Коле бумажник.
— До встречи, — сказал Коля, пожимая на прощание руку Ахмету. — Мне повезло, что я встретился с тобой.
— Тебе точно повезло, — согласился Ахмет.
— До свидания, Лидочка, — сказал Беккер.
Он поцеловал ей руку. Лидочка была так подавлена, что не успела ее отдернуть.
— Ефимыч! — сказал Коля и первым пошел к выходу из хижины.
Матрос вышел следом, не оборачиваясь и не прощаясь.
Закрылась дверь.
— Их не тронут? — спросила Лидочка.
— Конечно, их не тронут, — сказал Ахмет. — Письмо у тебя было?
Лидочка не ответила.
— Чего ты его защищаешь?
— Я его не защищаю. Мне все равно…
Заглянул молодой парень — Лидочка впервые увидела человека, грудь которого крест-накрест была перетянута пулеметными лентами.
— Все готово, — сказал он.
— Едем! — сказал Ахмет.
Пролетка стояла на дороге, дерево куда-то делось, автомобиль Коли тоже исчез.
— Они уехали? — спросила Лидочка.
— Конечно. Прости, у меня нет автомобиля. Помнишь, какой был? Помнишь?
— Ну конечно, Ахмет.
Молодой парень, обвязанный пулеметными лентами, уселся на облучок. Ахмет достал из-под ног кожух, накинул его на Лидочку.
— Будет холодно, — сказал он. — Тебе куда ехать? Домой?
— Нет, в гостиницу, — сказала Лидочка. — Ты разве не знаешь, что мои в Одессе?
— Знаю, что в квартире живут другие, — сказал Ахмет.
Парень в лентах зацокал на лошадей, легонько хлестнул одну, пролетка стала разворачиваться.
— Почему ты сюда приехала? — спросил Ахмет. — Я чуть язык не проглотил, когда увидел тебя. Я точно думал, что ты умерла.
Лидочка протянула руку, дотронулась до кисти Ахмета.
— Я теплая, — сказала она.
— Это просто чудо.
— Я ищу Андрея.
— Лидия, не шути.
— Тогда ты скажи мне — что случилось с Андреем. Только честно. Ведь я для этого осталась с тобой и попросила меня подвезти.
— А что сказал Коля? — ушел от ответа Ахмет.
— Он сказал, что Андрей погиб, он знает это наверняка. Поэтому он и стал Андреем Берестовым.
— Что?
— Ты и этого не знаешь? Ахмет, ты меня удивляешь — я сегодня встретила Колю впервые за много лет — и уже знаю. А ты не знаешь.
— Какой Андрей? Ты скажи по-человечески.
— Следователь Вревский — помнишь такого?
— Еще бы — он налет на дом моего дяди делал. Мотор реквизировал.
— Следователь Вревский передал Коле Беккеру документы Андрея, чтобы тот отвез их Марии Павловне. Но Коля попал в Севастополь и стал жить по документам Андрея. Потому что Андрею они уже не были нужны.
— Значит, что же получается — Андрей умер, а Коля стал Андреем?
— Он сказал, что как друг Андрея он имел на это моральное право. Что он его духовный наследник.
— Мерзавец он, а не наследник, — сказал Ахмет. — Жаль, что я раньше не знал, — я бы ему высказал свою точку зрения!
— Но все это пустяки, все это не главное…
— Что же главное? — спросил Ахмет, хотя и знал ответ.
— Андрей. Что с ним случилось? Кому верить? Я ведь жду его.
— Я знал… до сегодняшнего дня думал, что Андрей умер. И даже был на его могиле.
— На могиле? Где?
— Я могу показать. Это не в Ялте.
— Ахмет, ты мне покажешь его могилу?
— Конечно, покажу. Я ходил туда, я рубль дал, чтобы за могилой смотрели. А то как Мария Павловна умерла…
— Мария Павловна?
— Она не пережила… Но ты в самом деле не знаешь?
— Клянусь тебе всем святым, что не знаю.
— А где же ты была три года?
— Далеко. Очень далеко. Ты отвезешь меня на кладбище?
— Завтра. Если я не приеду, значит, к тебе приедет мой связной, ты его знаешь.
— Кто?
— Хачик.
— Хорошо. Я буду ждать.
— Только ты не расстраивайся. Сейчас мне надо возвращаться, но я приеду. И может быть, Андрей и не умер? Ведь ты жива?
Пролетка въехала на окраинную улицу.
— Не переживай, — повторил Ахмет. — Все на свете так странно.
— Ты можешь меня здесь отпустить, — сказала Лидочка, — мне два шага осталось.
— Нет, я погляжу, как ты в гостиницу войдешь.
— А патруль тебя не остановит?
— Патруль меня не остановит. Я — человек-невидимка, читала?
И Ахмет засмеялся, по-старому, будто ничего и не было.
Беккер вернулся в Севастополь в половине третьего ночи.
Он остановил автомобиль у дверей Морского штаба, выключил мотор. С трудом, из последних сил, снимая кожаные перчатки, вылез из машины. Часовой, сонный и замерзший, перегородил штыком дверь.
— Ты что, не видишь? — спросил Беккер без злобы, но с глубокой уверенностью в том, что никакой часовой не посмеет его остановить. Он отвел штык вверх, не отпуская его, нагнулся и прошел под ним, как под низкой притолокой.
В вестибюле горела тусклая лампочка. Коля, стараясь шагать твердо, вошел в приемную адмирала. Лейтенант Свиридов, ночной дежурный, спал на черном кожаном диване, придвинув телефон к изголовью.
— Степа, — сказал Беккер, опускаясь в кресло возле дивана. — Степа, проснись. Скажи, где Александр Васильевич?
Степа вскочил, потянулся к телефону, потом сообразил, отпустил трубку и стал протирать глаза.
— У нее, — сказал он, прокашлявшись. — Сколько времени?
— Скоро три часа.
— Ты откуда?
— Из Дюльбера.
Свиридов запустил пальцы в черную шевелюру. Морщась от боли, он растаскивал ее по прядям.
— Что-нибудь случилось?
— Не задавай глупых вопросов, Степа. Позвони адмиралу.
— Ты с ума сошел, Берестов. Сам же сказал — три часа ночи, а ты его из теплой кроватки. Он же оторвет мне голову.
— Ты как думаешь — я приехал сюда в три часа ночи из Ялты, приехал один, потому что моего шоффэра по дороге убили — сам я контужен и еле держусь на ногах, — приехал и разбудил тебя ради собственного удовольствия? Ради шуток?
— Шоффэра убили? Ефимыча? Что случилось? Бандиты?
— Бандиты, из которых состоит вся Россия. Будешь звонить или нет?
— Может, ты сам?
— Ты дежурный — тебе положено.
Степа нагнулся, поднял с пола телефон, поставил его на край стола, но трубки не снял.
— Что-нибудь случилось с императрицей? — спросил он с повышенной заботливостью, будто собирался тут же нести ей стакан воды.
— Бери трубку! — закричал Коля. Глаза у него стали бешеные. Он начал расстегивать кобуру, пальцы его тряслись. — Я из этого «нагана» сегодня пристрелил трех человек! Одним больше, одним меньше — какая разница! Какая разница, Степа? Решается судьба России, а ты никак не можешь решить, положено или не положено будить адмирала?
Степа, не отрывая глаз от руки Беккера, которая ушла по ладонь в деревянную кобуру, схватил трубку.
— Девушка! — кричал он и крутил ручку вызова. — Девушка, вы меня слышите? Вы что, решили поспать? Алло! Алло! Ну вот… а то как сквозь землю провалились. Знаю, сколько времени! Лучше вас знаю. Срочно, четыре — двадцать четыре! Да, прямой. Да, из Морского штаба! Я лучше знаю, кто когда спит, а кто нет!.. Вот видишь, — сказал Свиридов, глядя, как Коля застегивает кобуру. — А ты берсекнул!
— Чего? — не понял Беккер.
Свиридов уже пришел в себя. Он взял со стола зеркало и поглядел на себя. Покачал головой, недовольный видом синей ночной щетины, встрепанных волос, припухших век и мешков под черными глазами.
— Это особое состояние, в которое впадали древние викинги во время битвы. Такой герой крушил и своих, и чужих — после боя его обязательно убивали свои же. Понял?
— Разберемся, — сказал Коля. — Ну, скоро?
Свиридов отложил зеркало, прикрыл ладонью трубку и ответил:
— Это спросишь у беззубого.
И тут же, услышав ответ, другим голосом произнес:
— Простите, ради Бога, это Степа Свиридов. Да, случилось. Скажите, пожалуйста, Александру Васильевичу, что лейтенант Берестов просится срочно переговорить с ним. Берестов, да, Андрей Берестов. Сколько времени? Три часа ночи.
Свиридов протянул трубку Беккеру, а сам снова взял зеркало, прошел к дивану, сел, сапог на сапог, принялся выдавливать угорь из большого пористого носа.
Коля взял телефонную трубку. Она была теплой и пахла какой-то помадой — видно, от Свиридова.
— Я вас слушаю, — хрипло произнес Колчак.
— Александр Васильевич, я только что прибыл из Дюльбера. Мне нужно поговорить с вами.
— Это настолько важно?
— Я не паникер, ваше превосходительство, — сказал Беккер.
— Та-ак… Дорогая, достань порошок аспирина, — сказал адмирал. — И стакан воды. Вы меня слушаете, Берестов? Прошу вас немедленно прибыть сюда. Сколько времени вам потребуется?
— Семь минут.
— Отлично. Я предупрежу охрану.
Ровно через семь минут Коля Беккер увидел одетого и будто бы еще не ложившегося адмирала Колчака.
— Здравствуйте, — сказал адмирал, оглядывая Колю. — Садитесь. На вас лица нет. Еще не спали?
— Не пришлось, Александр Васильевич. Такие события…
— Тогда рассказывайте. Только коротко.
— Ее Величество, — сказал Коля, который уже отрепетировал краткую речь, — получила сведения, что Ялтинский Совет принял постановление об аресте всех членов царского семейства.
Колчак кивнул, будто именно этого сообщения и ожидал.
— Они будут арестованы сегодня. Для этого в Ялту подтянуты какие-то верные Совету части и отряды мастеровых. Возможно, и банды крымских татар.
Колчак поднял бровь.
— Они существуют, — сказал Коля. — Я их видел три часа назад.
— Продолжайте.
— Царское семейство будет перевезено в Симферополь, в тюрьму, затем, возможно, — на север.
— Временное правительство в курсе дел?
— Не знаю, — сказал Коля. — Вот письмо от императрицы.
— Я же просил — ничего не писать! — сказал адмирал.
Из полуоткрытой двери в гостиную проскользнула тонкая женская фигура в золотистом пеньюаре.
— Но сейчас особый случай, — возразил Коля.
— Особые случаи устанавливаю я, — сказал адмирал, протягивая руку.
Коля отдал ему письмо.
— Что же вы, лейтенант, — брезгливо произнес Колчак, — ногами его топтали?
— И ногами тоже, — сказал Беккер. — Ялтинский Совет подстроил мне засаду на дороге. Руководил засадой известный эмиссар Совета Елисей Мученик. Он оставался, так сказать, за сценой. А произвел эту акцию отряд крымских татар. Так что для спасения письма — именно его они и искали — мне пришлось пойти на некоторые шаги…
— Какие?
— Я выкинул это письмо в кусты. В последний момент. Так что, обыскивая нас, они ничего не нашли.
— А шоффэр? Не проговорился?
— Он не знал о письме.
— Вы держались за нашу версию?
— Да, я клялся, что бываю в Дюльбере из-за княжны Татьяны.
— Поверили?
— Вряд ли. У них свои люди во дворце.
— Разумеется, — согласился Колчак.
— А поручик Джорджилиани предложил Татьяне руку, сердце и политическое убежище в Грузии.
— Вот пострел! Наверное, из князей? Впрочем, там все князья.
— В Совете знают куда больше, чем им нужно.
— Обезумевшие гимназисты и местные шмули — ничего, мы их приструним. И как вам удалось вырваться?
— Мы воспользовались тем, что бандиты напились, и бросились бежать. К сожалению, в темноте погиб шоффэр. Я добрался один.
— И письмо в темноте отыскали?
— Как видите, я помнил, где оно лежало.
— Вас не ранили?
— Моя пуля еще не отлита, ваше превосходительство.
— Далеко это было от Ялты? Я имею в виду засаду?
— Недалеко, версты три-четыре от Чайной горки.
Колчак разорвал конверт. Прочел письмо. После секундного колебания протянул его Коле. Коля понял — если у адмирала и были подозрения, он отверг их. Либо счел более выгодным забыть о них, когда каждый человек на счету.
Записка была по-русски, без подписи. Не очень грамотно императрица сообщала о том, что утром или в крайнем случае днем все они будут арестованы. Надежда на то, что Колчак пришлет за ними корабль, чтобы спасти. Иначе все может кончиться трагедией.
Увидев, что Коля кончил читать, адмирал протянул руку и взял у него письмо. Сложил, спрятал в карман.
— Может так случиться, что это письмо станет самой драгоценной реликвией в российской истории. А может быть — если мы с вами потерпим поражение, — за эту бумажку и гроша ломаного не дадут.
Коля провел рукой по глазам, как бы отгоняя дремоту. Он хотел спросить, может ли он уйти отдыхать. Но Колчак, угадав его мысли, сказал сам:
— Пока я буду собираться, Софья Федоровна сделает нам кофе.
— Иду, иду, — раздался звонкий голос.
Жена Колчака скользнула в комнату, неся поднос с кофейником и чашечками. Как и когда она успела сделать кофе — осталось тайной. Коля любовался ею, особенно свойственной только знатным дамам и спутницам великих людей статью.
— Пейте, Андрюша, — сказала она, улыбнувшись Коле, как доброму старому знакомому, хоть и видела его второй или третий раз в жизни.
— Дай ему полстакана коньяку. Он перенервничал на службе России, — сказал Колчак, разливая кофе. — Но не больше, а то у него коленки подогнутся и он заснет.
Колчак молча выпил кофе. Он быстро ел и пил, как будто полагая, что принятие пищи — процесс ненужный и почти постыдный. Может быть, в нем сидел тайный чревоугодник.
Когда адмирал с Колей спустились вниз, машина уже ждала у подъезда, ворча мотором и заливая светом фар всю улицу.
— Прошу вас, лейтенант, — сказал высоким елейным голосом полковник Баренц, вкрадчивый начальник контрразведки. Коля поежился, зная, что Баренцу известно о нем куда больше, чем хотелось бы.
— Конечно. — Коля покорно пошел за полковником, злясь, что приходится тратить время на Баренца, когда в кабинете Колчака принимаются драматические решения.
Но по мере того как он рассказывал о ночных событиях, вспоминал, как все было, вспоминал свой страх и унижение, Коля все более проникался желанием найти и перебить всех этих татар. Об Ахмете он не думал — впрочем, Ахмет в городе, что ему делать в горах?
— Кстати, о вашем шоффэре? — спросил Баренц, поправляя очки в тонкой золотой оправе. — Вы видели его мертвым?
— Я видел, как он упал, — сказал Коля. — Но у меня не было времени вернуться. Меня бы тоже убили.
— Возможно, возможно, — как врач, сомневающийся в рассказе пациента, произнес полковник.
— Может, он и жив, может, его взяли в плен. Но он упал. Я видел, как он упал. Больше я ничего не знаю.
Баренц оставил Колю в приемной и без доклада прошел в кабинет командующего, где оставался минут десять.
Коле хотелось спать, но в то же время перенапряжение заставляло пульс биться вдвое быстрее, чем обычно. Состояние Коли было близко к лихорадочному.
Коля подошел к окну. За окном еще не начало светать — только пятый час. В блестящих радиаторах и стеклах съехавшихся к штабу автомобилей отражался свет из окон штаба, словно это были не машины, а гигантские блестящие жуки.
— Лейтенант Берестов! — воскликнул Свиридов. — Пред светлые очи!
Колчак сидел за столом. Баренц стоял почтительно — чуть-чуть склонившись, как позволяло достоинство.
— Мы договорились с полковником, — сказал он. — Вы будете сопровождать отряд Баренца, который должен найти и обезвредить банду, что устраивает засады на главной дороге Крыма. Я полагаю это чрезвычайно важным. Как только операция будет закончена, отряд полковника Баренца и вы, Берестов, едете в Дюльбер. Остальные указания получаете только от меня в Дюльбере.
Внизу их с Баренцем ждал большой грузовик с высокими бортами. В кузове были положены доски, на которых в пять рядов сидели солдаты — сытые рожи из контрразведки. Коле приходилось их видеть. Коля подозревал, что их набирали из бывших полицейских и жандармов. Но, в конце концов, кто-то должен охранять порядок.
Баренц залез в кабину, за ним его помощник, поручик, но Беккера туда не позвали, хотя, если потесниться, хватило бы места и ему. Пришлось остаться в кузове вместе с нижними чинами. Утешать себя тем, что еще вчера ты ездил на своем авто с собственным шоффэром. Кстати, мотор куда-то исчез. Его у подъезда не было.
Солдаты были в толстых шинелях, под ними фуфайки, на головах папахи — готовились по погоде. А Коля был только в тонком флотском плаще и фуражке. Так что воспаление легких — наверняка.
Но показывать, что страдаешь от несправедливого обращения какого-то полковника, нельзя. Коля не хотел даже поднимать воротник шинели. И терпел больше часа. Он сидел в первом ряду, от прямого ветра прикрывала кабина. Сонные, поднятые среди ночи солдаты сжались в кучу-малу — Колю приняли в нее, вот он и не замерз, а заснул, как и все, и скоротал дорогу.
Когда проснулся, машина уже остановилась. Полковник Баренц в щеголеватой бекеше и серой папахе стоял на шоссе, запрокинув голову, негромко покрикивал на солдат, чтобы скорее вылезали, а солдаты нехотя просыпались, ежились, не хотелось отделяться от товарищей и вылезать на ночной холод.
Было зябко. С гор дул ледяной ветер. Облака неслись, выскакивая из-за хребта, и уходили к морю, разбегаясь по рассветному морозному небу.
Коля посмотрел на часы — почти восемь.
— Ну как, лейтенант? Приехали? — спросил Баренц, сонно и недобро щурясь. Гладкое желтоватое лицо с опухшими веками черных глаз, длинные баки и длинные черные ресницы придавали лицу контрразведчика нечто опереточное. — Где-то здесь вы попали в засаду?
Коля поглядел вдоль дороги. Слева — поросший лесом крутой каменистый склон, справа — откос вниз, к виноградникам. У самой воды несколько белых домиков. Тихо, только воет ветер.
— Как разберешься? — искренне сказал Коля. — Это же ночью было, а я не за рулем.
— Но когда ехали от засады к Севастополю, ведь вы были за рулем.
— Конечно, — сказал Коля. — Ефимыча убили.
Разговор был спокойный, деловой, но за каждым словом, особенно за построением фраз, Коля чувствовал подвох и допрос.
— Ну и как же мы найдем злоумышленников? — спросил Баренц, пощипывая конец бакенбарда.
— Я полагал, что по моему описанию вы все определили, господин полковник, — сказал Коля.
— Но мне же нужно проверить ваши показания.
— Могли обойтись без меня, — сказал Коля.
— Я выполняю приказ адмирала. Ему хотелось, чтобы за вами был глаз да глаз, — улыбнулся Баренц так, словно сейчас скажет: я пошутил!
Но Баренц так и не сказал.
— Теперь тише! Чтобы муха не пролетела! — приказал Баренц, и его солдаты — было их человек до тридцати — быстро и уверенно разделились на две шеренги и пошли по обеим обочинам шоссе.
Сзади послышался поскрип — показалась повозка, запряженная лошадкой и груженная мешками, — татарин ехал на базар в Ялту. Татарина согнали с дороги, Баренц быстро прошел туда и, пока солдаты копались в мешках, разговаривал с татарином. Тот отрицательно качал головой. Баренц настаивал, грозил. Татарин стал показывать вперед и выше дороги, и Коля понял, что он подтверждает: на поляне были люди. И тут Коля испугался даже больше, чем ночью. Тогда все произошло быстро и неожиданно, а сейчас будет бой, и в этом бою у него, Беккера, есть задача — неприятная и неизвестно как выполнимая — убить Ахмета, чтобы он не назвал Колю настоящим именем. Мысль о том, что ему необходимо убить школьного приятеля и соседа, была тошнотворной — хотелось отогнать ее, и Коля стал смотреть на то, как идут солдаты. Это их, солдатское дело — стрелять и убивать.
По жесту Баренца одна из шеренг стала ловко подниматься по склону, видно, желая обойти поляну с тыла.
И тут Коля увидел рядом с дорогой, параллельно ей, толстый ствол платана, срубленного еще недавно, — листья только чуть пожухли.
— Вот то дерево, — сказал Коля, — которым они дорогу перегородили.
— Молчите, — прошипел Баренц. — Без вас знаю. Ваше участие больше не понадобится. А то еще угодите под пулю…
И Баренц быстро пошел кустами, не поднимаясь прямо к поляне, а обходя ее.
Чуть помедлив, Коля все же пошел следом за солдатами, потому что хотел присутствовать при событиях. Но хоть чувство мести к татарским бандитам в нем не угасло, он понимал: лучше будет, если здесь никого не найдут и не будет стрельбы.
Коля старался идти тихо, ступать в след шедшему впереди солдату и воображал себя Лермонтовым при Валерике, Александром Марлинским, а может, безымянным героем кавказских войн, сосланным на Кавказ за тайную дуэль, за роман с Великой княгиней…
Впереди, где ничего не было видно и казалось, что кусты протянутся еще долго, раздался гортанный предупреждающий крик, потом выстрел, потом было сразу много выстрелов, и они звучали не только впереди, но и вокруг Коли, и ужас их заключался в том, что ни врагов, ни друзей не было видно. Коля отступил за толстое дерево и прижался к нему всем телом. Перед глазами, в пяти сантиметрах, была серая кора, и можно было различить каждое ее волоконце.
Выстрелы прекратились так же неожиданно, как начались.
Коля постоял некоторое время за деревом и осторожно пошел вперед.
Он не смотрел на часы и потому не знал, сколько времени продолжалась перестрелка.
На поляне ходили и стояли солдаты. Один из солдат сидел на траве, и санитар перевязывал ему руку. Солдат ругался, а его товарищ, наклонившись к нему, протягивал зажженную цигарку.
Баренц и его поручик стояли над двумя убитыми бандитами. Больше тел на поляне не было.
Коля подошел к Баренцу с замиранием сердца — он боялся увидеть Ахмета, потому что тогда получилось бы, что он предал товарища по гимназии. Но оба бандита были ему незнакомы. И Коля пожалел, что Ахмета среди них не было.
— Куда вы запропастились, лейтенант? — с раздражением спросил Баренц. — Я уж за вами людей посылал.
Коля не стал ему отвечать.
— Вы кого-нибудь из них знаете?
— Нет, — сказал Коля.
— Жаль. Впрочем, это не играет роли — остальные успели уйти.
— А в хижине? — спросил Коля.
— В хижине пусто. Только чайник, — сказал поручик.
— Ладно, — сказал Баренц. — Будем считать, что змеиное логово, которое устраивало засады на верных слуг его превосходительства, нами уничтожено в отчаянном бою.
Коля понял, что Баренц вновь издевается над ним, но так ловко, что не придерешься, не скажешь: зачем вы меня обижаете? «Я? Вас? — скажет Баренц. — Да вы с ума сошли». И все вокруг будут смеяться.
Коля огляделся, ему было неуютно — они стояли на открытом месте, а вокруг был чужой лес. И если Ахмет наблюдает за ними из леса, он может выстрелить. И скорее всего, в Колю.
— Поехали, — сказал Коля. — Главные события будут не здесь.
— Тонко подмечено, прапорщик, — сказал Баренц, а Коля не стал поправлять его, потому что оговорка Баренца была не случайной.
Утренняя Ялта была оживлена более, чем положено в будний день. К скудному еще базару тянулись телеги и повозки, груженные перезимовавшим или тепличным товаром, с моря поднимались рыбаки, несшие корзины с пойманной на заре серебряной добычей. Немногочисленные покупатели собрались к площади перед беленым каменным входом рынка. Движение в другом направлении происходило ближе к городскому Совету. Грузовик контрразведки проехал неподалеку от Совета, и Коля увидел, как перед домом строится отряд красногвардейцев, состоящих из солдат, гимназистов и цивильных бездельников, многие из них с винтовками, а в стороне от толпы в окружении группы солдат стояли два пулемета-«максима».
Когда грузовик проезжал мимо, его сначала приветствовали криками, полагая, что это подкрепление, но когда грузовик не изъявил желания остановиться — над его бортами торчали папахи с кокардами, а в кабине можно было различить офицеров в шинелях с погонами, каковые были непопулярны среди революционеров, — то советские поняли, что едут их противники, и стали ругаться им вслед. На ступеньки Совета выбежал одетый в длинную серую шинель и в немецкой каске с шишаком сам Елисей Мученик, поднял кулак, грозя грузовику, и Коле захотелось вернуться, чтобы расстрелять Мученика. Но он понимал, что это не в его власти и даже не во власти Баренца, — куда важнее было успеть к Дюльберу прежде, чем Романовы будут арестованы.
Кто-то из революционеров выстрелил — то ли в воздух, то ли вслед грузовику, и выстрел далеко разнесся над Ялтой. Коля подумал, что он может разбудить Лидочку, и почувствовал к ней острую нежность. Вчерашний день был глуп и нервен, а сегодня он понял, что, несмотря на все, юношеское чувство не прошло бесследно.
Не доезжая до Дюльбера, грузовик свернул с дороги и замер в кустах. Солдаты ждали, не вылезая из кузова. Баренц приказал Коле взять одного из солдат и дойти до караульного поста — узнать, что творится во дворце. В случае чего — два выстрела.
Коля не стал спорить и обижаться, что выбрали его, а не поручика: Колю знали караульные и Джорджилиани.
Колино воображение не переставало строить драматические и весьма реальные картины засады у входа в Дюльбер, которой приказано уничтожать любого офицера, приближавшегося к дому императрицы. И его подозрения усилились, как только он увидел, что у ворот, которым положено быть запертыми, не было обычного часового. Ворота были приоткрыты, а вокруг было пусто.
Солдату тоже стало жутко. Он чуть замедлил шаги, чтобы отстать от Беккера, и тому это показалось забавным. Он засмеялся и пошел вперед. Если тебе отводят место храбреца, его приходится занять.
Коля пошел быстрее, в то же время мышцы ног его были напряжены, чтобы можно было отпрыгнуть в сторону при любом необычном звуке — щелканье затвора, окрике, даже выстреле…
Но ничего такого не произошло.
Только когда до ворот оставалось не более двадцати шагов, послышался женский смех. Его перебивал мужской голос.
На дорожке, ведущей к воротам, показались хмельные от любви княжна Татьяна и поручик Джорджилиани. Держась за руки, встрепанные, будто только что из стога, они прошли мимо Коли и обалдевшего солдата. Джорджилиани попытался отдать Коле честь, но рука не добралась до виска, потому что вновь упала на плечо Татьяны.
— Андрей! Андрюша! — сказала Таня. — Не пытайтесь меня остановить.
— Послушай, Джорджилиани, — строгим голосом произнес Коля. — Что у вас происходит?
— Мы там не нужны, — сказал Джорджилиани. — У нас своя жизнь.
Они поспешили дальше, и только тут Коля увидел спрятанную за кустами пролетку, на запятках которой были привязаны три чемодана. Джорджилиани подхватил Татьяну на руки, она захохотала, он взвалил ее в пролетку, сам вскочил рядом, подхватил вожжи, и лошадь почти сразу двинулась вперед.
— Кто такие? — спросил солдат.
— Княжна, — сказал Коля.
— Добрая баба, — сказал солдат.
Он уже куда смелее пошел к воротам и, заглянув в подкрашенную желтым сторожку, увидел, что там идет большой карточный бой между солдатами охраны и несколькими матросами в бушлатах и бескозырках — Коля сразу понял — из охраны адмирала. Значит, Колчак уже здесь.
В дверях рыльцем наружу стоял пулемет.
— Кто старший? — строго спросил Коля, останавливаясь в дверях.
Только сейчас его заметили.
— А, гости! — поднялся навстречу унтер-офицер из охраны. — Добро пожаловать.
Унтер был сильно пьян.
Один из матросов, что наблюдал за игрой, легко поднялся, переступив через пулемет, и сбежал по ступенькам к Коле. Коля узнал в нем переодетого мичмана Вольского.
— Все в порядке, — сказал он. — Мне велено передать, чтобы вы, лейтенант, сразу шли во дворец, а контрразведка пускай занимает позиции — чтобы по дороге не прорвались.
— Вы покажете им, где занимать позиции? — спросил Коля.
— Сейчас пошлю человека. А вы идите к адмиралу.
Коля быстро прошел ко дворцу. Лакей Жан, который встречал его, был в солдатской рубахе и брюках навыпуск.
— Они в малой гостиной, — прошептал он конфиденциально.
Когда Коля вошел в малую гостиную, там как раз была пауза — Наташа разносила гостям чай. Коля формально доложил о прибытии.
— Хорошо, хорошо, — сказал Колчак. — Я и не ждал, что бандиты будут сидеть и ждать, пока мы приедем. Тело вашего шоффэра нашли?
— Нет.
— Странно. Зачем им его увозить?
— Я должна вам сказать, адмирал, — произнесла старая императрица, — что ваш молодой посланец, Андрей Сергеевич, был нам крайне полезен. Не забудьте его наградить.
— Он достаточно награжден, — сказал Колчак и чуть улыбнулся.
— Сейчас не время для наград, — сказал Великий князь Николай Николаевич.
Кроме них, в комнате сидел скучный Александр Михайлович. Поодаль чета Юсуповых: сам Феликс и его жена, прекрасная Ирина Александровна.
— Вы правы, — сказал Колчак. — Кончится революция — займемся наградами.
— И главная будет вам, господин адмирал, — сказала императрица. — В эти трагические для престола и нашего семейства дни вы оказались единственным, кто не покинул нас и не предал идею самодержавия.
— Вы не правы, Ваше Величество, — сказал Колчак. — Верных трону и Отечеству немало. Но иные не имеют моих возможностей.
— Когда вы сегодня подъехали, я стояла у окна, — сказала императрица. — Я решила, что это из Совета и нас арестуют — мысль о казематах или каторге была для меня ужасна, и я подумала: «Господи, почему еще в Петербурге я не запаслась ядом?»
— Надеюсь, такая мысль вам больше никогда не придет в голову, — сказал Колчак.
Он допил чай, поставил чашечку на инкрустированный столик.
— Времени у нас мало, — сказал Николай Николаевич. — Главную задачу мы решили. Государем становится законный наследник престола цесаревич Алексей.
— Господи, помоги ему, — перекрестился Александр Михайлович.
— Регентшей назначается государыня императрица, — сказал Николай Николаевич.
— До совершеннолетия Алеши, — сказала Мария Федоровна.
— С переходом короны по закону к последующим наследникам.
— Это мы решим, господа, — вмешался Колчак. — Сейчас мало времени.
— Сколько бы ни было времени, Россия не простит нам, если мы будем торопить исторический момент, — сказал Александр Михайлович.
— И вы, Великий князь, — сказал Колчак, — становитесь главнокомандующим.
— Я постараюсь послужить России в меру моих сил, — ответил Николай Николаевич, признавая главенство Колчака.
Коле было интересно угадывать — а это кому, а это кому? Не иначе как адмирал получит командование военно-морскими силами. В случае удачи заговора сразу появятся сильные конкуренты Александру Васильевичу. Надо затвердить место заранее.
В дверь без спросу сунулся лакей Жак.
— Едут! — сказал он слишком громко для небольшой комнаты. — Уже поворотом проехали.
— Не беспокойтесь, — сказал Колчак. — Там мои люди. Я в них верю. Андрей, проверьте, все ли в порядке. И быстро назад.
Коля быстро пробежал к выходу из дворца.
— А мы сверху, с башенки, — говорил, семеня рядом, Жан, — нам с башенки далеко видно, сэр.
Коля не успел дойти до ворот, как послышались первые выстрелы. Но, как выяснилось, раздались они не от подъезжающих советчиков, а перестрелка вспыхнула между караулом дворца и матросами, что мирно сражались в карты. Сигнал к разоружению караула последовал от полковника Баренца в тот самый момент, когда колонна красных стрелков революции имени революционера Лафайета приблизилась, ничего не подозревая, к самым воротам и могла быть истреблена и рассеяна прицельным огнем. Но команда Баренца была занята ликвидацией четырех караульных у дворца. Стрельба вспугнула и насторожила нападающих и заставила их рассредоточиться и укрыться.
Когда Коля (Жан предпочел остаться во дворце за защитой дубовой двери) добежал кустами до сторожки, Баренц стоял возле нее, глядя, как оттуда вытаскивают труп караульного. Рядом с ним стояла кучка матросов, окруживших остальных трех караульных, один из них был ранен. Правой рукой он поддерживал левую, морщился, а из рукава капала кровь.
— Вы что здесь стоите? — спросил Коля, не успев даже выйти из кустов. — Что вы делаете?
— Что надо, — ответил спесиво Баренц.
— Отряд из Ялты уже здесь! С секунды на секунду они ворвутся во дворец!
Все еще не зная, верить или не верить Коле, Баренц сделал шаг на дорогу, глядя вдоль нее, и сказал, поправляя монокль, делавший его похожим на какого-то прусского князя:
— Чепуха!
Из кустов у дороги раздался нестройный залп. Кто-то вскрикнул рядом с Колей. Коля отпрыгнул и успел увидеть, как медленно падает Баренц. Все вокруг кинулись врассыпную. Баренц приподнялся на локте и громко захрипел:
— В цепь! В цепь! По противнику прицельный огонь! Где пулеметы?
Матрос разворачивал пулемет у входа в сторожку, но пулеметы нападающих вступили в дело раньше. Они начали строчить по шоссе.
Матрос так и не успел развернуть пулемет, он упал на него, прикрывая собой, словно пули грозили пулемету более, чем человеку.
Коля увидел пулемет нападающих, который засеивал площадку у въезда в Дюльбер зернами пуль. Матросы и солдаты Баренца разбежались и беспорядочно отстреливались через голову спрятавшегося за угол сторожки Коли. И Коля вдруг понял, что сейчас враги пойдут в атаку и первым делом найдут и убьют его. Пути назад ко дворцу, такому каменному и надежному, не было — открытое пространство перед ним простреливалось. Сам же дворец был нем и глух — может быть, все из него уже убежали.
Сквозь прямые стебли зацветающих тюльпанов можно было видеть, как на дорогу под прикрытием пулеметного огня спускались люди. Оставалось так мало времени, и надо было решать. Причем Коля уже знал, как надо было решать, но все в нем противилось этому решению. Коля обернулся — ну хоть кто-нибудь был бы рядом! Но рядом никого! Все убежали, спрятались, предали его!
Коля разозлился. И как бывало с ним, в злости он терял обычную осторожность.
Неожиданно для всех — а видели его сотни глаз — Коля не побежал назад, на что рассчитывали стрелки, а прыгнул вперед, к пулемету, свалил с него тело матроса, который превратился таким образом в бруствер.
Коля развернул пулемет в сторону дороги и не столько увидел, сколько почувствовал, где в кустах и за камнями скрываются готовые к штурму враги.
Под его руками пулемет послушно ожил, и Коля повел высокую мушку вправо. Вдруг из кустов выскочил человек в черной гимназической шинели, закрутился на дороге в каком-то танце, а потом, дергаясь, упал — на помощь к нему побежал из-за кустов второй гимназист и потащил товарища, и Коля, уже поняв, что первого гимназиста убил он, отыскал мушкой и убил второго юношу.
Но тут в ответ забил советский пулемет, и Коле пришлось залечь, потому что пули били по щитку, изгибая и даже пробивая его. А когда длинная, казалось, бесконечная очередь вражеского пулемета оборвалась, Коля приподнял голову и вдруг, к удивлению, правда, без страха, словно это касалось не его, а кого-то другого, увидел, что уже совсем близко подбегают нападающие. Коля только-только успел дать очередь, чтобы они упали, прижались к земле. Но крики уже раздавались сзади: часть нападающих оказалась там, обойдя сторожку. Среди них тяжело бежал Мученик. Он размахивал громадной деревянной кобурой, забыв вытащить из нее револьвер, и что-то кричал. На голове Елисея был немецкий «пикельхельм» — каска с надраенным прусским орлом на лбу.
Коля не мог развернуть пулемет и потому стрелял вперед. Кончилась лента. Пулемет перестал дергаться в руках.
А Коля забыл, как перезаряжается пулемет. Он ударил кулаком по каменной ступеньке и тут увидел, что к поясу мертвого матроса прикреплены две гранаты на длинных деревянных ручках. Он хотел было взять гранаты, но прямо на них упал человек в белой сорочке и черных брюках. Коля отпрянул — и услышал его голос в щелкающем, многоголосом шуме:
— Молодец, лейтенант! Иду к тебе вторым нумером!
Человек в белой сорочке уже заправлял ленту в пулемет, видно, решив, что Коля — ас пулеметного дела, гнушающийся сам заправлять ленту. А Коля сообразил, что к нему на выручку прибежал князь Феликс Юсупов, убийца Распутина, которого он только что видел во дворце.
— Спасибо! — крикнул Коля и на секунду оглянулся, потому что движение врагов, снова поднявшихся, как замолк пулемет, замедлилось.
Коля увидел, что от дома, не кланяясь пулям, стройный и легкий, к воротам бежит адмирал Колчак и кричит:
— Вперед! Чего попрятались! Вперед, молодцы!
И за ним поднимаются матросы, будто ждали этого крика.
— Давай! — рассердился вдруг Коля на князя, который слишком медленно заправлял ленту, — время то сжималось, то растягивалось непомерно, и нельзя было сказать — долго ли возится с лентой Юсупов.
— Готово! — крикнул князь, и Коля сразу же начал стрелять, сгоняя с дороги нападающих, — он увидел, как убегает, припадая на правую ногу, человек в немецкой каске с шипом сверху. Он стрелял только в него — только в Мученика! И тот исчез в кустах.
— Все! — сказал князь Юсупов, поднимаясь от пулемета. — Убежали.
В поле зрения появился адмирал Колчак — он вывел свой отряд за ворота. И, тут же сообразив, что на виду стоять неразумно, закричал:
— Ложись! Занимай оборонительные позиции.
Матросы и солдаты Баренца послушно укладывались на землю, выискивая укрытия. Кто-то, тяжело дыша, упал рядом с Колей, избрав в качестве прикрытия его пулемет.
Убедившись, что его сухопутные части способны сами продолжать войну, Колчак тоже прилег у пулемета.
Он сделал вид, что заглянул к Коле специально, и, перекрывая треск выстрелов, что все чаще гремели вокруг, крикнул:
— Да оставь ты пулемет нижним чинам! Ты мне во дворце нужен!
Выглянув из-за щитка, свободной рукой он подтянул к пулемету солдата. Потом улучил момент, вскочил, пригнувшись, и пропал за углом сторожки.
Следом за ним поднялся Юсупов, сказал:
— До встречи, Андрей.
И тоже исчез.
Коля понял, что и ему следует бежать во дворец. И тут его храбрость кончилась.
В Коле наступило спокойствие, что бывает уже вечером, когда труба прогремела отбой и неубитые солдаты стягиваются к своим бивакам, моля небо, чтобы назавтра бой не начался новый.
Но на самом деле бой еще гремел и не намеревался кончаться. И перебежать к дворцу оказалось более трудным, чем лежать у пулемета.
Выстрелы смолкли, но не потому, что бой завершился, а потому, что все, очевидно, прицелились в Беккера.
— Э-ге-гей! — раздался зычный крик спереди. Коля поглядел в щель щитка — на дорогу выхромал Мученик, по обе стороны его шагали два угрожающего вида советчика с револьверами и шашками наголо.
Мученик не был вооружен, он держал в руке небольшой белый флажок.
— Мы предлагаем переговоры! — кричал он. — Прекратим братоубийственную вражду! Товарищи солдаты! Граждане свободной России! Бросайте оружие и переходите к нам, потопим в море угнетателей Романовых! Хватит им пить нашу алую кровь и насиловать наших жен.
— Так стреляйте же! — прошипел Коля солдату.
— Нельзя, лейтенант, — ответил солдат. — Они же с белым флагом.
— Какого черта — с белым флагом! — закричал Коля, вырывая рукоятки пулемета у солдата. Корень всех его зол и неудач был в этом опереточном генерале — в солдатской шинели и прусском «пикельхельме», из-под которого торчали рыжеватые лохмы. — Эмиссар! — бормотал Коля. — Я те покажу, эмиссар!
— Нельзя, — повторял солдат, мешая Коле, и тот отталкивал его.
Крики Коли донеслись до Мученика, который, размахивая белым флажком, начал отступать, но не побежал, как побежали его спутники, боевые советчики с револьверами.
Коля смог наконец нажать на гашетку, пулемет выпустил две или три пули, и ленту заклинило.
— Я же говорил, — произнес над ухом солдат, — я же предупреждал, ваше благородие.
— А идите вы все куда подальше! — рассердился вконец Коля и, решившись, поднялся и пошел ко дворцу. Он не оглядывался, будучи уверенным, что никто не будет в него стрелять. А если даже и стреляли, он этого не услышал.
Дверь во дворец открыл князь Юсупов. Жан стоял за его спиной.
— Вы истинный герой, господин Берестов, — сказал Жан. — Вы также, князь. Я доложу о вашем подвиге Ее Величеству.
Коля внутренне улыбнулся — и сам не понял сначала, что же смешного в словах Жана. Потом сообразил: смешное было не в словах, а в том, что доклад об отличившихся на поле боя офицерах намеревался делать ливрейный лакей.
— Дурак, — сказал устало князь Юсупов, — ты боишься, что я доложу раньше и все поймут, что ты праздновал труса.
— Я не герой и не офицер, — ответил Жан смиренно, но нагло.
— Пошли смоем эту грязь, лейтенант, — сказал Юсупов.
Коля с благодарностью согласился.
В малой гостиной почти ничего не изменилось.
— Мы наблюдали из окна, — сказала Мария Федоровна, — подойдите ко мне, мон анфан.
Юсупов и Коля подошли к императрице.
Старуха встала, каждого притянула сухой ладонью к себе, поцеловала в лоб.
— Спасибо, — сказала она по-русски.
На диване сидел полковник Баренц. Голова его была аккуратно перевязана. У виска сквозь бинт просачивалась кровь. Рядом стояла горничная Наташа со стаканом воды. Полковник был в беспамятстве.
— Положение наше неприятно, — сказал Колчак. — Охрана оказалась совершенно не готова к быстрому наступлению противника.
— Ими командовал Мученик, — сказал Коля. — Я его узнал.
— Это не важно, — сказал адмирал. — Моя охрана плюс отряд Баренца — все вместе не более пятидесяти штыков. По дороге наступают около двухсот, но еще столько же занимаются сейчас обходным маневром, пытаясь выйти ко дворцу вдоль моря. И это куда более опасно. С той стороны у меня только один пулемет и шесть матросов.
— Но вы телеграфировали в Севастополь? — спросила императрица.
— Связь нарушена, — сказал Колчак. — Разумеется, я рассчитываю на адмирала Немитца. На то, что в решающий для России момент он поймет, что судьба страны важнее, чем лавры революционера.
— Он из хорошей семьи, — сказала Мария Федоровна.
— Многие из ваших врагов, императрица, происходят из хороших семейств, — сказал Колчак.
— Чего же мы ждем? — спросил Юсупов.
— Мы ждем миноносца, который должны прислать за нами из Севастополя. Иного пути отсюда нет — мы не можем прорываться сушей, рискуя жизнью Ее Императорского Величества.
— Я не боюсь смерти, — сказала императрица.
— Вы нужны России живая, — мягко улыбнулся Колчак, не показывая зубов — он всегда помнил о своем недостатке.
— А как мы узнаем, идет ли кто-нибудь к нам на выручку? — спросил князь Юсупов.
— Наверху, на башне, мы оставили наблюдателя. — Колчак поднялся. — Нам нельзя терять время, — продолжал он. — Берем только самое необходимое. Я не смогу выделить носильщиков. За исключением государыни, все сами несут свои вещи. Вы возражаете, князь?
— Наташа, — сказала императрица, — мы возьмем только мою шкатулку и самое необходимое из одежды. Нам не понадобятся солдаты. — Императрица не скрывала гордости своим решением. — Жаль, что Таня оставила нас…
Слова императрицы оказались как бы пророческими — тотчас же дверь широко отворилась, и в ней показался Жан, который поддерживал под мышки бесчувственную княжну Татьяну. Лакей потащил княжну к дивану и посадил ее рядом с Баренцем.
— Ах, что с ней сделали! — воскликнула императрица.
Ирина Александровна присела на корточки рядом с диваном.
— Таня, — сказала она.
Та простонала, но не ответила. Ирина Александровна, не глядя, завела за спину руку, и князь Юсупов, как в отрепетированном номере, вложил в пальцы стакан с водой. «Из рукава он его вытащил, что ли?» — подумал Коля.
Таня отпила глоток.
Колчак отошел к окну и поманил к себе Колю.
— Лейтенант, вы умеете метать гранаты? — спросил он.
— Очень давно, на учениях, — сказал Коля.
— Когда появится катер и мы будем уходить к морю, вам придется задержаться — вы прикрываете нас на случай, если бунтовщики прорвут ограждение. Гранаты в моей машине, под сиденьем.
— Ой! — закричала Татьяна. — Я не хочу жить! Я не буду жить!
Она пришла в себя, и это было хуже, чем беспамятство.
— Что с тобой случилось? Что случилось? — спрашивала Ирина Александровна.
— Они перегородили дорогу — они смеялись, они сказали, чтобы мы все отдали, все… потом они… Вахтанг стал сражаться, я просила его — не надо, не надо… они убили его, а меня…
— Мерзавцы! — воскликнул Юсупов. И он был искренен в своем гневе. — Я пойду! Я буду стрелять, пока не перебью все их кривые рожи!
— Феликс! — закричала на него императрица.
Со звоном разлетелось и тут же с грохотом посыпалось осколками по паркету оконное стекло, разбитое случайной пулей.
Это сразу отрезвило всех.
— Прошу всех перейти на первый этаж. Оттуда мы выходим к морю, — приказал Колчак.
— А как же полковник Баренц? — тихо спросил у адмирала Коля.
Диван представлял собой драматическую картину, словно просился на кисть исторического живописца. На нем, откинувшись, сидел и часто дышал полковник Баренц, с головой, завязанной промокшим от крови бинтом. А в ногах у него сидела в полузабытьи княжна, подняв руку, обнаженную выше локтя, потому что рукав был разорван. Дорожная, доходящая лишь до щиколоток юбка княжны также была порвана и измарана.
— Полковник? — повторил Колчак. — Полагаю, ему будет лучше остаться здесь. Они могут вызвать ему врача. А так мы его погубим, не довезя до миноносца.
Коля смотрел на княжну и думал: не успели, не успели, не успели… и почему-то это имело отношение и к нему, и к адмиралу, и к императрице.
— Берестов! — услышал он голос адмирала. — Вы почему здесь стоите? Я же приказал вам взять гранаты.
— Простите, — сказал Коля. — Я думал, что это не сейчас.
— Именно сейчас! Вы что, полагаете, что я должен быть вам по гроб жизни обязан за те подвиги, которые вы совершали час назад? Они — наше прошлое. Остаться живыми и вырваться из этой мышеловки — вот наша задача сегодня. Идите!
— Слушаюсь.
— Постойте. Сначала поднимитесь в башенку. Там сидит наблюдатель. Узнайте у него, какова обстановка. Если есть срочные новости — бегите сюда. Ясно?
Как только Коля вышел из гостиной и стал искать путь на чердак, он попал в ту часть дворца, что выходила к воротам, и потому сразу стали слышнее выстрелы и доносились даже крики. Стекла в окнах с этой стороны были разбиты, и солнце, попавшее в проемы, по-утреннему весело отражалось в осколках.
Не у кого было спросить, где эта нужная лестница. Коля поднялся по одной и попал в коридор, куда выходили спальни. Он заглянул в спальню императрицы, дальше не пошел — время было на исходе. Пришлось снова спуститься на первый этаж. Коля понимал, что нельзя признаться адмиралу в неспособности отыскать путь на башню.
Перебежав через холл, где на полу сидел, прижавшись спиной к деревянной панели, раненый солдат в одном сапоге — вторая нога была кое-как замотана, Коля увидел лесенку поуже и по ней выбрался на чердак и чуть было не получил пулю в живот, потому что никто не предупредил Колю, что на чердак попадают, условно постучавшись. Коля открыл дверь, и тут же наблюдатель — матрос, глядевший на море, — обернулся и выстрелил в него из «маузера».
Коля отпрянул за косяк и оттуда закричал:
— Ты чего? Убить захотел? Не видишь, что ли, погоны?
— А ты кто? — спросил матрос.
— Я от адмирала, лейтенант Берестов.
— А чего же он не сказал, что стучать надо по-особому?
— В следующий раз постучу — некогда сейчас этим заниматься, — сказал Коля. — Я зайду?
— Ладно, заходи. Видел тебя в штабе. Только ты, лейтенант, будь поосторожнее. Дырку получишь. Простое дело.
Коля не стал вдаваться в разговоры с матросом; здесь было просторно — крыша уходила в башенку, балки были исполосованы птичьим пометом. Одно окно выходило на море, из второго было видно шоссе.
— Адмирал спрашивал, не видны ли наши? — спросил Коля.
— Если бы появились, я бы прибежал, — сказал матрос. — Нету наших. Да и что ждать — пока соберутся… Это здесь время медленно идет, а в Севастополе быстро.
Матрос дал Беккеру бинокль, и он посмотрел на море. Море было пустынным, даже рыбаков не видно — чувствуют, что идет война.
Потом он посмотрел в другую сторону — на шоссе.
Шоссе вилось вдоль моря, и далеко-далеко видна была нестройная колонна людей.
— Это кто? — спросил Коля.
— Подкрепление Советам идет, — сказал он. — Сюда бы да хорошую роту — разогнали бы вмиг. А то твои контрразведчики только людей лупить и водяру пить умеют.
— Я не из контрразведки, — сказал Коля.
Пуля ударила в раму окна, отколола кусок дерева, и он вонзился Коле в рукав, чуть уколов руку.
— Осторожнее, — сказал матрос. — Нам ведь все равно — от Баренца ты или из экипажа. Живи и дай пожить другим.
Он осторожно выглянул из-за рамы и сказал:
— Пошли! Опять пошли!
И, как бы услышав его, от сторожки ударил пулемет.
Сверху было отлично видно, как перебегают, приближаясь к воротам, нападающие, такие маленькие сверху. Коля пытался разглядеть среди них Мученика.
— Вот где надо пулемет ставить! — сказал Коля. — Отсюда!
— Отсюда трудно попасть — далеко, — ответил матрос. — Только если к дому подберутся.
Впрочем, поздно было тащить сюда пулемет, даже если бы был лишний. Пока дотащишь — они уже добегут до дворца.
— Что же они делают? — спросил Коля. — Почему их не остановят?
— А ты что, не видишь, что их сверху с горы огнем поддерживают? — ответил матрос. — Нашим не высунуться.
Солдаты, что лежали у пулемета — а Коля уже воспринимал этот пулемет как собственность, как источник своего подвига, — вдруг вскочили и побежали, бросив его.
— Ну куда же, мать вашу! — Коля высунулся из окошка, начал грозить кулаком. Но солдаты не слышали его, они бежали ко дворцу, потом один из них упал и остался лежать на дорожке, а второй спрятался в кустах. Другие солдаты, что таились в зелени, тоже поднимались и отбегали к строениям. Некоторые падали.
Коля понял, что ему надо бежать вниз, потому что, кроме него, некому остановить бегство. И как только он сделал шаг от окошка, ему стало очень больно в правой руке, ниже локтя, словно ее пронзили раскаленным железным штырем — так больно, что Коля даже закричал, садясь, скрюченный, на пол.
— Задел, да? — спросил матрос. Но почему-то, не дожидаясь ответа, он пошел к двери и исчез, но Коле было так больно, даже тошнило, что он не обратил внимания на бегство матроса.
Пальцам левой руки, которая держала за локоть правую, стало очень мокро и горячо, будто он помочился на эти пальцы. И Коля понял, а потом увидел, что это кровь, и ее было очень много. Коля никогда еще не видел столько человеческой крови сразу — даже на войне, которая раньше обходила его стороной. Но это была его кровь, и надо было что-то делать, иначе вся кровь вытечет. Надо перевязать руку — но как это сделаешь, если так больно и одна рука не действует…
Слабость была ужасная. Коля постарался встать, но ноги его не держали, он пытался говорить с ними, как с живыми, — он стал уговаривать их: если ноги не поднимут его тело, то оно останется здесь лежать, пока не придет эмиссар Мученик в «пикельхельме», чтобы убить Колю.
И вдруг понимание возможности смерти обрушилось на Колю первозданным ужасом — ничего подобного ему не приходилось в жизни испытывать. Даже когда умирала мать и он увидел тот момент, что отделял ее жизнь от смерти, и был тот момент обыденным и неинтересным, он не испытал понимания, что смерть существует и она всегда рядом. И он понял, что нет ничего особенно удивительного и даже трагического для всех остальных людей в том, что здесь, на чердаке, будет валяться труп красивого молодого человека, лейтенанта Черноморского флота, который лишь начинал жить и делать свою карьеру, который не успел по-настоящему полюбить и испытать счастье…
Думая так и то смиряясь с неизбежностью смерти, то ужасаясь ее и борясь с ней, Коля медленно продвигался к приоткрытой двери, за которой начиналась крутая лестница вниз.
Он потерял чувство времени и не знал, то ли прошли минуты, то ли час с тех пор, как он был ранен.
Порой он старался утешить себя, повторяя чьи-то слова: «Ранение в руку? Какой пустяк! От этого не погибают», то старался подсчитать, сколько крови находится в человеке и сколько из него вытекает. Как задачка о двух бассейнах…
— На помощь! — закричал Коля. — Спасите!
Снизу раздался невнятный крик, и Коля со всей очевидностью, без сомнения понял — внизу, на первом этаже, уже люди Мученика. А Колчак и Романовы давно ушли, и никто из них не вспомнил о Коле Беккере — или об Андрее Берестове. И Коля даже уловил иронию в том, что забыли они не его, а ту маску, которую он надел, чтобы выжить. И если бы не надел, вернее всего, сейчас коротал бы спокойно время у своей феодосийской пушки…
Звать ли их — или истечь кровью здесь?
Коля понимал, что сейчас должны возникнуть картины его детства, но картины детства не возникали, и в голове только крутились слова, сказанные перед смертью… кажется, сыном Наполеона: «В моей жизни было два достойных упоминания события — я родился и умер».
— На помощь! — со злостью ко всем людям кричал Коля. Пускай он умрет — пускай это будет, но не один, не забытый на чердаке покинутой виллы! Не так, чтобы через год здесь отыскали скелет в разорванном, насквозь прогнившем мундире… И Коля сам удивился способности своего мозга создавать такие яркие картины.
И злость на человечество помогла Коле подняться на ноги — раненая рука повисла вдоль тела, а левой он придерживался за стенку. Таким образом, почти в забытьи, он миновал два пролета — на третьем ноги предали его, и он полетел вниз, но боли не почувствовал. И вообще ничего не почувствовал до тех пор, пока, проходя по комнатам дворца, его не увидел Елисей Мученик, потерявший в последней атаке свой черный «пикельхельм».
— Господи, — сказал он, — силы небесные! Андрей Сергеевич! Как вас угораздило!
Сказал он это искренне, потому что ему не хотелось сражаться с возлюбленным Раисы Федотовны.
Елисей Борисович Мученик был готов служить революции и мировой свободе, готов был сражаться на всех баррикадах планеты, но это не означало, что он был кровожадным человеком. В этом он был схож с иными вождями революционных течений и возмущений, которые остались в памяти человечества как варвары и садисты, хотя никогда такими не были. Вряд ли Наполеон смог бы отрубить голову даже самому отъявленному, с его точки зрения, преступнику — но подписать приказ о казни заложников или мародеров он мог без зазрения совести, даже перед обедом. Он казнил как бы не конкретных людей, а враждебные его высоким целям идеи. Он убирал препятствия с дороги к прогрессу. И не дай Бог вам оказаться таким препятствием. Но стоит такому вождю увидеть страдания одного человека, которого он знает лично, как в нем просыпаются гуманизм и человеческое сострадание.
Мученика, который Колю не любил и любить, конечно, не мог, при виде потерявшего сознание, лежащего у лестницы окровавленного соперника охватила не только жалость, но и искреннее негодование к судьбе, которая заставляет людей становиться врагами и убивать друг друга. Если бы рядом оказался врач и предложил Елисею Борисовичу отдать половину своей крови для спасения жизни Андрея Берестова, Мученик ни секунды бы не колебался. Он бы всю кровь отдал — лишь бы его соперник жил!
Вначале Мученик решил было, что Коля умер, и постарался обнажить голову. Но «пикельхельм» был уже потерян, потому пальцы Мученика запутались в шевелюре, там и остались. Вождь революционеров стоял над Колей, а мимо пробегали его соратники, продолжая наступление.
И тут Коля потянул вперед руку и застонал — высоко-высоко, будто заплакал младенческим голосом.
— Люди! — закричал тогда Мученик. — Идите сюда, кто может! Человеку плохо и ему надо помочь!
Он так убедительно кричал, что появился солдатик, который как раз и искал Мученика, потому что нес в руке потерянный прусский «пикельхельм». Солдатик считал его необходимым для вождя, как бы источником дополнительной силы.
— Молодец. — Мученик надвинул шлем на брови. — Надо перетащить его — на диван или куда-нибудь.
— На лавку положим, а? — сказал покорно солдатик.
И они вдвоем, измаравшись кровью и уморившись, потому что бессильного раненого человека тащить очень непросто, перетащили Колю на жесткую резную дубовую скамью, что стояла у стены прихожей. Мученик обернулся в поисках чего-то мягкого, чтобы положить под голову Беккеру, но ничего не нашел.
А тут в вестибюль дворца из внутренних помещений выбежал телеграфист и спросил:
— Чего дальше делать? Они не сдаются.
— А мы их сейчас в море утопим, — ответил Мученик и засмеялся, без злобы, а просто как человек, нашедший красивое решение геометрической задачи. Затем наклонился к Коле, поцеловал его по-братски в холодный лоб и сказал: — Выздоравливай, дурачок!
На этих странных словах Коля очнулся и увидел склоненное к нему лицо Мученика. Лицо тут же отодвинулось и исчезло. Елисей убегал от него, за ним телеграфист, а оттуда, куда они бежали, гремели выстрелы. Поэтому слабый крик Коли, мольбу не покидать его революционеры не услышали.
Коля попытался сесть на лавке, но не смог — был слишком слаб и слишком болела рука. У них, конечно, санитаров нет, подумал он о врагах. И его охватила ненависть к Мученику, который так подло оставил его умирать.
Адмирал Колчак вывел к молу небольшую группу людей, отдавшихся под его покровительство. Он велел Марии Федоровне, жене Александра Михайловича Ксении Александровне, все еще пребывавшей в безумии княжне Татьяне, а также Юсуповой и горничной Наташе спрятаться сбоку от пирса. На их счастье, пирс, выдававшийся саблей в море, в том месте, где встречался с волнами, образовал стену, достаточную, чтобы защитить женщин от случайных пуль.
Перелетая через пирс, пули падали на излете в маслянистое море, поднимая фонтанчики вокруг поднявшейся из воды бронзовой статуи русалки с незаконно прижитым младенцем на руках.
С женщинами остались старшие Великие князья. Сам же Колчак и Феликс Юсупов, который не желал отсиживаться со стариками и женщинами, переползли выше, к началу пирса, где было куда опаснее. Последние солдаты и матросы охраны с трудом сдерживали напор Советов, которые, захватив дом и сад, уже вышли к узкому пляжу. Офицеров у Колчака не осталось. Полковник Баренц был ранен, а Андрей Берестов и поручик из контрразведки пропали — возможно, были отрезаны и убиты в доме.
Положение было, можно сказать, безнадежным. Оставалось уповать лишь на то, что помощь, как положено в авантюрном романе, прискачет в последний момент на быстрых конях. Но Колчаку вполне обоснованно казалось, что последний момент уже наступил, а на горизонте все не было следов катера.
Отряды Ялтинского Совета, к счастью, недостаточно подвижные, но в двадцать раз превосходившие севастопольцев числом, взяли передых — то ли спешили пограбить дворец, то ли нашли винный погреб.
В этот момент затишья со стороны моря послышался треск, и в воздухе возник гидроплан. На крыльях у него были русские опознавательные круги. Он облетел дворец и пляж — Колчак, сидевший на холодной гальке спиной к пирсу, лишь поглядел ему вслед, не зная, чей он.
Никаких враждебных действий гидроплан не произвел, помахал крыльями и удалился — вслед ему стреляли из кустов.
Через двенадцать минут он опустился возле «Императрицы Екатерины», и военлет Васильев сообщил, что Колчак на берегу.
Встревоженные появлением гидроплана, который сочли вражеским разведчиком, Советы начали наступление. Они во множестве выскакивали из кустов и страшно кричали, подбадривая себя.
С криками они бежали по гальке, увязая и скользя в ней.
Колчак приказал единственному пулемету открыть огонь, и тот стрелял из-за пирса. Люди на гальке кричали, и некоторые стали падать. Упавшие отползали обратно к кустам, а два пулемета сверху открыли огонь по пулемету Колчака, но не смогли его подавить. Только ранили пулеметчика, и Колчак заменил его одним из матросов.
Прошло не более пяти минут, как Советы снова кинулись в атаку. Впереди отважно вышагивал человек в длинной шинели и прусском шлеме. Он вытянул вперед руку с «маузером» и время от времени стрелял из него.
За ним, густо и отчаянно, перли солдаты, гимназисты, рабочие и прочие люди, которые знали, что врагов за пирсом очень мало, так что осталось совсем чуть-чуть…
Императрица и Великие князья, прижимаясь спинами к пирсу, чтоб их не заметили с берега, отошли к самой воде — дальше было некуда. Колчака задело пулей, сбило фуражку и оцарапало голову. Кровь струилась по лбу. Пулемет замолчал — то ли кончились патроны, то ли убило матроса. Колчаку надо было приподняться, чтобы увидеть, но приподняться он не мог.
И вот тогда случилось чудо.
Оно не повлияло бы на исход боя — если бы не растерялся сам эмиссар Мученик.
…Подводная лодка всплыла в полукабельтове от берега. Это был отчаянный по отважности маневр. Вода, стекая с нее, пенилась и шумела так, что слышно было на берегу, эмиссар остановился, и за ним остановились все нападающие. Уж очень внушителен и строг был черный конь, что прискакал на выручку адмиралу.
Субмарина еще не закончила подъем, как люк в рубке откинулся и оттуда на палубу выскочил офицер. За ним — матросы.
Два или три матроса побежали вперед, к носу, где стояла подобранная, маленькая, словно оса, пушка… Другие матросы вытаскивали из рубки надувную лодку.
Все это заняло минуту. И всю эту долгую минуту, впервые в жизни признав поражение ранее, чем оно наступило, Елисей Борисович Мученик стоял посреди пляжа, вытянув вперед руку с «маузером».
Потом, со значительным и роковым уже опозданием, он выстрелил из «маузера». Пуля пролетела возле мола и бессильно упала в воду, не долетев до субмарины.
Феликс Юсупов, не растерявшийся, что потом дало основание к награждению его орденом Святого Георгия, в два прыжка добежал до пулемета, возле которого никого не было, лег рядом и начал стрелять по противнику.
И противник побежал назад.
А когда к пулемету присоединилась скорострельная пушка субмарины и первый ее разрывной снаряд поднял тучу земли между нападающими и дворцом, бегство их стало неудержимым.
Не убежал только Елисей Мученик. Он медленно отступал, продолжая стрелять и не замечая, что в «маузере» давно уже нет патронов.
И он стал центром всей картины. Именно к нему тянулись пули из пулемета, за которым лежал князь Юсупов, именно ему предназначался следующий снаряд с субмарины, именно в него, страстно желая сам убить этого эмиссара, стрелял из револьвера вице-адмирал Колчак…
Но Мученик продолжал отступать и, наверное, скрылся бы в доме, если бы в тот момент из дома не вышел окровавленный, придерживающий здоровой рукой раненую Коля Беккер. Он не был вооружен, но ненависть его к Мученику была столь велика, что тот, не в силах преодолеть давление воспаленных глаз Коли, остановился и даже готов был уже отступить — но отступать было некуда, потому что, догнав Мученика, в него впились десятки пулеметных и револьверных пуль, а новый снаряд с субмарины взорвался как раз между Мучеником и лейтенантом Берестовым, убив обоих мгновенно.
Можно описать, что думал Коля в последнее мгновение, но мысль его неинтересна — она заключалась лишь в бешеном желании убить Мученика, сделать так, чтобы тот перестал жить. И, увидев ослепительный звон последнего взрыва, поглотившего Елисея, и зная уже, что этот взрыв принес конец, смерть ему самому, Коля возрадовался космической радостью свершения мести за то, что Мученик своим существованием отобрал у него, Беккера, все, что было: и Лидочку, и Раису Федотовну, и Стамбул — отобрал, но сам погиб. Это было хорошо.
Торжество Беккера, секундное, а может, и менее чем секундное, захватило его настолько, что он не заметил, как умер.
Впрочем, никто не замечает, как умер или заснул.
После этого выстрелы сразу прекратились, и наступила оглушительная, звонкая тишина.
…Адмирал Колчак принял рапорт капитана субмарины, который сообщил, что, ввиду повреждения в главном двигателе, миноносец, выделенный для вывоза Романовых, остался в порту. Тогда начальник штаба флота контр-адмирал Немитц, выяснив, что в районе Ялты находится для учебных стрельб субмарина «Камбала», и связавшись с ней по радиотелеграфу, приказал следовать к Дюльберу.
Колчак был суров — вина командира отряда миноносцев была непростительна. За день до отбытия флота в дальнее плавание отказывает машина у миноносца! Но он признал, что при тех обстоятельствах адмирал Немитц действовал правильно.
И как только он сообщил это Юсупову как единственному собеседнику, над горизонтом показался дым — на выручку флагману шел мателот «Императрица Екатерина», новейший русский линкор.
Колчак сам сообщил императрице, что через полчаса здесь будет линкор.
— Действительно? — спросила Мария Федоровна. — А я полагала, что помещусь и на субмарине.
Колчак приказал перенести к берегу всех раненых и убитых — никого не осталось во дворце.
Конечно, оставался некоторый риск — сейчас Ялтинский Совет связывается по телеграфу с Петроградом, шлет возмущенные депеши — машина Временного правительства начинает скрипеть и крутиться… Не успеют!
Матросы принесли Колю и положили на гальку. Лицо его было спокойным, и не видно было, куда попал убивший его осколок.
— Вы воспитываете настоящих героев, — сказала по-французски императрица. — Он был хороший мальчик. Я к нему привязалась.
— Он был один из моих лучших офицеров, — сказал Колчак. — Россия его не забудет.
Матросы принесли найденный на дороге труп поручика Джорджилиани, который был изуродован десятками пуль и сабельных ударов. Так никогда и не выяснилось, кто был виновен в его смерти — отряд ли Ялтинского Совета, который категорически отказался принять за это ответственность, либо татарские националисты из банды Ахмета Керимова, которые мстили Колчаку за смерть своих товарищей.
Третьим в том ряду положили полковника Баренца, который скончался от ран, так и не придя в сознание.
Монумент, поставленный в Ялте в десятую годовщину этих событий, представляет собой бронзовую фигуру императрицы Марии, у ног которой расположились те герои России, что определили ее судьбу: к императрице протягивает руку адмирал Колчак, как бы предлагая спуститься с пьедестала. Еще ниже, демонстрируя единение сословий, склонились к пулемету князь Феликс Юсупов и подобный Адонису молодой офицер Берестов, происхождение которого в последующие годы оказалось так и не разрешенной тайной истории, подобно тайне Железной Маски. За его спиной, вглядываясь вперед и почти сливаясь с камнем, стоит полковник Баренц, и, наконец, внизу лежит, опираясь на локоть и прижав руку к груди, в которой вот-вот перестанет биться сердце, поручик Джорджилиани — тоже фигура таинственная, потому что историки не понимают, что же он делал во время штурма Дюльбера. Остальные фигуры на постаменте — обобщенные. Не надо искать в них сходства с действительными солдатами и матросами, что сражались, спасая императрицу и империю, но все они без исключения увенчаны достойными лаврами, наградами и пенсиями.
Великая княжна Татьяна пережила всех действующих лиц этой драмы и скончалась в Ментоне, в Швейцарии, в 1986 году в возрасте девяноста лет, окруженная скорбящими родственниками. Захоронение ее праха состоялось в Петербурге, в Александро-Невской лавре при большом стечении публики.
Колчак и императрица перешли на борт «Императрицы Екатерины».
Когда катер подходил к адмиральскому трапу, Александр Васильевич был еще в сомнении, объявлять ли экипажу о том, что за гости прибыли на борт, но оказалось, что команда уже выстроена на шканцах и встретила появление Марии Федоровны громовым «урра!».
Независимо от того, с какими чувствами кричали матросы — то ли искренне радовались, то ли поддаваясь общему настроению и не смея ему противиться, то ли уже начало сказываться разочарование в революции, которая третий месяц шумела на площадях, а жить становилось все хуже и порядка не стало вовсе, — в любом случае кричали матросы громко, как бы получая наслаждение от силы собственного дружного крика и правильности строя.
Дабы не терять времени и воспользоваться настроением команды, адмирал Колчак обратился к морякам с короткой и неожиданной речью.
Он заявил, что сейчас, когда страна охвачена волнением и беспорядком, необходимо взять на себя ответственность за ее судьбу. Не возьмем мы — возьмут враги, которые только и ждут, чтобы мы занялись внутренней грызней и междоусобицами. А кончится это тем, что германцы войдут в наши дома, будут измываться над нашими женами и невестами, а по всей России прокатятся грабежи и убийства. Останавливать эту трагедию будет поздно. А сегодня мы еще можем повернуть колесо истории, потому что мы, Черноморский флот, объединены, сильны, вооружены — мы железный кулак России, которым она разгромит всех врагов.
— Потому сообщаю вам, матросы и офицеры! Государыня императрица Мария Федоровна согласилась взять на себя регентство над наследником цесаревичем Алексеем до его совершеннолетия!
Колчак сделал паузу, такую долгую, чтобы смысл его последних слов дошел до ума самого тупого матроса. И второе «ура», прогремевшее над крейсером, долго набирало силу, зато и долго не стихало.
Мало кто знал об этой старой женщине, что стояла на свежем ветру с адмиралом Колчаком. Да и лица двух высоких господ, что стояли за ее спиной, были малознакомы — лишь самые сообразительные и памятливые из офицеров и матросов вспомнили: худой — это бывший командующий, дядя царя, попавший в немилость к Гришке Распутину, а тот, кто пониже ростом, — бывший командующий авиацией.
Главное заключалось в том, что государыня императрица во плоти пришла на их корабль, пришла просить их помощи и поддержки, выделив «Императрицу Екатерину» из числа прочих дредноутов. Что судьба империи зависит сейчас от них. И когда один баталер из социалистов свистнул на слова Колчака, локтями и тумаками его затолкали в задний ряд, а потом и вовсе выкинули из строя. И это не укрылось от глаз адмирала.
Севастопольский матрос всегда чувствовал превосходство над солдатами и сухопутными людьми — он желал, чтобы его уважали и выделяли, чтобы его просили сделать революцию, свергнуть царя или изгнать германца. И его всегда просили. Прошли времена пятого года, когда глупые вороватые командиры могли кормить матросов гнилым мясом — за качеством мяса сам адмирал Колчак следил неустанно, да и для других командиров урок не прошел даром. Так что матросы были сыты, а их вольнолюбие определялось в значительной степени тем, что революционеры умели просить громче, настойчивей и со слезой. Теперь Колчак тоже отыскал козырь — императрицу.
Вряд ли его ход увенчался бы успехом, если бы он решил провозгласить царем любого из Великих князей. Покровительствовать можно женщине; покровительствовать напыщенному Великому князю — позор для революционного матроса.
— Господа матросы! Господа офицеры! — Колчак поднял ладонь, обратил ее к строю, чтобы остановить шум. — По велению государыни императрицы сегодня наш флот выходит в открытое море. Во исполнение царской воли приказываю: всем кораблям первой линии взять курс зюйд-вест! Наша цель — священный город русского православия — Константинополь. Скоро наши двенадцатидюймовки заговорят возле его стен. Ура!
Матросы кричали, заходясь в восторге, им вторили прослезившиеся офицеры. Казалось, что этот единодушный крик летит над морем к берегу, доносясь до голубых, крутых склонов Ялты.
В тот миг были забыты все идейные споры и посулы социалистов. Взятие Константинополя, священного города, стало куда более важным, чем повседневное благополучие. И подобно крестоносцам, бедным крестьянам, устремившимся к Иерусалиму следом за Петром-пустынником, матросы линкора готовы были перенести любые муки и, может, даже пожертвовать жизнью ради великой цели.
Когда Колчак, опустошенный и измотанный, спустился в каюту императрицы, чтобы пожелать ей спокойного отдыха, та плакала. Возле нее на коленях стоял Александр Михайлович.
— Александр Васильевич, голубчик, — произнесла старая императрица, — на вас теперь только и надежда. Ошибиться нам нельзя.
— Согласен, Ваше Величество, — согласился Колчак. — В случае неудачи нам с вами лучше остаться за рубежом.
— Господь с вами, что вы говорите, Александр Васильевич! — почти рассердилась императрица. Но тут же улыбнулась: она полностью зависела от этого нервного подвижного адмирала с блестящими глазами.
Потом Колчак позволил себе краткий отдых, чуть более получаса. Выпив полстакана виски, он улегся на диван в своей каюте.
Глаза были прикрыты, но бешеные скачущие образы прошедшего боя настойчиво мельтешили перед глазами. Грустно, что ты не молод, думал адмирал. И некому увидеть твое тщание, оценить твой порыв и заслуженно вознаградить. Но что сокровища мира для Беккера, которому не суждено насладиться наградами и почестями, которые он заслужил…
Колчак потянулся, открыл глаза и, преодолев вспышку головной боли и головокружения, заставил себя подняться в рубку радиотелеграфа, чтобы узнать, что происходит в Севастополе.
Новости из Севастополя его обрадовали. Дредноуты первой линии Черноморского флота уже снялись с якорей и взяли курс зюйд-вест. Первый и второй отряды миноносцев шли в охранении. Немитц, который остался в Морском штабе в Севастополе, как и было уговорено, для обеспечения связи между участниками грандиозной операции, сообщил также, что как на кавказском фронте, так и в Галиции наши войска ограниченными силами двинулись вперед, преодолевая сопротивление не только противника, но и своих солдатских Советов и даже Временного правительства, которое ревниво отнеслось к инициативе генералов и адмиралов, пошедших на наступление, не согласованное с военным министром Керенским.
Больших успехов эти войска не добились, да и не могли добиться, потому что главная цель решалась только флотом Колчака.
Операция, которую предпринял адмирал и те генералы, которые знали о ней, была не только рискованной, но и недостаточно подготовленной, иными словами, была авантюрой, как ее уже называли в Генеральном штабе и в военном министерстве. Предложив в свое время этот план, Колчак, Алексеев и Иванов встретили сопротивление наверху и отказались от наступления.
Их послушанию поверили в Петрограде, а из Севастополя не поступило своевременных доносов.
Это объясняется тем, что полностью в курсе дела были лишь три человека, а частично — несколько штабных офицеров. Последние были весьма заняты повседневными делами и могли в случае надобности искренне заявить, что проводили подготовку к большим маневрам, не догадываясь, что маневры станут боевыми действиями. Все же остальные участники этого предприятия — а было их в штабах и управлениях несколько сотен человек — полагали, что участвуют в обычной штабной и интендантской деятельности — мало ли для каких надобностей требуется тройной боекомплект на линкорах, дополнительные торпеды на миноносцах либо корпия для госпитального транспорта? Наибольшие трудности возникли в связи с топливом и продовольствием, но весь расчет Колчака строился на том, что нападение будет внезапным, результаты его сокрушительными и снабжение флота возьмет на себя поверженный неприятель. Длительного похода флот, почти не обеспеченный десантом, выдержать не мог.
Отряды флота, подобно тому, как собирается воедино некое фантастическое чудовище, до того существовавшее в виде отдельных частей, прибыли на рандеву в рассчитанные сроки. Погода была сносной, в меру облачной и ветреной, раза два за часы, пока флот дрейфовал в тридцати милях южнее Севастополя и вне пределов видимости многочисленных в порту зевак и немецких агентов, а также соглядатаев Совета ЦВИКа и Временного правительства, начинал моросить холодный дождь. Волнение не превышало четырех баллов.
Сходившиеся на рандеву крейсера и миноносцы резво перемигивались сигнальными вспышками, плескались флажки сигнальщиков, между кораблями сновали катера, развозившие депеши и приказы. Постепенно до разумения тех командиров и офицеров, что не были в курсе дел, доходила вся дерзость решения Колчака, и некоторых одолевал озноб опаски. Со времен адмирала Ушакова, штурмовавшего Ионические острова, русский флот не предпринимал еще попытки взять укрепленную сухопутную твердыню, каковой являлся Стамбул, вернее, охранявшие его форты. И вот наступил решительный миг. Но Советы и революционные власти, которым можно было пожаловаться, были далеко.
Колчак не позволил командирам кораблей и тем матросским Советам, что образовались уже на некоторых судах, проводить собрания и митинги по поводу того, брать Константинополь или не брать. И запрещение митингов, объясненное походными условиями и близостью неприятеля, ввергло в растерянность социалистических агитаторов. Лишь на миноносце «Керчь», где командиром был старший лейтенант Кукель, верный сторонник Керенского, да на транспорте «Евфрат», команда которого была разагитирована анархистами, произошли возмущения. Колчак, для которого самое важное заключалось в том, чтобы вывести флот в море, мог не опасаться уже того, что несогласные сорвут его начинание. Поэтому он приказал «Керчи» возвращаться в Севастополь, подняв сигнал: «Позор трусам и изменникам», но, нуждаясь в «Евфрате» как в госпитальном судне, Колчак приказал крейсеру «Император Траян» взять транспорт на прицел его шестидюймовок, что крейсер и совершил, после чего выступление анархистов стихло. Кукеля же судил в октябре в Севастополе военный трибунал и приговорил к пятнадцати годам каторжных работ.
Все остальные корабли эскадры, будучи поставлены в известность, что предстоят не учения, а настоящий штурм Константинополя, выразили по меньшей мере одобрение и даже радость по поводу похода. Поход начинался именно так, как рассчитывал на то Александр Васильевич.
Кильватерная колонна Черноморского флота, возглавляемая линейным кораблем «Императрица Екатерина Великая», включала также линкор «Евстафий», немного устаревший, но еще вполне готовый к боям «Ростислав», «Пантелеймон» — бывший «Потемкин». Замыкал колонну «Георгий Победоносец», тридцатилетний ветеран, который, однако, свободно держал скорость в пятнадцать узлов, и Колчак мог рассчитывать на огневую поддержку его шести двенадцатидюймовых орудий главного калибра.
Шесть крейсеров, более дюжины миноносцев и тральщики несли охранение и как пастушьи собаки подгоняли к стаду толстозадые транспорты и ленивые канонерки. К сожалению, состояние моря не давало возможности использовать гидропланы, но все подходы к турецким берегам были достаточно разведаны, и вряд ли турки смогли в последние дни придумать нечто необычайное.
Через три часа после выступления эскадры Колчак приказал отряду тральщиков под охраной второй флотилии миноносцев идти вперед на полных парах для того, чтобы уже в сумерках начать разминирование подходов к проливам. Но более всего Колчак надеялся на добытые разведкой карты минных полей у входа в Босфор, где были указаны проходы для турецких кораблей и недавно выходившего на очередное крейсерство немецкого «Гебена». Так что акция тральщиков должна была подтвердить или опровергнуть правильность трофейной карты. К утру, когда «Екатерина» оказалась в пределах видимости турецкого берега, с тральщиков сообщили, что карта не солгала.
Море было окутано туманом — природа как бы смилостивилась над адмиралом и его флотом, имевшим столь мало шансов на успех. Волнение стихло, облака висели так низко, что смешивались с туманом. Дредноуты шли малым ходом, стараясь незаметно подкрасться к цели. Если не обращать внимания на искры в столбах дыма да утробное урчание корабельных машин, флот был незаметен и неслышен. Турецкая береговая охрана, убежденная в том, что Россия безнадежно погрязла в своих политических спорах и проблемах, приближение флота проморгала.
Без единого выстрела, подобно «Летучим голландцам» железного века, следуя за миноносцами, линкоры один за другим вошли в Босфор, развернули башни главного калибра против султанского дворца, военного министерства, стоявших на рейде двух турецких и одного немецкого крейсеров и в шесть часов одну минуту изготовились к бою.
Александр Васильевич Колчак, когда истекали последние минуты перед началом сражения, спустился в каюту императрицы Марии Федоровны, как и было договорено ранее, и сказал:
— Прошу вас на боевой пост.
Именно туда, а не в кают-компанию, как было бы удобнее, поднялась императрица. Там уже собрались офицеры штаба флота и корабля. Там же, чувствуя себя неладно, всей шкурой ощущая высокое торжество момента, стояли выборные от нижних чинов. Именно там, а не в кают-компании, Колчак объявил:
— Господа, Ее Величеству пристало более, чем нам, простым смертным, дать сигнал к началу решающего боя.
— Сыны мои, — произнесла старая императрица, — от имени Родины вашей, от имени всех женщин нашей империи, от имени дедов и пращуров, положивших головы во славу родины, я призываю вас подняться на смертельный бой с недругом нашего государства и веры!..
На боевом посту не было Коли Беккера, и некому было скептически усмехнуться, как умел только Коля, так как сочетание торжественных русских слов с ощутимым акцентом создавало некий курьезный эффект, которого никто не уловил.
А на известной картине академика живописи Бродского государыня изображена с простертой в сторону золотых минаретов Стамбула тонкой рукой. Адмирал Колчак и другие чины флота, а также Великие князья Николай Николаевич и Александр Михайлович стоят полукругом, внимая ее словам и, конечно же, не улавливая акцента. Все в картине могло бы быть правдой, но, как утверждает в своих воспоминаниях оппозиционер и либерал адмирал Немитц, Великих князей на боевом посту не было, потому что их забыли пригласить.
После речи государыни ее увели вниз, хотя бы потому, что гул орудий главного калибра совершенно невыносим для непривычного уха. К тому же неизвестно было, как повернется дело. Поэтому по приказу Колчака с правого борта была спущена шлюпка, в ней во время всего боя находились шесть гребцов. В случае опасности императрица должна была покинуть корабль. Однако, когда Колчак сказал об этом императрице, Мария Федоровна ответила по-французски:
— Мы в одной лодке, мой адмирал. И глупо вылезать из нее посреди моря.
Государыня попросила адмирала никому никогда о шлюпке не рассказывать. Адмирал сдержал свое слово, но проговорился кто-то из гребцов, и года через три «Русское слово» напечатало рассказ об этом, но это уже не вызвало сенсации.
Ровно в шесть часов двадцать три минуты утра одновременно громыхнули все орудия главного калибра, а также артиллерия миноносцев и вспомогательных судов… Читатель, желающий ознакомиться с ходом боя и его деталями, может обратиться к специальным популярным изданиям.
По всем законам авантюра адмирала Колчака должна была провалиться. Но случайности играют немалую роль в истории. Ведь и слоны Ганнибала обязаны были простудиться в Альпах.
Смерть султана Турции Абдул-Гамида, а также всего военного совета, заседавшего в столь ранний час и обсуждавшего сведения разведки о движении русского флота к югу, которая наступила от прямого попадания двенадцатидюймового фугаса в зал заседаний, парализовала управление Стамбулом. Энергичные действия немногочисленного десанта с русских кораблей, захватившего береговые батареи, военное министерство и генеральный штаб, а главное, разумеется, начало борьбы за власть между младотурками и сторонниками Кемаля Ататюрка, привели к такой дезорганизации, что из города в первую очередь убежали генералы, которые и должны были организовать сопротивление.
Панические слухи о событиях в Стамбуле были разнесены телеграфом по всему миру. В тот же день наступление русской Кавказской армии от Трапезунда к Стамбулу развернулось сказочными темпами — еще трое суток, и первые русские самокатчики увидели воды Мраморного моря, а гидроплан, перелетевший оттуда и опустившийся на Босфоре у борта «Екатерины», принес радостные поздравления Колчаку от командующего Кавказским фронтом.
Колчак, вторые сутки не спавший, осунувшийся, с лихорадочно сверкающими глазами и нарушенным пробором, продолжая свою игру, ответную телеграмму отправил не от своего имени, а от имени императрицы Марии Федоровны, Божьей милостью регентши Российской империи. От себя же он послал другую телеграмму — копия во все армии, в Петроград, в Севастополь — в Париж, Берлин и Лондон. В ней сообщалось о только что завершившемся обряде в соборе Святой Софии, наконец-то возвращенном Православной Церкви после почти пятисотлетнего исламского унижения. В соборе вершилось торжественное коронование государыни императрицы Марии по древнему византийскому обряду, а также «in absentia» ее внука цесаревича Алексея. Депеша из Стамбула, подписанная главнокомандующим и военным министром Великим князем Николаем Николаевичем, а также командующим объединенным флотом России и морским министром адмиралом Колчаком, приказывала привести во всех частях и гарнизонах Российской империи к присяге государыне Марии Федоровне и государю Алексею всех генералов, штаб- и обер-офицеров, а также нижние чины. Провести церемонию присяги во всех учреждениях и учебных заведениях империи. В случае неповиновения этому приказу применять меры наказания военного времени.
Далее — телеграфные аппараты были заняты круглые сутки, а телеграфисты падали без памяти от изнеможения — следовал манифест императрицы-регентши и множество указов.
Турция вышла из войны на четвертый день после падения Стамбула. Это нарушило без того непрочное равновесие в Европе и оголило южный фланг австро-венгерских армий. Последовало внешне неожиданное, но неплохо подготовленное Иозефом Пилсудским восстание Польской военной организации и легионов. Галиция отпала в несколько дней.
Объединившись с русской Юго-западной армией, поляки ударили, тесня австрийцев и венгров, а оттуда на помощь славянам уже спешили чешские боевые дружины.
Мир, подписанный в многострадальном Брюсселе 8 июня 1917 года, лишил Германию большинства колоний, возвратил Франции Эльзас и Лотарингию, даровал выстраданную независимость чехам и западным полякам и подвел черту под многовековым существованием Священной Римской империи. По случаю заключения мира в России была объявлена амнистия многим революционерам. В очередной раз растворила свои ворота Петропавловская крепость, выпуская на свободу проведших в ней по месяцу, а то и более, членов Временного правительства во главе с Милюковым, иже с ним министров Керенского, Терещенко, Некрасова, а также вождей недавно шумного и властолюбивого Петроградского Совета и его председателя — социал-демократа Чхеидзе.
Следует отметить, однако, что громко отмеченная и восхваленная газетами амнистия коснулась лишь верхушки политического айсберга. Весна 1917 года успела умножить озлобление в России — тысячи были невинно либо случайно убиты и забиты до смерти, искалечены и разорены. Неудивительно, что после крушения Временного правительства поднялась волна мести — погромщики убивали поднявших было головы евреев, а полицейские вылавливали тех, кто недавно громил тюрьмы и полицейские участки, и возвращали заключенных в отведенные им камеры. Так что на каждого амнистированного пришлось до ста оставшихся в заточении — но о них не принято было вспоминать и заступаться.
В закрытых автомобилях с опущенными на окнах шторками освобожденных политиков перевозили в Гавань на Васильевском острове, где их ожидал трехпалубный «Серафим Саровский».
Молчаливые преторианцы — черноморская гвардия Колчака — провожали растерянных людей к трапу.
Некоторые чувствовали неладное, даже подозревали, что их отвезут подальше в море и там утопят. Политиков никто не успокаивал и не разубеждал. Белая ночь окутывала море нереальной бледной пеленой, лишенные теней и даже четких форм тела и предметы казались невесомыми и словно относящимися к миру привидений.
Когда Керенский поднимался по невероятно крутому трапу на верхнюю палубу, он услышал, что на причал выехала кавалькада автомобилей. Он остановился. Конвоир стал подталкивать его в спину, чтобы шел дальше. Керенский не подчинился.
Дверцы моторов открылись, и, ежась от ночной свежести, сжимаясь в маленькую беспомощную толпу, на причал выбрались Романовы — Николай и Александра Федоровна, сопровождаемые детьми, дядькой, врачом и верными фрейлинами.
Позже, когда, издав долгий тоскливый гудок, «Серафим Саровский» отвалил от стенки и изгоняемым политикам разрешено было покинуть каюты, ибо они более не считались заключенными, Керенский отыскал в салоне Львова. Они курили и неспешно, как после поминок, беседовали. Оба полагали, что для них высылка из страны в преддверии реакции — очевидное везение.
— У нас будет время осмотреться и собрать в кулак демократические силы, — рассуждал князь Львов.
— Боюсь, что возвращение наше — дело проблематичное. Новое правительство решило убрать с пути все режимы, которые, на их взгляд, скомпрометированы.
— Чем же, позвольте спросить, скомпрометировано мое правительство? — язвительно и обидчиво спросил князь.
Керенский не стал отвечать — за широкими окнами салона первого класса были видны гуляющие по палубе под утренним ярким солнцем Великие княжны — принцессы русской державы, которые покидали Россию в одной лодке с теми, кто лишил власти их коронованного отца.
В тот день Керенский, удивляясь соседству императорской фамилии, не мог знать наверняка, что решение выслать царскую чету было единодушно принято семьей Романовых и поддержано высшей знатью империи.
На «Серафиме Саровском» революционеры пребывали в основном в каютах второго класса, лишь некоторые из них, как, например, управляющий делами совета министров Набоков, имевшие значительные средства, смогли оплатить первый класс.
Владимир Дмитриевич Набоков, англизированный джентльмен, воспринимавший чехарду молниеносных событий последних недель скорее как забавную, чем страшную, фантасмагорию, гулял со своим сыном Володей, начинающим энтомологом, по верхней палубе, глядя, как удаляются и тают в дымке форты Кронштадта — последние камни родной земли.
— Я никогда не вернусь сюда, — сказал Володя Набоков, стройный высокий юноша. — Они высылают из России ее лучшие умы. Россия обречена на прозябание.
— Лучшие умы никогда не были нужны нашей Родине, — улыбнулся отец юноши.
Набоков рассеянно поклонился царской чете, что медленно шла по палубе, стараясь не глядеть по сторонам, хотя палуба первого класса была пуста.
Керенского и Чхеидзе судьба привела в Женеву, как раз когда после мытарств в немецкой тюрьме туда вернулся Ленин. Но они не встречались, потому что совершенно по-разному смотрели на возможности и перспективы русской революции.
Вскоре морскому министру Колчаку было предложено выйти в отставку. Он сделал свое дело. Колчак покинул Россию — он доживал свои дни в Филадельфии.
Ахмет не приехал к Лидочке, как обещал, не по своей вине — после разгрома его убежища отрядом полковника Баренца он ушел в горы. Не иначе как по возвращении в Севастополь Коля Беккер доложил в контрразведку о том, где лагерь Керимова. Поэтому Ахмет был зол на Колю, и злость эта, смешанная с горем из-за гибели двух его товарищей, распространялась на всех русских и даже на Лидочку и покойного Андрея Берестова.
Но, уйдя горами за Байдарские ворота и далее — почти до Бахчисарая, Ахмет не знал о быстро развернувшихся событиях в Дюльбере.
И уж разумеется, его отряд никак не принимал участия в убийстве Джорджилиани и насилии над Великой княжной. Это были выдумки реакционных газетчиков и тех патриотов, что требовали выселения татар из Крыма. Правда, безрезультатно, потому что умные и трезвые головы в Петрограде (вновь переименованном в Петербург в 1918 году) понимали, что, выслав татар, вы тут же подрубите сук крымской экономики. Крым освоен татарским земледельцем и погибнет без татарина.
Только через две недели, приехав тайком в Симферополь, чтобы увидеть родных, Ахмет узнал все новости сразу — столько новостей, что можно сойти с ума от их разнообразия и невероятности.
Ахмету рассказали о воцарении Марии Федоровны, о взятии Стамбула, что лишало татар всяческих надежд на успешную борьбу за автономию, о капитуляции Австро-Венгрии.
Ахмета искали по горам жандармы, которые вернулись в свои кабинеты и разгоняли Советы и редакции социалистических газет, так что ему пришлось вскоре распустить отряд, как распущены были и другие татарские отряды в Крыму. Ахмет, зная, что в Симферополе на него могут донести, решил скрыться на время у дяди в Алуште.
Он попал в Ялту лишь в середине июня, когда весь мир торжествовал по поводу победы над грубыми и невежественными тевтонами, которые вознамерились покорить цивилизованные страны. Со смерти Беккера прошел месяц, месяц с той ночи, когда они виделись с Лидочкой.
Вся злость Ахмета на предательство Беккера, на русских угнетателей и даже на Лидочку давно уже растворилась, ибо полная безнадежность борьбы чаще всего заставляет борца искать иных путей самоутверждения. Ахмет не знал еще, какой он изберет путь, но желание увидеть Лидочку, вина перед ней все росли. Ведь, в сущности, Лидочка — единственная, кто связывал теперь Ахмета с таким недавним и таким светлым прошлым.
Правда, надежды увидеть Лидочку почти не было — зачем ей ждать месяц обещанной встречи? Она уже уехала, может быть, отыскав могилу Андрея Берестова, а может быть, решив не искать ее.
Зная, что шансов у него почти нет, все же с утра, как приехал в Ялту, Ахмет отправился к гостинице «Мариано».
Было жарко — один из первых по-настоящему жарких дней, когда море замирает, будто в него налита не вода, а густое масло, когда море и небо сравниваются цветом и потому теряется линия горизонта, а рыбацкие лодочки кажутся черными жучками, неподвижно повисшими в воздухе.
Публика на набережной была оживленна и криклива — еще не уморились от жары, еще приветствовали ее. Среди гулявших было немало военных — выздоравливающие отпускники, а то и те, кого революция сорвала с мест, а возобновленный порядок еще не вернул на положенное место.
Ахмет остановился перед стеклянной дверью в гостиницу, разглядывая свое отражение, — вроде бы он одет соответственно месту и времени. Был Ахмет в плотно посаженном на голову канотье, чесучовом костюме и легких белых ботинках. Для убедительности он крутил в руке тросточку. Дымчатые очки завершали его туалет.
Он толкнул дверь. Зазвенел колокольчик.
Стоявший за стойкой худой пожилой портье с желтой лысиной, напоминавшей бильярдный шар, сказал:
— Простите, но все номера заняты.
— Я хотел бы повидать госпожу Иваницкую, — сказал Ахмет. — Возможно, она остановилась у вас под фамилией Берестова.
— Как? — Портье вздрогнул. — Вы господин Берестов? Вы пришли?
— Нет, я его друг, — сказал Ахмет. — Я его друг по гимназии. А где госпожа Берестова?
— Вы господин Керимов? — сказал портье. — Заходите, пожалуйста. Она вас давно ждет.
В голосе портье был укор человека, который знает о тебе куда больше, чем тебе бы хотелось.
— Я не мог раньше, — сказал Ахмет. — Я был далеко.
— Я представляю, — сказал портье. — Если вы тот Керимов, которого до сих пор ищет полиция.
— Нет, — сказал Ахмет. — Конечно же, я не тот Керимов.
— Впрочем, мне это не важно. Даже если вы Джек-потрошитель.
— Я и не Джек-потрошитель, я совсем не говорю по-английски, — сказал Ахмет. — Но могу ли я понимать вас так, что Лидочка Иваницкая все еще здесь?
— А куда ей деваться, — сказал портье, — если она до сих пор не верит, что Андрей Сергеевич умерли? А вы мучаете ее — нельзя целый месяц подряд питать ложные надежды.
— Она у себя? — спросил Ахмет.
— Поднимитесь. Комната четырнадцатая.
Ахмет всей спиной чувствовал недобрый взгляд портье — будто тот был обманутым отцом соблазненной девицы.
«Я тут совершенно ни при чем!» — хотелось крикнуть Ахмету, но он, разумеется, не крикнул — поспешил по лестнице на второй этаж.
Лидочка открыла дверь и встретила его обыкновенно, словно он отходил за папиросами, но задержался. Ни трагедий, ни слез — ничего, что так пугало Ахмета в женщинах.
— Здравствуй, Ахмет, а я уж боялась, что ты не придешь.
— Я понял по поведению цербера внизу. Он много знает.
— С кем-то надо разговаривать, — сказала Лидочка. — А я здесь уже три месяца живу. Сначала мне казалось, неделя — невыносимо долго. А теперь я не могу тебе сказать, что давно сюда приехала.
— Тебе, наверное, деньги нужны!
— Ты заходи, Ахмет, заходи. Я, честное слово, рада, что ты обо мне вспомнил.
Ахмет снял канотье и хотел было ловким движением закинуть шляпу куда-нибудь, как положено при светском визите. Но в этой скудной комнатке некуда было кидать канотье.
Лидочка села на кровать — та устало заскрипела, как голодная медведица. Показала Ахмету на стул напротив. Ахмет наконец-то разглядел ее — Лидочка была в скромном коротком, до половины икр, сером платье. Единственное украшение на нем — белый кружевной воротничок. Волосы строго забраны назад — никогда не догадаешься, что Лидочке чуть больше двадцати лет — не из-за морщинок или ввалившихся глаз, — но в позе, походке, движениях рук Лидочки появилось что-то старческое, как у монашки, которая подолгу остается наедине с собой и уже не хочет иного общества.
— Ты болел, да? — спросила Лидочка. Она будто сама не верила в уважительную причину исчезновения Ахмета, но давала возможность ему спасти лицо.
— Нет. — Ахмет разгадал эту беспомощную деликатность слабого человека. — Я был совершенно здоров, как адмирал Петров. Что станется с татарином, а?
— Ахмет, я же ничего от тебя не требую и ни в чем тебя не виню.
— Я сам себя виню. Только, честное слово, Лидочка, я к тебе пойти не мог. Нас сильно расколошматили — еле ноги унесли в горы. Там сидели. Совсем недавно я в Симферополь вернулся, там тоже носа не покажи. Потом у дяди прятался, в Алуште. Я и здесь незаконно.
— Прости, я совсем забыла, что тебе нельзя! — Лидочка даже покраснела, испугавшись, что Ахмет сочтет ее слишком требовательной.
С улицы донеслись медные, начищенные звуки духового оркестра.
— Что за праздник? — спросил Ахмет.
— Сегодня должны прибивать щит.
— Что? — не понял Ахмет.
— Сегодня цесаревич Алексей вместе с адмиралом Колчаком будут прибивать красный щит к воротам Константинополя. Бред какой-то. Ты думаешь, они будут его гвоздями прибивать?
— Это плохо, — сказал Ахмет. — Каждый обыватель тычет пальцем: «Ты татарин, ты предатель, ты неверный». Чувствую себя как еврей, пересекший черту оседлости.
— Глупый, — сказала Лидочка, — это же твоя земля.
— Это раньше Крым был татарской землей, но мы отдали его вам, русским, не потому, что хотели, а потому, что были слабее. Значит, вы ничем нам не обязаны. Можете выгнать всех татар в Сибирь.
— Ты с ума сошел!
— Ты не слышала, какие разговоры ведут русские патриоты.
— Хочешь, пойдем вниз, я тебя чаем напою. У меня в кафе все знакомые.
— Нет, мне нельзя.
— Ты рискуешь, что сюда пришел?
— Когда мы с тобой в последний раз встретились, была, если ты помнишь, революция и свобода. Сейчас нами правят Романовы — только не тот недотепа, что раньше был, а железная старуха и ее адмирал. Нам, бандитам, лучше носа не высовывать. Очень много желающих применить к нам военный трибунал. Но я знал: я приеду и покажу тебе могилу Андрюши…
— А знаешь, — Лидочка несмело улыбнулась, — я сама все выяснила. Потому что думала — нет тебя, совсем нет… Может, ты погиб. Или уехал. Все может быть. Я стала сама искать. По кладбищам.
— И нашла?
— Нет, не нашла. Очень сложное время было. Каждую ночь перестрелки, потом социалистов расстреливали — почти две недели охотились, пока не ввели в Ялту полк Дикой дивизии. Я далеко ездить боялась. К тому же я ждала — а вдруг Андрюша придет на условленное место…
Лидочка поглядела на Ахмета так светло и спокойно, что тот уверился в ее помешательстве.
— Не нашла я Андрюшину могилу, — сказала Лидочка. — На разных кладбищах была, даже на маленьких. Я не посмела написать моим родителям… может, мне придется уехать дальше, тогда они будут сильно переживать. А они из-за меня напереживались достаточно. Но я съездила в Симферополь, пошла в Глухой переулок, а там узнала в церкви, что Мария Павловна скончалась от разрыва сердца…
— В позапрошлом году, — сказал Ахмет виновато, будто недосмотрел. — Я думал, что ты знаешь, я не знал, что ты так далеко была.
— Потом я написала Маргарите. Маргарита подтвердила. Она тоже слышала…
— Как я был в нее влюблен, но она предпочла этого проклятого Беккера! — неожиданно воскликнул Ахмет.
— Не надо так говорить!
Лидочка поняла, что Ахмет не знает о смерти Коли, — впрочем, она сама узнала об этом из газеты, где описывались похороны «Героев Дюльбера».
Там были фотографии: «Миноносец «Хаджи-Бей» с прахом героев прибывает в Севастополь», «Гробы с прахом героев Баренца, Берестова, Джорджилиани во Владимирском соборе», «Отпевание», «Похороны героев», «Портреты героев», справа налево: «Полковник В. Баренц», «Лейтенант флота А. Берестов», «Поручик Г. Джорджилиани». Лидочка тогда пережила несколько минут новой боли — забыв, что имя Андрея узурпировал Коля Беккер. А потом, увидев на фотографии Колю, поняла, что тому теперь предстоит лежать в могиле под чужим именем, и некоторые люди будут знать об этом. Корреспондент «Таврии» взял интервью у какой-то Раисы Федотовны — «гражданской супруги Андрея Сергеевича». У Коли была дама в Севастополе? Что она знает? Какое право имеет она называть себя женой Андрея Берестова?.. Потом, когда прошло, Лидочке стало жалко Колю. Пускай он не всегда был хорошим — но все же он был свой, он был их приятель и приятель Андрюши. И носил его имя с честью. Да, да! Именно с честью! И погиб, спасая императрицу. Впрочем, Лидочка, как и все ее семейство, никогда не числила себя в монархистах. Как и положено российским интеллигентам, Иваницкие были республиканцами. На месте императрицы могла быть иная, просто пожилая женщина, и тогда подвиг Коли, погибшего за пулеметом, становился даже более героическим, но для простого народа, конечно же, важнее всего было слово «императрица», будто остальных спасать не положено. Впрочем, времена так быстро стали меняться, и меняться к худшему, так энергично полезли из щелей те, кого обидела или побила революция и которые спешили теперь отомстить! Лидочки это не касалось — она старалась ни в чем не участвовать и не заводить знакомств, — но другим людям, даже тем, кто по горячности чувств и стремлению к высоким идеалам справедливости бегал по улицам, нацепив красные банты или повязки, а то и выступал на митингах, им порой приходилось несладко — и наказания, вспоенные местью, оказывались десятикратно превышающими проступки.
— А что? Что случилось? — спрашивал Ахмет. — Что с Колей?
— Коля погиб. И это точно, — сказала Лидочка. — Я в газете прочла. Во время штурма Дюльбера.
Она сама не могла бы объяснить, что заставило ее позабыть о том, что Коля жил и погиб под именем Андрея. Скорее всего, это был стыд, ощущение предательства… будто она обязана была уберечь память Андрея от самозванца. Но не уберегла…
Ахмет сказал:
— Значит, это они по пути из Севастополя напали на наше убежище, а потом поехали в Дюльбер. На том же грузовике. А там их штурмовал отряд Мученика. И Коля погиб? Жалко.
— Мне тоже жалко.
— Конечно, жалко, — сказал Ахмет. — Я всех Беккеров знал, у него сестра хорошая, бедная очень. Мы вместе купались в Салгире, за грушами лазили. Ах! Жалко, что не могу собственными руками до него добраться! За моих товарищей! Я бы его так разделал, что хоронить с почетом было бы нечего.
— Не надо так, Ахмет.
— Я же говорю — у меня сложные чувства. У меня всегда сложные чувства — я не такая простая натура, как кое-кому кажется. Мне его жалко и убить его все равно хочется. Я ведь знаю, как Сергей Серафимович умер.
— Я не хочу больше ни о чем вспоминать, — сказала Лидочка. — Все мертвые. Я так спешила и Андрюшу заставила — думала, нам будет легче, он спасется от Вревского, а оказалось, что я сделала хуже. Мне портье рассказал — он все знает. Говорят, что Андрей появился здесь осенью. Ночью. Когда был комендантский час. Его заметили. Он стал убегать, его случайно убили. Это так?
— Я его мертвым не видел. И на похоронах не был. Только тетя Мария Павловна приезжала. Она и умерла после этого, почти сразу. Если бы не он — разве тетя Маруся признала бы чужого?
— Я не верила и теперь не хочу… — сказала Лидочка. — Не знаю, что мне делать. Может, улететь на много лет вперед, когда все люди станут счастливыми и свободными, как ты думаешь?
— Это когда же будет? — спросил деловито Ахмет, будто они обсуждали поездку в Керчь.
— Не знаю, — ответила Лидочка, почти готовая уже рассказать обо всем Ахмету, потому что надо кому-то рассказать. Но вдруг спохватилась, что Ахмет отберет у нее табакерку и может использовать ее для того, чтобы воевать, убивать людей и мстить. Он хороший для своих, но жестокий к чужим и врагам. И для него важнее всего — убить врага.
— Если хочешь, я тебе покажу его могилу, — сказал Ахмет. — Я знаю, где она.
Ему хотелось, чтобы Лидочка рассказала, что же вышло между ними, почему они потеряли друг друга. Лидочка понимала, что Ахмет имеет право на ее доверие, и потому она сказала ему часть правды. Будто она помогла Андрею бежать из-под стражи и они должны были встретиться. Но потеряли друг друга. В поисках Андрея она вернулась. Рассказ был неубедителен, он рождал куда больше вопросов, чем давал ответов. Но Ахмет и это вытерпел и не стал ставить под сомнение слова Лидочки. Зачем? Захочет — расскажет потом.
Когда они вышли из гостиницы, за ними увязался сутулый человек с очень пышными усами, в теплом, не по погоде, пиджаке. Но ни Ахмет, ни Лидочка не ждали слежки и потому не оборачивались. На набережной было празднично от жаркой погоды и бурных новостей со всех краев света. Мальчишки бегали с газетами, и вокруг них возникали небольшие толпы — все ждали, прибили или не прибили щит к вратам Царьграда, будто от этого зависела их жизнь.
Ахмет отыскал извозчика — цены были дикие, еще полгода назад извозчик зарабатывал пятьдесят рублей в месяц — сейчас он потребовал столько, чтобы доехать до Алупки.
— А почему Андрюша там? — спросила Лидочка.
Она надела темную шляпку с вуалеткой, и Ахмету показалось, что она была на ней летом тринадцатого года, когда они познакомились.
— Не знаю, что его туда понесло, — сказал Ахмет. — Тамошний полицейский его застрелил, а Мария Павловна не смогла добиться, чтобы разрешили похороны в Симферополе. Они тянули — никак не могли сообразить, его застрелили или он сам застрелился.
Ахмет не улыбался, Ахмет говорил равнодушно — об очень далеком событии, и Лидочке показалось, что он уже тяготится встречей, — Ахмет всегда был подобен бенгальскому огню.
— Слушай, — сказал он извозчику, — я еще двадцать рублей приплачу — только поезжай быстрее, а?
Извозчик был русский, толстозадый, краснолицый — раньше все извозчики были татарами, а теперь приехали русские, кто-то им помогал обустроиться и охранял от местных конкурентов. Жизнь в Крыму менялась быстро и становилась злее. В Севастополе расстреляли матросов, которых обвинили в убийстве мичмана Фока. Лидочка не знала, кто такой мичман Фок и за что его убили.
Сзади в отдалении пылил закрытый автомобиль, и Ахмет сказал:
— Где те сладкие времена, когда мы ездили на собственном моторе?
Пролетка миновала узкие улицы Алупки, где веранды вторых этажей почти смыкались над головой, а аккуратная булыжная мостовая была покрыта лиловым одеялом лепестков глицинии. Затем по хорошей ровной дороге проехали мимо вилл и пансионатов, где обитали воспрявшие духом с концом революции и разрухи чахоточные больные. Здесь, на окраине Алупки, от дороги отделилась ветвь, ку-де-сак, то есть тупик, который упирался в массивное, совсем новое желтое, но претендующее на облик древности церковное здание, повторяющее внешним видом, но никак не духом средневековый византийский храм. Возле церкви на широкой площадке лежал еще не убранный строительный мусор — то ли ее достраивали, то ли ремонтировали…
Извозчик остановил пролетку, не доезжая метров трехсот до церкви, и только тут Лидочка с внезапным спазмом сердца поняла, что она приехала к Андрюше. Андрюша лежит здесь, за кирпичными белеными воротами, на кладбище, поднимающемся круто по склону, и даже ясно с первого взгляда, где его надо искать… Там, наверху, у каменной стенки, ограничивающей кладбище. Догадаться об этом было несложно — внизу, у дороги, деревья, которые окружали памятники и плиты, уже успели вырасти и затеняли землю, а наверху они были невелики, как кусты, редкие саженцы поднимались возле плит, подчеркивая их обнаженную сиротливость…
От раскрытых железных ворот вверх вела центральная аллея, или, скорее, центральная лестница кладбища. Кладбище было небогатое, большей частью на нем хоронили чахоточных, которые померли в пансионах и их родные не имели средств либо желания перевозить их домой. Порой среди скромных памятников встречались монументы побогаче — они принадлежали алупкинским домовладельцам либо врачам. Почему-то Лидочка, которая поднималась, все замедляя шаг — не от усталости, а от нежелания ног приближать ее к встрече с Андреем, внимательно читала надписи на плитах, отмечая, что среди погребенных чаще всего встречаются молодые польки и младенцы, не достигшие года.
Наверху было почти жарко. По-весеннему зеленая и яркая трава росла там неплотно, обходя камни и россыпи щебня. Кто-то, посадивший там саженцы деревьев и кустов, ухаживал за ними, подвязал и даже, как видно, поливал — темные круги влажной земли еще не высохли вокруг тонких стволов.
Лидочка повернула направо и, угадав, пошла к светлой плите.
На плите было написано:
«Андрей Берестов. Погиб 16 октября 1916 года в возрасте 21 года».
Могила была ухожена, вокруг плиты выполото, песок подметен.
— А кто ухаживает за могилой? — спросила Лидочка.
Ахмет пожал плечами. И Лидочка вспомнила, что это он платит кому-то.
— Спасибо, — сказала она.
В ней не было горя. Куда тяжелее было в первый день, когда Ахмет сказал о смерти Андрюши. Значит, это проклятая табакерка забросила его в осень. На четыре месяца раньше, чем ее, и он оказался здесь совсем один. Он думал, что войны уже нет, а его убили… Сейчас это просто кладбище. Ты знаешь, что в этой могиле похоронена вдова купца, в этой — действительный статский советник из Варшавы, в этой — девица Григорянц, а в этой — невинно убиенный Андрей Берестов. Но к ней, к живой и чувствующей Лидочке, это не имеет отношения. Потому что это случилось очень давно.
От Лидочки требовалось какое-то особенное поведение — его ждал Ахмет, ждала и она сама от себя. «Что надо сделать? Броситься на плиту, разметав волосы? Рыдать — на кого ты меня покинул? Или просто сидеть на лавочке, грустно опустив голову?.. Что за циничные мысли? Здесь же похоронен мой муж, мой единственный любимый человек, ради которого я уехала в чужой мир, в чужое время. А он умер…»
— Я пойду погуляю, — сказал Ахмет. — Немного погуляю и приду. Минут через десять. Хорошо, Лидия?
— Спасибо, — сказала Лидочка. — Приходи.
— Я тебя обратно в город отвезу.
— Спасибо.
Ахмет пошел вниз — и сразу исчез за кустами. Здесь, вдали от дороги и в стороне от домов, бурлила июньская жизнь — Лидочка еще не была в этом году за городом, — стрекотали кузнечики, над могильными памятниками реяли во множестве бабочки и стрекозы, за ними с веселым щебетанием носились птицы, кузнечики выпрыгивали из молодой травы, а пчелы, облагодетельствовав пышные кладбищенские ромашки и клевер, тяжело жужжали к своим ульям. Этот громкий и сочный гомон природы отделил Лидочку от всего мира, и, только погрузившись в это кипение звуков, она осталась наедине с Андрюшей и услышала снова его голос, увидела его глаза.
Но тут в мозгу что-то щелкнуло, и видение Андрюши исчезло, и снова вернулся шум кладбища. Не было Андрея, ушел. Исчез. И как бы в попытке вернуть его Лидочка спросила вслух:
— А что же мне теперь делать?
Андрей не ответил. Только большой шмель тяжело ударился, не рассчитав, о плечо Лидочки и испуганно сделал свечку к самому небу.
Как будто кончилась целая жизнь. В ней была любовь, приключения, бегство… А теперь надо ехать в Одессу, встречаться с мамой и папой — они будут рады, они будут счастливы… и уже Андрюши не будет никогда, и не будет даже памяти о нем, потому что их связывали два случайных поцелуя, одна прогулка, один долгий заплыв до лодочки с рыбаком… остальное — только попытка будущего. Но будущего не случилось.
Дурак этот полицейский. Конечно же, Андрюша убит невинно — если бы не романтические глупости Лидочки, он бы сейчас был жив. Ощущение предопределенности судьбы, которое Лидочка не могла сформулировать, овладело ею — потому что казалось, что она уже сидела на этом кладбище, у этой или подобной могилы, и все уже случилось тысячу лет назад…
Далеко-далеко раздались какие-то крики. Они не могли относиться к Лиде и этому мирному кладбищу. Но не смолкали, хоть Лидочка и поморщилась, чтобы их отогнать. Лидочка поднялась и сбежала по дорожке вниз.
У ворот кладбища двое полицейских набросились на Ахмета, крутили ему руки. Канотье упало на траву. Ахмет ругался и отбивался как бешеный.
— Ахмет! — Лидочка кинулась к Ахмету. — Остановитесь! Что вы делаете? Как вы смеете? Я буду жаловаться!
Оказалось, что бежать до Ахмета далеко, — пока она добежала, его уже втащили в закрытый мотор, и тот сразу же взял с места.
— Ахмет! — кричала Лидочка, пытаясь догнать мотор.
Задняя дверца авто приоткрылась, и оттуда почти по пояс высунулся очень толстый краснолицый полицейский. Он принялся грозить Лидочке пальцем и при этом смеялся, показывая зубы в золотых коронках.
Потом его отделило облако пыли. И все исчезло — словно не было никогда и Ахмета.
Вокруг Лидочки рвались нити, рвались с легким треском, оставляя ее в пустоте, где ничто тебя не поддерживает, никто не притягивает к себе хотя бы ниточным натяжением. Сзади могильная плита — оборванная нить к Андрею. Впереди клуб пыли — бывшая ниточка к Ахмету.
— А платить кто будет? — спросил извозчик. У него было неприятное скуластое лицо, скулы прижимали глаза к бровям неровно, косо, словно архитектор этого лица был ленив и пьян.
— У меня есть деньги, не бойтесь, — сказала Лидочка.
— Покажи. — Извозчик начал спускаться на землю. Пролетка закачалась под его тяжестью, и Лидочка поняла, что ей надо испугаться: этот человек — насильник и грабитель. Теперь-то, в этом звенящем и клокочущем мире, никто не услышит ее криков и боли, да и не будет она кричать — не будет она кричать, потому что воспитанные девушки никогда не позволяют себе кричать. — Покажь деньги, — повторил извозчик, ступив на землю и улыбаясь.
— Сейчас, — сказала Лидочка с меньшим страхом, чем должен был бы ее охватить. В сумке было все, что связано с ее жизнью, — деньги, бумаги Сергея Серафимовича… Сейчас он все отнимет, а она тем временем убежит.
Но тут же Лидочка, к своему ужасу, поняла, что на ней — высокие шнурованные башмаки на высоких каблучках, на них никуда не убежишь.
Лидочка держала сумку перед собой и сказала, стараясь быть убедительной:
— Уйдите, а то я буду кричать.
Извозчик усмехнулся еще шире. Он надвигался на нее молча, и это было хуже, чем угрозы и крики.
С неожиданной резвостью извозчик прыгнул вперед, а Лидочка не успела отскочить, потому что наткнулась каблуком на край плиты и чуть было не упала. Она завела руку с сумкой за спину, а извозчик схватил ее за плечи и, когда старался дотянуться до сумки, невольно обнял Лидочку. Он притянул ее ближе, все еще стремясь к сумке, но Лидочка начала биться — и даже не столько от страха, как от отвращения, — так сильно и затхло воняло от извозчика чесноком и потом. И тут извозчиком овладело желание — настолько сильное, что он забыл о сумке и деньгах и, действуя вряд ли сознательно, начал возить руками по ее спине, все ниже и ниже, и старался при этом повалить ее на траву.
А Лидочка не кричала, только старалась избавиться от вони извозчика — отворачивала голову от него и боялась, что ее вырвет, и старалась, чтобы ее не вырвало, но этот проклятый извозчик навалился на нее всеми своими восемью пудами, и оттого тело ее конвульсивно сжалось, извозчик почувствовал неладное, он даже успел несколько отстраниться, но рвота измарала ему щеку и плечо, — и извозчик в растерянности отпустил Лидочку и стал отталкивать ее от себя, крича:
— Ты что, что ты, психованная? Ты что?
А Лидочка перевернулась на живот и, встав на четвереньки, пыталась облегчить свой желудок — и наверное, со стороны в этой сцене было нечто комическое, но не было никого, кто бы оценил этот комизм, потому что голос, прозвучавший над ее головой, как только тень загородила Лидочку от солнца, был совершенно серьезен и даже формален.
— Если я досчитаю до десяти, а ты, мерзавец, еще будешь здесь, — сказал очень знакомый голос, — то ты уже никуда не уедешь. Никуда.
— Слушшаассь, — запел невнятно извозчик. Потом затопали его убегающие сапоги.
Лидочка хотела поднять голову, чтобы увидеть и поблагодарить своего спасителя, но новый пароксизм рвоты настиг ее и заставил, стыдясь, отползать от него на коленях.
— Я принесу воды, — сказал тот голос, и Лидочка была благодарна тому, что он отошел. Она достала из сумки носовой платок.
Когда пан Теодор — а это был он — Лидочка узнала его, когда он спешил от церкви, неся глиняный горшок с водой, — вернулся, Лидочка уже была похожа на человека и даже могла смотреть на Теодора без стыда и ужаса.
Лидочка прополоскала рот и напилась родниковой ледяной воды. Потом намочила платок и вытерла себе лицо и шею. И стало хорошо — только очень хотелось спать.
По невысказанной договоренности они отошли от кладбища и сели на каменную скамью у церкви.
— Спасибо, — сказала Лидочка. — А что с Ахметом?
— Я не знаю. Этот мир — не мой мир, — ответил пан Теодор.
День был такой сверкающий, солнечный, что Лидочка впервые смогла заглянуть в глубину глазниц Теодора и увидеть, что глаза у него синие-синие.
— Нет сомнения, что Ахмет будет в тюрьме. Как я понимаю, у властей достаточно оснований к его аресту, — сказал Теодор.
— Его надо спасти! Он же из-за меня здесь оказался.
— Его нельзя спасти, — сказал Теодор. — И вместо этого вам лучше всего отсюда уйти. И как можно скорее. Из-за вас я второй раз прерываю свое путешествие и сам немалым рискую.
— Как рискуете?
— Как любой путешественник — рискую застрять в этом варианте.
Теодор сорвал веточку и отгонял назойливых мух. Почему-то в этом месте они вились вокруг людей.
Лидочка посмотрела на кладбище — крутой склон порос кустами и молодыми деревцами.
Она подняла руку. Пальцы дрожали.
— Я до сих пор перепугана, — сказала она. — Так гадко все получилось. И то, что меня вырвало…
— Пожалуй, вам повезло, — серьезно ответил Теодор.
— Ой, я бы умерла!
С Теодором можно было разговаривать откровенно — он был как близкий родственник. Она не ощущала этого ночью в гостинице, но сейчас чувство было очевидным.
— Я испытывала какую-то гордость от того, что берегу себя для Андрея, для своего мужчины… А теперь Андрея нет. Но я это берегу. Значит, для кого-то другого?
— Глупышка, — сказал Теодор. Но не осудил ее и не посмеялся. Просто он знал нечто, выходящее за пределы Лидочкиного знания.
Подул ветерок, хороший, свежий ветерок. Мухи куда-то отлетели.
— Очевидно, — сказал Теодор, потягиваясь, словно засиделся. Во рту у него была травинка, и он ее неспешно жевал, от чего порой его речь становилась невнятной. — Очевидно, когда я предупредил вас в гостинице, что вы попали в чужой мир, это было непонятно. Слишком мало было у вас информации. Но сегодня иначе. Или вы все поймете и подчинитесь мне, или останетесь здесь и будете искать свое счастье в одиночестве.
Лидочка не перебивала его — у нее был упадок сил, даже руку поднять нет возможности.
— Вы меня слушаете? Не спите еще?
— Слушаю, Теодор.
Смешное имя. Какое-то собачье. Пудель Теодор.
— Я буду краток. Подробные беседы оставим на будущее. Они обязательно состоятся как путь к овладению тайной, что сделает вас иной, чем все люди. А вы еще иной не стали. Этому надо учиться. Сегодня урок первый. Теоретический — потому что практические занятия вы проходите уже два последних месяца. И пока ничего не поняли.
— А разве это можно понять?
— Кое-что можно.
Лидочка подумала, что совсем не загорала в этом году. Раньше никогда не боялась загара, а в этом году забыла загорать. Она прислонилась спиной к теплому камню церковной стены и закрыла глаза. Голос Теодора звучал как фонограф — ненастоящий голос. Но она слушала его, не делая усилий.
— Я думаю, что, живя эти два месяца в одиночестве, вы задумывались уже, что значат эти табакерки и кто владеет ими.
Лидочка кивнула.
— Мы не мистические существа из сумеречного мира — мы такие же люди, как вы, Лидочка. Каждый из нас — давно или очень давно — получил при определенных обстоятельствах табакерку и был научен ею пользоваться. Но кто был первым, я не знаю, и те из нас, с кем я знаком, этого тоже не знают.
— А как вы меня отыскали?
— Вас нашел не я.
— А кто?
— Вы не знаете ее.
Лидочка поморщилась — она задавала неумные вопросы. В конце концов — какое ей до того дело?
— В связи с этим, — произнес Теодор, не отрывая глаз и повернув лицо к солнцу, — я мог бы сделать предложение. Не хотите ли вы, моя госпожа, сделать небольшую операцию? Совсем небольшую и не очень болезненную.
Так и не раскрыв глаз, Теодор запустил длинные сильные пальцы в верхний карман своей легкой куртки и вытащил оттуда нечто круглое, блестящее, подобное горошине.
— Зачем это? — спросила Лидочка.
Теодор лениво приоткрыл глаз и протянул горошину Лидочке.
— Назовем это локатором, — сказал он.
Горошина была маленькой, но весьма увесистой, словно сделана из золота.
— Если вы согласитесь поставить локатор, мы всегда будем знать, где вы. И будем знать, живы ли вы.
— А я могу позвать вас на помощь?
— В сущности, вы сделать этого не можете, — сказал Теодор. — Но если нужно будет найти вас — я это сделаю быстро.
— А кто будет меня искать?
— Кому надо, — ответил Теодор, отворачиваясь, чтобы подставить солнцу другую щеку.
— Значит, это поводок? — сказала Лидочка.
— Почему вы называете это поводком? — спросил Теодор. — Ведь локатор нужен только для того, чтобы отыскать вас в ином измерении.
— Я это уже слышала. Но если меня можно отыскать в другом измерении, в третьем измерении, значит, меня можно найти за углом и в моем доме. И может быть, приказать мне — иди, иди сейчас же!
— Чепуха, — сказал Теодор неубедительно. — Кому это нужно?
— Кому? А кто сделал такой красивый локатор? Вы?
— Нет.
— Но кто? Кто?
— Тот, кто сделал табакерки, — сказал Теодор.
— Вы его видели? Вы с ним разговаривали?
— Мне трудно ответить на этот вопрос. С одной стороны, можно сказать, что разговаривал. Но не видел… нет, я не видел. Сергей, может быть, видел… Вы видели когда-нибудь Бога?
— Или дьявола? — спросила Лидочка.
— Так вы, оказывается, спорщица?
— Вы лучше скажите, зачем все это? Зачем табакерки? Зачем нам дают эту приманку? Чтобы мы стали совсем чужие и нам можно было приказывать?
Теодор сел, потянулся. Он не был ни оскорблен, ни затронут Лидочкиными словами.
— Об этом думали и даже спорили люди не глупее вас, — сказал он, — но то, что вы задумались, — хорошо. Вы будете нужны.
— Кому?
— Всем нам. Как и мы будем нужны вам. Но я могу сказать с полной уверенностью: никому из нас ни разу не было приказано дурное.
— Значит, что-то было приказано?
— Приказано одно — узнавать, собирать информацию, которая умирает с каждым поколением. Узнавать правду.
— И это — цель вашей жизни?
— Я знаю цель повседневную, но не знаю высшей. Мы наблюдаем, мы фиксируем события и обстоятельства. Порой мы исполняем просьбы, пришедшие извне. Но просьбы эти не касаются больших перемен. Мы получаем просьбу уйти в будущее, в конкретное время, в конкретное место. Разрешить конкретную загадку.
— А в прошлое вы можете? — спросила Лидочка. Спросила не случайно, а потому, что надеялась на это. Если бы можно было поставить табакерку на задний ход и вернуться в 1913 год! И оказаться рядом с Андреем до начала всех событий.
— Прошлое уже совершилось, — сказал Теодор, — оно уже есть. Как можно изменить то, что уже совершилось? Вы можете обогнать время, но не можете вернуться. В прошлом вы существовали, и вам еще предстояло пережить все, что вы пережили.
— Значит, все кончено?
— Я здесь потому, что могу исправить некоторые ваши ошибки.
— Мои ошибки?
— Да. У меня есть опыт — я давно в пути, я знаю ловушки времени.
— А сколько вам лет? — Лидочка спросила как бы из вежливости. В самом деле ее это не интересовало.
— На это у нас с вами, путников времени, есть два ответа. Мне сорок шесть лет физиологически. Столько я просуществовал. Мне шестьсот сорок один год, два месяца и один день — столько я проплыл в реке времени. Не морщите свой носик, девочка. У вас тоже двойной ход времени. Вам восемнадцать с половиной лет — столько вы прожили. И двадцать один год по обычному земному счету. Вы поняли?
— Это просто, — сказала Лидочка, не открывая глаз. — Но вам слишком много лет.
— Не знаю. Жизнь проходит одинаково быстро — шестьсот лет равны тридцати. Вы поймете это лет через сто.
— Что? Я? — Тут Лидочка очнулась. — Хватит! Я ни шагу больше не сделаю. Мне нужна была табакерка, чтобы не расставаться с Андреем. Теперь возьмите ее!
— Дослушай меня. — Теодор мягко отвел руку Лидочки с выхваченной из сумки табакеркой. — Я расскажу об одном удивительном свойстве реки времени. Оно было открыто тысячи лет назад моими коллегами и, может быть, является настоящей целью нашего с вами существования.
— Но я ни при чем! Я же не просила вас!
— Наши неофиты, новые путники, тщательно выбираются и готовятся — обычно это дети путников. Тайна должна сохраняться в узких пределах. Андрей был избран для этой цели со своего рождения.
— Он отличался от обычных людей?
— Он был обычный, как вы. Но в его подготовку вмешался случай. Сначала погибли его родители…
— Они были вашими путниками?
— Да. Потом погиб Сергей Серафимович, который усыновил Андрея. Он тоже был один из нас.
— И Глаша, — сказала Лидочка.
— И Глаша.
— Но нам с Андреем табакерки достались случайно.
— Что такое случайность? Впрочем, теперь вы одна из нас. Когда вы встретитесь с Андреем…
— Я уже встретилась. — Лидочка показала на кладбище, закрытое кустами от их взоров.
— Здесь вы не можете встретиться с Андреем. Здесь он умер.
— А где-то он жив? — Лидочка вцепилась в руку Теодора — перехватило дыхание от неожиданной, дикой надежды, которая опровергала все — и реальность плиты, и окончательность смерти.
— Есть надежда, что он жив, — продолжал Теодор, глядя мимо Лидочки, поверх ее головы, в синеву неба. — Несть числа Землям и Вселенным. Пока мы существуем в своем, единственном, где нам суждено родиться, жить и умереть, мы не подозреваем, что могут быть иные миры. А эти миры есть…
— Я ничего не понимаю! Объясните же!
— Представьте себе вокзал. От платформы отходит поезд. Он движется по одному-единственному пути. Но за пределами станции от этого пути начинают отделяться другие, тупиковые. Если ты едешь по главному пути, то рано или поздно попадешь в пункт назначения. Если ты ошиблась и свернула на развилке в сторону, ты попадешь в тупик. Понимаете?
Лидочка отрицательно покачала головой.
— Представьте, что ваш поезд избрал ложный путь. Сначала вы не почувствуете разницу — ведь за окном тот же пейзаж. Те же дома и деревья. Но по мере того как пути расходятся, меняется и пейзаж за окном. И через час пути из Симферополя вы видите из окна не Джанкой, а Карасубазар.
Теодор встретился глазами с Лидочкой, но остался, похоже, неудовлетворен тем, что в них увидел.
— Пока вы жили обыкновенно, ваш путь был предначертан и исключителен. Но вот вам в руки попала табакерка. И вы приобрели способность вырваться из потока времени и нестись скорее течения. И сразу уподобились паровозу, который рискует ошибиться стрелкой.
— Но какой мир настоящий? — Лидочка начала догадываться.
— Умница! — обрадовался Теодор: видно, уже разуверился в способности Лидочки понять его. — Есть целый ряд признаков, по которым можно понять, находишься ли ты в мире основном, на главном пути, либо попала ненароком в ответвление. Главное, запомните: чем дальше расходятся колеи исходящих миров, тем больше накапливается в тупиковом мире несуразностей, нелогичностей, тем ближе он к саморазрушению. Вы не найдете отличий в первый месяц, может, даже в первый год раздельного существования, но постепенно начинают нарушаться причинно-следственные связи…
— Я попала не на тот путь? — Лидочка спросила быстро, будто опасаясь, что Теодор передумает и назовет настоящим миром тот, в котором Андрюша умер.
— В настоящем мире, когда я покидал его, — сказал Теодор, — Андрей жив и ищет вас.
— Теодор, миленький!
— Девушка, нас могут увидеть, — усмехнулся Теодор.
— Какая я дура! Как я смогла смириться с его смертью! А ведь минуту назад я в нее верила.
— Как доверчивы люди!
— Только не смейте говорить, что пошутили!
— Я не шучу.
Лидочке хотелось воскликнуть: «Ну скорей же! Полетели в настоящий мир!» — но она сдерживалась. Словно боялась сглазить.
— Мира, в котором мы с вами находимся, — произнес Теодор, — можно сказать, не существует. Происхождение его непонятно — есть мнение, что он создается человеческим воображением.
Слепень опустился на щеку Теодора и укусил его, прежде чем тот успел его согнать. Теодор хлопнул себя по щеке. Слепень избег удара.
— И слепня тоже не существует? — спросила Лидочка. Ей хотелось смеяться.
— Ни слепень, ни люди, обитающие здесь, не подозревают, что они — фантомы.
— Как мы не подозреваем, что мы — фантомы, — сказала Лидочка.
— Они мучаются, им больно, они погибают…
— А я?
— Что вы?
— А где «я» этого мира?
— Вас здесь нет. Иначе вы не могли бы здесь появиться.
— Может быть, на этом кладбище…
— Не знаю. Все может быть. Возможно, отсутствие вас и есть та стрелка, что отправила поезд в ложном направлении.
— А там тоже есть адмирал Колчак?
— Вы об этом узнаете очень скоро. Пора уходить. Этот мир опасен тем, что его разрушение может начаться в любой момент, и тогда нам отсюда не вырваться. Так уже бывало…
— Пошли же!
— Наши интересы совпадают. Мои минуты и секунды расписаны. Из-за вас я нарушил многие свои планы. Вы готовы уйти отсюда?
— Конечно! Только я не заплатила за гостиницу.
— Этой гостиницы нет!
— Как слепня, который укусил вас?
— Вы заплатите за гостиницу у себя.
— А что будет с Ахметом?
— Настоящий Ахмет — в вашем измерении. Этого Ахмета нет, он фантом, он вам кажется.
— А слепни кусаются, — повторила Лидочка. Что-то не сходилось в рассказах Теодора. Но понимание этого было за пределами ее здравого разума.
Лидочка открыла сумку. Табакерка была теплой.
— У меня все вещи в гостинице, — сказала Лидочка. — Я приеду к нам совсем раздетой.
— Купите, — сказал Теодор. — Никогда не бойтесь расставаться с вещами — это основная необходимость вашей жизни.
— Вот так, в одном платье…
Теодор засмеялся жестяным голосом. Он брал реванш за отступление в споре с Лидочкой. Лидочка повернула табакерку и спросила:
— Ставить надолго?
— Ставьте за месяц вперед. Поставили? Теперь дайте сюда, я проверю.
В какое-то мгновение Лидочка колебалась. Теодор нетерпеливо кашлянул и, угадав ход ее лихорадочных мыслей, сказал:
— Не бойтесь, не отберу и не убегу с ней. Вы не чужая — вы уже одна из нас.
Лидочка отдала ему табакерку. Он проверил, правильно ли стоит шарик.
— Ложитесь на камень, — сказал Теодор, — чтобы не удариться, когда плывете.
— А вы? Вы разве не поплывете со мной?
— Мне еще надо снять параметры этого мира и зафиксировать его. Некоторые миры, созданные на перелете, подверженные катаклизмам и нелогичным тенденциям развития, могут стать опасными основному миру. Мне потребуется дня три, чтобы разобраться, вычислить, когда и как этот побочный мир погибнет.
— Вы будете в Ялте?
— Сейчас, как только вы улетите, я поеду в Ялту. Оттуда в Москву. Надо узнать — занимает ли эта альтернатива всю Землю или только часть ее.
Лидочка кивнула:
— Тогда отдайте двенадцать рублей портье и скажите Ахмету, что я жива, но уезжаю.
— Вы упрямы как баран!
— Это мне мама говорила.
— А если Ахмета уже нет? — спросил Теодор.
— Что вы хотите сказать?
— Что его убили при попытке к бегству. Вам пора. Нажимайте!
Лидочка прижала к груди сумку и другой рукой, глядя на Теодора, нажала на шарик.
И улетела в черную зыбь и жуть времени.
Когда она очнулась, был такой же жаркий день, только Теодор исчез. А когда Лидочка прошла по кладбищу, то вместо могилы Андрея она увидела там плиту, под которой был погребен прапорщик Семенов А. И., умерший в 1906 году.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ТРАПЕЗУНДА
Глава 1
Снова март — апрель 1917 г
Буквально за два дня до Февральской революции, покончившей с монархией в России, следователь Вревский вызвал к себе служившего в Феодосии прапорщика Николая Беккера.
Дело об убийстве Сергея Серафимовича Берестова и его служанки Глафиры Браницкой не было закрыто, но после исчезновения основного подозреваемого оно пылилось на полке в железном шкафу следователя. Там же находилась еще одна синяя папка: «Дело о без вести пропавших солдатах Феодосийской крепостной артиллерийской команды Денисенко Т.И. и Борзом Б.Р.».
Не зная о причине вызова, Беккер был обеспокоен и всю предыдущую ночь не спал, уговаривая себя, что все обойдется.
В одиннадцать часов утра Беккер поднялся на второй этаж и вошел в кабинет. Там ничего не изменилось, только стены стали еще темнее да больше скопилось пыли в углах, куда не доставала щетка уборщика. За столом, у лампы под зеленым абажуром, сидел вовсе не изменившийся Александр Ионович.
При виде Беккера следователь поднялся и показал на стул, но руки не подал, что Беккер счел плохим предзнаменованием.
Вревский разглядывал Беккера с любопытством, будто отыскивая перемены в его лице. Не найдя таковых, объяснил, что вызов — пустая формальность, связанная с отъездом Вревского в Симферополь к новой должности.
Достав из покрашенного в коричневый цвет железного шкафа две синие папки, он положил их перед собой.
— Эти два дела, — сказал он, — тесно связаны.
Под его правой рукой покоилось дело об убийстве Сергея Серафимовича Берестова, под левой ладонью — дело о дезертирах.
— Все же вы утвердились во мнении, что убийцей мог быть один из моих солдат? — спросил Беккер.
— У меня нет окончательного мнения, — ответил Вревский. — Я не исключаю вины Андрея Берестова.
— Я всегда говорил вам — это исключено! Он был добрым человеком. И безобидным.
— Оставьте эти причитания для барышень, — буркнул Вревский. — Невинные не устраивают побегов.
— А вы уверены, что это побег? Я слышал, что они покончили с собой.
— Не играет роли. Они убежали, инсценировав самоубийство. Но потом их лодка попала в шторм. Шансы на то, что они остались в живых, ничтожны.
— И раз один подозреваемый избегнул вашей кары, — попытался улыбнуться Беккер, — вы ищете другого.
— Не другого — других. Пропавшие солдаты — из вашей команды. Они притом ваши земляки. Одного из них затем находят убитым. Рядом — пустая шкатулка Берестова. Как мне не подозревать!
— Но при чем тут я?
— А разве я вас уже обвинил?
— Вы меня вызвали сюда.
— Из любопытства. Только из любопытства. Допустим, что все же убийцы и грабители были солдаты. Откуда они узнали о ценностях? О шкатулке?
— Не знаю.
— А я думаю, что от человека, близкого к Берестову. Или к его родственникам.
— Вот и ищите, — сказал Беккер с раздражением. — Могу предложить версию.
— Пожалуйста.
— Один из солдат был любовником служанки Берестова. И она с ним поделилась тайной.
— Вы не знали эту женщину?
— Нет.
— То-то и видно… А можно я предложу версию?
— Я весь внимание.
— Берестов поделился тайной со своим гимназическим другом Беккером. А у Беккера стесненное денежное положение. Беккер готов на все!
— Александр Ионович!
— Это же только предположение. Но если было так, то я вам сочувствую.
— Почему?
— Потому что вы не получили никаких денег. Ваши сообщники вас надули. Это бывает в уголовном мире.
— Простите, Александр Ионович, я хотел бы узнать, с какой целью меня вызвали из Феодосии?
— Только чтобы поставить вас в известность о закрытии дела, которое вас касается. Дела о сбежавших солдатах. Вот и все…
Через неделю, оказавшись в Ялте, Беккер увидел, как толпа громит здание городского суда.
В первые дни революции по всей России прокатилась волна расправ с полицейскими, нападений на полицейские участки и тюрьмы. А так как старые власти в Ялте не оказывали революции никакого сопротивления, следовало предпринять какой-нибудь революционный шаг, оставить в воспоминание потомкам решительное действие, которое войдет в учебники истории. Таким действием и стало взятие городского суда.
Вовремя присоединившийся к толпе Беккер смог пройти в кабинет срочно уехавшего в Симферополь следователя и отыскать у него в столе две синие папки.
Переехав в Севастополь, Коля взял папки с собой.
С того дня, сначала незаметно, по сантиметрам, а потом все очевиднее, рельсы истории принялись разбегаться. Но на этот раз все наши герои оказались в основном потоке времени.
В двадцатых числах марта Фридрих Платтен, швейцарский социалист, человек солидный, вхожий в германское посольство, подписал с Германией письменное соглашение, по которому германская сторона брала на себя обязательство провезти русских революционеров через свою территорию. В условиях соглашения был ряд любопытных пунктов, о которых в свое время не распространялись. Враги социалистов — потому, что их не знали, а сами социалисты — потому, что не хотели огласки. В соглашении говорилось, что едут все желающие, независимо от их взглядов на войну. В их вагон не имеет права входить ни один германский чиновник или военный без разрешения Платтена. Никакого контроля, никакой проверки багажа — если русские и везут бомбы, они смогут воспользоваться ими лишь по ту сторону границы. Социалисты обязуются добыть в обмен за себя несколько германских пленных… Последний пункт превращал соглашение в сделку скорее гуманного, чем политического характера. Был он лжив — никто не верил, что вот-вот из-за горизонта покажутся «пикельхельмы» германских собратьев!
Но германцы, соблазненные дьяволом революции, господином Ганецким, уверовали в то, что эти большевики скоро развалят русское государство — тогда можно будет взять украинские степи голыми руками.
Ганецкий не обманул. Прежде чем рухнуть, германская империя без всякой пользы для себя сожрала половину России.
Переговоры шли в Берне, а большинство эмигрантов обитало в более добром, уютном Цюрихе. Когда из Берлина телеграфировали, что протокол подписан, Владимир Ильич бросился в комнату, начал кидать в чемодан вещи и говорить Надежде Константиновне:
— Первым же поездом! Посмотри расписание, когда ближайший поезд на Берн.
До ближайшего поезда оставалось всего два часа.
— Поезжай один, я приеду завтра, — уговаривала Владимира Ильича Крупская. Но он был неумолим — он требовал совместного отъезда и, как всегда, победил. За час сорок три минуты Ульяновы сложили книги и нехитрое имущество, уничтожили все компрометирующие письма. Переоделись. Владимир Ильич сбегал в библиотеку и по дороге даже успел купить библиотекарше небольшой букетик тюльпанов, не пожалев на это трех минут и двух почти последних франков. Надежда Константиновна за это время расплатилась с хозяином Камерером, вместе с ним проверила, все ли в порядке в оставляемой квартире, снесла вниз часть вещей — остальные стащил сам Владимир Ильич, а потом побежал искать извозчика.
Первым же поездом Ульяновы успели в Берн. Там, в Народном доме, уже собрались их друзья и знакомые — Зиновьевы, Усиевичи, нервная и привлекательная Инесса Арманд, буйный Мартов, упрямый Дан, Ольга Равич, Харитонов, Розенблюм, Абрамович из Шо-де-Фон и просто Абрамович, Бойцов, Миха Цхакая, Сокольников, Радек — светила социалистической мысли, бунтари, заговорщики, мечтатели… Всего их было тридцать человек, если не считать четырехлетнего кудрявого сына одной женщины, принадлежавшей к еврейской партии Бунд. Мальчика звали Робертом, он полюбил Сокольникова и больше никого не хотел слушаться.
Вагон был первого класса: к русским социалистам немцы приставили хороших поваров, которые кормили сытно, как мало кто из них питался в последнее время.
— Это тебе, Ильич, не глухонемой швед, — смеялся Зиновьев, который знал о несбывшихся планах Владимира Ильича поехать через Германию под видом глухонемого скандинава.
И Ленин согласился, что тот, отвергнутый, план был авантюрен — любая случайность, проговорка, ошибка могли привести к аресту. А вдруг Ильича приняли бы за английского шпиона?
Все смеялись над такой возможностью, и Радек даже нарисовал карикатуру — на фоне Кельнского собора два дюжих немецких агента ведут согбенного Ленина в тюрьму, а на груди у него табличка: «Агент коварного Альбиона».
Ленин подолгу стоял у окна. На чистеньких перронах небольших станций, возле чистеньких домов столь милой его сердцу Германии были видны только старики или инвалиды — война уже подскребла последние остатки мужчин. Даже в полях трудились женщины и дети, Германия была близка к концу своих сил, своего терпения, и Ленин, не зная еще, что ждет его дома, начал размышлять о революции в Германии — революция легче всего поднимается именно там, где терпение народа находится на крайнем пределе.
31 марта тридцать товарищей были в Стокгольме. Это была нейтральная земля — главная и самая опасная часть путешествия была завершена. До России оставался буквально один шаг. В Стокгольме русских товарищей встретили шведские коллеги.
Их привели в зал, украшенный красными знаменами. Там состоялся небольшой митинг, респектабельный и соответствующий характеру аудитории и гостей.
Некоторое время, пока Петроград и Стокгольм обменивались телеграммами, эмигранты томились в Швеции. Временное правительство не пожелало впустить в Россию двух человек из тридцати. Въезд был запрещен Платтену и Радеку как иностранным подданным.
Потом была Финляндия — родные, шатучие, старенькие, пропахшие потом, водкой, колбасой вагоны третьего класса. Так закончилось воскресенье, 2 апреля, начало пасхальной недели. Солдаты, ехавшие в вагоне, угощали мальчика Роберта куличом.
Миновали Выборг — до Питера оставалось несколько часов. Вагон заполнился народом, большей частью солдатами и мешочниками. За окнами, на платформах финских станций, стояли безоружные русские солдаты — видно было, что армия рассыпается.
Усиевич высунулся в окно и закричал:
— Да здравствует мировая революция!
Солдаты на перроне не успели сообразить, что кричит этот странный барин, и проводили его удивленными взглядами. Владимир Ильич сцепился с бледным поручиком, сторонником войны до победного конца. Они так громко и горячо спорили, что вокруг собралась толпа солдат и мешочников — всем хотелось послушать ученых людей.
На этот раз не было ни повара, ни официантов — хорошо, что в Стокгольме шведские социалисты снабдили товарищей колбасой, булками и другим, давно не виданным в России провиантом. Эмигранты разделились на группы и уничтожали припасы. Вагон наполнился дразнящим ароматом иностранной пищи, что отделило эмигрантов от своих, местных.
К Териокам успели подчистить все, собрали вещи и прилипли к окнам — шли дачные места, многие здесь когда-то жили летом, купались в чистой Маркизовой луже и рыбачили. Дачи в Куоккале выглядывали из-за заслонов сосен — вокруг них не было заборов — только полоски дикого камня.
Перед станцией Белоостров рельсы разбежались. Там, на платформе, стояла кучка людей в пальто и шляпах — с залива дул свежий ветер, они ждали давно и сильно замерзли.
Было уже темно, Мария Ильинична бегала вдоль состава, выкрикивая: «Володя! Володя! Где Ульянов, товарищи?» Усиевич закричал из окна:
— Мы здесь! Идите сюда!
Вагоны были не освещены, и люди угадывали друг друга только по голосам.
Встречающие влезли в поезд и прошли в нужный вагон. Ильич выбежал к переходному тамбуру и обнял сестру. Он прослезился. Все были рады — трудно было поверить, что товарищи смогли прорваться сквозь страшные опасности путешествия через Германию.
— Трудно поверить! — восклицал Шляпников.
— Нас арестуют? — тихо спросил Владимир Ильич, увлекая сестру в сторону, в пустой закуток кондуктора. — Нас обязательно арестуют.
— Не думаю, — авторитетно ответила Мария Ильинична.
Шел к концу понедельник, 3 апреля. На площади перед Финляндским вокзалом собралось немало народа: революция испытывала острый дефицит в лидерах — слишком быстро они возвышались и бывали низвергнуты толпой, готовой к эйфории и разочарованиям. На этот раз приехали самые настоящие, самые непримиримые вожди — Мартов, Ульянов, Зиновьев, Цхакая и другие, согласившиеся на долгое изгнание, но отказавшиеся от компромисса с царским режимом.
Когда поезд медленно остановился, почти упершись трубой паровоза в белое с желтым железнодорожно-готическое двухэтажное строение вокзала, солдаты и мешочники из первых вагонов устремились вперед и буквально смели депутацию, которая пришла встречать коллег.
Лишь когда толпа схлынула, большевик Чугунов, знавший Ленина по школе в Лонжюмо, отыскал Владимира Ильича, окруженного товарищами по путешествию.
Он начал совать ему в руки картонную книжечку, и Ульянов, не сообразив, отталкивал книжечку, полагая, что от него требуют автограф.
— Разрешите! — закричал Чугунов, так что люди вокруг замолчали. — Разрешите вам, товарищ Ульянов, вручить партийный билет Выборгской организации нашей партии под номером шестьсот! Шестьсот! — повторил он. — Шестьсот, — словно эта цифра имела магическое значение.
В зале вокзала, куда ввалились шумной, веселой, гудящей толпой приезжие, было пусто. У дверей уже стояли караулы. Некоторые из эмигрантов почувствовали холодок в груди — это было похоже на арест.
Но из небольшой группы людей в центре плохо освещенного зала отделился господин в черном пальто с бархатным воротником. Он снял котелок и пошел навстречу приехавшим.
— Я рад приветствовать возвращение на родину наших признанных борцов за свободу! — хрипло воскликнул он. В речи оратора чувствовался кавказский акцент.
Речь председателя Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов грузинского социалиста Чхеидзе была короткой и соответствовала моменту. Ленин, который не выносил Чхеидзе со времен партийного раскола, вертел головой, отмечая все мелочи, столь привычные уже петроградцам, но новые, на его цепкий взгляд. И то, что караул был вооружен и хорошо одет, но без погон, и то, что женщины в Петрограде следят за европейской модой, и то, как осунулся и постарел Чхеидзе…
— Что там, на площади? — обернулся Ленин к Чугунову. — Вы собрали людей?
— Там несколько сотен человек.
— Говорить буду я.
— Но не все пришли встречать вас, — ответил наивный Чугунов, который не сделает карьеры в партии и государстве. — Здесь же сам Мартов!
Ленин покосился на Мартова, который уже мотал седеющей гривой, ожидая, когда сможет достойно и красиво ответить на приветствие Чхеидзе.
— Спасибо! — громко сказал Ульянов, как только Чхеидзе закончил речь. Он протянул ему руку. — Еще раз спасибо.
Торжество Мартова было скомкано. И еще более скомкано, когда Ленин сказал:
— Дела партийные и советские никуда не денутся. А нас ждет народ.
Он показал вперед, на арку, ведущую из вокзала на площадь.
Это было совершенно не по-товарищески по отношению к Чхеидзе, который поздно вечером, не жалея своего времени, приехал встречать эмигрантов, это было не по-товарищески по отношению к остальным эмигрантам, не менее известным в народе, чем Ульянов. Но пора женевских и цюрихских дискуссий кончилась. Все как дети, повторил мысленно Ленин полюбившийся глупый стишок из эсеровской газеты, все как дети, день так розов, ночи нет…
Широкими быстрыми шагами Ленин пересек зал — один по гулким плитам, — вышел, сопровождаемый догнавшими его большевиками, на ступени вокзала, — морской прожектор, привезенный из Кронштадта, ударил ему в лицо, и фигурки на ступенях вокзала приобрели особое, высвеченное значение.
— Выше! — сказал Ленин. — Я не могу говорить отсюда — меня не видно.
— Мы приготовили автомобиль, — сказал Чугунов. — Товарищ Керенский всегда выступает с автомобиля.
— Чепуха. Автомобиль недостаточно высок, — сказал Ленин. — Это чей броневик? Не враждебный?
— Прислан Советом для охраны, — сказал Чугунов.
— Вот оттуда я и скажу речь!
— Ну что вы, Владимир Ильич, вы же ушибетесь, — сказал Чугунов.
— Володя, ты обязательно упадешь, — сказала Мария Ильинична.
— Пускай говорит Сокольников. Он моложе и крепче, — сказала Инесса Арманд.
Владимир Ильич только отмахнулся от них. Все они — друзья, родственники, близкие люди — оставались еще во вчерашнем дне — в эмиграции, в пути, в теоретических дебатах. Лишь Ленин увидел в темной, уставшей от ожидания, но ждущей все же толпе ту силу, которую только он может схватить и держать в кулаке, — тогда он непобедим. Разожмешь кулак на минуту — она вырвется и сожрет тебя. И это понимание, это чувство толпы делало его сильнее всех, кто окружал его или противостоял ему.
И когда Ленин полез на броневик, ему стали помогать — в нем была сила. И он сказал свою речь!
Совсем уж ночью Ленин побывал в особняке любовницы Великих князей, очаровательной коренастой балерины Кшесинской, где располагался штаб его партии. Ему принесли чаю в чашке, которой столь недавно касались пальцы любовника балерины. Здесь собрались функционеры партии, некоторые ворчали — слишком поздно. Они еще не привыкли к тому, что революция не знает времени суток.
Рано утром, переночевав у сестры, а вернее, проведя остаток ночи за разговорами, Ленин, сопровождаемый женой и Марией, поехал на Волково кладбище.
Там он стоял, ежился, ни с кем не говорил, ни на кого не смотрел — перед могилами мамы и сестры Оли. Родные умерли без него — он не смог даже проститься с ними, и, как человек буржуазный, твердых семейных устоев, Ленин чувствовал себя глубоко виноватым перед мамой и Оленькой. Он не пытался безмолвно оправдываться перед ними, но скорбел о нелепости жизни, которая разрывает связи между самыми родными и доверчиво близкими людьми. И он искренне жалел, что мама так и не смогла дожить до этих дней — и не смогла оказаться на исчерченной лучами прожекторов площади перед Финляндским вокзалом, где он смело выхватил всю честь и славу встречи у своих соперников. Мамочка умерла, удрученная и униженная хождениями по равнодушным и тупым высоким инстанциям, умоляя за жизнь брата, потом за его, Володину, свободу… Она бы еще жила и жила, если бы не эти Романовы, если бы не гнусная машина, созданная ими, если бы не отвратительная азиатчина России. Сегодня ночью, стоя на броневике и видя под собой запрокинутые синие во тьме лица сотен людей, он понял, что сделал еще один шаг к отмщению.
— Спи, мама, — прошептал Владимир Ильич, — спи, Оленька.
Он высморкался и медленно пошел с кладбища. Надя догнала его, взяла под руку. С другой стороны шла Маша. И так случился миг, когда никто более не нужен, когда мир смыкается.
Извозчик ждал у ворот — вчера Мария Ильинична передала Володе небольшую сумму из партийной кассы, и они смогли позволить себе раскатывать на извозчике.
Владимир Ильич помог взобраться в пролетку жене и сестре, потом уселся сам.
— Это тебе не броневик, — пошутила Мария, и Владимир Ильич не рассердился, а рассеянно улыбнулся.
— Куда ехать, барин? — спросил извозчик.
— На Херсонскую? — Ленин сомневался, правильно ли он помнит адрес Бонч-Бруевича.
— Херсонская, три, — сказала Мария Ильинична.
Вынырнув из потока времени, Андрей очутился в том же узком проходе между зданием комендатуры и высоким каменным забором. Дул страшный ветер, стонали и хрипели почти невидимые в рассветной мгле деревья. Окна везде были потушены, и такое было ощущение, что во всем городе — ни души.
«Может, и к лучшему, — подумал Андрей, — что я очутился здесь на рассвете, — по крайней мере есть время осмотреться».
И тут же его охватило беспокойство за Лидочку — как она там, плывет ли еще в потоке времени или уже ждет на набережной?
Стоять на месте было холодно, да и нетерпение не давало оставаться недвижным. Андрей поднял воротник студенческой тужурки — стало чуть теплее — и осторожно пошел в сторону судебного здания. Во дворе он остановился, глядя на темные окна второго этажа и выискивая глазами кабинет Вревского. Не преуспев в этом, Андрей обогнул здание суда и через полуоткрытые ворота вышел на улицу.
Там было темно — единственный в поле зрения фонарь на перекрестке. Второй, тусклый, в разбитом колпаке, еле светил над входом в суд. Прибитая к двери белая картонка привлекла внимание Андрея. Ему с чего-то вдруг показалось, что это — объявление о поиске и вознаграждении за его голову. Факт того, что он отсутствовал на этом свете более двух лет, не вмещался в сознание.
Кривыми буквами на картонке было выведено:
ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТЪ
СОЛДАТСКИХ И РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВЪ
Картонка частично закрывала стеклянную вывеску «Городской суд», угол которой был отбит.
Во всем в этом была несуразность — кто посмел разбить вывеску, кто посмел наклеить на нее какую-то нелепую картонку о «совете»? Кто с кем советуется? Рабочие с солдатами?
Порыв ветра с моря заставил Андрея поежиться — где же спрятаться? Он пошевелил пальцами в карманах и понял, что у него нет с собой ни копейки, ни бумажки — ничего. Все отобрано при обыске, когда его сажали в камеру. Он как бы не существует. Не ко Вревскому же идти с жалобой — отдайте мой студенческий билет и двадцать рублей, что были в него вложены!
Под утро каждый город являет собой наиболее пустынное зрелище. Даже припозднившиеся гуляки уже добрались до дому. А первые дворники и торговцы, что съезжаются на базар, еще не поднялись.
Андрей быстро пошел вниз к набережной, припрыгивая, чтобы согреться. Никто не встретился ему. Постепенно светало.
Глупость положения заключалась в том, что Андрей не мог сунуться даже в ночлежку, потому что у него не было ни гроша.
Андрей пошел быстрым шагом, хотя быстрый шаг не согревал — ветер выдувал все тепло, что набирало тело от движения, надеясь отыскать какую-нибудь шаланду или пароходик, где можно спрятаться. Опыта у Андрея по этой части никакого не было, а холод мешал сосредоточиться и придумать выход. Может быть, отправиться в полицейский участок и заявить, что тебя обокрали? Ты студент из Петрограда, приехал на лечение и вот — такая незадача — ни копейки… Пока будут разбираться, можно выспаться. В плане обнаружился недостаток: в разгар этого душещипательного разговора открывается дверь, и входит Вревский, впрочем, достаточно одного из полицейских, которые знают Берестова в лицо. Нет, план этот слишком рискованный. Попасть в тюрьму, из которой с такими приключениями убежал, может лишь существо весьма глупое.
Набережная была пуста. Здесь было светлее, чем в городе. Можно гасить фонари.
Андрей пошел еще быстрее, чтобы не думать о пронизывающем ветре, и тут впереди увидел выходящих на набережную трех солдат — все трое с винтовками за плечами. Андрей еще толком не разглядел их, но уже всей шкурой почувствовал — это патруль. Патрулю холодно и скучно, и он, конечно же, остановит студента.
Андрей тут же свернул в дверь — дверь была не заперта. За ней был черный неосвещенный вестибюль. А куда дальше — неизвестно. Андрей нащупал рукой правую стену и пошел вдоль нее, ощущая пальцами шершавость масляной краски. Вот впадина, ниша — это еще одна дверь, дверь заперта. Снова стена…
Сзади хлопнула входная дверь.
— Эй, где ты? — послышалось оттуда. Значит, они увидели, куда он скрылся.
Сзади загорелся ручной фонарь.
В эти мгновения руки и ноги Андрея действовали самостоятельно, как у зайца, которого со всех сторон обложили волки.
Андрей забрался под лестницу, в тесное пространство, куда хозяева или жильцы дома втискивали, по русскому обычаю, то, что уже никогда никому не пригодится, а выкидывать жалко; там стояли старые сундуки с тряпьем.
Солдаты потоптались у входа, водя лучом фонаря по подъезду, не уверенные, безвреден беглец или крайне опасен и вот-вот выстрелит из револьвера. В конце концов осторожность победила, и патруль ушел, а Андрей понял, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Он оказался загнан в сухое, относительно теплое место, и, устроив гнездо в тряпках, Андрей проспал часа три до тех пор, пока начавшийся день не заставил многочисленных и шумных жильцов этого подъезда выскочить на лестницу и начать беготню и свары над головой Андрея. Андрей вылез из-под лестницы и тут же столкнулся нос к носу с юной девушкой, которая шла с ведром воды. Девица вылила ведро ему под ноги и завопила, словно увидела дракона.
Когда же Андрей, подгоняемый криком, вылетел из подъезда и, движимый инстинктом самосохранения, нырнул в подворотню, он встретился с двумя грузчиками, что несли громадное зеркало в резной раме. Андрея они не заметили, зато он целую секунду мог глазеть на себя. Он не закричал и не убежал подобно той пугливой девице, потому что был смелым и выдержанным мужчиной. Он попытался вжаться в стенку, чтобы его не заметило страшное ночное существо, вурдалак, покрытый густым слоем паутины, тянувшейся за ним белыми кисейными хвостами, лестничной пылью, скрывавшей черты лица и руки, с волосами, стоявшими вертикально и цветом своим и общим видом схожими с громадным куском пакли.
Андрей в ужасе зажмурился, а когда через секунду открыл глаза вновь, то грузчики с зеркалом уже миновали его, и Андрею ничего не оставалось, как поверить в то, что чудовище — не кто иной, как он сам.
Андрей кинулся следом за грузчиками, которые уже внесли зеркало в черный ход гостиницы «Мариано» — там было в тот момент пустынно. Андрей огляделся и, на счастье, увидал то, о чем и мечтать не смел, — туалетную комнату для служебного персонала гостиницы, не только с писсуаром, но и умывальником, возле которого висело вафельное полотенце и лежал обмылок.
С помощью этих предметов, а также расчески Андрей за какие-нибудь две минуты смог привести себя в видимость порядка и, когда вышел вновь во двор, вдруг сообразил, что светит солнце, стало тепло и жизнь замечательна, но зверски хочется жрать.
Несмотря на мытье и чистку, Андрей все равно выглядел сомнительно, и гулять по набережной ему не следовало. Проблемы еды, убежища, тепла оставались — даже газету купить было не на что. Правда, с газетой тут же образовалось — он увидел край газеты, торчащий из урны, и вытащил ее, подумав, как быстро человек, становясь нищим, теряет обычную стеснительность, ограничивающую жизнь добропорядочного обывателя. Сколько раз Андрею приходилось удивляться тому, как нагло ведут себя босяки, а сейчас он понял, что куда ближе к бродягам, чем к законопослушным ялтинцам.
Газета от 17 апреля 1917 года, судя по бумаге, была относительно свежей — только неясно, вчерашней или ранее. Дело в том, что урна в сквере была туго набита мусором, мусор даже вываливался из нее. Значит, и на самом деле произошли пертурбации, так как при пертурбациях у нас первым делом перестают убирать улицы.
Характер пертурбаций, название которым было «революция», Андрей вскоре извлек из газеты, которая сообщала о дебатах в Петроградском Совете, решениях Временного правительства, приезде в столицу вождей эсдеков Мартова и Ульянова, о митинге у Финляндского вокзала. Тут же следовал комментарий редактора «Таврии», в котором тот убедительно доказывал, что Ульянов и его присные были пропущены через Германию германским правительством, потому что они существуют на немецкие деньги для того, чтоб разорить Россию, а затем передать ее немцам. Но самое ужасное: война еще продолжалась и военные действия происходили как во Франции, так и в Прибалтике.
Миллионы человек сидели в окопах, погибали, страдали от ран, мучились простудой и вшами. О судьбе Николая и царского семейства в газете не сообщалось — так что Андрей не знал, жив ли император или, может быть, его уже обезглавили, как гражданина Людовика Капета.
Странно это было — только вчера Андрей жил, вернее, сидел в тюрьме, в государстве невероятно прочном, тысячелетнем, как Рим, и вечном. Убегая от Вревского, Андрей с Лидочкой вовсе не думали, что такое государство может рухнуть или в нем может произойти настоящая революция.
И вот нет этого вечного государства…
А Андрей, не изменившись, не проживши более дня, оказался вовсе в иной эпохе. Теперь он должен найти здесь Лидочку и попытаться с ней вместе начать какую-то жизнь. Но как искать, если… И только тут Андрей осознал весь ужас события: ведь она, вернее всего, уже год как здесь! И совсем одна! Андрей опоздал на год! Собирался прыгнуть на два года вперед…
Об этом Андрей подумал, уже стоя на набережной так, чтобы держать в виду древний платан. Дерево еще только распускалось. Листья, легкие, изрезанные, были нежного, салатного цвета.
Андрей понял, что офицеры, идущие по набережной — видно, большей частью выздоравливающие из госпиталей, — выглядели необычно и бедно.
Потом он сообразил: офицеры были без погон. Погоны были сняты совсем недавно, даже материя на плечах мундиров и шинелей была темнее.
Революция.
Солдаты не отдавали офицерам чести — это тоже понимаешь не сразу. Сначала чувствуешь неладное, потом решаешь, что солдат просто задумался и сейчас получит выговор. Но офицер отворачивается, морщится, делает вид, что ничего не произошло, что так и надо.
…Лидочка стольким рисковала, пронося табакерку для Андрея! Но почему ты думаешь, что она решилась последовать твоему примеру?
Ведь в плавании по времени есть одна особенность — его можно отложить. Отложить на любой срок. Потому что жалко оставить папу и маму, жалко расстаться с друзьями, которых, может, и не увидишь через два или три года. Всякое бывает. Почему ты должен плыть один, в неизвестности, во тьме, когда это же путешествие можно совершить со своими близкими и друзьями. Что могло заставить Лидочку кинуть все, чтобы не расставаться с Андрюшей? И имеет ли он, Андрей, моральное право требовать от другого человека подобной преданности? Да, проще всего представить себе, что Лидочка решит ждать Андрея в нормальной скорости бытия. И так прошел год, второй — и природа взяла свое. Лидочка встретила другого человека, может быть, более достойного, чем неудавшийся студент и уголовный преступник. И вышла за него замуж. И не исключено, что Андрюша сейчас увидит Лидочку на набережной — один ребенок в коляске, второй семенит, держась ручонкой за край юбки. А рядом выхаживает следователь Вревский… нет, это слишком гадко — Лидочка не пойдет на такое. Рядом идет Коля Беккер — вот это вполне возможно!
Незаметно для себя Андрей начал сердиться на Лидочку, словно она уже совершила все те поступки, которые Андрей ей приписал. Он уже ревновал ее к Коле Беккеру. Тут он себя оборвал — нельзя же так плохо думать о людях!
Свернув газету в трубочку, Андрей смело пошел по набережной, не зная, куда идет, и забыв о безопасности, — в голове было пусто и легко, — и это ощущение, вернее всего, проистекало от голода.
Разумеется, у платана Лидочки не было. В любом варианте ее не могло там быть. Сейчас еще утро — в такое время не ходят на свидания.
Андрей решил было пойти домой к Иваницким. Пускай Лидочка все сама расскажет. Он пошел к армянской церкви, но тут же спохватился, сообразил, что если Лидочка последовала за ним и ее еще нет в Ялте, — каким он покажется ее родителям? Конечно, самое разумное сейчас поехать в Симферополь к Марии Павловне, но нищему до Симферополя далеко, как до Луны.
Утро превращалось в теплый ветреный день, такой весенний, что хотелось сходить с ума, бегать за собаками, прыгать с обрыва вниз… Делать все, что нельзя. Наверное, все настоящие революции должны происходить только весной. Рожденные в такие дни, они вызваны к жизни добрыми, животворящими чувствами. К чему хорошему может привести революция, происшедшая посреди лета в самую жару, как во Франции в 1789 году? Допустима ли революция осенью, в ноябре, когда идет дождь или дождь со снегом и мокрые листья превращаются под ногами в слизь? Такая революция вызовет к жизни людей угрюмых, готовых угнетать своих ближних — только чтобы удержаться на своих холодных сумеречных тронах. Нет, осенняя революция немыслима! А что касается русской революции, начавшейся на переломе к марту, можно сказать только, что она поспешила, ей бы подождать, пока кончатся ночные заморозки и прилетят певчие птицы. А то в ней останется внутренняя зябкость и неустроенность для бездомных людей.
Размышляя так, Андрей взбирался в гору. Позади остались парки, примыкающие к набережной, виллы, что скрываются среди кипарисов и чье присутствие выдают лишь каменные ворота в стиле модерн. Остались позади и улички двухэтажных каменных домиков с шумными внутренними дворами либо маленькие пансионаты, которые растянулись на сотни миль по всем берегам Черного и Средиземного морей — от Батуми до Гибралтара, где утром горстка небогатых постояльцев встречается за скучным завтраком, а вечером за невкусным обедом. И ночью, обнимая своего возлюбленного, подруга горячо шепчет ему на ухо: «Уедем! Уедем немедленно из этой дыры! Здесь больше существовать нельзя!»
Выше пошли улички татарских домов, без окон наружу — за дувалами, сложенными из камня. Над дувалами видны вершины фруктовых деревьев, а порой через каменную изгородь свесится виноградная, пока еще даже без листьев, лоза.
Андрей долго не мог отыскать нужный дом, хотя, казалось, дорога к нему два дня назад была проста — ведь никуда не сворачивали. Потом остановился в гнутом, без окон и домов, переулке, словно в траншее, пробитой каким-то землеройным насекомым, и постарался сообразить — ведь был он здесь два с половиной года назад, осенью, вечером. Представь, голубчик, как это могло выглядеть осенним вечером?
Деревянная калитка в доме, к которому направился после некоторого раздумья Андрей, открылась, будто его там ждали.
В калитке стоял, почесывая босыми пальцами одной ноги икру другой, юноша — Андрей сразу его узнал: ведь видел его подростком всего два дня назад. Это был ялтинский родственник Ахмета, который приносил им тогда фрукты и напиток.
— Добрый день, — сказал Андрей.
— Добрый день, — как эхо, только тоном выше, подхватил юноша.
— Я ищу Ахмета Керимова, — сказал Андрей.
Юноша ничего не ответил, а отвел взгляд в сторону, будто его заинтересовали голуби, опустившиеся на забор.
— Вы меня слышите? — сказал Андрей. — Я ищу моего друга, Ахмета Керимова. Я друг Ахмета Керимова. — Андрей готов был говорить по складам, чтобы вбить слова в упрямую голову юноши. — Мне нужно видеть Ахмета. У меня к нему важное дело.
— Что такое? — раздался голос из глубины двора. Спрашивали по-татарски. Андрей отлично понимал и говорил по-татарски. Как и Коля Беккер. Татары в Ялте были глубоко убеждены, что русские их языка не знают — то ли не способны, то ли им не дал такого счастья Аллах. И им странно даже допустить, что в том же Симферополе татары и русские, одинаково небогатые, живут рядом в одинаковых скромных домах и вместе играют и учатся. Ведь на Южном берегу Крыма русские — это большей частью отдыхающие или болезненные люди. И их дети, конечно же, не играют с татарами.
— Тут пришел человек, — ответил юноша.
— Зачем пришел?
— Хочет видеть дядю.
— Откуда пришел?
Рядом с юношей в проеме показался пожилой татарин, который щелкал орешки. Его лицо тоже было знакомо Андрею. Он холодно смотрел на Андрея, который поклонился ему.
— Простите, — сказал Андрей все так же по-русски. — Я был в этом доме давно, осенью четырнадцатого года. Мы приезжали сюда, к Ахмету. Ахмет мой друг. Потом приехала полиция, нас схватили и увезли. Но Ахмет убежал. Вы помните?
— А что тебе нужно? — лениво спросил пожилой татарин.
— Мне нужен Ахмет Керимов.
— Я не знаю такого человека, — сказал пожилой татарин. Но калитку они не закрывали. Хотели послушать, что еще скажет Андрей.
— Я убежал из полиции, — сказал Андрей. — Я давний друг Ахмета. Я был у него в доме в Симферополе.
— Странный человек, — сказал юноша по-татарски, глядя мимо Андрея. — Ему сказали, а он не понимает. Это нехорошо.
— Вы мне не доверяете, — сказал Андрей. — Может быть, вы правы. Но тогда позвольте мне написать письмо для Ахмета. Когда он придет к вам, вы дадите ему мое письмо.
— Я не знаю Ахмета, — сказал пожилой татарин.
— Но вы возьмете мое письмо?
— Я не возьму письмо, — сказал татарин и ушел внутрь двора.
— У вас есть бумага и карандаш? — спросил Андрей.
— Откуда в нашем бедном доме карандаш и бумага? — спросил юноша.
— К сожалению, у меня сейчас нет денег, — сказал Андрей. — Дайте мне взаймы лист бумаги. Потом я верну.
— Пускай пишет, — донесся голос изнутри. — Проведи его на айван, пускай пишет.
Андрей тут же сделал движение вперед и этим удивил юношу.
— Ты куда? — спросил тот.
— Я хочу пройти на айван, — сказал Андрей по-татарски, — чтобы ты принес мне карандаш и бумагу и я написал письмо твоему дяде Ахмету.
— Что? — Юноша был потрясен.
— Сколько тебе говорить? — Андрей отстранил его.
Юноша молча шел следом.
На галерее Андрей увидел низкий столик. Женщины, что выбивали ковры, быстро ушли со двора, прикрывая лица платками, но смотрели на Андрея заинтересованно и весело. Он отметил, что внутрь дома его не пригласили.
Пожилой татарин встал в отдалении.
— Вы желаете есть? Или пить? — спросил он.
— Спасибо, я выпью катыш. — Андрей решил, что к кумысу принесут лепешку.
Он написал записку Ахмету. В ней сообщил, что приехал в Ялту. Ждет Лидочку. Хотел бы видеть Ахмета. Что он придет за ответом завтра.
Когда он кончил писать, юноша принес поднос с оловянным кувшином с кумысом и лепешку на тарелке.
Из-за занавески, прикрывавшей вход в дом, был слышен женский смех. Малыш на толстых, перетянутых ниточками ножках приковылял на веранду и замер в изумлении перед зрелищем настоящего чужого человека. Он протянул руку к блестящей пуговице на тужурке Андрея.
Андрей старался пить кумыс медленно, чтобы съесть побольше лепешки, не показавшись голодным, — из-за занавесок за ним наблюдали.
Пожилой татарин кончил читать записку, передал ее юноше, который унес ее в дом.
— Может быть, Ахмет завтра придет, — сказал пожилой татарин. — Может, не придет. Тебе есть где жить?
— Я еще не знаю, — сказал Андрей.
— Мы не можем оставить тебя здесь. За этим домом могут следить.
— Даже сейчас?
— Может быть. Тебе нужны деньги, эффенди?
— Я буду благодарен вам, — сказал Андрей.
Татарин протянул Андрею двадцать пять рублей. На устах императора Александра II блуждала загадочная улыбка.
— Я тебя помню, — сказал татарин. — Ты Берестов. Андрей. Ты убил своего отчима и его женщину.
— Это придумали. Я никого не убивал.
— Ахмет тоже так думает. Значит, я тоже так думаю. Завтра приходи вечером, когда темно, и не приведи за собой никого.
— Хорошо, — сказал Андрей.
Обретенная вера в человечество, подкрепленная кумысом, лепешкой и двадцатью пятью рублями, сразу изменила краски мира на куда более радужные. В конце концов, все складывается отлично. Татары узнали его и оказались людьми порядочными, и Ахмет, разумеется, скоро появится. Впрочем, при таких деньгах мы — миллионеры! Денег должно хватить до Симферополя — до тети Маруси.
Андрей понял: вот чего он хочет более всего — увидеть тетю, посидеть с ней за чаем в низенькой комнатке в Глухом переулке, а потом заснуть на своей железной койке с шарами на спинках, из которой он давно вырос, но так привык поджимать ноги, что поджимает их и на вольных диванах.
— Значит — в Симферополь! А пока хорошо бы взглянуть на дом Берестовых.
Андрей поднимался по улице к дому отчима, не таясь и, в общем, не опасаясь нежеланной встречи. Он был здесь чужой.
Осознание собственной чужеродности пришло не сразу — только сейчас, когда большая часть дня уже миновала.
В Андрее все более накапливалось реальное осознание прошедшего времени. Оно складывалось из малых деталей — из того, как вырос татарский мальчик, превратившийся за несколько минут в юношу, из того, как облупилась краска на новеньком вчера фасаде гостиницы «Крым», как изменились — сказочно и невероятно — газеты и те новости, что они сообщали. Как изменилось все — подчеркивая этим, что совсем не изменился Андрей. И не только осталась царапина на тыльной стороне кисти, не только не постарела кожа лица — не одряхлела одежда. Нельзя же носить студенческую тужурку два с половиной года и вовсе ее не износить! Нельзя же — Андрею даже стало на секунду смешно — не менять столько времени нижнего белья и не заметить такого конфуза. Люди вокруг за это время сменили множество носков и панталон. Все, за исключением Андрея Берестова. И, вернее всего, Лидии.
Почему человек, думал Андрей, карабкаясь в гору и отступая к каменной подпорной стенке, чтобы пропустить громоздкий грузовик — такого он в четырнадцатом году и не видал, — так привыкает к тому, что должно бы вызвать в его душе переворот. Почему он идет по городу Ялте уже после революции, как Рип Ван Винкль, проснувшийся после многолетнего сна, но не падает в обморок, а лишь отмечает, как счетовод: грузовик совсем другой, юбки стали по крайней мере на пядь короче, и непривычному к такому зрелищу Андрею хочется деликатно отвернуться от девицы, которая топает ему навстречу, заголив ноги почти до колен.
…А вот и дом Берестовых.
Вот кто изменился за эти годы — родной, несчастный, такой невезучий дом. В нем новый хозяин — интересно, у кого они купили этот дом? У Андрея Берестова — нет, он преступник, значит, у Марии Павловны — но ее могли и не признать наследницей, — может быть, виллу откупила Ялтинская управа? Впрочем, тебя, Андрей, это не касается.
Андрей остановился у невысокой каменной изгороди. Новый хозяин почему-то выкорчевал розарий и гибридные яблони — все свободное место он засадил виноградом: получилась целая плантация.
Андрею захотелось поглядеть на нового хозяина, который так глуп, что срубил яблони и розарий, давшие бы ему куда больший доход. Но хозяина он так и не увидел — зато во двор вышла хозяйка, очень толстая гречанка или армянка со множеством детей. Они суетились вокруг нее, как муравьи вокруг скарабея.
«А она спит в моей комнатке, — подумал Андрей, — а может, там спят сразу трое ее детишек? А что же они сделали с мебелью? Продали, вот что сделали!..»
Андрей, не оборачиваясь, пошел прочь от дома, расстроенный более чем когда-либо за этот день, потому что он воочию увидел, что сделало время с дорогим для него местом, — и тут же уколола злость на Лидочку — не утащила бы она его сюда, он, может быть, что-нибудь сделал бы с домом, спас его.
Ему не хотелось сейчас думать о том, что он сидел бы в тюрьме. Как можно думать о тюрьме, если ты идешь по весенней улице?
Несмотря на укол злости, а может, благодаря ему, Андрей вместо того, чтобы сразу идти к линейкам, вдруг побежал к армянской церкви. Чтобы случайно не встретить кого-нибудь из Иваницких, он выбрал путь задами, к садику дома, где стоит беседка, в которой Лидочка с Хачиком когда-то ждали его.
Уже начало вечереть — весеннее солнце опустилось в пышную подушку облаков. Сразу похолодало. Андрей уверенно добрался до последнего забора и, прежде чем перелезть через него, заглянул внутрь. И увидел, что в окне Лидочки уже зажегся свет, — там мальчик, который поставил лампу на стол, склонился и что-то пишет. А в саду, приведенном в порядок и подметенном, бегают сразу трое мальчиков.
— Молодой человек, — окликнул одного из бегающих мальчиков Андрей.
Откликнулись сразу все — три схожие физиономии обратились к нему.
— Здесь Иваницкие живут? — спросил Андрей, показывая на второй этаж дома.
— Здесь мы живем, — строго сказал мальчик.
— А как ваша фамилия?
— Мы Гидасповы, — сказал старший мальчик.
— А где же Иваницкие? — спросил Андрей.
— А Иваницкие живут в Одессе.
— И давно они живут в Одессе?
— А мы не знаем, — взял на себя инициативу младший брат, — мы приехали, а они уже уехали.
— Так откуда же ты знаешь, что они в Одессе?
— Так все говорят! — обрадованно сообщил средний брат.
— И Лидочка?
— Кто?
— Дочка у них, Лидочка, — сказал Андрей, понимая, какую глупость он несет, — откуда детям знать про Лидочку.
— Нету у них дочки, — сообщил старший брат. — Утонула она. В море. Это страшная трагедия.
— Они покинули Ялту, чтобы не видеть этих страшных мест, — сказал младший.
И по словам, и по интонации Андрей понял, что мальчики буквально цитируют слова взрослых — те, что они слышали тысячу раз. Он так и представил себе: пришли очередные гости, садятся за самовар, а мама Гидаспова или папа Гидаспов говорят: «А знаете, кто жил здесь раньше? Нет? Это же удивительная, трагическая история! Страшная трагедия…»
— Спасибо, — сказал Андрей мальчикам. — Идите домой, а то замерзнете.
— А мы лучше знаем, — ответил строго старший.
На поездку в Симферополь пришлось выложить почти все деньги — только и осталось, чтобы перекусить на площади перед автобусом. Автобус вроде был тем же самым, что ходил здесь в начале войны, но был ободран и помят, словно приходился братом-неряхой пай-автобусу.
Автобус был набит. Настолько, что Андрей простоял до Алушты на одной ноге между сдвинутыми в бастион мешками и крепостными стенами чемоданов. И народ в автобусе изменился — куда-то делись отдыхающие, люди воспитанные, чисто одетые и в основном добродушные. Зато возникла и наполнила автобус малороссийская чернь, громкоголосая и агрессивная, появились и цепкие, голодные, ободранные жители грязных городков Донбасса и южной России.
Да и кондуктор за прошедшие годы приспособился к новым людям и новым нравам. Он ловко карабкался по баррикадам, кричал и ругался, как торговка на базаре.
Путешествие оказалось страшно утомительным, и, когда, уже в темноте, под мелким моросящим дождиком, добрались до Симферополя, Андрей оперся о стену дома, чтобы кровь снова потекла по венам. Последний час он даже сидел, но на одной его коленке разместилась половина бравого казака, а на второй — бидон с медом.
Отдышавшись, Андрей пошел к себе домой.
Вечер скрывал изменения в Симферополе, даже если они и были значительны. Тем более что фонарей на улицах осталось немного — в каждую революцию фонарям достается прежде всего.
Над губернаторским домом висели красные флаги, и у освещенного входа, несмотря на поздний час, стояли солдаты с винтовками.
К входу подъехал автомобиль с глядевшим назад пулеметом на заднем сиденье. В автомобиле рядом с шоффэром сидела некрасивая худая женщина с прямыми, коротко постриженными волосами. Она легко соскочила на тротуар. Женщина была в кавалерийской шинели, которая достигала земли, и полы ее развевались на ходу.
Показавшийся на пороге губернаторского дома пожилой сухой человек в пенсне сказал с прибалтийским акцентом:
— Товарищ Островская, это никуда не годится. Ни вас, ни мотора — с утра! Нам же выезжать!
— Товарищ Гавен! — залепетала Островская. — Я была в типографии. Вы же знаете ситуацию.
Они вошли вдвоем в дом, и солдат отдал им честь. Оживленно разговаривая, скрылись в здании.
Это был совсем другой мир — словно он, Андрюша, был французским матросом, ушедшим в плавание за год до Великой революции, и вернулся прямо на Гревскую площадь, чтобы увидать казнь Людовика и обнимающихся Дантона и Робеспьера.
Андрей остался бы здесь поглядеть на этот новый мир, но он так устал, что решил отложить знакомство с революцией на завтра. А сейчас объятия Марии Павловны — и спать, спать, спать…
Но здесь его постигло горькое разочарование.
Дом был заперт, причем замок даже проржавел. Андрей стучал, потом пытался сломать замок, но тщетно.
Он так обессилел, что, не добившись ничего, сел на каменную тумбу возле своих ворот. Там его и увидела Нина Беккер, которая возвращалась домой из Думы, где служила теперь машинисткой.
Она отпрянула, увидев черную фигуру, сидящую у соседних ворот, — чуть было не убежала. Но потом угадала Андрея.
— Андрей Сергеевич, — сказала она, — неужели это вы?
— Нина! Здравствуй. Что случилось? Где Мария Павловна?
— Пошли ко мне, — сказала Нина, — пошли скорее, ты же простудишься, тут очень холодно.
— Где тетя, скажи мне, в конце концов!
— Тети твоей нет, ты извини меня, но я ничем не могла помочь, я даже не знала. Она сразу умерла, очень легко, почти не мучилась, честное слово, Андрей Сергеевич.
— Какой я тебе Андрей Сергеевич! — вдруг озлился Андрей. — Мы с тобой одногодки были.
— Да, конечно, вы меня извините, Андрей Сергеевич, но прошло столько времени, столько лет…
— Да, конечно, — сказал Андрей. — Значит, моя тетя умерла?
— В прошлом году, Андрей Сергеевич.
— От сердца?
— У нее была грудная жаба. Но она совсем не мучилась.
— Спасибо. А где ключ? Или кто-то живет?
— Нет, что вы, никто не живет! А ключ знаете где? Ключ в бывшем полицейском участке. Это теперь государственная стража, милиция. Но вам туда нельзя ходить, пошли лучше к нам, я теперь совсем одна, я вас в Колиной комнате устрою и все расскажу. А второй ключ у меня есть. Мария Павловна будто знала, что вы зайдете.
И Андрей понял, что Нина права. Это был все же родной дом и Нина — родная душа.
Нина вскипятила воды, налила цинковую ванну, чтобы Андрей помылся с дороги. И он не отказался. А пока она готовила ванну, он пил чай за столом, накрытым ради его приезда белой застиранной скатертью, и закусывал чай сухим печеньем, хотя предпочел бы, чтобы Ниночка сварила ему котел картошки. И чай был скуден, и сухарики, и Нина была худа, бледна и бесцветна. А в доме все углы были темными, и в них таились тени вековой бедности и ожидания перемен. Именно здесь, слыша, но не слушая, как говорит, говорит, говорит Нина, Андрей вдруг глубоко, как никогда раньше, понял Колю Беккера, его постоянное стремление вырваться из этого мира пыльных привидений и летучих мышей, от которых остался только неслышный шум крыльев. Коля не мог убить этот мир, потому что он был частью его, и он носил его постоянно — а как трудно было поддерживать в белоснежной чистоте белый костюм и светлую улыбку, когда за ночь пыль разъедает и материю, и душу. Если бы Андрей попал сюда — всю жизнь посвятил бы, чтобы убежать и вытащить отсюда Нину… а получилось, что дом этот, как гиря, тянул назад и темные углы втягивали живых — маму, отца, пленили Нину и чуть было не заключили в камеру с паутинными решетками самого Колю, навсегда испуганного этим домом, ненавидящим его, как можно ненавидеть посланного небом идиота-сына, которого и убить нельзя, иначе кого же тогда любить?
— Андрюша, ты меня слушаешь?
— Слушаю, Нина, слушаю.
— Утром соседка постучалась в окно и видит — Мария Павловна лежит на кровати, не раздеваясь, — видно, прилегла на минутку. А лицо у нее такое спокойное и совершенно умиротворенное. Она не мучилась, а встретила смерть смиренно, как подобает христианке, и слышала пение ангелов…
Оказывается, когда Мария Павловна совсем разболелась и почувствовала, что ее смерть близка, она написала завещание, в котором передавала все свое небольшое имущество, а главное — дом, Андрею Берестову. И никто до его возвращения не должен был входить в дом или что-нибудь в нем менять. Завещание это было воспринято скептически, потому что никто не верил в возвращение Андрея. Но оспаривать его не стали — у тети не было других наследников, да и наследство ничего не стоило. Правда, ключ от дома пришлось передать в полицию, потому что Андрей продолжал оставаться в бегах. Если он возвратится, то должен будет получить ключ в полицейском участке.
Потом Мария Павловна призвала к себе Нину и отдала ей вторые ключи от ворот и дома для Андрея, чтобы, вернувшись, Андрей мог без помощи полиции прийти в свой дом…
Нина достала ключи из нижнего ящика комода, где хранила их под бельем, но сейчас, когда уже стемнело, не было смысла идти к себе домой. Дом промерз за зиму, там холодно и темно. А свечу не зажжешь — сразу заметят соседи и могут позвать полицию. Так что визит домой лучше перенести на утро. На чем и порешили.
Нина рассказала, что Коля переехал в Севастополь, — оттуда он написал ей поздравление ко дню ангела, но обратного адреса не оставил, потому что находится на секретной службе. Андрей улыбнулся — он понял, что Коле просто не хотелось, чтобы Ниночка нагрянула к нему — наверное, он своим коллегам и товарищам рассказал, что его сестра — баронесса ослепительной красоты, а теперь не желал, чтобы объявилась эта баронесса в потертом мамином салопе.
Сидеть здесь весь вечер и слушать скучные рассказы Нины Андрей был не в силах. Он сказал, что пойдет погулять.
— Я с тобой, — сразу сказала Нина.
— Нет, — возразил Андрей. — Если меня кто-нибудь узнает, то придется убегать, а ты не умеешь бегать.
— Но мы погуляем здесь, подальше от центра.
— Именно в центре мне и хотелось побывать.
Нина замолчала. Ее никогда не приглашали гулять, она привыкла к этому, но все равно каждый раз обижалась.
— Шла бы ты в монастырь, — не очень деликатно сказал Андрей, натягивая тужурку. — Там и дело, и забота, и не скучно.
— Мне нельзя, — возразила Нина, — у меня хозяйство, дом. К тому же я замуж пойду. Я буду хорошей хозяйкой, не веришь?
— Верю.
Провожая, Нина умоляла Андрея, чтобы он не ходил темными переулками — там грабят. Она даже стала рассказывать, кого и когда ограбили, но Андрей уже не слушал.
Он оглянулся от угла — Нина стояла у ворот и смотрела ему вслед. Господи, подумал Андрей, до чего же ей одиноко!
Фонарей в городе стало втрое меньше, да и те, что были, горели плохо. Прохожих было мало — и только мужчины. На Пушкинской, у витрины — Андрей запомнил этот момент — ему вдруг стало страшно в этом чужом обреченном городе, и он поспешил обратно.
Нина ждала его за калиткой. Вернее всего, она так и простояла за калиткой те полтора часа, что Андрей гулял. Увидав вопрос в глазах Андрея, она быстро сказала:
— Прости. Мне стало так скучно, что я вышла тебя встретить. Минуту назад.
Она шла рядом с ним, говоря монотонным высоким голосом:
— Знаешь, Андрюшенька, когда я обыкновенно живу, приду со службы и от усталости буквально валюсь — нарочно так, чтобы не скакать. А сегодня ты приехал и сидел, чай пил, а я поняла, что завтра ты уедешь, и такое одиночество на меня напало, ты просто не представляешь.
— Представляю, — искренне сказал Андрей. — Тебе замуж пора.
— Ох, кто меня возьмет, я же некрасивая, — сказала Ниночка. — Сам же мне монастырь предлагал. Я понимаю.
— Это неправда, — сказал Андрей почти убежденно, — для того чтобы выйти замуж, быть счастливой и сделать счастливым другого человека… — Андрей перевел дух, словно говорил с амвона перед онемевшей аудиторией старых дев, — не нужна яркая красота. А ты привлекательная и умеешь вести дом…
— Я всю жизнь мечтала о горничной, я ненавижу мыть пол. Кто мыл пол, тот никогда не станет богатым.
— Прекрати эти пустые речи! — сказал Андрей. — Я тебе даю слово, что ты еще найдешь свое счастье. Вот посмотри, я сам не такой уж красивый, а ведь не расстраиваюсь.
— Вот и возьми меня замуж, — сказала громко Нина, и после длинной неловкой паузы она покраснела, пальцами стала поправлять завязки пелерины и сказала: — Ты только не воображай, что я серьезно, я просто тебя поймала на лжи. Ты солгал мне.
— Нет, — сказал Андрей, — я не лгал. Но мое сердце обещано другой девушке. Я не могу ее обмануть.
— И где же она? — спросила Нина со злостью. С такой неожиданной злостью, что Андрей, не понимая, против кого она направлена, осекся. Потом сказал:
— Вот если у нас с ней не получится, я приеду к тебе и женюсь.
— Слово? — спросила Нина.
— Слово, — сказал Андрей.
Они вернулись в скрипучий паутинный дом.
Ниночка достала чистое белье и постелила Андрею в комнате Коли. Они говорили о разных людях — больше о тех, кого уже нет, — так получилось, что вокруг обоих была пустота. Но если Андрей мог увидеть и понять одиночество Нины — оно было на виду, на глазах, то Нина многого не знала об Андрее. И разговаривала с ним как со старшим — а Андрей уже стал моложе ее.
Нина спала в маминой комнате.
Андрей сел на Колину кровать, узкую и скрипучую, и увидел, какой толстый слой пыли на письменном столе и какая густая паутина в углу комнаты. Он хотел было сказать Нине, что если ее и не возьмут замуж, то из-за этой паутины и пыли, но потом подумал — она обидится. Ведь она думает, что эта пыль и запущенность от бедности.
— Я хотела сдавать, — сказала Нина из-за перегородки — Андрей уже погасил лампу у себя, дверь в соседнюю комнату была открыта, и была видна длинная тень Нины, которая ходила там, раздевалась, что-то еще делала, порой заглядывала в комнату к Андрею. — Сейчас в Симферополе довольно много приезжих — с севера едут, тут теплее и сытнее, можно сдать, но как-то даже на вокзале предложила одной паре — милые такие люди, но им не понравилось: они сказали, что представляли все каким-то горным, южным, а здесь почти подвал. Больше я не сдавала, не предлагала. Впрочем, мне много не нужно — на хлеб хватает, и Бог с ним… — Последние слова звучали совсем уж по-старушечьи.
Андрей ничего не сказал.
— Ну что ж, будем спать, — промолвила Нина. Заскрипели пружины ее кровати. Потом, как шуршание бумаги, — ее шепот — она молилась.
За окном было синее небо и на нем — как нарисованная — луна. Точно такой же вид был и из его окна — окна их выходили в одну сторону.
«Вот сейчас в соседней комнате лежит девушка, которая мучается от того, что она одинока, и никто не хочет ее обнять, целовать, сделать женой. И может быть, она даже ждет, что я приду к ней, — ведь она оставила дверь открытой. А совсем недавно я сам мучился — я хотел, чтобы меня целовала Глаша, — и Глаши нет давным-давно. У меня еще не зажила царапина на пальце, а Глаша уже превратилась в прах».
Заскрипела кровать в соседней комнате.
— Ты не спишь, Андрюша? — спросила Нина.
Андрей не хотел было отвечать, а потом подумал, что этим он может обидеть Нину.
— Нет, не сплю, — сказал он.
— А какая она, твоя девушка? Я ее знаю? Она здешняя?
— Нет, она из Ялты.
— Коля мне говорил о ней?
— Может быть. — Андрей не стал спорить, но он знал, что Коля никогда не делился с сестрой своими тайнами. И относился к ней снисходительно, а порой и с презрением.
— Ты любишь ее как женщину или платонически?
— По-разному, — сказал Андрей. — Когда как…
— А вы были… вы были с ней близки?
— Нет, — сказал Андрей и удивился собственному ответу — об этом он не думал.
— Если ты был близок с другой девушкой, ты бы ей не изменил?
— Не знаю, — сказал Андрей.
Кровать Нины заскрипела резко, как будто она подпрыгнула на ней. Но тут же зашлепали шаги — оказывается, Нина пошла на кухню. И слышно было, как журчит вода, — она наливала себе из чайника.
— Ты хочешь пить? — спросила Нина громко.
— Спасибо.
— Так принести или нет?
— Спасибо, принеси.
Нина вошла, подобная привидению. Нечто белое, высокое, грациозно плывущее в воздухе, чуть касаясь земли.
Она была в одной рубашке. Волосы были распущены.
Луч лунного света, упавший на нее, высветил голубизну лица и ослепительно вспыхнул в стакане с водой.
Андрей привстал — неловко принимать от дамы воду лежа, если ты не болен, но, привстав, он замер, так как понял, что совсем обнажен и его движение может быть неправильно истолковано.
Нина присела на край кровати, и жидкие пружины сжались так, что Андрей съехал к краю, навалившись бедрами на Нину, но та словно не заметила этого и, наклонившись, подложила ладонь под затылок Андрея, приподняла его голову, чтобы удобнее было пить, — от этого движения висок Андрея коснулся ее груди — от Нины исходил такой жгучий жар, что Андрею почудилось: вода сейчас окажется горячей. Но вода была прохладной.
— Пей, — шептала Нина, — пей, мой милый…
И в шепоте было столько страсти, словно Андрей пил не воду, а амброзию, после чего должен кинуться в вакхические пляски…
Парадокс этой сцены был в том, что Андрей даже в горячей, шипучей темноте отлично знал, что на постели, прижимаясь к нему бедром и грудью, сидит сестра Коли, существо некрасивое, доброе и обделенное жизнью. Он отлично понимал, что Нина ждет от него ласки, что ей страшно и одиноко в этом пыльном паучьем доме, но Андрей не мог соответствовать ей.
— Ты напился? — спросила Нина.
— Спасибо.
Нина молчала. Андрей слышал, как она дышит, — легко, но часто, как собака, учуявшая хозяина.
— А ты Колю давно видела? — спросил Андрей.
— Он в Севастополе, — сказала Нина. — Он поступил во флот.
— Это очень интересно, — сонно сказал Андрей.
Он со вкусом потянулся в постели — пружины взвизгнули от такого насилия.
— Ну, спокойной ночи, — сказал он.
— Спокойной ночи, — печально сказала Нина.
Андрей стал уже засыпать. Завтра с утра надо пойти в свой дом, может быть, там есть какие-нибудь вести от тети Маруси или от Лидочки. Тетя Маруся с ее любовью к письмам наверняка оставила ему весточку. И Андрей даже знал — где. В правом ящике его письменного стола. Как всегда. Об этом только они с тетей Марусей знали… И что же, она больше не напишет?..
Мысли покатились куда-то с горки… Но тут кровать вздрогнула, Андрей чуть не свалился — так резко вскочила Нина.
— Я тебя ненавижу! — закричала она.
Андрей рывком сел на кровати, не совсем соображая, что произошло.
— За что? — глупо спросил он.
— Как ты смел… как ты смел захрапеть?
Нина рыдала в той комнате, но Андрей не решился ее утешать.
Когда Андрей проснулся, его взгляд упал на вершины тех же тополей, что росли и перед его окном. Но он спал не дома, а в комнате Коли Беккера, и ночью случилась глупая история с Ниной, и та на него обиделась. Наверное, она права, потому что, окажись на ее месте красивая девушка, он вел бы себя иначе.
Андрей спустил ноги на пол и встал, стараясь не шуметь.
Затем быстро оделся и прошел в большую комнату. Там было пусто. Дверь в маленькую комнатку, где спала Нина, была открыта. Кровать ее измята, не убрана, но Нины не видно.
Андрей обошел весь домик — благо там негде было спрятаться. Никаких следов Нины. Какая-то тайна «Марии Целесты». Андрей прошел на кухню. Чайник был холодный. Часы с маятником в большой комнате прохрипели восемь раз. На вешалке в прихожей было несколько разных пальто, плащей, накидок различной степени ветхости.
Тогда Андрей пришел к выводу, что Нина побежала с утра на базар, чтобы что-нибудь купить гостю на завтрак. Неизвестно было, сколько ждать хозяйку, и Андрей, умывшись, решил, что, пока суд да дело, он сходит к себе. Он взял ключ со стола и натянул тужурку.
Выйдя из калитки, он посмотрел в обе стороны вдоль переулка, не желая, чтобы его увидели, — Бог его знает, какие указания дал Вревский на подобный случай. Переулок был пуст, заборы высоки, и вряд ли кто увидит его из окна.
Андрей вошел в калитку своего дворика. Здесь следовало быть осторожнее, потому что в этот же двор выходили окна соседнего дома. Но терять нечего — и Андрей быстро прошел к чуть покосившейся двери. Рука с трудом повернула ключ в заржавевшем замке. Андрей потянул дверь на себя, она нехотя открылась, и изнутри дома повеяло подвальным сырым холодом.
В прихожей было темно, и влажный холод отбил знакомый запах дома.
Андрей вошел в маленькую гостиную. Здесь было еще холоднее, чем в прихожей. Стол был без скатерти — темный и сырой, зеркало запотело — наверное, из-за того, что сквозь щели в окнах в зимний мертвый дом начал проникать весенний теплый воздух.
Вещей стало куда меньше — видно, многое из мелочей добрые соседки разобрали по домам. Андрей заглянул в комнату тети — ее кровать была аккуратно заправлена, но не так, как это делала тетя Маня. Андрею стало больно. Наверное, потому, что кровать — это самое свое. И если ее заправили не так, как привычно, значит, тебя уже нет окончательно.
Андрей стоял, глядел на тетину кровать и плакал. Он сам не замечал, что плачет. Он, наверное, лет пять уже не плакал. А тут заплакал. Только когда слеза покатилась по щеке и капнула на руку, Андрей понял, что плачет, и перестал плакать.
Надо взять с собой тетину фотографию — где же альбом? Вот он, под зеркалом в большом ящике вместе с девичьими дневниками тети, которые она вела лет сорок. Альбом распух от фотографий-визиток толстых дам и суровых чиновников, групповых и семейных снимков на картонных паспарту со множеством медалей на обороте над именем и адресом фотографа.
Андрею жаль было оставлять альбом здесь, в холоде и сиротстве. Но взять его с собой он не мог. Андрей перелистал его и отобрал две фотографии тети Мани — девичью и взрослую в пенсне, а также снимок матери, неудачный, расплывчатый. Почему-то мать не любила фотографироваться, или, может быть, фотографии ее остались у Сергея Серафимовича? Почему мы ни о чем не думаем вовремя? Где их теперь искать?
Была ли в альбоме фотография отца, Андрей не знал. Об отце в доме не говорили.
Закрыв альбом, Андрей хотел было положить его обратно, но тут из него выпала фотография-визитка Сергея Серафимовича, будто просила забрать и ее. На визитке Сергей Серафимович был куда благообразнее и глаже, чем в жизни.
Андрей огляделся и вдруг понял, что больше он сюда никогда не попадет. И тогда дом показался ему схожим с тонущим кораблем. И прежде чем волны времени поглотят его окончательно, требуется спасти с него самое необходимое.
Осознав это, Андрей поспешил в прихожую, вытащил с низких антресолей старый чемодан и, открыв его посреди комнаты, стал складывать в него вещи, которым нельзя было умирать.
Первым в чемодане оказался альбом, потом любимые тетины подсвечники, некоторые книги и старые тетрадки Андрея. Андрей открывал ящики столов и комода, он укладывал в чемодан, почти не глядя, лишь самое ценное — и чемодан распух так, что потом пришлось сесть на него, чтобы запереть.
Отдельно Андрей взял пакет, ожидавший его в нижнем правом ящике стола. На пакете было написано: «Андрюше в собственные руки». Там были письма от тети Маруси — она, оказывается, два года писала Андрюше, раз в неделю, глубоко убежденная, что Андрюшу, когда он вернется, будут интересовать новости Глухого переулка и некоторых других мест города Симферополя. Но о Лидочке в письмах не было ни слова. Лежали там немногочисленные «ценные бумаги» тети Маруси и облигации военного займа.
Там было завещание тети Маруси, завернутое и выправленное по всем правилам. По нему Андрей становился наследником всего ее имущества. И что трогательно, в пакете было новое портмоне, как бы напутствие молодому человеку, а также наличные деньги, более ста рублей пятерками и трешками, а в отдельном кармашке даже мелочь — все предусмотрела дорогая тетя.
Андрей не стал задерживаться в Симферополе. Лидочки здесь не было. Он отволок чемодан к Нине и оставил его с запиской — просьбой сохранить.
Обратно в Ялту Андрей поехал на извозчике с ночевкой в Бахчисарае.
К Ялте подъезжали в сумерках. Извозчик перестал рассуждать, тоже уморился — ему приходилось многократно слезать и идти рядом с лошадью, помогая ей.
Вокруг щебетали миллионы птиц, празднуя весну, жужжали первые насекомые — будто и тут бушевала революция.
На всей дороге встретилось лишь две маленькие деревни да усадьба лесника, который вышел к ним, узнал извозчика, поздоровался. Они поделились с лесником табаком, лошадь отдыхала, лесник говорил, что здесь еще недавно была банда, «ваша, татарская», но вроде бы милиция третьего дня их прогнала.
Они поехали дальше — скоро должна была быть яйла, оттуда начнется спуск к Ялте. Полдень уже миновал.
Лошадь совсем уморилась. Андрей сошел с пролетки и шагал рядом, тем более что было приятно вдыхать морской воздух.
С горы скатывались серые быстрые облака, которые скользили по вершинам деревьев.
Когда впереди, на очередном повороте Андрей увидел двух всадников, они показались порождением тумана, столь неподвижны и неслышны они были.
Но татарин-возчик сразу начал осаживать лошадь и заговорил, словно обращался к языческим богам, обитающим тут. Он твердил, что у него ничего нет и у пассажира ничего нет, что можно все карманы показать, но всадники не двигались и ничего не отвечали.
Один из всадников соскочил на дорогу и быстро подошел к повозке. Он был в военной одежде без погон.
Андрей узнал его, когда он подошел к самой пролетке, улыбнулся и сказал:
— Подвинься, чего расселся, граф Монте-Кристо!
Затем Ахмет впрыгнул в пролетку и крикнул возчику по-татарски:
— Гони, друг! Тебе повезло, что встретил Ахмета Справедливого!
Возчик изобразил неестественную радость по поводу этого события. Пролетка тронулась, а второй всадник с лошадью Ахмета на поводу поехал сзади.
— Ну, ты совсем не изменился, покойничек! — сказал Ахмет. — Совсем такой же.
— А ты возмужал, — сказал Андрей.
— Правильная формулировка, — сказал Ахмет.
Он отпустил усы, на голове у него была низко сидящая небольшая каракулевая папаха, в углах глаз и губ обнаружились первые морщинки — возможно, не от возраста, а от жизни на свежем воздухе, под ветром и дождем.
— Мне сказали, что ты приходил, — сказал Ахмет. — Только я не смог в тот же день тебя найти. Занят был. Не сердись.
— За что я могу на тебя сердиться? — Андрей был рад, что увидел Ахмета и тот тоже обрадовался.
— Ты в глубине души думаешь, что, когда ты, белая кость и голубая кровь, свистнешь, татарские мальчишки должны бежать с кувшинами мыть тебе ноги, — не отрицай, не спорь! Я люблю страдать от унижений.
— Как ты меня нашел?
— Мне вчера сказали, что ты отправился в Симферополь. Я послал туда телеграмму, и мне ответили, что утром тебя видели у Марии Павловны в доме.
— Я все забываю, что мы живем в двадцатом веке.
— А где ты пропадал столько времени?
— Далеко, — сказал Андрей. — Потом расскажу.
— А как Лидочка?
— Она должна сюда приехать. Я буду ждать. Только я не знаю точно, когда она приедет.
— Вряд ли тебе разумно ждать на виду у всех. Обвинений с тебя никто не снимал.
— Знаю, Ахмет. Наверное, мне следует пожить в деревне неподалеку от Ялты. Ты сможешь достать квартиру? Деньги у меня есть.
— Деньги — не проблема, — сказал Ахмет. — Мы, разбойники, их не считаем и храним в пещере в сундуках. Слышал, наверное?
— С каких пор ты разбойник?
— Я тебя сейчас в мою сторожку отвезу, — сказал Ахмет. — Есть у меня в лесу под Ялтой такое убежище.
Они ехали по яйле, свежий ветер пригибал молодую траву, небо стало громадным. Скоро начнется спуск к Ялте.
— Но мне надо каждый день приходить на место встречи с Лидочкой. Я думаю, что она со дня на день должна здесь появиться.
— Если разок не придешь, я своего аскера пришлю.
— А что расскажешь о себе? — спросил Андрей.
— Тебя в самом деле интересует, чем я занимаюсь?
— Ты мне предложил пожить с тобой. Я тебе благодарен, но могу же знать — кто ты, мой хозяин, кто твои друзья и враги. Ведь мне достаются и те и другие.
— Разумно. Тогда слушай. Никакой я не бандит. И не убийца. Но власти меня не любят. Любые власти.
— А кто же тебя любит?
— Мои люди.
— Это очень похоже на бандита. Самого обыкновенного, — сказал Андрей. — Даже Робин Гуда любило хотя бы местное население.
— Вот именно, — обрадовался Ахмет. — Я забыл, как его звали, а спрашивать неудобно. Я — Робин Гуд Ялтинский.
Пролетка резво покатилась по вьющейся в сосновом лесу дороге к Ялте.
— Продолжай, — сказал Андрей, хватаясь за край разогнавшейся пролетки, чтобы не свалиться под откос.
— Я борец за свободу, — сказал Ахмет, — и не смейся! Я ушел в лес, чтобы добиваться справедливости, чтобы вернуть Крым тем, кто его всегда населял.
— Сарматам или скифам? — спросил Андрей.
— Твоя острота попала мимо цели, — сказал Ахмет. Он не смотрел на Андрея — глядел вперед, говорил тихо, медленно, словно подстраиваясь под мерный скрип колес. — Во мне течет скифская и сарматская кровь. Во мне есть кровь греков и турок — я не знаю, из какого сплава Аллах выковал мой народ, но мы недаром не раз и не два брали штурмом твою Москву.
— А теперь ты хочешь взять штурмом Симферополь?
— Я не сержусь на тебя, Андрей, — сказал Ахмет, — потому что ты мой друг.
— А когда захватишь власть, поставишь меня к стенке!
— Мы никого не хотим ставить к стенке. Мы хотим только своей власти на своей земле, своей религии, своего права.
— Кто тебе запрещает ходить в мечеть?
— Мне не надо запрещать или разрешать. Это решаю я сам.
— Мне кажется, все это несерьезно.
— Ты провел эти годы где-то в холодильнике! — возмутился наконец Ахмет. — Неужели ты не видишь, что ваша дряхлая Римская империя разваливается?! Это же, как говорил Лермонтов, страна рабов, страна господ. В ней не только сильный и богатый угнетает слабого, но и один избранный судьбой народ измывается над прочими, малыми народами! И этому пришел конец. Завтра империи не будет.
— Значит, ты собрал отряд Робин оглы Гуда и отправился освобождать свою страну?
— Мой отряд — не единственный. Мы — зародыш будущей армии. Судьбу страны решит народ, Учредительное собрание.
— И здесь тоже Учредительное собрание? Может, и хана подыщете?
— Андрей, я знаю, что ты не хочешь меня обижать, но ты все время обижаешь, потому что ты русский и тебе вроде бы можно иметь все то, чего другие не имеют. И потом спрашивать так, свысока: «А зачем тебе свобода, бедный ребенок?»
— А зачем? — упрямо повторил Андрей. — Раньше тобой правили из Петербурга, издалека, а вместо господ далеких вы хотите посадить себе на шею своих, местных — так они будут похуже петербургских. Поглупее.
— С этим тоже можно поспорить, — сказал Ахмет. — У нас общая история, общий язык, главное — общая вера. А тебе я напомню — зачем вы, русские, устраивали битву на Куликовом поле? Хотели вместо господ далеких, ордынских, посадить себе на шею своих?
— Все, сдаюсь! — засмеялся Андрей. — Ты победил меня формальной логикой. По тебе Сорбонна плачет.
— Мы будем посылать наших детей в Сорбонну, — сказал Ахмет.
С каждой минутой воздух становился теплее и влажнее. Пахло морем. Все чаще на дороге встречались прохожие, большей частью татары из деревень, что были расположены вдоль дороги и над Ялтой, где разводили виноград и пасли овец.
— Ты думаешь, что судьба империи тревожна? — спросил Андрей.
— Я уверен. Ты не представляешь, что творится в других местах. Я знаю, что Грузия и Армения готовы отложиться, что независимости требуют Польша и Финляндия, Эстляндия и Курляндия.
— Бред какой-то! — в сердцах воскликнул Андрей. — Эстляндская республика! Ты знаешь, я не шовинист и не черносотенец, но скажи, пожалуйста, чем будет заниматься Эстляндская республика? Молоко в Петроград на продажу возить?
Но получилось не смешно, потому что Ахмет не поддержал Андрея, а Андрей вдруг понял непоправимую истину: Ахмет стал старше его. На три года старше. Еще вчера они были одногодки, а теперь, оказывается, Ахмет прожил почти три года лишних. Прожил в спорах, может быть, лишениях и опасностях…
— Ты в тюрьме сидел? — спросил Андрей.
— Недолго, — сказал Ахмет, — четыре месяца. Меня революция освободила.
Ахмет — и старший… И он больше знает не потому, что он умный, а потому, что он учился, когда Андрей плыл по течению с закрытыми глазами.
— Ладно, еще посмотрим, — сказал Андрей вслух. — Может, и обойдется.
— Все-таки ты типичный русский, — сказал Ахмет недовольно, — когда дело касается свободы — ты первый. Да здравствует свобода для нас! А как только разговор идет, чтобы дать свободу другим, ты сразу на дыбы: как они посмели?
Ахмет отпустил извозчика на шоссе верстах в пяти от Ялты.
— Ты с извозчиком расплатился? — спросил он.
— Да.
— Такая дорога плохая! Как домой поеду? Совсем поздно! — начал стенать извозчик, обращаясь то к Ахмету, то к Андрею. Но Ахмет его оборвал:
— Раньше надо было торговаться.
Извозчик не стал спорить. Уехал.
— Нам предстоит небольшая пешая прогулка под названием «моцион», — сказал Ахмет.
Он послал своего спутника с лошадьми вперед, а они с Андреем прошли еще версты две лесом до хижины. По дороге они больше уже не спорили, а говорили о вещах обычных, будто расстались всего неделю назад, — о тете Марусе, о Беккерах. Но более всего Андрея изумили новости о Маргарите.
Оказывается, ее исключили в пятнадцатом году из гимназии. И не зря. Теперь она считается среди одесских эсеров одним из первых людей. Злая, худая, как увидит врага революции — сразу норовит его расстрелять…
— Ну уж ты и преувеличиваешь, — рассмеялся Андрей.
— Почему?
— Потому что у нее папа судовладелец.
— А у Софьи Перовской? А у Александра Ульянова? У них папы генералы — а каких крошек вырастили! Подожди, доедем до моего убежища, я тебе такое покажу, что просто ахнешь!
— А о Вревском не слышал?
— Говорят, он в Киеве. Но ты не думай, что все обошлось, — мне кажется, Вревский до конца жизни будет тебя искать. Раз он считает тебя убийцей.
Некоторое время они шли молча. Потом, как бы завершая разговор, Ахмет произнес:
— Ты свои великоросские взгляды с моими аскерами не обсуждай. Они в гимназии не учились. А если в гнев войдут, зарежут тебя, мон шер ами, поздно будет расстраиваться. Мне и без того трудно объяснять, почему я русского к нам в лес привел. Им даже девушку нельзя, даже брата нельзя — а тебя привел, ай, как нехорошо!
— Я могу пожить в лесу отдельно от вас, — сказал Андрей.
— Не говори своих обычных глупостей!
— Спасибо, Ахмет.
— А я хотел спросить: если придет время, что я буду бежать и скрываться, ты тогда скроешь меня в своем доме, дашь приют беглому крымскому татарину?
— Посмотрим, — сказал Андрей. Возражать было бы глупо.
Когда они пришли в отряд, аскеры уже спали, их встретил только дежурный, который если и удивился приходу Андрея, виду не подал.
Воины Ахмета жили в двух деревянных сарайчиках, наверное, они остались от чабанов, что пасли здесь овец. Каменную сторожку занимал Ахмет.
Ахмет провел Андрея в сторожку. Вскоре его адъютант, задав корм коням, принес чайник и чашки. Ахмет снял башмаки и переобулся в мягкие желтые мешты.
— Ты не демократ, — сказал Андрей.
Они сидели на больших войлоках. Адъютант разливал чай и передавал чашки старшим.
— Ты обещал что-то показать, — сказал Андрей.
— Допьем чай, не спеши. Я не демократ, — сказал Ахмет.
Часовой, заглянув снова, спросил, будут ли они есть мясо. Только холодное. Они отказались.
Ахмет поднялся, снял с низкой полки плоский кожаный кошель.
Из него вытащил свернутый вдвое номер «Синего журнала». Раскрыл его и передал Андрею, а сам взял с пола керосиновую лампу и поднес к странице, на которой раскрыл журнал, чтобы Андрей мог разглядеть фотографию.
На фотографии была изображена Маргарита.
Если бы Андрей не ждал увидеть именно ее, он никогда бы не догадался, что видит девицу, так влюбленную в Колю Беккера. Маргарита сильно похудела — высокие скулы были туго обтянуты кожей, нос был костлявым, переносица норовила прорвать тонкую кожу. Глаза стали огромными, короткие прямые волосы не закрывали шею.
— Она раньше завивалась? — спросил почему-то Андрей.
— Революция ее изменила, — сказал Ахмет с неожиданной горечью.
Маргарита была в кожаной куртке.
Фотография изображала ее по пояс. По сторонам, отступив на шаг, стояли два матроса. Из тех революционных моряков, которые ринулись в последний и решительный бой, перестав притом стричься, мыться, увешав себя «маузерами» и «лимонками» и с наслаждением опустившись в невероятные глубины жестокости и разгула. Лица их были плохо пропечатаны и скрывались в тени.
Андрей прочел подпись под фотографией:
«Маргарита Яростная, один из новых вождей одесских социалистов-революционеров, которую подозревают в совершении перед революцией ряда отчаянных эксов».
— Почему вдруг — Яростная? — спросил Андрей.
— А у них у всех клички.
— Интересно, а когда мы были знакомы…
— Я думаю, что тогда она еще не была одним из вождей.
— Свет, свет поближе!
Андрею, который рассматривал фотографию, показалось знакомым лицо одного из моряков, охранявших Маргариту.
— Ты его не знаешь? — спросил Андрей.
— Никогда не видел.
— Наверное, мне показалось.
— А кто это?
— Был такой человек… друг кочегара Тихона. Его звали Борис. Борис Борзой, если не ошибаюсь.
— И что?
— Похоже, что я ошибся, — сказал Андрей, — фотография нечеткая.
— Фотография нечеткая, — согласился Ахмет. Но согласился слишком быстро и легко, вызвав в Андрее недоверие. Ни к селу ни к городу Ахмет добавил: — Что-то я давно Беккера не видел. А когда-то он ее у меня увел.
Ахмет зря опасался — аскеры приняли Андрея спокойно. К тому же он говорил по-татарски, и это сразу выделяло его из русских. Русским языком в отряде не пользовались, не потому, что не знали, — не хотели. Даже с Андреем говорили только по-татарски.
Жизнь в отряде была неудобной и для Андрея — пустой.
Всего в отряде было человек около двадцати — точнее не скажешь, потому что некоторые приходили и уходили по семейным надобностям. Отряд ни с кем не воевал — иногда небольшие группы аскеров уходили куда-то, возвращались усталые, покрытые пылью. За лагерем было устроено стрельбище, но стреляли редко, берегли патроны. Бывший урядник Рахим учил аскеров рукопашному бою. Но вообще-то Андрею казалось, что он попал в татарский лагерь бойскаутов. Каждый вечер в шесть часов кто-нибудь из аскеров, одевшись получше, уходил в Ялту к платану, на встречу с Лидочкой. Так как Ахмет не рассказывал им, зачем Андрею нужна эта встреча, аскеры были убеждены, что Андрей подпольщик, принадлежащий к иному, чем они, но союзному революционному движению, и ждет он связную.
Раза два приезжал из Бахчисарая некий господин Озенбашлы — толстый, пожилой и очень важный татарин, один из лидеров национальной партии. Говорили, что в будущем курултае ему дадут министерский пост, а может быть, он станет президентом. Когда Озенбашлы приезжал, аскеры просили Андрея уйти на охоту или просто погулять по лесу. Видно, Озенбашлы проводил с молодыми аскерами какие-то воспитательные беседы, а когда Андрей спросил об этом у Ахмета, тот отмахнулся, выказывая неуважение к господину будущему министру.
Ахмет появлялся каждые два-три дня и обычно ненадолго.
У аскеров были винтовки, но не у всех. И еще был пулемет, правда, пока без патронов. Патроны должны были скоро привезти — купить в каком-то гарнизоне. Но покупка срывалась, и Ахмет из-за этого переживал — ему казалось, что настоящий боевой отряд должен иметь пулемет или пушку.
Никто Андрея не контролировал, никто за ним не следил. Порой он уходил далеко в горы, чаще его влекло к Ялте. Он проходил по крутому лесистому склону, по виноградникам выше города. А порой, если было настроение, спускался к окраинным домам.
Его удручала мысль о будущем. Что будет, если Лидочка не сегодня-завтра появится здесь?
А что дальше? Придется ехать куда-то подальше от родных мест, возможно, в Сибирь, и там искать работу, место в жизни. А все их корни — здесь, на юге, в Крыму. По собственному опыту Андрей знал, что в Москве он скучает по Крыму. Почему перелетные птицы стремятся к северу, чтобы там вывести птенцов и потом вернуться на юг, в теплые края? Не потому ли, чтобы оценить благодать родных мест, не потому ли, чтобы дать возможность птенцам в раннем детстве увидеть суровую природу Севера, а лишь потом обрадовать их полетом в тепло, на родину?
Чепуха, поправил он сам себя, никто не мешает нам уехать на юг, на Кавказ, например, или в Среднюю Азию. Жить, допустим, среди сартов в Коканде… Нет, Андрей не хотел бы жить «среди кого-то». Ведь недаром татары организовали отряды и готовят свою революцию. А это значит, что и другие народы тоже готовят свои маленькие революции. Если в России начнется большая заваруха, все восстанут и разойдутся жить по своим законам. И по-своему они правы: когда Андрей спорил с Ахметом, он не подумал, что иные точки зрения могут иметь право на существование. Уехать в страну, которая принадлежит другому народу, это значит стать иностранцем: как бы хорошо ты ни изучил их язык, как бы тщательно ни выучил их обычаи, как бы искренне ни принял их веру, — ты все равно будешь иностранцем. И будешь стремиться к таким же, как ты, изгоям. Не будучи евреем, ты станешь евреем, потому что твоя судьба определит тебе место на свете, где своими ты сможешь назвать только кучку своих близких, а за пределами этого круга — ты всем чужой. Андрей слышал в университете от кого-то из приятелей, что в Палестине образуются еврейские поселения — на Земле обетованной. Евреям тоже нужно место на земле, куда ты можешь приехать и сказать: «Это моя страна!..»
Андрей оборвал нестройное течение своих мыслей. Будучи человеком подвижным и живым, он был лишен нормального общения и находился как бы в тюрьме без стен. Пожалуй, впервые в жизни у него появилась возможность остаться наедине с собой — мало кому выдается такая возможность в девятнадцать лет. Впрочем, если и выдается, молодой человек обычно ею не пользуется.
Это не означает, что Андрей проводил все свободное время, обдумывая свою прошлую (и будущую) жизнь или анализируя ее. Куда чаще он думал о крепких ногах прошедшей мимо деревенской девушки или о следах кабана. Ему порой давали ружье — в отряде было одно, гладкоствольное, — специально для охоты. Стрелять из него было трудно, потому что, как шутили аскеры, любая птица может обогнать его пулю или улететь от нее за гору. И все же Андрей из всех времяпрепровождений предпочитал именно прогулки с ружьем. Он мало и редко убивал, но порой возвращался с добычей.
Однажды в своих путешествиях он забрел на руины небольшой крепости на скале над морем. И когда он извлек из спекшейся, перемешанной с камешками земли обломок амфоры, сердце сладко заныло, словно он увидел любимую девушку.
Он задержался на площадке часов пять — пришел к хижине уже в темноте, и Ахмет, оказавшийся там, устроил ему разнос. Андрей не обиделся. Он вытащил из карманов завернутые в бумагу куски черепицы и обломки амфор и — самую ценную из находок — донышко небольшого сосуда с процарапанными на нем греческими буквами.
— Погляди, — сказал он Ахмету. Ахмет был уставшим, злым. — Представляешь — две тысячи лет назад здесь жил человек, который вот это нацарапал.
— Я тоже царапал, когда маленьким был, — сказал Ахмет, — такие неприличные слова — ты просто не представляешь.
— Что-нибудь случилось?
— Странное дело, — сказал Ахмет, — нас всего ничего — зачем же склочничать, драться за власть? Мне власть не нужна, тебе не нужна — зачем она ему?
— Кому?
— Это внутренние дела маленького татарского государства. — Ахмет попытался улыбнуться.
Андрей в ту ночь долго не спал. Стоило закрыть глаза, и он видел освещенную солнцем площадку между обломанными зубцами стен и уходящие в породу черепки сосудов. А может быть, там, глубже, скрыта голова чудесной Менады…
И тогда он задал себе впервые вопрос — может, потому, что испытал счастье более острое, чем память о счастье встреч с Лидой: что мне, Андрею Берестову, дороже на этом свете? Бесконечное ожидание Лидочки, которая может и не появиться в ближайший год, или же острое счастье охотника за древностями, искорки которого Андрей впервые ощутил на Севере? И Андрей знал: он, как пьяница на свидание к бутылке, пойдет завтра и послезавтра на ту маленькую, заваленную обломками каменных плит и спекшейся глины площадку, чтобы, нарушая строгие законы археологии, охотиться без ружья на хитрую безмолвную добычу.
В апреле вице-адмирала Колчака в Севастополе не было. И это, хоть и не стало решающим фактором в революционном движении на Черноморском флоте, все же сыграло отрицательную для дисциплины и порядка роль. Александр Васильевич проявил себя человеком недостаточно упорным — он склонился перед необходимостью подчиняться непоследовательным приказам Временного правительства, лавировать между Советом и офицерами флота, прислушиваться к иностранным советникам и в то же время игнорировать их советы. В Петрограде Колчак в конфиденциальных разговорах с правыми в правительстве и с главами союзнических миссий муссировал уплывающую из рук идею штурмовать Стамбул и, победив, не только переломить ход войны, но и возродить династию в Константинополе.
Но даже самые страстные ненавистники революции не могли выработать окончательной позиции по этому вопросу, потому что были скованы повседневными интригами и мелкими интересами. Казалось бы, победа в войне нужна правительству, но нет — возникает опасность реставрации монархии в России, то есть потери власти и престижа. Поэтому нам нужна победа в войне, но такая, которая бы сохраняла наши интересы. А какова она, именно такая победа, — черт ее знает! Да, конечно, говорили генерал Жанен и его западные коллеги, это будет манифик, если русские возьмут Стамбул! Но не нарушит ли это баланса сил в послевоенной Европе, не повредит ли это колониальным интересам Франции и Великобритании, не желающих дальнейшего укрепления России на востоке… И так далее…
Первый правительственный кризис в Петрограде, прошедший на глазах у Колчака и, можно сказать, с его пассивным участием, многому научил Александра Васильевича. Главное — убедил его в необходимости выйти из игры, так как участие в ней ведет к обязательному проигрышу.
Колчак уже был в Петрограде, когда 18 апреля Милюков опубликовал ноту, в которой умолял западных союзников поверить в то, что иного желания у России, как положить живот на алтарь общей войны, и быть не может. Возражая оппонентам, обвиняющим Россию в том, что она замыслила сепаратный мир с Германией, премьер Милюков уверял союзников, что именно теперь всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого.
Никто не чувствовал этой ответственности, никто в этой стране не хотел воевать. На следующий день начались демонстрации солдат и рабочих, которым надоела война и непонятная им игра в демократию. Навстречу двигались демонстрации из имущих районов, которые оказались куда слабее, чем рабочие и солдатские манифестации. Начались столкновения между колоннами демонстрантов. Газеты писали, что демонстранты, организованные большевиками, употребляли оружие, но большевики эти сообщения отвергали.
20 апреля, когда бурлил уже весь город и волнения начали раскатываться по стране, у военного министра Гучкова на Мойке собрались главнокомандующий армией генерал Алексеев, командующий Петроградским военным округом генерал Корнилов и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Колчак. Алексеев сообщил, что армия ненадежна, Корнилов подтвердил — против правительства демонстрируют части столичного гарнизона. Корнилов предложил единственное решение — применить силу против застоявшихся в городе и обалдевших от непрерывных митингов и демонстраций резервных частей. Если вывести их из города и заменить частями более надежными, есть надежда удержать ситуацию в руках.
Колчак, доложивший, что Черноморский флот остается еще нормальной воинской единицей, сказал, что рассчитывать на сохранение такого положения наивно. Следует учитывать к тому же рост малороссийского национализма и стремление отдельных прохвостов захватить Севастополь и флот как символ величия Украины.
Гучков пытался спорить, Алексеев и Корнилов, лучше понимавшие ситуацию в стране, были настроены мрачно. Яростный Корнилов еще надеялся одолеть ситуацию с помощью нагайки. Он рассчитывал организовать отборные части, чтобы разогнать агитаторов.
После этой встречи правительство Милюкова подало в отставку, Гучков отдал пост военного министра социалисту Керенскому, в правительство вошли и другие социалисты. Корнилов и его сторонники в армии стали готовить мятеж, полагая, что путь, по которому идет Россия, смертельно опасен. Колчак же стал собираться в Севастополь. Он понял, что планы победы в войне провалены его же собственными начальниками. С этого момента он как бы потерял внутренний стержень — сочетание надежды и гордыни. Коле Беккеру он сказал:
— Я не верю больше в возможность удержать в руках флот. Он неминуемо разложится. Тогда тысячи матросов — канониров, сигнальщиков, кочегаров, электриков — совокупность морских специалистов, в единении с дредноутом или эсминцем представляющих грандиозную силу XX века, — превратятся за считаные дни в стадо анархистов, в неуправляемую массу избалованных волей бесплатно жрать, бесплатно одеваться, насиловать и грабить преступников. Они разбегутся по всей России, но не для того, чтобы найти себе место в поле или у станка, — они годами, не имея и не желая иного занятия, будут вмешиваться в судьбы сражений, они будут шумны, жестоки и грозны по отношению к слабому, но трусливы и ненадежны при столкновении с сильным. Они будут дурны как организованные воинские силы, но в то же время они станут преторианцами революции, так как не будет им равных в дворцовых переворотах грядущей гражданской войны, в восстаниях и мятежах, в грабежах и набегах.
Коля Беккер сопровождал адмирала в Петроград и присутствовал при некоторых переговорах как его адъютант. Слабость, которую питал Александр Васильевич к Коле, несмотря на предостережение начальника контрразведки полковника Баренца, основывалась не только на уме и умении вести себя в сложных обстоятельствах, что Коля уже доказал своему патрону в первые дни революции, но и на убеждении адмирала, что настоящих помощников можно отыскать лишь самому, случайно, — в ином случае ты обречен на то, чтобы благоволить к ставленнику какой-нибудь клики и никогда не доверять ему до конца. В своем штабе Колчак более всего доверял молодым адъютантам — Берестову и Свиридову.
— Я не Бонапарт, — откровенничал Колчак, сидя в купе пульмановского вагона, что не спеша вез их с Колей на юг по зеленеющим украинским увалам, кое-где подсвеченным свежей белизной хаток и указательными знаками тополей, — Бонапарт сам стремился вырвать власть. Я равнодушен к власти, но остаюсь человеком долга. Я жду, когда меня призовет история. Это мой недостаток. Я могу упустить шанс.
— Я полагаю, что вы самый деятельный человек, которого мне приходилось встречать, — сказал Коля.
— Ты встречал еще слишком мало выдающихся людей. И если Господь сбережет тебя во время той страшной войны, что надвигается на нашу страну, ты еще многих увидишь так же близко, как меня. Только меня среди них не будет…
— А вы?
— Неумный вопрос. Я проиграю. А в наступающей игре ставка — только жизнь.
— Вы были у мадам Персонье?
— Я не верю ей, — сказал Колчак, и Коле стало ясно, что отважный полярный путешественник и почти завоеватель Стамбула все же тайком посетил известную петербургскую гадалку.
Покачиваясь на рессорах в мирном и таком домашнем купе, за столиком, где стояла бутылка хорошего коньяка и икра в серебряном ковшике, а булочки еще были свежие, глядя на этого взбудораженного и неуверенного в себе человека, Коля подумал: твоя карта уже бита, вице-адмирал, никогда тебе не стать полным адмиралом… никогда не стоять на командном мостике. Не сегодня-завтра тебя сковырнет Совет, ты уже знаешь об этом и ищешь пути бегства. Тебе не Стамбул сейчас нужен, а нора, где укрыться.
Угадывая многое в других людях, Коля обладал лишь умением угадывать плохое, мелкое, словно более крупные, широкие качества души и характера были неразличимы для его взгляда. Потому представление, которое составлял себе Коля о собеседнике, было крайне точно в негативных мелочах, но никак не подтверждалось в большом.
— Мне предлагают командировку в САСШ, — продолжал между тем адмирал. — Как консультанту по минному делу. Как ты знаешь, я в этом смыслю. Полагаю, что американцам я нужен как черная лошадка в будущей политической борьбе за Россию, а Временное правительство готово и даже жаждет меня отпустить, чтобы не создавать конфликтов на Черном море. Вместо меня они быстро назначат либерала Немитца и в результате собственными руками погубят флот как боевую единицу!
— А я? — спросил Коля.
— Ты? — Адмирал вдруг задумался о судьбе Коли или сделал вид, что этот вопрос лишь сейчас пришел ему в голову. — Взять тебя в САСШ я не могу, потому что к этому нет никаких оснований. Еду я как частное лицо, и мне не положена свита. Но я был бы рад, если бы ты остался в Севастополе.
— В качестве кого?
— В качестве моих глаз и ушей, — сказал адмирал, наливая твердой рукой в металлические стопки себе и Коле. — Мы не знаем, как повернется судьба и призовет ли она меня сюда снова. Но пока человек живет, он надеется. И я надеюсь. И хотел бы, чтобы ты делил со мной эту надежду.
— Но вы же сами говорите, что флот скоро рассыплется.
— Скоро, но не сразу. И в какой форме это произойдет — не знаю. Ты, конечно, можешь сегодня же выйти в запас, и я подпишу тебе все нужные бумаги. Но подумай хорошенько — еще вчера ты был лишь прапорщиком береговой артиллерии из вольноопределяющихся. Сегодня ты — лейтенант флота, и в этой суматохе вряд ли кому придет в голову внимательно проверять твое происхождение.
— А Баренц?
— Полковник Баренц знает не только о тебе — обо мне и многих сильных мира сего. Но излишнее знание в периоды революций — самая опасная роскошь. Тебя он не тронет.
— Пока вы здесь.
— До моего отъезда мы сообразим тебе, мой юный друг, следующий чин. Старший лейтенант флота равен капитану в армии — что бы ни случилось с нашей страной, такой чин дает тебе некий иммунитет.
— Или приближает меня к веревке.
— Коля, ты слишком осторожен. Но я ни на чем не настаиваю. Я мог бы сделать тебя капитаном второго ранга, но ты еще так молод, тебя принимали бы за ряженого.
Колчак улыбнулся, не разжимая губ.
В его последних словах не было желания обидеть, только констатация факта.
— Я подумаю.
— Тебе дается время до прибытия в Симферополь, — сказал Колчак. — Боюсь, что события будут развиваться там с такой скоростью, что неизвестно — уеду ли я сам или меня вышвырнут.
— Что вы говорите, Александр Васильевич!
— Страна катится к хаосу. Выпьем за то, чтобы нас миновала чаша сия и чтобы мы с тобой мирно умерли от старости.
Колчак с Беккером вернулись в Севастополь 25 апреля. Скоро состоялось делегатское собрание в цирке Труцци, и Колчак держал там речь. Цирк был полон черными бушлатами. Солдаты — серая масса шинелей — держались как бы на втором плане, уступая в Севастополе первенствующее место морякам.
Колчак был откровенен и резок. Он понимал, что хуже всего, если в век газет и радиотелеграфа его уличат во лжи.
— Армия устала и потеряла интерес к войне, — говорил Александр Васильевич.
Зал ответил на эти слова вздохом, согласился — воевать уже не хотел никто. И Коля, который сидел в первом ряду, понял, что даже за те немногие дни, что Колчак отсутствовал в городе, его власть над черной толпой резко ослабла.
— Быть может, — говорил Колчак, — ни в одной части не сказалось так отсутствие дисциплины, как на Балтике. Реформировать начали необдуманно. Флота на Балтике, к сожалению, не существует.
Коле хотелось встать и уйти — уйти и никогда не встречаться больше с адмиралом, на котором видна была несмываемая печать поражения. Но, как ни странно, его удерживало здесь обещание Колчака оформить документы на получение им чина старшего лейтенанта. Если бы Колю попросили объяснить, что толкает его оставаться в Севастополе ради ступеньки в иерархии, которую не сегодня-завтра отменят, Коля ответить бы не сумел. Была в том и доля русского «авось обойдется», и тщеславия — в двадцать два года стать старшим лейтенантом флота…
— Может быть, то, что я сказал, — заканчивал между тем свою речь Колчак, — заставит вас проникнуться сознанием, что если мы не оставим партийных споров, то погибнем… Если мое сегодняшнее тягостное сообщение заставит вас поговорить с теми солдатами и матросами, которые с вами в ротах и на судах, дабы помочь спасению Родины, я буду считать свою задачу выполненной.
Когда за кулисами к Колчаку подошел городской голова Еранцев с поздравлениями по поводу великолепной речи, Колчак отмахнулся.
— Бисер перед свиньями, — сказал он. — В лучшем случае отсрочка на несколько дней.
— Мы сможем удержать их в узде, — сказал Еранцев.
— Вы бы посмотрели им в глаза, — возразил Колчак. — Они меня уже не любят.
Колчак был прав. Его выступление в цирке Труцци было пирровой победой. Несмотря на то что команды основных линкоров и полуэкипаж приняли громогласные постановления о поддержке адмирала и командования, в которых кипела скупая матросская слеза, обещание мира и свободы было соблазнительнее. «Екатерину Великую», на которой держал флаг адмирал, переименовали в «Свободную Россию».
С начала мая Колчак вступал во все более острый конфликт с Севастопольским Советом. Ставший старшим лейтенантом Беккер видел, как падает популярность адмирала на флоте, но Колчак, все более озлясь, как бы нарочно вызывал на себя огонь.
17 мая в Севастополь был вынужден приехать военный министр Керенский, который пытался очаровать и матросов, и офицеров, не преуспел ни в том, ни в другом, но вызвал лишь новую вспышку возмущения против Колчака. 5 июня грандиозный митинг в Севастополе выказал недоверие командующему флотом. Митинговали круглые сутки. Было принято постановление о сдаче офицерами личного оружия и отправлена депутация к Колчаку с требованием, чтобы и он подчинился решению масс.
Коля как раз был у Александра Васильевича, в тот день мрачного и злого. В каюте находился и контр-адмирал Лукин, которого Совет и делегатское собрание назначали новым командующим флотом.
Тогда и заявилась комиссия с требованием сдать оружие.
Комиссия была разномастная. В ней состояли прапорщики, матросы и даже телеграфист — все страшно возбужденные и поддерживавшие свою решимость некой совместной ритуальной ненавистью к адмиралу.
Колчак выслушал слишком громкое, считанное с бумажки постановление. Он был спокоен.
Он снял со стены свою георгиевскую саблю. Но, вынимая ее из ножен, он двинулся к группе революционеров, стоявших в дверях. Прапорщик Легвольд протянул руку, намереваясь взять саблю.
— Погодите, — сказал адмирал мирно. — Следуйте за мной.
Комиссия послушно пошла за адмиралом на верхнюю палубу.
Там стояли группами матросы — в стороне несколько офицеров. «Свободная Россия» была настроена нейтрально.
Адмирал подошел к борту. К нему были обращены сотни глаз.
— Слушайте мой приказ, — сказал он высоким голосом. — Во избежание дальнейших насилий над офицерами и подчиняясь постановлению делегатов флота, я предлагаю офицерам добровольно сдать свое оружие, себя также лишаю оружия…
Он сделал паузу. Было тихо так, что ленивые удары небольших волн в борт линкора казались громкими. Кричали чайки — потом и они смолкли, будто подчинились торжественности минуты.
— Я отдаю мое оружие морю! — воскликнул адмирал.
Он выхватил саблю из ножен, поцеловал ее клинок и широким жестом кинул ее за борт.
Палуба ахнула — это была реакция не только на вызывающий поступок адмирала, но в нем выразилась и жалость к сабле — такой красивой, дорогой, георгиевской сабле, сделанной на заказ златоустовским мастером. И этот жест уже к вечеру стал известен последнему мальчишке в Севастополе, а завтра всей России. «Вы слышали, как адмирал Колчак бросил в море свое георгиевское оружие?..»
Колчак резко обернулся к маленькой кучке только что очень уверенных в себе людей. Он победил комиссаров, понимая, что слаб для открытого возмущения.
Повернувшись, как на параде, Колчак пошел к трапу — каблуки зацокали по ступенькам.
Коля Беккер, спеша, прежде чем спадет колдовство момента, отстегнул от портупеи кортик и побежал к борту.
— Лейтенант, вы куда? — крикнул вслед опомнившийся Легвольд.
Но Беккер уже успел выкинуть свой кортик за борт и смотрел, как он косо и четко, не подняв и капли, рыбкой вошел в воду.
Жест Беккера вернул всех к действительности.
Коля хотел уйти следом за адмиралом, но его остановил один из членов комиссии, человек немолодой и очень громогласный:
— Молодой человек, вам велели сдать оружие, а не передать рыбам. То, что дозволено Юпитеру, категорически воспрещено телятам.
Кто-то в комиссии засмеялся — с облегчением. Самое неприятное было позади.
Коля побежал следом за адмиралом.
Он догнал его в каюте, куда, не подумавши, ворвался без стука.
Адмирал сидел в кресле, погрузив голову в ладони.
— Кто? — вскинулся он. — Кто еще?
— Это я, — сказал Коля. — Я тоже кинул кортик!
— Ну и дурак, — ответил адмирал Колчак.
Коля сразу осекся. Словно набежал на стену.
— Чего стоите? — грубо спросил Колчак. — Вы свободны, прапорщик! Кончено. Все кончено, а вы тут, видите, раскидались кортиками. Вы на него и права не имеете…
— Но ведь вы…
— Когда это делаю я — я совершаю точно выверенный акт, которому суждено войти в историю. И это уже вошло в историю. Когда же это совершаете вы, вы пародируете мой исторический акт. Неужели вам надо объяснять элементарные вещи?
Коля вернулся домой подавленный и разбитый, словно весь день таскал камни.
Раиса была дома, она стала собирать обед, ее сын закидал Колю вопросами:
— Дядя, а дядя, где твой ножик? Ты его потерял?
— И в самом деле! — сказала Раиса.
Коля только тут спохватился: что он наделал! Кортик был особенный, заказной, дорогой: его купила ему на день рождения Раиса, заплатила тридцать пять рублей — это при ее небольших средствах! Раиса последние дни тешила себя надеждой на то, что Коля на ней женится. Даже перестала принимать своего поклонника Елисея Мученика, когда тот приезжал в Севастополь по революционным делам.
— Нас разоружили, — сказал Коля. — Даже у адмирала отобрали саблю.
Одна была надежда, что никто не прибежит завтра к Раисе, не сообщит, что он кинул кортик вслед за адмиралом, хотя никто его за руку не тянул — мог бы спрятать дома, как все офицеры.
— Как же так! Как же так! — закудахтала Раиса. — Чего же ты не сказал, что это мой подарок?
Раиса была так расстроена крайностями революции, что плакала весь вечер. И тогда Коля понял, что пора подумывать о другой квартире, хоть он и привязался к Раисе Федотовне и ее мальчишке.
Но на следующий день Колчак вызвал к себе Колю и принял его с глазу на глаз.
— Слушайте меня внимательно, — сказал он. — Я уезжаю. Когда вернусь, не знаю, но точно вернусь. И надеюсь, что мое возвращение сыграет некоторую роль в истории нашей Отчизны. Я не могу пригласить вас с собой в Америку, но обращаюсь к вам с просьбой остаться здесь в штабе моими глазами и ушами. Вопрос стоит не только в вашей преданности, но и в том, что вы умный человек, вы увидите то, что пройдет мимо внимания Баренца или Свиридова…
«Так, — отметил про себя Коля, — теперь мы знаем, кого он оставляет здесь помимо меня».
— Я оставляю вам адрес, по которому можно будет сообщать мне, что вы сочтете нужным. Когда вы мне понадобитесь, я вам сообщу об этом через доверенного человека, который скажет вам, что пришла посылка от тети из Одессы, надо ехать получить ее. Пока что прошу вас об одном: берегите себя, не ввязывайтесь в авантюры, постарайтесь быть угодным правительству — будьте мудрым и осторожным, как змий. Обязательно зайдите к полковнику Баренцу и получите от него пакет. Прощайте, мой молодой друг.
Они обнялись. От адмирала пахло хорошими мужскими духами и помадой для волос.
Затем Коля прошел к начальнику контрразведки полковнику Баренцу, которого он недолюбливал, зная, что именно полковнику Колчак давал указание проверить его прошлое.
Баренц передал Коле небольшой пакет.
Дома Коля обнаружил, что в нем — три тысячи рублей пятирублевками. На расходы из особого адмиральского фонда.
Колчак уехал из Севастополя на следующий день. Коля провожал его на станции. Было много народу, хоть адмирал того не хотел. Пришли даже делегации матросов от кораблей; самая большая — от «Свободной России».
Из Петрограда, почти не задерживаясь, Колчак отплыл в Америку, где пробыл больше года.
— Андрюша, — сказал Ахмет доверительно, — ты своей археологией-мархеологией, пожалуйста, подальше от моего отряда занимайся. Мои аскеры тебя не поймут. Для них ты или осквернитель могил, или искатель клада. Первого они зарежут как мерзавца, второго — чтобы завладеть его богатствами. Не знаю, какой вид смерти тебе приятнее.
— Ты же знаешь, что я ничего не нашел и даже не ищу, — мне просто нравится копаться в земле.
— Это меня очень беспокоит, Андрюша. Нормальный человек в земле не копается. Значит, ты ненормальный.
Андрей послушался Ахмета и перенес свои археологические раскопки подальше от лагеря, куда аскеры не заходили, — на безводный пустырь за Ласточкиным гнездом. Там над морем он в своих прогулках нашел фундамент небольшого строения и остатки стен из тщательно подогнанных плит, скрытых колючим кустарником, который надежно прятал Андрея от случайного взгляда со стороны дороги.
Копать было трудно — порода внутри стен часовни, как окрестил свой археологический памятник Андрей, представляла собой спекшийся сплав из песка, камней и черепицы, а орудия Андрея были первобытными — кирка, лопатка и широкий рыбацкий нож. Неподалеку от часовни Андрей отыскал нечто вроде собачьей конуры — видно, осенью там прятался сторож виноградника. Раздобыв кошму, Андрей зачастую не возвращался в убежище к аскерам, а ночевал возле своих раскопок.
Несмотря на неуверенность в будущем и непрочность сегодняшнего дня, на непривычное одиночество, на царивший вокруг разброд, Андрей был необыкновенно счастлив. Ощущение счастья происходило от непривычного, но понятного чувства радости человека, который нашел свое жизненное занятие, прикосновение к которому необходимо, как любовь, как еда. Другому человеку недоступно счастье от возможности копаться в ссохшейся земле, доставать ржавые железки и замирать в глубинном восторге перед возможностью превращения округлого края керамики в целый, сохранившийся сосуд.
Как находка спутника жизни, так и находка собственной работы — явление, к сожалению, редкое. Существуют семьи, которые скреплены обычаем, привычкой, обязанностями, терпением. Куда реже встречаются семьи, в которых обстоятельства и время превратили обязанность в радость, подчинение обстоятельствам — в кажущуюся свободу выбора. Это как бы благоприобретенное, заработанное десятилетиями счастье. То же происходит и с трудом. В большинстве случаев люди терпят свой труд, ожидая момента пенсии, как освобождения от рабства. Но совсем редко — и в человеческих союзах, и в отношении человека с работой — стороны совпадают, как половинки разорванной пополам открытки.
Вологодская экспедиция была лишь подготовкой Андрея к встрече с возлюбленным трудом. Там было интересно, но сам процесс раскопок еще не овладевал Андреем как состояние, близкое к экстазу. Главное произошло весной, в Крыму. Видно, к тому моменту и завершился процесс его духовного созревания.
Андрей рано утром просыпался в кособокой хижине, под жесткой кошмой. Волосы были влажными от росы, ложе из прошлогодней соломы было колючим и пахло гнилью.
Еще не открыв глаз, Андрей начинал думать о работе. Не о Лидочке, не о судьбах России. Он представлял себе, что его ждет раскоп, что сегодня случится невероятная находка: допустим, греческая статуя, надпись с именами местных властителей. Пожалуй, нет другого занятия на свете, цель которого заключалась бы в том, чтобы отыскать Неизвестное. Любой ученый, практик, может либо словами описать желаемый результат, либо изобразить его визуально. Но археолог мечтает о том, чего сам не знает. Все величайшие открытия в археологии заключаются именно в этом.
Раскапывая гробницы фараонов, Картер не мог знать и даже не осмеливался мечтать о том, как выглядит посмертная маска Тутанхамона либо украшения на его мумии. Представлял ли себе Шлиман, отправляясь на поиски Трои, что отыщет драгоценности, которыми он украсит свою прекрасную Елену? Половина настоящих археологов бросила бы свое занятие, если б они знали точно, где и что найдут.
Ранее труд археолога был малозаметен и близок к преступлению, ибо археологи были грабителями могил по заказам вельмож, увлекающихся античностью. Теперь же существуют колоссальные институты и экспедиции, масса справочников и правил, определяющих труд археолога, — но в самом-то деле ничего не изменилось! Археолог тот же авантюрист, гробокопатель, грабитель, охотник за сокровищами, но теперь он совмещает в одном лице и наемного грабителя, и вельможу, потому что награбленное у вечности он волочит к себе — в музей, в институт, в сокровищницу. И не поддавайтесь обману, когда услышите горячие речи археологов, что их волнуют лишь типы стеклянных бус либо особенности орнамента горшков дьяковской культуры. Чушь все это — поглядите в глаза археологу, когда под его рукой в породе сверкнула золотая пуговица королевского одеяния… или палец античной статуи.
Нет, не деньги и не денежная стоимость предметов волнуют археолога. Разумеется, он не лишен определенного тщеславия и с интересом и удовлетворением читает в газете бойкий репортаж о его находке, в котором сообщается, что вазе, найденной им, и цены нет, а нечто подобное было продано на аукционе «Сотбис» за два миллиона долларов. Но это вторичное. Главный момент в жизни — кульминация его любви к археологии миновала куда раньше — тот момент, когда Нечто еще Неведомое, но Невероятное показалось из-под земли.
Ах, думают непосвященные, какой неинтересный труд! Все время в пыли, все время согбенный, вдали от благ курортной цивилизации. Жара и жажда, пыльные бури и проливные дожди…
Археологи сами распускают подобные бредни о своих несчастьях. Говорить о климатических неудобствах для археолога — все равно что утверждать, якобы пираты вели неподвижный образ жизни, будучи ограничены в движениях тесными бортами своего кораблика. И какой человек пойдет в пираты, если там так скучно, неделя за неделей тянется однообразное плавание — только волны вокруг и солонина на обед! И все это ради нескольких часов боя, который может и не принести добычи!
Андрей блаженно потягивался на своем неудобном ложе, радовался тому, какой сухой и теплый выдался май в Крыму. Потом спускался вниз, к морю, чтобы совершить утреннее омовение, завтракал куском сыра или лепешкой, а различные мысли одаривали его своим посещением. Разумеется, он помнил о том, что ждет Лиду, и ходил к заветному платану. Как-то его посетила мысль, что Лида появится только осенью. Может быть, самому проплыть еще полгода?
И тут же Андрей отмахнулся от таких мыслей. Это значит — пропустить целый сезон раскопок! Осенью особо не поработаешь. Нет уж, лучше мы подождем Лидочку с пользой для дела.
Андрей не был по-настоящему профессиональным археологом — впрочем, много ли их было тогда в России, да и во всем мире? Кое-чего он насмотрелся в экспедиции и узнал на семинарах профессора Авдеева. Так что он принял некоторые меры для того, чтобы его раскопки не показались коллегам варварскими. Для этого он на куске картона изобразил план своей часовни в масштабе 1:10. Затем Андрей разделил его на квадраты и начал планомерно снимать слои земли. Правда, практически сделать этого он не сумел, потому что в западном углу часовни находок встречалось много, а у противоположной стенки — ничего, ровным счетом ничего. Будь у Андрея хоть один рабочий, он бы приказал ему выгрести землю из пустого угла ради того, чтобы опускаться в прошлое последовательно, но рабочего не было, а самому копать впустую плотный грунт не хотелось.
9 мая Андрей проснулся в предчувствии особенно счастливого открытия. Его не смутило даже то, что от съестных припасов остался всего огрызок лепешки. Но солнце грело замечательно, работа захватила его, и он забыл о голоде.
Примерно в десять утра пришлось отложить кирку и взять в руки нож, потому что изменившийся цвет породы подсказал, что близко лежит некий металлический предмет.
Андрей принялся соскабливать с темного пятна светлую землю. Было еще не жарко, Андрей работал обнаженным по пояс и успел загореть, как местный рыбак. Из-за сильного загара волосы выгорели и казались светлее кожи лица, а зубы белели, как у негра.
Нечто крупное загородило солнце.
— Что мы видим! — послышался самоуверенный утробный баритон. — Мы видим жалких кладоискателей, которые и не подозревают, что здесь уже побывал в конце прошлого века граф Уваров, а также Крестинский с компанией.
Андрей вскочил, не выпуская ножа, но не смог разглядеть визитера или визитеров, потому что они стояли спинами к солнцу.
— Эй, юноша, с ножиком осторожнее! — раздался другой голос. Молодой, с кавказским акцентом.
Андрей отступил и приставил ладонь ко лбу. Теперь он мог разглядеть, что в гости к нему пожаловал не Вревский, чего Андрей всегда опасался, а компания дам и барышень, в которой было лишь двое мужчин. Обладатель кавказского акцента был в форме поручика, у него было крупное восточного типа лицо с тяжелым носом, черные кудри выбивались из-под фуражки.
Баритон принадлежал профессору Авдееву, бывшему покровителю и наставнику Андрея по Московскому университету.
Княгиня Ольга узнала Андрея и всплеснула руками:
— Берестов! Андрюша! Блудный сын нашего сообщества! Ты что здесь делаешь?
— У меня летняя практика, — сказал Андрей, смутившись своего вида и того, что он был застигнут за делом предосудительным — за частными раскопками на чужой земле.
— Чудесная шутка! — возрадовался профессор Авдеев. — Ваше Величество, прошу любить и жаловать! Этот бандит — мой любимый талантливый ученик, Андрей Берестов.
— Очень приятно в такие дни увидеть юношу, которому интересы науки дороже, чем участие в митингах и манифестациях, — сказала императрица Мария Федоровна, которую Андрей узнал не сразу, хотя видел ее близко в доме своего отчима.
Андрей смущенно поклонился.
— Берестов? — сказала императрица. — Берестов? — Она покатала в сознании фамилию, как шарик, но не вспомнила. Обратилась к молодой девушке, стоявшей рядом. Господи, это же княжна Татьяна, которую стервец Ахмет за коленку схватил, понял Андрей. — Что мне напоминает эта фамилия? — спросила княжну императрица.
Татьяна пожала плечами и ответила длинной французской фразой, которую Андрей не понял.
Оказывается, профессор Авдеев остановился в Ялте по дороге на раскопки в Трапезунд. Он был приглашен в гости знавшей о нем еще по довоенным временам императрицей Марией Федоровной, скучавшей под домашним арестом на вилле Дюльбер, которую охранял бравый поручик Джорджилиани. Сочетая приятное с полезным, профессор повел высокопоставленных знакомых на экскурсию по окрестностям их имения, дабы показать некоторые забытые, таящиеся в зарослях памятники античности и Средневековья, которыми столь славен Крым. И надо же было на руинах встретить студента Берестова! Встреча эта была приятна профессору — значит, он смог заложить нечто важное в душу этого молодого человека, если тот даже в такое время продолжает заниматься любимым делом. Так что все прежние обиды и недоразумения были тотчас забыты, и Андрей получил приглашение к профессору, остановившемуся со своей свитой в гостинице «Ореанда».
Андрей отнекивался; потом честно признался, что у него нет костюма для того, чтобы пойти в гости.
— Ах, пустяки, — сказала княгиня Ольга, — неужели мы не придумаем чего-нибудь? Нет, не надо оправдываться и объясняться. В эти ужасные времена вполне приличные люди оказываются в безвыходном положении! Если бы вы знали, что творится в Москве!
— И здесь не сладко, — сказала вдовствующая императрица. — Я вам скажу честно, что мечтаю об одном — покинуть это обезумевшее государство.
— Как я вас понимаю! — сказала Ольга. — Мне порой жаль, что я русская.
— Но долг есть долг, — сказал профессор Авдеев.
Этот разговор происходил уже не на раскопках, а в беседке Дюльбера, где Андрей чувствовал себя одетым в лохмотья бродягой, какие бывают только в операх.
Княжна Татьяна глядела на него с девичьей тоской, любуясь загорелыми мышцами, видными в прорывах рукава, а поручик Джорджилиани, очевидно, имевший свои виды на княжну, тяжело вздыхал и часто покидал комнату, как предположил Андрей — чтобы наточить нож, которым он зарежет соперника.
В дом Андрея все же не пригласили, да он и не пошел бы. Императоры и императрицы чувствуют предел дозволенного.
Автомобиль императрицы был реквизирован революцией, так что обратно в Ялту поехали на извозчике, который, оказывается, ждал с утра перед воротами, потому ворчал, по виду мадам Авдеевой почувствовав, что его долгое стояние не будет оплачено как должно.
На коленях у Андрея лежал объемистый сверток, который принесла к отъезду очаровательная полногрудая горничная Наташа. Как сказала на прощание Мария Федоровна, эти вещи остались после Великого князя Гавриила Константиновича, который здесь когда-то жил. Андрей стал отнекиваться, но с ним никто не разговаривал — ему приказали рассматривать подарок не более как дружескую помощь хорошему человеку в тяжелые времена.
— Надеюсь, что и мы, слабые женщины, можем рассчитывать на вашу помощь, — сказала императрица, протягивая на прощание руку.
Андрей поцеловал сухие прохладные пальцы вдовствующей императрицы — ныне опальной, плененной женщины без прав и имущества, и произнес:
— Я буду счастлив положить жизнь за Ваше Величество.
Это совсем не означало, что Андрей в одночасье стал монархистом. Он оставался социалистом и сторонником равенства всех людей. Но в одном конкретном случае, когда речь шла о Марии Федоровне, он отступал с социалистических позиций и, как честный человек, ощущал себя рыцарем Ланселотом.
Вечером на ужин к Авдеевым Андрей пришел в охотничьем костюме Великого князя, который был худее, но выше Андрея. Увидев гостя, княгиня Ольга тут же потащила его в номер, там велела снять сюртук и почитать последний номер «Русской старины». Тем временем она принялась что-то распарывать и перешивать, потому что была настоящей женой археолога — она умела шить, готовить, перевязывать раны, торговаться с поставщиками и ругаться с рабочими.
Вскоре пришел профессор Авдеев, начал расспрашивать, что делал Андрей последние три года. Андрей не очень убедительно рассказал, что был в армии, его контузило и он приехал в Крым. Тетя его, единственная родственница, скончалась — вот он и занялся раскопками.
— Судьба! — гудел профессор Авдеев, шагая по номеру между ящиками с экспедиционным добром, которое они везли из Петербурга и хранили на виду, чтобы не растащили революционеры. — Сама судьба привела тебя сюда. Надо же было именно мне оказаться в нужном месте в нужную минуту. Фатум! И ты никому ничем не обязан?
— Я? Никому.
— Замечательно. Мне нужен умный, преданный делу помощник, — сказал профессор Авдеев и посмотрел на жену, словно отговорил текст, отрепетированный заранее, и забыл слова дальше.
— Но я не знаю, куда вы намереваетесь ехать.
— Это дело второе, — прогудел Авдеев. — Едем мы в Турцию копать Трапезунд. Трапезундскую империю. Это тебе что-нибудь говорит?
— Очень немного. Византия, Средние века, царица Тамара…
— Достаточно, — сказала Ольга. — Ты выдержал экзамен. Если тебе позволяет здоровье, лучшее для тебя — поехать с нами. Нам остро не хватает интеллигентных сотрудников. Из старой компании с нами смог поехать только палеограф Российский. Ты его помнишь?
— Конечно, помню.
— Он полиглот и отличный специалист. Из-за близорукости его не взяли в армию.
Андрей приоткрыл было рот, чтобы спросить, не приедет ли нескладная Тилли.
— Что касается наших девушек, — продолжала Ольга, — то вопрос остается нерешенным. По крайней мере Матильда — ты ее должен помнить — обещала приехать позже…
— Платить мы тебе много не сможем — сами едем не за золотом, — загудел Авдеев. — Но голодать не будешь.
— Он согласен, — сказала княгиня Ольга, откусывая нитку и протягивая куртку Андрею. — Не очень убедительно, но крепко.
Андрей обещал подумать, хотя в душе сразу согласился с археологами. Ожидание Лидочки в значительной степени определялось чувством долга. Он обязан был ее дождаться и сделать так, чтобы ей было хорошо. А вот чувство, близкое к любовному томлению, Андрей испытывал именно от возможной поездки в Трапезунд. Это настоящие раскопки! Это же сказочное везение, которое выпадает археологу раз в жизни! «Но, конечно же, я не поеду, конечно, останусь, потому что Лидочка обидится, что я предпочел экспедицию…»
В таком ожесточенном состоянии человека, который уже принял благородное решение отказаться от счастья ради долга и потому крайне несчастлив, Андрей и объявился в отряде аскеров.
Появление Андрея в зеленой куртке и черных брюках, из-под которых выглядывали носки кое-как почищенных рваных ботинок, вызвало в лагере небольшую сенсацию. Аскеры окружили Андрея и дали волю своему застоявшемуся остроумию.
К счастью, Ахмет, который собрался уехать в тот вечер в Симферополь, задержался и вышел на шум.
Андрей потребовал уделить ему хотя бы пять минут времени, Ахмет вздохнул и согласился.
Они отошли в лес, и там Андрей изложил Ахмету свою дилемму: либо он ждет Лидочку и отказывается от дела своей жизни, либо едет в Трапезунд, но Лидочка ему этого не простит, и вообще он может ее упустить…
Тут Андрей совсем смешался и замолк.
— В Трапезунд тянет? — спросил тогда Ахмет.
Андрей кивнул.
— Я тебя понимаю, — сказал Ахмет. — Это Турция, настоящая страна, великая держава — тебе надо съездить туда, потому что со дня на день вас оттуда вышвырнут.
— Ты серьезно?
— Совершенно серьезно. После правительственного кризиса в Петрограде любому ребенку, кроме тебя, ясно, что Россия больше воевать не может и не станет. И окончательно в революции победит тот, кто сможет внятно доказать всей стране, что воевать не нужно. Сейчас это все понимают, а сказать никто толком не может.
— Честно говоря, Ахмет, все это мне не очень интересно.
— Тогда поезжай в Трапезунд. Если только ты не намерен осквернить могилы ислама.
Последнюю фразу Ахмет сказал вполне серьезно.
— Извини, я тебе не сказал, — спохватился Андрей. — Все совсем не так, как ты думаешь. Когда в шестнадцатом году наши войска захватили северную Турцию, туда поехал профессор Успенский, он специалист по Византии, по христианству. Мы ищем там остатки Трапезундской империи. Ее создали грузины. О царице Тамаре слышал?
— Конечно, она, как демон, коварна и зла.
— Я обещаю тебе, что мы не тронем ни одной мусульманской святыни.
— Тогда поезжай.
— Нет, я не могу.
— Мои аскеры будут каждый вечер ходить на набережную. Как только Лидочка приедет, я ее устрою, а тебе дам телеграмму.
— Ахмет, ты настоящий друг. — Андрей кинулся обниматься, словно Ахмет открыл невероятный путь к решению задачи.
— Только тогда возвращайся сразу, — сказал Ахмет, — а то я сам на ней женюсь.
Транспорт «Измаил» отходил в семь часов утра, когда уже поднялось солнце. Аскеры, к удивлению Андрея, были огорчены его отъездом, долго желали счастья и проводили Андрея до шоссе. Там ждала крытая повозка. Правил один из аскеров, Ахмет сидел рядом с Андреем. По дороге Ахмет передал Андрею письмо в белом конверте и сказал:
— Отнесешь и отдашь.
— Хорошо, — сказал Андрей равнодушно. Он смотрел в щель между плечом аскера и пологом, с каждым шагом все более раскаиваясь в том, что предает Лидочку. Он повернул конверт — на нем ничего не было написано.
— Я бы не хотел, чтобы оно попало к чужим, — сказал Ахмет, — это важное политическое послание.
— Бог с ними, с вашими играми, — сказал Андрей, — враги, республики, партии, выборы — неужели не надоело?
— А ты кто, Господь Бог, да? Всем не наплевать, а ему наплевать! Пока девушку желаешь, наплевать, пока в Трапезунд хочешь, наплевать, а потом спохватишься — поздно будет.
— Ты даже не сказал, куда отнести письмо, — сказал Андрей.
— На улице, что ведет вверх от порта, в угловом доме — кофейня. Над дверью деревянный фрегат и написано «Синдбад» — латинскими буквами. Не забыл? Спросишь Юсуфа, отдашь письмо. Как в романе про шпионов. Добро?
— Сделаю, — сказал Андрей.
Транспорт, покрашенный в неуютный шаровый цвет, стоял у пирса. Погрузка заканчивалась. Последними на борт поднимались серые солдаты в одинаковых папахах, с одинаковыми лицами. Шли они уныло, как на похороны. Ахмет протянул Андрею темные синие очки. Андрей отказался — очки больше привлекут внимание. Он надвинул пониже на глаза кепку, обнялся с Ахметом и аскером, который вез их. Авдеев, что стоял у борта, увидел Андрея и стал махать:
— Берестов, скорее! Берестов, мы отчаливаем!
Голос его разносился по всей набережной.
Андрей готов был убить профессора. Он взял себя в руки, помахал в ответ. Пограничников наверху не было — стоял лишь матрос, весь в пулеметных лентах, с «маузером» в деревянной кобуре, с громадным чубом из-под бескозырки — одет по самой последней революционной моде. Он пересчитывал солдат, впрочем, отвлекался, смотрел на чаек и снова начинал считать. На Андрея он не обратил внимания.
Пройдя мимо матроса, Андрей поглядел вниз. На пирсе стояла повозка — рядом Ахмет и его аскер. Ахмет поднял руку.
Андрей помахал в ответ.
К нему спешила мадам Авдеева.
— Как хорошо, вы вовремя, а я все считаю места — никому нельзя доверять. Теперь вам с Российским придется мне помочь.
Каюта, которую Андрей делил с Мстиславом Аполлинарьевичем Российским, милейшим человеком, погруженным в тайны палеографии, была заставлена экспедиционными ящиками и мешками так, что пройти между ними было невозможно. Авдеевы все экспедиционное добро сплавили подчиненным.
Путешествие оказалось неожиданно долгим — транспорт сначала пошел в Новороссийск, чтобы взять дополнительный груз для Трапезунда, там получили сведения, что поблизости видели немецкую субмарину — так что транспорт отстаивался два дня, пока из Севастополя не пришел миноносец «Керчь». В сопровождении его двинулись дальше. В каюте было душно. Профессор Авдеев обладал удивительным даром превращать в лекцию даже просьбу передать соль. Его трудно было долго выносить. Андрей все чаще думал о Лидочке, и становилось страшно, что она могла сгинуть в волнах реки Хронос.
На пятый день «Измаил» достиг Трапезунда — под этим названием скрывался заштатный турецкий городок.
Глава 2
Май 1917 г
Андрей проснулся от крика чаек. В недрах транспорта что-то загрохотало, Андрей соскочил с койки и кинулся к открытому иллюминатору, сквозь который лился яркий, рассеянный свет.
Бухта, в которой замер, покачиваясь, громоздкий «Измаил», была наполнена легким, пронизанным косыми лучами только что вставшего солнца туманом. Посмотрев в сторону грохота, Андрей успел увидеть, как разматывается якорная цепь и ныряльщиком, раскинув лапы, летит к воде якорь. Вот он коснулся воды и превратился в столб брызг — но грохот продолжался, потому что цепь все выскакивала из клюза, звено за звеном.
Близкий берег лишь угадывался сквозь туман, и хотелось отвести в сторону белесую кисею.
Проснулся Российский.
— Приехали? — спросил он, потягиваясь. — Я думал, не дождемся.
— Приехали, — сказал Андрей, преисполненный счастливым чувством первого настоящего путешествия.
— Тогда вы позволите мне оккупировать унитаз, коллега? — спросил Российский.
Андрей только отмахнулся от старого тридцатилетнего циника, который тут же прошлепал за перегородку, где были унитаз и умывальник.
И тут кисея тумана медленно и торжественно поползла в сторону, занавес открылся, и Андрей увидел древнюю землю Трапезунда.
Современный торговый и ремесленный город занимал долину вдоль моря. Дома там были разномастные, в основном невысокие, среди них тянулись склады и мастерские — берег являл собой не парадную сторону, а скорее обыденные и захламленные зады города.
Далее, поднимаясь на плоскую террасу, начиналась старая часть Трапезунда с узкими улочками, уютными домами под черепичными крышами, мечетями, столбами минаретов, маленькими, неожиданно возникающими площадями с фонтанчиками посредине, отрезками крепостных бастионов, что стали кое-где задними стенами домов. И над всем этим переплетением улиц, переулков и тупичков поднимался холм, где некогда располагалась цитадель и дворец трапезундских императоров — повелителей, малоизвестных даже профессиональным историкам, но тем не менее самых настоящих императоров средневекового государства, оплота христианства в Малой Азии. Таинственная, неведомая археологам и не тронутая ими, а потому трижды желанная земля, таящая множество тайн, открылась перед Андреем. Только невероятное везение, сказочное стечение обстоятельств смогли закинуть сюда Андрея Берестова, и он понял, что до конца дней своих будет благодарить судьбу за такой подарок.
К «Измаилу», бросившему якорь на рейде, спешили лодки торговцев и перевозчиков — крикливого портового люда.
Здесь уже была самая настоящая Азия — шумная, корыстная, бурная. Трапезунд, занятый русскими войсками во время летнего наступления 1916 года, так и остался прифронтовым городом, так как с тех пор русские лишь немного продвинулись вперед к бурым и розовым холмам, что поднимались в отдалении, громоздясь к горизонту настоящими горами.
Прошлым летом и осенью в Трапезунде уже работали три археолога из Петроградского университета во главе с профессором Успенским.
Результаты первого сезона, при ограниченных средствах, в окружении далеко не всегда дружественного греческого и турецкого населения, оказались обещающими, но не более. А хотелось сокровищ, статуй и свитков. Вместо того чтобы укрепить средствами экспедицию Успенского, Московский университет, вечно соперничавший со столичным, прислал свою экспедицию — авдеевскую, снабженную лучше, чем петроградская, так как в последний момент княгине Ольге удалось заручиться поддержкой мецената и подрядчика Георгия Метревели, который желал, чтобы археологи обязательно нашли в Трапезунде что-нибудь древнегрузинское.
Авдеев мог, не кривя душой, обещать меценату, что его пожелания будут выполнены.
Для этого были основания: во время дворцового переворота в Византии, случившегося в 1185 году, был свергнут и зверски замучен император Андроник. Как и положено в византийских переворотах, победители поспешили убить или ослепить всех близких родственников свергнутого императора, так как опасались соперничества и мести. Особенно жестоко принято было расправляться с мальчиками — возможными наследниками. Так что двум маленьким внукам Андроника — Алексею и Давиду — была уготована ужасная судьба.
Таинственным образом два мальчика исчезли из Константинополя. И объявились вскоре при дворе грузинской царицы Тамары, которая приходилась им родственницей. Факт родственных связей известен всем летописцам и современникам царицы, но в чем они выражались, летописцы не сочли нужным сказать.
Византийские царевичи, законные наследники трона, росли в Тбилиси, играли со своими грузинскими сверстниками, называли царицу Тамару тетей (что отражено в документах) и стали, пожалуй, больше грузинами, чем византийцами.
Неизвестно, как бы сложилась их дальнейшая судьба, потому что Грузия, хоть и была в те годы могучим и процветающим царством, сражаться с самой Византией — одряхлевшей, но могучей мировой империей — не могла.
Алексей и Давид оставались козырем в грузинской политике, но козырем, спрятанным в рукаве, — показывать их пока было некому.
Но тут произошла катастрофа. Очередной, четвертый крестовый поход, в который собралось рыцарство всей Западной Европы, вместо того чтобы освобождать от неверных Иерусалим, направил все свои силы против Константинополя. Византийцы не были готовы к такому коварству, и потому объединенная армия крестоносцев взяла штурмом Константинополь и свергла императора, отчего империя рассыпалась на ряд независимых владений.
Вот тут и наступил звездный час царицы Тамары.
Она собрала армию и послала ее на запад вдоль южного берега Черного моря, покоряя византийские гарнизоны и громя губернаторов. В ее армии скакали бок о бок два молодых отважных грузинских рыцаря — два наследника византийской короны.
Когда успешный поход грузинской армии завершился, Тамара не только отомстила византийцам за смерть Андроника, но и выкроила для своих воспитанников обширные земли по южному берегу Черного моря с центром в Трапезунде.
Там Давид и Алексей были коронованы императорами Трапезундской империи, а их потомки правили Трапезундом четверть тысячелетия, несмотря на то что все эти годы небольшая империя находилась в полукольце врагов. Но умелая и хитрая политика императоров, сила многонациональной торговой элиты Трапезунда, сложные и конфликтующие интересы соседей — все это позволяло Трапезунду сохранять независимость, а жителям его торговать, рыбачить, пахать землю, строить дворцы и церкви, писать книги, петь песни…
— Я освобождаю туалет, — сообщил торжественно Российский, обладавший чувством юмора висельника. — Вам не кажется, коллега, что еще в прошлом году там кто-то забыл дохлую крысу?
— Мстислав Аполлинарьевич, неужели нельзя обойтись без таких шуток? — взмолился Андрей.
— Для вашего юного возраста вы слишком впечатлительны. А может, в прошлом году «Измаил» перевозил сыр? Вы читали повесть Джерома Клапки Джерома «Трое в одной лодке»?
Андрей с сожалением оторвался от лицезрения бухты. С лодок, подошедших к высоким бортам транспорта, неслись крики: торговцы предлагали все — от сувениров и лепешек до женщин.
Через полчаса археологи в последний раз собрались за завтраком вокруг своего стола, обычно отмеченного присутствием капитана транспорта, капитана второго ранга Белозерского, старика с расчесанной надвое седой бородой, орла времен защиты Севастополя, который не смог отсиживаться в своем имении в годину испытаний и вернулся из запаса к действительной службе.
На этот раз капитан был занят разгрузкой.
Авдеев обвел строгим взором свою немногочисленную компанию — супругу княгиню Ольгу, палеографа Мстислава Аполлинарьевича Российского, отличного специалиста, но невыносимого остряка, а также фотографа Тему Карася, хромого родственника княгини Ольги, которого та пристроила в экспедицию, и никто, кроме самого Карася, не знал, умеет ли он фотографировать или намерен сбежать через Турцию в Египет и греться там на солнце. Наконец взгляд Авдеева остановился на самом молодом участнике похода — Андрее Берестове. Именно к нему оказались обращены слова речи профессора:
— Мы вступаем на древнюю землю, которая должна наградить нас славой или бесчестием. И это касается не только меня.
Тут профессор замолчал и растерянно поглядел на супругу, будто она забыла положить ему в карман отпечатанную на «Ремингтоне» торжественную речь.
— В конце концов! — воскликнул профессор после паузы. — Неужели каждому из вас не ясно? Это наша святая земля — это наш Иерусалим.
Почему-то все стали улыбаться, словно профессор сморозил глупость. Только Андрей не улыбался. Он понял профессора и разделил его высокое чувство.
Все гостиницы пыльного Трапезунда были переполнены русскими офицерами, прибывшими по различным делам, а также коммивояжерами и откомандированными Земского Союза, Союза городов, благотворительных ведомств и закупочных организаций. Грабить в Трапезунде было нечего, а если что и было, то исчезло уже год назад. Теперь все торговали или занимались контрабандой. Начиналось второе лето русской оккупации, город привык к этой неестественной жизни, будто всегда находился в ближнем тылу российской армии.
Приезжие офицеры роптали ввиду невозможности попасть в гостиницу. Все места были заняты нуворишами, распухшими от поставок и спекуляции армейским добром.
Успенский не пришел встречать экспедицию Авдеева, а прислал одного из своих сотрудников, голубоглазого блондина лет двадцати пяти, Ивана Ивановича. Фамилию свою этот человек, похожий на гимназиста, проведшего лет десять в выпускном классе и забывшего побриться, произнес столь неразборчиво, что никто ее не понял. Он и сообщил, что экспедиция Успенского вот уже вторую неделю занята на раскопках храма Златоглавой Богородицы и профессор Успенский не может отлучиться.
— Естественно, — проворчал Авдеев, — я иного и не ожидал. Скажите мне, молодой человек, а обеспечена ли наша экспедиция жильем, как я просил профессора Успенского два месяца назад?
— Вы и не представляете, — ответил Иван Иванович, не зная, куда спрятать громадные корявые кисти рук, вылезавшие из обтрепанных бахромой рукавов гимназической куртки. — Комнаты достаются с боем, как добыча на войне.
— И вам добыча не досталась?
Иван Иванович, которого вскоре Российский прозвал крестьянским сыном, развел своими ручищами-лопатами, признавая поражение.
— И где же мы будем жить? — спросил заинтересованно Авдеев.
Иван Иванович оглядел многочисленные свертки, ящики и сундуки московской экспедиции, вздохнул по-бабьи и произнес робким басом:
— А у меня комнатка-то маленькая.
С этого момента начала действовать княгиня Ольга. Она раздобыла какого-то возчика, забрала мужа и, оставив прочих сторожить вещи, отправилась к коменданту города.
Долгое ожидание, сопровождаемое попытками нападения на багаж грязных местных мальчишек, с которыми криками объяснялся Иван Иванович, было окрашено лишь рассказом добродушного крестьянского сына об особенностях археологической экспедиции в прифронтовой полосе.
Никому эта экспедиция не была нужна, тем более после революции, когда Археологическое общество лишилось высоких покровителей, а надежда на то, что Трапезунд и все эти края навечно вошли в состав России, в последние месяцы подтачивалась множеством тревожных слухов, сильным разложением армии и такой продажностью всех чинов, о какой в самой России и не подозревали. В Трапезунде царил пир во время чумы, причем пировали кому не лень и все за казенные деньги. Передовые части, что держали позиции на горах за Трапезундом, никак не желали оставаться в окопах и митинговали, бросая посты. И лишь крайнее нежелание самих турок воевать спасло русское воинство от полного потопления в Черном море.
Профессор Успенский, глава экспедиции и большой авторитет в византиеведении, предпочитал изучать рукописи и надписи на стенах бывших церквей, чем копаться в пыли в поисках черепков. По возвращении из Трапезунда Успенский был намерен выпустить ряд статей о различных памятниках того края, а также монографию по истории Византийской империи. Под стать Успенскому были и его сотрудники, готовые часами нюхать пыль манускриптов и обозревать порталы храмов, но неспособные взять в руки лопату, кисточку или скальпель.
Иван Иванович, вполне привыкший к странностям жизни в Трапезунде военного времени, ничего не понимал в наконечниках стрел и черепках, зато был специалистом по фресковой живописи средневековой Византии. Помимо этого он оказался и знатоком жизни вообще — пока они беседовали, сидя на тюках, сложенных у пирса, к нему время от времени подходили разные люди, большей частью греки, потому что многие турки уехали из Трапезунда, а греки, как единоверцы русских, чувствовали себя законными владельцами города, не желая верить в неизбежное возвращение торжествующего ислама.
Греки о чем-то деловито совещались с крестьянским сыном, передавали ему пакеты, которые Иван Иванович укладывал в суму, висевшую у него на плече. Хоть Российский с Андреем старались деликатно отворачиваться и не задавать вопросов, все же их разговор настолько часто прерывался появлением очередных подозрительного вида личностей, что Российский не выдержал и спросил:
— Черт побери, вы самый популярный человек в Трапезунде?
— Я? Да вы что! — широко улыбнулся крестьянский сын, выпятив вперед массивный подбородок. — Без крутежа тут не удержишься — помрешь. Неужели вы думаете, что на нашем содержании вы продержитесь больше трех дней?
— И вы торгуете? — спросил Андрей, и в его вопросе было видно такое чистое удивление, такая уверенность в том, что археологи в отличие от остального населения планеты взяток не берут и в темных сделках не участвуют, что Иван Иванович вовсе расхохотался и начал колотить себя кулачищами по острым коленям.
— Я не только торгую, — заявил он, отсмеявшись, — я занимаюсь контрабандой и играю на бирже, только что не ворую.
— Но зачем, зачем? — настаивал Андрей. — Вам же некогда копать.
— Вы не знаете моего распорядка дня, — возразил Иван Иванович. — Я, к вашему сведению, никогда не отлыниваю от ученых занятий и нахожусь на лучшем счету у господина профессора.
— Но чем здесь можно торговать? — спросил Российский, который не выказал никакого удивления или возмущения.
— Здесь? Тем, что приходит из России, и тем, что можно отправить на нашу любимую родину, — сказал Иван Иванович. — Я — мелкая сошка, и поэтому меня не трогают большие акулы. Мне бы просуществовать и вернуться домой обеспеченным человеком.
— Зачем? — спросил Андрей.
— Затем, что я хочу жениться, купить небольшое имение, чтобы хозяйствовать со своей будущей супругой. Я, милостивый государь, из крестьян, я люблю землю более, чем историю.
— Странно, — сказал Андрей, краем глаза видя, как Российский поднимается с тюка и медленно, подобно собирателю бабочек, крадется к зданию пакгауза, стоящему в нескольких метрах.
— Что странно?
— В России идет революция. Многие люди полагают, что вообще надо разделаться со всеми помещиками, отнять имения и все разделить поровну. Солдаты бунтуют, а вы рассуждаете так, словно ничего не произойдет.
— Если я буду думать о дурном, — возразил крестьянский сын, — то я опущу руки и стану ждать смерти. А это мне не свойственно. Вы знаете, кто мой любимый писатель?
— Нет.
— Могли бы и догадаться — Максим Горький. И не его книжки — Бог с ними, с его книжками, в них он часто выступает слюнтяем и интеллигентом. Меня он интересует как фигура, как человек, сделавший сам себя. Без помощи покровителя или общества. Я ощущаю родство с ним. Он бы меня понял.
Подошел очередной грек. Иван Иванович заговорил с ним по-гречески, и довольно бегло притом, затем вытащил из бездонной сумы пакет, перевязанный бечевкой, за что получил от грека иной формы сверток. Потом грек раскрыл бумажник черной кожи и, пересчитав, вручил Ивану Ивановичу целую пачку незнакомых на вид денег.
Пока шел обмен пакетами и деньгами, Андрей поднялся и пошел к началу улицы, ведшей от пирса. Он сразу увидел кофейню «Синдбад» и деревянный фрегат над запертой дверью. Видно, было еще рано. Андрей подошел к Российскому, сидевшему на корточках перед сложенной из каменных плит стеной пакгауза.
— Что вы нашли? — спросил Андрей.
— Да вы посмотрите, студент! — ответил Российский, не оборачиваясь. — Это же греческая надпись десятого века. Именно десятого века, и скорее всего — первой половины.
— Это редкость? — спросил Андрей, боясь спугнуть ту творческую углубленность, что владела Российским.
— Это большая редкость. Трапезундская империя упрочилась здесь в начале тринадцатого века, до того это была глухая византийская провинция. Я не знаю другой надписи десятого века из этих мест. Вот только сохранность… — Российский кончиками пальцев погладил стертые буквы.
— Вижу, надпись нашли, — сказал, подходя, Иван Иванович. — Здесь их тысячи. Сначала христиане уничтожали храмы римской эры, используя камень для своих построек, затем их дома, дворцы и церкви с таким же энтузиазмом крушили турки. Чудо, что здесь что-то осталось.
— Выгодно продали? — не без сарказма, как ему показалось, спросил Андрей.
— Весьма выгодно, — добродушно ответил Иван Иванович.
— А что здесь идет? — спросил вдруг Российский, выпрямляясь и почесывая острую бородку.
— Мы вывозим отсюда хороший табак, — с готовностью ответил Иван Иванович. — Он хорошо идет у нас. А еще лучше — опиум.
— Опиум? — удивился Андрей. — Для медиков?
— Есть люди, которые курят опиум.
— Но это опасно, — сказал Андрей. — Может образоваться вредная привычка.
Он пользовался сведениями из журнала «Вокруг света».
— Неизбежно, — сказал Российский. — И человек чахнет, не в силах существовать без этого зелья. А это уже распространено в России?
— Пороки гнездятся повсюду, — уклончиво ответил Иван Иванович. — Пошли к нашим вещам — к ним подкрадываются байстрюки!
Размахивая торбочкой на веревочной ручке, Иван Иванович побежал к экспедиционному багажу, звуками изображая сразу паровоз и стреляющую картечью батарею.
От кучи вещей, подобно тараканам, беззвучно кинулись в разные стороны оборванные портовые мальчишки. Иван Иванович подобрал с земли камень и со злостью запустил вслед воришкам. Камень попал одному из них в ногу, тот завопил и начал сильно прихрамывать.
— Ну зачем вы так! — сказал Андрей.
— Ничего нельзя оставить, ни на секунду, — проворчал Иван Иванович. — Ну вот… — Он показал, что один из вьюков был вспорот и оттуда наполовину вытащен рулон парусины.
— А что же им нужно от нас? — спросил Российский, имея в виду международную торговлю, а не воришек.
— Массу вещей из тех, что цивилизованная европейская страна может подарить своему отсталому восточному соседу. — Он вытащил из кармана тесных гимназических брюк дешевые стальные часы на цепочке и принялся крутить их на пальце. — И так далее, — сказал он, — и прочее.
Из-за края пакгауза завороженно смотрели на часы мальчишки.
Потом они исчезли, и показалась повозка — на более высоких колесах, чем Андрей привык в России. В ней сидели Авдеевы и подполковник в черной кожаной тужурке с серебряными погонами военного медика.
— Ого, — сказал с уважением Иван Иванович, — кого подцепили!
— А кого? — спросил Андрей.
— Подполковник Метелкин — главный ветеринар Трапезундского участка. Фигура. Подозреваю, что ваш профессор поэнергичнее нашего.
— Это наша жена поэнергичнее, — сказал Российский.
— Мальчики! — крикнула княгиня Ольга. — Все в порядке!
Когда пролетка остановилась и фатоватый подполковник Метелкин, с вожделением обозревая зрелые формы профессорши, помог ей сойти на землю, княгиня Ольга объяснила, что все члены экспедиции будут размещены в лучших номерах гостиницы «Галата», за что экспедиция и русская археологическая наука должны быть по гроб жизни благодарны Илье Евстафьевичу, который был так любезен и так далее…
— Я преклоняюсь, — прошептал на ухо Андрею Иван Иванович, — там не смог устроиться даже генерал-майор Зайнчковский. Только Метелкин… — И он развел ручищами.
Профессор Авдеев был и рад победе археологии, и смущен нескрываемым восхищением, с которым Метелкин обращался к его жене. Так что он сразу направился к багажу, давая лишние указания сбежавшимся грузчикам. Это вызвало беспорядок в их толпе, так что в конце концов и грузчиками занялся подполковник Метелкин.
Подполковник Метелкин был образцом стареющего светского льва. Он был крайне высок ростом, его маленькая голова с пышными усами была всегда чуть откинута, узкие плечи отведены назад, небольшой, твердый на вид живот существовал как бы самостоятельно в виде авангардного отряда. Длинные ноги подполковник ставил по-балетному, но с ухарским вывертом, так что сапоги его находились в сложном движении и всегда излучали сияние. Волосы подполковника были расчесаны на замечательный пробор и чуть вились, а взгляд был с такой поволокой, что вызывал дрожь в некоторых дамах.
С археологами, которых представила ему княгиня Ольга, подполковник был снисходительно вежлив, дав Российскому и возникшему неизвестно откуда Теме Карасю подержать свою узкую мягкую кисть. Но когда княгиня Ольга произнесла: «А это Андрей Берестов, младший, но далеко не последний сотрудник нашей экспедиции…» — подполковник вдруг замедлил движение руки и, откинув еще более голову, принялся изучать Андрея столь бесцеремонно, что тому стало не по себе.
Он даже отвел глаза и посмотрел на крестьянского сына, надеясь найти у того сочувствие, но Иван Иванович смотрел на Андрея с нескрываемым удивлением.
— Разве мы с вами встречались? — спросил наконец Андрей, прерывая затянувшуюся паузу.
— Не имел чести, — ответил подполковник. — Хотел бы знать, что привело вас в наши края.
— Андрей Берестов, — повторила Ольга Трифоновна, решив, видно, что подполковник не расслышал ее слов, — наш младший, но далеко не последний сотрудник.
— И надолго к нам? — спросил Метелкин, понизив голос, словно эти слова предназначались только для Андрея.
— Как и все, — сказал Андрей.
— Да, конечно, — поспешно согласился Метелкин, хотя по-прежнему был растерян. Но больше к Андрею он не обращался.
Тем временем откуда-то появились два солдата с винтовками, которые встали возле экспедиционного багажа. Метелкин поручил им заботу о грузе, а сам отвез гостей в отель, в пышное, как кремовый торт, но давно не подновлявшееся трехэтажное здание, перед входом в которое сидели сразу четыре чистильщика ботинок, а двери открывали два швейцара в обшитых позументами потертых ливреях.
Отель «Галата» в Трапезунде летом 1917 года был самым фешенебельным заведением, пожить в котором почитали за честь даже генералы и адмиралы, приезжавшие сюда с инспекциями и строжайшими проверками, не приносившими ожидаемых результатов. В действительности, как и предупреждал Иван Иванович, отель был прибежищем крупных спекулянтов и темных дельцов. Так что появление в «Галате» археологической экспедиции с ее сундуками и тюками, с более чем скромными на вид сотрудниками вызвало некоторое презрительное удивление среди челяди, пока челядь не узрела припозднившегося подполковника Метелкина.
Тогда все стало на свои места. Откуда-то из-за стеклянных дверей в стиле провинциального модерна с примесью ориентального борделя, из-за занавесок, издающих хрустальный звон, появились юноши в красных фесках, готовые немедленно разнести багаж экспедиции по апартаментам.
Метелкин беседовал с портье. Они склонились друг к другу через широкое отполированное поле стойки и взволнованно шептались, словно обговаривали ночной мальчишник. В конце концов денежные проблемы, ко всеобщему удовлетворению, были улажены, подполковник сам вручил ключ от апартаментов люкс профессорше и велел прочим сотрудникам — а именно Андрею, Теме Карасю и Российскому — самим забрать ключи от своих номеров.
Княгиня Ольга сияла, как женщина, вознесенная на недосягаемую высоту бескорыстным поклонением паладина, ее муж изображал пренебрежение к житейским благам, давая притом понять, что Метелкин старается исключительно ради его прекрасных профессорских глаз. Карась боялся, не случилось бы чего с его камерой и треногой. Российский ничего не боялся и думал о надписи десятого века, а Андрей смертельно хотел спать, потому что ночью трижды вылезал на палубу, чтобы первому увидеть таинственные берега Турции.
Экспедиция, сопровождаемая десятком носильщиков, поднялась на второй, устланный коврами этаж, где рассталась. Здесь оставалось начальство — остальным судьба определила комнаты этажом выше.
Комнаты были в конце длинного коридора. Там потолок был пониже и двери скромнее, чем на втором этаже, но сама комната Андрею понравилась — она выходила на улицу справа от входа в «Галату», откуда начинался подъем к цитадели, где виднелись обломанные зубцы крепостных стен и башен, а далее, за бурыми холмами, поднималась серо-голубая под полуденным солнцем громада горы с развалинами на вершине. Андрей поднял жалюзи и открыл окно, чтобы изгнать затхлый запах непроветренной комнаты. Он впитывал в себя чистоту воздуха и полуденную умиротворенность жаркого дня, когда даже мальчишки убираются с улиц, чтобы заснуть в полутьме задней комнаты.
Ему захотелось запомнить это мгновение, эти звуки и этот вид из окна, и он медленно переводил взгляд с предмета на предмет, как бы фотографируя их глазами.
Когда взгляд Андрея достиг угла улицы, то он увидел полного человека в черном костюме, в черном котелке, что не соответствовало времени и жаре. Раньше Андрей его не замечал. Он глядел на Андрея и, встретившись с ним взглядом, приподнял толстую трость, как бы приветствуя Андрея.
Андрей пожал плечами — он был в этом городе всего часа два и, разумеется, не мог иметь здесь знакомых. Человек в черном размеренно пошел к гостинице. Андрей чуть наклонился вперед, пытаясь разглядеть незнакомца, а тот и не намеревался скрывать лицо. Он приподнял котелок, чтобы Андрей лучше мог разглядеть его лицо, оливковое, полное, с большими черными глазами, сросшимися бровями и напомаженными волосами.
— Господин Берестов? — внятно, но с акцентом произнес незнакомец, закидывая голову.
— Это я, — согласился Андрей.
— Андрей Сергеевич, если не ошибаюсь?
— Но я вас не имею чести знать, — сказал Андрей.
— Я вас упустил в Севастополе, в апреле, — сказал незнакомец. — Я приехал, а вы были в отъезде.
— Я не был в Севастополе в апреле, — ответил Андрей.
— И я так думаю, — согласился незнакомец. — Я же вас не застал.
— Извините, — сказал Андрей.
— Это вы меня извините, — сказал вежливо незнакомец, надевая котелок. — Я к вам сейчас приду, хорошо?
— Зачем?
— Ах! — расстроился незнакомец. — Меня все в Трапезунде знают. Но такое несчастье, что господин Берестов меня не признает. Я к вам сейчас приду. А вы мне откройте дверь, это вас не затруднит?
И, не дав Андрею ответить, незнакомец скрылся за углом.
Через три минуты он уже стучал в дверь номера. В этой встрече была интрига — как будто ты раскрыл свежий номер «Вокруг света», прочел первую главу нового романа Буссенара или Пьера Бенуа и теперь ждешь, каждый день заглядывая в почтовый ящик, когда же наконец будет продолжение…
— Войдите, — сказал Андрей.
— Это я, — сказал незнакомец, открыв дверь и остановившись там, как бы давая Андрею возможность как следует себя разглядеть. — Мое имя Сурен Саркисьянц. Меня многие знают.
— Чем могу быть вам полезен? — спросил Андрей, указывая гостю на стул. — И откуда вы знаете мое имя?
— У меня сегодня одно имя, завтра другое имя, даже родная мама уже забыла, какое имя было у меня с самого начала. Скажите, Андрей Берестов, что вы для нас привезли?
— Я? Для вас?
— Не надо маневров. Вам известно, чьи интересы я представляю. — Саркисьянц широко улыбнулся, и Андрею показалось, что он заглянул в жерло огнедышащего вулкана, — все зубы господина Саркисьянца были увенчаны золотыми коронками — золотого сверкания было не меньше, чем от полотна Репина «Заседание Государственного совета».
Господин Саркисьянц был невелик размерами, но очень ладно и округло скроен, подобен тюленю, покрытому, чтобы пережить холодную зиму и ледяную воду Арктики, ровным и упругим слоем жира. Как ценной тюленьей шкурой, этот жир был обтянут тугим черным костюмом, а по жилету стекала солидная золотая цепь.
— Поймите меня правильно, я негоциант, — заявил господин Саркисьянц. — Вам известно такое слово? Я обладаю большими средствами, которые вкладываю в различные предприятия. Так что любая безделица для меня радость. Золотые часы есть? Нет? А серебряные часы есть? Нет? А остальные часы есть? Нет. Скажи, а фотоаппарат у тебя есть? А бинокль у тебя есть? А то, о чем вслух не говорят, у тебя есть?
— Я не знаю, что это такое.
Господин негоциант расхохотался. Он просто трясся от остроумия господина Берестова. Потом вытянул на золотой цепи из кармашка, словно якорь, часы и громко щелкнул их крышкой, отчего зазвучала мелодия «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин…». Тут господин негоциант стал непроницаемо серьезен. Он извлек визитную карточку с золотым обрезом, протянул Андрею и сказал:
— Мы с вами, Андрей Сергеевич, будем делать большие дела. Я вас проверил. Все в порядке. Вы мне понравились. Так я и передам заинтересованной персоне.
С этими словами негоциант каким-то неуловимым образом оттолкнул задом стул, который послушно отъехал на два аршина и остановился. Затем, уже стоя, перехватил трость и, коротко поклонившись, исчез, словно был плодом воображения Андрея.
Андрей отлично знал, что Сурен Саркисьянц ему не приснился и не привиделся. А это означало лишь одно: где-то у Андрея есть двойник, вернее всего, в Севастополе. Что очень странно. Более того, его двойник каким-то образом связан с армянским негоциантом.
Менее всего Андрей мог бы предположить, что этим двойником стал его гимназический приятель Коля Беккер, оставшийся в Севастополе после отъезда Колчака в Америку.
Участие в трапезундских операциях, правда, не весьма активное и широкое, Коля начал принимать еще в апреле, при Колчаке. В конце концов, многие в штабе флота и его службах приторговывали с Трапезундским гарнизоном и тамошними негоциантами как купленным на собственные деньги, так и казенным добром.
С отъездом Колчака Коля Беккер и Свиридов стали теснее сотрудничать с помощниками подполковника Метелкина, который в значительной степени мог считаться генералом российских торговых людей. Беккер и Свиридов были нужны трапезундцам потому, что, с одной стороны, всегда знали заранее об акциях флота и армии, как благоприятных для тайной торговли, так и вредных для нее. С другой стороны, именно эти офицеры в штабе помогали обеспечить перевозки добра на военных и транспортных судах под видом боеприпасов, обмундирования и черт знает чего еще. Военные грузы никем не досматривались. Ни Коля, ни Свиридов не знали об истинных масштабах контрабанды или о ее организаторах — они были винтиками передаточных инстанций. Еще в мае полковник Баренц из контрразведки предложил Коле съездить в Трапезунд с ревизией. Коля сначала согласился, но потом, наслушавшись рассказов о нравах тамошних контрабандистов, предпочел сказаться больным. Баренц был недоволен, но ему ничего не оставалось, как самому собираться в путь: из Трапезунда приходили тревожные вести — конкуренты «севастопольской группы» намеревались перехватить рынок…
Андрей снял сапоги и, усевшись на кровати, принялся рассматривать свою комнату. Центр номера занимала кровать, которая вызывала подозрения, что в этом номере останавливались обычно джентльмены с небольшими гаремами. Помимо кровати, балдахин над которой был частично сорван, в комнате стояло ободранное голубое мягкое кресло, женское трюмо с пустыми бутылочками и баночками и круглый столик на шатучих паучьих ножках. Пол был устлан потертыми коврами.
Андрей откинулся на постель, не разбирая ее. Она оказалась мягкой, податливой и невероятно скрипучей. «Что же происходит, когда на нее ложится гарем?» — подумал Андрей и тут же заснул.
Проснулся он только к вечеру от непривычных звуков под окном. Город уже очнулся от послеобеденного отдыха и набирал вечерние темпы и шумы. Кричали мальчишки, звенели и вопили продавцы воды и шербета, верещал бродячий фокусник, матерились два пьяных русских прапорщика, завывали прохожие торговцы из лавочек, что выходили на улицу, размером напоминая платяные шкафы.
В дверь постучали — это был Тема Карась, фотограф, которому госпожа Авдеева поручила оповестить археологов, что общий ужин для экспедиции будет подан в ресторане отеля «Галата» и потому всех просят по возможности одеться подобающим образом. Тема был крайне расстроен — у него была лишь зеленая студенческая тужурка, потому что Тему выгнали за увлечение фотографией из Лесного института, а впоследствии все деньги он тратил на химические реактивы, треноги и линзы для своих аппаратов, так что до остального руки не доходили. К счастью, в гардеробе Великого князя, пожертвованного Андрею императрицей, оказались лишние брюки для Темы, которые, правда, пришлось подвернуть.
Сам Андрей никаких трудностей не испытывал — замшевая охотничья куртка с золотыми пуговицами вполне могла сойти за генеральскую униформу экзотической, допустим, лихтенштейнской армии.
Труднее оказалось с проблемой туалета, ибо в гостинице такой пышности «удобства» оказались в конце синего, украшенного цепочкой матовых лампионов под потолком коридора и были заняты каким-то русским человеком, который в ответ на робкие запросы Андрея отвечал, пользуясь всеми красками русского языка, как плохо его желудок переносит острую местную пищу и напитки. В конце концов этот ругатель вышел и оказался низеньким, одновременно облысевшим и взлохмаченным поручиком по интендантству и, не попросивши прощения, побрел прочь. Зайдя внутрь, Андрей вспомнил чью-то мудрую фразу, что уровень цивилизации определяется чистотой ее туалетов.
Помыться удалось в номере, где возвышался грандиозный мраморный умывальник, созданный, видно, Скопасом, на котором стоял наполовину наполненный таз. Так что Андрей, выходя к обеду, был удручен и разочарован.
Но стоило Андрею вновь выйти в коридор и, спустившись на этаж по закругленной с позолоченными перилами лестнице, очутиться на престижном втором этаже, где располагались номера господ Авдеевых — место сбора экспедиции, как его настроение изменилось.
Ступив на мягкий ковер второго этажа, Андрей окунулся в мир неги и разврата, сомнительных удовольствий и сладострастия, невиданных денег и неслыханного коварства. Андрей всей шкурой почувствовал, что пребывание экспедиции в гостинице «Галата» грозит ей моральной, а может быть, и физической гибелью, неминуемой опасностью потонуть в болоте порока.
Но, почувствовав это, Андрей не воспротивился опасности. Его девятнадцатилетнему, не искушенному в пороках телу стало щекотно и сладко от предвкушения вседозволенности.
Дверь в номер профессора Авдеева была преувеличенно велика, и хотелось поставить по обе ее стороны по гигантскому гвардейцу с алебардой и желательно в тюрбане.
Постучавши, Андрей вошел в номер, который был так же роскошен, как коридор, так же пышен, но далеко уступал ему в размерах. Очевидно, архитектор этого здания полагал, что его посетители будут большую часть времени гулять по коридорам, а в номера забегать лишь для удовлетворения овладевшей ими страсти. Номер, намного превышавший тот, в котором обитал Андрей, был почти весь занят двуспальной кроватью под расшитым стеклярусом балдахином. Плотный профессор сидел на краю кровати и громким голосом доказывал Российскому, что надпись десятого века в районе трапезундского порта существовать не может, потому что это противоречит науке. Андрей знал, что профессор ровным счетом ничего не смыслит в греческих надписях.
Тема Карась сидел в кресле, покрытом чем-то блестящим, и заворачивал обшлага брюк. Российский слушал гневные филиппики Авдеева и смотрел в окно, за которым ничего, кроме синевы темнеющего неба, не было видно. Вошла восхитительная госпожа Авдеева в блеске купеческой зрелости. Российский как-то сказал, что ее хочется сорвать и жевать, обливаясь соком. Плечи ее были обнажены, в руке страусовый веер.
— Все готовы? — спросила она, оглядывая комнату, где все вытянулись при ее появлении и даже муж не удержался и вскочил, задрав бороду, будто от этого мог стать выше.
Княгиня Ольга прошла вдоль строя, только что не проверяя зубы. Андрею поправила галстук, Теме велела почистить ботинки, а Российский ей совсем не понравился — слишком он был мят и засыпан перхотью, и видно было, что она готова оставить его дома, но не оставит, потому что для палеографа это будет вовсе не наказанием, а подарком — он наверняка стремится к недочитанному труду Шампольона или Брэстеда. Так что и Российского взяли.
Пока Ольга Трифоновна инспектировала свою дружину, Андрей задумался о странной участи русских женщин. По воспитанию своему и месту в семье они играют скорее роль главенствующую, чем подчиненную. В семействе, в имении, в усадьбе, в литературном салоне — куда ни поглядишь, правят российские дамы. Они и образованней, и умней мужчин и не отвлекаются на мелочи вроде политики. То есть по праву и возможности русское общество могло бы стать матриархальным, и это пошло бы ему на пользу. Но законы общества, его родовые, древние, дремучие боярские нравы требуют, чтобы женщина ограничивала свою деятельность домашним хозяйством. И сколько же остается нерастраченных сил, загубленных судеб — сколько министров, сколько Путиловых и Пироговых не смогли найти своего выхода в жизни. Если революция и может принести нечто полезное, то это будет не столько земля крестьянам, о которой говорят, но никто ничего не смеет предпринять, а открытие дороги для русских женщин. И вот, рассуждал Андрей, пройдет несколько лет, и русские женщины займут достойные места — будут у нас женщины-министры, женщины-сенаторы, женщины-миллиардерши. Будут они подобны нашей княгине Ольге — могучие, пышущие российским здоровьем, со взбитыми прическами, может, порой чересчур самоуверенные, но знающие свое дело и видящие цель в своей жизни. И будут с завистью глядеть на Россию Англия и другие страны, которые и мечтать не посмеют о том, чтобы дама была у них премьером. А у нас будет!
Рассуждая таким образом, Андрей не заметил, как они вышли из номера и спустились в вестибюль гостиницы, дурно освещенный и замызганный оттого, что там было слишком много случайного народа — спящих на чемоданах офицеров или дельцов, которым не нашлось номера, заблудившихся пьяниц и личностей, которые избрали вестибюль местом для заключения своих сделок или тайных переговоров.
Появление экспедиции вызвало некую сенсацию между собравшимися. Попробовав взглянуть на экспедицию со стороны, Андрей вынужден был признать, что удивление окружающих обоснованно.
Впереди небольшой процессии шествовала крупная дама в расцвете лет, одетая в вечернее платье, оставляющее обнаженными соблазнительные части ее прекрасного тела. Под руку эту даму держал низкий пожилой мужчина с черной бородой, массивным носом и злыми глазками из-под очков. Почетным эскортом эту пару сопровождали три молодых человека, один в замшевом костюме для придворной охоты, второй в потертой студенческой тужурке и сползающих слишком длинных брюках, и наконец третий, в стареньком пиджачке, с отсутствующим взглядом, будто попавший сюда совершенно случайно.
Пересекши вестибюль, эта пятерка вошла в страшно дымный и душный, кричащий, поющий, прогуливающий деньги зал ресторана.
Метрдотель, завидя археологов в дверях, кинулся к ним и на добром греческом языке обратился к Андрею, приняв его за главу процессии. А так как никто греческого не знал, то археологи начали кивать головами и кивали, пока их не провели за стол у сцены, и там Авдеев сердито обратился к Российскому:
— Я всегда полагал, что вы знаете греческий! Куда он делся?
— Я знаю, как писали греки три тысячи лет назад, — ответил Российский. — Но они давно пишут иначе.
— А где он? — спросил тогда Авдеев у своей жены. Он был агрессивен и не уверен в себе.
— С минуты на минуту, — ответила Ольга Трифоновна, будто бы и в самом деле имевшая право знать о планах подполковника Метелкина.
Они расселись за столом, оставив место Метелкину между Авдеевыми.
Ресторан оказался велик и высок, будто он заполнял собою всю гостиницу, и происходило это оттого, что потолка и лепнины не было видно — настолько густо собирался наверху табачный дым и чад из кухни.
За столиками сидели в основном русские офицеры и гражданские люди, но были и местные, по крайней мере так показалось Андрею. Конечно же, он не мог утверждать наверное, видит ли перед собой дельца из Одессы или грека из Синопа.
Женщин в ресторане было немного, и Андрей мог бы поклясться, что, за исключением княгини Ольги, все остальные, молодые, одетые и накрашенные ярко и вульгарно, относились к числу гетер. Но и в этом вопросе Андрей не был достаточно компетентен.
Метелкин пришел с опозданием, и из-за этого им пришлось просидеть минут двадцать за пустым столом, слушая плохой оркестр и непристойные крики офицеров. Метелкин вошел быстро, на этот раз он был не в кожаной тужурке, а в хорошо сшитом мундире. Он попросил прощения у княгини Ольги и бурлившего от негодования Авдеева и, дав знак официанту, смог заставить того в мгновение ока расставить на столе блюда и салатницы, чтобы успокоить изголодавшихся археологов, — благо шум стоял такой, что лишь господин Метелкин, поочередно наклоняясь то к ушку Ольги Трифоновны, то к уху ее супруга, мог поддерживать светскую беседу.
Андрей решил как следует поесть — еще днем Иван Иванович предупредил, что жалованья, положенного университетом, недостаточно даже на кофе.
Обжигаясь жирным бараньим супом, Андрей обратил внимание на то, что оркестр перестал играть и в зале от этого наступила кратковременная тишина. Подняв голову, он увидел, что оркестр отодвигает стулья, чтобы освободить на сцене больше места, а завсегдатаи ресторана хлопают в ладоши, ожидая приятного зрелища.
И в самом деле зрелище, представшее глазам Андрея, было для него необычным и экзотическим. Под томительную восточную мелодию на сцену вышла молодая женщина в ярких зеленых шальварах, широком, расшитом блестками лифе и подобии легкой чадры. Живот ее, плечи и руки были обнажены. Эта женщина начала танцевать, совершая движения бедрами и животом, что приводило офицеров в восторг, хотя Андрея оставило равнодушным. Он признавал, что фигура танцовщицы была почти безупречна, черные волосы так же хороши, но сам танец не требовал особого умения.
По окончании танца зрители не были удовлетворены и начали бурно хлопать в ладоши и кричать «бис!».
Танцовщица спустилась со сцены и начала продвигаться между столиками, ловко избегая жадных пальцев офицеров и нуворишей, стремившихся хотя бы дотронуться до нее.
Она прошла совсем близко от стола археологов, вызвав в Метелкине пароксизм восторга.
— Аспасия! — закричал он. — Душа моя! Я твой верный друг!
Легким округлым движением руки танцовщица как бы вернула его на место, с которого подполковник ветеринарной службы уже готов был сорваться, и тут же обратила свой взор к Андрею. И тогда Андрей впервые увидел глаза Аспасии — совершенно зеленые, болотные, сверкающие куда более, чем положено человеческим глазам, — глаза пантеры с человеческим зрачком, обрамленные такими длинными и густыми ресницами, будто лесные озера в окружении густых елей. Глаза чуть сощурились, и до Андрея донесся шепот:
— Берестов, я жду тебя…
Андрей не знал, услышал ли кто-нибудь этот шепот, но движение Аспасии и ее внимание к Андрею были отмечены многими.
— Не ошибись! — закричал подполковник Метелкин. — Федот, да не тот! Но ты пробуй, пробуй…
Подполковник начал хохотать, танцовщица уже была у соседнего стола, а затем, проскользнув у самой двери, исчезла из зала.
Княгине Ольге стало совершенно невтерпеж в этом вертепе.
— Мы благодарны вам, Илья Евстафьевич, конечно, благодарны, но тяжелая дорога, а здесь так шумно и дымно… Нет, что вы, конечно же, оставайтесь…
Андрей-то знал, что княгиня Ольга взбешена. И этим паршивым ресторанчиком, и поведением мецената Метелкина — и собой, потому что поддалась его ухаживаниям и оказывала ему знаки внимания. Но весь ее гнев и негодование выльются на профессора Авдеева, тем более что сам Авдеев ничего бы не смог поделать без помощи Метелкина, а его хваленый профессор Успенский, как кот, берегущий свою территорию, даже не захотел с ним встретиться.
Княгиня Ольга рассчитывала на то, что вся экспедиция демонстративно покинет вертеп, но ее ждало еще одно разочарование — Андрей Берестов поднялся вместе с ней, но сказал:
— Я останусь еще немного. Можно?
— Я бы на вашем месте… — сказала Ольга Трифоновна, но потом махнула рукой, понимая, что здесь настаивать бессмысленно. Она постарается наказать Андрея потом — к этому у нее будет масса возможностей. Не оценив ситуации, с Андреем решил остаться фотограф Карась, которому ресторан казался олицетворением сказок Шахерезады, о чем он и сообщил Андрею, когда остальные ушли. Вскоре вернулся подполковник Метелкин. Он ничего не понял и спросил Андрея:
— Она чего, Ольга Трифоновна, какая муха ее, а?
— Она вас приревновала к танцовщице, — сказал Андрей, наклонившись к подполковнику, чем привел того в отличнейшее настроение.
Оркестр уже играл одесские мелодии, вышел вертлявый певец, который старался отбивать чечетку.
Метелкин позвал за стол нескольких офицеров, заставил их доесть не использованные по назначению археологами блюда, заказал еще несколько бутылок коньяка и сладкого местного вина. Фотограф быстро опьянел и клевал носом, стараясь не заснуть, Андрей спросил у Метелкина, кто такая Аспасия.
Метелкин поднял палец и сказал:
— Не надо песен, Андрюша!
Танцовщица более не появилась, и Андрей жалел об этом. Но несмотря на крепкий и очень душистый кофе, что принес ему официант, сонливость взяла свое. Андрей спросил Метелкина:
— А что делать с Карасем?
— Не обращай внимания, — сказал подполковник, — иди встречай Морфея, а я… — Тут подполковник снова прижал палец ко рту, и глаза его сделались до противности глупыми.
Андрей не знал, должен ли он давать на чай официантам — он уже понял, что в Трапезунде ходили самые различные деньги и даже существовала широкая категория лиц, которая строила свое благосостояние на торговле русскими рублями, турецкими лирами, греческими драхмами и валютами совсем уж несусветными. Заметив и правильно расценив колебания археолога, Метелкин отмахнулся и крикнул:
— Идите спать, господин Берестов!
Андрей склонился перед таким проявлением вежливости и вышел из зала, веселье в котором лишь набирало силу.
В вестибюле также было довольно людно, и, несмотря на то что большие часы, висевшие над стойкой портье, показывали десять часов, кипение страстей разгоралось — сюда выходили из ресторанного зала, чтобы поговорить наедине, сюда забегали люди с улицы, кого-то спрашивали, кого-то требовали, ссорились и мирились, на длинном диване под пальмой в кадке сидели в рядок три весьма разукрашенные брюнетки в коротких юбках и матросских блузах. Андрюша понял, что это — проститутки, и ему стало неловко и даже чуть страшно оттого, что он может сейчас — и никто этому не удивится — подойти к этим девицам и купить тело любой из них. У Андрея даже лоб вспотел от такой мысли, и, истолковав его взгляд по-своему, одна из девиц окликнула его на плохом русском языке:
— Солдатик, пойдем, хорошо?
Андрей поспешил прочь, и вслед ему был слышен смех.
Андрей вышел на улицу. Освещена она была плохо — фонарей всего два, возле самой гостиницы. Далее улица освещалась лишь светом из окон. Так как электрического освещения в большинстве домов не было, свет этот был тусклым. Дальше по улице видны были ярко освещенные открытые двери и окна кофеен, что придавало ей атмосферу некой театральности.
Из темноты возникли два белых глаза и, страшно светя, надвинулись на Андрея, который отпрянул к стене, не сообразив сразу, что это автомобиль, настолько автомобиль был чужд этому антуражу. Из автомобиля, остановившегося перед «Галатой», выскочил офицер и помог сойти толстому генералу, императорский шифр на золотых погонах которого сверкнул, как драгоценный камень. Генерал и офицеры, сидевшие в моторе, рассмеявшись какой-то шутке, исчезли внутри гостиницы.
Андрей решил выйти к морю. Вечер был слишком теплым, безветренным, словно ты находишься в комнате с плотно закрытыми окнами и форточками. Запахи города слагались из ароматов восточной кухни, миазмов, плохой канализации и тех неуловимых запахов, что накапливаются в каждом южном городе столетиями. Порой уже сто лет назад источник аромата исчез, но, вцепившись в соседние запахи, он продолжает вливаться в общий аромат города.
Андрей пошел вниз по улице, он знал, что надо идти под гору — в конце концов выйдешь к морю.
На площади паслось стадо столиков, вынесенных из небольших харчевен, на столиках стояли керосиновые лампы, за столиками сидели греки и негромко разговаривали, из кофейни доносилась греческая песня, совсем такая же, как в Балаклаве или Керчи.
Посреди площади шарманщик крутил ручку хриплой шарманки, игравшей нечто немецкое, на плече у него неподвижно торчал белый попугай, а на шарманке горела большая свеча.
Из-за медленно ползущего облака выглянула тонкая старая луна, черное дно площади стало серебристым, а тени черными. Навстречу Андрею шел патруль. Три солдата — винтовки с примкнутыми штыками, — молодой поручик с повязкой на рукаве.
— Молодой человек! — окликнул поручик Андрея. — Вы куда пошли?
— Добрый вечер, — сказал Андрей, не обидевшись на оклик. — Как вы догадались, что я русский?
— Опыт, — сказал офицер, а солдаты засмеялись.
— Я в гостинице остановился, — сказал Берестов.
— А не позволите ли вы посмотреть на ваш документ? — вежливо спросил офицер.
Солдат зажег электрический фонарь, и офицер, взяв временное удостоверение Берестова и пропуск в военную зону, добытые для него Авдеевым, прочитал их и вернул Андрею.
— Неужели интендант? — спросил офицер, и Андрей понял, что ему не хочется, чтобы его приняли за торговца или спекулянта.
— Это потому, что я в гостинице живу, — сказал Андрей. — Нет, нас устроили в гостинице, но вообще-то мы — экспедиция, мы будем изучать здешние храмы.
— Какие здеся храмы, — сказал один из солдат. — Здеся одни ихние мечети.
— Вы не правы, — возразил Андрей. — Когда-то эти мечети были построены как православные церкви, а потом сюда пришли турки и приспособили их для себя.
— Вот я и говорю, — сказал второй солдат. — Это все наша земля, русская.
— Вы, я вижу, у нас первый день, — сказал командир патруля, — и правил наших не знаете. Здесь случаются и грабежи, и убийства. Обстановка, я вам доложу, тревожная.
— Почему? — спросил Андрей. — Город кажется очень мирным.
— Он сейчас кажется мирным, — сказал поручик, — а вы бы сюда попали год назад, когда наша армия сюда вступила, — стон стоял!
— Да, я тут был, — сказал первый солдат. — Это точно, что стон стоял. Сколько их порезали, сколько пограбили — уму непостижимо.
— Кто грабил? — не понял Андрей. — Турки?
— Какие турки? Турки бежали отсюда, — сказал поручик. — Это греки. Их, конечно, теоретически можно понять — столько лет они были лишены даже элементарных человеческих прав. Но вы не представляете, какие звериные темные инстинкты проснулись в толпе. Шел грабеж, совершались убийства, поджоги, осквернялись мечети и кладбища…
— Девок насиловали, — сказал солдат. — Сам видал.
— Я боюсь, — сказал поручик, — что, когда мы уйдем отсюда и турки вернутся, снова будет резня. Только наоборот.
— В этом беда всех многонациональных империй, — сказал Андрей. — Такое случалось и в Древнем Риме.
— О Древнем Риме не знаю, — улыбнулся вдруг поручик, который был, очевидно, славным малым, — не бывал. Но что в России мы то же самое получим, не сомневаюсь.
Он приложил руку к фуражке, потом протянул ее Андрею:
— Поручик Митин, Юрий Константинович.
— Берестов, Андрей Сергеевич, — сказал Андрей. Он с радостью пожал руку этого простоватого, курносого, с хитрецой в глазах поручика. Так в первый же день он обзавелся знакомым.
Возвращаться в гостиницу Андрей отказался, сказав, что грабить у него нечего, — в крайнем случае он убежит.
Патруль направился дальше, а Андрей, спросив для верности о кратчайшей дороге к морю, свернул с площади направо и пошел узкой кривой улицей, мостовая которой углублялась к центру, там по канавке стекала черная вода, от которой плохо пахло. У домов, как правило, был каменный, сложенный из плит первый этаж, второй же, деревянный, выдавался над первым. Над головой дома почти смыкались, оставляя лишь узенькую щелку темного неба. Андрей шел, осторожно переставляя ноги и придерживаясь левой рукой за стенки. Порой наверху из открытых окон доносились голоса людей, которые, может, пили чай или говорили о войне и возвращении турок, а может, о рыбной ловле. Заплакал ребенок — в ответ зазвенели женские голоса, успокаивали в три голоса. Улица была короткой — потом она расширилась в еще одну площадь. У ее края стояла превращенная в мечеть чудесная романская церковь. Полумесяц на месте креста, ясно видный на фоне подсвеченных луной облаков, казался недоразумением.
Обогнув церковь, Андрей пошел широкой, изъезженной телегами, повозками и моторами улицей, что вела через нижний город к порту. Вскоре он оказался возле моря.
Захламленный и забросанный ящиками, мешками, частями поломанных машин, просыпанным добром — всем, что остается возле причалов порта военного времени, — пляж тянулся вдаль.
Андрей пошел вдоль берега, у самой воды. Цепочками ярких огней был виден «Измаил». Видно, на ночь разгрузка была прервана, и возле выгруженного добра, кое-как накрытого брезентом, шагали часовые. Еще несколько солдат сидели вокруг костра на берегу, и было странно здесь слышать, как они поют «Степь да степь кругом…».
Дальше, в стороне от порта, от грязных причалов начинался песчаный берег, отороченный черными полосами водорослей. Андрей остановился. Было тихо — голоса солдат сюда почти не доносились.
Как в сказке — за морем ждет меня моя суженая. Может, уже стоит там, по другую сторону этой водной громады, смотрит на юг и думает, куда же задевался ее ясный сокол. А ты, Андрей Берестов, согласен ли сейчас прыгнуть еще на три месяца вперед, чтобы ускорить встречу с Лидочкой? «Нет, — ответил он, — это положено мне судьбой — я и так украл у себя почти три года, пропустил очень важные события, которые видели другие люди. Как будто проспал. И могу ли я отказаться от экспедиции в Трапезунд, от раскопок в столице императоров, от открытий, которые, может быть, сравнятся с открытиями самого Шлимана? Нет, я не согласен больше бежать. Лидочка, не сердись и подожди меня. Я тебе за все очень благодарен, но спешить не буду. Я приду к тебе, как только ты появишься здесь, тебе даже не придется долго ждать…»
С моря потянуло зябким ветерком, волны стали громче набегать на песок и внятно шуршали, убегая с него.
Андрей решил возвращаться той улицей, где была кофейня с фрегатом. Может, она открыта наконец — надо же отдать письмо. Несмотря на темноту, Андрей быстро нашел кофейню, но она была заперта, на двери пыльный замок, а в окнах нет света.
Сначала идти было легко — луна светила почти над головой, и Андрей шагал уверенно, не наступая в выбоины. Затем улица свернула направо, и Андрею пришлось подчиниться этому изгибу. Ничего, сказал он себе, сейчас она снова повернет налево. Но улица упорно шла в ненужном направлении, и неизвестно было, что лучше: поворачивать обратно или продолжать путешествие. Наконец Андрей добрался до перекрестка, откуда темный переулок, шириной чуть больше сажени, вел наверх, и Андрей нырнул в эту щель.
Подъем был почти незаметен, и Андрей прошел шагов двести, следуя неверным изгибам переулка, воздух в котором был куда более спертым и неприятным, чем у моря. И тут он услышал сзади шаги.
Шаги могли принадлежать кому угодно. В конце концов, в этом переулке жили люди, и кто-то из них мог припоздниться и вот теперь возвращается домой. Мог быть такой же путник, как Андрей, — идет из порта короткой дорогой… Но уговоры не помогали. Потому что шаги были очень осторожными. Настолько осторожными, что Андрей слышал их далеко не все время.
Андрей прибавил ходу. Он вспомнил, как когда-то в Ялте за ним тоже стучали шаги и оказались шагами Хачика.
К сожалению, здесь не приходилось рассчитывать на заботу гимназических друзей. Впрочем, и оснований бояться тоже не было — чего бояться здоровому молодому человеку в каком-то несчастном, не то турецком, не то греческом городке, кстати, оккупированном родными российскими воинами. Ничего страшного, сейчас ты замедлишь шаги и дашь ночному чудаку себя догнать… Он попросит у тебя закурить…
Уговаривая себя, Андрей тем не менее шагов не замедлял, а ждал, когда переулок вольется в какую-нибудь площадь, посреди которой горит фонарь и гуляют русские патрули… пока что переулок тянулся бесконечно — правда, от него ответвлялись закоулки или проходы, но они были еще темнее и уже.
Отчаявшись отделаться от погони и поняв, что ему остается побежать и сломать ногу либо затаиться, Андрей, увидев темную щель между домами, на цыпочках завернул в нее и прижался спиной к каменной стене дома. Преследователь достиг его укрытия, и легкие шаги человека, знающего, куда он идет, приостановились у входа в закоулок. Видно, преследователь сомневался, не спрятался ли туда гяур. Андрей затаил дыхание, и в горле его начало першить, что, как известно, всегда происходит со шпионами и любовниками, спрятавшимися в шкафу.
В полной тишине, казалось, в самое ухо Андрею, мужской голос спросил что-то по-турецки. Второй голос ответил изнутри закоулка. Язык был похож на татарский, но смысла вопроса Андрей не понял. Зато ответ: «Его здесь нет» — он, конечно же, понял. Надо же было ему из всех закоулков избрать тот, в котором его подстерегал второй преследователь. Андрей напрягся, чтобы прыгнуть на первого преследователя и освободить себе путь, но не успел, потому что окно над головой с треском отворилось и оттуда раздался отчаянный женский вопль, который Андрей, не зная греческого языка, мог с достаточной долей уверенности перевести примерно так: «Сколько можно шляться по ночам под чужими окнами, бандиты и грабители!» После того послышался стук, звон — и заготовленное заранее ведро воды обрушило свое содержимое на участников ночной сцены. Андрей не знал, какая часть воды досталась ему, — поначалу показалось, что все ведро, но по воплям в два голоса на смеси слов татарских и греческих Андрей понял, что ведро было достаточно велико и досталось всем.
Он отряхнулся и решил, что теперь наилучшее время, чтобы убежать, и, оттолкнув кричавшего турка, он помчался вверх по переулку. Он готов был бежать, пока не упадет от усталости, но через несколько десятков шагов оказался на довольно обширной площади с мечетью и торговыми рядами.
Площадь была достаточно освещена луной. Андрей обернулся и увидел, как из переулка выбегают два человека и бегут к нему, бегут молча и быстро, так что никаких надежд на ошибку не оставалось. Любой человек, желающий поговорить с тобой или выяснить отношения, обязательно тебя окликнет, покажет жестами, что намерен привлечь твое внимание, — эти двое бежали, как собаки Баскервилей, в полной тишине, будто онемев, оскалясь и не тратя ни грана энергии на крики или жесты. Их задача — догнать, загрызть.
Взгляда, брошенного Андреем через плечо, было достаточно, чтобы увидеть, что в руке первого сверкнул нож.
Андрей выбрал самую широкую из улиц, ведущих от площади, притом ту, что вела, по его расчетам, к центру.
Андрей мчался так, как никогда в жизни. Улица была темной, но впереди было светлее — там горели окна. Неожиданно совсем рядом отворилась дверь и кинула на мостовую прямоугольник света. Несколько человек выходили из кофейни. Андрей повернул к открытой двери, он хотел спрятаться там, словно свет отпугнет грабителей.
— Пустите! — крикнул он людям, которые остановились в дверях, не сообразив еще, что происходит.
Те сразу загалдели по-гречески и стали отталкивать Андрея, словно отдавая его на растерзание бандитам. Они смеялись, а Андрей по-русски кричал им:
— Вы что, не видите, это же бандиты!
Преследователи остановились шагах в двадцати, они стояли, готовые кинуться на свою жертву вновь.
Один из греков что-то громко спросил у преследователей.
Те не ответили.
Андрей всей шкурой понял, что возникшая пауза в его пользу.
Второй грек задал тот же вопрос, но уже настойчивее.
Последовал ответ. Краткий. Злой.
И тут же — взрыв голосов тех греков, что окружили Андрея. Один из них даже отделился от группы и пошел к нападавшим, но бандит поднял нож острием вверх, как бы любуясь им, медленно шагнул навстречу греку. Тут же из дверей таверны выскочил толстый мужчина. Он опрокинул один из пустых столиков, что стояли на мостовой. Потом вытянул руку вперед, и Андрей понял, что у него в руке пистолет. Последовала вспышка и негромкий за возбужденными голосами выстрел. Воплем откликнулся один из нападающих, и нож, звякнув, упал на каменную мостовую — заблестел ярко и холодно. Андрей лишь поворачивал голову — туда-сюда, как зрители на соревнованиях по лаун-теннису.
Раненый турок сел на мостовую, он нагнулся к вытянутой ноге и быстро говорил — злобно и отчаянно, но его товарищ, вместо того чтобы помочь, побежал прочь, и его никто не задерживал, потому что все сгрудились вокруг раненого и галдели так, словно поймали самого дьявола.
В домах открывались окна, и голоса, большей частью женские, спрашивали, что произошло. Андрей стоял в стороне и не знал, что ему делать дальше, и тут ему на плечо легла рука. Он чуть не лишился чувств от страха — так это было неожиданно. Оказалось, всего-навсего поручик Митин.
— Прибежали на шум, — сказал Митин, — вижу, знакомая фигура. Зря вы тут стоите — мало ли что. Идите-ка спать. Вас это не касается.
— Спасибо, — сказал Андрей, — сейчас воспользуюсь вашим советом. А разве вас не интересует, что здесь произошло?
— Мы никогда не узнаем. Мы их тарабарщине не обучены.
— К сожалению, все не так, — сказал Андрей. — Виновник всего переполоха — я. Это за мной бежали.
И он рассказал Митину о том, что произошло. В это время пришел местный полицейский в феске, сонный и злой, и началось долгое выяснение. Откуда-то появился фельдшер, который начал перевязывать стонущего бандита, на что последовали возражения и новая волна криков. Юрий объяснил, что на Андрея напали турецкие грабители, но они забежали за ним в греческий квартал, куда, пока русские не ушли, туркам появляться без нужды не следует.
— Впрочем, давайте я вас провожу до гостиницы, — сказал Митин. — Я тут одного солдата для порядка оставлю, но, думаю, они без меня разберутся.
До гостиницы оказалось совсем недалеко — кофейня, у которой ранили бандита, располагалась на той же улице.
— Как же меня выследили? — спросил Андрей.
— Наверное, пока вы по берегу моря гуляли, — сказал Митин. — Там всегда ошивается всякая шантрапа. А когда вы отправились домой переулками, они решили воспользоваться моментом.
— Но один из них подстерегал меня на полдороге.
— Они тут все переулки знают — как вы у себя дома. Вы сами откуда?
— Я из Симферополя.
— А я москвич, — сказал Митин. — Коренной москвич.
— Я в Москве учусь, в университете, — сказал Андрей. И замолк. Потому что он учился там по земному счету столь давно…
— Я там многих знаю, — сказал Митин. — Я сам из вольноопределяющихся. Только с зимы пятнадцатого в школу прапорщиков пошел.
Они остановились у гостиницы.
У дверей стоял мотор, в котором спал шоффэр.
— С завтрашнего дня мы начинаем раскопки, — сказал Андрей. — Я буду рад, если вы найдете время нас навестить.
Митин поблагодарил его и откланялся.
Андрей вошел в вестибюль. Запахи перегара, дешевой помады и чеснока были настолько густы, что Андрей остановился в дверях, не в силах преодолеть эту стену.
В вестибюле, как и прежде, дым стоял коромыслом.
Андрей чувствовал смертельную усталость, при которой никого не хочется видеть и слышать, — только бы забраться в норку и заснуть. Портье достал из ячейки ключ Андрея на отполированной тысячью рук деревянной груше.
— Вас спрашивали. — Он достал из ячейки визитную карточку.
Андрей с удивлением прочел на карточке имя, написанное по-гречески и по-французски:
Мадам А.И. Теофилато, антрепренер
Внизу быстрым тонким почерком было приписано по-русски:
Завтра в 2 часа пополудни в «Луксоре».
И неразборчивая подпись.
— Кто мне оставил записку? — спросил Андрей.
Портье, сверкающий намазанными помадой волосами и усами, угрожающе торчащими до ушей, высоко поднял густые черные брови и сказал что-то по-гречески.
— Я не понимаю, — сказал Андрей. — Кто оставил мне записку? Чья это карточка?
На это портье совершенно серьезно ответил длинной фразой по-французски, которого Андрей, к сожалению, почти не знал.
Ладно, разберемся, сказал себе Андрей.
Он пошел к лестнице. Путь его лежал мимо длинного дивана, на котором как приклеенные сидели в ряд три девицы легкого поведения, а сбоку уместился, уткнув трость в пол и положив на ее набалдашник полные изнеженные руки, господин негоциант Сурен Саркисьянц.
— Добрый вечер, господин Берестов, — произнес он, не поднимаясь с места, — лишь его крупный нос поднялся и уперся Андрею в грудь, будто господин Саркисьянц намеревался его клюнуть. — Заприте на ночь дверь, — сказал он. — У нас небезопасно.
— Спасибо, — сказал Андрей. — Я запру.
— Спокойной ночи.
Три девицы обратили к Андрею намазанные помадой и румянами рожи.
— Спокойной ночи.
Андрей поднялся на третий этаж. Почему-то на лестнице он встретил совершенно в дым пьяного подполковника Метелкина, который волок по коридору, обняв за талию, толстую женщину в черном платье и белом переднике сестры милосердия. Наколка с красным крестом была сбита набок, и медсестра все старалась ее поправить и при этом громко говорила:
— Илья Евстафьевич, вы же пользуетесь моей беззащитностью.
— Молчи, сука, — повторял Метелкин.
Зрелище было неприятное, и Андрей хотел обойти эту парочку, но Метелкин, хоть и смертельно пьяный, сказал:
— Берестов, Берестов, из уважения к вашему положению в преступном мире дельцов и интриганов, к которому имею честь принадлежать, передаю вам Марию Валентиновну во временное содержание. Нате, подержите, потом вернете мне.
— Как вы смеете! — Медсестра наконец поправила наколку и начала рыдать.
Андрей поспешил к себе в номер.
Дверь Андрей запер изнутри, а потом, движимый тревогой, сунул ножку стула в ручки двустворчатой двери — теперь, чтобы открыть ее, надо было сломать стул.
Усталость была такая, что Андрей с трудом заставил себя умыться и еле доплелся до постели.
Постель была сказочно мягкой, но белье пахло плесенью.
Андрей заснул сразу, без снов.
…Он проснулся посреди ночи от страшного, испепеляющего чувства.
Он лежал некоторое время неподвижно, закрыв глаза и прислушиваясь к тому, что происходит с ним…
Андрей вскочил с постели, понимая при этом тщетность борьбы.
Клопы в гостинице «Галата» оказались и многочисленнее, и злее родных ялтинских и симферопольских клопов — видно, сменяющие друг дружку цивилизации тысячелетиями вырабатывали в них злобу, умение бить из-за угла и исчезать в складках мягкой перины.
Завтрак проходил в сером, будто бы еще не опомнившемся от набега гуннов ресторанном зале, где нашелся лишь один стол, который сумели убрать изможденные официанты, покрыть его серой в пятнах скатертью и отыскать где-то, видно, в соседнем трактире, кувшин йогурта и лепешки. Кофе, правда, был отменный.
Официанты передвигались как сонные мухи, метрдотель отсутствовал, и вместо него распоряжалась мелко завитая дама средних лет с множеством подбородков, верно, хозяйка гостиницы.
Все сотрудники экспедиции Московского университета пришли к завтраку вовремя, и все не выспались из-за злобных клопов. За завтраком сидели несвежие, потрепанные и даже пыльные, обсуждали методы борьбы с этими паразитами, которых гостиничные хозяева вовсе не считали за бедствие.
Как было уговорено, профессор Успенский должен был прийти к завтраку, чтобы потом провести коллег по достопримечательностям Трапезунда. Но вместо профессора появился крестьянский сын Иван Иванович, умытый, свежий, белокурый, розовощекий и красногубый. Оказывается, сообщил он, профессор неожиданно занемог, его свалил приступ лихорадки. Поэтому проводить экскурсию будет он, Иван Иванович. После чего молодой помощник Успенского уселся за общий стол и славно позавтракал, объяснив вполголоса Андрею, которого почитал уже за приятеля, что хозяйка в том доме, где стоят постоем археологи Успенского, экономит на завтраках и они почти голодают. А жалованья, разумеется, не хватает на сытую жизнь.
— Если бы, — продолжал он, когда они вышли из-за стола и проследовали в вестибюль, — если бы я не приторговывал контрабандой, наверное, помер бы с голоду. Другие ничего, они в пище сдержанные, а мне много нужно, чтобы поддерживать жизнь.
Они сели с Андреем на тот диван, где вчера ночью помещались три проститутки и негоциант Саркисьянц. Иван Иванович блаженно вытянул ножищи в крепких пыльных сапогах. Фотограф пошел наверх за камерой и припасами для съемок, Авдеевы — переодеться перед экскурсией и обсудить проблему, действительно ли занемог профессор Успенский или это дипломатический афронт. Российский, воспользовавшись свободной минуткой, вышел на улицу и уселся на ступеньки гостиницы, углубившись в очередную растрепанную книжку в серой обложке — труды какого-то немецкого института.
— Как бы его за немецкого шпиона не приняли, — сказал крестьянский сын, ковыряя в зубах спичкой.
— А что, здесь есть шпионы?
— Я думаю, каждый второй здесь немецкий шпион, остальные — английские.
— Зачем? — удивился Андрей.
— Так положено. Шпионам надо заниматься делом, узнавать новости, сообщать их по начальству и плодить интриги, чтобы скомпрометировать и свергнуть нашу власть.
— А мы?
— Что мы?
— Мы молчим?
— Ни в коем случае! Наша разведка и контрразведка занимаются тем, что ставят палки в колеса немецкой и подчиненной ей турецкой разведке, не говоря уж об английской разведке и совсем уж хилой французской.
— А вы их видели?
— Кого? Шпионов? — Иван Иванович добродушно захохотал. — Все, кто может, записываются в шпионы. Иначе как проживешь? И вас скоро будут вербовать. Не может быть, чтобы с вами не случилось происшествий за вчерашний вечер. Нет, не говорите, я никогда вам не поверю.
— А я и не спорю, — улыбнулся Андрей. — У меня был странный визитер, а затем на меня напали бандиты.
— Замечательно, — сказал Иван Иванович. — Можно умереть от смеха.
Но от смеха он не умер и даже не улыбнулся. А спросил:
— И кто же был ваш визитер?
— Это был негоциант, армянский негоциант, Сурен Саркисьянц. И что интересно — он знал, как меня зовут.
— Последнее неудивительно — с момента, как вы расписались в гостиничной книге, ваше имя известно всему Трапезунду. Но странно…
— Что странно?
— Что первым прибежал этот старый лис. И что ему было нужно?
— Я так и не понял. Знаете, как будто он разговаривал не со мной. Как будто видел не меня, а другого человека.
— Не очень убедительно. — Иван Иванович чуть наклонил голову и рассматривал Андрея, как экзотический цветок.
— А вы его знаете?
— Я всех знаю, — сказал крестьянский сын. — Я здесь уже второй сезон копаю. Я знаю куда больше, чем мне бы хотелось.
— А кто этот Саркисьянц?
— Катран, черноморская акула. Человеку она не страшна, это шакал акульего мира.
— А чем он занимается?
— Посредничеством. И шпионажем. Я не знаю, Андрей Сергеевич, в какой роли он обращался к вам. А что случилось с бандитами?
— Я пошел гулять вечером к морю…
— Добровольно?
— А когда я шел обратно, то за мной увязались двое. Ей-богу, неинтересно рассказывать — они, видно, меня увидели на берегу. Меня греки выручили, а потом патруль…
— Подождите, так не рассказывают. Начнем сначала.
Но Андрею не удалось начать сначала, потому что вернулись Авдеевы, потом пришли остальные члены экспедиции. Предупредительность Метелкина, который продолжал опекать экспедицию, была трогательной. У входа в гостиницу их ждал автомобиль с красным крестом, намазанным на дверце. Самого Метелкина не было, но шоффэр сообщил, что поступает в распоряжение госпожи Авдеевой. Профессору Авдееву эти слова были неприятны, но он смолчал.
Наличие автомобиля превратило экскурсию в приятное времяпрепровождение. Было еще не жарко и не очень пыльно. Центральные улицы кишели народом. Чумазые и почти голые мальчишки сразу увязались за мотором, они прыгали и отчаянно кричали: «Дай!», «Бакшиш!»
Автомобиль катил по Трапезунду, который был мирным и нестрашным, и Андрей никак не мог сообразить, где же он пробегал, задыхаясь от ужаса, — город как город, скорее азиатский, чем европейский, разоренный войной, но еще не разрушенный ею.
Иван Иванович начал экскурсию с собора Богородицы Златоглавой, который стоял неподалеку от гостиницы и был официозом времен Трапезундской империи.
Они оставили мотор на улице, а сами вошли внутрь — храм был в свое время превращен в мечеть.
Иван Иванович показал гробницы возле собора, похожие на беседки. Успенский еще в прошлом сезоне доказал, что некогда четыре столба, соединенные арками, поддерживали почти плоскую черепичную крышу. Когда Успенский вскрыл могилу, оказалось, что там похоронен местный мусульманский святой и следов от захоронения императора не сохранилось. Не весьма продуманное политически, хотя продиктованное исключительно интересами науки, предприятие профессора вызвало негодование турок, и комендант на всякий случай воспретил археологам копать другие могилы.
— Господин профессор, — сказал он, приехав на раскопки верхом на тяжелом коне и не слезая с него, оттого возвышаясь над седобородым профессором, как статуя командора над дон Жуаном, — когда мы окончательно прижмем этих турок к ногтю и здесь будет Трапезундская губерния, я сам вас попрошу, копайте ихние мощи, ядрена вошь, а не нравится, пускай убираются к своему Аллаху. Но сейчас результат на фронтах еще не определен, а турки вокруг как клопы. А то еще начнут резать вас — а мне охраняй.
Профессор вынужден был покориться и перенес свои изыскания в другое место.
Иван Иванович забавно передал в лицах диалог Успенского с комендантом. Потом повел гостей по двору церкви, заставленному небольшими древними постройками, отчего он казался лабиринтом. Иван Иванович объяснил, что в самом храме Златоглавой Богородицы хоронили трапезундских митрополитов, а императоров и их родственников погребали на церковном дворе, а потом их гробницы использовались турками как могилы для своих святых и знати.
Успенский полагал, что императорские останки можно отыскать, потому что турки часто клали поверх христианских погребений деревянный пол. Но эти открытия откладывались до победы России над Турцией.
Авдеевы не выспались, слушали Ивана Ивановича плохо, все норовили сцепиться между собой и выплескивали раздражение на окружающих. Фотограф Тема ставил свою треногу на пути и всем мешал, а Российский как увидел в углу какую-то надпись, так и пропал.
Затем археологи осмотрели храм Святого Евгения, где их встретил грек с голодными глазами. Он стал жаловаться Ивану Ивановичу, а Иван Иванович объяснил, что местные турки грозятся убить греческого сторожа. Святой Евгений некогда был патроном Трапезунда, и его храм считался первым в империи, но был изменен многочисленными переделками и пристройками. Особенно странно выглядел стоявший рядом с собором минарет — тонкий и с балкончиком для муэдзина.
Цитадель, куда они поднялись пешком от храма Святого Евгения, представляла собой небольшую неровную площадь, окруженную мощными стенами и сохранившимся почти на всем протяжении глубоким рвом. Великая мощь стен и полуразрушенных башен была такова, что Андрей понял, почему столь небольшой город мог именовать себя столицей империи. Столь высоки были стены Трапезунда, столь близко к облакам находились вершины башен и главной из них — башни Святого Иоанна.
К счастью для историков, вход в цитадель во времена турецкого владычества был дозволен лишь по служебным делам — селиться там, ломать или строить что-нибудь было запрещено, потому резиденция императоров не была разрушена правоверными.
Теперь же цитадель оказалась густо населена русскими солдатами, потому как там расположились армейские склады и комендатура.
Солдаты и офицеры, ходившие по площади, с недоверием и даже насмешкой поглядывали на странную компанию, которую притащил с собой крестьянский сын, но никто не мешал ходить всюду, где им того хотелось.
Авдеев сказал с торжеством отличника, который вспомнил нечто, забытое самим господином учителем:
— Фундамент римский. Даю голову на отсечение, что вы не заметили, что фундамент римский. Я видел подобные плиты в Баальбеке.
Он пошел петухом по площади, Иван Иванович пожал плечами и сказал негромко:
— Об этом в любом учебнике написано.
Но Авдеев ответа не услышал, а стал постукивать носком сапога по углу казармы, будто ждал от этой стены какого-то особого, только для него предназначенного отзыва.
Подошел приятного вида господин с моноклем, в форме инженера-полковника. Иван Иванович представил его как господина Керна.
Господин Керн, вежливо поклонившись, сообщил заученно, что для снятия культурного слоя надо будет поднять девяносто семь тысяч кубических метров земли, что потребует не менее пяти тысяч рублей расходов. Археологи покачали головами, следом за Успенским соглашаясь с немыслимостью такой задачи. Иван Иванович сказал, что Успенский зимой постарается найти в Петрограде каких-нибудь меценатов, чтобы летом 1918 года сделать здесь массу ценных находок, а кроме того, поднять землю из башен, что даст возможность выйти к подземным ходам, соединявшим дворец и башни цитадели. А господин Керн добавил, что профессор Успенский уверен, что именно в подвалах и подземных ходах цитадели и хранится библиотека трапезундских императоров.
Авдеевы стали спрашивать о библиотеке, словно намеревались завтра же представить ее на суд мировой общественности, и Иван Иванович терпеливо разъяснял. Затем Авдеевы утомились и приняли любезное приглашение полковника Керна последовать в его скромный кабинет и освежиться там прохладительными напитками. Остальных Керн почему-то не позвал, но никто не был на него в обиде: день был свежий, нежаркий, никто не устал, Тема сквозь пролом в стене стал снимать вид на гору Бос-тепе, где стояли русские батареи, стерегущие Трапезунд, а также античный алтарь Митры. Андрей договорился, что поедет туда с Иваном, когда тот получит разрешение коменданта, — военные не любили, когда лишние люди появлялись на передовых позициях. Иван добавил, что офицерам не хочется показывать гостям, в каком состоянии находится армия, очевидно, что иного выхода, как бежать отсюда, у русской армии нет.
Иван провел Андрея в одну из башен, второй этаж которой во времена империи занимала небольшая церковь. Там сохранилась средневековая фреска. На ней в ряд стояли высокие чины Трапезунда — они строго глядели перед собой, одинаково бровастые и глазастые. У центральной фигуры на голове был обруч, наложенный на красную шапку, с обруча свисали цепочки. Иван сказал, что, вернее всего, это император Алексей — основатель империи.
Они вышли из башни и присели на солнышке, у конюшни с фундаментом римского времени, глядя на море, на маленький серый «Измаил» посреди бухты и совсем уж малюсенький, в цвет транспорта, миноносец «Керчь».
— А вы сами где копаете? — спросил Андрей.
— В этом сезоне мы раскапывали храм Святого Евгения, потом вернулись в храм Златоглавой Богородицы. У нас плохо с деньгами. А чем займется профессор Авдеев?
Андрей подумал, что говорят они о своих профессорах, как кучера о барах.
— Бог его знает. Я не думаю, что он оставит большой след в науке о Трапезунде.
— Я уже заметил. Но ему хотелось бы удивить мир.
— Угу, — согласился Андрей. — И это меня тревожит.
— Я тебя понял, — сказал крестьянский сын. — Тут заразная обстановка. Все в этом городе или шпионят, или воруют, или занимаются контрабандой. И даже почтенному профессору на второй день уже хочется отхватить кусок у вечности, желательно быстро и подешевле. Ничем не отличается твой профессор от подполковника Метелкина.
— А твой? — оскорбился Андрей за своего барина.
— Мой — весь в науке. Он не разменивается на ученые детали, тратит месяц на надпись, которую прочли уже до него, и жутко спорит на страницах шести статей со всеми своими существующими и вымышленными оппонентами по поводу формы венца у трапезундского императора.
Андрею надоело сидеть. Он прошел к пролому в стене, чтобы видеть голубые горы, святилище Митры и мечеть на горе, которую, как сказал Иван, наши бравые солдаты превратили в казарму. Впрочем, почему они должны ночевать под открытым небом?
Иван прошел следом за ним.
— Ты обещал рассказать про свои вчерашние приключения, — сказал он. Андрей отметил про себя, что за годы, пока его не было, люди стали проще в общении, куда быстрее переходили на «ты», что русским несвойственно.
Андрей рассказал о Сурене, о ночном бегстве и раненом турке. Но визитную карточку госпожи Теофилато он не показал — даже трудно объяснить почему. Может быть, потому, что визитная карточка пахла пряными духами, то ли потому, что в ней была настоящая тайна и Андрею хотелось, чтобы с ним произошло пускай опасное, но удивительное приключение вроде тех, что выпадали на долю пленников сераля или путешественников по Аравии.
— Не думаю, что это случайные бандиты, — сказал Иван. — Скорее всего, ты кому-то мешаешь.
— Кому же я, прости, могу мешать?
— Законный вопрос, — ответил Иван Иванович, глядя на Андрея прозрачнейшими простодушными глазами. — Если, конечно, тебе нечего скрывать.
— Клянусь, мне нечего скрывать!
— Не спеши, Андрей. Всем есть что скрывать, даже мне, хоть я и предельно очевиден. Я убежден, что, если в тебе хорошенько покопаться, иголочки под ноготочки запустить, на дыбе тебя подвесить, — ой сколько интересного из тебя высыпется! Да не отмахивайся, мой любезный друг, лучше скажи, что ты делал ровно год назад, ровно два года назад, скажи, с кем ты встречался в прошлом августе… Мне кажется, что ты уже бледнеешь и теряешь уверенность в себе.
— Ну ладно, я согласен, — сказал Андрей, чтобы не спорить.
— Вот! Уже достижение! — Крестьянский сын расхохотался так, что из-за башни появился палеограф Российский с записной книжкой в руках.
— Вы меня звали? — спросил он.
Узнав, что его не звали, он, облегченно вздохнув, исчез вновь.
— Для того чтобы избавиться от бедствия, надо точно знать, за что оно тебя преследует, — сказал Иван.
— Но я, честное слово, не знаю, кто меня преследует!
Иван оперся спиной о теплые плиты стены, закурил и угостил турецкой папиросой Андрея.
— Я тебе кое-что объясню, — сказал он. — Может быть, это поможет тебе. Давай посмотрим, кто может быть в тебе заинтересован. Я имею в виду наш трапезундский преступный мирок. Охотились на тебя турки, заигрывал негоциант Саркисьянц. Если турецкая банда хотела тебя убрать, значит, ты нужен их врагам — греческой банде или русским посредникам.
— А ты, Иван, к кому примыкаешь?
— Ой, Андрей, спроси чего-нибудь полегче, как говорят у нас в Одессе. Я кошка, которая гуляет сама по себе.
— Для покупки имения?
— Для покупки имения, Андрюша. И не пугай меня революцией. Революция свое дело уже сделала, она дала погреть руки новым господам. Господа кадеты и трудовики будут зарабатывать сами и дадут заработать остальным. Ты не представляешь, какой замечательной державой станет наша Россия через десять лет! Наша славная революция сковырнула самые главные препятствия в присоединении России к мировому сообществу цивилизованных государств — феодальную монархическую систему. Называй ее как хочешь — командной системой, бюрократической системой. Главное — она сметена!
— Это под сомнением! — радостно крикнул фотограф Тема Карась, который незаметно установил свою треногу и сделал снимок, ослепив вспышкой магния. — Уже новые бюрократы полезли из всех щелей, а другие только переименовались, — сообщил он. — В России ничего не поделаешь: революция не революция — все равно будут вельможи, скалозубы и молчалины. Мы обречены!
Тут Тема подхватил треногу и камеру и поволок их, забыв о своей филиппике, к пролому в крепостной стене.
— Почему в России столько философов-любителей! — возмутился Иван. — Все дают советы, все что-то знают заветное. А работать никто не желает.
Андрей спросил у поручика Митина, как пройти в кафе «Луксор». Тот как раз заглянул в отель, где, по его словам, продавали хороший трубочный табак.
— Вы тоже торгуете табаком? — спросил Андрей, не желая обидеть поручика. Но тот вдруг вскипел:
— Хватит того, что вся армия продалась, каждый спешит схватить свой кусок золота или дерьма. А что происходит в России, что будет с нами завтра, вам плевать?
— Зачем распространять обвинение на всех? — сказал Андрей. — Даю вам честное слово, что, пока не приехал сюда, я слыхом не слыхивал о контрабанде. И сам не собираюсь этим заниматься.
— Мне бы хотелось верить, — сказал поручик. — Но что я могу подумать о человеке, который, только прибыв в Трапезунд, тут же устраивает ночные прогулки с перестрелкой, а затем спрашивает дорогу в пресловутый «Луксор»?
— А чем плох «Луксор»?
— Послушайте, Берестов. Вы мне задали вопрос, как пройти в кафе «Луксор». Я вам сейчас расскажу туда дорогу. Но и вы ответьте мне на простой вопрос: что вас влечет именно в это заведение?
— Меня пригласили, — сказал Берестов, стараясь казаться невинным в утаивании правды. Он не лгал. И уговаривал себя: «Я не лгу — я лишь недоговариваю».
— Разумеется, пригласили, — саркастически улыбнулся поручик Митин. — Туда редко приходят без приглашения.
Но более вопросов он задавать не стал, а, выведя Андрея на мостовую, где за столиками сидели греки и пили кофе, сказал:
— Два квартала пройдете, свернете направо. Второй дом от угла.
Последовав совету поручика, Андрей отправился по улице, где все дышало миром и спокойствием. Ни близкая война, ни национальная рознь, ни бедность и разруха не чувствовались там. Точно такой же она была и сто лет назад в ее неспешности и установившихся веками человеческих отношениях, которые прерываются периодами кровавых раздоров, но затем вновь возвращаются в берега нормальности.
Солнце пекло, как в середине лета, но настоящая летняя жара, устоявшаяся, проникшая в глубины дворов и под сень монастырских галерей, еще не наступила. Андрей подошел к фонтану и под внимательными взорами молодых греков подставил ладони под струю и напился. Греки заговорили между собой, конечно, об Андрее. Андрей достал платок, вытер руки, греки снова заговорили, потом засмеялись, и Андрей почувствовал в голосах и смехе недоброжелательство. Один из парней даже сделал движение в его сторону, но незавершенное и в то же время оскорбительное.
Смех послышался и со стороны столиков у края площади, где сидели греки постарше.
Андрей не мог ответить и понимал, что отвечать нельзя. Он пошел дальше. Он завернул за угол. В первом доме был большой мануфактурный магазин — узкая дверь, по обе стороны которой громоздились колонны, сложенные из рулонов тканей, вела в темное прохладное чрево — оттуда выбежал молодой приказчик с аршином в руке и затараторил на смеси греческого и русского языков. Андрей не стал оборачиваться, и в спину ему полетело ругательство — атмосфера недоброты окружала освободителей, исчерпавших свою благородную миссию.
Вывеска «Луксор» висела поперек тротуара. Красные буквы были обрамлены цветами и стеблями папируса. Дверь была раскрыта — инвалид на деревянной ноге, подпрыгивая, выметал изнутри сор.
Маркизы на окнах были спущены, и вид у «Луксора» был крымский, будто Андрей уже видел это кафе на набережной Ялты.
Но, когда он вошел и зазвенели длинные бисерные гирлянды, что заменяли внутреннюю дверь, он сразу осознал разницу.
Столики в большом и низком зале располагались полукругом, оставляя в центре место для невысокой эстрады. По обе стороны ее тянулись длинные стойки баров, задние стенки которых были стеклянными, как стеклянным оказался и потолок, с которого свисали погашенные сейчас люстры. Один из баров был темен, а над вторым горела цепочка разноцветных электрических лампочек, которые, отражаясь многократно в стойке и на потолке, придавали всему залу атмосферу детского рождественского праздника.
Эта мирная семейная атмосфера несколько дисгармонировала с девушками, что сидели на высоких круглых табуретах вдоль стойки. Двух из них Андрей узнал по вестибюлю «Галаты», другие были ему незнакомы. Девушки лениво перекидывались словами. Были они большей частью полными брюнетками и почти все одеты в подобие матросских костюмов с короткими черными юбками, а их толстые ноги были обтянуты тонкими фильдеперсовыми чулками.
Посетителей в кафе не было, если не считать военлета с рукой на черной перевязи, который вошел как раз перед Андреем и громко, как и положено завсегдатаю, воскликнул:
— Сливовицы и содовой! На полусогнутых!
Буфетчица — полная, но крепкая девица тоже в матросском костюме, с высокой грудью и мускулистыми руками — тут же откликнулась:
— Хватит тебе, штабс-капитан.
— Нет, не хватит, Русико! — возразил штабс-капитан Васильев. — В меня еще вмещается.
Он увидел стоящего в нерешительности Андрея и сказал ему, как старому знакомому:
— Берестов, не стойте бараном — закажите что-нибудь и девицу, если вы любите этим заниматься с утра.
Буфетчица вышла из-за стойки, принесла военлету подносик, на котором стояла высокая рюмка сливовицы и вспотевший стакан содовой.
Васильев попытался ущипнуть Русико за крепкую ногу, но та была готова к этому и увернулась.
— Отстань, — сказала она, — какой из тебя кавалер. Сегодня за чей счет пьешь?
— За счет государства, — сказал военлет и достал из кармана очень широких галифе целую пачку красненьких. Тут же спрятал их и неприятно засмеялся.
— Садитесь ко мне, Берестов, — сказал он. — Помните, я вас в Ялте встретил — еще червонец у вас стрельнул. Помните? Вы тогда попались или потом попались?
— Простите, господин Васильев, — сказал Андрей. — У меня здесь встреча.
— Смотри-ка, вспомнил, — усмехнулся военлет. — Но долг сегодня отдать не могу, екскьюзе муа. В следующий раз.
— Платить будешь? — спросила буфетчица, которая далеко не отходила, но каким-то таинственным образом у нее в руке возник листок бумаги. — Вот твой счет за этот месяц, — сказала она.
— Что удивительно, — сказал Васильев, игнорируя счет, — она же грузинка. И на такой позорной работе. Нация рыцарей, нация цариц — и вдруг буфетчица в борделе.
— Платить будешь? — спросила Русико.
Васильев отрицательно покачал головой.
Русико сказала Андрею:
— А вы посидите там в сторонке, сейчас мадам придет.
Андрей послушно отошел — и вовремя, потому что по знаку Русико приковылял инвалид на деревянной ноге. Шел он без костыля, уверенно, но медленно — Андрей сразу увидел, какие у него могучие, длинные, почти до земли, руки.
Русико заговорила с инвалидом на непонятном Андрею языке.
Тот медленно, не глядя Васильеву в глаза, двинулся к летчику.
Васильев одним глотком выпил сливовицу, неожиданно схватил рукой, что была на перевязи, стул и стал отступать к выходу.
Инвалид шел к нему, будто ему было все равно — человек это или дерево, — как будто какая-то сила наставила на путь заводную игрушку и та следовала приказу.
Васильев убежал бы из «Луксора», но одна из девиц в матроске так быстро и ловко успела оказаться сзади военлета и подставить ему ножку, что тот пошатнулся, и в этот же момент инвалид настиг его и толкнул в грудь так, что Васильев упал.
Девицы — и те, что сидели за стойкой, и те, что были за столиками, — во главе с Русико кинулись на поверженного военлета. Тот отбивался, ругался, кричал, что ему щекотно, что ему яйца оторвут, причитал, будто деньги не его, а казенные, на покупку гидроплана, и Андрей, думавший было, что надо выручать офицера, вдруг понял, что он наблюдает нечто вроде игры.
Васильев урчал, девицы визжали, Андрей хотел уйти, и надо было уйти, но зрелище девиц, заголяющихся бесстыдно и ползающих по военлету, притягивало своим срамом.
— Господин Берестов, давайте отойдем, — услышал он женский голос. Голос был глубокий, хрипловатый и в то же время легкий, слова давались владелице голоса без всякого труда — они сами формировались глубоко в ее гортани и выплескивались наружу. Приятно было слышать этот рокот, а Андрей его уже слышал — это был голос Глаши, чуть более низкий, но похожий по тембру и богатству.
Андрей обернулся, ожидая увидеть Глашу либо человека, на нее очень похожего, но увидел вчерашнюю танцовщицу, хотя узнал ее не сразу, — вчера вечером ее лицо было грубо и ярко загримировано.
Аспасия была вовсе не похожа на Глашу. Если в Глаше все было скромно, скрыто, как бы в полутонах, несмотря на яркость голубых глаз и рыжеватых волос, то Аспасия была как знамя под ветром. Она оглушала и ослепляла с первого мгновения, и потому, наверное, она предпочитала открыть обозрению в танце свой живот и руки, но не лицо — именно в ее лице и таился главный непреодолимый соблазн — совершенство ее лица было совершенством дикой человеческой самки, олицетворением тех особенностей женского лица, что тут же вызывало в скрытой подавленной похотливости монаха крик: «На костер ее, она ведьма!» Такие женщины редко доживают жизнь до конца спокойно — их убивают, как убили сестру Аспасии — Кармен.
Нос Аспасии был невелик и имел маленькую горбинку, а ноздри были раздуты и живы, как у лани, ищущей запах волка, губы были слишком полны, почти негритянские, но цвет их был настолько нежно-розовым, а подбородочек, чуть выдающийся вперед, являл собой такое совершенство округлой линии, что мысль о недостатках лица просто не приходила в голову.
И несмотря на то что Аспасия старалась выглядеть скромно — ее чуть вьющиеся, цвета воронова крыла волосы были забраны в узел на затылке, ни глаза, ни губы, ни щеки не накрашены, простое домашнее, дневное, правда, недешевое на вид, серое платье с длинными рукавами и кружевным воротничком закрывало до половины шею, — эти попытки придать себе вид скромницы сокрушительно проваливались — попытка скромности еще более возбуждала желание.
— Простите, господин Берестов, — сказала Аспасия, — за такой беспорядок.
Она подняла руку, и рука нерешительно повисла в воздухе, — и тут Андрей понял, что не только его внимание было приковано к ее чрезвычайно тонким пальцам, но и внимание всех присутствующих — включая одноногого инвалида и военлета Васильева, выбравшегося из-под груды женских тел.
— Васильев, — сказала Аспасия без попытки быть хотя бы вежливой, — чтобы я вас не видела здесь в течение недели.
— Ася! — возопил военлет. — Аспасия! Я не выживу.
Он потянулся было к ее руке, но рука быстро отошла в сторону, и Васильев схватился за спинку стула, чтобы удержать равновесие.
Госпожа Аспасия Теофилато крепко взяла Андрея за локоть и повела к чистому столику чуть в стороне от стойки.
Васильев, бормоча что-то, ретировался, девицы вернулись к стойке, Русико, не ожидая приказа, принесла и поставила на стол две рюмки коньяка и чашечки кофе, сваренного именно к тому моменту, когда он понадобился Аспасии.
Андрей понимал, что Аспасия не может быть такой же продажной женщиной, как остальные обитательницы этого заведения, но она не была здесь и случайным человеком — иначе почему она танцевала танец живота в «Галате»? Рассуждая так, Андрей не мог не любоваться Аспасией, хотя старался делать это не очевидно, чтобы не дать повода укорить себя в невоспитанности. Хотя слово «любование» вряд ли передает чувства, с которыми мужчины смотрели на Аспасию, — скорее это называлось вожделением, но Андрею в тот момент было не до анализа собственных чувств.
— Простите, я так плохо выгляжу, — сказала Аспасия, ответив на взгляд Андрея.
— Ну что вы…
— Только, пожалуйста, не говорите мне комплиментов. Вы знаете — я фаталистка и не исключаю в жизни невероятных поворотов. Может быть, судьба заставит нас сблизиться, может быть, не дай Бог, сделает нас врагами. Сейчас же мы с вами знакомые, даже не приятели, хотя ваш вид мне приятен и внушает доверие.
Тут Аспасия засмеялась низким горловым смехом:
— Нет больших плутов, чем те, кто вызывает доверие с первого взгляда. А вы как думаете?
— Себя я за плута не считаю.
— Выпейте коньяк. Его делает мой дедуля, он живет в Синопе. Вы бывали в Синопе?
— Не приходилось. — Андрей отхлебнул глоточек такого душистого, крепкого и жгучего коньяка, которого пробовать не приходилось.
— Чудесно? — спросила Аспасия и посмотрела на Андрея так открыто и добродушно, что возникло веселое и озорное желание чмокнуть красавицу в щеку. Но Андрей, разумеется, удержался.
— Очень вкусно, — сказал Андрей. — А вы так хорошо говорите по-русски.
— Почему бы мне плохо говорить, — спросила Аспасия, — если я родилась и выросла в Феодосии? У меня там братья остались и тетка. А вы, судя по говору, тоже с юга?
— Я симферопольский, — сказал Андрей.
— Вот уж не люблю Симферополь, — сказала Аспасия, — хоть у меня там тоже родственники есть. У меня много родственников, хоть пруд пруди. — Она начала отгибать пальцы — вовсе не так, как делают русские, которые, считая, загибают пальцы. — В Бахчисарае есть, в Керчи — ой как много, в Ялте есть и даже в Севастополе. И я все знаю, что где случилось.
Она рассмеялась, и Андрей поразился чистоте и белизне ее зубов — их было много, они были крупные, ровные и белоснежные.
— Я в Симферополе в Глухом переулке жил, — сказал Андрей. — Вы знаете?
— Нет, не знаю, — огорчила его Аспасия. — А вы кондитерскую Циппельмана знаете?
— Ну конечно же! Пирожные эклер с шоколадной начинкой!
— А Фиру, дочку хозяина, знаете?
— Отлично знаю.
— Она замужем за моим кузеном! — радостно сообщила Аспасия.
— И у них ребенок, — сказал Андрей.
— У них трое. Малыш и двойня, — сообщила Аспасия с гордостью, словно сама родила всех детей Фиры.
Коньяк она пить не стала, а отпила кофе — Русико принесла еще по чашечке, чтобы кофе был горячий.
— Можно я вас буду просто Андреем звать? Ведь мы с вами будто давно знакомы.
— Конечно, зовите.
— А в Феодосии меня часто Асей звали. Один гимназист по мне сох и стихи читал: «Ася, ты мое несчастье!» Смешно?
— Смешно.
— Андрюша, ты только не подумай чего, — сказала Аспасия. — Ты, конечно, видишь, какое у меня дело. У меня здесь и варьете бывает, по ночам, а еще номера. Ты это понимаешь?
— Понимаю, — сказал Андрей и покраснел, хотя в полутьме этого, наверное, не было видно.
— Ты не стесняйся, Андрюша, — сказала Аспасия. — Это дело мужское, обыкновенное, ничего такого нет. Только девочки должны быть чистые и без болезней. Мне, знаешь, приходится трех-четырех каждый месяц в деревню возвращать — я же не могу у офицера спросить: вы больной, ваше благородие, или нет? Они мне девочек и губят. Стыдно просто ужасно.
— Но разве это… необходимо? — неумно спросил Андрей, но Аспасия вовсе не засмеялась. Она вообще была склонна к умным разговорам и тогда теряла чувство юмора, оставшееся у нее для обыденных житейских ситуаций.
— Это необходимо, — сказала Аспасия, — потому что иначе в мужчине происходит застаивание соков и он становится опасным.
— А монахи? — спросил Андрей.
— Монахи? Монахи, Андрюша, знают особое слово — их учат, я точно знаю. Но есть некоторые, которые забываются, — из них такие развратники получаются, ты не представляешь.
Андрей вдруг испугался, что Аспасия, которая считает это занятие нужным, тоже подрабатывает в этом доме терпимости и позволяет себя ласкать пьяным военлетам.
Но спросить об этом он, конечно же, не осмелился.
Но осмелился на другой вопрос:
— А почему вы вчера танцевали в «Галате»?
— А я ведь танцовщица. Я с семи лет начинала. Меня украли. Честное слово. И я даже в настоящем гареме жила — совсем девочкой, только это неинтересно. Лучше вам, Андрюша, не знать — но меня танцам учили. Я деньги люблю. Я такая голодная девочкой была, что теперь, когда денег у меня много, я, Андрюша, не могу остановиться — а мне тысячу рублей платят за один вечер — два танца, три танца, — они же бешеные кобели и все воруют, пока их солдаты всех к стенке не поставят, они спешат деньги прогулять.
Нет, подумал Андрей, собой она не торгует.
— Вы, Андрюша, не стесняйтесь, вы можете пользоваться моими девочками без денег — когда угодно. Я вам Русико советую, она хорошая и по-русски хорошо говорит. И чистая. Она за стойкой, видите?
— Нет, спасибо, — сказал Андрей. — Мне не нужно…
— Ну ладно, ладно, — сказала Аспасия, — я не для того вас сюда заманила, чтобы девочками покупать. Вы понимаете, я вас по делу позвала. И торопилась, как узнала, что на вас вчера напали.
— Вы и это знаете?
— Это банда Османа Гюндюза, страшный человек, вы, Андрюша, не представляете. Они могут ради денег на все пойти.
— Но я-то при чем?
— А как же? — удивилась Аспасия и положила ладонь на пальцы Андрея. Ладонь была жесткой, прохладной и уверенной в себе.
— Аспасия, — сказал Андрей, — честное слово, вы мне очень симпатичны, вы даже себе не представляете, до какой степени.
— Я все отлично представляю. И цену себе знаю на кобелином рынке. И даже знаю, мальчик мой, — она как бы имела право на такое обращение, потому что сразу стала вдвое старше, — знаю, что скоро, если меня кто не зарежет или не обезобразит, я лишусь своей красоты и буду просто толстой старой бабой, и тогда меня смогут спасти только большие деньги. Так что мне твоя симпатия, Андрей, приятна, потому что ты лучше, чем я ждала, — даже удивительно, зачем тебя на такое дело послали.
— Меня не посылали, — искренне возразил Андрей, — я сам попросился.
— А это больше похоже, — согласилась Аспасия. — Ты мог попроситься, потому что не умеешь свои ходы просчитывать заранее. Лентяй ты…
Они словно давным-давно были знакомы с Аспасией, и это было грустно, потому что Аспасия, понимал Андрей, никогда не станет его возлюбленной — искры, волны, какие посылал его организм, возвращались от Аспасии притушенными, чуть теплыми, ласковыми и семейными. Да и мог ли Андрей претендовать на внимание такой красавицы — подобные ей рождаются раз в столетие, ради них погибают царства и стреляются герцоги. И обычно такие красавицы несчастны, потому что их добиваются наглые, сильные, плохие люди — одинокого благородного рыцаря пристрелит наемный убийца в трех лье от замка, а негодяй подъедет к замку во главе сверкающего латами войска…
— Почему лентяй? — спросил Андрей.
— Не притворяйся, — поморщилась Аспасия. — Ты все отлично понял. Но мне не жалко и повторить — меня очень интересует вопрос: что ты задумал? Я очень хочу знать.
Русико принесла еще по чашечке горячего кофе. Ее мускулистые прямые ноги были обтянуты белыми чулками. Аспасия подождала, пока девушка отошла. Обернулась к Андрею.
— Аспасия, мне, честное слово, очень приятно сидеть здесь с вами, — сказал Андрей. — Я бы век так сидел. Но, к сожалению, я не понимаю ни слова из того, что вы говорите. Я ничего из себя не изображаю, я ничего не задумал.
— Андрей, — сказала Аспасия, — я все равно заставлю тебя решить по-моему. Если ты решил играть на подполковника Метелкина — ты погибнешь, как погибнешь и связываясь с турками.
— Честное слово, меня все с кем-то путают. И мне это очень грустно, потому что я хочу заниматься археологией, а за мной по ночам бегают убийцы.
— Не просто убийцы, — сказала Аспасия, — а люди Османа Гюндюза. Ты лучше скажи мне, что заставило вас в Севастополе изменить свое мнение? Что тебе донесли? Обо мне? Говори, я не боюсь правды! Я же вижу — ты шастаешь по городу, пытаешься что-то выяснить. Но ты здесь чужой — ты не уедешь отсюда живым!
Госпожа Аспасия раскрыла сумочку из золотого стекляруса, достала оттуда золотой портсигар — дамский, узкий, достала из него, нервно щелкнув алмазиком-замочком, длинную коричневую сигаретку. В мгновение ока рядом оказался инвалид, который поднес госпоже огонь. Аспасия глубоко затянулась сигаретой, и запах, распространившийся вокруг, был терпким и приторным.
— Аспасия, — сказал Андрей, — попытайся допустить, что произошла ошибка. Ты ведь думаешь, что я связан с торговлей. Правда?
Аспасия кивнула, глядя на него в упор. У Андрея даже захватило дух от такого взгляда, он сглотнул слюну…
Андрей молчал. Сил говорить более не было. В те минуты он не вспоминал о Лидочке. И не потому, что меньше любил ее, — Аспасия не относилась к числу обычных людей — она была небожительницей, которая могла выбрать себе любого мужчину, заставить его повеситься на площади или зарезать ее саму. Это была женщина-проклятие, женщина-наказание, женщина-пытка, которая в виде особой милости может оставить тебя в покое.
— А кто же ты? — спросила Аспасия, неожиданно опуская глаза, словно смущенная чем-то.
— Я студент, — сказал Андрей. — Я приехал с экспедицией Авдеева. Я думаю, об этом знает весь Трапезунд.
— Весь Трапезунд знает другое, — сказала Аспасия. — Он знает, что из Севастополя приехал большой человек, которого зовут Андрей Берестов, что этот человек приехал ко мне, потому что мы будем принимать большие решения — скоро русским войскам уходить из Турции, надо искать новые пути товарам, заменять людей — если мы не хотим погибнуть, надо делать быстро. Теперь тебе ясно?
— Нет, не ясно.
— Понимаешь, все понимаешь! Вчера приезжает «Измаил». Мы знаем — наш человек на «Измаиле». Мы сразу спрашиваем капитана: где господин Берестов? Но мы не волнуемся, не беспокоимся, потому что господин Берестов знает, куда идти, с кем встречаться, — он знает, что его ждут у самого корабля. Он должен сделать знак…
Аспасия подняла правую руку и щелкнула пальцами:
— Вот так. И мы знаем: большой человек из Севастополя здесь.
Аспасия выдохнула, сделала паузу — она была актрисой, и речь ее была театральным монологом. Далее она говорила трагично:
— Господин Берестов на борту! Но господин Берестов не подает нужного знака, господин Берестов остается на набережной и уезжает с Метелкиным. Потом Метелкин везет его в «Галату», которую контролируют люди Метелкина, а господин Берестов делает вид, что его вообще в городе нет. А ночью он вдруг отправляется гулять по ночному Трапезунду. Где гуляет господин Берестов? С кем хочет встретиться, почему не хочет встретиться с верными людьми — кто мне ответит на эту загадку?
— А где вы учились? — спросил Андрей.
— В гимназии, — совсем не удивилась неожиданному вопросу Аспасия, — в Керченской женской гимназии, только не окончила — я сбежала с театром Брусиловского после шестого класса.
Андрей отметил для себя, что в таком случае версия о похищении Аспасии в гарем в нежном семилетнем возрасте не соответствует действительности.
— И зачем вы меня отвлекаете? — сказала Аспасия капризно. — Почему вы не можете сказать мне правды?
— Правда одна, — сказал Андрей. — Я в самом деле Берестов, Андрей Сергеевич, что записано в моем временном свидетельстве, — желаете посмотреть?
— Мы уже смотрели, — сказала Аспасия спокойно, признавая этим, что вещи Андрея обыскивали.
— Все остальное — ошибка. Я тысячу лет не был в Севастополе, я никогда в жизни не занимался торговлей.
Андрей откинулся на спинку стула и прихлебнул дедушкиного коньяка.
— Андрюша, — сказала Аспасия, — я на все ради тебя готова. Не ради тебя — ради правды. Мы теряем дни, часы — это может оказаться роковым. А ты играешь в какую-то глупую игру. То ли потому, что открыл уши для злобных сплетен, то ли ты попросту дурак.
— Ну уж и дурак, — сказал Андрей, которому почему-то нравилось дразнить такую красивую женщину.
— Если вчера ночью у турок не получилось, то сегодня получится обязательно, — сказала Аспасия. — И тебя мы спасать не будем.
— И вам не будет меня жалко? — спросил Андрей. Коньяк был настолько крепок и душист, что в голове Андрея легонько и приятно зашумело. И он стал куда смелее и увереннее в себе, чем раньше.
— Нет, — резко сказала Аспасия и поднялась. — Мне не будет жалко глупого мальчишку. В Севастополе должны знать, кого посылать. И если послали тебя, значит, они недостаточно уважают меня. В таком случае я найду других партнеров.
Она была даже менее красива — злость никогда никого не красила, она сужает глаза и делает неправильной линию губ.
— Вы свободны, Андрей, — сказала она. — Я вас и пальцем не трону. Но теперь сами ищите себе охрану.
— Ну ладно, Аспасия, — сказал Андрей, которому вдруг надоела игра в каких-то казаков-разбойников. — Произошла ошибка. Честное слово, я другой Берестов. Есть же вторая Аспасия в Греции?
— Аспасий много. Но Аспасия Теофилато — одна.
— Сомневаюсь, — сказал Андрей.
— И Андрей Сергеевич Берестов в Севастополе тоже один. Таких совпадений не бывает!
— Вот приедет завтра ваш настоящий Берестов — тогда поймешь, что бывает.
— Иди, — сказала Аспасия.
Она по-королевски завершила аудиенцию. Но когда Андрей обернулся от входа, он увидел, что она смотрит ему вслед. И он понял, что Аспасия не совсем уверена в том, что поступает правильно.
Андрей развел руками, послал Аспасии воздушный поцелуй. Дедушкин коньяк еще продолжал на него действовать.
На улице был такой ослепительный и жаркий день, что Андрей зажмурился.
Поведение Андрея и его очевидная искренность смутили Аспасию. Ошибка казалась ей невероятной, но в жизни бывают и более невероятные случаи.
Ничего не оставалось, как подослать к Метелкину верного Сурена. Конечно же, Метелкин предпочел бы, чтобы к нему пришла сама Аспасия, но дело есть дело — Аспасия всегда предпочитала за услуги платить деньгами, а если телом, то чужим. Метелкин уже имел возможность в этом убедиться и смирился.
Метелкин сразу сообразил, что хочет разузнать у него негоциант. И признался, что и сам готов был попасться на удочку, но, к счастью, в недавнюю поездку в Севастополь он побывал в Главном штабе флота и видел там лейтенанта Берестова — ничего общего с археологом Берестовым не имеющего. Рассказав это, Метелкин долго смеялся — Аспасия желала создать собственную Трапезундскую империю, наладив прямые связи с Севастополем, в обход Метелкина. И кончилось это конфузом — как же не смеяться подполковнику!
Еще смешнее было то, что на ту же удочку попались и турки. Гюндюза хлебом не корми — дай сделать пакость Аспасии и ее грекам. Вот он и послал своих людей убить русского агента. И археолог Андрюша — тут Метелкин буквально упал на стул от смеха — чуть было не отдал Богу душу только потому, что в Севастополе у него обитает однофамилец. Правда же забавно, господин Саркисьянц?
Господин Саркисьянц сказал, что не видит ничего смешного в возможной гибели молодого человека и даже намерен довести через своих людей до слуха Гюндюза, что Берестов трапезундский и Берестов симферопольский — разные люди. Только Гюндюз не поверит!
Так что Аспасия потеряла интерес к Андрею, сохранив, правда, к нему симпатию. Андрей же начал тосковать и вечерами, возвращаясь с раскопок, взял за обыкновение гулять по улице мимо «Луксора» — он слушал музыку и голоса, но войти не смел.
Господин Сурен Саркисьянц также не показывался, убийц никто не подсылал — три дня прошли в трезвой археологической жизни, и Андрею было чуть обидно от того, что он перестал быть центром внимания стольких враждующих сил. Он даже Ивана крестьянского сына видел только раз и то случайно — когда тот привозил от Успенского забытые Авдеевым в Москве бумажные пакеты для находок. С Андреем они поговорили минут пять — ни о чем, посетовали оба, что дела не дают увидеться, — так и расстались. Один вечер Андрей провел с поручиком Митиным — тот заглянул к Андрею, даже вытянул его вниз в ресторан. Андрей сначала отнекивался стесненными имущественными обстоятельствами, но потом сдался — не из-за Митина, а из-за гложущей тоски по Аспасии. Это было как болезнь, как стремление курить, как нечто ненормальное, нецивилизованное. Андрей никому даже не сказал о своем свидании с Аспасией.
Они с Митиным посидели внизу, за одним столиком с двумя известными здесь арабами — английскими шпионами, которые много шутили и сами смеялись своим шуткам. Когда Андрей поднялся к себе в номер, он понял, что там кто-то был, перевернул все его вещи и весьма неаккуратно положил их на место, будто нарочно хотел дать понять хозяину, что его обыскивали.
Андрей проверил — не пропало ли чего. Все было на месте. Значит, это были не грабители. Андрею не было страшно, что в его вещах рылись, но очень противно. Как будто он наверняка знал, что у тех людей грязные руки. Ему даже не хотелось оставаться в комнате, где только что были эти нечистые люди. Потом он понял, что пойдет к Аспасии и велит ей прекратить эти шутки. Вот сейчас пойдет — покажет!
Наверное, Андрей был слегка пьян — они пили с Митиным и английскими шпионами сладкое местное вино, иначе бы он не отправился так поздно один на улицу. Но все в нем перепуталось, и не последнюю роль в его решении сыграло терзающее стремление хотя бы увидеть Аспасию. По крайней мере теперь есть предлог поговорить с ней.
Андрей вышел из гостиницы. У входа, как всегда, было людно — он даже узнал одну из девиц Аспасии. Митин еще оставался в ресторане. Ночь за пределами огней гостиницы была черной и душной.
Пройти Андрею было всего ничего — метров пятьдесят до угла, потом за угол, там второй дом — «Луксор».
На тротуаре, в кафе, в лавках, что еще были открыты, толпилось немало народа — была суббота, завтра местный праздник.
Противоположная сторона широкой улицы была темной — почему-то все оживление сместилось к одной стороне. Андрей сошел с тротуара на мостовую — ему показалось, что там, где нет встречных и никто не толкается, прохладнее.
Он дошел до перекрестка — как раз над головой его горел фонарь. Навстречу по мостовой ехала пролетка — лошадь шла мерно, — тук-тук подковы по каменной мостовой, Андрею показалось странным, что один человек сидит в пролетке, а второй идет рядом по мостовой и мирно с ним беседует.
Андрей шагнул в сторону, чтобы пропустить пролетку, и в этот момент человек, шедший рядом с ней, сделал шаг к Андрею, и в руке у него оказался нож.
Человек прошипел что-то — не надо было быть большим лингвистом, чтобы понять смысл угрозы.
И в тот же момент человек, что сидел в пролетке, соскочил с нее, схватил руку Андрея и так ловко завел ее за спину, что Андрею пришлось согнуться и покорно повернуться к пролетке.
— Лезь, — сказал тот, кто держал его сзади. Было больно. А нож второго человека метнулся вверх и прижался лезвием к горлу — у его хозяина было тупое озлобленное лицо, ему ничего не стоило полоснуть ножом по горлу.
Андрей хотел сказать что-то, но человек с ножом увидел, как движутся губы, и нож надавил на горло.
И через несколько секунд Андрей уже сидел в пролетке, по обе стороны от него уместились, сжимая его, два пахнущих потом и опасностью человека. И никто на улице или не заметил, или не захотел замечать этого события.
Стыдясь или не догадавшись закричать, Андрей молча боролся с похитителями, пытался вырваться, но у горла Андрея вновь возник нож — на этот раз его молодой сосед действовал смело и открыто, потому что пролетка покинула центр и катила по узким уличкам нижнего города.
Путешествие было недолгим, и Андрей даже не успел прийти в себя и осмыслить, что с ним произошло. Ему было больно и неудобно от того, как его держали, притом пролетку трясло.
Пролетка остановилась возле приоткрытых ворот на узкой улице. Андрея грубо втолкнули в неосвещенный двор, и вскоре он оказался в обширной низкой комнате, на полу и стенах которой были ковры. Там их ждал малорослый человек в феске, с короткой, в проседь, бородой и веселыми, в лучиках морщин, глазами. Лицо его, освещенное с обеих сторон шандалами на высоких подставках, казалось очень живым, тем более от игры теней и света.
— Добро пожаловать, господин Берестов, — сказал мужчина с восточным, таким знакомым по Крыму акцентом. — Долго вы собирались к нам в гости.
— Я и сейчас к вам в гости не собирался, — огрызнулся Андрей. — Велите меня отпустить.
— А вы садитесь, садитесь, — сказал седобородый, упершись маленькими черными выпуклыми, совсем как у мышки, глазами в Андрея, стараясь пробуравить его. — Рефик, дай гостю подушку.
Тот, что был с ножом, кинул Андрею подушку.
— Садитесь, садитесь, — сказал седобородый. — Чай пить не будем?
— Не будем.
— Деловые люди, да?
— Не знаю, как вы, а я спать собрался.
— Долго спать будешь, — сказал седобородый и стал смеяться — все лицо собралось в морщинки и напомнило Андрею клубок бурой шерсти — каждая ниточка видна, — а в клубке спрятались две черные бусинки.
— Давай знакомиться, — сказал седобородый, — Осман Гюндюз — так меня зовут. Меня все боятся — от Синопа до Констанцы. Как мое имя слышат, в обморок падают, да?
Молодые люди закивали головами, хотя вряд ли что-нибудь поняли.
— Вы хорошо знаете русский язык, — сказал Андрей.
— Я в России бывал, много раз бывал, торговал немножко. А что тебе Аспасия говорила?
— Она не подсылала бандитов.
— Может, это не я подослал, — сказал Гюндюз, — может, Суренчик. А может, сам русский подполковник Метелкин послал? Кто их знает — все в Трапезунде тебя ждали, все тебя любят. А ты и не знал, правда?
— И не подозревал, — сказал Андрей.
Гюндюз не казался страшным либо злым. Наверное, с ним можно договориться. Может, хоть он поймет, что Андрей здесь ни при чем.
— И я не знал. Зря ты сюда приехал, Берестов. Такой молодой, красивый аскер, генералом бы стал, — а к нам приехал, голову потерял. Зачем ехал, ай, ай, ай! — закручинился Осман Гюндюз, но слишком театрально, а глазки внимательно наблюдали за Андреем.
— Честное слово, я не имею к вашим делам никакого отношения, — сказал Андрей. — Я уже говорил госпоже Теофилато, что произошло недоразумение. Видно, здесь ждали какого-то другого Берестова.
— Красиво придумал, мальчик. Только мы никого не ждали. Честное слово даю — никого не ждали. И теперь дело очень важное, да?
— Какое дело?
Ноги затекли, пришлось пересесть так, чтобы положить их вбок, — и как эти турки сидят, подложив под себя пятки?
— Такое дело, какое у тебя с этой сукой Аспасией. — Лицо стало злым, разгладилось на мгновение и снова собралось в морщины. — Говори, зачем приехал?
— Не смейте со мной так разговаривать, — оскорбился Андрей.
Тут же один из молодых бандитов ударил его в висок. От неожиданности голова дернулась, Андрей упал, ушиб локоть о твердый пол и на секунду перестал ощущать окружающий мир.
Он с трудом поднялся, потирая локоть и легонько мотая головой, чтобы вернуть мозги на место.
— Я все знаю, — сказал Осман. Он говорил так холодно и сладко, что ясно было, как он по-змеиному смертелен. Андрей испугался — настолько, что готов был бы рассказать обо всех тайнах Аспасии или Метелкина, если бы только знал какую-нибудь тайну!
— Что… вам нужно? — произнес Андрей, стараясь сглотнуть слюну. — Ну что вам нужно?!
— Нам нужно все. Нам нужно все знать. Зачем ты приехал. И пока ты не расскажешь, о чем вы договорились, ты отсюда не выйдешь.
— Я ничего не знаю!
И тут случилось страшное — то страшное, за пределами которого уже нет страха. Молодой бандит полоснул его по горлу острым лезвием, и Андрей явственно почувствовал — не нужно было глаз, чтобы видеть, как нож разрезал кожу, как лопались, сопротивляясь, сосуды и хлынула кровь. Еще мгновение, и лезвие перережет трахею.
И именно в тот момент — даже не было очень больно — Андрей понял, как проста и близка смерть, — она была в миллиметрах от лезвия ножа — и все. И тебя не будет. И тогда уже будет не страшно.
Наверное, в интересах Гюндюза было бы куда лучше избить Андрея, запугав его болью и вселив надежду избавиться от нее. Но удар ножа стал первым испытанием на пути превращения Андрея в особое существо, нужное неведомой силе для непонятных целей. Вечный странник, бессмертный, но не имеющий бессмертия, он был обязан отличаться от прочих людей глубоким пониманием тех таинств жизни и смерти, от которых нас так тщательно и глупо оберегают инстинкты, привычки и обычаи. Он должен пощупать языком смерть еще в начале своей сознательной жизни.
Что и произошло с Андреем.
— Эй! — закричал Осман с отвращением и негодованием. Он выхватил свой нож — Андрей видел смутно, в полузабытьи — и кинулся с ножом на молодого бандита. Тот, бросив нож — Андрей услышал глухой стук ножа о ковер, — убежал из комнаты, а второй бандит почему-то начал смеяться высоким голосом — глаза Андрея были открыты, хотя он плохо соображал, что же происходит, и потому ему непонятно было, почему Осман бьет сапогами второго бандита, почему он кричит, зовет кого-то. И потом прибежали другие люди, но от них существовали только лица, а Андрей, уже потеряв сознание, старался все проверить — перерезана ли у него глотка или нет, он старался проглотить слюну. Но не мог — будто судорога свела горло. И с отвратительным чувством невозможности глотать Андрей потерял сознание, а пришел в себя в полутемной комнате, на низкой кушетке, накрытый каким-то одеялом, и сразу же потянулся пальцами к горлу — горло было перевязано, а сам он был раздет. Комната была пуста, и дверь закрыта.
Андрей окончательно поверил в то, что жив, и смог на этот раз проглотить слюну, хотя оказалось, что глотать больно, — и уже спокойно заснул.
Снова он проснулся в той же комнате. Через узкое окно пробивался острый и тонкий луч солнца, и в нем медленно крутились многочисленные пылинки. Андрей сразу вспомнил, что произошло с ним вчера, но не испугался. Это уже миновало, как сигнал о том, чтобы человек не суетился и не разменивался на мелочи, потому что все может кончиться мгновенно, закрыл глаза — и все. Дети иногда зажмуриваются, полагая, что тогда и их не видно. «Меня нет!» — кричит ребенок. Оказывается, дети правы. Именно так и завершается жизнь: ты закрываешь глаза, и кто-то другой за тебя говорит: «А его уже нет!»
Андрей провел рукой по повязке на шее, потом сел на низком ложе — было тепло, но не душно — откуда-то проникал свежий воздух. Хотелось пить.
Андрей решил исследовать сначала свою тюрьму, потому что раньше всех органов его тела проснулся мочевой пузырь. Андрей усмехнулся, вспомнив, что в приключенческих романах такие проблемы героев совершенно не волнуют. Просидев трое суток взаперти в роскошном будуаре без окон и дверей, герой тут же готов к длительным беседам с тюремщиками.
Андрей поднялся и пошел к двери. Дверь была заперта. Он постучал, никто не откликнулся. Андрей осмотрелся, выясняя, нет ли другого выхода, и тут увидел, что за ложем в углу стоит ночной сосуд, вернее, предмет, который можно почитать ночным сосудом. Андрей взял этот сосуд и с наслаждением опустошил мочевой пузырь, и как раз в разгар этого действия дверь с отвратительным скрипом отворилась, и вошла девица в черном платке с тазом в одной руке и кувшином в другой. Андрей отвернулся от девицы к стене, проклиная здешние обычаи. Девица, ожидавшая увидеть лежащее тело под одеялом, также была удивлена, взвизгнула, уронила таз и, прижимая к себе кувшин, убежала в коридор.
Сам господин Гюндюз принес белье Андрея и злополучный кувшин. Он извинился за недоразумение.
— Это я виноват, — сказал Андрей, поджидавший его, сидя на ложе и закутавшись в одеяло.
— Моя родственница, — сказал Осман, — не привыкла к таким случаям. Она чуть Богу душу не отдала, понимаешь?
И тут он принялся смеяться, а лицо его стало клубком шерсти.
— Ты можешь, конечно, помыться внизу, где все моются, — сказал он. — Но будешь стесняться, и другим нехорошо. Одевайся.
Белье Андрея было еще чуть влажное.
— Вы стирали его? — удивился Андрей.
— Это была глупость, — сказал Осман. — Не надо было стирать. Но уже поздно — постирали. Простирали, чтобы кровь смыть, понимаешь?
— Да, конечно. — Андрей понял, что крови на одежде, наверное, было немало. Значит, они намерены его отпустить. Иначе, даже постирав одежду, ее не стали бы возвращать.
Одеваясь, Андрей понял, что за ночь нечто изменилось, — это был совсем другой Гюндюз. Не враг, а как бы хозяин дома, в котором Андрей остановился переночевать и у которого вчера за ужином случайно облили одежду томатным соусом. Но, может, это хитрость?
— Простите, а который час? — спросил Андрей.
— Уже утро. Восемь часов половина.
— Меня уже хватились, — сказал Андрей.
Интересно, что ответит Осман на этот вопрос.
— Не волнуйся, — сказал тот. — Скоро будешь в гостинице.
— И что я скажу?
Андрей как бы присоединился к игре, правил которой не знал, ее вел Осман, делавший вид, что ничего особенного не произошло.
— Скажешь, что на тебя напали, все скажешь — только имени не скажешь, — сказал Осман, и черные глазки сверкнули в полутьме, как отполированные бусинки.
— И это? — Андрей показал на свою шею.
— Очень страшно расскажи — как тебя пытали…
— А потом?
— А утром ты убежал.
— И это я всем скажу?
— Всем скажешь. И Аспасии скажешь, и Метелкину скажешь.
Андрей кончил одеваться и теперь чувствовал себя увереннее.
Поэтому он смог задать главный вопрос.
— Что изменилось? — спросил он. — Вы узнали, что я — другой Берестов? Что произошла ошибка?
— Может быть, — сказал Осман.
Он подошел к Андрею ближе — оказалось, что он на голову ниже своего пленника, достал из кармана пиджака длинный конверт.
— Расскажи, — сказал он, — кто тебе его дал?
— Ахмет, — сказал Андрей. — Мой друг Ахмет Керимов.
— Зачем ты молчал, не отдавал? А что было бы, если бы мои аскеры тебя зарезали?
— Это место было закрыто. Кофейня у порта. С кораблем.
— Это правда, — согласился Осман, словно Андрей сразил его сильным аргументом в ожесточенном споре. — Этого ты не знал.
— Я решил, что за письмом придут.
— Правильно решил, — согласился Осман. Он улыбался неуверенно и даже застенчиво — видимо, с его точки зрения, он совершил большой промах. И вдруг сердито закричал: — Откуда я мог знать, шайтан тебя побери, что в Крыму два Берестова есть! Откуда мне знать, а? Теперь кричать будешь, теперь Керим кричать будет, Сейдамет скажет, что старый дурак. Ты-то им все расскажешь, конечно, расскажешь… — И неожиданно вслед за этой страстной речью последовало маленькое слово «да?» с вопросительным знаком в конце, который скрывал в себе такую надежду на порядочность посланца из Крыма, который, может быть, и не такой плохой человек, который, может быть, и не будет жаловаться тем, кто его послал.
Андрей понимал, что, в сущности, Осману не столь важно, будет жаловаться на него Андрей или нет. Вряд ли он так уж боялся крымских татар.
— Прости меня, друг, — сказал Осман.
— Это было недоразумение, — сказал Андрей великодушно, но его великодушие было напускным — ничего он не забыл и не простил. Но сейчас куда важнее было вырваться отсюда.
Гюндюз уселся на ложе, показал Андрею рядом с собой, начал говорить с ним о здоровье Ахмета, о татарских делах. Андрей, разумеется, знал мало: жил он только в отряде Ахмета и не видел ни татарских политиков, не знал их сил и намерений в Симферополе. Но он старался показать, что знает куда больше, чем говорит, и, возможно, ему это удалось. В конце концов Гюндюз сказал:
— Лучше тебе сейчас идти, Андрей. Чем раньше ты пойдешь, тем меньше тебя будут искать. Кому нужно, чтобы русский полк перекапывал выгребные ямы и колодцы, как уже случалось этим летом. Пожалей своих земляков.
В этих словах была скрыта издевка, но ее можно было не замечать.
— Мы с тобой еще много раз встретимся. Будь спокоен, Андрей, пока я жив, ни один волос не упадет с твоей головы.
Осман говорил чуть более торжественно, чем требовалось, но Андрей думал только об одном — скорее уйти отсюда, из этого замкнутого полутемного, наполненного шепотом и шуршанием дома.
Андрей поднялся.
— Тогда проводите меня, — сказал он.
— Нет, так уйти нельзя, — сказал Гюндюз.
Он хлопнул в ладоши. Из дальних комнат кто-то отозвался «иду» — Андрей понимал многие слова. Потом вошел незнакомый подросток. Он нес миску с темной жидкостью.
— Сними повязку, — сказал Гюндюз.
— Зачем?
— Она слишком чистая, мой друг. Мы повяжем другую — грязную.
Он достал из кармана мятый платок. Андрей признал правоту турка. Он смотал повязку — она присохла спереди, было боязно ее отрывать, — Осман протянул сухую руку и резко рванул повязку к себе.
— Пускай кровь идет немножко, — сказал он.
Он протянул платок.
— Сам завяжи. На тебя бандиты напали. Куда-то затянули, в какой дом, ты не знаешь, глаза завязанные были, — пытали, денег требовали, убить хотели, а потом ты сбежал от них — еле убежал. Сам придумаешь, только дом не помнишь, никого не видел. Чем меньше знаешь, аскер, тем лучше для тебя, долго жить будешь.
В темной глиняной миске, которую принес юноша, была, по уверениям Гюндюза, куриная кровь.
— Закрой глаза, — сказал седобородый Андрею.
Андрей подчинился. Осман зачерпывал широкой ладонью кровь и мазал ею ворот и грудь Андрея.
— Не смотришь за дураками, — ворчал он, — всегда напутают. Я не велел им твое белье стирать, а они думали, что тебе амба. Выстирали женщины, чтобы продать, хороший, говорят, пиджак, зеленый, и рубашка хороший — богатый аскер был.
— Вы часто спешите? — спросил Андрей, не в силах скрыть дурного отношения к Гюндюзу. Но тот будто не слышал злости в голосе Андрея.
— Я редко спешу, — ответил он. — Мои женщины очень недовольны, они уже деньги подсчитали, а оказывается, ты будешь живой!
Андрей приоткрыл глаза, думая, что размазывание куриной крови кончилось. Но Осман словно ждал этого момента, плеснул остатками крови ему в лицо.
— Да вы что!
— Пускай так будет, — рассмеялся Гюндюз. — Так лучше поверят. Ты лучше рукавом вытирайся — скорее засохнет.
Ощущение было отвратительное — липкая кровь воняла, костюм был погублен. Все это было как бы продолжением ночной экзекуции, и Андрей не верил словам Гюндюза, полагая, что тот был бы рад убить Андрея — и концы в воду, но что-то, непонятно что, переменило его намерения.
Главное — уйти отсюда, уйти отсюда, повторял про себя Андрей. Этот кошмар скоро кончится.
— Тебе завяжут глаза, потому что не надо знать, на какой улице идешь.
Стало темно — цепкие пальцы взяли Андрея за руку и повели — сначала по плиткам пола, потом наверх по лестнице. Сзади голос Османа сказал:
— До встречи, аскер.
Андрей почувствовал, что они вышли из дома, заскрипела дверь, воздух стал теплым и душистым от цветов. Под ногами была утоптанная дорожка. Женские голоса звучали совсем рядом:
— Это он? Зачем хозяин его отпускает? Это особенный человек…
Потом скрипнула калитка, и Андрей почувствовал, что перед ним пролетка. Он взобрался в нее, пролетка поехала, он хотел было считать повороты, но потом понял, что это не поможет, — ему никогда не отыскать тот дом. И не нужно искать…
Люди Гюндюза сняли с Андрея повязку на неизвестной улице и быстро уехали. Андрей пошел по улице вверх, чувствуя себя неловко от того, что у него испачканы костюм и сорочка. Некоторое время никто ему не встретился.
Он вошел на небольшую площадь — вернее, перекресток, но, как назло, там не оказалось фонтанчика.
Хлопнула дверь — из дома вышла гречанка с кувшином и направилась в улицу направо, и Андрей пошел за ней, поняв, что она выведет его к воде. Но он не учел того, что женщина может обернуться.
К сожалению, так и случилось. Женщина обернулась — видно, на звук шагов, и отлично рассмотрела Андрея, шагавшего по солнечной стороне улицы.
Гречанка отчаянно закричала, уронила кувшин — Андрей, вместо того чтобы сразу убежать, кинулся почему-то поднимать кувшин, а гречанка поняла, что кровавое чудовище несется, чтобы ее задушить. Из ближайшего дома выскочил толстый мужчина с палкой, и Андрей постарался объяснить ему, что происходит недоразумение, — мужчина размахнулся, чтобы проломить палкой голову Андрею, и тот помчался по улице, хотя это лишь казалось ему, что он мчится по улице, на самом деле он бежал медленно, прихрамывая.
За Андреем уже бежала небольшая толпа, и он выжимал из себя всю возможную скорость, понимая, что преследователи забьют его до смерти, полагая его вурдалаком.
К счастью, он выбежал на знакомую широкую улицу и кинулся к двум русским солдатам, что торговались у открытой лавки. Соотечественники сначала тоже было оробели — тем более их смутила вопящая толпа, что неслась за Андреем, но Андрей нашел нужный крик, который всегда помогает, если на сцене появляется русский солдат.
— Спасите, братцы! — кричал он. — Наших бьют!
Солдаты поняли его однозначно — виноваты именно те греки, что гнались за Андреем. Лишь по счастливой случайности греков не перестреляли, и вся эта история закончилась шумными переговорами, появлением патруля, что, к счастью, тоже занимался покупками на улице, и вскоре Андрей оказался в городской больнице, окруженный сочувствующими и страшно любопытными согражданами.
Раны Андрея оказались, в общем-то, неопасны, синяки и ушибы тоже оставляли надежду на выздоровление, так что Андрей пропустил лишь один день раскопок.
Госпожа Авдеева велела ему лежать, не поднимая головы, сделала какие-то вонючие примочки и объявила себя его старшей сестрой. Она долго и увлеченно массировала Андрея и была недовольна, что пришел сам профессор, который утробно смеялся и уверял окружающих, что состояние Андрея — типичный пример последствий романтической вылазки в исламской стране. Он сказал, что и сам пролежал как-то целый месяц в Тегеране по такой же причине. Подполковник Метелкин тоже пришел навестить Андрея и расспрашивал его. Андрей держался версии, предложенной Османом, и Метелкина разочаровал. Тот говорил:
— Нет, не может быть, чтобы вы, такой молодой, и не заметили никаких деталей!
Приходил и поручик Митин — он привел с собой капитана из контрразведки. Капитан был толст, добродушен — таким в разведке делать нечего, решил Андрей. Он тоже остался недоволен показаниями Андрея, будто ждал точного адреса, чтобы нагрянуть туда с пулеметами и пушками. Иван крестьянский сын заявился, когда остальные разошлись. И сказал:
— У вас, очевидно, есть причины молчать о том, где вы были и кто вас мучил. Но учтите, что здесь никто вам не поверил. И я тоже не поверю. Хотя бы потому, что человек, который умудрился посреди бела дня уйти из дома, где его держали, и не заметить, что это был за дом, — отличается отвратительной наблюдательностью.
— Я отличаюсь отвратительной наблюдательностью.
— А я уверен, что вы были в руках Гюндюза. И он вас отпустил? О чем это говорит?
— О чем?
— О том, что Гюндюз никогда никого не отпускает живым. Так что вам есть о чем подумать, невинный археолог Берестов.
Глава 3
Лето 1917 г
Андрею досталась полуразрушенная башня цитадели, второй этаж которой некогда был придворной церковью первых Комнинов, а внизу, по мнению Успенского, похоронили императоров Алексея и Давида — рыцарей, проведших жизнь в войнах и не преисполнившихся гордыней. Все большие храмы Трапезунда — создание их потомков, которым достался более установленный быт и порядок.
Предположение Успенского так и не было доказано — он лишь исследовал фреску, сохранившуюся на внутренней стене башни, и со свойственной ему виртуозностью, привлекая на помощь свидетельства десятков средневековых авторов, фресок и книжных миниатюр, доказал, что две центральные фигуры на фреске в силу длинных цепочек, ниспадающих с венца к плечам, носят либо титулы императоров, либо севастократоров, что, несомненно, подтверждает гипотезу о захоронении трапезундских императоров именно здесь, а не во дворе храма Златоглавой Богородицы.
Летом 1917 года Успенский и его группа были заняты раскопками в храме Святого Евгения, которого Успенский полагал патроном Трапезунда. Профессор мечтал отыскать в храме погребение самого святого, считая, что такая удача оставила бы куда больший след в науке, чем гробницы греко-грузинских императоров.
Авдеев занялся дворцом Комнинов, питая тайную надежду отыскать библиотеку императоров, о которой много говорили средневековые летописцы. Везде по цитадели были видны следы начатых и оставленных вскоре раскопок Успенского. Ямы затянуло грязью и засыпало пылью, а кое-где их сровняли солдаты, так как траншеи и ямы мешали интендантам, что заняли цитадель своими складами, депо и мастерскими, а в пригодных для жилья строениях оборудовали конторы.
Неудивительно, что к новому нашествию археологов хозяева цитадели отнеслись отрицательно, и тут авторитет подполковника Метелкина был не столь велик, как среди жуликов и контрабандистов. Так что мадам Авдеевой пришлось пустить в ход все свое тяжеловесное обаяние, а Авдееву — московский гонор, чтобы интенданты смилостивились над непонятными им существами. Археологи привели с собой в цитадель греческих землекопов, чем генерал-майор Ломейко, комендант Трапезунда, был недоволен. Авдеев предложил использовать в качестве рабочих русских солдат и платить им за это, но эта идея вызвала у Ломейко возражения.
— Господин профессор, — сказал он, — наша держава находится в состоянии тяжелой войны. Я не знаю и знать не хочу, почему ваши спутники не держат в руках винтовку… — Тут генерал сделал паузу, надеясь, может быть, что Авдеев со своими сотрудниками изъявит желание пойти на фронт добровольцами, но ответа не дождался и закончил свою мысль так: — Но мои солдаты, все до единого, нужны на своих боевых постах.
Генерал Ломейко был стар, бугрист и неуверен в движениях. Он сам уже не воровал и не мог контролировать подчиненных, поэтому был им удобен и даже любим.
В конце концов все, разумеется, уладилось: греческие землекопы начали лениво махать лопатами и кирками, а среди населения города распространилась уверенность в том, что горластый профессор из Москвы ищет сокровища императора, потому что купил секретную карту.
Рабочих у Андрея было всего трое, они проявляли рвение лишь первые два часа, по холодку, но как только воздух прогревался, укладывали инструменты на землю и шли пить кофе, и ничто не могло заставить их вернуться раньше трех часов пополудни.
Андрей, впрочем, и не возражал против ухода рабочих. Он оставался один в тишине и мог не спеша рассмотреть углубившуюся траншею, проверить, не вылезает ли из ее серой стены наконечник стрелы или обломок сосуда, разобрать кучу породы — тяжелой, перемешанной с камнями, и выудить из нее все интересное — работы как раз хватало до обеда. Потом он спускался вниз, в небольшую кофейню. Там уже наладились какие-то знакомства, и Андрей с улыбкой отвечал на дежурные вопросы, нашел ли господин доктор свой клад? Попытки его объяснить даже наиболее интеллигентным офицерам, что его интересует не клад, а само знание, вызывали усмешки.
Порой к нему подсаживался тот или иной старожил и объяснял, что Андрей ищет клад неправильно, и даже находились люди, готовые за долю в находке нарисовать план, где нужно искать.
Нижний этаж башни был завален спекшейся смесью земли и камней — когда-то сверху рухнула кровля, потом перекрытие второго этажа, а через пролом в стене и набралось за столетия немало земли и пыли. И все это было сцементировано так, что впору взрывать. Так что землекопы вгрызались в завал медленно и за три недели прошли чуть больше аршина.
Находки также были не очень интересны, потому что истинный пол церкви находился на неизвестной глубине под завалом, пройти который еще предстояло. И все же по мере того, как продвигалась работа, все чаще встречались наконечники стрел и обломки оружия, даже каменные ядра от катапульт — следы осад и сражений у цитадели; на стене, очищенной от породы, проявился верх фрески, относившейся к первому этажу церкви, — там были видны летящие серафимы и облака.
Башня защищала от солнца и порывов яростного горячего ветра, скатывавшегося с гор. Особой осторожности работы пока не требовали — Андрей и не ждал находок, а греки, будучи христианами и в святом месте, копали осторожно.
В июне началось генеральное наступление на всех фронтах — отчаянная авантюра Временного правительства. Разумеется, готовилось оно и в Трапезунде, вернее, на позициях к югу и западу от него, видных в пролом башенной стены. Там, за холмом Митры, на месте святилища римского времени иногда вспыхивали белые облачка — шла артиллерийская дуэль с турецкими батареями.
В городе было оживление — все время приплывали подкрепления, но снабжение их было из рук вон плохим, и настроение солдат тоже оставляло желать лучшего.
Запоздалые газеты приносили из России тревожные слухи: в стране шла грызня — ссорились политики, все твердили, что необходимо немедленно вытащить Россию из пропасти, в которой она находилась, пора наконец прекратить говорильню, иначе найдутся антинародные силы, которые будут действовать именно от имени народа. Они придут к власти, и тогда будет плохо всем, в первую очередь самому народу, не говоря уже о состоятельных классах общества. Если мы не хотим анархии, необходимо взяться за дело.
Поручик Митин иногда приходил к Андрею в башню на раскопки. Андрей устраивал перекур и усаживался рядом с ним в проломе башни. Они глядели в сторону гор, на святилище Митры, где изредка поднимались белые ватные разрывы. Поручик желал, чтобы наступление провалилось, чтобы Россия заключила сепаратный мир с Германией, потому что, если этого не сделать, будет следующая вспышка революции, когда поднимутся все темные рабские массы России и сметут все, что посмеет встать на пути. Андрей не соглашался с новым приятелем, потому что полагал, что в России есть немало здоровых демократических сил, которые еще не сказали последнего слова.
— Вы не знаете русского народа! — горячился Андрей, которому в те моменты казалось, что он разделяет мысли и чаяния русского народа, — он вспоминал лица встретившихся ему на жизненном пути добрых солдат или мастеровых, вспомнил и Глашу, и Марию Павловну, потому что они тоже были представительницами русского народа. — Наш народ переболеет болезнью роста. Да, это нелегкая болезнь, но ростки справедливости, побеги демократии, живущие в русской крестьянской общине, — все это дает нам надежды…
К согласию спорщики не приходили, что, впрочем, не мешало им оставаться добрыми приятелями, будто бы оказавшимися случайно на водах или на морском курорте и соединенными взаимной симпатией, которая завершится на вокзале в день разъезда.
Ни одна душа не обращала на Андрея внимания. Никто не нападал на него в темных переулках, никто не старался проникнуть в его номер, никто не стрелял в него — жизнь сразу потускнела и стала такой же, как жизнь археолога в Вологодской губернии.
На третий или четвертый день после освобождения из подвала турецкого дома Андрей возвращался с раскопок крытым базаром. Во-первых, эта дорога была прохладнее, чем проход по улицам, во-вторых, Андрею всегда было интересно бродить полутемными проходами базара, мимо многочисленных лавочек и магазинов, где с перегородок свисали роскошные ковры, в полутьме лавочек поблескивали надраенные медные кувшины и чеканные блюда, где громоздились штуки ситца и шелка…
Прямо на базаре, на главной его улице, Андрей нос к носу столкнулся со своим мучителем, загадочным и могучим главой турецкого клана контрабандистов господином Гюндюзом. Сердце Андрея вздрогнуло. Это было слишком обыкновенно, словно господин Гюндюз не мог существовать в дневном Трапезунде, а был лишь порождением его знойных ночей.
Андрей не знал, должен ли он показывать, что знает этого страшного человека. И пока он размышлял, господин Гюндюз, проходя рядом, чуть улыбнулся и поклонился, как бы оставляя за Андреем право узнавать себя либо не узнавать.
Андрей поздоровался — но уже со спиной господина Гюндюза.
И тут же увидел, что за Османом идут два молодых человека. Один из них обернулся, и Андрей узнал своего мучителя Рефика. И узнавание было настолько неприятным, что рука Андрея непроизвольно поднялась к горлу, как бы прикрывая тонкий шрам. А турок лишь усмехнулся и исчез в толпе.
Не раз Андрей проходил мимо заведения госпожи Аспасии Теофилато, но только днем — вечером, когда оттуда доносилась музыка «Сиртаки» и пьяные голоса, Андрей показаться там не мог. А днем «Луксор» был пуст, тих, и когда Андрей как-то осмелился и, отодвинув звенящие струйки, шагнул внутрь зала, перед ним появился инвалид на деревянной ноге, державший в руке неизменную щетку.
— Госпожи Аспасии нету, — сказал он по-русски, — и не будут.
Более Андрей не заглядывал в «Луксор», надеясь, правда, что в один прекрасный день гречанка будет снова танцевать в «Галате». Он даже принял за обыкновение спрашивать у портье, возвращаясь с раскопок:
— Госпожа Аспасия у нас сегодня не танцует?
И тот, полистав зачем-то свой блокнот, куда записывал резервации, отвечал:
— Госпожа Аспасия у нас сегодня не танцует.
Никто не интересовался Андреем.
И от Лидочки не было никаких вестей.
Основную тайну — почему же вдруг все бандиты и контрабандисты Трапезунда потеряли интерес к Андрею Берестову — помог разгадать крестьянский сын Иван Иванович.
Как-то вечером он зашел в «Галату» — у него были дела к Авдеевым, заглянул к Андрею, предложил выпить по чашке кофе, только не в вонючей «Галате», а в соседней кофейне, за столиком, вынесенным на тротуар.
Был жаркий вечер после раскаленного дня. Горячая волна воздуха пришла откуда-то из Палестины или египетских пустынь. Над Трапезундом висела пыль, днем все ползали, как дохлые мухи, еле перебирая лапками, и старались пересидеть день в тени.
Иван сказал, что экспедиция Успенского, видно, не дотянет до осени. Деньги кончались, из Петербурга новых не присылают, а те, что остались, быстро теряют в цене.
— А вы ссудите своему профессору, — сказал Андрей. — Верно, у вас еще осталось?
— А имение? — улыбнулся крестьянский сын. — Имения тоже дорожают.
— Сожгут пугачевцы ваше имение, — сказал Андрей. — Лучше отдайте неправедно заработанные деньги профессору Успенскому на пользу великой науке.
Иван Иванович рассмеялся, но невесело. В последние дни он был озабочен. Лето еще только начиналось, и Андрею казалось странным, чтобы такой преданный науке человек, как Успенский, вдруг свернул дела и покинул Трапезунд. Тем более что на фронте скоро начнется наступление, и тогда можно будет следом за нашей армией побывать в иных византийских городах, которые пока еще находятся в турецких руках.
— Да, — сказал крестьянский сын, — вас может интересовать случайная информация, которую мне принесла на хвосте одна птичка. Вы были правы. Берестовых — два. Нашелся ваш двойник.
— Я же говорил! — сказал Андрей. — А мне не верили.
— Я сам не верил, — признался Иван Иванович. — Уж очень невероятное совпадение.
— Что же оказалось?
— Оказалось, что вы, милостивый государь, чудом остались в живых.
— Честно говоря, — сказал Андрей, — я все эти дни оглядываюсь через плечо и удивляюсь, почему никто не обращает на меня внимания?
— Потому что все знают, что интересующее их лицо, старший лейтенант Андрей Берестов, инспектор севастопольского картеля, уже две недели лежит в лихорадке.
— Ты и это знаешь!
— И еще многое. Этот Берестов должен был плыть с вами на «Измаиле». Была бы комедия в духе Гольдони, если бы два Андрея Берестова плыли вместе и прибыли вместе в Трапезунд.
— А что теперь?
— А теперь вместо Берестова прибыл другой человек.
— Какой?
— Знать не знаю и тебе не советую, — ухмыльнулся Иван. И тут Андрей ему не поверил.
Когда в июне началось летнее наступление и белые пушинки выстрелов над горой исчезли, отодвинувшись от Трапезунда в сторону желанного Стамбула, постоянное внимание к раскопкам и археологам в цитадели ослабло: как и положено, обнаружилось, что в передовых частях не хватает снарядов и патронов, госпитали остались без бинтов и корпии, сапоги разваливаются, затворы заедают — все раскрадено и растащено. Приезжали высокие комиссии, следовали строжайшие разносы, а наступление постепенно затухало, не достигнув ни одной из поставленных целей.
Всем было не до Андрея, греки приходили теперь даже не каждый день, делая Андрею самим приходом своим величайшее одолжение, и, уж конечно, не желали пачкать рук грязной работой.
Разгребая как-то после их ухода куски породы, Андрей понял, что в правом углу башни траншея прорезала первоначальный пол церкви.
Разумеется, это открытие вызвало подъем сил в Андрее, и он даже попытался ломом, оставленным одним из землекопов, углубить яму. Ничего у него не вышло — слишком слежалась земля за столетия. Уморившись, Андрей вынужден был вернуться в «Галату» и там поджидал возвращения с раскопок своих товарищей.
Чтобы не пропустить своих коллег, Андрей уселся на диване в вестибюле. Время было полуденное, около четырех, самое тихое в «Галате». Из ресторана донесся звон ножей — там накрывали к вечеру столы, из бара послышались голоса — кто-то пробовал начать веселье. Зазвонил телефон — из-за тяжелого занавеса выскочил шустрый портье, схватил трубку, быстро заговорил по-гречески. Андрей так и не научился этому языку — знал только несколько обязательных на базаре или в кофейне слов. Большие электрические фены медленно крутились над головой, разгоняя горячий воздух, — электричество в Трапезунде работало плохо, станция выключалась, когда желала. Вечером напряжение падало, и лампочки светили тускло. Тогда приносили свечи или керосиновые лампы.
Андрею хотелось подняться к себе, вымыться, переодеться — и исчезнуть до ночи.
В вестибюль вошел шикарный Сурен Саркисьянц, петухом прошел к дивану, поклонился Андрею, как старому, но не очень нужному знакомому, и сел на другой конец дивана, вытянув ноги в пыльных штиблетах и опершись о трость отставленной рукой.
Затем он откинул голову и смежил веки — негоциант отдыхал.
За дверями остановился автомобиль. Зазвенели бисерные нити. Вошел подполковник Метелкин, с ним незнакомый Андрею высокий худой офицер с жестким тонким лицом — в этом лице тонко было все: и губы, и нос, и щеточка усов.
Метелкин не заметил Андрея — он шел на полшага сзади незнакомого офицера, и торс его был чуть наклонен вперед.
— О нет, господин полковник, — услышал Андрей, когда офицеры проходили мимо. — Не извольте беспокоиться, неприятности я беру на себя.
Портье нюхом почуял, что происходит, отложил телефонную трубку и вытянулся по стойке «смирно», пока Метелкин и приезжий полковник прошли мимо.
Они поднимались по мраморной лестнице, и все, кто остался в вестибюле, смотрели им вслед.
Андрей увидел, насколько Саркисьянц поглощен этим зрелищем, и рискнул спросить:
— Господин Саркисьянц, этот полковник вместо Берестова?
— Разумеется, господин Берестов. — Сурен обернулся к нему только после того, как офицеры скрылись в коридоре второго этажа. — Это полковник Баренц, они приехали только вчера.
— А Берестов заболел?
— Вот именно, — вежливо улыбнулся Саркисьянц. Андрей понял, что факт обладания определенной фамилией ставит Андрея чуть выше остального человечества. Иванову Сурен ничего бы не ответил.
— Так что же вы не идете наверх? — спросил Андрей.
— Мы знаем свое место, — сказал негоциант. — И знаем свое время. Понимаешь?
Андрей кивнул и снова погрузился в ожидание Авдеева. Было так же тихо и жарко, почти как снаружи, на улице. А фены кружились слишком медленно, чтобы поколебать толщу воздуха.
Снова зазвенели бисерные занавески, и в вестибюль быстро вошла прекрасная Аспасия. Правда, не каждый бы догадался, что это Аспасия, потому что мадам Теофилато была в широкополой шляпе и под густой вуалью, хотя это не очень помогало — второй дамы с такой фигурой в Трапезунде не было.
Госпожу Теофилато сопровождала Русико, облаченная в одежды сестры милосердия, с небольшим, кокетливо нашитым на белом переднике красным крестом. Белая наколка, также с красным крестом, придавала Русико вид совершенно невинный, даже отрешенный. Русико держала в руках четки и перебирала их, что было излишним.
Войдя, Аспасия сразу же поглядела в сторону дивана — увидела Сурена Саркисьянца и вскочившего Андрея.
Саркисьянц ничего не сказал, лишь приподнял трость, показывая ею наверх, и чуть наклонил голову.
Андрей сказал:
— Добрый день, Аспасия.
— Добрый день, мой мальчик, — ответила добродушно гречанка.
Она быстро прошла к лестнице. Поднявшись на несколько ступенек, обернулась, откинув вуаль, и поглядела на Андрея. С улыбкой. Опустила вуаль и пошла наверх — Русико в двух шагах сзади.
Сурен Саркисьянц будто заснул — голова его опустилась к рукояти трости. Было тихо и скучно. Так что слышно было, как лениво жужжат на кухне бесчисленные мухи.
Это был тот самый ленивый и тяжелый для передвижений час между второй половиной дня и вечером, когда нельзя принимать решения и совершать резкие движения.
В тот момент, когда, стараясь побороть дремоту, Андрей уже решил отправиться в кофейню рядом с гостиницей, чтобы взбодриться, подкатила машина, добытая Метелкиным для Авдеевых. Авдеевы были потные, злые — видно, ругались по дороге. Их единение, столь крепкое в России, начало давать трещины, и Андрей подозревал, что виной тому притязания подполковника Метелкина, вызывающие в Авдееве вспышки ревности.
— Ах, оставь, — сердито сказала профессорша, входя в вестибюль. — Ты мелочен!
За этим последовал взгляд сверху — затылок профессора как раз маячил где-то под мышкой у супруги. Раньше Ольга Трифоновна такого себе не позволяла — профессора лелеяли и обожали.
— Что случилось? — Ольга Трифоновна увидела Андрея, поднявшегося с дивана. — Что-нибудь серьезное? Почему Илья здесь?
Андрей не сразу понял, что княгиня Ольга увидела снаружи мотор подполковника и решила, что с ним что-то приключилось.
— Господин Метелкин проводит здесь совещание, — сказал Андрей. — Я жду господина профессора по поводу экспедиционных дел.
— Господи, не надо так меня пугать, — сказала княгиня Ольга и направилась к лестнице. Ее батистовая блузка, пропотев, приклеилась к плечам и груди. Портье обалдело глядел на пышные формы Ольги Трифоновны — видно, в жизни ему не приходилось видеть столько упругой женской плоти сразу.
— Что еще у вас? — Авдеев стремился следом за женой, и ему не хотелось задерживаться с Андреем.
— Мы нашли в башне первоначальный пол, — сказал Андрей.
— И что, что? — спросил профессор, глядя, как княгиня Ольга достигла площадки второго этажа и остановилась, переводя дух.
— Если там погребения, — сказал Андрей, — то надо будет поставить охрану.
— С чего вы решили, что там погребения?
— Но это логично!
— Логично, логично! Я не знаю, сколько еще будет продолжаться эта несчастная экспедиция! А вы мне о каких-то саркофагах.
Тяжело дыша, Авдеев поспешил вверх по лестнице, следом за женой.
Андрей почувствовал взгляд — конечно же, господин негоциант смотрел на эту сцену во все глаза и смеет подмигивать Андрею. Этого еще не хватало!
Андрей поднялся, взял ключ у портье и пошел к себе на третий этаж. В номере Андрей подошел к окну, чтобы поднять жалюзи, — солнце светило с его стороны в первую половину дня — сейчас эта стена гостиницы была в тени.
Он взялся за шнур, чтобы потянуть жалюзи наверх, но случайно увиденное на улице заставило его замереть. На той стороне улицы, в узком углублении между двумя домами, таились два человека — напряженно, неподвижно, зловеще. И одного из них Андрей узнал — это был Рефик.
Зачем они здесь? Ведь Аспасия прошла к полковнику Баренцу и они совещаются там с Метелкиным.
Может быть, турки намерены взять гостиницу штурмом и перебить участников совещания? Для этого они устроили засаду? Куда выходит окно номера Баренца? Этого Андрей не знал. Но если готовится покушение, значит, окно его расположено под окном Андрея. В лучшем случае Осман Гюндюз приказал своим молодцам следить за конкурентами, в худшем — расправиться с ними.
Андрей неподвижно глядел в щели жалюзи, стараясь найти на загадочной картинке самого Османа Гюндюза либо других его янычар.
Две греческие девочки в одинаковых синих коротких платьях с ранцами на спинах пробежали по улице совсем рядом с затаившимися турками — если и заметили их, то не обратили внимания. Шоффэр и солдат, сидевшие на переднем сиденье автомобиля Метелкина, проводили их взглядами и тоже не увидели турок. Неожиданно мотор закачался — это солдат, сидевший рядом с шоффэром, соскочил и пошел в кофейню, видно, хотел попросить воды.
Дом напротив был ниже гостиницы — крыша его, почти плоская, обрамленная довольно высоким парапетом, находилась на уровне глаз Андрея. Из чердачного окна не спеша вылезли два человека — один с винтовкой, другой с пистолетом в руке. Другим оказался Гюндюз. Добрый дяденька с животиком, который так любит детей и ненавидит насилие.
Жалюзи чуть шевельнулись от ветерка, но Андрею показалось, что само появление турок на крыше вызвало некое возмущение в воздухе.
Согнувшись, почти на четвереньках, скрытые от постороннего наблюдателя высоким парапетом, Гюндюз и его стрелок добрались до круглого отверстия в парапете, служащего для стока дождевой воды. Они легли плашмя на крышу, и Гюндюз первым заглянул в отверстие. Потом дал посмотреть стрелку. Андрей понял, что они смотрят на второй этаж и, вернее всего, в апартаментах Баренца окно открыто.
Теперь Андрей почти убедился в близком штурме гостиницы, который предпримут турки, и понял, что надо спешить вниз — отыскать комнату Баренца и предупредить Аспасию.
Интересно, думал он, не двигаясь с места, словно заколдованный неспешными и уверенными действиями турок, а если бы не было Аспасии — выбрал бы он позицию стороннего наблюдателя или все же поспешил бы предупредить Метелкина и Баренца как единоверцев и компатриотов?
Гюндюз с пистолетом чуть отполз в сторону, чтобы стрелку с винтовкой было удобнее целиться. И только тут Андрей сообразил, что Гюндюзу вовсе не надо штурмовать отель, — для его целей достаточно было одного или нескольких патронов. Если этот стрелок — снайпер и он убьет Баренца, то Гюндюз добьется своего. Но вторым выстрелом он может убить и Аспасию.
Стрелок улегся за парапетом, подвигал локтями, устраиваясь поудобнее. Гюндюз охранял его — вот он приподнялся, сел на корточки и выглянул из-за парапета. Успокоился. Затем провел взглядом по окнам третьего этажа — не наблюдает ли кто-нибудь за ними с верхнего этажа гостиницы? Андрей отошел на шаг, хоть и был уверен, что сквозь жалюзи его не увидишь.
Затем Гюндюз вновь улегся и спросил о чем-то стрелка.
Стрелок кивнул и осторожно потянул затвор. Звук затвора явственно прозвучал в тишине улицы. Но услышали его лишь два бандита, скрывавшиеся в тени. Один из них полез за пазуху. Солдат вернулся из кофейни и начал взбираться на свое место в моторе.
Теперь стрелок целился.
Андрей физически чувствовал, как он ведет мушкой за человеком, которого видит в номере.
Уже не было времени бежать вниз, чтобы предупредить, — оставались секунды, может быть, доли секунды…
Кричать? Что кричать? Андрей не умел кричать.
Еще полсекунды… А что же делать?
И тут, поняв, что времени не осталось вовсе, Андрей метнулся к столу, схватил с него настольную лампу — тяжелую, на бронзовой ножке — зеленый широкий стеклянный абажур рухнул на пол — и вдребезги! — шнур не поддавался — видно, штепсель был туго воткнут в розетку. Андрей рванул — шнур выдержал — еще секунда! Андрей рванул так, что потерял равновесие, схватился, падая, за жалюзи, и это несчастье помогло ему — жалюзи рухнули. Андрей успел отскочить, чтобы не попасть под их сеть, и оказался у открытого окна с лампой в руке. Ему ничто теперь не мешало, и он, не думая, тут же метнул лампу — изо всей силы метнул ее через узкую улицу — только в отчаянии можно было кинуть так, чтобы попасть в плечо стрелку в тот момент, когда он уже спускал курок.
От боли и неожиданности стрелок с воплем вскочил на ноги — видно, он решил, что обвалилось небо, чуть не свалился через парапет, и, видно, так больно было ему, так сильно его ударила бронзовая нога лампы, что он откинул винтовку и схватил себя за плечо.
Гюндюз тоже вскочил, но был осторожнее — сразу же согнулся, кинулся было к стрелку, но замер, стараясь понять, что же произошло, и тут же увидел Андрея, все еще стоящего в открытом окне и сосущего окровавленный, видно, порезанный шнуром палец.
Андрей успел заметить, что бандиты, бывшие на улице, выскочили на мостовую и кинулись было к машине Метелкина, но, когда загремели выстрелы, замерли, а потом кинулись прочь по улице. За ними бежал Сурен.
А стреляли из окна под Андреем. Потому что, продолжая вопить от боли, стрелок начал вздрагивать, словно кто-то невидимый ударял его по груди палкой, — и потом он стал хрипеть, перевесившись через парапет, чуть было не свалившись на мостовую. Гюндюзу надо было бы бежать, но, видно, им овладела злость и чувство мести, потому что он успел еще три раза выстрелить в Андрея, так и не догадавшегося даже отступить внутрь комнаты.
Андрей был словно загипнотизирован бешеными глазами Гюндюза, его кричащим открытым ртом и черной дыркой ствола, что глядела прямо в него и вспыхивала белым огнем. Ни до, ни после этого Андрей в жизни не видел момента выстрела в себя, в упор, с расстояния в десять метров — улица была узка, и парапет близок. Но Гюндюз стрелял снизу вверх, и он не успел выстрелить в третий раз, как его достала пуля солдата, что стрелял снизу из машины, а может быть, это была пуля Русико, которая стреляла из окна апартаментов, а может быть, пуля самой Аспасии или русских офицеров — все стреляли в стоявшего у парапета Гюндюза, из его пуль лишь одна пропахала волосы Андрея над виском, и странно, кожа почти не кровоточила, но вспухла, и волосы долго не росли на этой дорожке.
Гюндюз не упал, а осторожно, мягко лег так, чтобы спрятаться за парапетом, хотя это уже не играло никакой роли, и еще многие стреляли в него, а он этого не чувствовал. Рефик с товарищем успели убежать, а Андрей вдруг потерял все силы. Он отступил от окна и сел в кресло. Его стало подташнивать, и было очень жарко.
Андрей закрыл глаза — но тут же открыл, потому что дверь распахнулась и вбежал подполковник Метелкин, который был фатом, пижоном, бездельником, но не трусом, и, когда понял, что Гюндюз и его помощник убиты, решил узнать, кто же начал все это сражение, кто неведомый помощник и, возможно, спаситель.
Вид комнаты Андрея свидетельствовал о страшном разгроме, потому что были сорваны жалюзи и занавески, шнуром лампы все стащено с кровати, а посреди этого беспорядка в кресле полулежал археолог Андрей Берестов, почти в беспамятстве.
Второй прибежала Аспасия, которая была фаталисткой и полагала, что ее нельзя убить, а когда ее убьют, она уже об этом знать не будет. Быстрее Метелкина, который стоял в дверях и старался сообразить, кто и почему начал сражение, она поняла, что это сделал Андрей, и потому с порога приказала Русико принести воды — чистой воды и бинт — и сама, хоть Метелкин и был врачом, не допустив никого, промыла небольшие раны Андрея, забинтовала руку и густо намазала йодом голову. Андрей пришел в себя и был счастлив видеть обеспокоенное и оттого очень простое и ласковое лицо Аспасии — такое лицо Аспасии мало кто на свете видел и увидит, это было беззащитное лицо, Глашино лицо, только для самых родных людей, которых на самом-то деле у Аспасии почти не осталось. Андрей постарался улыбнуться, и Аспасия сказала ворчливо:
— Не подымай голову, все вы тут с ума посходили.
Полковник Баренц уселся верхом на стул, обернув его спинкой к Андрею, — подпер подбородок кулаками, и поза его была задумчивая и располагающая к общению.
— Разрешите полюбопытствовать ваше имя и отчество, молодой человек, — сказал он.
Андрей ответить не успел и расположения к откровенной беседе с незнакомым полковником Баренцем не почувствовал.
Аспасия заразительно рассмеялась, и, сообразив, видно, что здесь смешного, рассмеялся и подполковник Метелкин, главный ветеринар трапезундского участка. Баренц повернул сухое, без мяса, лицо туда, сюда — не любил, если все что-то понимают, а он, грозный начальник контрразведки Черноморского флота, чего-то не понимает.
— Простите! — сказал он громко и вызывающе.
— Так он же Берестов! — смеялась Аспасия. — Андрей Берестов! Тот самый, которого они прошлый раз убивали!
— Как так Андрей Берестов? — строго спросил Баренц.
Соучастники принялись объяснять полковнику причину всеобщего комедийного недоразумения, а внимание Андрея было привлечено появлением профессора Авдеева, который с порога грозно спросил:
— Что это такое, Берестов?
А за ним вплыла зрелая красавица тридцати шести лет и спросила еще громче и удивленнее:
— Андрей, когда вы это все успели? Мы же с вами только что расстались.
— Успел, — смущенно сказал Андрей.
— А госпожа профессор, — смеялась Аспасия, — госпожа профессор думает, что господин Берестов буйствовали по пьяному делу!
— Ах, что вы! — вальяжно поднял руку Метелкин. — Вы ошибаетесь, мон шер! Ваш юный друг проявил себя героем.
Авдеевы не успели еще сообразить, в чем заключался героизм их молодого сотрудника, как солдаты снизу, не придумав ничего лучшего, внесли в комнату Андрея, и без того набитую народом, окровавленное тело убитого Османа Гюндюза, при виде которого госпожа Авдеева упала в обморок, а Метелкин начал выталкивать солдат с телом в коридор.
— Тебе легче? — спросила Аспасия Андрея.
— Мне совсем легко, честное слово, — сказал Андрей.
— Ой, только не влюбляйся в меня, — сказала Аспасия тихо, — я же не могу твоей любви ответить, а тебя хорошая девушка ждет, такая девушка, что я тебе завидую, какая девушка тебя любит.
Андрею было неловко, что Аспасия заглядывает в его мысли.
— Я совсем не это имел в виду, — вскинулся он.
— Вот и замечательно, вот и мило, — сказала гречанка. — Мы с тобой потом обо всем поговорим.
Русико помогла Метелкину увести обмякшую профессоршу, а сам Авдеев, движимый любопытством, остался, потому что жаждал узнать, что произошло на территории его экспедиции.
Тем временем полковник Баренц, отмахнувшись от профессора, которому пришлось беседовать с Суреном Саркисьянцем, отвел Андрея к окну и попросил рассказать, что и как тот видел. Слушая, он не выказывал ни осуждения, ни одобрения действиям Андрея. Подошла Аспасия.
— Ведь ты был на виду, — сказала она. — Это только чудо, что Осман в тебя не попал, — он в монету попадал с десяти шагов. У меня метка есть, только в таком месте, что нельзя смотреть.
Баренц приподнял бровь — он умел это делать аристократически.
— Теперь они не сдадутся. Пока мы их всех не выведем, не сдадутся, будут мстить за Османа, — сказала Аспасия. — Жалко. Я бы могла его не убивать — зачем ворошить гнездо ос?
— Но они же стреляли в тебя?
— А может, в русского полковника? — спросила Аспасия, не стесняясь того, что Баренц стоял рядом и все слышал.
Она смотрела на Баренца открыто, даже весело — она была как охотник, приманивающий тигра. И Андрей с жуткой и безнадежной грустью понял, что он никогда не будет тигром, хищником, которому готова отдаться Аспасия, потому что таковы ее правила игры.
— Простите. — Баренц легко выдержал ее взгляд. — Сейчас у меня есть вопрос к молодому человеку.
Баренц отвел Андрея на два шага в сторону, насколько позволял шкаф. И хоть не дотрагивался до Андрея, тому казалось, что спиной вдавлен в стенку шкафа.
— Я искренне благодарен вам и постараюсь отплатить добром за оказанные мне услуги, — сказал он формально. Глаза у полковника Баренца были светлы и холодны, как кусочки обкатанного волнами агата. — И рассчитываю на вашу дискретность. Я здесь неофициально.
— Ну конечно, — сказал Андрей, смешавшись.
— Надеюсь, что мы с вами еще встретимся и поговорим за доброй чаркой вина, — сказал Баренц с облегчением — он поверил в искренность Андрея. Наверное, понял, что тот не опасен. — Я хотел бы задать один нескромный вопрос, и вы вправе мне не отвечать.
— Пожалуйста, — сказал Андрей, стараясь оторвать свои глаза от настойчивого взгляда Баренца и увидеть, что делает Аспасия.
— Берестов. Андрей Берестов — это ваше настоящее имя?
— Разумеется! Какое же еще!
— И кто-нибудь может это подтвердить?
— Да кто угодно! Хотя бы профессор Авдеев. Он три года назад читал мне лекции в Московском университете.
Баренц оторвал взор от Андрея и кивнул в сторону профессора. Профессор допрашивал Аспасию, и та с удовольствием в лицах показывала, какой здесь произошел бой.
— И вам неизвестны ваши однофамильцы? — спросил Баренц.
— Клянусь честью, нет. Но здесь я столкнулся с недоразумением и понял, что однофамилец у меня есть. В Севастополе.
— Вот именно, — сказал Баренц. — Он чуть постарше вас, а может, и вашего возраста, повыше вас ростом, волосы русые, лицо правильное; сложен пропорционально.
— Такому описанию соответствуют тысячи людей, — сказал Андрей.
— Вы правы, — сказал Баренц. — Спасибо. Большое спасибо за беседу. Позвольте задать последний вопрос: вам что-нибудь говорит фамилия Беккер? Николай Беккер?
— Мы с ним вместе учились в гимназии.
— Ну разумеется! Все объясняется так просто!
И он быстро покинул комнату, лишь на секунду задержавшись возле Аспасии и кинув ей короткую фразу. У Андрея сжалось сердце, потому что он увидел, как быстро Аспасия подняла голову к Баренцу, как послушно кивнула.
Впрочем, утешил себя Андрей, у них общие дела, им же предстоит снова совещаться, как провозить табак и прочую контрабанду. А ведь непосвященный никогда не догадается, что связывает этих людей — лощеного полковника контрразведки, греческую красавицу, армейского ветеринара, убитого турецкого бандита… Для полного комплекта не хватает крестьянского сына Ивана Ивановича.
Иван завтра посмеется, узнав о торжестве христианских кланов над магометанским противником.
На следующее утро в башню заявились два солдата. Их привел пожилой фельдфебель из комендатуры и сказал, что они будут стеречь раскопки от злоумышленников. Солдаты были рады такому занятию. Они уселись в тени, подальше от пыли, которую поднимали землекопы. Землекопов тоже стало больше, и Андрею приходилось быть внимательным — в рвении, более показном, чем истинном, греки готовы были уничтожить все, что встречалось на пути; они ждали великого клада — весь город знал о кладе, который вот-вот найдут русские. Солдатам приходилось отгонять зевак.
Андрей увлекся работой настолько, что возвращался в гостиницу поздно, усталый, вымотанный, почерневший от солнца и посеревший от пыли. Он всегда старался пройти мимо дверей «Луксора» — один раз увидел в дверях Русико, которая стояла там в халате, куря большую трубку. Она помахала Андрею и сказала:
— Зайди, мастика выпей.
— Видишь, какой я пыльный, — сказал Андрей.
— Будешь чистый — приходи, — сказала Русико. Она двинула ногой, полы халата разошлись, и стало видно ее крепкое колено. — Я сама тебя любить буду.
И засмеялась.
Раза два в те дни заходил Иван Иванович. Ему тоже было некогда — Успенский гнал работу, заставлял крестьянского сына снимать копии с фресок и протирки с надписей. А Ивану надо было думать о покупке имения.
— Ты заблуждаешься, — говорил он, попыхивая слишком душистым табаком, — если полагаешь, что турки из банды Гюндюза простят тебе смерть вожака. Я бы за твою жизнь и гроша ломаного не дал.
— Но я же его не убивал! Я хотел только спасти Аспасию!
— Аспасию, или полковника Баренца, или даже ветеринара Метелкина — какая разница! В результате твоего действия погиб Гюндюз — большой человек, глава семьи.
— Я не ожидал от тебя дифирамбов в этот адрес.
— А я отдаю человеку должное, — отвечал Иван Иванович. — Мне приходилось с ним сталкиваться. Тебе тоже. И мы оба живы. А он, подарив тебе жизнь, — мертв.
— Он ничего мне не дарил. Если кто-то и дарил, то мой крымский приятель Керимов. Если бы Гюндюзу было выгоднее меня убить, он бы убил.
— Ты говоришь о том, что могло быть, я — о том, что произошло. И мне твоя жизнь дороже жизни всех турок, вместе взятых, потому что ты приятный человек и христианин. Потому я и пытаюсь вдолбить в твою круглую головку, что на тебя открыта охота!
— Я думаю, что здесь все охотятся друг за другом.
— Будь осторожен, Андрюша, умоляю тебя.
Андрею было неприятно, что Иван Иванович так с ним говорит, — в его словах была снисходительность аскета к юному распутнику, могущему заразиться дурной болезнью, тогда как аскет знает — он-то в безопасности!
Может, поэтому Андрей не стал ему говорить, что вечером в тот же день, когда погиб Гюндюз, негоциант Саркисьянц подстерег Андрея в вестибюле гостиницы и показал ему двух квадратных греков с небритыми подбородками. Эти люди теперь стерегли Андрея, он встречал их в самых неожиданных местах — то один из них оказывался с ним за одним столиком в кофейне, то другой почему-то усаживался в ряд с чистильщиками сапог, но забывал взять с собой щетки. Вот и сейчас, пока Иван Иванович читал свои предостережения, Спиро — тот, кто повыше (Коста — тот, кто пониже), — изображал одного из землекопов — он единственный из них не снял рубашки, и Андрей знал почему — под рубашкой прямо на голом теле была портупея с небольшим пистолетом. Андрею льстило обладание собственными телохранителями и понимание того, что об этом знают все, кому нужно в городе. Это был жест, сделанный Аспасией, и Сурен сказал о нем:
— Сколько раз я говорил Аспасии: Осман — ненормальный человек, убийца! В один прекрасный день он забудет, что такое честная торговая конкуренция, и захочет тебя убить!
— А что Аспасия?
— Аспасия смеялась над старым Суреном. Даже когда шакалы Гюндюза стали охотиться за тобой, русским, которого нельзя трогать, Аспасия все равно мне не верила. И если бы не ты, где бы была наша красавица? В гробу, отвечаю тебе.
— А после того дня?
— После того дня я сказал Аспасии: они будут мстить. У тебя один выход — испугать их. И она позволила мне нанять людей из отряда Димопуло. Теперь Рефик знает…
— Вместо Гюндюза Рефик?
— Я думаю, Рефик. Наверняка никто еще не знает.
— А что знает Рефик?
— Рефик знает, что, если тебя тронут, или меня тронут, или Аспасию, не дай Бог, тронут, их здесь с корнем вырежут.
— А когда русские уйдут?
— Когда русские уйдут, тогда и будем думать, — сказал Сурен неискренне.
Так что теперь Спиро делал вид, что ковыряет ломом в почве, Андрей со скукой слушал крестьянского сына.
«Никто не видел, — говорил он себе, — как я кинул лампой в стрелка, никто из тех, кто жив. Но если не видели, за что им меня ненавидеть?»
На площади у башни затормозил мотор — в башню вошел, отираясь пыльным платком, профессор Авдеев.
Андрей поднялся ему навстречу.
— Что нового? Скоро будет погребение?
Авдеев теперь сделал ставку на сенсационное погребение первых императоров. Ему нужна была слава — он должен был написать несколько статей во французские и английские журналы, а может быть, и монографию «Как я нашел гробницы императоров Трапезунда». Успенский их не нашел, а он нашел, «русский Шлиман» — будут его называть журналисты. И Авдееву хотелось, чтобы его так называли.
Но пока гора породы, перемешанной с камнями, росла на площади перед башней, а гробниц не было. Может быть, их уничтожили турки еще пятьдесят лет назад?
При виде профессора землекопы начали сильнее махать ломами, солдаты встали в углах башни и принялись строго смотреть перед собой.
Профессор изнемогал от жары. Он уселся на плиту в тени, под стеной. Андрей велел старшему землекопу напоить профессора. Тот зачерпнул воды из бочонка, который привозили каждое утро от родника. Вода согрелась, но Авдеев пил ее жадно, давая струйке стекать по бороде и по волосатой черной груди.
— Моя интуиция подсказывает, — сказал он, напившись, — что мы находимся на пороге значительного исторического открытия. Не сегодня-завтра.
Иван Иванович незаметно пожал плечами.
— Когда найдете первую гробницу, — сказал профессор, — тут же вызывайте Карася, хоть из-под земли.
Авдеев собрался было встать и отправиться дальше руководить раскопками в иных местах, но, поднявшись, схватился за грудь, побледнел и другой рукой стал шарить за спиной, чтобы снова сесть на камень.
— Что с вами? — шагнул к нему Андрей.
— Ничего, ничего, сердце… Мое старое больное сердце, которое не хочет работать — как все вокруг. Не хотят работать, и все тут. — Профессор криво усмехнулся. Он уселся на камень и откинулся, чтобы опереться спиной о стену.
— Давайте я помогу вам дойти до машины, — сказал Андрей.
— Нет, не стоит, меня не стоит сейчас двигать — по этой жаре каждый шаг для меня может оказаться последним. И, как назло, Ольга занемогла…
— У нее лекарство? — спросил крестьянский сын.
— Вот именно — сердечные капли, мое спасение.
— Я съезжу, — сказал Андрей.
— Будьте любезны, и как можно скорее. Мне не хочется умереть в такой неэстетичной позе.
Профессор храбрился, старался шутить, и Андрею стало его жалко.
Он выбежал на раскаленную площадь, дозвался шоффэра, который укрылся в тени на той стороне площади, и через пять минут был в «Галате».
— Госпожа Авдеева у себя? — крикнул он на бегу.
Портье, размягченный жарой до желеобразного состояния, попытался шевельнуть языком, но Андрей уже видел, что ключа на месте нет, — значит, княгиня Ольга дома.
Город был поражен зноем, убит им, растоплен, и единственным человеком, передвигавшимся быстро, оказался Андрей. Вот это несоответствие двух скоростей существования и чуть не послужило причиной трагедии.
Андрей спешил спасти профессора, поэтому он не успевал подумать о деталях собственного поведения. Остальные люди были размягчены и потому не успевали отреагировать на слова и поступки Андрея. Так случилось и у дверей Ольги Трифоновны — у них с профессором были соседние апартаменты.
Андрей коротко и громко постучал — он спешил спасти профессора.
Никто ему не ответил. Он постучал еще раз — так же пулеметно, — в ответ прозвучало какое-то мычание, и Андрей принял его за разрешение войти. Он толкнул дверь, она не поддалась — Андрей толкнул ее сильнее, совершенно не рассчитав своих сил, и сорвал крючок, на котором держалась дверь. Дверь распахнулась, Андрей вбежал в апартаменты и пробежал несколько шагов по инерции, прежде чем сообразил, что он не видит ничего вокруг, — жалюзи были опущены, шторы сдвинуты, и потому в комнате было полутемно и вроде бы даже чуть прохладнее, чем снаружи.
Стараясь понять, куда попал, Андрей оглядел большую, заставленную мебелью комнату, взор его упал на преувеличенно широкую кровать под розовым балдахином. На кровати лежало невероятное существо — у него было несколько ног, много рук, но отсутствовало лицо. И лишь проморгавшись, Андрей сообразил, что на ложе находятся любовники, замершие в страстной позе, так что пятки задранных полных ног Ольги Трифоновны находятся на уровне груди Андрея. Перепуганные стуком в дверь и грохотом появления Андрея любовники замерли, вернее, окаменели… Андрей сам растерялся настолько, что стал вести себя как человек, нарушивший всего-навсего мирное чаепитие.
— Простите за беспокойство, мне только надо взять капли для профессора. Ему дурно с сердцем. Я возьму и уйду, не беспокойтесь, я на минутку.
Ответом была тягучая пауза, в ходе которой Андрей смог, хоть и не хотел того, разглядеть ягодицы ветеринара и впившиеся в эти ягодицы сильные пальцы профессорши.
— Да скажи ты ему, в конце концов! — глухо отозвался наконец голос Метелкина. — Пускай возьмет!
— На столике, на столике у зеркала, — так же приглушенно сказала Ольга Трифоновна, и ее пятки начали медленно опускаться к простыне, а пальцы оторвались от ягодиц.
— Вы отдыхайте, отдыхайте, — сказал Андрей, потому что молчать было совсем уж неприлично, — я не хотел вас отрывать.
— Какое уж отдыхайте, — зло сказал окончательно опомнившийся Метелкин, слезая с профессорши, которая сразу отвернулась на бок, подальше от Андрея, натянула на голову простыню.
Андрей подошел к столику, там стояло несколько пузырьков.
— Простите еще раз, — сказал он, — а какой пузырек?
Ответа не было. И Метелкину пришлось вмешаться:
— Ольга, тебя же спрашивают, какой пузырек?
— Зеленый, — прозвучало чуть слышно, и плечи княгини Ольги начали дергаться — она рыдала.
— Берите и уходите, — строго сказал Метелкин. — Что за манера у вас, Берестов, всегда оказываться в ненужном месте и в ненужное время?
Андрей не смог разобрать, какой пузырек зеленее прочих, и потому сгреб все и начал рассовывать по карманам.
Совершенно обнаженный Метелкин подошел к Андрею.
— Юноша, — сказал он, — я надеюсь на вашу порядочность.
— Простите, — сказал Андрей, — я спешу, профессору плохо.
Он ушел, громко хлопнув дверью и этим показывая свое неодобрение, хотя, впрочем, ему было уже смешно, — история была достойна того, чтобы рассказывать ее знакомым, но делать этого нельзя. А жалко. Жалко бывает, что ты взял на себя функцию порядочного человека и всю жизнь приходится соображать — чего можно, а чего нельзя порядочному человеку.
Когда он вернулся в башню и стал вытаскивать из карманов пузырьки, оказалось, что один из них пролился — он удушающе пахнул, но, к счастью, это оказался не самый нужный из пузырьков.
Профессор сидел на краю плиты из белого мрамора. Его зоркий взор тут же заметил лишние флаконы.
— Что случилось с Ольгой Трифоновной?! — вскричал он.
— Ничего особенного, — сказал Андрей. — С ней все в порядке.
— Тогда объясните, какого черта вы собрали все лекарства из моего номера, включая средство от мозолей, и притащили сюда?
— Простите, профессор. — Андрей старался изобразить из себя не очень умного, но преданного спутника великого человека. — Но Ольга Трифоновна принимала ванну, и я не мог ее побеспокоить. Она крикнула мне через дверь, чтобы я взял лекарство со столика перед зеркалом.
Этим инцидент, казалось, и завершился.
Авдеев, правда, слег, потому что у него случился конфликт с женой. И виноват в том тоже был Андрей. Он послужил камешком, который сдвинул с места лавину.
Возвращаясь домой, Авдеев вспомнил о странной, на его взгляд, истории с пузырьками.
Андрей же не имел никакой возможности предупредить княгиню Ольгу о грозящей опасности, да и понадеялся на то, что профессор не придаст этой истории большого значения. Будучи человеком молодым, Андрей был убежден, что пятидесятилетние люди (таким был профессор Авдеев) не придают значения плотской любви. Он ошибался.
Госпожа профессорша встретила мужа ласковой кошечкой — она так надеялась, что Берестов ее не выдал.
А Авдеев нанес коварный и точно рассчитанный удар. Подобно Отелло, он задал вопрос:
— Как ты сегодня помылась, дорогая?
И, как назло, Ольга Трифоновна ответила ему чистую правду:
— Лучше бы ты и не спрашивал! Ты же знаешь, как плохо я переношу жару, а сегодня воды с утра не было — еле упросила гарсона принести мне полкувшина. Никто ничего не хочет делать!
— Кто у тебя был? — спросил тогда Авдеев, уже второй месяц подозревавший жену в неверности.
Жена, правда, ни в чем не созналась, а Авдеев допил все микстуры. Он подозревал всех, даже Андрея Берестова, потому что ему так не хотелось подозревать благодетеля экспедиции.
На следующий день Авдеев на раскопки не приехал. Андрею помогал Российский и верный крестьянский сын. Карася с фотоаппаратом они найти так и не смогли. Иван Иванович сказал, что он убежден — Карась чей-то шпион, он, вернее всего, не наш, потому что он фотографирует наши укрепления. Все посмеялись и забыли.
К обеду наткнулись на край крышки саркофага.
Греки трудились отчаянно, весь Трапезунд жил в нетерпении, а мальчишки забрались на вершину башни и, рискуя жизнью, свисали с обломанных зубцов, глядя на сцену раскопок с двадцатиметровой высоты.
Приехал Метелкин. Он делал вид, что страшно интересуется археологией, и под предлогом получения конфиденциальной археологической информации увлек Андрея наружу, где стал допрашивать: не проговорился ли тот профессору о виденном вчера.
Когда Андрей твердо сказал, что ничего предосудительного профессору не сболтнул, только вынужден был выдумать про ванну, Метелкин ахнул, а потом принялся бить себя маленькими руками по бокам, чертыхаться, вертеться и признался, хихикая, каким образом Авдеев заманил в ловушку и уличил свою неверную жену.
Затем Метелкин вытащил из бумажника стопку денег и сказал:
— Это вам. Пятьсот рублей. Я знаю, как вы поиздержались.
— За что вы меня покупаете? Я не намерен доносить, — удивился Андрей.
— Можете поделиться с вашими коллегами — я знаю, что старый скряга вас грабит.
— Почему же вы раньше об этом не подумали? — спросил Андрей, все еще не протягивая руки за взяткой.
— Потому что раньше я был занят другим, — ответил Метелкин. — Но это не взятка, а плата за будущие услуги.
— Говорите, — сказал Андрей. Деньги были дьявольски нужны и ему, и Российскому. И взять их было неоткуда — не заниматься же торговлей табаком?
— Ничего дурного я вам не предлагаю, — сказал Метелкин. — Но должен вам признаться — я безумно люблю Ольгу Трифоновну. Ее тело сводит меня с ума. И это взаимная любовь!
Метелкин пошевелил усами.
— Нам трудно встречаться. В городе всюду глаза. Авдеев настороже.
— Вам нужна эта башня? — спросил Андрей, стараясь сохранить серьезную мину.
— Эта? Нет, — так же серьезно ответил Метелкин. — Нам нужны ключи от вашего номера. Авдеев не догадается туда сунуться.
— За пятьсот рублей?
— Если вам понадобится, я дам еще.
— А моя лояльность? — спросил, стараясь не улыбаться, Андрей.
— Почему вы должны быть лояльны только к профессору, а не ко всей его семье?
Андрей подумал, что Метелкин довольно цепок в споре. И он никак не мог придумать аргументов, почему он должен отказаться от этих денег и от кофе — он и так уже задолжал в кофейне.
Ложно истолковав заминку, Метелкин вытащил еще «катеньку». Налетел ветер, и громадная сотенная банкнота затрепетала, как флаг.
— Смотрите, — сказал Андрей, — как бы люди Гюндюза не стали стрелять по моей комнате.
— Ах, — сказал Метелкин. — Как будто я не знаю, что Аспасия вам придала двух телохранителей!
— Это она вам сказала?
— Все знают, — сказал Метелкин.
— А вы снимите отдельный номер, — вел арьергардный бой Андрей.
— Свободных номеров теперь в «Галате» нет даже для меня — вы просто не представляете, во сколько бы это мне обошлось.
— А я дешевле?
— Вы значительно дешевле. И потом, знаете, все-таки свои, русские люди, я могу быть уверен.
Глупая была какая-то ситуация. С одной стороны, никаких оснований отказаться от денег не было, с другой — ни один дворянин из хорошего романа не согласился бы их принять.
Метелкин, как бы уловив колебания, быстро сказал:
— Даже белье Оля будет приносить с собой. Совершенно чистое. Так что с точки зрения гигиены вы застрахованы, хотя мы оба, ха-ха, очень чистоплотные люди…
Метелкин был растерян и слаб в этой растерянности. И Андрею было жалко его, вынужденного просить у мальчишки, унижаться…
В конце концов Андрей взял деньги.
Утро следующего дня выдалось ветреным, неуютным — ветер гнал серую пыль, но жара от этого не уменьшалась — только еще более сушило во рту и забивало глаза.
Греки пришли раньше Андрея, чего за ними обычно не наблюдалось. Они сидели в ряд перед входом в башню и были рады начать раскопки до прихода Андрея, отыскать сказочный клад и сбежать с ним в Аргентину или Бейрут, но над ними возвышались солдаты, примкнувшие к винтовкам штыки, будто ждали рукопашной. В башню они никого не пускали и потому бранились с греками.
Комендант выделил дополнительно целый взвод для охраны площади и стен цитадели, потому что в тот день не только мальчишки, но и дедушки семейств готовы были лезть на стены, чтобы не упустить знаменательный момент.
Иван Иванович пришел следом за Андреем; они спустились в раскоп вместе с греками и велели им откинуть ломы и лопаты — породу отковыривали долотами, отвертками и ножами, потому работа шла медленно, вызывая нетерпение окружающих.
Часов в десять приехал Авдеев. Он был встрепан, глаза опухли, под одним — синяк. Вместо того чтобы спуститься в раскоп, профессор принялся объяснять окружающим, как он ударился ночью об угол шкафа. Но никому до этого не было дела.
— Ты ночью звуки слышал? — спросил шепотом крестьянский сын.
— Я на другом этаже, — ответил Андрей.
— Вся гостиница должна была шататься, когда над профессором проводили экзекуцию.
— К счастью, у меня крепкий сон, — сказал Андрей.
Каменный саркофаг, в котором, если его уже не ограбили, должны были лежать останки первого императора Трапезунда, был весьма прост. Крышка его была двускатная, как у дома.
Уже можно было разглядеть, что крышка плотно примыкает к саркофагу и шов чем-то замазан. Это взволновало археологов.
Напряжение росло: обедали все по соседству, землекопы и не помышляли уйти домой — перекусили кое-как в кофейне, даже Авдеев не покинул раскопки. После обеда приехал соперник — профессор Успенский. Пришлось прервать работы, пока Успенский осматривал саркофаг и потом заявил, что, разумеется, эта гробница принадлежит какому-то местному чину и, судя по форме крышки, гроб изготовлен во второй половине четырнадцатого века.
Когда Успенский, полный презрения к соперникам, вознамерившимся найти то, чего он не нашел, покинул башню, Андрей услышал снаружи его голос:
— Еще чего не хватало! Какие могут быть сокровища в христианской могиле! Наг ты в мир пришел, нагим его и покидаешь. Понятно?
Раздался голос возчика, застучали копыта — Успенский не мог позволить себе ездить на моторе.
— Надеюсь, вас не поколебали выводы коллеги Успенского? — спросил Авдеев, стоявший у входа в башню.
— Нас ничего не поколеблет, — ответил крестьянский сын, и Авдеев сообразил, что на его раскопках трудится шпион Успенского.
— Позвольте! — воскликнул он. — Вы что здесь делаете?
— Помогаю вам, — сказал Иван Иванович, глядя на профессора наивными голубыми глазами.
— Нам, простите, не нужно помощи, мы, простите, сами справимся. Еще чего не хватало!
Авдеева просто трясло от негодования.
— Я попросил Ивана Ивановича мне помочь, — сказал Андрей. — Мне одному не справиться.
— Вот я и вижу, что вы ни с чем не можете справиться, Берестов! — закричал профессор. — Только подглядывать и подрывать репутацию честной женщины!
Андрей не понял, какую честную женщину он обидел. Он хотел узнать об этом, но Авдеев сам раскрыл тайну:
— И не пытайтесь утверждать, что моя жена — женщина высоких нравственных устоев — вот именно, клеветник!
Ветер задул сильнее. Пыльное облако скрыло Авдеева на несколько секунд, а когда пронеслось, обнаружило начальника экспедиции серым, как мышь.
— Если вы не удовлетворены, — закричал тогда Андрей — видно, пыльная жара и напряжение последних дней всех немного свели с ума, — то я могу подать в отставку! Я немедленно ухожу!
Андрей откинул в сторону кисть, которой сметал пыль с саркофага, и полез из ямы. Иван Иванович стал его удерживать.
— Пусть я останусь один! — Профессор бросился навстречу Андрею, они столкнулись и никак не могли разойтись — получилась куча-мала, в которой помимо археологов участвовали землекопы и один из солдат, нечаянно слишком приблизившийся к гробнице.
В конце концов Андрей оказался вне башни. На него смотрели сотни зрителей — оказывается, толпа прорвалась сквозь охранение, и теперь местные жители наблюдали за ссорой русских, которые, видно, не могли поделить клад.
Кипя праведным гневом, Андрей перебежал площадь и оказался в городе. Было жарко. Ветер нес с гор отдаленный рокот — это могла быть гроза, а могла быть и канонада — наступление русской армии уже захлебнулось, и теперь в бессмысленных боях она растеряла остатки дисциплины, уважения к флагу и командиру. В городе все больше появлялось дезертиров, которые называли себя борцами за революцию. Влияние немногочисленных большевиков с каждым днем росло, потому что их лозунги были простыми — долой!
Войну — долой! Помещиков — долой! Офицеров — долой! Временное правительство — долой! Лозунги были предельно понятны и приятны бунтующему сердцу. И в самом деле — всем все надоело. И даже странно было, что фронт еще держится, орудия еще стреляют, командиры еще не растерзаны солдатами.
«Что я здесь делаю?»
Андрей подошел к фонтану на небольшой треугольной площади, намочил в его струе голову, напился. За фонтаном была небольшая церковь — не старая, он никак не мог вспомнить, как она называется, — потом вспомнил: церковь Святого Георгия. Успенский полагал, что она основана во времена империи местными грузинами. Да и квартал за церковью именовался кварталом Лазов. Андрей вошел внутрь. Там был небольшой дворик, обнесенный аркадой, в каменный пол которого были врезаны погребальные плиты. Андрей медленно пошел по прохладной тени галереи — на некоторых плитах надписи были греческие, на других — грузинские.
«Что я здесь делаю?»
Андрей вошел в церковь — она была мала, свет в нее падал сквозь окна в барабане. Там было извечно прохладно. И, конечно же, пусто. Но кто-то зажег свечку перед образом святого Георгия — черным, древним, даже не разберешь, кто изображен.
Андрей взял с подноса тонкую свечку, положил на поднос рубль — зажег свечу от той, что уже горела. Он стоял, держа свечу наклоненной, чтобы воск накапал на полочку перед иконой. И тогда он неожиданно встрепенулся и отошел на несколько шагов от образа. Он молился, чтобы не было в нем злобы, которой и без того столько вокруг, чтобы вернуться скорее домой и увидеть Лиду.
Темная фигура поднялась справа, но Андрей понял, что это женщина, притом молодая. Женщина перекрестилась на образ святого Георгия, потом легонько поклонилась Андрею. И только тогда Андрей узнал Аспасию.
Надвинутый на брови платок, спадавший на плечи, черная, почти монашеская одежда настолько не соответствовали привычному облику Аспасии, что Андрей не сразу ее узнал.
— День добрый, госпожа Теофилато, — сказал Андрей, голос у него был хриплый и сорвался.
Аспасия еще раз поклонилась — то ли Андрею, то ли святому — и пошла прочь.
И в тот же момент Андрей понял, что не может далее молиться — слова молитвы куда-то испарились и исчезло даже раздражение против самого себя, не говоря уж об обиде на Авдеева и Метелкина.
Андрей догнал Аспасию на площади у фонтана. Да она и не спешила скрыться. Ветер рвал ее платок и таскал за подол платье — Андрей любовался ее грацией.
— Я рада была вас увидеть. Отойдемте в тень.
Они подошли к стене церкви — здесь была тень и безветрие.
— Я тоже очень рад, — сказал Андрей. И смешался. Он испугался, что Аспасия сейчас попрощается и уйдет. Надо было что-то сказать, чтобы удержать ее. — Вы часто сюда ходите? — спросил Андрей.
— Когда надо, — сказала Аспасия.
— Да, я хотел сказать вам спасибо за… как это назвать… за охрану. Только это накладно, и никто не собирается на меня нападать.
— Никто не собирается, потому что есть охрана, — сказала Аспасия. — Пока они знают, что ни один шаг ты не делаешь в одиночестве, я спокойна.
— Но я много шагов делаю в одиночестве.
— Когда? Сейчас? — Аспасия оглянулась — никого не увидела. Но не поверила своим глазам и позвала негромко: — Спиро!
Где он скрывался — такой здоровый, почти квадратный мужчина, Андрей не понял, но в следующее мгновение он стоял возле фонтана, протянул широкую ладонь, дал воде остудить ее, потом вытер ею лоб.
Аспасия сказала ему несколько слов по-гречески, и Спиро отошел в тень.
— Вот видишь, — сказала Аспасия. — У тебя плохие глаза, Андрей.
— Смешно, — сказал Андрей, недовольный собой: значит, так легко следить за ним, так легко подкрасться к нему…
— Что у тебя нового? — спросила Аспасия, интуиция у которой была развита фантастически, — она почувствовала душевное состояние Андрея и поспешила изменить его.
— У нас? Саркофаг нашли.
— Когда?
— Сегодня, — сказал Андрей. — Авдеев его сам раскапывает.
— А ты?
— Меня он выгнал.
— Тебе надо там быть. Это не простой гроб.
— Без меня обойдутся, — сказал Андрей.
— Потом пожалеешь.
— Ты и в археологии разбираешься? — спросил Андрей.
— В древних вещах? Конечно, понимаю. Я сама древняя, как этот мир. Ну, мне пора.
— До свидания, — сказал Андрей.
Когда Аспасия, не оглядываясь, высокой стройной монашкой пошла по улице, к удивлению Андрея, из двери одного из домов вышла другая женщина, такая же высокая, но более плотная, чем Аспасия. Проходя мимо Андрея, она вдруг подмигнула ему.
Увидеть Русико в монашеской рясе — это совсем уж невероятно!
Андрей вернулся в гостиницу, чтобы вымыться, но воды опять не было. Он спустился вниз, выпить кофе в ресторане, с каждой минутой ему становилось все тоскливее, будто он упускает не просто раскопки, а Бородинское сражение, — сидит, пьет кофе, а там вдали французы штурмуют Багратионовы флеши.
Часам к четырем Андрей не выдержал и отправился обратно в цитадель. Но успел только выйти на улицу.
В тот момент, когда он ступил на мостовую, из-за угла показался покрытый пылью автомобиль, в котором мирно разместились Авдеев, Российский, Карась и Иван Иванович. Они оживленно обсуждали свои дела и не заметили Андрея, который хотел было ретироваться, но столкнулся в дверях с каким-то офицером и задержался.
Авдеев первым вылез из автомобиля, увидел Андрея и без всякой злобы или обиды воскликнул:
— Как жаль, что вы отлучились, коллега! Это будет открытие мирового значения!
— Профессор хочет сказать, — сказал Российский, — что саркофаг не поврежден и сохранились замазки и печати, которыми были соединены крышка и корыто гробницы.
— Завтра, — профессор, потирая руки, вошел в гостиницу, — завтра великий день! — Голос его разнесся по всему вестибюлю, и можно было подумать, что речь идет о взятии Стамбула.
Ранние посетители ресторана, ошивавшиеся у входа в ожидании, когда Мекка откроет свои врата, смотрели на профессора изумленно, и ему льстило всеобщее внимание.
Пыхтя и обливаясь потом, профессор затопал к себе на второй этаж, а Иван Иванович отправился с Андреем в ресторан, где поведал, что после бегства Андрея профессор постепенно отошел, может быть, даже осознал, что был не совсем прав. Потом так увлекся процессом расчистки гробницы, что о существовании Андрея забыл.
— Господин Авдеев, — продолжал Иван, — поделился со мной своими планами. В четверг на той неделе ожидается сюда старый знакомец — транспорт «Измаил», который привезет подкрепление и боеприпасы. В этом Авдеев видит знамение судьбы и потому считает, что за ближайшие дни сокровища из гробницы надо изъять, и тогда экспедиция благополучно отбудет на родину под звуки фанфар.
— А вы остаетесь?
— Успенский будет работать, пока мы все не умрем с голоду или не попадем туркам в лапы.
— Зачем ты мне все это рассказываешь? Не иначе как что-то задумал.
— Я задумал? Пожалуй, да. Я хочу уехать вместе с вами.
— Скопил на имение?
— Андрей, оставь, пожалуйста, этот издевательский гимназический тон. Я старше тебя почти на десять лет.
И непонятно было, обиделся Иван или шутит.
— У меня и через десять лет не будет имения. — Андрей все же сменил тон. — Не вижу в том нужды. Надеюсь, и не увижу.
— Мы живем внутри лавины и, набирая скорость, летим под откос. А надо выбраться на твердое место.
— А где это твердое место?
— Вернее всего, в Швейцарии, — сказал крестьянский сын. — Или на крайний случай в глубинах России, каких еще не достигла цивилизация. Главное — переждать.
— А здесь оставаться невыгодно?
— Совершенно невыгодно. Я думаю, что вся эта военная авантюра в Турции продлится еще месяц-два, а потом начнется бегство.
— Жаль, — сказал Андрей, — я бы предпочел побыть здесь еще. Здесь интересно.
— Ты мечтаешь отыскать золотую тиару трапезундских императоров! Все мы хороши, мой юный друг. — Иван поправил прилипшие ко лбу соломенные волосы.
— А это мы узнаем завтра, — сказал Андрей.
Спиро он увидел на улице, тот курил, сидя на приступочке у дома.
Ветер поднялся такой, что срывало листья с деревьев и пыль, что неслась по улицам, свивалась в смерчи. Небо стало темным, лиловым и все продолжало темнеть.
Но дождь пошел не сразу — он как бы тянул время, надеясь, что население Трапезунда помрет от духоты и сильной бури. Так продолжалось часов до восьми вечера. Неспособный даже пошевелиться, Андрей лежал обнаженный на мокрых липких простынях и поражался силе духа и тела его соотечественников, потому что снизу из ресторана доносились громкие песни интендантов и земгусаров, приехавших сюда разворовывать армию.
Наконец в темноте начали вспыхивать молнии — сначала их сопровождал ровный отдаленный гул, в который сливались отдельные удары грома, но затем молнии стали ярче и ближе, а гром стал трещать, рвать парусину над самым городом. И это еще был не дождь — дождь начался после получаса сухой грозы и ударил столь обильно и мощно, будто в небе прорвался нарыв именно над Трапезундом.
Андрей заснул, но ночью проснулся, и пришлось искать одеяло, уже спрятанное в шкаф, — так похолодало.
Потом Андрей проснулся снова — на этот раз от тревоги. Ему показалось, что, пользуясь дождем, злоумышленники пробрались в башню и раскрыли саркофаг. Беспокойство Андрея было столь велико, что ему привиделось, будто он встает, одевается и бежит через город, под дождем, спасать саркофаг от грабителей.
Сон был очень убедительный — Андрей ощущал холодные струи дождя и жгучий пронизывающий ветер. Какие-то темные фигуры разбежались при его появлении, и, не видя их лиц, Андрей тем не менее отлично знал, кто есть кто: вот бежит, унося что-то под пиджаком, господин Сурен Саркисьянц, вон сверкнул кинжалом Рефик, а там скользит по стене, стараясь стать совсем невидимым, телохранитель Спиро… Разогнав тени, Андрей спускается в башню и видит, что крышка гроба сброшена и по ней пробежала трещина. Внутри, закутанная в черную ткань, словно в саван, лежит человеческая фигура — Андрей наклонился, чтобы распутать ткань и увидеть, кто же скрывается в саркофаге, но фигура отворачивает закутанное лицо, пытается освободить руки. Андрей все же срывает ткань — сверху молотит дождь, и ткань от него становится тяжелой и расползается от ветхости… Андрей не удивляется, увидев, что в ткань завернута Аспасия, — он хочет помочь ей выбраться наружу, потому что она может простудиться, а то и утонуть в этом проклятом гробу, но Аспасия не узнает его — она обхватывает его руками, привлекает к себе, чтобы он лег в ту же гробницу, и Андрей понимает, что с рук красавицы сошло все мясо — это кости скелета, которые вцепились в него так сильно, что ему не вырваться из объятий. Андрей начинает в ужасе отламывать пальцы один за другим — но поздно! Вернувшиеся черные тени уже сдвигают крышку саркофага, чтобы заточить навечно там Андрея и Аспасию…
Андрей проснулся в ужасе.
Он отлежал руку — сердце болело — сон еще не кончался — не хотел кончаться — одеяло казалось еще крышкой гроба, но Андрей уже знал, что находится во власти кошмара, — еще чуть-чуть, и он вернется к нормальной жизни, в которой не обнимаются со скелетами.
За окном хлестал ливень — точно такой же, как во сне, фонарь на улице болтался, закидывая порой обрывки света в комнату. Сама гостиница была темная и тихая, будто постояльцы ее лежали, боясь высунуть нос из-под одеяла, и ждали, когда успокоится стихия.
Как приятно было понять, что в самом деле не надо вылезать под дождь, — все тихо, нормально, чудес в жизни все-таки не бывает. А если и бывают, то нас это не касается. А где ты был три года, Андрей Берестов, где ты гулял? Это ли не чудо? Нет, это какое-то научное достижение — наука в наши дни научилась многим вещам, которые еще вчера представлялись людям чудесными: можно передать звук через море — это называется радиотелеграф, можно записать звук на черном кружочке, который именуется граммофонной пластинкой, можно увидеть на белом полотне туманные движущиеся картины, можно сесть в повозку без лошади, и она повезет тебя, или в металлическую птицу, которая поднимет тебя в небо. Твой отец в молодости и не подозревал об этих удивительных изобретениях, которые стали обыденностью XX века. Возможно ли человечеству двигаться и далее по пути фантастики? Да, сказал себе Андрей, даже если разум отказывается верить в это. Еще вчера они с Митиным обсуждали новые машины, созданные англичанами и названные лоханками — танками. Здесь, на трапезундском театре, их не было, но на Западном фронте такими бронированными чудовищами уже обзавелись все армии. Теперь можно представить себе войну грядущего! Войну середины XX века, когда в небо будут подниматься целые эскадрильи военных самолетов и поливать пулями и снарядами мирные села и города, а громадные цеппелины будут сбрасывать на них громадные бомбы.
Андрей мысленно содрогнулся, представляя, куда может завести людей наука, поставленная на службу смерти. Однако он надеялся на то, что человечество, наученное горьким опытом мировой войны, не захочет повторять ошибки в удесятеренном масштабе. Ведь должен быть прогресс, о котором пишут философы!
Впрочем, Андрей повернулся на правый бок, — мы до этого не доживем, как говорила тетя Мария… И тут же Андрей замер от понимания, что из всех людей на Земле он может дожить до любой самой страшной войны будущего, если таковая случится, — потому что он пловец в реке времени.
Ночью все воспоминания выглядят резче, красочнее и живее; ничто — ни звук, ни свет — не отвлекает тебя от них. И ты видишь кабинет Сергея Серафимовича — но не тот мертвый кабинет, где ты в последний раз увидел отчима, а кабинет еще довоенный, по которому отчим разгуливает, жестикулируя и разгорячась от собственных слов. И предсказывает грядущую войну. Она была близка, уже на пороге, но поверить в нее невозможно…
Андрей заснул и проснулся, когда уже рассвело. За окном сверкало свежее, отмытое за ночь солнце и било прямо в глаза — конечно же, вчера вечером Андрей не опустил жалюзи.
Андрей вскочил, быстро умылся — вода шла из крана! — сбежал вниз, в кофейню. Мостовая была очищена от пыли, воздух свежий, прозрачный. И люди на улицах какие-то посвежевшие, звонкие, на крытом рынке, которым Андрей пробежал к цитадели, — веселый утренний говор тысяч людей. Но Андрею показалось, что шум стихал, когда он приближался, и вновь, после короткой паузы, возникал за спиной. Будто люди замирали и шептали: «Вот он, тот самый молодой талантливый археолог, который отыскал гробницу первого императора Трапезунда!»
Только уже пробежав рынок, Андрей сообразил, что этичнее было бы постучать Авдееву и подождать его — чтобы прийти на площадку вместе. Но тут же Андрей успокоил себя тем, что все равно лавры открывателя гробницы достанутся профессору Авдееву. Андрей лишь помогает ему.
Было еще рано, цитадель должна была лишь пробуждаться — большие армейские фуры, что приехали с позиции за снарядами и патронами, за продуктами и бинтами на склады, лишь выстраивались к недавно открывшимся воротам и дверям различных складов. Возчики и присланные сопровождать груз солдаты собирались кучками, обсуждая новости на фронте и в тылу.
Перед башней стояла группа военных — они глядели в дверь, и Андрей понял, что центр их внимания — гробница, которую сегодня будут вскрывать.
Андрей подошел к группе людей, скрывавшей ход в башню. Люди негромко переговаривались, но в тоне голосов Андрею что-то не понравилось. Он стал проталкиваться, и его сначала не пускали, а потом, узнав в лицо, расступались.
Внутри башни стоял комендант и несколько офицеров — внизу, в яме, — греки-землекопы, так и не раздевшиеся для работы и не разобравшие инструменты.
Причина заминки стала понятна Андрею с первого взгляда.
Ночью кто-то вскрыл гробницу, сдвинул ее мраморную крышку, которая валялась рядом. Треснув пополам, точно как во сне Андрея. Внутри узкого мраморного гроба лежал полуразвалившийся костяк мужчины в разорванной, полуистлевшей черной ткани.
Ночью кто-то ограбил гробницу первого императора Трапезунда.
Грабителям помог ливень. Когда солдатам, охранявшим раскоп, стало невмочь стоять под ливнем в башне, у которой не было крыши, они перебежали в дежурное помещение — шагах в ста от башни. Они были глубоко убеждены, что ни одна живая душа не может в такой ливень выбраться из дому.
Следы ограбления были обнаружены лишь при смене караула, час назад. Никто не захотел брать на себя ответственность и вызывать профессора, военные ограничились тем, что глазели на учиненный разгром и рассуждали, что могло быть в саркофаге.
Появление Андрея внесло определенное облегчение. Это был выход из положения, который пришел сам по себе.
Андрей смотрел на разоренную гробницу и проклинал себя за то, что не послушался вещего сна — не пошел ночью защитить гробницу, — именно он, Андрей, виноват во всем…
Он спрыгнул вниз. Сверху на него глядели офицеры.
Еще вечером было не поздно — надо же было понимать, что кто-нибудь обязательно попытается открыть саркофаг в поисках сокровищ. Надо было самому остаться там — всего одна ночь! Больше ему никогда в жизни не отыскать подобной гробницы… Вот так гибнет дело жизни из-за минуты лени или небрежения!
Преступником мог быть любой, понимал Андрей. И греки-землекопы, и сами солдаты, соблазнившиеся рассказом о богатствах царской могилы, и люди Аспасии — а почему бы и нет? Это могли быть турки из банды Гюндюза — каждый считал себя достойным клада.
Андрей присел перед разворошенной гробницей. Он старался понять, что здесь могло быть вчера. Андрей увидел, что кости правой руки разбросаны, рассыпаны, тогда как кисть левой руки лежит неповрежденной. Значит, и в этом сон был вещим… но зачем отламывать пальцы? Конечно же — на пальцах правой руки были перстни, и вместо того, чтобы аккуратно поднять их, ночной грабитель в темноте, под дождем, помогая себе фонариком, тащил то, что блестело, отбрасывая ненужное, — даже если это были останки императора.
Череп лежит на боку, в одном месте он проломлен — на черепе должна была быть диадема — царский венец, который так мечтал увидеть профессор Успенский.
В яму спрыгнул Иван Иванович.
— Я чувствую себя полным идиотом, — сказал он. — Даже ребенок бы догадался, что ночью кто-нибудь шустрый обязательно полезет в гроб за сокровищами. Жалко… очень жалко.
Иван Иванович присмотрелся к разгрому, присвистнул.
— Мы упустили великий шанс, коллега, — сказал он.
— Знаю, — согласился Андрей.
— Всегда дослушивай, что говорят старшие, — сказал крестьянский сын, — мы упустили с тобой шанс прославить на весь мир профессора Авдеева. Вскоре нам предстоит стать зрителями сцены под названием «Крушение великой мечты».
— Ты циник, Иван.
— Жизнь приучила. Но в этом есть справедливость. Гробницу должен был открыть мой Успенский. А теперь — никто.
— Здесь был венец и перстни, — сказал Андрей.
— Кольчуга почти вся сгнила, — сказал Иван, — а это видишь, остатки деревянных ножен — у него был меч. Меч тоже исчез.
— Кто это мог сделать? — спросил Андрей.
— Кто это мог сделать? — подхватил как эхо господин комендант.
— Любой, — сказал Иван Иванович, — любой из жителей этого города и боец российской армии. Кроме того, немецкая, а также французская и английская разведка, не говоря уж о младотурках.
Профессор Авдеев приехал на машине часа через полтора, он дожидался, пока Карась наладит аппаратуру для торжественных снимков. По дороге они заезжали за Успенским, но тот сказался больным.
Госпожа профессорша облачилась в белое платье с пуфами — она надеялась, как Елена Шлиман, сняться в диадеме.
С профессором случился сердечный приступ. Его отнесли в кабинет к коменданту города, и Метелкин привез главного врача военного госпиталя — тот был зол, его оторвали от работы: с передовых непрерывно поступали раненые.
Андрей с Иваном Ивановичем тщательно просеяли содержимое гробницы — им удалось отыскать не найденный грабителем золотой перстень.
В гробу нашлось немало мелочей, представлявших археологический интерес, — бляшки, которыми были украшены ножны меча, остатки наборного пояса, нательный крестик из аметиста…
А тем временем город полнился слухами о богатствах, которые якобы таились в саркофаге. Версий существовало столько же, сколько рассказчиков. Правда, первыми среди грабителей называли именно русских, которые провели честных греков.
Подчистки в башне заняли три дня. В последний день Андрей работал один — Иван сбежал собирать долги со своих собратьев по темной профессии. Успенский отпустил его с экспедицией Авдеева, потому что крестьянский сын сообщил, что его отец при смерти. Успенский отдал Ивану причитающееся ему до осени жалованье.
Профессор Авдеев провел в госпитале три дня. Так что Метелкину и княгине Ольге, неуклонно предававшимся любви, ключ Берестова не понадобился. Несмотря на вернувшийся зной, они не покидали кровать под балдахином, и по ночам Ольга стонала так, что слышно было Андрею этажом выше. Ольга похудела, помолодела и являла собой вид драной кошки с темными кругами вокруг глаз.
— Я плохо выгляжу, — говорила она Андрею и, видно, всем, кто готов был ее слушать, — я так переживаю за супруга. Произошло крушение его жизненной мечты.
В промежутках между страстными лобзаниями Метелкин с профессоршей занимались делами сомнительного свойства, о чем Андрей бы и не догадался, если бы не острый взгляд Ивана Ивановича.
— Я голову даю на отсечение, — сказал он Андрею, — что под видом вашего экспедиционного барахла в Россию уйдет большая партия груза. Так что, вернее всего, в Севастополе вас будет встречать сам полковник Баренц.
— Зачем везти с нами, когда можно просто погрузить на «Измаил»?
— Даже в совершенно разваливающемся государстве, — наставительно сказал Иван, — продолжают существовать таможня, пограничники, комендатура и законы военного времени. Конечно, всех можно купить, но в наши времена это слишком дорого стоит, а то они возьмут деньги и тут же сожрут тебя с потрохами. С русскими людьми, а особенно русскими чиновниками, нельзя заключать честных сделок — они сразу же начинают искать, кому бы тебя перепродать. А что может быть лучше и благороднее, чем груз научной археологической экспедиции — добытые в трудах и раскопках черепки и железки.
— Но Авдеев! — сопротивлялся Андрей. — Он же обязательно догадается!
— Во-первых, груз будет не столь уж велик — особенно если это опиум, во-вторых, где гарантии, что жена не взяла в долю господина Авдеева?
— Ты что! Он же профессор университета.
— Браво, Берестов! Но ты забыл, что профессора тоже любят деньги. А раз у Авдеева не вышло со славой, он может легче согласиться на денежную компенсацию.
Андрею не хотелось верить, но на стороне Ивана была логика и спокойный неотразимый цинизм.
За день до отъезда Метелкин устроил проводы экспедиции и примирение с профессором Авдеевым. Пришли все археологи и Иван Иванович, который в последнее время сблизился с Авдеевым и стал его верным помощником. Андрею надоело подшучивать над Иваном, да и не до него было в последние дни — Андрей целыми днями работал в башне, рисуя планы различных культурных слоев в ней, копируя фрески и делая протирки надписей. За последние двадцать рублей он даже уговорил Тему Карася сделать снимки раскопок.
Российский спросил его:
— Вы из упрямства копаетесь в башне?
— Не только, — сказал Андрей. — Я хочу написать о ней статью, в которой объединилась бы ранняя история Трапезунда и жизнь императоров вместе с находками, сделанными там.
— Археология не терпит новшеств, — возразил Мстислав Аполлинарьевич. — Даже через пятьдесят лет археологические статьи будут такими же неудобочитаемыми.
— Нет, — сказал Андрей, — археология родит поэтов!
На проводы Андрею идти не хотелось, и он вышел на улицу. Ветер дул с моря, по закатному небу плыли разноцветные облака — зеленые, розовые и сиреневые. Аспасия ехала в небольшой крытой карете, которые еще порой встречались в Трапезунде и умиляли Андрея своей патриархальностью.
Андрей узнал Аспасию по движению руки, показавшейся в приоткрывшейся дверце, когда карета остановилась, чуть не доезжая до «Галаты». Как бы ожидавшая этого сигнала одна из девиц из заведения Аспасии быстро вышла из гостиницы и передала в карету небольшой сверток. Андрей сразу отвернулся, чтобы не показывать своего любопытства, но Аспасия заметила его и окликнула.
Андрей подошел к карете. На козлах сидел одноногий инвалид. Аспасия была в черной шляпке с вуалью, но теперь Андрей уже мог угадать ее по движению руки, по повороту головы, линии шеи — он с закрытыми глазами мог угадать ее приближение.
— Залезай внутрь, — сказала Аспасия.
— Сюда?
— Не бойся, блох здесь нету. Мы прокатимся немного, поговорим — пять минут, не бойся, твои даже не успеют заметить.
Андрей забрался в карету.
Аспасия велела инвалиду ехать и тут же, перегнувшись через Андрея, захлопнула дверцу кареты, окошки в которой были забраны тонкими решетками, — угадать, кто сидит внутри, было невозможно.
Закрывая дверь, Аспасия прижалась грудью к локтю Андрея, он непроизвольно сжался, Аспасия засмеялась воркующе.
— Сейчас бы тебя соблазнить, — сообщила она, обернув лицо к Андрею, — тот закрыл глаза и лишь вдыхал — нет, не запах ее, а само присутствие.
— Аспасия… — начал Андрей хрипло.
— А вот этого не надо, — сказала Аспасия. — Ты мне спас жизнь, и потому я не могу быть с тобой, как с другими мужчинами. Я тебе как-нибудь потом все расскажу. Хорошо?
Рука Андрея дотронулась до ее плеча, и пальцы сами вцепились в его совершенную округлость.
— Андрюша, — сказала Аспасия, — меня просили тебе передать — человек, которого ты ждешь, уже приплыл.
— Кто приплыл? — Андрей не мог понять гречанку.
— Тот человек, та девушка, она уже приплыла в Ялту. Мне сказали, что ты все поймешь.
— Да, — сказал Андрей, стараясь отодвинуться от Аспасии еще больше и ощущая ее слова как издевку, хотя, конечно, в них никакой издевки и не было — он опять был мальчиком на пиру взрослых, и ему опять положено было сказать взрослым «спокойной ночи» и идти в детскую. «Твой любимый мишка ждет на стуле…» У него чуть не вырвалось: «Мне не нужна ни одна девушка в мире, кроме тебя!» И может, Аспасия ждала именно такого вскрика — и Андрей молчал, закусивший губы, злясь на себя и на Аспасию, а больше всего на Лидочку. Мы более всего злы на тех, перед кем виноваты.
— Понял? — спросила Аспасия, будто с разочарованием. А она не терпела соперниц. Даже не соперничая с ними.
— Да, — сказал Андрей. — Спасибо. Я выйду?
— Сейчас. Мы вернемся к «Галате», я не могу заставить тебя ходить пешком по улицам. Спиро сегодня на свадьбе у своего кузена, а Коста простудился. Ты у меня без охраны. Если что — беги к Русико, она сидит в вестибюле на диване.
Карета остановилась.
— Я не приду тебя провожать, — сказала Аспасия. — Ваш пароход уходит слишком рано. Но я знаю, что еще увижу тебя. Я ведь все предчувствую. И сегодня предчувствовала, что потеряю тебя.
— Но ты же ничем не показала…
— Я не хотела ничего показывать. И главное, помни, ты хороший, ты порядочный, ты чистый мальчик, а я плохая.
Аспасия положила на ладонь Андрея небольшой твердый сверточек.
— Спрячь в карман и не разворачивай, пока твой пароход не уйдет в море. Ты обещаешь?
— Обещаю, — сказал Андрей, стараясь вглядеться в черты лица Аспасии. Только это было сейчас важно. Он готов был расплакаться от страха потерять навсегда Аспасию.
Аспасия протянула длинные сильные руки, обхватила Андрея за плечи и поцеловала его, обмякая от встречного поцелуя, от резкости и силы, проснувшейся в Андрее, который уже не мог справиться со своим телом. Ее горячий язык ворвался к нему в рот, она застонала, и это состояние поцелуя, подобного которому Андрею еще не приходилось переживать в жизни, поцелуя более значимого и страстного, чем сам акт любви, заставляет онеметь все тело, замереть, как птица под ладонью, чтобы ничем не поколебать это хрупкое сооружение страсти.
Аспасия оторвалась, откинув голову, оттолкнула Андрея.
— Мне больно, — сказала она. — Ты мне делаешь больно. Не надо.
— Извини, — сказал Андрей, как только отыскал голос.
— Уходи, — сказала Аспасия.
На этот раз Андрей сам открыл дверцу кареты и спрыгнул на мостовую. Аспасия отодвинулась в глубь кареты, и можно было лишь угадать сияние ее глаз. Инвалид что-то сказал Андрею, потом стегнул лошадь, и карета покатила прочь.
И только когда карета уехала, исчезла, Андрей начал понимать, что со стуком ее колес кончилась целая жизнь, кончился Трапезунд и люди, которые живут там, а завтра кончится сама Аспасия. И с каждой минутой, с каждой милей все более настоящей будет становиться Лидочка — единственное существо, плывущее вместе с ним в потоке времени. Все остальные люди — миражи, хоть кажутся настоящими, потому что завтра Андрей и Лидочка могут попрощаться с ними и умчаться, допустим, в 1941-й — далекий счастливый год, и там они будут такими же молодыми и здоровыми, а остальные люди окажутся в прошлом…
И от этой мысли, преисполненной гордыни, вызвавшей странную, нездоровую радость, Андрей тут же начал сползать к унынию одиночества, к утомлению избранности: очень мало есть на земле людей, для которых одиночество — обязательная принадлежность избранности — кажется желательным и естественным. Отринув всех окружающих его как существ, не обладающих Даром, он вскоре начал тосковать от невозможности разделить этот Дар со всеми, кто ему мил и близок. И нужен ли Дар, если он навсегда лишает тебя возможности страдать и наслаждаться красотой Аспасии Теофилато?
Андрей остановился в вестибюле — на диване сидели в ряд три проститутки. Русико в матроске и короткой юбке-клеш ходила по вестибюлю и, увидев Андрея, обрадовалась — подошла к нему, улыбаясь смущенно, отчего образ воительницы и амазонки куда-то пропал, словно Русико сняла маску. У нее тоже подарок для Андрея.
Она вытащила из-за корсета не очень умело связанные варежки.
— Возьми, — сказала она, — там в России холодно будет. Носить будешь, меня вспомни.
Андрей смутился, не знал, как надо поблагодарить Русико. Она сама протянула руку, и Андрей поцеловал ей руку.
Военлет Васильев, который в эту минуту вышел из ресторана и держал путь в отхожее место, остановился и захлопал в ладоши.
— Прелестно, — возопил он. — Прелестно! Мы целуем лапки шлюхи.
Андрей кинулся было к нему, но Русико ловко остановила его.
— Андрюша, — сказала она, — этот Васильев такой подлец, что нельзя об него пачкаться. Я сама ему отрежу одно место.
Русико не шутила. Она настолько не шутила, что Васильев, выматерившись, поспешил уйти.
Андрей поднялся к себе. Он примерил варежки — они были связаны из грубой белой шерсти, которую привозят с гор и продают на крытом рынке. Они были ему катастрофически малы. Их надо будет отдать Лидочке. Только неизвестно, можно ли сказать ей, кто их вязал.
Собрав вещи, Андрей уселся в кресло, стараясь вспомнить, что еще надо было сделать… Но вспомнить о подарке Аспасии он не успел, потому что дверь распахнулась и вошел подполковник Метелкин. Шевеля усами, он изысканно попросил Андрея освободить номер, потому что они с Ольгой Трифоновной желают погрузиться в море любви.
— Вы с ума сошли, — сказал Андрей. — Авдеев перевернет всю гостиницу.
— Его мы уже положили спать.
— Нет, — сказал Андрей, — я сам спать буду.
— Тогда отдай деньги, — сказал Метелкин.
— Я их истратил, — ответил Андрей.
— Мерзавец, но уважаю, — сказал Метелкин. — Так с нами и надо. Любовь всегда наказуема.
Он начал плакать, стоя у двери. Он плакал тихо, и слезы лились на большие усы. Андрей выругался и стал искать ботинки.
— Я пошутил, — сказал Метелкин, — я тебя проверял. Она меня разлюбила. Я останусь здесь и буду поклоняться Аспасии.
— Уйдите, — сказал Андрей. — Уйдите скорее.
— Понял, — сказал Метелкин и ушел.
Глава 4
6 сентября 1917 г
Восхождение на «Измаил» было подобно подъему на пятый этаж доходного дома. На рейде было волнение, катера и баржи приставали к транспорту с подветренной стороны. По трапам несли носилки с ранеными, из здоровых на транспорте уезжала часть интендантства.
— Когда интендантство возвращается домой, — сказал Иван Иванович, — это очень плохой знак для военной кампании. Может быть, она уже проиграна.
На этот раз в каюте, которую опять разделили Андрей и Российский, было куда меньше экспедиционного добра. Зато ящики загромоздили гостиную двухкомнатной каюты люкс профессорской четы. Андрей был убежден, что к археологии большинство этих ящиков и мешков отношения не имеет.
Фотограф Карась должен был разделить каюту с Иваном Ивановичем, но тот заявил Авдееву, что покупает каюту за собственные деньги, чтобы плыть в одиночестве. Просьба была, разумеется, исполнена, и выиграл также Карась, расположившись со всеми удобствами посреди камер и треног в соседней каюте.
Подполковник Метелкин, как и следовало ожидать, приехал проводить экспедицию, сам следил, как грузят ящики и мешки.
Когда солнце уже село, «Измаил» начал разводить пары. Андрей стоял у поручней, глядел, как в лодки и катера спускались провожающие и торговцы, спешившие сделать свои дела в последние минуты.
Внимание Андрея привлекла лодка. Молодые турки, сидевшие в ней, были одеты в плащи и черные шляпы. Третий, только спустившись, поднял голову и, будто узнав Берестова, поднял руку, приветствуя его. Андрей узнал Рефика.
Лодка отчалила, и два гребца, сидевшие в ней, начали грести в сторону солнца. И через две или три минуты Андрей уже потерял силуэт лодки из виду.
Что делал Рефик на «Измаиле»? Впрочем, нетрудно сообразить: экспедиция Авдеева не единственная банда контрабандистов, что отплывает сегодня на транспорте. Значит, и конкуренты тоже загрузили трюмы своим табаком или опиумом.
Когда стемнело, «Измаил» наконец отчалил. Его сопровождал миноносец «Фирдониси». Шли без огней, прижимаясь к берегу, курсом на Батум. Из Севастополя сообщили по беспроволочному телеграфу, что в Черное море опять прорвалась германская субмарина.
Стюард заглянул в каюту, проверил, опущена ли черная шторка.
Российский сидел за столом, разложив перед собой кипу оттисков драгоценных для него надписей, и, водя лупой над листом, шевелил губами, будто вел какую-то священную мелодию.
Андрей развернул сверток, переданный ему Аспасией. В нем лежала серебряная рукоять кинжала.
Андрей спустился в буфет, там было теплое пиво, бублики и бутерброды с черной икрой — разорение чувствовалось здесь куда более, чем в Трапезунде. Андрей поужинал пивом с бутербродами, в буфете было пусто и скучно — все сидели по своим каютам, лишь за соседним столом пили чай три сестры милосердия неопределенного возраста, усталые настолько, что нельзя было сказать, старые они или молодые. Сестры ели, глядя перед собой. На белом переднике одной из них было кровяное пятно — транспорт вез три сотни раненых, их было больше, чем здоровых пассажиров.
Андрей вернулся в свой коридор. Он помнил, что его каюта — шестая по правой стороне, но, видно, обсчитался и толкнул дверь в следующую за своей каюту Ивана Ивановича. И спокойно вошел, рассчитывая увидеть за столом Российского, но вместо него увидел Ивана, который стоял, наклонившись над столом и разглядывая нечто темное, металлическое, схожее с толстой книгой.
— Прости, — сказал Андрей, — я дверью ошибся.
Иван Иванович резко обернулся и старался встать так, чтобы прикрыть телом лежавшую на столе книгу. Он ерзал задом по ребру стола, и это было бы смешно, если бы не бешеные от злости глаза крестьянского сына.
— Ты что? — шипел он. — Ты чего, тебе что надо? Иди, иди отсюда…
— Прости, Иван, — сказал Андрей, послушно отступая к двери, — я же не думал, что тебе помешаю.
И только когда он уже был за дверью, в коридоре, Иван Иванович перестал ерзать у стола и оторвал взгляд от Андрея.
Андрей закрыл за собой дверь — получилось нескладно. Менее всего он намеревался шпионить за Иваном — ведь тот и не скрывал, что занимается контрабандой, и Андрею дела до того не было.
Конечно же, Иван Иванович испугался от неожиданности — мало ли кто мог зайти в незапертую комнату.
Иван Иванович выглянул из своей каюты.
— Андрюша, — сказал он, — ты напугал меня. А с перепугу я мог бы в тебя и пулю всадить.
— Надеюсь, у тебя нет револьвера, — сказал Андрей. Он уже держался за ручку своей двери.
— А то заходи ко мне, — сказал крестьянский сын, — посидим, у меня коньяка немного осталось.
— Спасибо, — сказал Андрей, — не хочется, а то еще снова испугаешься.
И он вошел к себе, где, мирно пыхтя, Российский расшифровывал надпись XIII века.
Утром «Измаил» должен был оказаться в видимости Батума. Но незадолго до того, как в рассветной мгле возникли высокие лесистые берега Грузии, в Трапезунде начали разворачиваться события, имевшие прямое отношение к транспорту и даже более того — к экспедиции профессора Авдеева.
Рефик Мидхат по прозвищу Ылгаз, заменивший покойного Гюндюза во главе турецкой семьи контрабандистов, тот самый, который столь упорно преследовал Андрея Берестова, а перед самым отплытием «Измаила» побывал на его борту, ночью растолкал своего верного помощника Халиба и отправил его со срочным поручением. Сам же велел принести себе крепкого кофе и, усевшись на низкий диван, стал ждать, удастся ли его план.
Халиб быстро добежал до дома, в котором жил армянский негоциант Сурен Саркисьянц, и условно постучал в калитку. Халиба не ждали, но Сурен не стал терять время — он быстро оделся и спустился к неожиданному ночному гостю.
— Сурен, — сказал Халиб, — у меня есть очень важная новость. Она касается близких тебе людей. Но я не могу подарить ее тебе — если Рефик узнает, что я пришел к тебе, мне не жить на свете.
Сурен был опытным человеком и понял, что Халиб его не обманывает. Он и в самом деле знает новость, за которую можно хорошо заплатить. Жизненный опыт заключается как раз в знании, когда нужно платить, а когда можно и не платить.
— Сколько? — спросил Сурен Саркисьянц.
Халиб хладнокровно назвал сумму, которая даже для привыкшего к большим оборотам Сурена была непривычна.
— Во-первых, у меня нет таких денег, и ты об этом знаешь, — сказал он Халибу. — Во-вторых, нет новости, которая стоила бы так дорого. В-третьих, ты не сможешь ее никому больше продать.
— Сурен, — сказал Халиб, — я сейчас пойду к Метелкину-паше, он мне заплатит такие деньги и даже больше.
— Тогда почему ты пришел сюда?
— Чтобы ты тоже заработал, — сказал Халиб.
— Ясно, — сказал Сурен. — Ты не знаешь, как пройти в крепость и разбудить господина Метелкина, не получив пули в затылок.
— Вот именно.
Говорили они по-турецки, который негоциант знал даже лучше, чем простонародный турок Халиб.
Сурен был убежден, что Халиб пройдет в любую крепость и найдет господина Метелкина. Значит, Халибу надо, чтобы новость, за которую он намерен ограбить Саркисьянца, Метелкин услышал не из уст Халиба, которого он не знает, а из уст Сурена, его старого знакомого. Сурен решил обдумать эту мысль на досуге, а пока что назвал сумму в десять раз меньшую, чем та, которую требовал Халиб.
Халиб сказал:
— Я очень сожалею, что у нас разговор не получился. Потому что хоть ты и армянин и неверный, но ты достойный человек и о тебе всегда с уважением отзывался господин Осман Гюндюз, да будет хорошо ему на небесах.
Сурен зевнул и сказал:
— Мне жаль, что ты нарушил мой сон, сосед. Была ли в том нужда?
— К сожалению, Сурен, — сказал Халиб, — ты будешь всю жизнь грызть локти из-за своей похабной жадности. Потому что мои слова стоят больше, чем весь этот город.
Сурен понимал, что Халиб в самом деле принес важные вести. Конечно, он преувеличивает их значение, конечно же, он хочет вытащить из Сурена вдвое больше, чем стоят эти новости, — но кто скажет, как ценить новости?
— Ты хоть намекни, в чем дело, — сказал Сурен. — Где ты видел, чтобы серьезный негоциант бросал деньги просто так, под пустое обещание.
— Я не делаю пустых обещаний, — рассердился Халиб и снова начал разыгрывать комедию ухода. — Я пошел к Метелкину. Я проберусь к нему, не опасайся, Сурен. Но ты не получишь ни пары прибыли.
— Ты хочешь сказать, что Метелкин даст мне больше, чем ты получишь от меня?
— Клянусь Аллахом.
— Любая половина твоей цены, — сказал тогда Саркисьянц, — ты знаешь, как я рискую!
— Деньги наличными, — согласился Халиб.
— Ты сошел с ума! Кто хранит дома наличные?
— Ты получил эти деньги и еще немного больше вчера после обеда, — сказал Халиб. — Ты не успел их спрятать. А банку ты не доверяешь.
Сурен развел руками. Он не мог не улыбнуться, хотя тут же начал высчитывать, кто из близких перекуплен турками.
Они прошли в кабинет Сурена, тот достал деньги из сейфа, и Халиб медленно пересчитал их. Большие часы, стоявшие на полу, пробили два раза. Было два часа ночи.
Когда Халиб кончил свой короткий рассказ, Сурен не стал делать вид, что информация, полученная им, на самом деле ценности не представляет. Он проводил Халиба до ворот и закрыл ворота за ним. Затем он уселся за стол в своем кабинете. Ему было о чем подумать, хотя совсем не оставалось времени, чтобы думать. Долг повелевал ему немедленно бежать к Аспасии и сообщить ей новости. Однако он понимал, что Аспасия ему ничего не заплатит за его рассказ, да и безумие было бы просить у нее денег — Аспасия скорее пойдет с ним в постель, чем расстанется с монетой, при условии, что в постель с Суреном она не пойдет ни за какие деньги. Но не сказать ничего Аспасии — означало предательство, и неизвестно еще, как гремучая гюрза отомстит Сурену за это. Следовало найти путь, на котором можно приумножить отданные Халибу деньги и в то же время не рассердить госпожу Теофилато.
В конце концов после пятиминутной внутренней борьбы победила корысть, и Сурен, накинув темный пиджак и надвинув на уши котелок, несмотря на то что ночь была достаточно теплой, отправился в цитадель, где в бывшем доме для приезжих при губернаторе Трапезунда теперь располагались номера для штаб-офицеров комендатуры и интендантства. Там жил подполковник Метелкин. Выгода проживания в номерах заключалась в том, что за них можно было и не платить, и в то же время ты был застрахован в какой-то степени от воровства и даже грабежей.
Было половина третьего ночи, когда округлая фигура негоцианта в черном котелке и пиджаке с поднятым воротником появилась на площади цитадели, которую бдительно охраняли солдаты. Правда, в это время они, разумеется, спали, для чего у въезда на площадь были выставлены деревянные скамьи.
Сурен привидением деловитого свойства смело прошел между деревянными скамейками, отмахнувшись от могучего храпа часовых, и быстро пересек площадь, ярко освещенную лунным светом.
Окна в двухэтажном доме для штаб-офицеров, разумеется, не горели, входная дверь была заперта. Однако Сурен не стал утруждать себя попытками пробиться через парадный подъезд, а, не снижая скорости, обогнул дом и, толкнув заднюю дверь, поднялся на второй этаж. Добравшись до двери номер 6, он попробовал, не заперта ли она. Дверь была заперта. Тогда Саркисьянц постучал в нее условным стуком — именно так стучала в дверь Метелкина Русико до того, как Метелкин увлекся профессоршей и покинул на время свою прежнюю возлюбленную.
Метелкин вскочил почти сразу — застучал босыми пятками к двери, приоткрыл ее и, не выглядывая, прошептал:
— Заходи, заходи, я уж тебя заждался.
Что было ложью, потому как Метелкин только что спал без задних ног.
Сурен скользнул в дверь, закрыл ее за собой, и Метелкин по запаху понял, что его провели.
— Кто? — спросил он строго. — Кто посмел! — отступая при этом назад, где на спинке стула висела портупея с кобурой.
— Это я, Саркисьянц, у меня срочное дело. — Негоциант заговорил быстро, но по возможности внятно: — Прости, что разбудил.
— Что? — Метелкин уже не сердился — он был быстрым на мысли и слова человеком. — Что-нибудь с Аспасией?
— Нет, с «Измаилом», можно я сяду?
— Только свет я зажигать не буду, — сказал Метелкин, — не хочу, чтобы завтра весь гарнизон знал.
— И правильно делаешь, — сказал Сурен. — Ко мне только что приходил Халиб. Знаешь Халиба?
— Это тот, которого Гюндюз посылал на мокрые дела? — спросил Метелкин.
— Он продал мне новость.
— За сколько?
— За тысячу лир.
— Уменьши цифру в сто раз — поверю. — Заскрипели пружины — ветеринар уселся на кровати. — А ты садись, садись.
— Спасибо. Я в самом деле заплатил эти деньги. Вот расписка.
Негоциант издали показал Метелкину белую бумажку. Хоть лунный свет и проникал в окно, понять, что на бумаге написано, не было возможности.
— Ты не такой идиот, чтобы прибежать сюда в три часа ночи, — сказал Метелкин. Он взял графин с водой и налил себе в стакан. — Что случилось? Почему ты побежал ко мне, а не к Аспасии?
— Потому что Аспасия не вернет мне денег, которые я заплатил.
— Говори.
— В транспорт «Измаил» заложена мина.
Метелкин неудачно двинул графин, и тот рухнул со столика, грохнулся об пол — вдребезги!
— Ах, черт! — Метелкин выпрямился. — Кто положил? — спросил он. — Немцы?
— Это знает только Рефик. Рефик говорил с незнакомым Халибу человеком. Рефик сказал, что он все исполнил и отомстит за смерть Гюндюза.
— Что еще известно? Ну говори, говори — уж скоро утро! Какая бомба?
— В каком смысле?
— Если ты пронесешь на транспорт гранату, ничего не случится — ты только убьешь человека; должна быть большая бомба, большой заряд, который может сделать отверстие в борту, такое, чтобы транспорт пошел ко дну. Нужен целый ящик динамита.
— Там есть целый ящик динамита.
— Не может быть! Враки! Груз транспорта досматривался. Ящик со взрывчаткой никто бы не пропустил.
— Пропустили.
— Почему ты так уверенно говоришь?
— Потому что был груз, который не досматривали. Груз московской археологической экспедиции.
— Ты с ума сошел! Я сам все проверял!
— Вы уверены?
— Ни в чем нельзя быть уверенным. Давай на радиотелеграф!
— Погодите, господин офицер, — сказал Сурен. — Вы только все погубите.
— Там триста раненых! — воскликнул Метелкин. Сурен зашипел на него, и Метелкин, продолжая кричать, перешел на шепот: — Там погибнут люди!
— И все же, прошу вас, не спешите.
— Почему? Меня ничто не остановит. — Метелкин рыскал по полу в поисках сапог.
— Разреши обратить твое внимание, — сказал Сурен, — на остальной груз археологической экспедиции. Конечно же, забота о людях — первейшая задача. Но вы уверены, что хотите, чтобы сейчас, в панике и спешке, кто-то начал вскрывать все ящики экспедиции? И если там окажутся не черепки, а что-то другое — если будет так, ты уверен, что профессор Авдеев и его супруга не вспомнят твоего имени?
Метелкин перестал надевать сапог.
— Это конец карьере, — сказал он после паузы.
— Боюсь, что да, — согласился Сурен, он был кроток и терпелив, как агнец. У него был план, как получить деньги с Метелкина, но с перепуганного и разъяренного Метелкина ни черта не получишь.
— Но мы же не можем все так оставить!
— Не можем, — согласился Сурен и тоже замолчал.
— Ну говори, говори! — страстно зашептал Метелкин. — Ты должен что-то придумать.
— А с другой стороны, — сказал Сурен, — если ничего не предпринимать, то погибнут не только люди — погибнет весь ваш груз.
— Наверное, на «Измаиле» и ваш с Аспасией есть, — заметил зло Метелкин.
— Сущие пустяки, — сказал Сурен. — Твое положение куда хуже.
— Неужели ничего нельзя придумать?
— Почему нельзя? И если ты компенсируешь мне расходы, которые я понес, заплатив турку, я постараюсь подсказать выход.
— Сколько? — спросил Метелкин.
— Две тысячи.
— Никогда!
— Я должен половину отдать Аспасии — иначе она меня убьет.
— Я получаю такие деньги за три месяца.
— Твой груз на «Измаиле» стоит в двадцать шесть раз больше, а ты вот-вот его лишишься.
— Черт с тобой! Но учти, что если ты не придумаешь выхода, ты отсюда живым не выйдешь.
— Ты очень нервничаешь, господин офицер, — сказал Сурен. — Нельзя в твоем возрасте так нервничать.
— Говори.
— Минутку — я пересчитаю.
Сурен принялся пришептывать — он считал деньги у окна при свете луны. Метелкин ходил по комнате в одном сапоге и готов был убить армянина.
— Там адская машина с часами? — спросил он.
— Может быть, — ответил Сурен. — Халиб считает, что взрыв будет утром.
— Почему?
— Спросите у него.
— Так что ты придумал?
— Я знаю одного человека, который может предупредить капитана «Измаила». Вы доверяете капитану?
— Он же в море!
— Это мое дело. Главное, чтобы капитан поверил.
Метелкин задумался.
— Для этого, — сказал он наконец, — надо написать ему письмо.
— Если вы напишете письмо, — сказал Сурен, — то я могу это письмо передать.
— Утром транспорт уже будет в Батуме. Сейчас три часа ночи. У тебя есть крылья?
— Вот именно, — сказал негоциант, — если вы так настаиваете, я могу сказать: письмо должно догнать транспорт на самолете.
— Где ты найдешь такого летчика?
— Самолет дорого стоит, — сказал Саркисьянц. — Но он поднимется в воздух через час.
— Я не могу платить, пока ты не докажешь, что не водишь меня за нос.
Пришла очередь оскорбляться Сурену, и он сделал это куда более эффектно, чем турок Халиб. Он направился к двери, как графиня, которой дворник сделал неприличное предложение. Он отворачивался от догнавшего его Метелкина, он вообще ничего не хотел слышать и не хотел брать ни копейки от человека, столь глубоко его оскорбившего.
Потом понял, что нервы Метелкина на пределе и он в любой момент может выхватить револьвер и пустить пулю в сердце Сурена.
— Хорошо! — прошептал Сурен, вытирая лицо твердым котелком. — Я даже скажу тебе, полковник, что я сделаю, — я пойду к Аспасии. У нее в заведении наверняка сидит сейчас один военлет, который ради ее прекрасных глаз сделает все, что нам нужно.
— Васильев! — воскликнул Метелкин.
— Но он не полетит ночью нелегально, без разрешения командира эскадрильи, рискуя репутацией и, может быть, погонами, он не полетит ни за какие деньги.
— Аспасия в самом деле сможет его уговорить!
— Ей не надо его уговаривать.
— Сколько? — Метелкин вдруг понял, что и в самом деле забрезжила слабая надежда на спасение.
— Пиши письмо капитану Белозерскому, — сказал Сурен, — а я пока посчитаю, во сколько это все нам обойдется.
Сурен достал из жилетного кармана махонький блокнотик, к нему был прикреплен серебряный карандашик на тонкой цепочке. Пока Метелкин, морща лоб и высунув от усердия язык, писал письмо капитану «Измаила», Сурен подвел итог.
— Три тысячи, — сказал он. — Ровно.
— Две тысячи, — сказал Метелкин, слюнявя конверт.
— Три тысячи ровно, — сказал Сурен. — Моих здесь было триста, я от них отказываюсь. Туркам я заплатил тысячу. Аспасия меньше чем за тысячу не станет ввязываться в эту историю, и Васильеву тоже придется отдать тысячу.
— Ему зачем? Он родную мать зарежет ради прекрасных глаз.
— Аспасия не может дать ему того, чего господин штабс-капитан так жаждет. А капитану надо будет купить дежурного на аэродроме, поднять механика, заправиться горючим и еще взять запасные бидоны, чтобы залить бак на обратную дорогу, — и это еще не все его расходы.
— Две пятьсот.
— И если ты будешь торговаться, полковник, то поезд уйдет.
Госпожа Аспасия не спала — она никогда не ложилась, пока ее заведение было открыто. «Луксор» закрывается в пять, а то и в шесть часов утра, пока есть господа интенданты — грех закрываться раньше.
Сурен прошел к стойке, у которой дремали перегрузившиеся анисовой водкой прапорщики, почему-то оказавшиеся здесь, а не на фронте. За стойкой стояла Аспасия, которая заменяла Русико. Та отошла в свою комнатку, чтобы усладить какого-то приезжего земгусара.
— Сурен? — удивилась она. — Я не помню, чтобы ты лег спать позже одиннадцати.
— Ты права, — сказал Сурен, кладя котелок на стойку и садясь на высокий стул. — Но надо спасать людей. Люди могут погибнуть.
— Погоди, — сказала Аспасия, — вернется Русико, и ты все расскажешь.
— К сожалению, — сказал Сурен, всегда так послушный Аспасии, — мы не можем ждать — каждая минута на счету.
Они прошли за стойку, и там в узком пространстве, занятом бутылками и коробками, Сурен рассказал, что случилось.
— Что мы можем сделать? — Аспасия приняла сведения всерьез.
— Мы можем послать Васильева — это единственная возможность, не поднимая великого шума, отыскать ящик и выкинуть за борт. Если же мы открытым текстом направим туда радиотелеграмму, то о грузе, который везет профессор Авдеев, через пять минут будет знать все Черное море — это уничтожит не только Метелкина! Вы меня поняли?
— Не надо мне объяснять, — сказала Аспасия. — Сколько там нашего груза?
— Немного, но груз важный. Ты же знаешь, госпожа.
— Метелкин дал письмо? Сколько заплатил?
— Полторы тысячи, — сказал Сурен. — Пятьсот для передачи Халибу, пятьсот для вас и пятьсот для Васильева.
— Неужели ты не поторговался больше?
— Я начал с двух тысяч.
— Дурак, — сказала Аспасия, — начинал бы с четырех. Где деньги? Где письмо?
Сурен передал госпоже Теофилато пятьсот лир и письмо Метелкина капитану Белозерскому. Дальнейшее зависело от госпожи Аспасии.
— Позови мне Васильева — он в углу, ты знаешь где.
Как раз в эти минуты Халиб сидел на корточках перед Рефиком, который откинулся на подушках. Халиб пил чай.
— Половина четвертого, — сказал Рефик. — Уже пора действовать.
— Этот шакал Сурен бегает по городу уже целый час.
— Любопытно, сколько он зарабатывает на комиссии? — подумал вслух Рефик. — Я думаю, он ограбит Метелкина.
— Его дело, господин, — сказал Халиб. Он покосился на пачку денег, полученную им от Сурена. Деньги лежали на низком столике у дивана, куда он положил их. Все. Он не посмел взять. Рефик знал, что Халиб не взял себе. — Они знают об адской машине.
— Ты не забыл завести на восемь?
— Тикает, — кивнул Халиб.
Рефик улыбнулся, показав белые сахарные зубы.
— Сейчас они уже посылают туда телеграф, — сказал Рефик. — Можешь посмотреть на часы — через два часа генералы в Батуми и адмиралы в Севастополе уже будут знать, что на «Измаиле» большая партия контрабанды. Завтра в Петербурге будут знать.
— И Метелкин надолго сядет в тюрьму.
— И этот паршивый профессор, и его Берестов, который предал нашего отца Османа, — все сядут. И правильно. Зачем превращать военный корабль, госпиталь, святое место, в склад контрабанды?
— Это грех, — согласился Халиб.
— Умный человек мстит чужими руками, — сказал Рефик.
Они весело рассмеялись. Потом они пошли спать, потому что завтра долгий, трудный день. Близки уже войска освободителей — не сегодня-завтра начнется бегство неверных. Метелкин пропадет как дым, русские офицеры исчезнут как дурной сон, а что касается греков и армян и самой отвратительной из них, приспешницы сатаны, соблазнительницы и держательницы борделя Аспасии Теофилато — худшей из худших, хоть и желаннейшей из желанных, то она не уйдет отсюда живой. Ее распнут солдаты-победители и превратят в кучу кровавого мяса — и она умрет, вопя о милости, — так будет отомщен славный Осман Гюндюз — в это верил его ученик и наследник по прозвищу Ылгаз.
Андрей проснулся от страшного кошмара — кто-то догонял его, чтобы утопить, но лица того, кто гнался, он не видел. Андрей открыл глаза и посмотрел на иллюминатор; тот был четко виден в темноте голубым кругом — значит, уже светает: еще три часа хода, и будет Батум.
Спать не хотелось. Андрей приподнялся на локте — Российский спал на спине, подняв вертикально бородку и легонько деловито посапывая, будто спешил выспаться, чтобы вернуться к своим любимым рукописям.
Андрей оделся и поднялся на палубу — ему хотелось увидеть, как из моря поднимутся далекие горы кавказского берега, — точно такими их много сотен лет назад увидел Одиссей и спутники Язона. Там их ждала Медея и удивительные приключения. Ради золота.
На пустой и оттого обширной верхней палубе транспорта было прохладно и влажно — от поднявшегося тумана поручни и стойки были в каплях и потеках влаги, рифленая палуба под ногами была мокрой.
Издали зазвучали гулкие частые шаги, словно кто-то стучал на большом железном барабане — часто и мерно. Андрей обернулся — по палубе бежал матрос в белой робе и холщовых клешах. Он пробежал мимо Андрея, не посмотрев на него.
Гул башмаков по железу затих в отдалении.
Впереди по курсу корабля все еще висел туман, так что море и небо сливались там, впереди, в белесой дымке.
Андрей пошел по палубе — под парусиновым навесом стояли в ряд несколько десятков коек, что, видно, не поместились внизу, — на них лежали одинаково накрытые одеялами и одинаково держащие руки на одеялах раненые — они спали либо лежали, глядя вверх. Между кроватями медленно шла медицинская сестра в черном платье и белом с красным крестом переднике. Вот она остановилась у койки, губы ее шевельнулись — она говорила что-то солдату, потом пошла дальше, снова остановилась — на этот раз недалеко от Андрея, снова нагнулась и провела ладонью над лицом глядевшего в небо раненого. Когда рука поднялась — глаза его были закрыты. Сестра перекрестила умершего, потом потянула простыню и закрыла ею его лицо. И пошла дальше, заглядывая в лица.
Над Андреем, словно крепостная башня, поднималась дымовая труба, дым был обильным и черным — наверное, это было плохо: такой столб дыма виден издали. Андрей посмотрел в море в поисках миноносца сопровождения «Фирдониси» и увидел, как тот возник из тумана, видно, замедлил ход, позволяя «Измаилу» догнать себя. Он был нем и безлюден. И даже дым над его короткой, наклоненной назад трубой был почти не виден.
Андрей смотрел вперед и дождался желанного момента — постепенно туман истончался и море становилось видным все далее перед носом «Измаила». Это движение совпало с подъемом солнца — край его показался почти прямо по курсу транспорта, и яркий свет пробился сквозь поредевший туман. Чем более поднималось солнце над морем, тем быстрее таял, исчезал туман, и когда Андрей зажмурился от ослепительных лучей поднявшегося над горизонтом светила, туман уже исчез, не оставив о себе воспоминания, кроме мокрых поручней, стоек и палубы. Солнце быстро нагревало воздух, металл начал сохнуть, и кое-где над палубой поднялся легкий пар.
Море открылось далеко впереди, но ожидаемого кавказского берега Андрей не увидел — лишь легкую голубую, чуть темнее неба, дымку, которую можно было принять за полоску оставшегося тумана. Андрей понял, что если он побудет еще полчаса на палубе, то сможет различить берег.
И тут в ровный и привычный уже гул двигателей корабельных машин, в шум волн, разрезаемых форштевнем «Измаила», вмешался новый, непонятный звук. Не ожидая, что такое стрекотание может послышаться сверху, Андрей сначала окинул взглядом море, но море было пусто. И только потом Андрей поглядел на небо и увидел, что корабль догоняет гидроплан с русскими опознавательными знаками на крыльях. Самолет летел настолько низко, что видна была голова пилота, свесившегося вниз и делающего свободной рукой знаки Андрею, которые могли быть истолкованы как «стой!».
Андрей не мог остановиться или остановить «Измаил», как следовало, видно, понимать жесты летчика, но потом он увидел, что, летя совсем низко, даже откачнувшись в сторону, чтобы не налететь на трубу или не задохнуться в черном дыме, пилот продолжает энергично махать рукой, и Андрей понял: он пытается обратить на себя внимание тех, кто находится на капитанском мостике.
Затем аэроплан пропал из виду, но почти сразу появился вновь — он совершил круг над «Измаилом».
До Андрея донесся звонок, короткий, как приказ, затем тон корабельных двигателей изменился — они застучали реже и не так громко, палуба дрогнула под ногами — корабль замедлял ход.
Гидроплан снова скрылся. Андрей, стоя у поручней, все ждал, когда он появится, а тем временем «Измаил» все замедлял ход, и тут Андрей увидел, как сбоку появился миноносец «Фирдониси», и цель его маневра стала понятна Андрею, когда он увидел, что самолет уже находится не в воздухе, а, замедляя ход, плывет по спокойному утреннему морю, покачиваясь на своих поплавках. Миноносец резко замедлил ход неподалеку от самолета, и Андрею было видно, как с него спускают шлюпку.
Вся эта сцена медленно перемещалась назад, потому что торможение транспорта происходило куда медленнее, и он все еще продолжал идти вперед, оставляя сзади гидроплан и миноносец.
Но пока еще эта сцена разворачивалась в достаточной близости от Андрея, настолько, что он мог видеть детали и даже узнать летчика, который довольно легко выскочил на плоскость гидроплана и пошел по ней, держась за стойки, чтобы встретить шлюпку с миноносца. Усатая физиономия летчика была Андрею отлично знакома — это был военлет Васильев в облегающем голову пилотском шлеме, кожаном костюме и высоких крагах, а на шее, как черное ожерелье, висела пустая повязка, на которой военлет носил якобы раненую руку.
Андрей посмотрел вдоль борта. Он увидел, что за эволюциями миноносца наблюдают три сестры милосердия, санитар в белом, измазанном кровью халате и усатый доктор с узкими серебряными погонами. Андрей поглядел на часы — было половина седьмого утра. Лучи солнца вспыхивали на мелкой утренней ряби. Васильев, присев на корточки, передал офицеру, что был в шлюпке, длинный конверт. Откозырял и начал медленное обратное путешествие по крылу в открытую кабину. Перед тем как забраться в нее, он поглядел на «Измаил», увидел зрителей и помахал им рукой. Сестры милосердия стали радостно махать в ответ, как будто военлет специально прилетел, чтобы доставить им удовольствие.
Вместо того чтобы вернуться к своему кораблю, шлюпка с миноносца направилась к «Измаилу», который тем временем уже совсем остановился. Гидроплан и шлюпка остались так далеко позади, что четырем гребцам в ней пришлось поднапрячься, догоняя «Измаил».
Андрей видел, как матросы побежали к борту, чтобы опустить веревочный трап. Наклонившись, он увидел, как трап, развернувшись, коснулся воды.
Между тем Васильев занимался очень будничным и совсем не пилотским делом — он достал из кабины большой бидон и наливал из него в открытое в носу самолета отверстие сверкающую под солнцем жидкость. Он наполнял бак бензином, потому что иначе не хватило бы горючего на обратный путь. Васильев вылил бензин, положил пустой бидон в кабину, потом уселся и опустил на глаза очки. Гидроплан остался настолько далеко сзади, что приходилось наклоняться над поручнями, чтобы увидеть его… Вот Васильев включил мотор, винт лениво повернулся, еще раз, еще… мотор чихнул и замолк. Андрей так внимательно вслушивался в голос мотора, что пропустил момент, когда лейтенант с миноносца поднялся на палубу транспорта и побежал к мостику, чтобы передать письмо.
Что могло быть в нем? Какая срочность заставила послать самолет вдогонку за «Измаилом»?
— Какая может быть срочность, чтобы послать самолет за нашей калошей? — услышал Андрей голос, вторивший его мыслям.
Это Иван Иванович бесшумно подошел и встал рядом.
— Я проснулся, — сказал крестьянский сын, — потому что не люблю неожиданностей. Почему бы «Измаилу» останавливаться посреди моря?
— Сейчас узнаем, — сказал Андрей.
Иван Иванович пошел вперед по палубе.
— Ты куда? — спросил Андрей.
— Попробую подняться на мостик и подслушать, — сказал Иван Иванович. — Может быть, им сейчас не до меня.
Андрей не стал ничего говорить, только пожалел, что эта мысль пришла не ему — не бежать же теперь следом за Иваном?
Так что Андрею оставалось лишь наблюдать.
Андрей повернулся к морю. Гидроплан начал разгоняться, поднимая своими лаптями белые бурунчики, — он несся по мелкой ряби все быстрее и вот, под возгласы сестер и взмахи их белых платочков, взлетел наверх, сделал круг над «Измаилом» и взял курс на юго-запад. Андрей долго смотрел ему вслед, пока гидроплан не превратился в точку и не исчез в чистом синем небе.
Становилось тепло, хоть шел всего восьмой час.
Медсестры отошли от борта — вернулись к своим обязанностям.
Андрей увидел, как с мостика быстро спускается группа людей, возглавляемая самим капитаном «Измаила» Белозерским. Белая борода капитана развевалась от быстрого движения, за ним спешили два офицера, и замыкал шествие Иван Иванович, который уже вел себя так, словно следование в кильватере за капитаном — его привычное занятие. Когда группа проходила мимо Андрея, из-за надстройки выбежали два матроса и присоединились к шествию.
Тут уж и Андрей решил не тушеваться. Он пошел за капитаном, и когда офицер, шедший рядом, спросил его:
— Вы зачем?
Андрей ответил:
— Надо! — Он был убежден, что надо, что чрезвычайное происшествие каким-то образом связано именно с их экспедицией.
Уверенность не обманула Андрея — процессия вошла в коридор, что вел к каюте профессора Авдеева. Перед его дверью все остановились. Капитан постучал костяшками узловатых пальцев в дверь и, когда никто не откликнулся, постучал куда громче.
— Что? Что? — донесся испуганный голос из-за двери.
— Это я, Иван Петрович, — ответил капитан. — Капитан второго ранга Белозерский. Я прошу вас немедленно отворить дверь.
— Что вы, что вы! — послышался ответ — глухо — через дверь. — Вы забываете, что сейчас всего семь часов утра?
— Меня не волнует, сколько сейчас часов утра, — сказал капитан. — Откройте и попросите вашу супругу быстро одеться.
— Я удивлен, — сказал Авдеев, приоткрывши дверь, чтобы удобнее было переговариваться. Авдеев был в длинной ночной рубашке, на голове красный байковый колпак, и усы уложены в особые футлярчики, чтобы не мялись, — зрелище было более чем комическое, и один из офицеров, помоложе, не удержался, громко фыркнул.
Авдеев смотрел на капитана и офицеров снизу вверх, его черные глаза метали молнии, он сорвал футлярчики с усов, те разлетелись в стороны, как черные тараканы.
— Госпожа Авдеева, — сказал капитан, — мне надо войти! Если вы не оденетесь сами, то я войду, не обращая на вас внимания.
— Евграф Михайлович! — не выдержал тут Авдеев, отказавшись от формальных обращений. — Вы что, рехнулись, что ли?
Тогда капитан Белозерский отстранил маленького плотного Авдеева в сторону, шагнул в каюту, затем обернулся и поднятой ладонью приказал остальным ждать в коридоре. И захлопнул за собой дверь.
Оставшиеся в коридоре молчали. И понятно почему — все надеялись услышать, о чем будут говорить в каюте, ведь никто толком не знал, что привело капитана в каюту в столь неурочный час.
Голоса гулко доносились из-за двери, они были приглушены, перебивали друг друга, потом наступила пауза — Андрей понял, что капитан показывает Авдееву письмо, полученное им с гидроплана. Молчание длилось минуты три — после этого снова возникли голоса.
Затем дверь в каюту открылась — в ней стоял Белозерский.
— Я еще раз говорю, — сказал он, — во избежание опасности, риска я прошу всех посторонних удалиться — и в первую очередь вас, мадам! — Это относилось к профессорше.
— И не подумаю, — ответила та, — это клевета!
— Мы все проверим и выясним, клевета или нет, — произнес капитан, разглаживая белоснежные усы. — Но рисковать вашей особой я не намерен. И вообще попрошу всех посторонних удалиться. Приступайте, прошу вас, лейтенант Прохоров.
Вперед вышел молодой лейтенант с напряженным бледным лицом.
— Господин Прохоров — наш минер, — сказал капитан. — Ему будут помогать два нижних чина, которые также разбираются в минах. Заходите, господа… то есть граждане.
Во время монолога Авдеевы все же покинули свою каюту и стояли в коридоре, где было тесно, но никто не хотел отходить от двери.
Лейтенант Прохоров остро взглянул на профессора, который ему не нравился, и спросил:
— Сколько у вас кают?
— У меня? Одна.
— Сколько кают у вашей экспедиции?
— Вот эта, — сказала Ольга Трифоновна, — потом каюта Карася, каюта Российского с Берестовым.
— У кого в каюте есть груз — ящики, мешки?
— И чемоданы? — спросил Андрей.
— Да, — сказал за Прохорова капитан Белозерский. — Нас все интересует.
— У всех есть, — сказал Андрей.
— Тогда будьте готовы представить эти вещи для осмотра, — сказал капитан.
— Но вы объясните нам наконец, почему нас подвергают обыску! — сказал Андрей.
— С удовольствием, — сказал капитан, которого обуревало нетерпение. — У меня есть сведения, что в одно из мест, принадлежащих вашей экспедиции, подложена бомба.
— Нет, я не поверю, не поверю! — сказала Ольга Трифоновна.
— Мой долг — принять меры, — сказал капитан.
— Попрошу не отлучаться, — сказал Прохоров, глядя на Андрея и Ивана Ивановича, — как только мы кончим здесь, перейдем к вам.
— Бред сивой кобылы, — сказал Иван Иванович, — неужели вы думаете, что я сам подложил бомбу и теперь ее перепрячу?
— Я ни о чем не думаю, — сказал Прохоров. — Приступайте! Посторонних, включая ваше высокоблагородие, — последнее относилось к капитану, — прошу покинуть коридор. Соседние каюты пусты?
— С этой стороны пуста, а здесь — мы с Российским, — сказал Андрей.
— Мичман, — обратился Белозерский к другому офицеру, — выведите людей из соседних кают, но тихо, умоляю вас, тихо — скажите, что прорвало трубу и нужен ремонт, понятно?
— Так точно, — ответил офицер.
Пока офицер поднимал соседние каюты, Андрей разбудил Российского сам. Прохоров и солдаты заперлись в каюте Авдеева.
Ольга Трифоновна рыдала, Авдеев, накинувший халат поверх ночной рубашки, обнял ее и повел, утешая, прочь.
Иван и Российский ждали в салоне.
— Это какая-то шутка, — сказал Иван, — кто-то хочет поглядеть, что у нас в багаже, — я точно говорю. Грабь награбленное! Это революция! Хотел бы я знать, кто провернул такую операцию. Но предупреждаю: я их не пущу копаться в моих вещах!
Иван Иванович объяснил, что капитан Белозерский решил нажиться за счет Метелкина.
— Но там был военлет Васильев! — сказал Андрей.
— Какой еще военлет! — огрызнулся Иван. — Что это меняет?
Андрей не стал объяснять, но он знал, что, если письмо привез военлет Васильев, значит, послала военлета Аспасия. А зачем Аспасии губить Метелкина?
Изгнанные из кают соседи Андрея перешептывались и ругались, стоя в салоне вокруг рояля. Авдеевы сидели, обнявшись, на большом диване.
Андрей отошел в коридор, откуда было удобнее наблюдать за дверью в каюту Авдеевых. Вряд ли он боялся взрыва — взрыв находился за пределами воображения.
Дверь в каюту приоткрылась — высунулась голова Прохорова. Капитан Белозерский, который как раз подходил к двери, спросил:
— Ну что?
— Кажется, адская машина, — сообщил Прохоров. И этим сразу изменил ситуацию на борту транспорта «Измаил».
Капитан Белозерский замер, стал выше ростом, рявкнул, не подходя ближе:
— Вы уверены?
— Она тикает, — сказал Прохоров.
— А на какое время поставлена? — спросил он.
— Как же я увижу! — рявкнул Прохоров.
— Остановить работы, — приказал капитан. — Надо срочно эвакуировать всех вокруг и приготовить шлюпки на воду.
Капитан провел дрожащей рукой по лбу, и Андрей понял, насколько он стар и растерян.
— Если мы остановим, — сказал Прохоров, они разговаривали, разделенные десятью метрами гулкого коридора, — эта штука может рвануть в любой момент. Лучше вы идите наверх на палубу, но молчите. А мы попробуем.
— Голубчик, миленький, Прохоров, — сказал капитан, — вы же понимаете: если что, я вам по гроб жизни буду обязан — у меня триста раненых на борту… Господи, нам бы до Батума доплыть!
За его спиной, оттолкнув Андрея, возник Авдеев.
— Я попрошу, — сказал он, не услышав предыдущего разговора, — обращаться с экспедиционным имуществом осторожно!
— Идите вы к чертовой матери! — закричал капитан тонким голосом и замахнулся на Авдеева сухим кулачком.
Тот опешил и, пятясь, засеменил в салон под защиту жены.
Прохоров закрыл дверь и исчез в каюте. Капитан сделал было движение, чтобы уйти прочь, но не смог — он оперся спиной о стену и быстро дышал, как загнанная собака. Андрей вспомнил, что на столе в салоне стоит графин, прошел туда и быстро, не глядя вокруг, налил воды из графина в стакан.
— Что там? — спросил Иван.
— Адская машина, — шепнул Андрей.
— Этого еще не хватало! А мне надо в каюту, взять одну вещь.
— Лучше быть поближе к лодкам, — сказал разумно Российский.
Иван сделал было движение следом за Российским, но потом передумал и кинулся в коридор — его дверь была первой от угла, — капитан смотрел перед собой и не заметил Ивана. Иван нырнул в каюту. Андрей поднес стакан с водой капитану.
— Спасибо, — сказал тот, не глядя на Андрея и не заметив, кто принес воду. Он пил маленькими глотками, потом протянул стакан Андрею. В это время Иван выбежал из каюты. Он прижимал к груди плоский кожаный чемодан.
Андрей стоял, держа стакан в руке. Капитан смотрел на закрытую дверь. «А я зачем здесь стою? — подумал Андрей. — Я же не должен сходить с этого корабля последним».
Андрей понес стакан в салон — салон уже опустел: видно, все поспешили наверх. Над головой стучали шаги — Андрей понял, что по кораблю начала распространяться паника.
Надо подняться наверх, сказал он себе и вместо этого — ну что за кошачье любопытство — вновь шагнул в коридор. И увидел, что капитан стоит у каюты Авдеевых. Дверь туда отворилась, и навстречу капитану вышел лейтенант Прохоров.
— Вы здесь, ваше высокоблагородие? — спросил он.
— Здесь, — сказал капитан тихо.
— Ну тогда заходите, поглядите. — Прохоров был расслаблен и спокоен — Андрей почти подбежал к двери и скользнул внутрь следом за капитаном. Прохоров не возражал.
Посреди каюты стоял смеющийся солдат и держал в руке будильник. Круглый будильник. Будильник четко тикал. Слышно было во всей каюте.
— Что? Что это? — спросил капитан.
— Адская машина, — ответил Прохоров. — Издеваются, понимаешь? Гады, издеваются, шутники чертовы!
Он выхватил будильник из руки солдата и шмякнул им об пол. Будильник неожиданно весело зазвенел.
— Ну зря вы, ваше благородие, — сказал солдат, — я бы его домой взял.
— Я не понимаю, — сказал капитан и тут же полез в карман, достал черный бумажник, вытащил оттуда два червонца.
— Мы выслушиваем ящики, в одном тикает — значит, чертова машина! Ну мы и перепугались, — сказал Прохоров.
— Наклали в штаны, вашество! — радостно сообщил солдат, глядя на червонцы.
— Возьмите, голубчики, — сказал капитан, — выпейте за мое здоровье. Вы же сколько Божьих душ спасли — дайте я вас поцелую!
Пока капитан целовал покорно наклонивших головы солдат, Андрей спросил Прохорова:
— А что, в ящике ничего больше не было?
— Почему? Было. Табак. И тряпки.
— А он не мог взорваться?
— Да как же, черт побери, может взорваться будильник?
— В этом должен быть смысл, — сказал капитан. — Только мы его не знаем.
По коридору бежал мичман.
— Евграф Матвеевич! — кричал он издали. — По «Измаилу» слухи носятся — люди требуют вас.
— Господи, ну скажи им, что все в порядке! Все в по-ряд-ке! Я сейчас же выйду. Вот видите, — сказал капитан, оборачиваясь к Андрею, как к сообщнику. — Люди в море очень подвержены панике. Что я им скажу? Я вас попрошу, молодой человек, отыщите вашего профессора и заведите к себе в каюту — в любое место, где его не увидят, — они же с супругой порождают панику, как тигры в овечьем стаде.
Далеко идти за профессорской четой не пришлось. Авдеевы нашлись у трапа за салоном, окруженные небольшой толпой перепуганных и преисполненных невнимательным сочувствием пассажиров.
— Немедленно! — громко и властно сказал капитан, завидя их. — В каюту, в каюту, в каюту! Нервный припадок — еще не основание бегать по кораблю и устраивать панику. Вот доктор подтвердит. — И капитан широким жестом представил собравшимся Берестова. Андрей вынужден был признать мудрость капитана — лишь медицинский авторитет мог успокоить людей.
— Да, — сказал Андрей, стараясь не улыбаться, — я попрошу вас в каюту, Иван Петрович, и вас тоже, Ольга Трифоновна.
Заплаканная княгиня Ольга спросила:
— А там все кончили?
— Ольга Трифоновна, — вмешался капитан, — вам все почудилось, именно почудилось. Господин доктор вас проводит.
Авдеев посмотрел на Андрея подозрительно — он не понимал, зачем понадобился такой маскарад, но опасался сказать лишнего.
Авдеевы пошли по коридору обратно в сопровождении Андрея, а капитан остался у трапа, преградив дорогу любопытным, так что источник раздражения и паники был надежно изолирован.
— Что там? — спросил Авдеев. — Этот кошмар кончился, да? Ничего не нашли?
— К сожалению, нашли, — сказал Андрей.
— Что?
— Андрей, как вам не стыдно! Вы обязаны сохранять к нам лояльность, — взмолилась Ольга Трифоновна.
— Да, — поддержал ее муж. Они держались за руки — короткий Авдеев и гренадерская княгиня Ольга, — в этот момент страха они забыли о своих сложных отношениях с окружающим миром — они превратились в немолодых испуганных детей.
Капитан Белозерский догнал их — видно, ему удалось успокоить пассажиров. Андрей как раз открыл дверь в свою каюту. Капитан втолкнул профессорскую чету внутрь.
— Ну что там нашли? — Авдеев требовал правды, обращаясь уже к капитану.
— Кому-то, — сказал капитан, — очень нужно было, чтобы содержимое вашего груза было предано гласности, чтобы тюки и ящики были вскрыты при множестве свидетелей, и там, внутри, оказался бы будильник. Это смешно и грозит вам гражданской смертью. И, как я понимаю, не только вам.
Тут капитан спохватился, что дверь в каюту открыта и в дверях все еще стоит Андрей.
— Простите, — сказал капитан бесцеремонно и захлопнул дверь. Щелкнул замок. Андрей мог бы и возмутиться, но ему стало смешно: все они — от такого величественного и чистого в помыслах капитана Белозерского до московского профессора Авдеева, — все они были связаны одной ниточкой корысти, воровства, контрабанды. Вокруг кипела революция, полыхали страсти, страна катилась в пропасть, а они спешили нажиться. Уж лучше Иван Иваныч, циничный крестьянский сын, собирающий денежки на свое имение, которое сожгут крестьяне раньше, чем новый барин успеет в него перебраться.
Но какова их солидарность! Каковы возможности! Послать гидроплан из Трапезунда вдогонку за «Измаилом», потому что пользоваться радиотелеграфом слишком опасно — новость бы дошла до слуха тех, кому о ней слышать не дозволено.
Иван Иванович шел по коридору. В руке он держал свой чемодан.
— И что они нашли? — спросил он.
— Будильник, — сказал Андрей.
Они вышли на палубу. К удивлению своему, Андрей увидел, что солнце уже поднялось довольно высоко — по голубому небу быстро бежали кучевые облака. «Измаил» уже снова набрал ход — впереди виден был голубой берег Батума — он потерял воздушность.
Иван Иванович отошел в тень надстройки и поставил чемодан на палубу.
— Сколько осталось ходу, интересно? — сказал он.
— Я думаю, часа через два будем в Батуме, — сказал Андрей. — Интересно, они могли нас в самом деле взорвать?
— Это не так легко, — ответил Иван Иванович. — Надо протащить на транспорт сотню фунтов взрывчатки и разместить ее не в каюте, а в более жизненно важном месте корабля. А так любительски транспорт не взорвешь. Попугать — можно! И наверное, они потирают руки.
— А зря потирают — наши оказались хитрее, — сказал Андрей, подставляя солнцу лицо: лучи приятно нежили и грели кожу.
— Ты голодный? — спросил Иван.
— Страшно. Но вряд ли у них что есть. Потерпим до Батума.
Иван вытащил из кармана пиджака тряпку, в ней была луковица и кусок хлеба.
— Это очень демократично, — сказал он. — Но, наверное, ваше сиятельство не откажутся.
— Не откажусь, — сказал Андрей.
И в этот момент некто, обладающий невероятно наглой силой, толкнул их сзади. Потеряв равновесие, они упали вперед.
«Измаил» как будто налетел со всего хода на скалу или на берег, хотя под ним было триста саженей глубины, белый фонтан брызг поднялся выше мачт — транспорт наткнулся на плавучую мину, и так неудачно, что взрывом разворотило весь нос, куда тут же хлынула вода. Натолкнувшись на взрыв, корабль начал, теряя скорость и будто обезумев, совершать эволюцию, разворачиваясь кормой, — все медленнее по мере того, как нос «Измаила», погружаясь в воду, заставлял палубу наклоняться.
Но это заняло все же несколько минут.
Страх пришел к Андрею впервые именно в тот момент. Раньше им двигало любопытство. Он не терял способности наблюдать за людьми. Здесь же все было иначе — через секунду после взрыва он испугался. Испугался настолько, что между ним и всем миром вдруг возникла тонкая, почти прозрачная и в то же время странно непроницаемая стена, как бывает при горячке, — гул в ушах и в голове, слабость в ногах и некая замедленность движений рождаются телом и мозгом, чтобы легче спастись, чтобы не отвлекаться ни на что, кроме своего спасения.
Андрей не помнил раньше такого страха — раньше были испуги. Ты испугался упасть с обрыва и карабкаешься, цепляясь за корни, — это быстрый, преходящий испуг, о котором не помнишь через десять минут. Ты испугался пройти через кладбище, но прошел — и забыл. Здесь же был страх, который командовал тобой. В нем не было вариантов — через сколько-то минут транспорт потонет, и нужно оказаться либо в шлюпке, либо, держась за что-то, на поверхности воды — только не остаться на «Измаиле», который утянет за собой, в глубину, всех, кого сможет.
Андрей провел себя по груди и плечам, соображая в то же время, не забыли ли они внизу в каюте чего-нибудь необходимого. Руки не зря совершили это движение — ведь Андрей был лишь в брюках и сорочке, и карманы его были пусты. Впрочем, денег или ценностей у него не было… где портсигар?! Где портсигар?..
Конечно же, он в кармане тужурки — во внутреннем кармане тужурки, рядом, в том же застегнутом кармане, где лежат документы и оставшиеся сто рублей.
Корабль все более кренился вперед, и Иван Иванович, подняв свой чемодан, крикнул:
— Надо ближе к шлюпкам!
Шум воды, шум двигателей, крутящихся все более натужно, все растущий шум от множащихся человеческих криков создавали оглушительный и в то же время неслышный звон в ушах и голове.
— Мне надо вниз! — сказал Андрей Ивану.
— Ты сошел с ума! Что ты там забыл?
— Надо.
— Через пять минут ты уже не выберешься.
Андрей все это понимал, и все в нем требовало бежать следом за Иваном — прыгать в море, спасаться… Но внизу остался портсигар, который неожиданно показал Андрею, что уже обладает над ним некоей властью, необъяснимой доводами рассудка.
— Назад! — отчаянно закричал вслед Андрею Иван Иванович, но Андрей уже не слышал его. Он кинулся вниз по трапу — благо они не успели далеко отойти от него — с таким отчаянием и обязательностью, будто в глубинах тонущего корабля остался его собственный ребенок.
Навстречу поднимались люди — Андрей видел их лица, но не в состоянии был их запомнить, словно смотрел на них сквозь кисею, а столкновения с ними он лишь отмечал в сознании.
Он пробежал пустой салон и оказался в длинном, почему-то наклонном коридоре, по которому бегали — именно бегали, как будто не в силах найти выход, люди, а затем он удивился, потому что из безликой массы людей выделился капитан Белозерский, который вырывался от Авдеева, повисшего на нем. За Авдеева держалась его супруга и однообразно кричала — это было карикатурно и неестественно и потому еще, что Авдеевы были облачены в халаты поверх ночных рубашек, а капитан был при полном параде — он кричал Авдеевым:
— Милостивые господа, милостивые господа, я буду вынужден применить силу!
Андрей готов был прийти на помощь капитану, но внутреннее нетерпение заставило пробежать мимо — ворваться в каюту. Куртка висела на спинке стула, и Андрей начал натягивать ее, никак не попадая в рукав. В то же время он обшаривал глазами каюту, ища, что бы еще взять с собой, но брать-то было нечего. Корабль ощутимо вздрогнул и еще более накренился. На столе лежала большая черная записная книжка Российского — туда он записывал свои мысли по поводу расшифровки важных надписей. Она поехала к краю стола. Андрею стало жалко, что труд Российского пропадет, он схватил эту книжку и почувствовал облегчение, как ребенок, нашедший в углу под кроватью закатившийся туда красивый шарик.
Наконец он попал в рукав, натянул тужурку, стукнул себя ладонью по карману, где лежал портсигар, и от этого сразу успокоился. Андрей понял, что если корабль сейчас быстро пойдет ко дну, увлекая его за собой, то он успеет перенестись с помощью портсигара на несколько дней в будущее и у него будет шанс выплыть. Андрей, уже не суетясь, открыл дверь в коридор и был удивлен тем, что там темно, — видно, вода добралась до жизненных центров транспорта и электричество выключилось.
Андрей помнил, куда бежать, и даже примерно знал, сколько шагов от каюты до салона. Он побежал и тут же врезался в какого-то человека, который глухо вскрикнул и попытался вцепиться в Андрея, но Андрей вывернулся.
— Идите за мной, сюда! — крикнул он.
— Иду, иду, — откликнулось сразу несколько голосов.
Вот и салон. Здесь светло — дневной свет вливается в иллюминаторы. Видно, насколько круто накренился «Измаил» на нос — у лестницы образовалась кучка кричащих и мешающих друг другу людей. Теряя равновесие, они мешают друг другу подняться наверх и уже не понимают, что им надо сделать, чтобы спастись.
Андрей подбежал к людям, топтавшимся у лестницы, и резко рванул на себя толстого мужчину, который застрял на подъеме и, вцепившись в соседей, полностью перекрыл лестницу.
— Спокойно! — закричал Андрей что было сил, но не его голос, а освобождение лестницы сыграло основную роль — люди кинулись наверх, толкаясь чемоданами, схваченными в спешке и безумии вещами. Уже поднявшись наверх, в ослепительное, доброе солнечное утро — в такое утро не бывает трагедий, в такое утро люди не могут погибать, — Андрей увидел вдруг не людей, а вещи, которые люди несли, чему они отдали предпочтение. У некоторых были чемоданы, и малые и, чаще, объемистые — вот пожилая чета, еле живые, волокут чемодан, который размером больше их самих, — словно собираются на этом чемодане плыть, как на плоту. А этот мужчина несет картину — в большой массивной золотой раме — картина плохая, даже Андрею это понятно, — но почему-то именно она воплотила сейчас для этого человека самое дорогое, что нужно унести с тонущего корабля. Мимо пробежала женщина в шубе, надетой на один рукав, второй рукой она прижимала ребенка…
Палуба накренилась настолько, что на ней было трудно стоять.
Андрей ринулся к борту, где более всего толпился народ. Но добежать не успел, потому что увидел, как совсем молоденькая сестра милосердия в невероятном отчаянии и напряжении сил волочит носилки с раненым, другой конец носилок отстукивает по ребристой поверхности палубы — будто барабанщик учится стучать; у раненого забинтована голова — расширенные страхом и волнением глаза блестят, и он невнятно повторяет: «Брось, брось… оставь…», и в этом слышна его отчаянная надежда, что девушка не оставит его — хотя по здравом размышлении непонятно, куда она может оттащить носилки — как будто часть палубы утонет обязательно, а другая, может быть, и спасется. Андрей, не размышляя, подхватил носилки, и они отнесли их к борту.
— Спасибо, — сказала девушка.
Она стояла рядом с носилками, опустив руки, безмерно уморившись. Раненый закрыл глаза. Они победили, они дошли до барьера.
Откуда вообще взялись эти носилки?
Андрей поглядел в сторону тента на верхней палубе… Но ведь там койки — отлично видно, как высокий священник с крестом в руке осеняет койки, и раненые глядят на этот крест, надеясь на его силу и утешение. Правда, не все — некоторые, кто может двигаться, ползут, подпрыгивают, карабкаются к борту — за ними белыми хвостами волочатся бинты — и вклиниваются в толпу, что бушует у борта, надеясь на место в шлюпке.
Андрей перегнулся через поручень — до воды еще далеко. Андрею никогда не приходилось нырять с такой высоты, но, наверное, времени терять уже нельзя. Андрей поглядел вперед: горизонт поднялся, он был куда выше палубы — это от крена, — нос уже ушел в воду почти до палубы, и корабль вот-вот потеряет устойчивость и тогда — Андрей видел это на фотографиях — колом пойдет в воду.
Крик вокруг стоял несусветный — Андрей смотрел, как люди ползут по шлюпбалкам, по тросам — муравьями, — срываются в море, кричат, исчезают, так и не добравшись до шлюпок. На глазах у Андрея шлюпка, переполненная людьми, перевернулась — медленно и ловко, как дельфин, желающий скинуть с себя докучливых наездников.
В толпе у борта Андрей увидел и Авдеевых — они бились за место поближе к шлюпкам. Госпожа Авдеева — голова ее возвышалась над толпой — тянула за руку мужа и расталкивала прочих. Андрей подумал, что, если транспорт сейчас не перевернется и не потонет, они все же добудут себе место в шлюпке. Капитана рядом с ними не было — он, наверное, наверху на мостике, потому что даже самый бестолковый и трусливый капитан в тот момент, когда его корабль тонет, оказывается на мостике. В этом есть какой-то капитанский рок, оправдывающий капитанов за все дурное, что они сделали ранее.
Корабль задрожал, как бы примеряясь, чтобы удобнее уйти в теплую воду, и сквозь крики, несущиеся от борта, Андрей услышал страшный вой, долетающий снизу сквозь иллюминаторы, и он понял, что это крик сотен раненых, заточенных на нижних палубах, у которых нет никаких шансов вырваться наружу.
Господи, какой высокий борт у «Измаила»! Ты стоишь, словно на крыше четырехэтажного дома! Может быть, найти трап на нижнюю палубу и спуститься туда, чтобы безопасно прыгнуть в воду?
И Андрей, понимая уже бессмыслицу таких надежд, потому что времени на это никто ему не даст, поймал себя на том, что бежит вдоль борта, ища ход вниз. Он в отчаянии остановился. «Нельзя!» — кричал он себе. Может, даже вслух. «Измаил» все быстрее скользил внутрь моря, стараясь спрятаться там от солнца, избавиться от криков и отчаяния, он не в силах был терпеть крики людей.
Может быть, Андрей и дальше терял бы время и погиб на «Измаиле», если бы не увидел, как молоденькая сестра милосердия, также подбежавшая к борту, вдруг начала совершать непристойные движения — она схватилась обеими руками за подол своей черной юбки и подняла ее, выпрямившись, показав длинные стройные ноги в серых с завязками чулках и панталоны, обшитые по краю розовыми кружевами. Андрей даже замер — оказывается, и в смертный миг человека можно удивить настолько, что он забывает о гибели. Андрей смотрел — без вожделения, а потрясенный зрелищем, которого не могло случиться на «Измаиле». Но в следующий момент девушка стащила через голову платье — вместе с нижней сорочкой, — тогда Андрей понял, что она раздевается для того, чтобы платье не утянуло ее на дно. Девушка отбросила платье. Сзади несся вопль толпы — там все еще дрались за место в шлюпках. Девушка легко перемахнула через поручень — Андрей смотрел на нее как околдованный, — она держалась одной рукой за железные перила, другой перекрестилась. Затем сильно оттолкнулась от борта и по дуге — все быстрее и круче — полетела вниз к воде. Андрей, склонившись, наблюдал за ней, молясь, чтобы она не разбилась о воду.
Поднялся фонтан брызг. Не отрывая взгляда от воды и жаждая увидеть, как покажется голова девушки, Андрей повторил ее действия: не расшнуровывая, он стащил с ног ботинки, сорвал с себя тужурку — потом в последний момент портсигар как бы завопил: «Не забывай!» Андрей переложил его в карман брюк — туда же — хоть все равно промокнут — документы. И теперь уж ничего не удерживало его — да и времени на раздумья не было. Андрей четко повторил движения девушки. Он оттолкнулся от борта и полетел. Полет был долгим — он успел о многом подумать, пока летел к воде, но о чем думал — не запомнил. И тут последовал сильный удар, выбивший из него воздух и чуть не погубивший Андрея. Тут же он начал погружаться вниз и слишком рано заработал руками, чтобы вернуться на поверхность — его еще влекло вглубь, а он уже пытался вырваться, и на то уходила энергия и запас воздуха. А когда он начал все же подниматься наверх, то уже не выдержал и вдохнул воды — но, к счастью, в тот момент, когда его голова уже дотронулась до ее поверхности. Кашляя и отплевываясь, теряя сознание от того, как больно рвались бронхи от смеси воды и воздуха, он все же оказался на поверхности, он был жив, кашляя, он вернул себе умение дышать, откинув голову и проведя ладонью по глазам — он смог открыть глаза — он был жив!
Но как только Андрей открыл глаза, он сообразил, что борт «Измаила» слишком близок к нему — буквально нависает над ним — руку протяни и дотронешься. Андрей отчаянно замахал руками, чтобы отплыть как можно дальше, — и по мере того, как он плыл, к нему возвращался разум и способность соображать.
Андрей перевернулся на спину — теперь «Измаил» был метрах в пятидесяти — еще близко. Корабль оставался на плаву, хотя нос его скрылся под водой, а корма поднялась настолько, что был виден бешено вращающийся винт. Андрею хотелось увидеть отважную сестру милосердия — неужели ее утянуло вглубь?
Понять ничего не удалось — Андрей был в воде не один; в отдалении виднелись другие черные шарики — человеческие головы, а еще дальше была видна перегруженная шлюпка, ощетинившаяся головами, как ежик иголками, — а совсем далеко Андрей увидел серую полосу — борт миноносца, который спускал шлюпки, но опасался подойти ближе к транспорту.
Андрей поплыл прочь от «Измаила», уверенный, что спасется.
Вдруг, не оборачиваясь, он понял, что сзади произошло нечто страшное. Андрей оглянулся и увидел, что «Измаил», встав вертикально и скидывая с себя букашек — человечков, что еще цеплялись за палубу, не смея покинуть ненадежную сушу корабля, замер на три или четыре секунды и вдруг как отрезанный ухнул в воду — гвоздем, железным штырем, и море ухнуло, кинувшись на то место, которое он только что занимал. Андрей не смотрел более: он быстро поплыл прочь и не слышал, но ощущал всей шкурой, как кричат раненые в чреве «Измаила».
А потом вдруг сразу стало спокойно и солнечно.
Корабля не было — никогда не было, — только спокойное искрящееся море вокруг с множеством купальщиков, лодок и всяких плавучих предметов.
А берег Кавказа уже близок настолько, что можно различить у воды строения батумского порта и мачты кораблей, что стоят в порту.
Если бы не брюки — в брюках даже хорошему пловцу плавать трудно, — происшествие с Андреем окончилось бы для него приятным купанием в теплой воде. Скоро — ведь из Батума наблюдали гибель транспорта — здесь будут катера и лодки, все поспешат спасти людей. Только мало кто спасся, по крайней мере триста раненых так и остались на нижних палубах.
Андрей решил было плыть к миноносцу, размышляя, стащить ли брюки, — но тогда останешься вообще и раздетым, и разоренным.
«Ладно, всегда успею». Неподалеку раздался крик:
— Андрей! Андрюша! Помоги! Скорее!
Андрей поплыл на крик — голова человека была совсем рядом, но разглядеть ее черты все не удавалось — солнце отражалось от морской ряби и било в глаза.
Оказывается, звал его Иван Иванович — он плыл, продевшись в спасательный круг, но при том мучился, потому что на этот же круг он норовил поставить свой чемодан, с которым так и не расстался, но круг не выдерживал дополнительного веса и переворачивался — крестьянский сын отчаянно откидывался назад, чтобы создать противовес чемодану, но видно было, что в этой борьбе он изнемогает и скоро вынужден будет сдаться.
— Андрей, — прохрипел Иван Иванович, — спаси…
— Да ты брось чемодан, — сказал Андрей. — Нас обязательно спасут, ты не бойся. И брось чемодан.
— Я не могу его бросить, — сказал Иван Иванович, подтягивая к себе чемодан и пытаясь перехватить ручку другой рукой. — В нем вся моя жизнь. Это сокровище… Андрей! Наука… нам этого… не простит.
Чемодан потянул Ивана к себе, и тот вынужден был окунуться, следуя за чемоданом, и это движение было комическим со стороны, но наверняка ужасным для Ивана Ивановича, — так и не выпуская чемодана, он последовал за ним в глубину, спасательный круг встал на ребро, и на поверхности в его кольце оказались лишь ноги крестьянского сына и его длинные полосатые трусы.
Андрей в два гребка оказался рядом и, обхватив крестьянского сына руками за пояс, дернул его на себя — сопротивление чужого тела было велико. Андрей почувствовал, что вот-вот надорвется — но все же хоть и с неохотой, море выпустило голову Ивана — глаза выпучены, рот раскрыт, лицо перекошено мучительной гримасой — он жадно дышал — все-таки удержался, не нахватался воды! И главное, пальцы его были судорожно сплетены вокруг ручки чемодана.
Андрей, чувствуя, что инерция движения закидывает Ивана назад и сейчас он снова уйдет в воду, только затылком вперед, поддержал его, стараясь свободной рукой освободить чемодан из его пальцев, но Иван зарычал — хотя только что был почти в беспамятстве — и стал рваться из рук Андрея. Андрей понял, что в помраченном сознании Ивана осталась лишь одна цель — спасти чемодан.
— Ну и черт с тобой! — закричал Андрей. — Так ты сам погибнешь и еще меня утянешь.
— Я поделюсь, ты поймешь, — хрипло закричал Иван. — Это нельзя погубить — это важнее для нас… это важнее, чем Шлиман, клянусь, это будет наша с тобой общая находка.
Андрей отлично понимал, что в чемодане лежит груз опиума, стоящий немало тысяч рублей, — светлое будущее, каким оно представляется корыстолюбивому мозгу Ивана Ивановича.
Иван плакал — странно было видеть и угадывать слезы на мокром от морской воды лице.
— Андрей, я тебя умоляю… я назову сына твоим именем!
Почему именно это обещание должно было растрогать Андрея, неясно, но Иван оставил его напоследок как тяжелую артиллерию.
Во время обмена репликами Андрею все время приходилось поддерживать и чемодан, и его владельца. Он устал и начал крутить головой в надежде увидеть какую-нибудь доску или бревно, чтобы можно было положить на него чемодан. В рассказах о кораблекрушениях по соседству с терпящим бедствие героем всегда оказывается доска или бревно, но ничего подобного Андрею не попалось — впрочем, много ли бревен и досок на палубе военного транспорта?
Так что Андрею, чтобы не слышать более стенаний крестьянского сына, пришлось плыть рядом с ним, поддерживая проклятый чемодан и подгребая одной рукой.
Плыть таким образом было нелегко, и Андрей уже готов был плюнуть на все и отправить чемодан на дно, как увидел, что на них надвигается нос шлюпки — это была шлюпка с миноносца, в которой было уже немало спасенных. К счастью, вода была теплой. Матросы сначала отказывались взять на борт переполненной шлюпки чемодан, но Иван Иванович кусался, вырывался из их рук, предпочитая сгинуть в пучине вместе с чемоданом. Пришлось вступиться Андрею, он сказал офицеру, который командовал шлюпкой, что в чемодане важные научные материалы. Лейтенант смилостивился. Чемодан был спасен.
Когда шлюпка подошла к миноносцу и надо было подниматься на его, такой низкий после борта транспорта, борт, Ивана Ивановича оставили силы — он лежал на дне шлюпки, прижимая к себе чемодан. Андрею пришлось вместе с чертыхающимся матросом втаскивать Ивана и чемодан на палубу, где Иван отказался опускаться в кубрик, потому что боялся утонуть, когда и миноносец утонет.
Андрей потерял интерес к свихнувшемуся археологу и пошел по узкому и такому тесному миноносцу, заглядывая в лица тех, кого подняли на борт, — почему-то ему так хотелось найти девушку, прыгнувшую с верхней палубы в море и подавшую Андрею пример, — он был уверен, что узнает ее. Спасенные женщины — большей частью сестры милосердия — были закутаны в простыни и одеяла; их звали внутрь, но почти никто не согласился. Как и Иван Иванович, они более всего сейчас боялись закрытого пространства.
Андрей взглянул туда, где потонул «Измаил». Там было совсем тихо и спокойно — только одна из шлюпок медленно пересекла это пространство, на котором виднелись плавающие предметы, но не было более видно человеческих голов.
Андрей представил себе, что обтекаемое акулье тело «Измаила» уже достигло дна, подняло тучу ила и осторожно и важно устроилось на вечную постель в мертвой, без живых существ, глубине Черного моря. Внутри корабля еще не все погибли — в некоторые помещения вода не проникла, переборки и двери удерживают пузыри воздуха. И там, в кромешной тьме, не понимая еще, что никто никогда не придет к ним на помощь, ползут к дверям раненые, разматывая по полу бинты, и зовут сестер или доктора, и есть среди них сестры, которые не побежали наверх со здоровыми, а остались с немощными, потому что в том был их христианский долг. Они не думают о смерти, только о долге, и сейчас, в последние минуты, пока не хлынула, не прорвалась холодная вода, сестра милосердия шарит руками в темноте, отыскивая стонущих и зовущих ее страдальцев и стараясь тихим голосом утешить их, обещая помощь и спасение, а может, и сама веря в то, что помощь придет… И радостно откликаются раненые на стук в переборку — стук снаружи! И не знают, что стучат такие же, как они, жильцы еще одной обреченной планеты — еще одного пузырька воздуха.
С палубы миноносца Андрею было видно, как из глубины моря вырвался воздушный пузырь, взболтнув спокойную воду и разбегаясь по морю концентрическими кругами.
На борту миноносца было тихо, а может быть, Андрей, занятый наблюдениями и погруженный в мысли, ничего не слышал. Но его вывел из задумчивости шум машин миноносца, слышный на маленьком корабле куда явственнее, чем на транспорте, и даже передающийся трепетом железной палубы под ногами. Миноносец начал делать широкую эволюцию, как бы совершая печальный крут почета над местом гибели «Измаила», затем он постепенно разогнался — и вот уже перед его носом появился белый бурун, «Фирдониси» взял курс на Батум.
На месте гибели транспорта миноносец был не одинок — сюда уже подтянулись рыбачьи шаланды и яхты, подоспели два буксира из порта, а чуть далее дрейфовала канонерская лодка «Воитель». При виде уходящего к порту миноносца прочие суда тоже начали поворачивать к берегу, за исключением небольших шаланд, хозяева которых занялись мародерством или, если сказать лояльнее, очисткой моря от предметов, выброшенных водой из «Измаила».
Андрей, убедившись, что больше на поверхности воды не осталось ни одного живого человека, повернулся к палубе. Прижимаясь к надстройкам, сидели и стояли люди. Андрей увидел Ивана Ивановича, сидящего на корточках, прижимая к груди бесценный чемодан, — он встретил взгляд Андрея и виновато улыбнулся, но Андрей не ответил на улыбку. Он не смог бы объяснить ему, что винит его в исчезновении той сестры милосердия — будто Андрей успел бы отыскать ее и спасти, если бы не этот проклятый и никому не нужный чемодан.
— Андрей, — позвал его Иван.
Андрей вынужден был подойти ближе.
— Присядь, — попросил Иван.
Андрей присел на корточки рядом с крестьянским сыном.
Сейчас все в нем раздражало — даже то, что ранее нравилось: былинная внешность, голубизна доверчивых очей и соломенные волосы, теперь потемневшие и прижатые к узкому черепу.
— Ты только не думай, что я завтра забуду, — сказал Иван. — Ведь ты бы мог уплыть — кто бы об этом узнал? Мог бы и утопить меня, — опять возникла робкая улыбка, — я же плавать почти не умею. А ты помогал. На берегу будем, я тебе покажу, ради чего ты жизнью рисковал. Это теперь наше общее. — Андрею послышались заглавные буквы во всех этих словах.
— Ладно, не надо, — сказал Андрей. Зачем обижать человека, который искренне к тебе расположен?
— Ты меня презираешь, да? Но ты не прав в этом, совершенно не прав. Я бы всю контрабанду потопил собственными руками, но есть вещи святые.
— Не говори загадками, — сказал Андрей.
— Я не могу говорить открыто — об этом еще рано знать. Не дай Бог, это они увидят — ты не представляешь, — они пойдут на все, чтобы лишить нас…
— Уже скоро берег, — сказал Андрей. — Надо собираться.
От промокших брюк ногам было неприятно, Андрей провел рукой по штанине — портсигар на месте.
— Как только мы отыщем с тобой надежное место, — сказал Иван, — я все тебе открою. Мне понадобится твоя помощь.
Иван все обнимал чемодан, и пальцы его были голубыми от холода и давнего напряжения.
Андрей поднялся и пошел на нос миноносца.
— Только не думай кому-нибудь сказать, — прошелестел вслед Иван. — Я тебя найду под землей, клянусь всем святым!
Ну вот, подумал Андрей, вот вам и филантропы. Чуть что, сразу стреляют.
На носу, где было больше места и берег был как бы ближе, у носового орудия собралась толпа спасенных — некоторые грелись на солнце, другие все еще кутались в матросские одеяла. Берег надвигался быстро, миноносец весь дрожал, норовя как можно скорее принести на берег скорбную весть.
С облегчением Андрей увидел у самого орудия чету Авдеевых, которые стояли подобно парной статуе, изваянной греческим классиком на тему «Мать защищает свое дитя от нападения циклопов». Матерью была Ольга Трифоновна, она обнимала мужа за плечи, и тот, приложившись толстой красной щекой к ее почти обнаженной массивной груди, охваченный за шею могучей рукой Брунгильды, блаженствовал — глаза его были пусты от иных чувств и мыслей, кроме облегчения от того, что пребывание в шлюпке закончилось и вообще это недоразумение скоро выяснится. Андрей хотел было привлечь к себе внимание Авдеевых и спросить, не видели ли они Российского, но потом решил, что всему свое время — разговаривать не хотелось. В сущности, корабль и все люди на нем погибли из-за Авдеевых, хоть и ни один суд не признает их вины, — именно из-за них транспорт застопорил ход и остановился, поджидая письма с гидроплана. От этого изменения его курса и произошло столкновение с миной, иначе оставшейся бы в стороне.
Вдруг сердце Андрея пропустило удар — от неожиданного, радостного узнавания. Та сестра милосердия, что прыгнула с борта, оказывается, стояла совсем рядом с ним, закутанная в мужской плащ, так же, как и остальные, глядя перед собой и умоляя берег скорее приблизиться. Узнав девушку и желая подойти и сказать ей слова благодарности за смелый пример, который спас его, Андрей замер, жестоко пронзенный иным узнаванием. Вдруг он понял, что увиденная сестра милосердия — родная сестра той, что осталась в пузыре воздуха на нижней палубе «Измаила» после того, как он ушел уже глубоко под воду; ту, утешавшую раненых в кромешной тьме, Андрей видел лишь в воображении, но никаких сомнений в правоте у него не было. Андрей не мог, конечно, объяснить себе, откуда пришло к нему это знание. До гибели «Измаила» он не видел ни одной из сестер и не подозревал об их существовании. Это мгновение познания, основанного на постижении истины вне видения, было первым в цепи подобных событий, качеств, что старался заложить в Андрея еще Сергей Серафимович, заложить впрок, исподволь, чтобы они проявились уже в зрелом возрасте и помогли выжить в особых обстоятельствах, куда может попасть путешественник во времени. Но в тот момент Андрей с усилием отмахнулся от озарения, потому что озарение это было трагично. Должен ли он подойти к закутанной в одеяло сестре милосердия и сказать, что ее сестра погибла ужасной смертью внутри транспорта? В том ли его долг? Или в укрытии этой истины и оставлении в сердце сестры вечной надежды на спасение?
Андрей увидел, что девушка почувствовала его непроизвольно настойчивый взгляд и обернулась к нему тревожно, неуверенно. Андрей быстро отвел глаза.
Тем временем миноносец начал замедлять ход. К спасенным вышли два матроса с большим металлическим термосом и подносом со стаканами — они предлагали согреться крепким чаем. На приближающейся набережной видны были люди — много людей, — весь город выбежал смотреть, как подходит «Фирдониси» со спасенными с «Измаила».
Город встретил швартующийся миноносец гробовым молчанием тысяч людей, но потом, когда матросы побежали по пирсу, закидывая концы на кнехты, толпа кинулась к миноносцу с таким шумом и криками, словно вся она состояла из близких родственников.
В толпе выкрикивали имена — и набережная гремела оглушительно, отчаянно, и матросы стали отгонять людей, которые норовили вскарабкаться на борт миноносца.
Андрей обернулся: Авдеевых не было видно — будто они убежали вниз, не было видно и Ивана. А девушка, потерявшая сестру, перегнувшись через леер, махала руками, не замечая, как сполз с нее морской плащ, в ответ ей кричал, подпрыгивая от счастья, совсем молоденький поручик с «Георгием» на груди.
Андрей стоял, погруженный в оглушительную яму шума, который его не касался, и понимал, что придется подождать, прежде чем удастся сойти на причал. Он начал размышлять, как ему лучше всего добраться до Ялты. Может быть, миноносец на обратном пути зайдет туда? Андрей полез в карман еще мокрых брюк, достал оттуда промокший бумажник, сжал между ладонями, выжимая воду. Бурая вода — значит, чернила на бумагах погибли — полилась на палубу…
Его толкнули — люди лезли на миноносец, — какая-то пожилая женщина потянула его за рукав и строго спросила:
— Где здесь раненые? Я не вижу раненых. Мой муж полковник Симонов был на транспорте «Измаил».
Другая женщина оттолкнула ее, сунула под нос Андрею фотографию гимназиста.
— Он теперь изменился, — сказала она, — но узнать можно. Вы его видели, да?
Лица возникали вокруг, как в быстром танце, — Андрей понял: он был здесь единственным человеком, у которого можно было что-то спросить, — он стоял один, без дела, неподвижно, будто ждал вопросов.
Андрей попросил прощения у старика, всем схожего с капитаном Белозерским, но без бороды. Старик хотел узнать, есть ли спасенные на других судах, и Андрей сказал, что есть. Дальше оставаться было нельзя — миноносец уже был полон родными и близкими раненых, видно, предупрежденными заранее и съехавшимися с разных мест России.
Вдруг Андрей испугался: а что, если известие о гибели «Измаила» телеграфом дойдет до Ялты и Лидочка решит, что и он, Андрей, погиб? Как сделать, чтобы успокоить ее? Надо срочно телеграмму — добраться до телеграфа и послать.
Андрей прошел на корму миноносца — здесь не было столпотворения. Он перемахнул через леер и спрыгнул на причал — до него было чуть больше сажени. Гул толпы доносился приглушенно, направление движения людей было от берега на миноносец — сейчас же Андрей был за спинами толпы.
Он пошел прочь, ускоряя шаги, потому что у него начала болеть голова от чужой боли и страха.
Он свернул за угол пакгауза. И увидел странную картину: по раскаленному солнцем пустырю между пакгаузами, не видя никого вокруг, удалялась трагикомическая чета Авдеевых. На этот раз они шли под руку, запахнув халаты, но не в силах подоткнуть белые ночные рубашки, которые волочились по земле. В свободной руке Авдеев держал красный ночной колпак, пронесенный сквозь все испытания. Волосы Ольги были распущены и стекали ручьями по плечам.
Для них это была беда куда большая, чем для Андрея или Ивана. Они потеряли все и рискуют еще, если будет расследование, потерять и доброе имя… А где Российский? Андрей так и не видел его…
Навстречу Андрею бежал Ахмет.
Он был в кожаной черной куртке и кожаной кепке с длинным квадратным козырьком. Черные брюки заправлены в надраенные сапоги.
— Эй! — кричал он. — Я же говорю, что ты здесь! Я тебе кричал, ты меня не видел, черт полосатый!
Андрей кинулся навстречу Ахмету.
Они обнимались, тискали друг друга, Ахмет бил Андрея по плечу и кричал:
— Зачем пугаешь, шайтан лохматый! Ты о нас подумал?
— Где Лидочка?
— Лидочка? Ты зачем у нас на глазах утонутие устроил? Ты зачем нас заставил так переживать? Я твою Лидочку еле из моря вытащил — она плыть хотела, только поздно уже было. Я ей сказал, что ты обязательно выберешься, страшно живучий, правда?
— Вы все видели?
— Мы сюда час как пришли. Мы услышали — на улице люди кричат, в порт бегут, «Измаил» на мину налетел. Мы прибежали — никакого «Измаила», нам это легко переживать?
Не переставая говорить, Ахмет тянул Андрея к краю причала, где у кнехта стояла Лидочка и смотрела, как по трапу спускаются на причал спасенные, — ждала, появится ли среди них Андрей.
Она почувствовала, что сзади бегут Андрей и Ахмет.
— Сейчас будет в обморок падать, — сказал Ахмет.
Но Лидочка в обморок не упала — она побежала к Андрею, пробежала несколько шагов и обессиленно остановилась. У нее даже не было сил поднять руки. Она стояла покорно и ждала, пока Андрей добежит и обнимет ее, а она смотрела на него, и глаза у нее были красные, заплаканные, а щеки совсем бледные, без загара — да и какой загар, если она прилетела сюда прямо из глубокой осени! Волосы, собранные в неплотный узел с вырывающимися из него вьющимися прядями, лежали неаккуратно — она была, к счастью, сейчас некрасива — потому к счастью, что она была специально сделана богами для него — каждый изгиб ее тела был изготовлен так, чтобы вписаться в соответствующий изгиб мышц Андрея, — они с Лидой были сделаны, чтобы слиться в одного человека, но об этом никто не знал. Это было знание для Андрея — его великое открытие. Аспасия либо иная красавица могла быть куда прелестнее и соблазнительнее Лидочки, но никакая Аспасия никогда не станет его женщиной.
Глава 5
Осень 1917 г
Премьер-министр Временного правительства господин Керенский нанес визит бывшему императору, находившемуся под арестом в Царском Селе.
Он сообщил Николаю, что правительством принято решение отправить царское семейство в город Тобольск — традиционное место российской ссылки, в город, грузно поднявшийся в Сибири усилиями тамошних купцов и ссыльных.
Господин премьер-министр объяснил императору, что меры эти принимаются ввиду необходимости побороть угрозу государству слева — в первую очередь со стороны большевиков, уже пытавшихся поднять революцию в июле и все еще не смирившихся с поражением.
Императору, который Керенского не любил, потому что тот по природе своей был выскочкой, было страшно — не за себя, а за девочек и больного наследника, который может не перенести трудной дороги. Когда же Александра Федоровна вечером, по отъезде Керенского, принялась было рыдать, полагая, что за таким решением разночинцев Временного правительства скрывается смертный приговор царскому семейству, бывший государь возразил, что и сам многих направил в Тобольск и далее на жительство, но бунтовщики возвращались, окрепшие телом и бодрые духом. «Кстати, — сказал он, — и сам вождь большевиков Ульянов, если не ошибаюсь, провел в тех краях несколько лет». Впрочем, этот рассказ современника может быть не более как сплетней — какая нужда императору изучать биографию вождя социал-демократов, которых он, как и большинство российских обывателей, считал немецкими шпионами?
По просьбе отца Анастасия принесла географическую карту империи, и они начали смотреть, как туда поедут. Оказалось, что через Тюмень, оттуда рекой до самого Тобольска.
— Господи, какой знак! — воскликнула императрица. — Я вижу в этом Божье провидение. Мы же будем проплывать мимо дома отца Григория!
1 августа царский поезд, на вагонах которого было написано «Японская миссия Красного Креста», чтобы не вызывать излишнего любопытства в пути и не способствовать попыткам освободить императора, отбыл из Петербурга. Драгуны, что составляли конвой, распевали унылые песни — за окнами пульмановских вагонов тянулись нескончаемые леса. Поезд мало стоял на станциях — только заправлялся водой и углем. Принцессы глядели на местность сквозь щели в занавесках — никогда не думали они, что так придется им впервые путешествовать по своей державе.
Уже вечером 4 августа состав прибыл в Тюмень. Пользуясь темнотой, семейство Романовых и сопровождавшую их свиту перевезли на пароходы «Русь» и «Кормилец», что стояли у пристани.
Каюты и сами пароходы венценосным пассажирам понравились — принцессам и Алексею можно было ходить по палубам, читать на свежем воздухе и музицировать в пассажирском салоне. Кормили пристойно, впрочем, Романовы не были привередливы к пище.
Весь день 5 августа «Русь» шла вниз по реке — берега были покаты, течение быстро, вода холодна, и воздух казался хрустальным. Николай сказал жене, что, наверное, такой воздух способствует здоровью местных жителей. Недаром же Григорий был столь крепок телом и духом.
Миновали село Покровское — большое крепкое село, сбегавшее к самой реке. Стояли у борта и смотрели на дома, стараясь угадать, в каком из них жил раньше столь трагически покинувший их Распутин. «Вспоминали друга», — записал вечером Николай в дневнике.
Николай думал, не рассказать ли Аликс о намеке Керенского — тот дал понять императору, что от Тобольска куда ближе до Японии и Североамериканских Соединенных Штатов, чем до Петербурга. Но потом решил не говорить и не возбуждать лишних надежд в Александре Федоровне, ведь она так надеялась на то, что их отпустят в Англию, но социалисты подняли скандал в Думе, и этот план, такой гуманный и разумный, рухнул.
6 августа — через неделю после отъезда из Царского Села — царская семья прибыла в Тобольск.
Как и положено реформатору, Керенский к концу лета попал между молотом и наковальней. Преодолевая кризис за кризисом, освобождаясь при том от соперников и окружая себя все более близкими по духу людьми, он никак не укреплял (хотя казалось обратное) своего положения. Обещания, которыми он покупал себе право руководить страной, не сбывались, и наступал момент, свойственный карьерам деятелей переходного типа в России, когда его слова, действия, повадки, голос начали вызывать насмешки и служить основой для анекдотов, а то и поводом для ненависти.
Притом нельзя забывать, что положение Керенского было куда более выгодным, чем положение иных русских реформаторов, — ему не надо было бороться с верхушкой российского чиновничьего аппарата — именно эта верхушка была сметена революцией. Правда, оставался аппарат средний и низший, который продолжал нести свое приспущенное знамя и работать все с большим замедлением, словно машина, которая катится по рельсам, хотя топка паровоза уже остывает.
Керенский умел значительно произнести слова о великой войне за спасение цивилизации, о едином порыве армии и народа и, будучи человеком долга, делал все от него зависящее, чтобы Россия продолжала войну до победного конца. Но когда он оставался наедине с генералами, которые делали вид, что советуются с ним по военным вопросам, он видел не лояльные лица, а оскаленные физиономии тех злых мальчишек, что так били его в Ташкенте, где прошло его детство. Керенский знал, что если он будет старательно учить заданный урок, то город Симбирск, где он родился, когда-нибудь назовут Керенским, но стоит ему оступиться, генералы натравят на него безликую серую солдатскую свору — чтобы растерзать.
В среде высшего офицерства, понимавшего, что Керенскому власть долго не удержать, зрело желание оказаться той силой, которая сменит Керенского. Следовало спешить: Керенский мог пойти на союз с враждебными силами — скажем, заключить с гуннами сепаратный мир. Такого на самом деле случиться не могло — союзники не допустили бы. Но генералы редко живут в реальном мире — они умеют пустить по кругу нелепый слух и сами поверить в него.
В России не было традиции военных переворотов. Армию обычно использовали и отправляли в казарму. Но в 1917 году армия была воюющей, поглощавшей большую часть ресурсов и усилий государства. Россия жила ради армии, а не армия ради России.
Если Керенский был лишь помехой, то боялась армия левых демократов: вот кто был повинен в бедах России. Это они, демократы, армию якобы не любили, не ценили и, что самое страшное, мешали народу любить своих генералов.
Для армейской верхушки не было разницы между породами демократов, что сыграло грустную роль в истории белого движения. Для генерала равными врагами был эсдек Ульянов и кадет Милюков.
Для Керенского разница в обличье демократов была очевидна и кардинальна. Он сам был умеренным демократом, и для него левые радикалы, как эсдеки, так и эсеры, были наковальней. С каждым днем средний слой, та разумная часть общества, на которую мог опереться Керенский, становился все тоньше — разочарование в Керенском было разочарованием в судьбе. Керенский не мог накормить Россию и победить Германию. Он лишь старался сделать это. Старания его были не видны, результаты ничтожны. Поэтому, видя, как тяжелеет молот, как готовятся к перевороту озверевшие от падения дисциплины и митингов генералы, понимая, что растут силы левых радикалов, Керенский мог мечтать лишь о том, что он успеет убрать с наковальни свою хрупкую голову, прежде чем по ней ударит молот. А если удастся так сделать, то молот ударит по наковальне, и ему предстоит выяснять, кто же из них крепче.
Тем временем молот изготовился к удару, во главе армейского заговора стал энергичный и простой генерал Лавр Корнилов.
Первоначально переворот должен был состояться во время Государственного совещания в Москве 12–14 августа. Подготовкой к нему стали страстные выступления против Временного правительства и радикальной части делегатов совещания. Монархист Шульгин заметил в те дни, что, если бы пять месяцев назад кто-то посмел вслух подобным образом высказаться о революции, его бы растерзали на части. Ораторы требовали ликвидации Советов и строжайших мер против эсдеков.
Но уверенность правого крыла совещания была поколеблена, когда эсдеки, имевшие сильные позиции в профсоюзах, объявили в Москве всеобщую забастовку, на которую откликнулись почти полмиллиона человек.
25 августа, полагая, что армия сможет одолеть радикалов, Корнилов потребовал передачи ему всей военной и гражданской власти.
Умеренные и правые министры, что еще оставались в кабинете Керенского, подали в отставку. Некоторые из них надеялись, что Корнилову понадобится свое правительство и они в него войдут.
Керенский принял отставку министров и в лучших традициях Великой французской революции объявил Корнилова врагом народа.
Корнилов, получив анафему Керенского, тут же предал анафеме премьер-министра, объявив его тоже врагом народа. Верные Корнилову части пошли на Петроград: Кавказская туземная «Дикая» дивизия шла на Царское Село, 1-я Донская казачья — на Гатчину, и остальные дивизии третьего конного корпуса — прямо на Петроград.
И произошло то, чего не предполагал ни Корнилов, ни командующий шедшими на Петроград дивизиями генерал Крымов по прозвищу Железный Человек, ни сам Керенский.
Сведения об армейском перевороте вызвали всеобщее негодование. Возродилась формула, рожденная во Франции, — «Революция в опасности!». Еще вчера ты проклинал это правительство, ворчал, что в магазинах нечего купить, что глава государства только и умеет, что бесконечно разговаривать и посещать различные города, махать руками перед народом и давать ему пустые обещания. Но тот же обыватель, проклинавший правительство, понимал, что впервые в его жизни и в жизни его предков — это правительство создано им, что Советы, заседающие на нашей улице, — это его органы власти и все вместе — это его свободная Россия, от обладания которой он еще не устал, как молодой любовник.
Кондуктор трамвая, гимназист или ткач, которые поспешили с утра 27-го числа искать сборные пункты, чтобы выйти на фронт против казаков и черкесов — непопулярных по прошлым годам «цепных псов царизма», — были безоружны и, кроме энтузиазма, вряд ли что-либо могли противопоставить конным сотням донцов, но пехотные полки, расквартированные в Петербурге и благополучно почивавшие на лаврах после того, как свергли царя, и не желавшие отправляться на фронт, завели броневики и выкатили пулеметы.
Но пустить их в дело не смогли. Мятеж рассыпался: железнодорожники загнали составы с карателями на запасные пути, а агитаторы из Питера поспешили разъяснить казакам, что дело их проиграно.
Так произошла невероятная победа Временного правительства — в войне между генералами и Керенским был сделан лишь один выстрел: узнав, что конница отказывается продвигаться к Петрограду, застрелился Железный Человек, командующий наступлением генерал Крымов.
Керенский победил.
И в этом была неправда. И чтобы осознать, что это неправда, Керенскому понадобилось некоторое время, а времени на размышления у него не было. Он продолжал говорить, говорить, говорить, полагая, что теперь-то времени у него в избытке.
А в самом деле победили в этой бескровной войне большевики — хоть и были почти в подполье, хоть и были гонимы и все еще несли на себе каинову печать германских шпионов, якобы приехавших в Россию из Швейцарии в запломбированном вагоне. Именно они доказывали, что нельзя верить генералам, и оказались правы.
Наступила мирная пауза — силы, занятые перетягиванием каната, как бы переводили дух, приспосабливались, как лучше упереться ногами в скользкий глинистый грунт, пугали друг друга криками и угрожающими жестами. В партийных центрах шла возня — боролись за власть, считали голоса избирателей.
А под внешним покровом спокойствия зрели и все более проявлялись новые силы — силы национальные, так как империя была многоязыкой и держала народы в узде железной рукой. И первой из колониальных держав Россия отпустила вожжи, объявила громогласно о том, что свобода должна быть распространена на всяк сущий в ней язык. И языки не намеревались оставлять эти обещания на бумаге.
Пока в Петербурге и Москве большевики и эсеры спорили о том, как свергнуть Керенского, все сильнее была мысль национальная — мысль об уходе малых народов из империи против воли России, кто бы ни стоял во главе ее.
Осень 1917 года для большинства российских обывателей, не подозревавших о потайных течениях политики, была обыкновенной, заполненной житейскими трудностями, надеждами на скорое окончание войны. Надо было зарабатывать на хлеб насущный, раздобывать одежду и обувь, в которых испытывался недостаток, отправлять детей в гимназию или кадетский корпус, лечить стариков, собирать урожай и ждать, когда же все ужасное останется во вчерашнем дне, потому что живем мы так плохо, как никогда раньше не жили, но надо немного потерпеть, и мы заживем, как до войны…
Гостиницу «Белград» в Батуме содержал Отар Ахвледиани. Она представляла собой двухэтажное старое здание, сложенное из толстых бревен и обнесенное галереями, на которые выходили двери номеров, до войны она именовалась пансионом «Вена», в начале войны Отар переименовал пансион в честь многострадальной сербской столицы, отменил общие завтраки и обеды в обширной столовой первого этажа, а установил там бильярд. Штабные офицеры играли на бильярде и громко ругались, отчего деревянные галереи содрогались и скрипели. В углу бильярдной помещалась стойка, за которой стояла жена Отара и быстро разливала чачу или вино клиентам, которые спешили вернуться к столу.
От порта до гостиницы было рукой подать, тем более что у Андрея вообще не было багажа, отчего он вдруг почувствовал неловкость и начал рассказывать Ахмету и Лидочке, что вез из Трапезунда прессованный инжир в подарок Лидочке.
Говоря так, он не смотрел на Лидочку, как будто бы смотреть на нее было запрещено гаремными правилами, будто она принадлежала Ахмету или султану турецкому, а Андрей был ни при чем.
Лидочка шла рядом, но не брала его под руку, Ахмет шагал с другой стороны, тоже на некотором расстоянии — все трое были напряжены, и всем было неловко, но чувство это исходило от Андрея — он так и не мог еще перейти от гибели «Измаила», от собственного чудесного спасения, к обыденной безопасности Батума. Ахмет с Лидой появились слишком неожиданно, и в них еще Андрею предстояло поверить.
А так как Андрей не мог и не стал объяснять причину своего состояния, то его друзья решили, что он чем-то недоволен, и оба испытывали обиду — как люди, пришедшие в гости с дорогими подарками и вместо благодарности услышавшие предложение унести эти подарки обратно.
У порта стояли пролетки — все извозчики Батума съехались к порту, заслышав о том, что везут потопших.
— Мы без вещей, — сказал Ахмет, — мы пешком дойдем.
Ближние горы казались коричневыми, а дальние — изумрудными; из кофеен пахло молотым кофе, в них сидели греки и грузины и глядели на миноносец. Событие сегодняшнего дня было не сравнимо ни с одним событием последних лет. Андрей провел ладонью по шву брюк, шов еще был влажным — так недавно Андрей плыл по морю.
Гостиница «Белград» пряталась за деревьями и была почти не видна с дороги.
Они вошли внутрь, и тут же, как принесенная ветром, появилась худенькая невесомая старуха с благородным лицом.
— Он живой! — воскликнула старуха, словно Андрей был ее родным сыном. — Я же говорила, что он живой!
Мадам Ахвледиани знала, что муж Лидочки должен приплыть на «Измаиле», и, разумеется, знала, какое ужасное несчастье приключилось с этим пароходом. Она места себе не находила, пока Ахмет с Лидочкой были в порту. Ее супруг Отар тоже был, конечно, в порту, и кому-то приходилось оставаться в номерах — так что мадам томилась от неизвестности, — и тут такой подарок судьбы!
Мадам Ахвледиани желала приготовить что-нибудь для молодого человека, который избегнул смертельной опасности, но гости отказались. Сказали, что поедят в городе — не беспокойтесь. Сейчас переоденутся и пойдут в город.
Они поднялись в комнату к Ахмету — комнаты Лидочки и Ахмета были рядом, на втором этаже. В комнате было прохладно — галерея давала плотную, прохладную тень. Посреди комнаты низкие плетеные кресла окружали столик, на котором стояли кувшин с водой и стаканы.
— Ну что ж, с приездом, — сказал Ахмет. — Надо бы выпить за твое спасение, но я теперь не пью.
— И хорошо, что не пьешь. Независимо от религии, — сказала Лида.
Между ними была какая-то мысленная связь, близость, которая рождается от долгого общения. И Андрею она была непонятна и не очень приятна — словно он был лишним. Они его встретили, они о нем заботятся, они сейчас поведут его в магазин, чтобы купить одежду и ботинки, они его будут кормить обедом…
Андрей неожиданно встал и сказал:
— Жарко. — Он открыл дверь и вышел на галерею.
Он представил, как они переглянулись за его спиной и как Лидочка пожала плечами. Андрея потянуло пройти до края галереи и поглядеть, нет ли там лесенки вниз. Стараясь не шуметь, Андрей пошел по галерее и, когда дошел до ее конца, увидел, что лесенки там нет, но можно спрыгнуть на очень зеленый склон горы, уходящий сзади дома так круто наверх, что первый этаж казался отсюда подвалом.
Потом надо уйти склоном подальше от гостиницы, до самого моря, затем по гальке, вдоль воды, на север, и идти, пока не устанешь и не заснешь. А проснулся — пошел дальше, и так день за днем, пока не растворишься в этой стране и не забудешь сам себя. И будет у тебя другое имя, и какая-то скромная работа, а все, что было до этого, — исчезнет и забудется.
Стоя у перил галереи, Андрей мысленно уже шел берегом моря, вдоль самой воды, порой поднимаясь повыше, чтобы не достала на излете мягкая волна.
Он не услышал, как подошел Ахмет.
— Ты сердишься? — сказал Ахмет. — А почему, не поймем.
— Ты уже за двоих говоришь? — спросил Андрей.
— Нет, я только за себя, но с уважением. А если ты, дурак, что-то думаешь, то ты и есть дурак, — сказал Ахмет.
— Я ничего не думаю, — сказал Андрей.
— Я сегодня уеду, — сказал Ахмет. — Нечего мне возле вас крутиться. И вообще вы мне все надоели — слишком тонко организованные натуры.
— Спасибо за заботу. Я не ожидал тебя здесь увидеть.
— И недоволен?
— Доволен и очень тебе благодарен за все.
— Наконец-то догадался спасибо сказать. Только мне твое спасибо не нужно. Ты лучше Лидочке спасибо скажи.
— Почему?
— Будь моя воля, дождались бы тебя в Ялте. Ничего бы с тобой не случилось.
— Вот уж верно, — улыбнулся Андрей.
— Ну и что? — воинственно произнес Ахмет. — Не каждый же день тонут транспорты! Один утонул, и хватит. А ты хорошо плаваешь.
— Надо было тебе удержать Лиду в Ялте, — сказал Андрей. — Ведь могло быть, что мы не пошли бы в Батум.
— Если бы да кабы, — заметил Ахмет, — то мой друг лежал бы на дне Черного моря.
Андрей пожал плечами — спорить не хотелось. Почему он должен быть всем благодарен? Они ждут благодарности.
— По крайней мере я бы ни о чем не беспокоился.
— Не капризничай, герцог, — заметил Ахмет, гладя указательным пальцем черные усики, которые совсем ему не шли и делали лицо хитрым. — Мы четверо суток тащились по Черному морю от одного грязного порта до другого на самой вонючей рыбацкой шхуне в мире. Ты знаешь, как пахнет попорченная скумбрия? И каюты там нет — только тряпкой отгородили от кубрика, а в кубрике трое мужчин, не считая меня, — так твоя Лидочка спешила, чтобы тебя снова не упустить. Мне стыдно, герцог.
— Тем более мне неприятно, что из-за меня вы пошли на такие жертвы, — упрямо, подавляя стыд, сказал Андрей.
— Чарльз Гарольда читал? — спросил Ахмет. — Очень на тебя похож. Одинокий, и никто не понимает.
— Чайльд Гарольда, — поправил Андрей. — Это знает каждый гимназист.
— Да я болел, — сказал Ахмет. — У меня была скарлатина, когда вы изучали лорда Байрона.
— Что-то вы много болели, Керимов Ахмет, — передразнил Андрей Дылду, — придется мне побеседовать с вашим отцом.
— Ой, господин надзиратель, — взмолился Керимов Ахмет, — мой папа такие больные, такие несчастные, такие бедные! Пожалейте меня!
Ахмет так чистосердечно завопил, что во внутренний двор выбежала мадам Ахвледиани и замерла, запрокинув седую птичью головку, а дверь в галерею открылась, оттуда высунулся батюшка в черной сутане и с распущенными по плечам волосами, с расческой в руке — вид у батюшки был крайне женственный и голос оказался очень высоким.
— Господи, — сказал батюшка, — ни минуты покоя.
Он машинально продолжал причесывание волос, медленно водя гребнем во всю длину прядей.
— Дети, — сказал Андрей сурово, — ну прямо дети! Попрошу разойтись по классам. Не позорьте меня.
— Вот именно, — сказал батюшка и ушел внутрь комнаты, как рыбина в глубину.
Когда они пошли в город, то в магазине мужского готового платья братьев Захариади они увидели знакомого батюшку, с волосами, заплетенными в длинную, но жидкую косицу. Батюшка покупал себе брюки с красными лампасами. Он стыдливо объяснял продавцу, что брюки — для брата, живущего под Ставрополем, но Ахмет тут же придумал драматическую историю о роковой любви батюшки к одной казачке, из-за чего тому приходится переодеваться казаком.
Они купили Андрею приличный костюм и всю остальную одежду, а Ахмет от себя, хоть Лидочка и возражала, небольшой, из натуральной кожи несессер.
— Это тебе на целый век, — сказал он Андрею.
А Андрей, который теперь способен был услышать в обычных словах совсем иной, связанный с его судьбой смысл, кивнул и сказал:
— Может быть, и на век.
Лидочка не слышала этих слов, она выбирала для Андрея запонки — они должны были быть скромными и в то же время достойными ее Андрюши. Запонки продавались с небольшой витрины, где лежали ремни, свернутые в тугие часовые пружины, заколки для галстуков, брелоки и цепочки для часов.
— У тебя часы хорошо идут? — спросила Лидочка.
— Что с ними станется?
— Они же в воде были.
Андрей спохватился, что нечаянно забыл об утренних событиях. Он поднес часы к уху — они молчали.
— Давай лучше починим, — сказал он.
— А может, новые купим?
— Я к ним привык, — сказал Андрей, — их мне отчим подарил в шестнадцать лет.
— Как знаешь, — сказала Лидочка. — Тогда пошли покупать ботинки.
На улице стало жарко и влажно — здесь было куда влажнее, чем в Трапезунде, может быть, оттого, что горы были покрыты пышными лесами, стекавшими к самой воде и готовыми поглотить Батум, если отсюда уйдут люди. Андрей уговорил друзей выпить сельтерской. Они уселись под навесом, и вкус сельтерской вдруг напомнил Ялту тринадцатого года и первую встречу с Лидочкой.
— Я сначала у тебя шляпу сбил, а потом познакомились, помнишь? — спросил Андрей.
— А я тогда думала, что тебе понравилась Маргарита.
Андрей накрыл ладонью кисть Лидочки.
Ахмет сказал:
— Не буду я с вами ходить по магазинам, не дело это для джигита.
— Спать — вот дело для джигита, — сказал Андрей.
— Встретимся за обедом, — сказал Ахмет, — Лидочка тебя проводит. Она знает. Мне сегодня уезжать, а дела еще не сделаны.
Ахмет церемонно откланялся.
— Если хочешь ревновать, — сказала Лидочка, — то оснований у тебя нет никаких. Ахмет сделал для нас больше, чем ты думаешь.
Андрей смотрел на Лидочку и старался найти в ней перемены — или хотя бы отражение перемен, происходящих в мире. Он как бы проверил — и в этом тоже была ревность, — на месте ли родинка на виске и так же ли правая бровь чуть выше левой.
Они еще долго просидели в том кафе и разговаривали. Они втягивались в разговор постепенно, и разговор, становившийся все более доверительным, возвращал им ощущение близости — Лидочка рассказала ему, как провела несколько дней без него, пока ждала вести из Трапезунда, как потом Ахмет нашел место на шхуне и как ужасно было это путешествие.
— Ну это зря, — говорил Андрей, — это совсем не нужно было. В море сейчас так опасно… ты же знаешь…
— Я рада, что приехала сюда.
На Лидочке было летнее платье с глубоким вырезом, открывавшим даже выемку между грудей, и в ней поблескивала капелька пота. Андрею вдруг захотелось поцеловать именно это место. И Лидочка перехватила его мысль, ее рука поднялась, закрывая вырез. Но тут же она улыбнулась и опустила руку.
— Здесь жарко, — сказала она.
— Получается, что ты моя должница, — сказал Андрей, смущенный тем, как Лидочка подсмотрела его мысль, — я тебя жду почти три месяца, а ты — две недели.
— Глупенький, какие две недели! Я чуть ли не полгода здесь прожила. Даже на твоей могиле была.
— Что? Я не понял, прости, я не понял шутки.
— Это не шутка. Я расскажу тебе все, только, если можно, не сейчас.
— Почему не сейчас?
Лидочка уже взяла себя в руки.
— Потому что это долгая история, а нам сначала надо купить ботинки. А то такие, как ты, утопленники все раскупят.
При этом слове настроение Андрея, так поднявшееся за последние минуты, рухнуло вниз, как с обрыва. Слово «утопленники», не означавшее для Лидочки ничего, кроме напоминания о собственном страхе, пока они ждали прихода миноносца, Андрею обернулось воем из открытых иллюминаторов «Измаила» и черными шариками человеческих голов на засоренном море вокруг транспорта.
— Извини, — сказала Лидочка, — я не подумала.
— Ничего.
— А это что было? Мина?
— Наверное, мина, — сказал Андрей. — Но это случилось, как раз когда искали другую мину.
— Другую?
— Но это тоже длинная история.
Андрей взял Лидочку за пальцы и, склонившись к ним, поцеловал — пальцы были прохладными, несмотря на жару.
Лидочка освободила руку и сказала:
— Здесь не принято.
— Мне плевать, — сообщил Андрей. — В конце концов, все знают, что ты моя жена.
— Кроме меня, — сказала Лидочка.
До обеда они успели побывать еще в трех магазинах. Андрей заметил, как оскудели прилавки за последние месяцы. Лидочка сказала, что так теперь везде — во всей стране. В России инфляция, и выражается она в исчезновении товаров — торговцы, ожидая будущих подорожаний, припрятывают товар, а промышленники не спешат поставлять его, тоже ожидая подорожания. Всем, кто что-то делает или продает, подорожание выгодно. А денег у тех, кто работает, больше не становится. И все понимают, что революция будет снова, только еще более кровавая и жестокая — уж очень народ разочарован в первой революции.
Андрей вполуха слушал ученические рассуждения Лидочки. В будущую новую революцию он не верил — наступала острая реакция на переживания этого утра, голова болела, движения стали какими-то замедленными, словно он продвигался в воде. Даже наклоняться, чтобы примерить ботинки, было трудно.
А еще хуже стало за обедом, особенно когда Ахмет уговорил его заказать по старой памяти шампанское. Он громко поспорил с Лидочкой, кто платит за обед, а у Андрея стала кружиться голова, и ему казалось, что он слышит, как совсем близко, внутри его, работает машина «Измаила», и он снова стоит в коридоре возле каюты, в которой разоружают адскую машину…
Лидочка почувствовала, что Андрею не по себе, и сказала, что надо вернуться в гостиницу. Андрею пора отдохнуть. Ахмет хотел было, чтобы они остались и выпили еще кофе, но Андрей согласился с Лидочкой — он был ей благодарен.
Они отошли довольно далеко от гостиницы, на улице не было видно ни одного извозчика — пришлось брести пешком, стараясь держаться в тени деревьев.
Навстречу им ехал извозчик.
В коляске сидел крестьянский сын Иван Иванович. При виде Андрея он пригнулся. Андрей догадался — схватился за злосчастный чемодан со своими контрабандными сокровищами.
Андрей хотел было засмеяться и рассказать друзьям о том, как они с Иваном Ивановичем тащили по морю проклятый чемодан, но извозчик уже уехал, а сил начинать рассказ не было.
— Сейчас, — сказал Ахмет, — он отвезет и вернется за нами.
— Нет, он не вернется, — сказал Андрей.
— А ты откуда знаешь?
— Иван Иванович заплатит ему любые деньги, только чтобы не вернулся и не сказал нам, куда он его отвез.
— Ты его знаешь?
— Мы вместе копали в Трапезунде и тонули на «Измаиле».
Еле живыми они добрели до гостиницы. Первым делом они ополоснули лица и руки в саду, где был устроен рукомойник. Здесь, под сенью больших деревьев, было прохладнее, и Андрею даже показалось на мгновение, что он сможет обойтись без сна. Но Лидочка знала лучше.
— Мертвый час, — объявила она, как в киндергартене. — Господа, мертвый час!
— Целый час? — обрадовался Андрей.
— Через час я вас бужу, мальчики, — сказала Лидочка. — Нам еще нужно о многом договориться, прежде чем Ахмет уедет.
Они поднялись на второй этаж.
— Вот наш номер, — сказала Лидочка.
Номер был таким же, как у Ахмета, — двухспальная широкая кровать, плетеные кресла и столик.
Лидочка быстро стала разбирать кровать.
— А ты где живешь? — спросил Андрей. Язык действовал с трудом. Глаза закрывались. Его покачивало, потому что «Измаил» еще не утонул, он несся по волнам к Батуму.
— Здесь же, — сказала Лидочка.
— Но я буду толкаться, — сонно пробормотал Андрей.
— Я не хочу спать, — сказала Лидочка.
Андрей не стал спорить.
— Отвернись, — сказал он, — мне надо раздеться.
— Я погуляю в саду, — сказала Лидочка.
— Спасибо, — сказал Андрей, которому не терпелось, чтобы Лидочка ушла — при ней ему неловко было раздеваться.
Андрей сел на край кровати, снял ботинки и уже не помнил, как раздевался дальше, — его начало укачивать… он снова был на транспорте, и надо было вырваться оттуда, чтобы не утонуть, как все остальные… сон был тяжелым, неровным, потным…
Андрей проснулся только вечером. И ему показалось, что он совсем не выспался, хотя проспал более трех часов.
Вечерело. В комнате было жарко. Свет заходящего солнца протянулся через весь пол и достал до кровати. Жужжали мухи.
Лидочка налила себе воды, и горлышко графина звякнуло о стакан.
— Сколько времени? — спросил Андрей.
— Седьмой час.
— Ужасно, — сказал Андрей. — А я как будто совсем не спал.
Он потянулся, откинул простыню.
— Все еще жарко, — сказала Лидочка.
Андрей смотрел на нее. Она стояла к нему вполоборота, пила воду, и солнечные лучи, наталкиваясь на нее, создавали вокруг оранжевое закатное сияние, которое точно обрисовывало линию груди и, пронизывая юбку, очерчивало ноги.
— Ты почему смотришь? — спросила Лидочка, оборачиваясь к Андрею и ставя стакан на столик, а солнце, подобно лучам рентгена, продолжало, незаметно для Лидочки, выдавать взору Андрея линию ее ног, словно Лидочка была совершенно обнажена.
— Иди ко мне, — сказал Андрей.
— Зачем? — спросила Лидочка низким, как бы не своим голосом, но подошла, остановилась в шаге от постели. Андрей приподнялся на локте и протянул к ней руку. Его пальцы дотронулись до ее бедра.
— Ты что? — спросила Лидочка, не двигаясь с места.
Андрей вскочил как животное — в мгновение. Он стоял рядом с Лидочкой в одних трусах — не заметил, как разделся, засыпая.
— Знаешь что, — сказала Лидочка. — Здесь, если идти кустами, по тропинке, — она не смотрела на него, а смотрела мимо на дверь, — то до моря шагов сто — не больше. Пошли искупаемся? Я ждала, когда ты проснешься, ну пошли, ладно?
Андрей приблизился к Лидочке так, что каждой клеткой своей кожи ощущал близость и теплоту ее тела — между ними был лишь незначительный слой воздуха.
— Не надо, — сказала Лидочка совсем тихо и подняла глаза на Андрея — на мгновение — и сразу же отвела взор, как будто испугалась, увидев что-то в глазах Андрея.
— Я люблю тебя, Лида, — сказал Андрей.
— Я тоже, — сказала Лидочка. — Пошли купаться, да?
Она сделала движение, чтобы отдалиться от Андрея, но, хотя он до нее не дотрагивался, не смогла двинуться, словно притянутая магнитом.
Андрей положил ей руки на плечи, еле прикрытые легкой тканью платья, и потянул к себе, и Лидочка покорно и мягко прижалась к нему и приоткрыла губы, чтобы встретить его поцелуй.
Это был совсем иной поцелуй, чем прежде, — поцелуй был лишь первым шагом на пути к любви, и потому он был иной, совершенно открытый, податливый и даже беспомощный поначалу, — но с каждой секундой он становился все более настойчивым. Настойчивость эта исходила не только от Андрея — Лидочка всем телом своим, грудью, животом, бедрами гладила Андрея, раскрываясь перед ним и приглашая его войти в нее, только в те мгновения Лидочка и не подозревала, что ее тело зовет Андрея, — она лишь сладко, до головокружения, целовалась с Андреем и даже, как ей казалось, удерживала Андрюшу, который совсем потерял голову, от неразумных действий, от слишком горячих лобзаний — именно такими были пролетающие в голове утешительные и чуть лицемерные мысли Лидочки, а диктовались они телом, которое жаждало обмануть строгий девичий разум, который вот-вот прервет безумную сладость объятий, — потому что так не положено! Так себя хорошие девушки не ведут!
И тело, обманывая Лидочку, старалось продлить наслаждение — еще на секундочку, — видишь, ничего страшного не произошло! — и еще на секундочку… Господи, чего же такого в том, что язык Андрея ласкает ее язык, где он научился такому… и он прижимается к ней животом, бедрами… я же не знаю, что он делает… я в любой момент могу остановить его… Сейчас я остановлю его… мне ничего не стоит остановить его, но еще секундочку, пускай он поцелует мне шею — это же так приятно…
— Андрей! Андрюша… не надо! — Ее губы шептали эти не обязательные слова, которых Андрей мог и не слышать — а если и слышал, то отвечал на них так же несвязно, соглашаясь, со всем соглашаясь. — Андрюша, я не хочу, — шептала она, и тут ее охватил смертельный и сладкий ужас понимания, что она опоздала остановить Андрея, потому что она потеряла равновесие — совершенно непонятно, как это могло произойти столь мгновенно — в открытых на секунду глазах возникли темные планки потолка, — и тяжесть Андрея, который уже лежит на ней, и его руки — как она хочет, чтобы его руки скорее сорвали все с нее — она готова помочь — она готова раздеть и Андрея — но нельзя же! Все равно она его остановит, она не допустит этого… ну скорей же! — Андрюша, я прошу тебя… — Он совсем обезумел! Как остановить его?
А тело Лидочки, не рассказывая об этом настороженному и готовому к сопротивлению мозгу, устраивалось, двигалось, чтобы Андрею было удобнее — чтобы он мог скользнуть в нее — как можно глубже… ну как же он, глупенький, не может войти в нее? Ну чуть повыше… я тебе помогу…
Не смей ему помогать!
Она старалась что-то сказать, но, как назло, Андрей закрыл ей рот поцелуями, и невозможно было вырваться из-под его невероятного, уничтожающего ее веса — он был ужасным насильником, безжалостным, но она была непокорна, по крайней мере ей так казалось, и за это он в момент высшей сладости и сладчайшего желания, заставлявшего ее дрожать, словно от страшного холода, в этот самый момент он посмел сделать ей больно, и, когда она стала биться, потому что было на самом деле больно, он, по-мужицки грубый, не пожалел ее, не пощадил, а она никак не могла изгнать его, только чувствовала, как в ней вновь возникло вожделение, смешанное с болью, и оттого еще более острое.
— Да, — повторяла она, — мне больно, да, уйди… — Впрочем, может быть, слова были иными — ни она, ни Андрей никогда не вспомнили их и не пытались проверить — были ли вообще слова или был только стон и недолгий лихорадочный пароксизм удовлетворения…
И тут же оба почувствовали жару и духоту, поняли, что они совсем мокрые, к тому же в крови… Она лежала на спине, хотелось плакать, потому что все вышло совсем не так, как должно было выйти, — любовь должна быть из-под венца, прохладной, нежной… Лидочка никогда не любила брутальности и не одобряла Маргошкиного преклонения перед мужской силой и грубостью. Любовь — это нежность. И она не могла подозревать, что ее Андрей может оказаться… таким эгоистом. И думая так и отвернув голову, чтобы не видеть лица Андрея, она искренне не любила его и даже презирала себя за то, что оказалась недостаточно сильной, чтобы противостоять грубой силе. Она уже не помнила, как несколько минут назад стонала от наслаждения, возбуждая и соблазняя Андрея.
Глядя на пустую бурую стену гостиничного номера, слыша, как кто-то идет по галерее — совсем рядом, она поняла, что вся гостиница слышала, как Андрей рычал и мучил ее… «А я? Я кричала, отбивалась? Я не помню, но, наверное, я кричала. Как я теперь покажусь мадам Ахвледиани?»
Андрей чувствовал себя виноватым — он понимал, что ради собственной страсти он обидел Лидочку — навязал ей свое бессердечное и похотливое решение.
— Лидочка, — сказал он, приподнимаясь на локте, но она еще более отвернула от него лицо. — Лидочка, прости, так получилось…
Она не ответила.
— Я, честное слово, тебя люблю… и не брошу, не бойся.
— Как глупо! — разозлилась вдруг Лидочка. — Почему меня это должно пугать?
— Тебе больно? — Андрей произнес это с такой тревогой, что Лидочке стало не так противно.
— Ничего, потерплю, — сказала она, хотя ей не было больно.
— Я позову доктора? — Андрей сел, опустив ноги с постели.
— Не надо доктора, — сказала Лидочка. — Лучше оденься и принеси воды.
Лидочка натянула на себя простыню.
— Делай, как тебе сказали, — заявила она голосом убитой по неосторожности Дездемоны.
К тому времени, когда солнце зашло и с моря потянуло прохладным ветерком, оказалось, что Лидочка не столь разгневана на подавленного Андрея, как ей казалось раньше. И даже его требование первым делом с утра бежать в церковь, чтобы обвенчаться или хотя бы записать гражданский брак, вызвало у Лидочки снисходительную добрую улыбку женщины, вдвое старше этого кающегося мальчика.
Все еще настороженные, смущенные, но проникнутые взаимной нежностью, в сумерках возлюбленные отправились на поиски Ахмета, чтобы вместе поужинать на набережной, прежде чем Ахмет уедет.
Но Ахмета они не застали. Мадам Ахвледиани передала им от него записку, в которой Ахмет кратко, сделав в трех строчках шесть грамматических ошибок, сообщал, что отправился, как и собирался, в Ялту, а попрощаться не смог, потому что «вы были заняты». Он желал счастья и ждал встречи. И все.
Записка привела Лидочку в ужас. Она догадалась, что Ахмет приходил прощаться в самый неподходящий момент. Ей даже расхотелось есть, и она вернулась в номер. Но Андрей сходил на набережную и принес миску душистой горячей долмы, охапку зелени, кофейник с кофе и лаваш.
Они славно поужинали, а потом Лидочка сама предложила пойти погулять к морю.
Берег был совсем пуст, и небо над морем было фиолетовым от нависших облаков — в эти облака давно уже спряталось солнце, но темнота еще не наступила. И тогда Андрей понял, что он глядит на то место, где погиб «Измаил», — сегодня же утром! Не может быть, чтобы в один день могло вместиться столько событий.
На море смотреть было страшно — потому что глаза отыскали именно ту точку, в которой скрылся транспорт, и, проследив вглубь, на несколько сотен саженей, он увидел явственно, будто в действительности — с Андреем сегодня уже было такое, — лежащую на борту черную громаду теплохода. И почему-то Андрею казалось, что иллюминаторы корабля зеленовато светятся — и к ним изнутри прижались лица раненых, которые все еще живы и надеются на помощь.
— Что с тобой? — спросила Лидочка.
— Ничего, я вспомнил.
— Может, тебе не надо купаться? — спросила Лидочка.
— Я сегодня уже плавал. Ничего не случится.
Но Лидочка была права: когда он вошел по колени в воду и волны, маленькие и ласковые, начали толкаться о ноги, ему стало страшно, что именно сейчас к берегу вынесет тела погибших.
И он не смог поплыть. Кое-как помывшись, он вышел из воды, уселся повыше на берегу и стал смотреть на Лидочку, которая деловито стирала, будто всю жизнь только этим и занималась.
— Если тебе неприятно у моря, ты иди в гостиницу.
— Узел надо донести, — сказал Андрей.
— Не бойся, Андрюша, я донесу.
И только тут Андрей понял, что она разговаривает с ним так, словно между ними произошло нечто обыкновенное — не требующее изменения их отношений, не ведущее к обиде или расставанию, чего он так испугался.
В полумраке он видел лишь ее гибкий и быстрый силуэт, и образы погибшего корабля незаметно исчезли.
Они вернулись в гостиницу в полной темноте — узел с мокрым бельем оказался страшно тяжелым и неудобным, кусты хватали за плечи и узел. Андрей и Лида ломились к дому, словно стадо слонов, и с галереи на них смотрел уже знакомый батюшка, который причесывал перед сном свои бесконечные длинные волосы.
В комнате горела настольная керосиновая лампа под зеленым абажуром. Андрей стал рассказывать о раскопках и последнем путешествии «Измаила». Лидочка сказала, что не очень хорошо себя чувствует и хочет лечь. Андрей вышел на галерею. Он почти ожидал увидеть там батюшку, но вместо этого увидел, как по галерее, удаляясь от него, идут под руку супруги Авдеевы. В страхе, что они оглянутся, он прижался спиной к стене. Но они не оглянулись.
Андрей вернулся в комнату.
— Потуши лампу, — сказала Лидочка.
Андрей прошел к креслу и сел в него.
— Я немного почитаю, — сказал он.
— Конечно, спокойной ночи, — сказала Лидочка, истолковав его слова как нежелание приблизиться к ней. Она сама виновата, теперь надо терпеть. Сама виновата.
А Андрей просто робел — он понимал, что надо ложиться в кровать, и понимал, что он захочет повторить то счастье, что испытал вечером, но этого делать нельзя, чтобы снова не сделать больно Лидочке. Но как победить собственное тело?
Он просидел минут двадцать, ожидая, что Лидочка уснет. А Лидочка старалась дышать ровно, чтобы он не догадался, что она хочет заплакать.
Наконец Андрей подошел к кровати. Глаза Лидочки были закрыты. Может, лечь на полу?
— Я не буду тебе мешать, — сказала Лидочка тихо. — Ложись.
Он разделся и осторожно лег так, чтобы не касаться ее. Но старая кровать, тут же прогнувшись в середине, скатила его в центр, к Лидочке. Они оказались как на дне гамака.
— Прости, — сказал Андрей. — Это кровать.
Она не ответила, и тогда он осторожно и нежно поцеловал ее в щеку. Лидочка обернулась к нему и стала нежно-нежно, медленно-медленно целовать его брови, глаза, нос, губы… И, задыхаясь от нежности, он вошел в нее. Так они стали мужем и женой.
Уйдя подальше от оживленных улиц города на пустынный берег, Андрей с Лидочкой устроили большой совет. Сначала они гуляли по берегу, но потом поднялись подальше — отыскали поваленное бревно.
Было еще утро, совсем не жарко.
В сущности, они оказались бездомными и бесприютными.
Что им оставалось?
Уехать в Ялту и скрываться там в лесу вместе с аскерами Ахмета — уже наступала осень, а дальше что делать? Ждать новой революции? Ведь когда бежали сюда, в семнадцатый год, то были убеждены, что к этому времени закончится война, что отыщутся настоящие убийцы отчима. Но ничего подобного не случилось. И даже попытки Ахмета и его друзей помочь Андрею в Ялте отыскать настоящих убийц ничего не дали.
Можно вернуться в Симферополь, хотя остается опасность, что появится Вревский. И что же делать в Симферополе? Торговать? Устроиться на службу? Нет, надо пробиться в Москву. Но она так далека и почти недостижима…
— Как жалко, что я не революционер, — сказал Андрей, любуясь профилем Лидочки и совсем не жалея, что он не революционер, а думая, что сегодня вечером он ляжет в постель с этой девушкой, она обернется к нему, прижмется всем телом и обнимет. От этой мысли Андрея обуяло такое немедленное и острое желание, что он потянулся к Лидочке, а та, уже научившись чувствовать его настроение, отстранилась и сказала лукаво:
— Нет, ты что! Ты же теперь на мне не женишься!
— Женюсь! — закричал Андрей.
— А я не соглашусь — вы не герой, господин студент.
— Это еще совершенно неизвестно, — сказал Андрей, — должен сказать, что, когда мы плавали в воде после гибели «Измаила», я помог Ивану спасти его чемодан.
— Нет, ты не герой, — повторила Лидочка убежденно, и слышать это было обидно, а возражать — невозможно.
— Значит, ты хочешь, чтобы я стал революционером? — спросил Андрей, стараясь остаться в пределах шутки.
— Только выбери себе что-нибудь умеренное.
— Умеренного не бывает. Чтобы стать героем, надо кинуть бомбу.
— Ни в коем случае! Мне нужен не герой.
С невысокого холма, на котором они сидели, берег был виден далеко — линия его, ровно отороченная полосой гальки, тянулась гигантским узким серпом до самого горизонта. Кое-где по берегу бродили маленькие человечки — они искали что-то среди водорослей, выкинутых на берег. В руках некоторых были палки и багры. Один из людей в закатанных по колени штанах вошел в воду и начал багром вытаскивать из воды какое-то бревно.
Андрей приподнялся. Он уже понял, что люди подтащили к берегу человеческое тело и начали его раздевать.
— Подожди, я должен…
— Ты куда?
— Там человек! Там человек — утонул.
— Не надо, — сказала Лидочка уверенно, — мне сегодня утром госпожа Ахвледиани сказала — со вчерашнего вечера местные жители ищут, что выкинуло с «Измаила».
— Это с «Измаила»?
— Я не хотела тебе говорить, тебе, наверное, неприятно.
Андрей все же поднялся и начал спускаться с холма. Он хотел увидеть лицо утопленника — он боялся и желал знать, кто это. Он же ничего не знает о судьбе Российского и Карася.
Андрей быстро сбежал с холма и направился к людям, что стаскивали с трупа одежду.
Один из них при виде Андрея обернулся к нему и угрожающе поднял багор.
— Давай отсюда! — крикнул он.
Это был местный турок, он был обнажен до пояса — грудь и плечи его были покрыты густыми черными волосами.
— Андрюша, пойдем отсюда, — сказала Лидочка и тут же добавила, уже обращаясь к турку: — Мы уйдем, мы сейчас.
— Пусти, — сказал Андрей, — я же там был.
— Он там был, — сказала Лидочка, как бы прося у турок прощения за назойливость Андрея.
Андрей остановился. Он смотрел на человека — тот был ему незнаком. Турок сел на корточки и стал стаскивать с пальца обручальное кольцо. Лидочка потащила Андрея прочь. Второй турок глядел вслед, приподняв багор.
— Ну чего ты добьешься? — говорила Лидочка. — Чего? Они же тебя убьют.
— Неужели некому охранять берег?
— Пошли, пошли в гостиницу.
Но Андрей сопротивлялся.
— Надо похоронить, — говорил он, — похоронить же надо!
Несмотря на Лидочкины возражения, он все же пошел к военному коменданту.
Пока они отыскали этот дом, стало совсем жарко. Самого коменданта не было — отбыл в Тифлис, но попался сочувствующий прапорщик в пенсне. Он тут же стал звонить в управление тыла и, когда там никто не отозвался, пообещал отыскать какого-то офицера, который ведал охраной побережья.
Когда они вернулись в пансион, Андрея начало трясти — наступила запоздалая реакция на вчерашние события. Лидочка даже хотела позвать врача, но Андрей умолил ее не спешить. Мадам Ахвледиани принесла настой, сделанный ею для господина Отара. Настой был горьковатый, пахнул мятой.
Андрей заснул и спал часа два. Разбудил его прапорщик из комендатуры. Оказывается, он включил Андрея в комиссию по погребению погибших на «Измаиле». По странному стечению обстоятельств, от городских обывателей туда оказался включен господин Отар Ахвледиани, а от пассажиров еще профессор Авдеев. Остальные были военными, и возглавлял их комиссар милиции. Со следующего дня Андрей с горячностью отдался этому делу. Он ощущал себя в долгу перед теми, кто погиб на «Измаиле». Авдеев же после первого заседания стал манкировать обязанностями. Он был подавлен событиями и более всего потерей прибыли, о чем доверительно сообщила Андрею Ольга Трифоновна.
— Надеюсь, Андрюша, даже на Страшном суде никто не узнает о том, что случилось в нашей каюте? — говорила она, тяжело вздымая массивную грудь.
Оказалось, что всего на борту «Измаила» в тот день было пятьсот сорок три человека. Хоть цифрам этим нельзя было верить, они давали приблизительное представление. Спаслось чуть более ста человек, из трехсот раненых в живых осталось не более дюжины. Андрей сначала думал, что всех остальных «Измаил» утянул в глубину, но оказалось, что это не так. В последующие дни море выбрасывало на берег все новые и новые тела. Тела привозили и моряки. Первые дни местные мародеры грабили и раздевали трупы и собирали по берегу вещи, выброшенные волнами. Но уже к вечеру второго дня, после визита Андрея в комендатуру, вдоль берега пошли солдатские патрули, и местные жители, огрызаясь и чувствуя себя лишенными веками освященной добычи, умерили дальнейшие походы к морю.
Труднее всего было собирать трупы и везти их в морг при госпитале городской больницы. Понятное дело, морг был переполнен, и уже на следующее утро главный врач приказал выкопать братскую могилу и неопознанных покойников предать земле. Возле морга толпились родственники — из тех, кто ждал транспорт в Батуме или успел приехать из близких мест. Так получилось, что команда «Измаила» была в большинстве своем вольнонаемная и набрана именно в Батуме.
У морга разыгрывались душераздирающие сцены, и Андрей старался не ходить туда без крайней нужды. Но самая страшная история произошла на четвертый день, на самом берегу.
Родители одного из кочегаров «Измаила» в тщетной надежде отыскать сына выходили многократно на берег и осматривали все тела. Вечером море разыгралось, и у них возникла надежда, что волнение выбросит их сына. Старики поспешили к морю, а в то же время туда пришли местные мародеры, движимые подобными же надеждами. Пошел дождь, поднялся сильный ветер, и с наступлением темноты солдаты, которые патрулировали берег, попрятались от непогоды. Так что, когда родители кочегара увидели группу турок, раздевающих раздувшееся, почти неузнаваемое тело их сына, никого, кроме них и мародеров, на берегу не было. Произошла драка, в которой родители кочегара были зверски убиты, но и убийцы немало пострадали — один из них скончался, потому что отец кочегара был вооружен.
Андрей был вызван туда и успел к берегу одним из первых. На всю жизнь он запомнил воющий из темноты ветер, несущий с моря мокрые брызги и запах соли, колеблющиеся фонари у самой воды, тела стариков, лежащие по обе стороны трупа их несчастного сына, и выше — отползший от воды мародер, даже в смерти сжимающий в клешне левой руки размокший ботинок кочегара. Выли и причитали родственники грабителя, окружившие его тело.
Все кончилось, рассуждал Андрей, возвращаясь в тот вечер под дождем в гостиницу. Теперь они мертвы все трое — сын, отец и мать (он знал уже, что кочегар был единственным ребенком у родителей), и некому печалиться и лить слезы — стало лучше, чем было вчера, когда на свете были живые люди, сердца которых разрывались от скорби по сыну, — теперь они уже ушли от земных забот и горестей. Значит, все хорошо кончилось. Ведь он, Андрей, теперь также никому уже не сможет принести горя — родных его более не существует. «Человек должен быть один. Зачем мы стремимся добровольно наложить на себя путы страданий? Может, я плохой христианин, если так рассуждаю? Или уже не христианин? Когда я в последний раз был в церкви?..»
Ветер стих, дождик моросил уныло, по-осеннему, и Андрей понял — Господи, наступает осень! Настоящая осень 1917 года — года революции, года великих потрясений. Завершится ли он мирно или последние месяцы чреваты новыми потрясениями? Сможет ли Временное правительство удержать страну над пропастью? Глупо, когда правительство само себя зовет временным. Отказывает себе в постоянстве, значит, вправе судить и рядить в нашей азиатской стране. Оно неразумно, как меньшевики, — согласившись на такое название, эти эсдеки подписали себе смертный приговор — какой же простой русский человек захочет следовать за маленькими, слабыми… временными. Все партии должны быть большими, и все правительства — постоянными!
За несколько дней Андрей осунулся, похудел. Пожалуй, он единственный в комиссии отнесся к своим обязанностям серьезно, хотя менее остальных был готов к этой работе, — его сотоварищи прожили день за днем три военных года, Андрей их пропустил.
В те дни с Андреем случился курьезный эпизод, которому он не придал тогда значения. Он возвращался из комендатуры поздно, устал, потому что весь день провел, мотаясь между моргом и берегом: в тот день была непогода и выбросило много тел — их надо было найти, охранить от мародеров и перевезти в морг, где они никому не были нужны.
Андрей представил, как ему сейчас придется тащиться до гостиницы — полчаса, не меньше, по неосвещенным улицам, — и загрустил. И тут же, как бы в ответ на невысказанные мысли, сзади послышался стук копыт и скрип колес — Андрея догнал извозчик, который возвращался к себе домой, и ему оказалось с Андреем по дороге.
Лицо извозчика показалось Андрею знакомым, о чем Андрей ему сказал. Тот в ответ засмеялся и сказал:
— Как же! На той неделе вы мне рукой махали. Вы еще с усатым парнем были и девушкой-гимназисткой. А я Иван Ивановича вез.
— Точно! — обрадовался узнаванию Андрей. — Но вы же видели нас одну минуту, не более.
— Я бы, может, и не запомнил, — сознался извозчик, — но Иван Иванович очень вам не обрадовался. Гони, говорит, гони. Вот я и поглядел — думаю, что может в таких птенцах, вы уж простите меня, быть опасного для Ивана Ивановича?
— А вы его знаете?
— Он не то чтобы местный, но до войны наезжал сюда, его сестра здесь дом имеет.
— Имение? — сорвалось у Андрея.
— Какое там имение — слово одно… Так и зовется: дача Покровской. Она на лето комнаты сдавала, кто приезжал на купания.
Андрей хотел рассказать об этом Лидочке, но, когда он вернулся, она уже спала — свернулась калачиком в плетеном кресле возле лампы, — ждала-ждала Андрея и заснула.
Андрей старался ходить тихо, на цыпочках, но Лидочка проснулась, была виноватая, и Андрею стало смешно.
А на следующее утро в паршивом настроении от неизбежных дел наступающего дня он забыл об Иване крестьянском сыне.
Не имевшему своего дома Андрею пансионат «Белград» казался олицетворением домашнего очага — теплоты и уюта. Когда он подходил, еле волоча от усталости ноги, к этому дому, Лидочка ждала его на галерее — ее силуэт был подсвечен сзади желтым светом из открытой двери в комнату.
Лидочка угадала Андрея издали, когда он проходил под фонарем по дорожке, ведущей к пансионату.
Было слышно, как ботинки Андрея шуршат по мелкой гальке. Лидочка подняла руку, узнав Андрея.
— Завтра надо будет сходить в церковь, — сказал Андрей, войдя в комнату. — А то мы с тобой не обвенчаны и живем в грехе.
— Не шути этим. — Лидочка покраснела.
— Не хочешь, не надо, — сказал Андрей, — я согласен жить в грехе.
Он попытался обнять Лидочку, но она вырвалась.
— Что там? — спросила она. — На море?
— Плохо, — сказал Андрей. — Потом расскажу.
Лидочка не стала настаивать.
— У меня тоже новость, — сказала она, — смотри.
Она протянула ему конверт. Адресованный господину и госпоже Берестовым. Батум, почта, до востребования.
— Как ты догадалась? — спросил Андрей.
— Господин Отар принес — у него там кузен служит.
— Ты прочла?
— Разумеется. Я сразу догадалась, от кого.
— От кого?
Андрей ждал от письма дурного и потому не спешил его открыть.
— От пана Теодора, — сказала Лидочка.
— От пана Теодора?
— Ты забыл?
— Ты с ним была в том, другом времени… — вспомнил Андрей, — где меня, по твоему утверждению, уже убили.
— Это так, и в том нет ничего смешного.
Андрей разорвал конверт.
Письмо начиналось с добрых вестей. Господину Теодору удалось установить, что угроза безопасности Андрея, и без того незначительная после закрытия дела в ялтинском суде, вовсе исчезла, потому что в начале сентября гражданин следователь Вревский покинул службу и отбыл в Новороссийск к родственникам, которые пристроили его компаньоном в небольшом деле по поставкам сапог для армии. Так что теперь Андрей может спокойно возвратиться в Симферополь.
Мне также было бы полезно ваше пребывание в Симферополе,
— продолжал пан Теодор. —
В ближайшие недели я побываю в этом городе. Возможно, мне понадобится ваша помощь. Так что я прошу вас, Андрей и Лида, пожить в Симферополе до конца декабря.
Андрей перевернул страницу письма, и Лидочка воспользовалась заминкой, чтобы сказать:
— Если бы не он… и не твой отчим, нас бы здесь не было.
— И может быть, к лучшему, — буркнул Андрей.
— А я так не думаю. По крайней мере я с тобой.
Андрей продолжил чтение:
Надеюсь, вы не будете сердиться на меня за то, что я бесцеремонно вмешиваюсь в вашу жизнь. Но если вы возьмете за труд задуматься, то согласитесь, что связи между мной и вами, между всеми нами, пловцами в реке времени, по необходимости куда более тесные, нежели между нами и всеми обитателями Земли. Миллионы людей, окружающие вас сегодня, не более как фигурки за окном летящего вперед поезда. Не успели вы приглядеться к ним — и они уже исчезли в недосягаемом прошлом, словно растворились в мареве на горизонте. И лишь ваши попутчики в вагоне или в следующем поезде, куда вы перешли после пересадки, остаются с вами достаточный промежуток времени, чтобы вглядеться в их лица и понять их тревоги. И совсем ничтожное число людей в этой Вселенной оказываются вашими попутчиками надолго. Для вас пока я — единственный постоянный спутник. И не следует роптать на судьбу — вы вольны остановиться и остаться там, где вы сейчас находитесь. И подобные случаи уже бывали. Но скажу — и не потому, что я претендую на роль пифии, а только основываясь на собственном опыте, — что вы уже не сможете отказаться от движения впереди потока и вне потока. Это болезнь, и, как больной давний, хронический, могу сказать, что в этом наше с вами проклятие и наше с вами счастье. Счастье быть иными. Так что я надеюсь, через несколько недель вы будете в Симферополе и мы с вами неспешно поговорим.
Ваш Теодор.
— Я согласна с ним, — поспешила сказать Лидочка, прежде чем Андрей разразился гневной филиппикой. — Сейчас уже не время рассуждать — кто виноват. Так случилось. Мы оторвались с тобой от корней, и нас несет, как перекати-поле.
— И не подумаю соглашаться с тобой, — сказал Андрей после паузы, словно своим вмешательством Лидочка выбила у него оружие. — Я живу здесь, я самый обыкновенный человек.
— Только моложе Ахмета, своего ровесника, на три года.
— Не цепляйся к деталям, — сказал Андрей. — Разница несущественна. Да, нам с тобой пришлось убежать из того года, потому что мне грозила опасность. И я тебе благодарен за то, что ты разделила эту опасность со мной. Но теперь — ты же видишь, — Андрей показал на письмо, которое Лидочка положила на стол, — Вревского нет, дела об убийстве отчима нет. Мы с тобой живем вместе. И нет никакой нужды более убегать в будущее.
— Я мечтаю о том же. Ведь я по натуре домоседка. Скорей бы кончилась война!
— Теперь уже скоро. Надо читать газеты. Дни Германии сочтены.
— А если начнется новая война?
— С кем же?
— Не надо саркастического тона, Андрюша. Может, с Турцией, с Китаем.
— Лучше скажи — с марсианами!
— А если будет война внутри России?
— У нас была революция! Больше не будет.
— Все равно я с тобой не согласна. Я не зарекаюсь.
За ужином Андрей возобновил спор.
— Мы с тобой как птицы, — сказал он, — как домашний гусь Мартин, который летал в Африку.
— Я подозреваю, что, вернувшись в птичник, Мартин забыл про Африку, — возразила Лида. — Женился, развел детей. Нужна ли Африка домашним гусям?
— Нужна, — сразу ответил Андрей, — чтобы не попасть на сковородку. Домашние гуси не знают, что от сковородки можно улететь. А мы знаем.
Лидочка пожала плечами, поднялась из-за стола, начала убирать тарелки. Они теперь столовались в своей комнате — это было дешевле и чище, — в Батуме уже были случаи холеры, которую принесли из Турции солдаты.
Она понесла посуду на веранду, чтобы спуститься на задний двор и там ее помыть. Андрей смотрел ей вслед — платье Лидочки было чуть тесно, это было прошлогоднее платье.
В дверях Лидочка остановилась, гневно обернулась и сказала:
— Не смей так смотреть на меня!
— Почему?
— Потому что ты меня раздеваешь — я всей спиной чувствую.
— У меня и в мыслях такого не было! — возмутился Андрей. — Я просто смотрел.
— Тогда мне тем более обидно, — непоследовательно сказала Лидочка и исчезла с глаз.
Покинуть Батум оказалось нелегко. Андрей рассчитывал, что ему помогут в комендатуре, — не зря же он две недели занимался, в сущности, филантропической деятельностью. Но обнаружилось, что шапочные знакомства, заведенные Андреем среди тамошних военных чиновников и врачей, ничего не могли дать — он все равно оставался чужим. К тому же с началом отступления на кавказском фронте обнаружилось немало влиятельных беглецов, которым было необходимо вырваться из Батума в Крым или Одессу.
Андрей ходил и в порт, разговаривал там со шкиперами и матросами, не гнушался и малыми шхунами, но безрезультатно.
С Авдеевым Андрей общался не более, чем необходимо. Он продолжал числиться в экспедиции, которая закончилась так неудачно, — даже рабочие тетради и записи, прорисовки и оттиски надписей — не говоря о ящиках с находками — покоились на дне Черного моря. Авдеевы, вложившие все свои средства, как понимал Андрей, в табак или другие контрабандные товары, были разорены. Им даже трудно было собрать денег, чтобы отъехать в Москву. Пока что Авдеев обивал пороги батумских тыловых управлений и гудел в тесных пыльных кабинетах, выпрашивая компенсацию.
В последний раз Андрей виделся с ними, когда хоронили Тему Карася. Карася море выбросило на четвертый день. Андрей добился выдачи тела экспедиции и похоронил в отдельной могиле. Он даже купил цветов, а Лидочка соорудила из них большой венок с лентами, на которых было написано золотом по белому:
«Незабвенному Артемию Иосифовичу Карасю от друзей и сотрудников по экспедиции».
После похорон Андрей представил Авдеевым Лидочку. Пока батюшка в небольшой кладбищенской церкви скороговоркой отпевал Карася — розового, гладкого, он был совсем не похож на утопленника, — Ольга Трифоновна успела рассказать Лидочке о жутком и безвыходном положении утонувшей экспедиции. Ольга сама уже верила в бескорыстие свое и супруга.
Российского так и не нашли.
Вскоре Авдеевы уехали в Тифлис — оттуда они полагали более удобным добраться до Москвы. В Тифлисе жили коллеги Авдеева. Андрея они с собой не позвали — более того, забыли попрощаться. Может, боялись, что Андрей будет проситься с ними.
Сентябрь стоял жаркий, душный, налетали грозы, и на море поднималось волнение. Всю ночь струи дождя колотили по окнам, и слышно было, как ухают валы, разбиваясь о гальку.
От духоты, шумных нервных ливней и безнадежности Лидочка стала капризной и раздражительной. Она не говорила, что жалеет о прошлом, но Андрей подозревал, что она именно так и думает. После первых двух ночей в их отношениях наступило похолодание — Лидочка испугалась, что у нее будет ребенок, именно сейчас, когда неизвестно, где самим приклонить голову. Андрей ложно истолковывал ее состояние — виня себя в грубости и все более опасаясь, что в один прекрасный день Лидочка предложит ему расстаться.
В понедельник с утра Андрей пошел в порт. Лидочка осталась в гостинице: у нее болела голова и немного лихорадило — Андрей испугался, не схватила ли она малярию, и велел не вставать с постели, обещав купить в аптеке хины.
Когда он подошел к порту, то увидел, что у пирса стоит транспорт, переоборудованный из пассажирского парохода. Он привез солдат. Андрей подошел, чтобы узнать, куда и когда транспорт намерен отправиться дальше, но никто ничего толком сказать не мог.
И тут его окликнули:
— Андрюша! — Аспасия, в темном длинном платье сестры милосердия и шляпе с вуалью, бежала к нему, подобрав край юбки.
— Госпожа Аспасия! Вы что здесь делаете? — Андрей обрадовался, увидев ее. Движения ее фигуры, наклон головы, линия пальцев — все это вызвало в нем прежние чувства, и в то же время Андрей, о чем Аспасия и не подозревала, повел себя как настоящий женатый господин — то есть оглянулся через плечо и даже отступил на полшага, как будто был уже виноват в неверности.
— Андрей! Как приятно родную физиономию увидеть, ты не представляешь! Ну как ты? Отойдем в тень, тут испечься недолго… иди сюда, дай на тебя погляжу — я уж волновалась, не знала, что с тобой. Но я думала, выплывешь!
— Господи! — загремел над ухом звучный баритон. — Неужто ты живой, а я за упокой твоей души литургию заказал. Ты мне теперь двенадцать рублей должен.
— Гриша, не говори так! — сказала Аспасия возмущенно.
— Не говорю, не говорю, знаю, ты мне эти деньги дала.
— Гриша!
Андрей понял, что военлет Васильев не лжет, — Аспасия в самом деле заказала литургию. Теперь ей неловко об этом вспоминать — вдруг Андрей обидится.
Но Андрею не было обидно — наоборот, он был растроган.
Они стояли в тени рифленого железного пакгауза. Кричали чайки, солнце было ослепительным, но уже не таким жарким, как две недели назад.
— Авдеевы уехали в Тифлис, — сказал Андрей. — Российского я так и не видел — и не знаю, где он, что с ним.
— Может, утоп? — спросила Аспасия.
— Не знаю, поэтому надеюсь. А вот Карась, фотограф наш, утонул. Мы его похоронили.
— Господи, прими душу грешную. — Аспасия перекрестилась.
— Нам Покровский нужен, — сказал Васильев. — Ты Покровского не видел?
— Ивана Ивановича?
— Ивана Ивановича, — подтвердила Аспасия. — О нем потом поговорим. Ты лучше расскажи — как устроился? Ты свою девушку встретил? Живете с ней?
— Встретил, — сказал Андрей, смутившись, будто эта встреча была изменой Аспасии. А в сущности, так оно и было.
— Я рада, — сказала Аспасия.
— А вы почему здесь?
— А ты давно Покровского видел? — загремел Васильев. Андрей подумал: чего-то не хватает. Черной повязки!
— Как ваша рука? — спросил он.
— Как надо, — ответил Васильев. Жестом фокусника он вытащил из кармана галифе черную ленту.
— Гриша, — сказала Аспасия, — у нас с тобой дело.
— Драпаем, — сказал Васильев упрямо. — Но в трудный момент кто рядом с Асей? Я, пьяница, никуда не годный штабс-капитан, лучший пилот на всем Черном море — вот кто рядом!
Васильев был пьян. Не настолько, чтобы шататься, но пьян.
— Трапезунд сейчас — плохое место, — сказала Аспасия, — но я оттуда не убежала. Я думаю — вернусь.
— Что, пришли турки? — Андрей не читал об этом в газетах, но газеты стали такими ненадежными. Они забывали о важном и тратили время на споры между партиями и радетелями за народ.
— Нет еще, — сказала Аспасия.
— Вы будете здесь жить?
— Нет, одного человека найдем и уедем.
— Покровского? А зачем он нужен?
— Когда ты его видел?
— На второй или третий день после того, как мы утонули. Наверное, он уехал. Если бы он остался, я бы его увидел.
— У нас к нему дело, — сказала Аспасия. — Если бы ты знал, где его найти, я бы тебе по гроб жизни была благодарна.
Андрей знал адрес его сестры. И у него не было оснований не помочь Аспасии. Но его остановил взгляд пьяного военлета и напряжение в голосе Аспасии — оба дышали часто, как гончие псы.
Конечно же, гончие псы!
— Чего он натворил? — спросил Андрей, попытавшись улыбнуться.
— Натворил? — Васильев был поражен. — Ваня? Мой друг Ваня, он — само послушание.
«Мой друг Ваня!» — это уж никуда не годилось.
Все осталось там, за морем. Выстрелы, ночные погони и блеск кинжалов отлично укладывались в экзотическую жизнь Трапезунда. Но Андрею так не хотелось продолжения этого в тихом Батуме!
— Вы замечательно сели на воду, — сказал Андрей Васильеву. — Очень ловко.
— Ничего особенного, — ответил летчик, — море было гладкое, как стеклышко. Не посадка — шутка. Так где же отыскать Ваню?
— Честное слово, не знаю. — Он обращался к Аспасии.
— Я верю, Андрюша, — сказала гречанка. — Где тебя искать, когда соскучусь?
— Мы живем пока в пансионе Ахвледиани. Тебе каждый скажет.
— Если мне нужно будет, я к тебе Гришу пришлю, — сказала Аспасия. — Мне появляться не с руки.
— Почему?
— Твоя девушка будет ревновать, — сказала Аспасия уверенно. — Она сразу догадается, как ты по мне сохнешь.
Андрей открыл было рот, чтобы возразить, но Аспасия захохотала, Васильев ей вторил.
Аспасия сняла шляпу, большая булавка в камешках упала на мостовую. Васильев поднял ее — Аспасия узким рукавом платья вытерла лоб. Ее жест был вульгарен.
— Вы на самолете прилетели? — спросил он.
— На «Кочубее» приплыли, — сказала Аспасия. — Он предлагал, но я лучше три раза утону, чем один раз с самолета упаду.
Больше говорить было не о чем.
— А он тебе про Поти ничего не говорил? — спросил Васильев.
— Кто?
— Кто-кто, Покровский, конечно.
— Нет, — с чистым сердцем ответил Андрей.
— Жалко, — сказала Аспасия.
Андрей понял, в чем странность разговора, — все время, о чем бы ни шла речь, мысли Аспасии и военлета были заняты Иваном. Им было трудно поддерживать разговор на иные темы.
Андрею хотелось уйти. Но вместо этого он спросил с неожиданной для себя настойчивостью:
— Чего вам сдался Иван? Скажите по-человечески!
— Не важно, — сказал Васильев, глядя мимо Андрея.
Андрей ничего более не добился. Он предложил отвести приезжих в кафе — «Воды Лагидзе», освежиться вкусными напитками. Васильев фыркнул, когда понял, что его намерены угощать водой. Аспасия с лучезарной улыбкой сказала, что они уже завтракали.
Аспасия обещала обязательно навестить Андрея до отъезда. Васильев хлопнул Андрея по спине и задержался, когда Аспасия пошла вдоль набережной.
— Ссуди червонец до лучших времен, — сказал Васильев.
— Неужели бедствуете? — Андрей не мог скрыть неприязни к Васильеву.
— От нее лишнего не дождешься. Я получаю, что мне положено, что мне нужно для души и тела, а деньги, прости, зарабатываю сам.
— У меня нет с собой денег, — сказал Андрей.
Аспасия остановилась и оглянулась.
— Гриша! — крикнула она. — У Андрея нет с собой денег.
Васильев восторженно выругался.
— Как она меня, мать ее, знает, а?
Его крепкие пальцы мгновенно заглянули в нагрудный карман Андрюшиной рубашки. Но там было пусто.
— Ну ты хитер, — сказал Васильев, — ты хитер. Дай червонец, а то Вревскому скажу! — Он звонко рассмеялся, показывая золотые зубы, и чуть вперевалочку, блестя сапогами с кавалерийскими шпорами, поспешил за Аспасией.
Разумеется, ни Аспасия, ни Васильев более не показывались. Андрей вдруг испугался за Ивана, хоть и ничего их не связывало. Но он не хотел ему беды, а эта парочка, как лиса и кот из «Пиноккио», просто сочилась опасностью и обманом.
И, расставшись с ними, Андрей вдруг понял, что чары Аспасии, чуть было не овладевшие им вновь при встрече, потускнели. Словно близость Лидочки защищала от них… Смешно!
Рассказывая о встрече Лидочке, Андрей подумал вслух: «Может быть, доехать до Ивановой сестры, предупредить археолога?»
Лидочка отговорила Андрея — ей все эти люди были чужды и дела их непонятны. Какие-то контрабандисты и жулики обманывают друг друга. Почему Андрюша должен вмешиваться?
Лидочка никогда не выходила на ночную улицу Трапезунда, не слышала его ночных звуков, не знала его запахов и тревоги. К тому же хоть она и не стала говорить Андрею, но сама мысль о том, что у Андрея появилась приятельница — по профессии своей содержательница публичного дома, была ей отвратительна.
Это настроение Лидочки, наложившееся на невозможность уехать из грязного чужого Батума, привело к их первой в жизни глупой ссоре, после которой они не разговаривали и были несчастны.
Наконец Андрей решил оставить Лидочку и уйти на поиски дома Покровских. Но тут Лидочка не удержалась и расплакалась, и стало не до ухода.
Лидочка долго не могла успокоиться, даже когда они помирились и потом засыпали, она с тоской думала, как хорошо бы сейчас вернуться к маме — именно к маме, — все иные люди на Божьем свете чужие, даже Андрей совсем чужой — и непонятно, за что она должна лежать с чужим мужчиной в одной кровати…
С утра на следующий день прибежал племянник дяди Отара и сказал, что есть один человек, который знает, как поехать в Ялту. И в самом деле оказалось, что на следующий день в Батум придет фелюга, которая везет товар в Евпаторию. Надо было договориться с нужными людьми. Поиски нужных людей и бесконечное их ожидание, потому что нужные люди в самом деле ничего не знали, но более всего боялись, как бы Андрей не догадался, что они ничего не знают, и не отказал в комиссионных, заняли весь день. Затем с вечера ждали фелюгу и смотрели с надеждой на море, над которым клубились лиловые цвета греческого траура, — погода портилась. Фелюга заявилась к рассвету, и ее шкипера удалось увидеть только после обеда, когда он выспался.
Фелюга была одесская. Ее хозяин, он же шкипер Михай Попеску, плотный, коротконогий романтик в капитанской фуражке с крабом червонного золота, о чем знало все Черное море, но украсть фуражку не смог ни один биндюжник, торопился вернуться домой к концу октября. Фелюга была недогружена, вот он и взял пассажиров.
Михай Попеску был, по обыкновению, пьян и весел — он перебудил весь пансион, подарил возмущенной мадам Ахвледиани сандаловый крестик, освященный в Иерусалиме, и выпил с Отаром бутылку киндзмараули. Андрей с Лидочкой как раз собирались спать, но сон пришлось отложить, потому что они понравились капитану Попеску и он решил тут же, не теряя ни минуты, выйти в море, ночью, не взяв груза. Еще час все уговаривали Попеску подождать до утра и, конечно же, уговорили.
Лидочка ушла спать в половине третьего ночи, а Андрею пришлось остаться — Михай его не отпускал. И ясно было, что если он обидится, то придется ждать следующей оказии до Крыма; когда она объявится — неизвестно.
В коротеньком Михае был удивительный запас энергии — он был как бы увеличенным трехлетним мальчишкой, который производит столько энергичных движений, что взрослый человек уже через час соревнования с младенцем умер бы от разрыва сердца.
Впрочем, Андрей не жалел, что встретился со шкипером. Михай был переполнен удивительными и невероятными историями и, как утверждали знавшие его свидетели, не грешил против истины. А происходило это оттого, что Михаю обязательно надо было сунуть нос в любую драку или авантюру. Потому-то он уже полгода не мог вернуться домой. Некогда было — его затягивали авантюры, которые не приносили денег, а постепенно вели к разорению. Зато Михая знали все, любили почти все, ненавидели немногие, большей частью обманутые мужья.
За хорошим вином и жаркими беседами, в которых участвовал калейдоскоп незнакомых лиц, возникавших из ночи и в ночь проваливавшихся, за песнями грузинскими, румынскими и российскими ночь благополучно миновала, наступил рассвет, и Михай решил, что пора будить Лидочку и перебираться на фелюгу, которую звали «Императрица Мария» — официально в память броненосца, загадочно взорвавшегося в Севастополе в шестнадцатом году, а в самом-то деле в честь тети Михая, которая живет в Констанце.
Андрей, голова у которого была хрустально ясной, как бывает после хмельной и полной шумных бесед ночи, пошел было собираться, но тут к пансиону подъехал черный мотор из комендатуры порта, тот самый, на котором Андрею за последние недели приходилось неоднократно ездить вдоль побережья, обследуя трупы погибших на «Измаиле» и обеспечивая их охрану от мародеров.
В автомобиле прибыл знакомый унтер-офицер Герасимов. Он вошел в нижний зал пансионата, где умирало ночное веселье.
— Ваше благородие, — обрадовался он тому, что не придется будить Андрея, — вам письмо от господина коменданта.
Появление шоффэра с письмом привело Михая Попеску в торжественное изумление — ему ранее не приходилось держать в друзьях столь высокопоставленных людей. На всякий случай он тоже поднялся из-за стола и стоял рядом с Андреем, чуть покачиваясь и держа пальцы у козырька фуражки.
Комендант, написавший письмо, полагал, что Берестов как единственный действующий член комиссии по захоронению останков жертв с «Измаила» остается готовым к исполнению своих обязанностей.
Море выбросило еще один труп, очевидно, с «Измаила». Случилось это у Чаквы, а так как у гражданина коменданта нет достаточно надежных сотрудников для того, чтобы провести доследование, а гражданин Берестов имеет опыт в делах подобного рода, комендант направляет ему свой автомобиль для выполнения поручения и принятия на месте должных мер.
— Еще чего не хватало! — вырвалось у Андрея, который был совершенно убежден в том, что ни в какую Чакву он не поедет.
Но тут он увидел направленный на него снизу взгляд лучшего друга Михая Попеску, который жаждал удивительных приключений и который никогда не простил бы Андрею такого отступничества.
— А долго ехать? — спросил Андрей Герасимова. — А то мы сегодня отчаливаем.
— Недолго, — ответил Герасимов.
— А дорога хорошая?
— Дорога отличная! — сказал Михай, который никогда по ней не ездил.
И случайные собутыльники, которых к утру осталось немного, но были они решительны, тут же поддержали его.
— Дорога так себе, — сказал Герасимов. Он тоже предпочел бы не ездить: покойником больше, меньше — в наши-то времена.
— Ну что ж, — сказал Андрей, — значит, не меньше двух часов.
— Я с собой всего возьму, — сказал Михай, — вы не волнуйтесь. И продукты, и удовольствия возьму.
Большую часть дороги Андрей проспал, а Михай, в праве которого участвовать в путешествии никто не усомнился, сидел рядом с шоффэром и развлекал того разговорами. Потом они с Герасимовым пили взятое с собой вино и угощали шоффэра. Ближе к Чакве шоффэр развеселился и тоже стал петь песни. К выбоинам и лужам от вчерашнего шторма он стал относиться с великолепным презрением, от чего совершенно трезвому и печальному Андрею было не по себе.
Когда они наконец доехали до поселка Николаи верстах в двух от Чаквы, куда волны закинули несчастного утопленника, Герасимов прервал пение и сообщил Андрею, что скоро будут на месте. Очки Герасимова съехали на красный носик, а глазки были голубенькие и мутные под очками, будто разбавленные молоком.
Свернули на узкую дорожку и съехали к морю. Утопленник лежал далеко от воды — его оттащили еще вечером. Голова и грудь утопленника были закрыты застиранной тряпкой.
Возле утопленника сидел местный милиционер с красной повязкой на рукаве и хрустел сочной грушей. Пятеро или шестеро ребятишек, черные и почти голые, стояли, глядя на грушу, и это Андрею показалось странным, потому что смотреть на утопленника вроде бы интереснее, чем на грушу. Но он был не прав — утопленник уже не был новостью.
При виде приближающегося мотора милиционер встал, ребятишки кинулись навстречу новому развлечению — из кустов, скрывающих дома, в мгновение ока появились местные жители. Все смотрели на Михая в фуражке с золотым крабом — он был похож на начальника, и это ему нравилось. Михай встал в автомобиле и смотрел на утопленника сверху — как бы в перспективе.
Андрей вскочил, открыл дверцу, выскочил из мотора, сказал милиционеру:
— Откройте его.
Милиционер посмотрел на Михая, ожидая подтверждения.
Михай сказал:
— Давай! Сказали же!
Один башмак держался на ноге — вторая нога была босой, пальцы ног были голубыми.
Милиционер открыл тряпку — местные жители сдвинулись, словно видели тело впервые.
Это был Иван Иванович. Он был в розовой рубашке и черных студенческих брюках. Лицо его было гладко и красиво. Пшеничные волосы высохли и обрамляли лицо так, что создавали сходство с богатырем на картине Билибина. Глаза крестьянского сына были закрыты. Он никогда уже не купит имения.
Андрей понимал, что в смерти Ивана виноват только он, только тряпичность его характера. Он должен был поехать к его сестре, отыскать и предупредить Ивана, что приехали Аспасия и Васильев — ядовитые, как гремучие змеи.
Чем же ты так рассердил их? Что ты утаил от синдиката кобр? Что было в твоем чемодане, Иван?
— Что? — спросил Михай, который спустился с автомобиля и встал рядом с Андреем. Все смотрели на Михая и ждали, что скажет начальник в фуражке.
— У него должна быть рана, — сказал Андрей. — В спине.
По толпе местных жителей прокатился гул — уважение их перешло к Андрею.
— Его ножом убили, — сказал милиционер, — под лопатка. Потом море кидали.
— Вот это дедукция! — сказал Михай Попеску. — Я уважаю.
И, признав эти заслуги Андрея, он приказал перевернуть Ивана на грудь. Разрез в спине был невелик и не кровоточил.
— Его надо отправить в Батум, — сказал Андрей. — Но он не имеет отношения к пароходу.
— Ясное дело, — сказал милиционер.
— Кто-нибудь видел этого человека раньше? — спросил Андрей.
Никто не ответил.
— А кто видел, — спросил Андрей, — очень красивую молодую греческую женщину в черном платье и вот такой широкой шляпе? А с ней военного летчика, офицера, капитана, у него рука на черной перевязи?
Но никто не видел или не хотел сказать, что видел Аспасию и Васильева.
Унтер-офицер Герасимов, сообразив, что мертвец проходит по уголовному ведомству и не имеет отношения к «Измаилу», пожелал тут же ехать обратно в Батум, бросив Ивана Ивановича на произвол судьбы. Но Андрей проявил упорство, а Михай, будучи сентиментальным человеком, Андрея поддержал.
Завернув крестьянского сына в старый парус, купленный Андреем там же, в поселке, они положили тело в машину и отвезли к местной церкви. Кладбище начиналось за церковью, и к ее алтарной стене были прислонены сохнущие гробы — там и работал плотник.
Договорившись о службе через час, Андрей поехал в дом к Покровским, надеясь передать сестре дальнейшие заботы об Иване Ивановиче.
Дом отыскали довольно быстро, но сестры найти не удалось. По простой причине — домик Покровских, оказывается, прошлой ночью сгорел. Почему — никто не знал. Домик стоял в отдалении от других домов, и никто не обратил внимания, куда делись его обитатели.
Вернулись к церкви. Герасимов с шоффэром улеглись спать в автомобиле. Андрей с дядей Михаем отстояли скорое, скомканное отпевание раба Божьего Ивана. В гробу Иван Иванович приобрел солидность и постоянство черт, чего ему так не хватало при жизни. Лицо его было строгим и красивым. Дядя Михай заметил, что Андрей плачет, и сказал:
— Ну, полно, полно, ты не виноват.
— Я виноват, — сказал Андрей.
Андрей отдал все свои деньги батюшке, но у шкипера нашлось еще двадцать рублей могильщику, который выкопал яму и написал на табличке, прибитой к кресту, имя и фамилию крестьянского сына.
Андрей спросил у желтолицего, раздражительного батюшки, что случилось с домом Покровских и куда делась его сестра. Священник ничего ответить не смог — никто в Чакве толком не знал Покровских. Иван Иванович и Полина жили уединенно, с людьми не сходились. Пожар случился ночью, но дом, как говорят пожарные, был пуст.
Любопытно, подумал Андрей, что сталось с чемоданом? Достался ли он Аспасии или сгорел?
Когда гроб выносили, Андрей разбудил Герасимова и шоффэра — они вчетвером отнесли Ивана Ивановича к могиле и помогли могильщику опустить его в неглубокую яму. Андрей, как бы родственник, первым кинул ком сухой земли на крышку гроба. Комок гулко ударился о дерево, словно Андрей стучался к Ивану в домик.
— Наверное, хороший был человек, — сказал Михай с маленьким знаком вопроса в конце фразы.
— Хороший, — согласился Андрей.
На обратном пути Андрей рассказал спутникам о том, что Иван был великим знатоком древних рукописей и чуть-чуть не дожил до профессорства.
— Кто же мог поднять руку на такого человека? — патетически вопрошал Михай.
— Грабители, — сказал Герасимов. — Их здесь теперь как собак нерезаных. За три рубля готовы зарезать. А у него, наверное, из Турции добра было на тысячу рублей.
— Один чемодан, — сказал Андрей. — Мы же на «Измаиле» были.
— Ну если на «Измаиле»… — согласился Герасимов. — Только бандиты об этом не знали.
В комендатуре Андрей доложил, что утопленник был в таком плачевном состоянии, что пришлось захоронить его в Чакве. Комендант был рад, что с него сняты лишние заботы, и долго тряс Андрею руку. А когда тот сказал, что назавтра уезжает, комендант искренне расстроился и попросил остаться еще на неделю-другую.
— Поймите меня, Андрей Сергеевич, — сказал он, — не дай Бог, завтра или послезавтра еще кого выкинет. Ведь, кроме вас, мне другого человека с совестью в этом городе не отыскать.
Супруги Ахвледиани пошли проводить Берестовых до пирса. Отар нес плетеную бутыль чачи.
— Ты бери подарок, — говорил он Андрею. — Ты бери, потому что в России это все равно что золото.
Вещей у них почти не было — небольшой чемодан у Лидочки, у Андрея все с собой. Как у Диогена.
Даже странно было уезжать в другой город, в другой мир, так вот, налегке, неся в руке нетяжелый Лидочкин чемодан. На площади был митинг. Кроме красных флагов, под утренним ветерком реяли и грузинские. Оратор, стоявший на сиденье автомобиля, кричал по-грузински.
— Как нехорошо, — сказала лояльная госпожа Ахвледиани. — Зачем кричит?
Фелюга «Императрица Мария» покачивалась саженях в ста от берега. Михай увидел Берестовых, когда они еще спускались к берегу, и спрыгнул в ялик, привязанный к борту фелюги. Он греб резкими частыми движениями, и ялик шел рывками.
Андрей наблюдал за ним, это была картинка из какого-то читанного в детстве романа про пиратов — на Михае был красный платок, а одежда ограничивалась серыми штанами.
— Батоно Отари! — закричали сверху. К ним бежал мальчик, который разносил чай по номерам и иногда подметал на галерее. Он размахивал белым конвертом.
Письмо было адресовано господину Берестову в собственные руки.
Почерк на конверте был уверенным, наклонным, резким — почерк интеллигентного человека. Обратного адреса не было.
— Сейчас почтальон принес! — сообщил мальчик, довольный тем, что успел передать письмо. — Я так бежал!
Лидочка дала мальчику полтинник. Андрей разорвал конверт.
Дорогой Андрей!
— Буквы были крупные, быстрые. —
Раз ты получил письмо, значит, мои дела плохи. Другими словами, значит, меня больше нет на свете. Только при получении известия об этом письмо двинется в путь. Это так глупо — неужели возможно, что я, такой молодой, красивый, сильный и даже веселый, могу прекратить существование. Как это прикажете понимать?
Андрей перевернул большой лист, чтобы взглянуть на подпись. Он и без этого догадывался, что письмо — от Ивана, который и в самом деле умер и теперь разговаривает с ним с того света. Ему даже стало зябко, хотя солнце грело, обещая теплый день.
— От кого? — спросила Лидочка.
— От крестьянского сына, — сказал Андрей. Лидочка не поняла, она не знала этого прозвища. Но переспрашивать не стала. Ялик с фелюги уже приближался, видно было, как блестят капли пота на плечах Михая. Андрей быстро читал дальше:
Дело прошлое, но могу признаться, что ты — один из очень немногих приятных мне человеков. И поэтому, разрывая связь с миром живых, делаю тебя своим наследником. Ты помнишь о царском погребении в башне? Ты догадываешься, кто мог его ограбить? Правильно. Твой покорный слуга.
— Этого не может быть! — воскликнул Андрей.
— Эге-гей! — Михай отпустил весло и поднял руку, приветствуя их. — Доброе утро!
— Что там? — спросила Лидочка.
— Я потом тебе дам, — сказал Андрей. — Я сам еще не понимаю.
Он спешил дочитать, прежде чем Михай достигнет берега. Он понимал, что в письме могут заключаться сведения, которые заставят его изменить планы и, может быть, даже отложить отъезд из Батума. Лидочка тоже ощутила эту опасность — кожей ощутила. Но не знала, как бы сжечь, пустить по ветру это зловещее письмо.
Не время и не место рассказывать сейчас, как мне это удалось и как мне способствовал в этом ливень, отогнавший под крышу бдительных часовых. Не спеши рвать письмо и осуждать меня. Ты беседуешь с мертвым человеком, которому все равно, что ты о чем думаешь. Но если в тебе осталась малая толика объективности, ты признаешь, что ценности (а их число невелико), бывшие в гробу, достались бы корыстному Авдееву и, вернее всего, даже без гибели «Измаила» до музея не добрались. Больших мерзавцев и жуликов, чем чета Авдеевых, я не видел. Но «Измаил» погиб, и с ним погибло все экспедиционное имущество. И все ее трофеи. Спасен был лишь мой чемодан, в чем ты принимал деятельное участие.
— Андрей!
Тот отмахнулся:
— Сейчас, одну минуту!
За неблагородным занятием спасения погребения от корыстного Авдеева меня застал один человек. Не важно кто. Мне надо было его убить. Я же от него откупился. Теперь я буду до конца моих дней ждать, когда он проговорится Аспасии или Рефику, а может, гражданину Метелкину. Не столь важно кому. И раз ты читаешь это письмо, дружище, значит, он уже проговорился.
Я спешу кончить письмо. Надеюсь, что у меня еще будет возможность написать продолжение или даже вместе с тобой когда-нибудь посмеяться над моими страхами. Но запомни, что чемодан я оставил сестре. Там некоторые из находок, не представляющие финансового, но имеющие исторический интерес. Там же научное описание погребения. Может пригодиться. Остальная часть ценностей мною спрятана надежно. Ты получишь о том сообщение — этому же письму я не могу доверить столь много и подвергнуть опасности твою дурацкую жизнь, мой друг.
По натуре я не вор, но мне надоела бедность — она унизительна.
— Андрей, чего не встречаешь!
— Сейчас!
Твой: Москва, Почтамт, до востребования. Иван Покровский.
Андрей сложил письмо и спрягал в карман. Он вернул способность видеть и слышать окружающее. Михай Попеску уже вытащил нос ялика на гальку. Отар Ахвледиани передавал ему чемодан.
— Что случилось? — спросил Михай. — На тебе лица нет!
— Все в порядке!
— Мы уезжаем? — спросила Лидочка, страшась услышать отрицательный ответ.
— Разумеется, мы уезжаем, — сказал Андрей. — Я тебе потом дам почитать.
— Я понимаю!
Лидочка расцеловалась с мадам Ахвледиани. Отар сам поставил бутыль в ялик. Михай поглядел на нее с уважением и сказал:
— Теперь мы наверняка промахнемся мимо Крыма.
Лидочка прочла письмо, когда фелюга уже шла к Крыму и кавказский берег скрылся из глаз.
— Как это гадко, — сказала она, возвращая письмо.
— Он умер. Его убили. Наказание страшнее, чем проступок.
— Чемодан остался у сестры?
— Дом сгорел. Или сестра увезла чемодан с собой, или он погиб вместе с домом.
— А что будет дальше?
— А дальше я зайду в Москве на почтамт, — сказал Андрей.
— Зачем?
— Потому что Иван просил меня об этом.
— Объясни. — Лидочка насупила брови.
— Прочти последнюю строку письма.
— Ты думаешь, это намек?
— Да, я так думаю.
— Мне не хочется, чтобы ты с этим связывался.
— Я не хотел бы, чтобы все погибло.
Михай высунул голову из люка и закричал:
— Чай пить будете, голуби?
— Спасибо, сейчас идем.
Глава 6
Октябрь — декабрь 1917 г
25 октября, в ночь, в России совершалась революция. Нынче известно, что она победила. В те часы об этом никто не знал.
Без двадцати одиннадцать меньшевик Дан открыл заседание 2-го съезда Советов.
Одного из лидеров большевиков Владимира Ульянова (Ленина) на съезде не было — он прятался в небольшой комнате рядом с залом заседаний. Кто-то принес матрас и подушки — видно, предполагалось, что там будут спать дежурные. Ленин бегал по комнате, подходил к двери, приоткрывал ее, заглядывал в пустой коридор, прислушивался, напрягая слух, к далеким звукам, доносившимся из зала. Он хотел быть сейчас там, но в то же время полагал, что больше нужен партии живым, — ведь неизвестно, чем кончится переворот. В случае поражения снова предстоит эмиграция.
Все важные центры Петрограда уже были заняты большевиками, лишь в Зимнем дворце под ничтожной охраной из трехсот юнкеров и женщин-ударниц продолжало держаться Временное правительство. Силы большевиков, стянутые к Зимнему, многократно превышали силы тех, кто его оборонял, но командовали штурмом весьма неопытные в проведении революций молодые люди, а отсутствие разведки порождало среди остановившихся на почтительном расстоянии от дворца солдат и красногвардейцев слухи о мощных и несокрушимых силах защитников Временного правительства. Как известно, революционные штурмы побеждают лишь тогда, когда превосходство революционеров исчисляется в сотни раз. Так было со штурмом Бастилии и с убийством Юлия Цезаря. Революционеры отважны, только когда видят вокруг себя значительную и грозную дружественную толпу. Во всех иных ситуациях они скрываются за баррикады, дожидаясь, когда каратели возьмут эти баррикады штурмом. Само возведение баррикад — яркое свидетельство поражения.
Владимир Ильич Ленин таился в пустой комнате, ожидая, когда из зала забежит кто-либо из его соратников и поделится впечатлениями о ходе съезда.
Чем кончится съезд, было трудно предсказать, несмотря на то что большинство делегатов на нем поддерживало большевиков. Но это совсем не означало, что за большевиками большинство в стране, тем более подавляющее большинство. И меньшевики, а также социалисты-революционеры, которые были в меньшинстве, вовсе не были таковыми в стране.
Все еще напуганный корниловским мятежом, которого он не предусмотрел и не смог заранее должным образом оценить, Ленин вопреки своей склонности к чистоте партийных рядов и лишь тактическим соглашениям с иными силами, которые нужно немедленно разрывать, как только к тому есть возможность — власть не делится! — незадолго до переворота выступил с призывом к объединению всех демократических сил в России. Он писал так: «Исключительно союз большевиков с эсерами и меньшевиками, исключительно немедленный переход всей власти к Советам, сделал бы гражданскую войну в России невозможной. Ибо против такого союза… никакая буржуазией начатая война немыслима, такая «война» не дошла бы до одного сражения».
Набегавшись по комнатке, Ленин садился на подушку и утыкал обритый подбородок в ладони — что же они медлят! Именно сейчас нужно решать! Общий союз!
Его усталому воспаленному мозгу чудились гвардейские дивизии, что спешат с фронта на спасение Временного правительства — в любой момент они могут ворваться в Петроград, и тогда снова бегство, снова ночевки в шалаше или закат жизни в швейцарской квартирке. Неужели те, что в зале, не найдут способа уговорить меньшевиков и эсеров на союз?
Ленин, вскакивая с подушки, кидался к двери, осторожно высовывался — он бы отдал полцарства, чтобы оказаться в зале! Но полцарства у него пока не было.
В это время по коридору спешил пан Теодор, который не хотел упустить исторический момент победы революции, хотя и сам лишь подозревал, что он будет историческим.
Из-за белой двери выглядывал, прислушиваясь, невысокий плотный, бритый наголо человек. Пан Теодор с трудом узнал лидера большевиков Ульянова-Ленина.
— Владимир Ильич? — спросил он.
Тот поднял палец к губам, но в его движении не было страха, а скорее удовольствие мальчика, который играет в шпионов и надел на голову ведро, чтобы его не узнали.
— Вы, товарищ, откуда? — спросил Ленин. — Вы делегат?
— Нет, — сказал Теодор, — я с фронта. Я из военной группы.
— Большевик? — Голова склонилась набок, будто вопрос звучал, человек ли он либо исчадие ада, некое животное, от которого можно ждать любой пакости.
— Большевик, — ответил Теодор, знавший из долгого опыта предсказателя, что своей жертве всегда надо говорить то, что она желает услышать. Гадание — это не попытка установления истины, а попытка установления желанного мира в душе того, кому ты гадаешь. Человек всегда забывает несбывшееся гадание — помнит же то, что сбылось. Любит он ту гадалку, которая может угадать его желания и поведать об их возможном исполнении.
— Товарищ, — не скрывал своей радости Ленин, — принесите мне откуда-нибудь стакан чаю. Один стакан. Бутерброда не надо. Мне все обещают, но никто не несет.
Из зала донеслись аплодисменты.
— Нет, — сказал Ленин, — не там решается судьба страны. Все решается даже не перед Зимним дворцом. Все решается на подступах к городу — как вы думаете, товарищ, встанут ли солдаты на поддержку Временного правительства?
— Не думаю, Владимир Ильич, — сказал пан Теодор.
— А я вот не уверен! — сказал Ленин. — У вас найдется гривенник? Вот возьмите у меня.
— Зачем?
— На чай. Могут не дать бесплатно. Вы же знаете русских.
Раздобыв за три рубля в гардеробной, где бывшие швейцары и дворники, ожидая, пока успокоятся революционеры, гоняли чаи, целый чайник заварки и два стакана, пан Теодор вернулся в маленькую комнату, где, сидя на матрасе, скрестив ноги в поношенных черных ботинках, его ждал Ленин.
— Ого! — обрадовался он. — Целый чайник! Не ожидал. А вы, знаете, произвели на меня неблагоприятное впечатление. Этот тип, сказал я себе, никогда не принесет чаю. Никогда! Типичный агент охранки! — И Ленин рассмеялся веселым, заразительным, искренним смехом. — Где же вы, батенька, так разжились?
— Вы еще не знаете всего, Владимир Ильич, — сказал, улыбаясь, пан Теодор и вытащил из кармана целую горсть дешевых, но в фантиках конфет «Забава».
— Это пир, это настоящий пир! — воскликнул Ленин.
Он сам разлил чай по стаканам. Они сидели на подушках на полу и искренне наслаждались горячим крепким напитком.
Ленин был интересен Теодору. Он давно уже выделял его из числа большевистских лидеров, да и вообще русских политиков, полагая, что если ему не свернут голову соратники, то настоящих соперников у него в России нет — он оказался на голову хитрее, решительнее, беспринципнее и гибче любого Милюкова или Керенского. Он понимал, что главное в политике — вопрос о власти. Он рвался к ней и, упуская ее — а это с ним не раз случалось в карьере, — начинал метаться, яростно интриговать и энергично спорить и каждый раз возвращал себе главенство в партии. Он всегда умел быть старше иных, даже если иные родились раньше его на десять или двадцать лет. И вел себя с соратниками так же круто и безжалостно, как с политическими врагами. Второе великое качество Ленина заключалось в том, что его ни на чем нельзя было подловить: ни на деньгах, ни на славе, ни на женщине — ему нужна была только власть, к остальному он был равнодушен. Как прикажете шантажировать, запугивать политического лидера, если он сидит на полу в необставленной комнате, пьет из лакейского стакана пустой чай, искренне полагая, что купил его за гривенник, а мысли его заняты тем, что происходит в соседнем зале, что делается на площади перед Зимним дворцом, что творится на близких к Петрограду железнодорожных станциях, и притом ему глубоко интересен его собеседник, потому что он может высосать из него сведения. Ленин давно понял, что его сила не только в характере, умении плести интриги и называть черное белым. Главное — информация, знание всего, что происходит в стране и в мире, желательно знание того, что творится в каждом человеке. Его русские коллеги и соперники были, как правило, ленивы и нелюбопытны — Ленин же всегда трудился.
— Это бессмысленно, — сказал он, вдруг прервав собственную фразу. — Бессмысленно топтаться на площади перед Зимним дворцом и уверять себя, что охрана дворца так велика, что Подвойскому с его силами ее не одолеть. Я убежден, что ударницы уже сбежали, потому что ночью темно и страшно, вот-вот придут матросы и всех изнасилуют. Вы со мной согласны, товарищ?
— Они уже ушли, — сказал Теодор. — И самокатчики ушли.
— Там осталось человек триста, не больше. И никто не хочет драться. Вперед же! — Ленин выбросил руку вперед.
Он так и замер с протянутой вверх рукой. Теодор подумал, что когда-нибудь в России поставят Ленину памятник — именно в такой позе.
Ленин вскочил, подбежал к двери, приоткрыл ее.
— По-моему, говорит Мартов, — сказал он.
Говорил Лев Мартов — один из основателей партии социал-демократов, человек уважаемый и независимый, вернувшийся в Россию вместе с Лениным. Мартов призвал к согласию между социалистическими партиями. Он убеждал съезд, что только союз со всеми левыми партиями спасет революцию.
Штурм Зимнего дворца продолжался, а зал, растерянно затихший после речи Мартова, ждал, что будет дальше.
Пройдет много лет, и революция будет постепенно введена в русло общепринятых мифов. Большинство из них будет создано сознательно людьми, которые захотят переписать историю в своих интересах и получат возможность это сделать. Одни — потому, что истинная роль в событиях их по прошествии времени уже не устраивала, иные потому, что имели основания бояться, что современники или потомки узнают неприглядную правду.
Некоторые из важных деталей той ночи — с 25 на 26 октября — в официальных учебниках и трудах пропадут. Пропадет великий вождь, который сидит за стенкой, на подушке, брошенной кем-то на пол, боясь выйти в шумящий революционный зал, и неистовствует от полного незнания того, что происходит вне и помимо его воли. На общем полотне победившей революции затерялся и забылся в протоколах, которые не принято было публиковать и даже читать, тот этап революции, когда отряды большевиков стояли перед Зимним дворцом, не решаясь начать наступление, а в зале заседания съезда Советов большевики старались сколотить общий фронт против Временного правительства и правых, которых считали непобежденными.
Жест Мартова, предложившего мир и переговоры, был пробным шаром, которого ждали большевики. Следующими должны сказать свое слово самые сильные и решительные из союзников, ныне оттертые от власти и потому ревниво следящие за событиями — левые социалисты-революционеры.
От их имени на трибуну поднялся член Центрального Комитета, красивый, элегантный и каждым жестом подчеркивавший свою элегантность, Сергей Мстиславский, носивший громкую фамилию русских князей, которые не раз решали судьбы России.
На самом деле фамилия этого эсера была иной, куда более плебейской. Княжескую фамилию он принял из куража. Приятно быть знаменитым и знатным князем, выходящим притом с пистолетом на Сенатскую площадь. Мстиславский не мог бы стать большевиком.
От имени левых эсеров Мстиславский поддержал Мартова — партия была согласна на объединение усилий всех левых сил ради спасения революции от натиска буржуазии.
Ждали выступления большевиков. Каменев, сидевший на председательском месте, ничем не выказал своего неприятия позиции Мартова или Мстиславского и дал слово Луначарскому — представителю либерального крыла большевиков.
Луначарский заявил, что большевики полностью поддерживают меньшевика Мартова и эсера Мстиславского. Да здравствует единство демократических сил! Да здравствует единение большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов! И нет силы в России, которая посмеет подняться против такого союза!
Каменев поставил предложение Мартова на голосование.
2-й съезд Советов единогласно принял его под овации всего зала.
Большевики так мечтали о союзе с остальными демократами, что не могли поверить собственному счастью. Они были как рыбак, поймавший на удочку осетра в две сажени. Ходит тот рыбак вокруг осетра и не верит: неужели это все мне одному?!
Но тут наконец штурм Зимнего дворца начался.
Когда штурмующие ворвались во дворец, то лишь в двух местах они встретили цепи юнкеров, но цепи стрелять не стали, а при виде противника тут же сложили оружие. Так что штурмовать было некого — единственная задача заключалась в том, чтобы не заблудиться в бесконечных коридорах и залах дворца. И пока наиболее решительно настроенные революционеры, набившись в комнату, где обреченно ждали конца министры Временного правительства, кричали, что наступила заря новой власти, большинство солдат и матросов, рабочих и гимназистов, взявших дворец, разошлось по бесчисленным комнатам, выламывая, выковыривая, рассовывая по карманам и за пазуху сувениры, которые можно было вытащить наружу, — тем более что охранять отныне народное достояние было некому. Кроме победителей, по комнатам бродили раненые — часть дворца была занята в то время под солдатский госпиталь, и раненым не хотелось оставаться в стороне от первого грабежа царской собственности.
Зимний пал! Еще не было объявлено об этом официально, еще не вывели из дворца понурых и сонных министров Временного правительства, а до Смольного донеслось известие: революция, «о которой столько твердили большевики», свершилась! Следовало немедленно разрушить достигнутое на съезде единство.
И тогда на трибуну поднялся совсем другой большевик — из крыла решительного и боевого, подобно вождю, сидевшему в соседней комнате. Пришел человек безликого псевдонима — Лев Троцкий, позаимствовавший фамилию у русского генерала Троцкого, начальника штаба русских войск при покорении Средней Азии.
Речь Троцкого открыла его сверкающий путь великолепного оратора, который умел словом поднять армии.
— Восстание народных масс, — кричал он, уткнув в зал острую эспаньолку, — не нуждается в оправдании! То, что произошло, — это восстание, а не заговор… народные массы шли под нашим знаменем и победили!
На следующем заседании съезда, когда во всем Петрограде не осталось организованного сопротивления большевикам, уже присутствовал Ленин и сделал там доклад.
Теодор провел не один час, стараясь отыскать альтернативы той ночи, — он полагал, что ночь важна для истории и историков, потому что она во многом определит судьбы XX века на всей Земле. Была ли надежда на то, что блок левых партий сохранится хотя бы на время? Ведь Теодор собственными глазами видел, как радостно и воодушевленно зал проголосовал за единство! И как на глазах разрушилось это единство.
Большевики согласны были делить власть только до того момента, пока не были уверены в своей безопасности. Как только они победили, союзники им стали не нужны, а потом и вредны. Ленин тут же забыл о собственной идее общего фронта, против которого буржуазия не посмеет начать гражданской войны. И в наступающей гражданской войне на стороне врагов большевистской республики во многих случаях оказались отвергнутые ею демократы, и судьба их была трагична. Но не более трагична, чем судьба тех анархистов и левых эсеров, которые остались с большевиками и погибли.
Партия большевиков в силу особенностей ее доктрины и людей, стоявших во главе ее, никогда не намеревалась заработать власть. Она хотела ее захватить. Она годилась для страны тоталитарной, где переход власти может быть только насильственным.
Но то, что получилось в Петрограде, в других городах и весях Российской империи проходило далеко не так гладко и убедительно. Ведь половина большевиков скопилась в двух столицах, а в иных крупных городах, даже губернских, о большевиках и не слыхали. Так что во многих губерниях власть перешла не к большевикам, а к тем левым партиям, что имели преимущество в местных Советах, а то и к центристам, если у левых преимущества не оказалось.
В Симферополе в томительном противостоянии с органами власти Временного правительства набирали силу татарские националисты, готовившие выборы в курултай, чтобы освятить волей народа свою власть. Объявившая в начале ноября о своей самостоятельности Украина в обмен на северные крымские уезды согласилась способствовать татарской автономии и также, что было весьма важно для Крымской республики, помочь в быстрейшем переводе в Крым Татарского Уманского полка.
С попустительства киевских властей многочисленные офицеры, застрявшие в Крыму, собирались в эскадроны, объявляя себя сторонниками татарской власти. Еще не родившаяся татарская республика уже обзаводилась союзниками и армией.
В революционном Севастополе большевистский переворот тоже не получался.
И понятно: в отличие от других городов Севастополь уже полгода был самостоятельной республикой, до зубов вооруженной и профессионально привыкшей к войне. В ней были свои органы власти, и, не свалив их, большевики не могли присоединить Севастополь и Черноморский флот к своей державе.
Об этом откровенно рассказала Коле Беккеру трибун севастопольских большевиков — простоволосая, черноглазая и носатая Нина Островская, призвавшая его на беседу в начале ноября, через неделю после революции в Петрограде.
— Андрей. — Нина ходила по комнате, все время наталкиваясь на угол стола, останавливалась и вытягивала вперед руку. Нина привыкла выступать на площадях, она куда хуже разговаривала с людьми по отдельности. — Андрей, я обращаюсь к тебе, потому что ты нужен революции. А раз нужен, значит, хорош. А раз хорош, значит, любим народом.
Беккер устроился в углу между столом и шкафом, куда стремительные движения Нины Островской ее не заносили.
Нина Островская, профессиональная, но совершенно не устроенная в женской жизни революционерка, была прислана в Крым из Петрограда в ту пору, когда стало совершенно ясно, что на базе Черноморского флота правят колчаки и эсеры, а редко появляющиеся большевики не пользуются решительно никакой народной поддержкой.
Женская непривлекательность придавала Островской некую патетичность — ее жалели и в то же время доверяли ей больше, чем мужику или молодой красавице, — не повезло по вопросу внешней красоты, зато головастая баба! Как писал ее большевистский современник: «В течение двух недель она подняла на ноги не только маленькую организацию большевиков, но и весь Черноморский флот. От ее речей сразу же повеяло северным ветром большевизма».
С тех пор прошло несколько месяцев, в Петрограде правили большевики, старые товарищи Островской по партийной работе неслись на службу в реквизированных автомобилях, она же, рискуя жизнью и промерзая на палубах линейных кораблей, выкрикивала лозунги и призывы… но Севастополь не становился большевистским.
Коля Беккер, выслушивая монолог, обращенный к нему, не понимал, чего же от него требуется. А непонимание смущало и тревожило. Островская отлично знала, что в Севастопольском Совете лейтенант Андрей Берестов служит ушами и глазами тех, кто заменил адмирала Колчака: полковника Баренца и нового командующего флотом контр-адмирала Немитца. Большевичка никогда раньше не скрывала своего прохладного отношения к штабным офицерам, а тут вдруг попросила о конфиденциальной встрече.
— Чем я обязан? — спросил Коля, уловив паузу в монологе большевички.
— Вы хватаете быка за рога, — сказала Островская и поправила волосы, похожие на измазанную сажей солому. — Тогда и я не буду тратить время даром. Вы пользуетесь некоторым авторитетом среди моряков…
— Это преувеличение.
— Знаю, знаю, сегодня ни один офицер не пользуется авторитетом у матросов. Гнев матросов справедлив и исторически обоснован. Но нам бы хотелось, чтобы гнев был направлен в интересах революции. Ведь вы понимаете, что не все офицеры готовы служить врагам революции. Среди них есть выходцы из демократической среды, преисполненные сочувствия к страданиям угнетенных!
Островской стоило немалого труда оставаться в рамках беседы — ораторские позывы заставляли голос срываться, а язык составлять патетические фразы.
— Мы предлагаем вам союз, лейтенант Берестов! Ради торжества мировой революции!
Именно в этот момент открылась дверь, и в комнату — одну из незаметных комнат на втором этаже городского управления, занятую под канцелярские нужды, — вошел невысокого роста человек средних лет и среднего телосложения, лысый, крутолобый, с глазами узкими к внешним краям, что придавало лицу несколько азиатское выражение. Лицо было украшено усами и небольшой бородкой, как у Ульянова, что вкупе с толстовкой переводило этого человека из породы диктаторов в отдыхающего на юге бухгалтера.
— Очень рад, — сказал он с порога. — Я рад, что вы, Берестов, пришли к нам. Наша задача сегодня — сплотить вокруг себя все здоровые силы общества.
Он протянул Беккеру руку и представился:
— Гавен, Юрий Петрович Гавен.
На самом деле это был псевдоним. Сорок с лишним лет назад его крестили в Латвии как Яна Эрнестовича Даумана. Пока он учился и сам учительствовал, имя не вызывало сомнений и вполне устраивало будущего большевика, и лишь когда он со всей ответственностью латышского учителя отдался партийной работе, то, как и все большевики, он прибегнул к псевдонимам. После ряда попыток он и остановился на странном варианте: Юрий Петрович Гавен. В этом сочетании нет ни сентиментальности, ни изящества, ни связи с собственным народом — сочетание скорее даже неблагозвучное. Но именно такое его устроило, и с таким он вошел в историю как вождь крымских большевиков во время революции и Гражданской войны.
Склонность к псевдонимам свойственна крайне радикальным, обычно даже террористическим партиям. И связана она не только с необходимостью таиться от полиции, но и с душевной склонностью к авантюрам. Переодевание становится их составной частью, а смена имени — частью камуфляжа переодевания.
Порой кажется, что большевикам было безразлично, под каким именем существовать, — они были до крайности рациональны. Нередко их псевдонимы, что сохранялись и после победы революции, когда уже не от кого хорониться, были никак не более благозвучными, чем собственные имена. Фамилия Ленин ничем не лучше фамилии Ульянов, а Киров ничем не превосходит фамилию Костриков. Псевдоним должен был работать — больше, чем ассоциация с молотом, от него не требовалось.
Коля видел Гавена раньше, на последнем заседании Севастопольского Совета, куда Беккера недавно кооптировали как беспартийного от Морского штаба. Коля не вызывал раздражения у матросов и был неизвестен рабочим. Коля подозревал, что его кооптация исходила не только и не столько от Немитца и Баренца, как от самого Колчака, который и в Америке не забывал о старых коллегах и неким неизвестным Коле образом влиял на решения Морского штаба. Коля не был рад такому избранию — ему не хотелось быть на виду. С уходом Колчака, как он понимал, командование флота было обречено. Не сегодня-завтра власть в городе и на флоте захватят те же типы, что смогли взять власть в Петрограде, — их Коля мало знал, заранее не любил, хотя бы потому, что не любил толпу, частью которой эти люди были. Отражая точку зрения, царившую в штабе, он полагал, что большевики имеют целью погрузить страну в хаос, гражданскую войну и голод, для того чтобы самим укрепиться у власти.
И вот теперь Коля понадобился большевикам.
— Судя по всему, — улыбнулся Гавен одними губами, будто сделал усилие над мышцами своего лица, неспособного по доброй воле улыбнуться, — Нина изложила вам нашу просьбу.
— Я не успела, ты слишком рано пришел, Юрий, — сказала Островская, убирая со лба клок черной соломы.
— Ну что ж вы, товарищи! — укоризненно произнес Гавен. — У революции каждая минута на счету, а вы тут занимаетесь интеллигентскими разговорами.
— Я не совсем понимаю, о чем речь, — сказал Коля, сдерживая раздражение.
Гавен уселся на стул и показал жестом на второй, но Коля не хотел садиться.
— Скажите, молодой человек, — сказал Гавен, — вы любите сражаться на последней баррикаде или предпочитаете командовать эскадроном, который вот-вот займет эту баррикаду?
Островская, словно удовлетворенная тем, что Гавен взял разговор на себя, уселась за стол, достала помятый блокнот и принялась быстро писать.
— Не пожимайте плечами, — сказал Гавен. — Не исключено, что сегодня для вас решающий в жизни момент. Надеюсь, вы знаете, как складывается военная обстановка?
— Приблизительно.
— Украина объявила о своем отделении от России, на Дону начинается реакционное восстание, которым руководят царские генералы. Но в самой России — от Выборга до Владивостока — власть нашей партии уже утвердилась. Со дня на день начнет работу Учредительное собрание, которое даст нам легитимное оправдание власти. За нами, товарищ Берестов, будущее.
— Это ваше предположение.
— Нет, Андрей, — сказал Гавен добрым, учительским голосом. — Это действительность. Мы объявили мир, и за нами идут солдаты. Мы отдали крестьянам землю. Чего вы еще хотите?
— Но почему я вам понадобился?
— Потому что нашей России необходим Крым. Необходим как воздух. Нам нужен Черноморский флот, нам нужно море, нам нужны эти матросы… Мы не можем никому отдать Крым. А на него сейчас претендует Украина, его объявили своей собственностью татары, завтра его захотят захватить и сделать своим тылом Каледин и Корнилов. А мы его никому не отдадим.
— Как вы это сделаете? — искренне удивился Коля. — У вас же нет сил. Я знаю — матросы не поддержат большевиков.
— Правильно! Умница! — сказала Островская, подняв голову от блокнота. — Но не диалектик.
— Еще летом в стране за большевиками шли лишь тысячи людей. Сейчас у нас миллионная поддержка. Завтра с нами будет вся Россия, потому что русские любят одно — силу, — твердо сказал Гавен.
— Именно ее у вас и нет. Вы же не сможете прислать армию! Ее не пропустят украинцы.
— Мы сделаем свою армию здесь, — сказала Островская. — И с вашей помощью, Андрей.
— Я не состою в вашей партии.
— А мы тебя и не зовем, — сказал Гавен. — Оставайся нашим беспартийным другом.
— Почему я должен вступать в союз?
Островская громко рассмеялась.
— Потому что мы — победители. Победители завтра, — сказал Гавен. — И мы даем тебе, лейтенант, одну ночь на размышление.
— А я?
— А вы, Берестов, беспартийный молодой патриот, который нам нужен как попутчик. А завтра вы станете активным членом партии.
— Почему именно я? — спросил Коля.
— Вы не один, — кратко ответил Гавен, и Коля понял, что он не назовет ни одного имени. И правильно. «Если я соглашусь на сотрудничество с большевиками, я тоже не хотел бы, чтобы мое доброе имя трепали на всех перекрестках». — Если бы мы публиковали списки наших друзей, то вскоре бы их лишились. Большевики никогда не предают своих товарищей. В этом сила нашей партии.
Гавен говорил с легким латышским акцентом, но Коля, уловив акцент, все никак не мог понять, откуда этот человек родом.
— Вы ничем не рискуете, Берестов, — сказала Островская, кончив писать и пряча блокнот в карман кожаной тужурки, взятой у шоффэра или самокатчика. — А приобретаете по крайней мере жизнь.
— Идите и думайте, — сказал Гавен. — Женщины бывают слишком категоричны.
План, придуманный Гавеном и Островской, для исполнения которого требовался и Беккер, был авантюристичен и при нормальном порядке вещей не имел шансов на успех.
Но Гавен полагал, что при беспорядке, господствующем в Крыму, когда наиболее мощные силы — татарский курултай, севастопольский Центрофлот, Симферопольский Совет и земство — противостояли друг другу и никто не мог взять власть, именно большевики смогут победить — потому что они практичнее прочих.
Разработав план, Гавен стал торопить события, которые развивались следующим образом.
8 ноября заседал Центрофлот — реальная власть в Севастополе. Эсеры и меньшевики насчитывали в нем вкупе 49 человек, а большевики, временно объединившиеся с украинскими националистами, — 39. Еще человек десять представляли беспартийную часть флота. Собственно большевиков было чуть более десяти.
На этом заседании обсуждались проблемы с экспедиционными силами. На двух образовавшихся театрах военных действий требовались черноморские моряки: их просили украинцы в Киеве, чтобы защитить Раду от контрреволюции, их просили большевики в Ростове и Нахичевани, где разгорался мятеж во главе с генералом Калединым.
Идея с посылкой отрядов была подхвачена по разным причинам почти всеми членами Центрофлота. Для большевиков эта экспедиция была первым шагом к захвату власти и ликвидации этого самого Центрофлота, для врагов Гавена и даже для нейтралов, заинтересованных в спокойствии, она казалась замечательным поводом удалить из Севастополя наиболее шумных моряков в надежде на то, что они сложат головы на Дону. Так что Центрофлот дружно проголосовал за обе экспедиции и даже согласился выделить отряду, идущему на Ростов, два тральщика и два миноносца.
В отряд вошли некоторые большевики, но не была закрыта дорога и для буйных головушек, не подвластных никакой партийной дисциплине.
До конца ноября отряд спорадически сражался то с юнкерами, то с казаками, и преимущество было на стороне моряков, которые обладали мобильным тылом — тральщиками и миноносцами — и были куда лучше, чем их противник, вооружены. Об этом можно судить по телеграммам, получаемым Центрофлотом:
…В ночь на 28 ноября станция Нахичевань захвачена нашими войсками. Юнкера отступают по направлению к Новочеркасску. Утром юнкера выбиты со ст. Ростов. Казаки сдались. Генерал Потоцкий со штабом арестован… днем юнкера с Калединым повели наступление на линию Нахичевань. Идет непрерывная перестрелка. Черноморская флотилия подбила несколько орудий… 29 ноября. Город Ростов и станция в наших руках. В Новочеркасск прибывают юнкера и кадеты… целый день проходил бой.
В подкрепление из Севастополя в Ростов был послан дивизион миноносцев, который заодно провел рейд по портам Азовского моря, находившимся в руках Украинской Рады, и там славно побезобразничал.
Возмущенная Рада запретила матросам-украинцам в составе экспедиции на Дон воевать с казаками — союз с большевиками распался.
Экспедиционный отряд вернулся в Севастополь 12 декабря, привозя убитых и раненых, овеянный боевыми воспоминаниями и пропахший порохом, — за месяц матросы сплотились в боевую часть, которая не намеревалась рассредоточиваться по кубрикам, а желала и далее править кровавый бал, как то ей отлично удавалось в Ростове и на пути домой. Главными врагами матросов были Каледин и юнкера, и естественно, как бы ни старался Центрофлот сохранить в Севастополе внутренний мир, вкусивший крови отряд был смертельной опасностью для мира в Севастополе. И это радовало Гавена.
В отряде побывали Островская, Гавен и другие большевики, они жаловались на буржуйские порядки, заведенные в Севастополе, на предательство Центрофлота, на то, что офицеры готовят заговор против революции. Эти слова находили горячий отклик в матросских сердцах. На следующий день после возвращения матросы устроили похороны своих товарищей, привезенных в гробах, но никакого массового торжественного шествия и скорби всего флота и города не вышло — к отряду в Севастополе относились сдержанно, как в стае собак к приблудшему псу, вкусившему человечины.
Матросы были оскорблены невниманием города к их подвигам и жертвам. Большевики подсказали: виноваты офицеры и демократы!
Коля в отряде не появлялся, он был нужен Гавену для более тонкого дела.
Как и было договорено, Беккер поменялся на ту ночь со Свиридовым, чтобы дежурить по штабу флота. К нему сходились телефонные звонки и телеграммы. И он должен был либо давать им полный ход, либо останавливать их движение.
Поздно вечером заступив на дежурство, Коля получил сообщение из Севастопольского Совета — невеликая, но шумная фракция большевиков заявила, что «выходит из состава Совета, не желая больше сотрудничать с теми, кто окончательно скомпрометировал себя перед массами».
Это сообщение Коля положил на видном месте, но не стал беспокоить адмирала Немитца, который уже уехал домой. В случае чего он всегда может объяснить, что новость не показалась ему достаточно серьезной. Он не обязан был догадываться, что это — знак к началу переворота в Севастополе.
В половине двенадцатого в штаб позвонил деятель из Совета — меньшевик Елисей Мученик.
— Берестов! Андрей! — закричал он в телефонную трубку. — Ты знаешь, что уже происходит?
— Это Мученик? — переспросил Коля. — Говорите громче, я плохо слышу.
— Я говорю, ты обязан прислать охрану в исполком Совета. Мы заседаем беспрерывно. Только что приходили два матроса с пулеметом и велели нам всем расходиться по домам. Но мы не расходимся. Прошу сообщить адмиралу Немитцу. Ты меня слышишь?
— Я немедленно сообщу, — сказал Беккер, впервые за этот вечер испытав сладость злорадного чувства.
— Андрей! — кричал в трубку Мученик, который не пытался скрыть страх. — Ты не представляешь, что может произойти! Кто-то подогревает этих солдат. Они пьяные, они всех называют предателями. Они хотят перебить офицеров.
— Я доложу адмиралу, — обещал Беккер.
— Андрей, я тебя умоляю!
Беккер повесил трубку.
Следующий звонок последовал из полуэкипажа. Там появились пьяные матросы, увешанные гранатами и обвязанные пулеметными лентами. Они грозились перестрелять офицеров. Высокий голос дежурного мичмана дрожал. Он просил прислать патруль.
— Разбирайтесь сами! — раздраженно прикрикнул на мичмана Беккер. — Для того вы и поставлены.
В течение часа последовало еще несколько телефонных звонков. К тому же в штабе появились посыльные, один пришел, вытирая расквашенный нос. Оказывается, на него напали на Нахимовском бульваре. Смысл всех сообщений был один: в городе бесчинствуют пьяные матросы, которые требуют разогнать Совет и ищут офицеров, чтобы расстрелять их как союзников Каледина.
Коля кому-то обещал прислать патруль или сообщить командующему, других обрывал и требовал, чтобы они сами принимали меры.
Коля любил сильных людей, независимо от их позиции или намерений. Именно таким был Юрий Гавен. Всего два часа назад, кратко сообщив Коле, что большевики выходят из Совета и этим развязывают себе руки, он добавил:
— А вам, Берестов, предстоит в нашей революции самая трудная роль: вы должны сделать вид, что никакой революции, никакого переворота не произошло. Кто бы и как бы ни обвинял вас во лжи и предательстве, игнорируйте. На вашем месте ваши обвинители вели бы себя куда хуже и подлее. Необходимо сделать так, чтобы переворот миновал точку, после которой его остановить нельзя. Для этого его следует не замечать. Вы — нож, которым мы рассекаем нервные узлы Севастополя в самом важном месте.
— Бунт на «Фирдониси»! — рапортовал незнакомый бас, словно читал по бумажке. — Выстрелом в спину убит мичман Скородинский. Вы меня слышите? С «Фирдониси» световым телеграфом передают на другие корабли приказ бить офицеров. Вы меня слышите?
Коля молчал. Ему вдруг стало страшно. Когда об этом рассказывал Гавен, это была теория, красивая и стройная теория пролетарской революции. Но нельзя же убивать мичманов в спину!
Коля понял, что должен сообщить обо всем адмиралу. Именно сейчас. Если он промедлит еще секунду, то никто и никогда не поверит, что он — нейтральный свидетель. И будет нетрудно догадаться, что честный молодой офицер Берестов выполняет задание большевиков, которые могут и не победить.
Коля протянул было руку к телефону, чтобы доложить адмиралу Немитцу, как телефон зазвонил вновь.
Это был Юрий Гавен.
— Андрей? Что у тебя? Звонят?
— Звонили от коменданта порта — на «Фирдониси» убит мичман…
— Скородинский. Я знаю. Теперь польется кровь офицеров по всему городу!
— Но вы же обещали! Ваши матросы могут выйти из-под контроля. Неизвестно, кто тогда выиграет…
— Не тряситесь, Берестов, — оборвал его Гавен. — Вас мы всегда вытащим. А офицеры, даже нейтральные, завтра обязательно станут нашими врагами — помяните мое слово. Они давали присягу государю и помнят до сих пор, что это такое. А люди с присягой нам не нужны, Берестов.
— Я с вами не согласен.
— А вот этого у тебя никто не спрашивает, голубчик. Тебя может спасти только послушание. Держитесь, лейтенант, пролетариат не забудет вашего скромного вклада в революцию.
И Гавен коротко засмеялся голосом человека, смеяться не приученного.
— Можно позвонить Немитцу?
— Ты позвонишь ему, но не раньше чем через час, — сказал Гавен. — Я хочу быть спокоен, что революцию уже не остановить.
Но все вышло иначе. Не успел Коля повесить трубку, как позвонил сам контр-адмирал Немитц. Ему уже сообщили на квартиру о матросских беспорядках.
— Кто дежурит? — закричал он в трубку.
— Лейтенант Берестов, — отозвался Коля.
— Вы что, не знаете, что происходит в городе?
— Мне только что сообщили об инциденте на «Фирдониси». Я жду подтверждения.
— Почему не позвонили мне?
— Как только получу подтверждение, сразу позвоню вам.
— Господи, идиот! — закричал Немитц. — Своей неповоротливостью вы губите Черноморский флот! Я тотчас же еду в штаб!
Но Коля зря ждал приезда контр-адмирала.
После разговора с Колей и коротких переговоров с другими людьми адмирал Немитц приказал подать ему автомобиль и с одним небольшим портфелем в руке, в котором хранились документы, поехал на вокзал, где стоял под парами его собственный поезд — три вагона с паровозом. Семья адмирала покинула Севастополь за день до этих событий.
Вскоре он уже был в Одессе.
Не дождавшись адмирала Немитца или звонка от Гавена и с каждой минутой все более ощущая свою беззащитность, вздрагивая, когда на улице раздавался выстрел или крик, Беккер не выдержал.
Он вошел в кабинет адмирала и быстро просмотрел один за другим все ящики письменного стола. В прихожей надрывался телефон, но Коля не подходил к нему.
В столе он отыскал пистолет с запасной обоймой — неизвестно, кто из трех последних командующих флотом оставил его здесь, затем коробку гаванских сигар, Евангелие, какие-то бумаги и письма.
Сигары и пистолет он взял с собой.
К последнему звонку он подошел. Из полуэкипажа сообщали, что пришли матросы и увели всех офицеров.
— Так и надо, — сказал Коля.
Он накинул плащ, закрыл за собой дверь и, постояв в пустом коридоре, прислушиваясь к тревожным звукам ночного города, вышел из дома задним ходом. Не нужны ему были ни большевики, ни офицеры. Он хотел покоя.
Улицей Коля не пошел — та была царством озлобленных матросов и тех городских подонков, которые, таясь по темным углам, в моменты социальных потрясений лишь ждут возможности выйти хозяевами на ночные улицы.
Коля проскочил задами до чахлого садика у реального училища и нырнул в узкий переулок. Было зябко и сыро, будто открыли дверь в подвал и оттуда выходил застоявшийся зимний воздух. Издалека донесся женский крик. Он мог и не быть связанным с теми событиями, которым способствовал Беккер, но воображение подсказало Коле растрепанную, в ночной рубашке женщину, выбежавшую к открытой двери, — только что увели ее мужа и он еще оборачивается и видит ее и велит ей, движимый страхом за семью:
— Уйди же, простудишься! Уйди в дом…
«Не переживай, — сказал в последнем разговоре Гавен, — ничего с твоими братьями по классу не случится — попугают их, пошумят, может, кому-нибудь и синяков наставят, но мы проследим, чтобы никого не убили, — можешь быть спокоен, мы же не убийцы».
Уже тогда Коля не до конца поверил Юрию Петровичу, но теперь, прижимаясь ближе к заборам и слушая напряжение ночного города, он понял, что Гавену и его партии нужна была власть, и чем больше оппонентов этой власти погибнет, тем лучше партии.
Выходя из переулка на площадь и желая пересечь ее, Коля в задумчивости забыл об опасности и чуть не погиб — именно в этот момент раздались выстрелы, мимо переулка пробежал человек в расстегнутой шинели, потом два матроса, которые на ходу стреляли из карабинов. Один из них, на бегу крикнув что-то дикое, развернул карабин и выстрелил в переулок, где стоял Коля, — то ли краем глаза увидел его силуэт, то ли так, на всякий случай.
Пуля отбила кусок дерева от забора, и деревяшка ударила отшатнувшегося Колю по плечу.
Коля сосчитал до трехсот, прежде чем осмелился выглянуть на площадь.
Площадь была пуста.
Через несколько минут запыхавшийся Коля открыл калитку во двор к Раисе.
Коля не успел пересечь узкое пространство дворика, как дверь в дом резко отворилась и дворик затопило слишком ярким желтым светом.
— Коля! Коленька… Живой!
Раиса охватила его полными короткими руками, она прижималась к нему, и Коля чувствовал, как быстро бьется ее сердце. Он хотел было оттолкнуть ее, но не посмел, потому что именно тогда понял, что на всем свете есть только один человек, который думает о нем и боится, дойдет ли он живым до дому. О сестре Коля в тот момент и не мог подумать — она была слишком далека.
— Ну что ты, полно, — сказал Коля, отстраняя Раису. Он пошел в дом. Раиса семенила следом и говорила счастливо и сбивчиво:
— Я уж не чаяла, честное слово, офицеров по городу хватают, Елика арестовали, а как же так — он же ихний начальник, а они его арестовали?
— Ты с чего взяла?
— Ты заходи, заходи, Мария Алексеевна подтвердит, ты ее знаешь…
Еще чего не хватало! Коля еле сдержался, чтобы не выругаться. Никаких сил общаться с посторонними людьми у него не оставалось, а по виду худой непричесанной женщины, глаза которой были настолько зареваны, что еле раскрывались, он понял, что его сейчас будут просить, уговаривать… Коля уже сталкивался со склонностью Раисы преувеличивать возможности Коли и его желание помогать страждущим. Она и не скрывала своего к этому намерения. «Елик, когда за мной ухаживал, всегда с людьми разговаривал и советы давал. Сегодня он совет даст, а завтра и мне помогут». И Раиса довольно смеялась, понимая, впрочем, цену своей хитрости. Она была существом добрым и хотела, чтобы всем было хорошо.
— Вот, Андрюша, ты Марью Алексеевну помнишь…
— Ну, что у вас случилось? — Коля пытался говорить сухо, но вежливо. Получилось — брезгливо. И женщина сразу поняла.
— Я не просить, вы не думайте, — сказала она сразу. — Я к Раисе зашла, рассказала, что видела, а она мне сказала, чтобы я вас подождала, сказала, что вы в штабе, может, знаете…
— Я ничего не знаю! — сказал Коля.
— Да ты послушай! — вдруг рассердилась Раиса. — Ты же не знаешь, о чем говорят, не выслушал, о чем разговор, а уже не знаешь!
У Коли раскалывалась голова. Сейчас бы на сутки заснуть.
— Ну рассказывайте, — сказал он, присаживаясь за чисто выскобленный кухонный стол.
И заплаканная женщина рассказала, что к ней в дом поздно вечером вошли три матроса. Они были пьяные и с ружьями. Они велели ее мужу, поручику из полуэкипажа, собираться. Они грозились его убить. А когда они его увели, то жена побежала следом, и матросы не могли от нее отделаться, хоть один и ударил ее прикладом. В этом месте Раиса сказала: «Я синяк видела, как утюгом прижгли».
По дороге им встретился автомобиль, в котором везли еще двух офицеров. Матросы начали спорить, потому что одни хотели отправить офицеров в тюрьму, а другие отвезти на Малахов курган и расстрелять без суда как предателей рабочего класса. Они уже были готовы ехать на Малахов курган, куда было ближе, но тут приехал еще один автомобиль. В нем был Елисей Мученик, который, как оказалось, презрев опасность, кинулся от имени Севастопольского Совета пресечь расправу над офицерами. Елисей произнес грозную речь перед матросами о революционной дисциплине, но им скоро надоело его слушать, и они спросили, к какой партии товарищ относится. Елисей сказал, что он эсдек-меньшевик! И тогда главный из матросов сказал: значит, и тебе туда же дорога! Машину Мученика конфисковали, всех отвезли в тюрьму.
Кончив свой рассказ, женщина снова начала плакать. Раиса дала Коле горячего чая и смотрела на него, будто ждала, что он сейчас хлопнет в ладоши и прибегут адъютанты, чтобы освободить офицеров и отважного Елика.
Ничего больше не сказав, Коля взял стакан с чаем и пошел к себе. Там поставил стакан на стул у кровати, снял сапоги и блаженно вытянулся во весь рост. Но физическому блаженству мешал страх, что Гавен и его товарищи могут не удержать в руках революционный гнев толпы, она родит нового Пугачева, который отрубит головы не только офицерам, но и большевикам, и, уж конечно, Коле Беккеру, который поторопился сделать свой выбор… Когда Коля уже засыпал, он запоздало удивился столь неожиданной отваге нескладного Елисея. Чего он добился? Интересно, а что ему грозит?.. Раиса пришла, когда Коля уже спал, так и не раздевшись. Она была сердита на него, потому что он вел себя невежливо.
Как бы помимо воли, она стала свидетельницей поединка между ее бывшим верным поклонником и новым, блестящим и завидным любовником. И в этой дуэли, как ни грустно было сознавать, победу одержал отвергнутый Мученик. Худой и лохматый, он кричал, уперев в матросов обличающий палец: «Возводя беззаконие в постыдный обычай, вы позорите нашу революцию! В ней не место бандитам и насильникам!» Может быть, он кричал не так, но жена арестованного офицера запомнила именно такие слова.
А Коля оказался неспособным на такой подвиг. Он был холодный и робкий в душе. Природа наградила его красивым лицом и стройной фигурой, но обделила живостью и крепостью духа.
Раиса стояла над Колей и глядела на его лицо, разглаженное сном. И думала о том, что, если бы Елик вернулся к ней, она бы бросила Колю, который вовсе и не Коля, а черт знает кто!
И, совсем рассердившись, Раиса пошла в комнатку к сынишке, легла с ним на оттоманке, немного поплакала и заснула.
Глава 7
Декабрь 1917 г
Фелюга Михая Попеску заходила в Новороссийск, и там они узнали, что люди, недовольные большевистским переворотом в Петрограде, съезжаются в Ростов и Нахичевань, чтобы восстановить старые порядки. Людям мало было войны с германцами, они устраивали еще одну — внутри собственной страны, наподобие войны между Севером и Югом в Америке.
Из Новороссийска пришлось уходить в тот же день, несмотря на опасную погоду. На следующее утро, после бессонной штормовой ночи Михай сказал, что в Евпаторию заходить не будет, а держит путь домой, в Одессу. Он предложил Андрею остаться на борту и из Одессы добираться до Москвы поездом. Но Андрей уже настроился посетить Симферополь, свой старый дом, так что после недолгих уговоров Попеску согласился оставить пассажиров в Севастополе.
Севастополя достигли рано утром. Был синий рассвет, по воде пополз туман, огонь маяка с трудом пробивался в море, звук ревуна угасал в белесой мгле. Спустили ялик — плеск тихой воды, стук уключин, голоса матросов звучали гулко и нереально. В ялик положили немногочисленные вещи Берестовых, и Михай сам сел за весла. Подводить фелюгу к причалам он не посмел, запуганный еще в Новороссийске слухами о грабежах и матросских разбоях.
На берегу, у Графской пристани, они попрощались. Михай неожиданно заплакал. Заплакала и Лидочка, но не столько от грусти расставаться с добрым человеком, как от страха перед неизвестностью, которая ждала их.
Они постояли несколько минут на пристани, глядя, как удаляется ялик, а когда он исчез в зябком тумане, пошли искать извозчика — в Севастополе делать было нечего, — чем скорее удастся уехать в Симферополь, тем лучше.
Чемодан был нетяжелый, но, пока шли в гору, Андрей устал. Рука коченела от мокрой декабрьской стужи. Лидочке очень хотелось спать, но ни извозчика, ни трамвая не было.
Туманная синева редела, над головой быстро бежали серые облака, которые выкидывали заряды мокрого снега и дождя. Впереди послышались выстрелы. Потом женский крик.
По улице, приближаясь, зацокали копыта — ехал извозчик.
Андрей выскочил из подъезда и замахал, останавливая его.
Извозчик испугался, стегнул лошадь, но, к счастью, лошадь была меланхолического темперамента, и, пока она думала, слушаться ли ей или презреть удар, Андрей с Лидочкой догнали извозчика и тот смог разглядеть, что у них с собой чемодан.
Он согласился отвезти их до вокзала, но за астрономическую плату и не через центр, а переулками, вокруг.
— Матросы расшалились. Мне что, меня не тронут, а вас могут порезать.
Согласные ехать как угодно, хоть через Евпаторию, Берестовы забрались в пролетку, Андрей поставил чемодан в ноги.
— У нас нечего грабить, — сказала Лидочка, поправляя шляпку.
— А может, вы сами кого пограбили, — сказал извозчик. — На вас не написано.
— Нет, мы здесь из Батума проездом, — сказал Андрей, — мы хотим поскорее уехать. Поэтому и едем на вокзал.
— Наверное, поезда на Симферополь не ходят, — сообщил извозчик.
— А почему не ходят?
— Так у нас же с татарами война! — Он расхохотался, то ли удачно пошутил, то ли радовался такой войне.
Не дождавшись вопроса от пассажиров, что за война, извозчик сказал:
— А может, и с хохлами, с Киевской Радой. Матросы хотят повоевать.
Всю недолгую дорогу извозчик почему-то рассуждал о воинственности матросов, но потом Андрей понял, что извозчик просто пьян.
Улицы только просыпались, даже толком не рассвело, в окнах не был потушен свет, день обещал быть таким же сумрачным, как рассвет. Навстречу быстрым шагом прошел небольшой отряд матросов, впереди него шел человек в черной куртке, у матросов были винтовки со штыками.
Потом, уже у вокзала, видели два автомобиля, они обгоняли извозчика. В автомобилях сидели цивильные люди официального вида.
Иногда слышались выстрелы, но неблизко.
Площадь перед вокзалом сначала показалась совсем пустой и сонной, даже извозчиков на ней не было, и редкие люди не ходили, а столбиками стояли, охраняя свои мешки или чемоданы, видно, ждали трамвая.
Зато внутри было столпотворение: духота, крики, давка — многие спят вповалку на полу. Андрей подумал, что, может быть, все приезжие или бесприютные, опасаясь беспорядков в городе, собираются к вокзалу, который стал общим прокуренным убежищем.
Большая часть людей на вокзале была простонародной, словно люди приезжали на базар или к своим родственникам — солдатам и кухаркам. Но порой встречались интеллигентные или породистые лица, которые часто не соответствовали бедной одежде. Встречались среди пассажиров матросы и солдаты, но офицеров не было видно.
Перед кассами была толпа, так что Андрей, в надежде что-нибудь узнать, оставил Лидочку в углу стеречь чемодан, а сам стал пробираться к окошку кассы, правда, безуспешно, потому что толстые украинские бабы и кряжистые мужики лезли без очереди. Он потерял полчаса и отчаялся.
Потом Андрей увидел, что по залу быстро идет человек в фуражке с красной тульей. Если заговорить с начальником станции, может быть, он поможет? Но когда уже на перроне он пробился поближе, то увидел, что начальник станции шел в сопровождении двух матросов, которые отгоняли всех, кто пытался приблизиться к начальнику.
Средних лет мужчина в тужурке путейца стоял возле крана с кипятком и ждал очереди наполнить чайник. Это выдавало в нем невольного обитателя вокзала.
— Простите, — сказал Андрей, — я здесь человек новый, мы с женой только что приехали из Батума, и нам надо в Симферополь. Я никак не могу понять…
— И не поймете, юноша, — ответил путеец, не дожидаясь конца вопроса. — Говорят, что татарский курултай перекрыл движение поездов в Севастополь, но это только разговоры, а реальность такова, что уже третий день нет поездов и все, кто может себе это позволить, нанимают извозчиков и едут до Бахчисарая. Но так как никто оттуда, насколько я знаю, еще не вернулся, я не могу сказать, насколько это предприятие сумасшедшее. Так что предпочитаю ждать! И вам советую.
Наверное, Лидочка беспокоится. Он решил вернуться к ней и все рассказать — он не думал, что их положение настолько критично, чтобы отправиться в такой дальний путь на извозчике. Да и найдешь ли извозчика, который решится на путешествие, должное занять не менее двух дней в один конец?
Андрей уже вошел в главный зал вокзала, как услышал обращенные к нему слова:
— Гражданин студент, разрешите поинтересоваться?
Голос был вполне дружелюбным, обыкновенным, так что Андрей остановился и оглянулся. За ним стояли два матроса: за плечами винтовки, пулеметные ленты наискосок через грудь как знак принадлежности к великому братству революционеров.
Несмотря на миролюбие матросов, Андрей сразу понял, что все кончено, и ему стало страшно и горько понимать, что Лидочка сидит на чемодане и не узнает, что же с ним произошло.
— Простите, — сказал он ближайшему матросу, — мне только надо жену предупредить.
— Успеешь. Ты документы покажи и пойдешь.
Андрей полез в карман — у него было всего только удостоверение, что он член археологической экспедиции в Трапезунде. По тому, как матрос медленно двигал губами, стараясь одолеть смысл прочитанного, он понимал, что с таким удостоверением по улицам Севастополя лучше не гулять.
Андрей сделал движение в сторону общего зала, надеясь увидеть Лидочку, позвать ее, чтобы подошла, но второй матрос резко схватил его за рукав.
— Стой, — сказал он, — не прыгай.
Скуластостью, узкими глазами и неподвижностью черт лица матрос напоминал Бориса Борзого.
— Придется, гражданин, проследовать за нами, — сказал, будто извиняясь, старший матрос, — документ у вас сомнительный.
— Хороший документ, — сказал Андрей. — Послушайте меня: я только что приплыл из Батума, и мы с женой пришли на вокзал, чтобы ехать в Симферополь. Дайте нам уехать!
— Ты из Трапезунда — турецкого города — приехал сюда. Зачем? Загадка.
— Но я ничего плохого не делаю. Меня ждет жена — дайте хоть предупредить ее!
— Сейчас пройдем в комендатуру, там посмотрят твои документы и отпустят. Чего не отпустить?
— А пускай его жена тоже с нами пойдет, — сказал второй матрос. — Раз они вместе приехали, пусть вместе и пройдут.
— Бог с ней, — сказал старший матрос. — Мало ли как выйдет, чего с бабами воевать?
В этих мирных словах была угроза для Андрея, для его жизни, как в добрых словах врача: «Сделаем-ка мы вам, молодой человек, реакцию Вассермана». «Что выйдет?» — хотел спросить Андрей, но не посмел.
К счастью, его повели прямиком через зал, но он, увидев Лидочку, не стал кричать — матросы могут передумать и забрать ее тоже, а забрав, заглянут в чемодан.
Хотя шли они тихо и не скоро, молчали, толпа, шкурой чувствуя опасность, исходящую от матросов, и не желая заразиться приближением к Андрею, разваливалась, таяла вокруг, и в ней образовались прогалины. В какое-то мгновение никого между ними не оказалось. Лидочка поглядела в ту сторону и сразу поняла, что Андрюша арестован. Она ринулась было к нему, но Андрей перехватил ее испуганный взгляд и прижал палец к губам — к счастью, никто из матросов не заметил этого жеста. Лидочка замерла, чуть присев и дотронувшись пальцами до ручки чемодана, словно поняла, как важно, чтобы чемодан со всеми бумагами отчима не попал в руки матросам.
Когда они прошли мимо, Лидочка подхватила чемодан и пошла следом, не приближаясь, чтобы никто не разгадал ее связи с Андреем.
Она видела, как Андрея затолкнули в комнату, на двери которой была пришпилена бумажка «Военный комендант». Эта дверь как раз распахнулась, и оттуда, покачиваясь, вышел пьяный матрос с большим револьвером в руке.
Он остановился в дверях, и матросы, приведшие Андрея, стали просить его посторониться, но тот не хотел подчиниться, и произошла задержка. Андрея все же протолкнули внутрь, и Лидочка встала так, чтобы видеть дверь в комендатуру, уговаривая себя, что сейчас они разберутся и отпустят Андрюшу, иначе она совершенно не представляет, что ей делать в этом сумасшедшем городе.
Дверь то и дело открывалась, и туда входили люди, а другие выходили, сопровождаемые клубами голубого дыма, словно в той комнате был пожар. Выходило людей меньше, чем входило, потому что по примеру матросов, приведших Андрея, другие матросы заводили в комнату показавшихся им подозрительными людей.
Лидочка прождала минут десять, полагая, что Андрюшу там допрашивают, но на самом деле Андрей вместе с другими задержанными стоял в углу душной накуренной комнаты перед пустым, заваленным исписанными бумагами столом и ждал кого-то, должного решить его судьбу.
Между тем в комнату вводили все новых задержанных, и стало совсем тесно. Часто раздавался вопрос:
— А он где?
Спрашивали о человеке, который должен был все решить. Но он не появлялся, и в конце концов один из матросов, взяв на себя ответственность, крикнул:
— Перевози их в тюрьму, чего здесь держать! Потом разберемся.
— Зачем в тюрьму, на гауптвахту! Она поближе будет.
— На гауптвахте и так набито — а тюрьма еще не полная.
Все засмеялись — почему-то показалось смешным, что тюрьма еще не полная.
Так, толпой, не слушая возражений, слившихся в общий беспомощный гул, к которому Андрей не стал присоединять своего голоса, задержанных погнали через зал к выходу из вокзала.
Андрей вытягивал голову, чтобы рассмотреть Лидочку и дать ей знак, но он смотрел туда, где оставил Лидочку сторожить чемодан, тогда как она ожидала его у дверей к коменданту и оказалась на какие-то секунды сзади. Пока она пробивалась сквозь толпу, чтобы догнать задержанных, Андрей отчаялся ее увидеть и потому решился на необдуманный и роковой для себя шаг: он сообразил, что только сейчас, пока они идут по вокзалу, у него есть возможность нырнуть в поток времени хотя бы на день и исчезнуть — его даже никто не хватится.
Но действовать надо было быстро, и потому Андрей, сочтя, что никто на него не смотрит, полез в карман и извлек портсигар. Но в тот момент за ним следили два человека: Лида, которая бежала близко, почти рядом, мысленно уговаривая Андрея посмотреть на нее, но не решаясь его окликнуть, чтобы не сделать хуже, и матрос, который вел задержанных и, оказавшись всего в двух шагах сзади Андрея, увидел, что студент, одетый по-летнему, в одной тужурке, лезет во внутренний ее карман и вытаскивает пистолет — угол серебряного портсигара, зажатого в руке Андрея, показался ему рукояткой пистолета.
Матрос не стал рассуждать. Испугавшись, что студент начнет стрельбу, он прыгнул вперед и, схватив Андрея за руку, рванул на себя так, что не ожидавший нападения Андрей чуть не упал и выпустил портсигар из руки.
Лидочка ахнула — ей показалось, что портсигар сейчас разобьется. Она ринулась вперед, чтобы подобрать его, но матрос оказался куда проворнее — он оттолкнул Лидочку, не поглядев на нее, схватил портсигар и только тут сообразил, в чем дело. Он туповато улыбнулся и доверчиво сказал Андрею:
— А я думал — пушка.
— Пошли, пошли, не отставай! — крикнул другой матрос, который замыкал процессию.
Толпа цыган неожиданно вклинилась между Лидочкой и Андреем.
И тут Андрей увидел Лиду.
— Все в порядке! — крикнул он. — Это недоразумение!
Он мысленно заготовил эти слова для Лидочки и произнес их, хотя, конечно же, в тот момент страх потерять портсигар — палочку-выручалочку — охватил его остро и больно.
Лидочка кивала, слушая, но смотрела на матроса.
— Отдайте, пожалуйста, — сказал Андрей матросу.
— Что с возу упало — слыхал такое? — осклабился матрос.
Андрей навсегда запомнил его улыбку и золотые коронки во весь сверкающий рот, лица не запомнил, а запомнил улыбку.
— Пошел, пошел, чего разговорился! — Андрея толкнули в спину дулом карабина, и он, чтобы не потерять равновесия, вынужден был пойти вперед. Он оглядывался — теперь уже не из-за портсигара, а чтобы увидеть Лидочку, потому что вдруг понял, что, потеряв портсигар, стал самым обыкновенным человеком, которого могут убить и, вернее всего, скоро убьют, и он больше никогда не увидит Лидочку.
На площади перед вокзалом, заранее подогнанная туда, стояла длинная черная тюремная фура. Арестованных быстро, с криками, чтобы не задерживались, толкая и ругаясь, погнали через площадь.
Лидочка бежала за арестантами.
Андрей помахал ей и крикнул:
— Не бойся! Я вернусь!
В тюремной фуре было тесно — туда набилось человек двадцать.
Стояли, держась друг за друга и за стены. В фуре пахло блевотиной и мочой. Было душно.
Фура дернулась и нехотя покатилась по мостовой. Внутри было темно, и люди молчали, они старались сохранить равновесие.
Путешествие было недолгим, но Андрей очень устал.
Потом фура остановилась, задняя дверь раскрылась. Андрей сразу догадался, что они находятся в тюремном дворе.
Снаружи стояли несколько матросов и тюремные стражники в серых, плохо сшитых мундирах.
— Руки назад! Выходи по одному! — закричал матрос. Матросы и тюремные надзиратели, не скрывавшие недовольства прибытием арестованных, выстроились в два ряда, пропуская задержанных. В стороне какой-то чин, видно, начальник тюрьмы, собачился с молодым телеграфистом в шинели. Он отказывался принять заключенных, а человек в шинели угрожал ему именем революции.
В ожидании конца спора заключенные остановились, стараясь не дотрагиваться друг до друга, как будто каждый подозревал соседа в заразной болезни и надеялся, что начальник тюрьмы окажется победителем, а матросы будут вынуждены отпустить их по домам. Но человек в студенческой шинели нашел неотразимый аргумент, который подействовал даже на привыкшего ко всему начальника тюрьмы:
— Тогда мы их прямо тут расстреляем!
— Почему?
— Не везти же их назад?
Этот революционер и подчиненные ему матросы были настолько серьезны, что начальник тюрьмы махнул рукой и велел старшему надзирателю:
— Принимай партию.
Андрея провели в низкое, с серыми захватанными стенами и решетками на окне помещение, где за столом сидел писарь крысиного облика, а посреди комнаты стояли три надзирателя, которым было скучно и которые спешили оформить новую партию заключенных. Они быстро и равнодушно обыскивали людей. Когда очередь дошла до Андрея, надзиратель провел руками по бокам, по бедрам и между ног, вытащил из карманов все мелочи, высыпал их на стол и, не найдя ничего подозрительного, ссыпал в мешочек.
— Когда будете покидать тюрьму, — сказал писарь крысиного вида, — получите назад все по описи. Если что, то отдадим родственникам. Так что не волнуйтесь.
— Я не волнуюсь, — сказал Андрей. И успокоился. Он понял, что если бы пришел сюда с портсигаром, его бы все равно отобрали.
Камера, в которой очутился Андрей, была переполнена. Судя по нарам в два этажа, она предназначалась для восьми заключенных, а в нее набили человек двадцать или более того. Многие остались на полу, особенно вновь прибывшие.
День за окном был тусклый, в камеру попадало совсем мало света. Прошло несколько минут, прежде чем глаза Андрея настолько привыкли к полутьме, что он смог отыскать себе место у стены, рядом с грустным лохматым человеком, который сидел на корточках, прижавшись спиной к стене, и, казалось, дремал.
— И где вас взяли? — спросил сосед, не раскрывая глаз.
— На вокзале, — сказал Андрей.
— И сейчас вы скажете, что совершенно случайно.
— Случайно, — сказал Андрей.
— Я так и думал.
Лицо лохматого человека казалось надменным — нижняя губа презрительно оттопырена. Разговаривая с Андреем, он смотрел мимо него.
— Офицер? — спросил лохматый.
— Нет, я студент. Мы с женой приехали из Батума и пошли на вокзал за билетами.
— Ой, только не говорите мне, что вы студент!
Андрей не стал отвечать — в конце концов, он никому не навязывался в собеседники.
Андрей почувствовал голод и удивился себе. Вот ты сидишь в тюрьме и ждешь разрешения своей судьбы, а так как ею правят сейчас чужие люди, они могут решить, что тебе больше не следует жить на свете. И они выведут тебя к кирпичной стене, уже забрызганной кровью других людей, таких же, как ты, случайных и ни в чем не повинных.
— А вы не правы, — сказал лохматый человек. — Категорически не согласен с вами. Невиноватых не бывает. Особенно когда в России революция. Революция должна карать, и если вы покажетесь невиноватым, то она в вашем лице накажет вашего отца или деда, которые были угнетателями народа.
— Я не угнетал, — сказал Андрей.
— Мне и это все равно, — сказал лохматый. — Индивидуально мне вас жалко. Но исторически я оправдываю вашу смерть.
— А вы большевик?
— Не сходите с ума! Неужели я похож на Гавена и компанию? Будем считать, что я — случайный обыватель, схваченный, как и вы, потоком времени и насилия.
— Потоком времени? — Андрей насторожился, уловив в этих словах возможный намек на обстоятельства, известные лишь ему.
— Назовите иначе, — не стал настаивать лохматый человек. — Назовите наш век шабашем, назовите, если хотите, прологом к светлому будущему.
— А вам самому как кажется?
Лохматый не ответил, он резко обернулся, потому что со скрипом отворилась дверь. В дверях стоял надзиратель. За его спиной виден был еще один.
— Зачем спешить? — спросил лохматый. — Гильотина ждет на рассвете.
— Обед! — объявил надзиратель. — А ну давай от дверей!
Из лохматого словно выпустили воздух. Он сполз по стене и лежал, подогнув ноги, словно чудом избегнул гибели.
— У меня живое воображение, — сказал он. — При всем моем равнодушии к смерти, которая мне, кстати, не грозит, — последовал острый взгляд, словно лохматый проверял, поверили ли ему, — при всем моем стоицизме я не могу не воображать. И знаете, что я вижу? Мрачный зал в тюрьме Консьержери, аристократы, красавицы света, герцоги, архиепископы, генералы, матери семейств — все смотрят на якобинского капрала со списком в руке. Сейчас его губы назовут твое имя…
Заключенные по очереди подходили к двери и принимали от надзирателя миску с супом и ложку. Второй надзиратель внимательно следил, чтобы миски и ложки были возвращены по счету. Андрей и лохматый тоже получили свою порцию. Пожилой усач с отвислым лицом, в морском офицерском кителе без погон, посторонился, освободив край нар, чтобы им было где поесть.
Похлебка была горячая, больше ничего хорошего о ней нельзя было сказать. Но Андрей не чувствовал вкуса. Горячее — было приятно. А вкуса не было.
Лохматый, видя, что Андрей отвернулся от него, обратился к усачу, который уступил им место на койке:
— А вы, если не секрет, почему здесь?
— Я здесь вторые сутки, — сказал усач. — Меня взяли вчера, в облаве… а всех остальных расстреляли!
— Какое варварство! — сказал лохматый, словно речь шла об утопленных котятах. — А вас не расстреляли?
— Они неразборчиво записали мою фамилию, — улыбнулся усач. — А я не стал отзываться — народу в камере было много, суматоха, офицеров увели, а я вот жду второй очереди.
— Может, отпустят? — сказал лохматый.
— Посмотрим — все зависит от того, когда кончится террор.
— Кто-то их должен остановить. Должен что-то сказать Центрофлот! Это же анархия, — сказал Андрей.
— Если это анархия, то она была кому-то нужна, — сказал усач. — Городом правят две сотни матросов, которые вернулись из Ростова. Остальные достаточно пассивны.
— Вот именно это я хотел сказать, — согласился лохматый.
Надзиратели собрали миски и ложки и ушли, заперев камеру.
— А почему вы решили, что их расстреляли? — спросил Андрей усача.
— Об этом весь город знает, — ответил за моряка лохматый.
— Но зачем?
— Не сегодня-завтра в городе возникнет новая сила, — сказал усач. — Я не знаю, кто это будет — Украинская Рада, анархисты, большевики, — они заявят, что вынуждены взять власть, чтобы остановить бесчинства.
— Как вы умно рассуждаете! — воскликнул лохматый и протянул усачу руку: — Елисей. Елисей Евсеевич. Торговый агент.
— Оспенский, не так давно капитан второго ранга, механик на «Георгии Победоносце».
Андрей тоже представился:
— Берестов. Андрей Сергеевич.
У Оспенского это имя не вызвало никакой реакции, но удивило Елисея Евсеевича.
— Берестов? — повторил он. — Просто не может быть!
— А что вас удивило?
— У вас нет тезки?
— По крайней мере я не знаю.
— Правильно, — сказал Оспенский. — Я тоже подумал: почему мне знакома ваша фамилия? Есть Берестов в штабе флота. Я, правда, не знаю, как его зовут. Кажется, лейтенант — он был адъютантом адмирала Колчака.
— Вот именно! — сказал Елисей Евсеевич. — Вот именно. Вам не повезло, молодой человек.
Он улыбнулся, показывая крепкие лошадиные зубы.
— Почему не повезло?
— Когда они узнают, что вы — адъютант Колчака, с вами не будут церемониться.
— Но я не адъютант Колчака! — возразил Андрей. — Да и Колчака, насколько мне известно, давно нет в Севастополе.
— Колчак в Америке, — сказал Оспенский. — Он в безопасности и имеет куда больше шансов, чем все мы, дожить до старости.
— Да, кому-то везет, а кто-то вытягивает несчастливый номер, — вздохнул Елисей Евсеевич. — Значит, вы утверждаете, что не служите на флоте?
Андрей отрицательно покачал головой.
Елисей Евсеевич отстал от него. Совсем рядом, над его головой он мирно беседовал с Оспенским о какой-то общей знакомой в Балаклаве, словно они находились на даче и вышли на лужайку отдохнуть после сытного обеда. Андрей не мог не слышать голосов. Он не верил в то, что его соседи по камере так спокойны. Он не знал, почему тут оказался Елисей Евсеевич, хотя он не похож на офицера или на чиновника и вообще ни на кого не похож, но ведь Оспенский, если верить ему, чудом избежал смерти прошлой ночью и не имеет шансов спастись сегодня. Как же они могут разговаривать!
Впрочем, и остальные обитатели камеры вели себя вяло, словно пережидали этот долгий день, чтобы потом вернуться по домам. Никто не метался, не стучал в дверь — почему же Андрею хочется молотить кулаками по двери?
А что за глупая идея, будто он — адъютант Колчака? Не дай Бог и в самом деле кто-нибудь из матросов взглянет на список арестантов и прикажет отправить Берестова вместе с Оспенским.
Нары были жесткие, сидеть невозможно — Андрей поднялся, ему хотелось ходить, двигаться, но на полу сидели и лежали люди. Можно сделать два шага и остановиться.
Как убедить себя, что все происходящее — лишь сон?
Почему-то хотелось есть.
Андрей обратил внимание на то, что начало темнеть — за окном была синь и в камере почти ничего не видно. Только голоса, кашель и дыхание. От этого было еще теснее и нечем дышать…
Необходимо было что-то делать. Срочно. Но последовательность и относительная важность действий мешались в голове, и потому Лидочка еще некоторое время после того, как Андрея увели и она, выбежав на площадь, увидела, как его сажают в крытую тюремную фуру, продолжала стоять на месте, глядеть, как закрывают дверь и как фура отъезжает. Потом она спохватилась, что украли чемодан, — а в нем все вещи и бумаги. Лидочка кинулась обратно, и, к ее искреннему удивлению, чемодан не был украден, а дожидался ее у стены. Лидочка даже приподняла его, чтобы убедиться, он ли это.
Теперь надо бежать… бежать, освобождать Андрюшу! Или сначала отыскать того скуластого матроса, который отобрал у Андрея портсигар, — но ведь он не отдаст! А где искать этого матроса?
Держа в руке чемодан и согнувшись влево под его тяжестью, Лидочка пошла к комнате коменданта, но, не доходя до нее, увидела, как некто в военной шинели дергает за ручку двери, но дверь заперта. Лидочка поставила чемодан на пол и подумала: «Вот мне сейчас очень хочется разреветься, а главное — не разреветься. Ни в коем случае. Потому что сейчас что-то случится и станет лучше — не бывает же совсем безысходных положений. Господи, помоги мне выручить Андрюшу».
И как бы в ответ на ее молитву совсем рядом, над самым ухом раздался тихий, знакомый голос:
— Лидочка, ты что здесь делаешь?
Она резко оглянулась.
— Молчи, — сказал Ахмет. — Не надо меня узнавать.
Если бы он ее не окликнул, Лидочке бы никогда не догадаться, что это ее старый приятель. На Ахмете была широкополая шляпа, подобная той, в какой любил фотографироваться Максим Горький, и широкое серое пальто с поднятым воротником.
— Ой, я сейчас заплачу, — честно предупредила его Лидочка, — я сейчас зареву.
— Что с Андреем?
— Его арестовали!
— Этого еще не хватало!
Ахмет подхватил чемодан и понес его к небольшой боковой двери, которая, оказалось, вела в вокзальный ресторан, наполненный публикой, жаждущей хоть как-нибудь перекусить. Лидочка сразу поняла, что места им не отыскать, да и не хотелось ей есть, но у Ахмета были совсем иные планы. Он прошел через зал и, откинув малиновые шторы, нырнул на кухню. Лидочка последовала за ним.
— Направо, — сказал Ахмет. Лидочка повернула в коридор, мимо ярко освещенной кухни, и они оказались возле склада, где стояла скамейка, на ней сидели два молодых человека, немедленно вскочившие при появлении Ахмета и разом заговорившие по-татарски. Ахмет оборвал их и сказал: — Садись, Лида, мои ребята постараются, чтобы никто сюда не зашел. И рассказывай.
— Все ясно, — сказал Ахмет, выслушав рассказ Лиды о событиях нынешнего утра. — Ситуация не такая трагическая. Андрюша не офицер, он вообще приезжий и не должен вызывать ненависть революционных моряков.
Ахмет говорил уверенно, хотя не был ни в чем уверен. Когда начинается террор, соображения рассудка отступают.
Но утверждение Ахмета о безопасности Андрея было настолько желанным, что Лидочка сразу успокоилась — будто гуляла в лесу, заблудилась, а тут ее нашел старший брат и ведет к выходу из леса. Главное теперь — слушаться его.
— Я тебе постараюсь помочь, — сказал Ахмет.
— А как?
— Чем меньше ты знаешь, тем лучше. Если ты чего не знаешь, не проговоришься. Погоди, не сердись, я могу тебе только сказать, что у меня дело в той же тюрьме. Там сидит совершенно невинный наш товарищ, которого отправили сюда из Симферополя, потому что в Симферополе мы бы его обязательно освободили. Знаешь кто?
Лидочка отрицательно покачала головой.
— Верховный муфтий Крыма.
Звание ничего Лидочке не говорило, но она поняла, что это какой-то религиозный чин.
— Мы должны освободить Челибиева. Это очень хороший человек, прогрессивный, можно сказать — социалист, — сказал Ахмет. — Его свои же муллы русским отдали. Сайдемат сказал: «Ахмет, ты должен привезти Челибиева», и я сказал: «Я привезу, Сайдемат». Тебе ясно?
— Ясно, — сказала Лидочка, не спросив, кто такой Сайдемат.
— Сегодня же мои люди узнают, где сидит наш Андрюша. А завтра мы будем Челибиева брать, постараемся и Андрюшу с собой взять, тебя это устраивает?
— Да, — тихо сказала Лидочка, которой очень хотелось поцеловать небритую черную щеку Ахмета, но она не знала, имеет ли право русская женщина целовать настоящего мусульманина?
— Тогда пойдем отсюда, мы тебя пока поселим у хороших людей.
Ахмет тихо свистнул, один из молодых людей появился рядом, будто и не отходил, и взял чемодан.
Лидочка с облегчением пошла за спутником Ахмета, но уже через несколько шагов почувствовала такую слабость в ногах, что остановилась и оперлась рукой о стену.
— Нельзя стоять, — сказал молодой татарин, несший ее чемодан.
Лидочке не хотелось признаваться в своей слабости, но она не могла сделать ни шагу. Тогда молодой татарин поставил чемодан на пол, показывая этим, что умывает руки. Обернувшись и увидев это, возвратился Ахмет. Лидочке было стыдно, хоть сквозь землю провались. Но тут она увидела, что в зал вошел и остановился, словно отыскивая взглядом очередную жертву, тот самый скуластый матрос, который отобрал у Андрея портсигар. Карманы его бушлата были оттопырены, и Лидочке даже показалось, что она угадывает в правом кармане очертания портсигара.
— Он, — прошептала она.
Как раз в этот момент матрос обернулся и встретился с ней глазами. На какое-то мгновение их взгляды слились, и Лидочка испугалась, что он прочел ее мысли, но матрос вдруг весело подмигнул ей, и Лидочка непроизвольно улыбнулась ему в ответ — такая у матроса была широкая и открытая улыбка веселого негодяя и пьяницы.
Матрос тут же забыл о хорошеньком личике, увиденном в толчее — не для этого он здесь был, — он был охотником на беззащитную дичь мужского пола.
И как только он выпустил Лидочку из поля зрения, она кинулась к подошедшему Ахмету:
— Это он, Ахмет, миленький, это же он!
— Что с тобой, не волнуйся.
— На нас смотрят, — с осуждением сказал молодой татарин.
— Он отнял у Андрея портсигар. Вон там, в правом кармане!
— Какой портсигар, объясни.
— Когда они схватили и повели Андрея, он отнял у Андрея портсигар, его надо обратно взять.
— Украл, да? — спросил второй молодой татарин, подойдя к ним.
Ахмет смотрел на нее удивленно, и Лидочка прочла в его взгляде вопрос, можно ли говорить о каком-то портсигаре, когда Андрею грозит смерть.
— Это самая ценная вещь! — чуть не кричала Лидочка, которой казалось, что без портсигара Андрей бессилен, никогда не вернется к ней. — Это подарок Сергея Серафимовича!
— В карман положил? — спросил Ахмет.
— Я видела, в правый карман. Ахмет, миленький, у меня есть деньги, сколько хочешь, я все отдам — пойди купи у него портсигар, объясни, что это память об отце…
— Если подойти, — сказал молодой татарин, — то плохо. Он подумает — какой ценный вещь, сразу не отдаст и еще смеяться будет, он пьяный, он русский, я знаю, какой подлый.
— Иса прав, — сказал Ахмет. — Просить нельзя.
— Не просить — купить!
— Попробуем иначе, — сказал Ахмет и обратился к Исе с вопросом по-татарски, тот пожал плечами и тут же пошел прочь.
— Ну что? — спросила Лидочка.
— Ничего, пойдем на площадь. Ты не бойся. Сделаем.
— Может, я все-таки деньги отдам?
— Лида, ты глупый человек, — недобро улыбнулся Ахмет. — Раньше ты мне другом была. А теперь немного с ума сошла.
— Я так волнуюсь за Андрюшу.
— Ты и раньше волновалась, когда мы в Батуме жили. А что? Разве он не приехал? Ты меня знаешь?.. Иди к трамваю.
Ахмет шел чуть впереди и сбоку, сунув руку в карман пальто.
Молодой татарин, который нес чемодан, медленно топал за Лидочкой, согнувшись от веса чемодана и изображая носильщика.
— Иди к трамваям, — сказал Ахмет, полуобернувшись. — Но не садись, пока я тебе не скажу.
Они вышли на площадь. Как раз перед Лидочкой патруль матросов со смехом и грубыми шутками гнал перед собой стайку цыганских женщин. Мужчины-цыгане осторожно, стаей лисиц за волками, шли сзади. Один трамвай, совсем пустой, зазвенел, покатился через пыльную площадь прочь от вокзала. На его место устало, еле-еле, приехал другой.
— Пошли, — донесся голос Ахмета.
— Пошли, — сказал носильщик.
Откуда-то появилась толпа солдат, они были плохо одеты, папахи и шинели изношены и грязны, некоторые с винтовками, но большей частью безоружны. Завидя трамвай, они побежали к нему. Лидочка смешалась с этой толпой, она совсем не боялась солдат, которым тоже не было до нее дела; солдаты буквально внесли ее в трамвай, открытый, без стекол, — словно дачная веранда на колесах. Носильщик с чемоданом был поблизости — Лидочке была видна его серая фуражка, а Ахмета она увидела, только когда трамвай со звоном и веселым грохотом колес покатил в гору, мимо одноэтажных привокзальных домиков. Ахмет стоял на передней площадке, рядом с ним стоял Иса.
Лидочка еле удержалась, чтобы не закричать:
— Ну что? Что, удалось?
Ведь если не удалось, теперь этого матроса не отыскать.
Через три остановки Ахмет вдруг поднял руку и крикнул:
— Сходим, Иса!
— Сходим!
Молодой татарин подхватил чемодан и, расталкивая матерящихся солдат, полез к выходу, увлекая Лидочку.
Ахмет поднял руку, резко дернул за шнур, протянутый под потолком, трамвай отозвался грустным звоном, будто не хотел расставаться с Лидой. Но начал тормозить.
Ахмет первым успел соскочить с трамвая и подхватил Лидочку, которая замешкалась на подножке. Солдаты смеялись.
Трамвай тут же покатил дальше, солдаты махали с задней площадки.
— Быстро пошли, — сказал Ахмет. — Сегодня не надо гулять по улицам.
Лидочка не успела спросить про портсигар, потому что Ахмет нырнул в узкий переулок, взбирающийся в гору, и побежал. Его спутники следом, Лидочке нельзя было отставать.
Отдышалась она только в небольшом винограднике, пока татары стучали в дверь и ждали хозяйку.
Хозяйка, злобная на вид старуха с носом, тянущимся к острому подбородку, сказала:
— Эту еще где нашли?
— Неужели не видите, госпожа Костаки, — вежливо сказал Ахмет, — что вы имеете дело с благородной дамой? И ей мы уступаем маленькую комнату.
— Только без этого, — сказала старуха.
— Мы не будем настаивать, госпожа Костаки, — сказал Ахмет.
Он провел Лидочку в маленькую белую комнатку, единственным предметом мебели в которой была покрытая кружевным покрывалом продавленная кровать, а над ней на стене был прикреплен простой крест, вырезанный из темного дерева.
Ахмет вошел в комнату следом за Лидой и на открытой ладони протянул ей портсигар Андрея.
— Ахмет, — сказала Лида, — Ахметушка…
— Без сантиментов, — сказал Ахмет, — наше превосходительство этого не выносят.
— И за сколько вы его купили? Я отдам.
— Мы не купили, у Исы ловкие пальцы.
— Он украл?
— По-моему, это для тебя трагедия, — сказал Ахмет, — ты сейчас побежишь искать матроса, чтобы вернуть украденное…
— Прости.
— Потом, когда все обойдется, сделаете Исе подарок. Я с тобой прощаюсь ненадолго, нам надо посоветоваться, каким образом лучше проникнуть в тюрьму. А ты отдохни.
— Только недолго!
Когда совсем стемнело, надзиратель принес два фонаря «летучая мышь». Один поставил на стол посреди камеры, а второй повесил на железную перекладину, протянутую через камеру.
— Расскажите мне о себе, — попросил Елисей Евсеевич, — я очень люблю биографии других людей. Во мне есть писательский дар, я его чувствую.
— Ничего интересного со мной не случалось, — сказал Андрей.
— Но вы — историк? Студент-историк? Я прав?
— Я археолог.
— Моя мечта, — сказал Елисей Евсеевич. — Я всегда мечтал стать археологом. И теперь я займу ваше место.
— Почему займете?
— После вашего расстрела, — сказал Елисей Евсеевич. — К сожалению.
Он тонко засмеялся, потом неожиданно оборвал смех и добавил:
— Честное слово, мне вас жалко.
— Шутки у вас дурацкие, — сказал Оспенский, который дремал на нарах, подложив под голову свернутый китель.
— Но шутник не я, — ответил Елисей. — Шутники ходят снаружи.
— А здесь ужином кормить будут? — спросил Андрей, и ему стало стыдно, потому что Елисей засмеялся, а Оспенский улыбнулся в темноте, и стали видны его голубые зубы.
— Как нам трудно поверить в собственную смерть, — сказал Оспенский. — Особенно если мы молоды.
— Честное слово, я не вижу оснований, — сказал Андрей. — Ведь революция уничтожает только своих врагов.
— Революция сама решает, кто ее враг, а кто нет, — сказал Оспенский. — Дети аристократов, погибшие в Париже, не замышляли дурного.
— А вы меня забавляете, капитан, — сказал Елисей, дергая за длинный, торчащий, как у Дон Кихота, ус. — В отличие от других вы ведете себя спокойно и даже позволяете себе спать, хотя кому нужен сон на пороге вечности?
— А я рассчитываю на счастливый поворот событий, — сказал Оспенский, — на мою фортуну. Ведь она оградила меня от смерти вчера — почему бы ей не расщедриться и нынче? Я вам скажу: террор недолговечен. Он нажирается своими изобретателями.
— А во Франции? — вмешался Андрей. — Там года три убивали!
— А опричники? — сказал Елисей. — Это же годы и годы!
— Разрешите возразить вам, господа, — сказал Оспенский, — вы говорите о политике террора — о сознательной и организованной кампании устрашения. Но сейчас мы имеем дело с банальным разбоем, с погромом. Когда все перины вспороты и бабы изнасилованы, наступает отрезвление. По моим расчетам, оно наступит уже сегодня. На кораблях и в городе есть разумные силы.
Елисей стал серьезным. Даже голос звучал иначе, без смешка и попыток развлечь собеседника.
— Мне кажется, — сказал он, — что мы имеем дело с опричниной. С тем явлением, которое вы назвали организованной кампанией устрашения.
— За такой кампанией кто-то должен стоять.
— Вот именно.
— Так назовите мне эту силу! Адмирал Немитц и Морской штаб?
— Адмирал Немитц уже бежал из Севастополя.
— Значит, вы хотите сказать, что это татары?
— Татары не имеют никакого влияния на солдат и матросов, да и не хотят на них влиять.
— Совет?
— Уже теплее, — сказал Елисей. — Но сдвиньтесь еще левее.
— Украинская Рада?
— Опять холоднее, — сказал Елисей.
— Не томите меня, — сказал Оспенский. — Что за дьявольская сила стоит за погромом?
— Это большевики, — сказал Елисей.
— Какие еще большевики? — не понял Оспенский.
— Это часть партии эсдеков, — пояснил Андрей. — Они взяли власть в Петрограде.
— Так бы вы сразу и говорили! — сказал Оспенский.
Вспышка спора, затем какая-то возня возникла в другом конце камеры. Гулкий голос матерился и грозил всех вывести на чистую воду. Разговор, который вели рядом Оспенский и Елисей Евсеевич, вполне мог и должен был состояться в гостиной или на веранде, а не в сыром, пропахшем мочой темном погребе. Надо потереть глаза, тогда все это кончится и окажется сном. Незаметно для окружающих Андрей ударил себя по виску — отдалось в голове, но ничего не исчезло. Лишь Елисей Евсеевич бубнил:
— Расскажите мне, как еще большевикам взять власть, если даже после переворота, организованного ими в Петрограде, после того, как они провозгласили себя законной властью, находятся люди вроде нашего сокамерника господина Оспенского, которые утверждают, что и названия такого не слыхали.
— Простите, я так далек от современной политики, — сказал Оспенский извиняющимся тоном.
— Фамилию Романовых вы знали даже без политики. А что вам говорит фамилия Троцкий? А фамилия Зиновьев?
— Ничего.
— А заговорит, — убежденно сказал Елисей Евсеевич. — Скоро заговорит, если вы переживете эту ночь. Потому что они крепко сели на престол и теперь распространяют свою власть по России.
— И здесь? — спросил Андрей.
— И неизбежно здесь! Севастополь им нужен как воздух — это господство над Черным морем. Это тысячи вооруженных моряков и солдат. Но как захватить власть? Как — если их здесь единицы и никто не принимает их всерьез?
— Как? — повторил вопрос Оспенский.
— Я бы на их месте сколотил компанию пьяных матросов, которым хочется крови и разгула. Я бы дал матросам оружие, я бы науськал их на офицеров и спустил бы с цепи! А они бы устроили Варфоломеевскую ночь, после которой я бы вмешался, навел бы порядок с помощью тех же убийц и бандитов и заявил бы перепуганному обывателю, что больше погромов и убийств не будет, что я сожалею о них и что виноватые в них матросы получат устный реприманд…
— Вы меня пугаете, Елисей Евсеевич, — сказал Оспенский.
— Вы бы знали, как я пугаю себя! — ответил Елисей. — Я не могу спать.
Он сделал паузу и закончил фразу словно бы заученными словами:
— И хотя я не имею никакого отношения к вашим делам и мне ничего не грозит, я очень боюсь за вас и других молодых людей, которым сегодня не повезло. И знаете, чего я еще боюсь? Я боюсь, что, когда большевикам удастся этот кунштюк в Севастополе, они повторят его еще в тысяче городов и будут повторять, пока не подавят, не подомнут всю Российскую империю.
— Такие долго не удерживаются, — сказал Оспенский.
— Дай Бог вам их пережить, — сказал Елисей Евсеевич.
Андрея удручали запахи — они были застарелыми, въевшимися в стены, в пол, да и сам воздух никогда здесь не менялся. И было подвально холодно. Андрей поджал под себя ноги, он был бы рад прижаться к Елисею — но неловко было спросить разрешения. Хотелось пойти к параше — но ведь неприлично мочиться при посторонних, как животное.
— Почему вы здесь? — спросил Оспенский.
— Я торговый агент, — сказал Елисей Евсеевич, — меня задержали по подозрению в контрабанде. Они сказали, что я буду сидеть, пока за меня не внесут пять тысяч. Наверное, сегодня к ночи моя жена вернется из Ялты с деньгами, так что ночью я вас покину.
— Или мы вас покинем раньше, — сказал Оспенский.
Андрей все же подошел к параше. Там пахло еще сильнее, и тем, кто сидел неподалеку на полу, было совсем гадко. Хотя неизвестно, замечали они это или нет.
Он провел рукой по карману, будто портсигар чудесным образом мог возвратиться на место. «Господи, если бы он у меня был, я бы унесся на двадцать лет! Я бы вылетел из этой войны и этого сумасшедшего дома. Я бы вынырнул из потока в тридцать седьмом году, когда эта тюрьма уже будет никому не нужна, когда все двери будут раскрыты. Ведь человечество обязательно станет лучше, и это случится скоро… Но ведь эти матросы, которые стреляют в офицеров, они тоже хотят хорошей жизни — для всего народа. А большевики, которые взяли власть, чтобы заключить мир и чтобы больше не погибали солдаты, — неужели они хотят дурного?»
— Ну ты что, так и будешь стоять? — Плохо различимый в темноте мужчина толкнул Андрея — ему понадобилась параша.
Возвращаясь на свое место, Андрей вдруг подумал: «Как же я рассуждал — неужели я так струсил, что не думал о Лидочке? Хотел оставить ее одну? Нет, главное, чтобы меня отпустили, тогда мы уедем, и не нужны нам будут эти портсигары — изобретения дьявола, которые дарят тебе видимость свободы, но на самом деле выбрасывают тебя, как кукушка чужих птенцов из гнезда».
Елисей Евсеевич поднялся навстречу Андрею.
— Можно поговорить с вами конфиденциально? — спросил он.
— Меня можете не брать в расчет, — сказал Оспенский.
— Отдыхайте, отдыхайте, — мягко сказал Елисей Евсеевич.
Длинными пальцами он твердо взял Андрея за локоть и повел к двери, к параше, откуда Андрей только что с таким облегчением отошел.
— Я вас не задержу, — сказал Елисей Евсеевич, — меня тревожит одна маленькая проблема.
Андрей начал считать про себя, чтобы дотерпеть до конца разговора.
— Вы уверены, что вы именно тот Берестов, за которого себя выдаете? — спросил он.
— Такой я с детства, — ответил Андрей и продолжал считать.
— Я совсем не шучу, — вздохнул Елисей Евсеевич. Свет фонаря освещал, хоть и тускло, одну щеку и глаз, который загорался при повороте головы адским пламенем. — Я беспокоюсь за вашу судьбу.
— А что натворил мой тезка?
— Он сотрудник полковника Баренца — это вам что-нибудь говорит?
— Я же сказал, что я первый день в Севастополе, — уклонился от ответа Андрей. Ему вдруг стало стыдно признаться в знакомстве с Баренцем.
— Как хотите, — сказал Елисей Евсеевич. Он был на самом деле расстроен. — Но вы такой молодой, и мне не хочется, чтобы случилась трагедия.
Андрей перестал ощущать вонь от параши. Его собеседник был абсолютно серьезен и расположен к нему, он хотел помочь. Андрей вдруг вспомнил вопрос тонкогубого Баренца: знакома ли вам фамилия Беккер? Но при чем тут Беккер?
— Баренц — начальник морской контрразведки, — сказал Елисей Евсеевич. — Ненавистная фигура для матросни. Берестова они тоже знают.
— Знают? Значит, меня с ним не спутают.
— Вы думаете, они знают вас в лицо? — удивился Елисей Евсеевич. — Ни в коем случае! А вы недавно женились?
— Месяц назад, в Батуме.
— Ай-ай, какое несчастье! И вы, наверное, любите свою жену?
— Что за вопрос!
— Мне за вас страшно, вы даже не представляете. — Елисей Евсеевич смахнул мизинцем маленькую слезу, зародившуюся в уголке глаза, — а может быть, Андрею это показалось. — Но мы будем думать, как вам помочь…
Они вернулись к нарам, Оспенский не спал — он подогнул ноги, чтобы им можно было сесть. Андрей чувствовал себя усталым и разбитым. Хотелось вытянуться на нарах — но как прогонишь Оспенского? Андрея охватило раздражение против моряка: нары в камере не были его собственностью. Может быть, это последняя возможность для Андрея вытянуть ноги.
Но Оспенский ни о чем не догадывался. Андрей прислонился спиной к стене, но стена была такая холодная, что стало зябко даже сквозь тужурку.
— Андрей, Андрей! — звал его чужой голос, и Андрею показалось, что он идет по лесу и впереди светит огонек избушки — до нее надо дойти, но впереди столько могучих стволов…
Оспенский толкнул Андрея и этим разбудил.
— Ложитесь, — сказал он, поднимаясь, — а то вы во сне упадете.
Оказывается, Андрей заснул сидя. Не в силах сказать что-нибудь, Андрей покорно улегся на нары и сквозь забытье слышал, а может быть, воображал разговор, что велся рядом.
— А вы одинокий? — Это голос Елисея Евсеевича.
— У меня есть жена и взрослый сын. Они в Петрограде.
— По крайней мере в безопасности.
— Они могут начать охоту и за родными офицеров.
— До этого они не дойдут. Даже царь этого не делал, — возразил Елисей Евсеевич. — А вот я одинок. Как перст. Я любил одну женщину, но она отдала сердце другому. Это буквально трагедия. Так что мне все равно — сидеть в тюрьме, гулять по Нахимовскому бульвару или уехать в Турцию.
— Гулять лучше, — сказал Оспенский.
— А Берестов уже женат, — сказал Елисей Евсеевич укоризненно. — Это же удивительно, в каком возрасте дети стали жениться! Ему еще восемнадцати нет. Ей, наверное, тоже.
— Будет очень грустно, если его пустят в расход, — сказал Оспенский.
«Они думают, что я сплю и ничего не слышу, — подумал Андрей. — Иначе бы они молчали. А ведь я совсем не молод, я только молодо выгляжу…» — и Андрей снова уснул.
— Ахмет, — сказала Лидочка, — мне нужно с тобой поговорить.
Ахмет сидел на веранде, его молодцы — рядом, они чистили оружие. Оказалось, что пистолеты состоят из многих маленьких частей, о чем Лидочка раньше и не подозревала.
Ахмет был недоволен тем, что она вышла на веранду, — он думал, что Лидочка отдыхает.
— Тебе нужно что-то? — спросил он, поднимаясь и идя к ней навстречу. Лампа горела сзади, и его тень была огромной и зловещей.
— Да, ты прав, — сказала Лидочка. — Ты прости, что мне всегда приходится тебя просить. Я даже не могу выразить словами, как я тебе благодарна. Но за просьбой бывает следующая. Если я смогу что-то сделать для тебя — ты же знаешь, я все сделаю.
— Пока что такой возможности не было, — сказал Ахмет.
— Я даже сердиться на тебя не буду, — сказала Лидочка. — Если тебе хочется обижать меня, унижать, ругать — ты можешь это делать.
— Глупая женщина, — сказал Ахмет. — Говори, а то нам скоро идти.
— Этот портсигар, — сказала Лидочка.
— Ну и что?
— Его надо отдать Андрею.
— Вот вернется, тогда и отдашь. Сама отдашь. Зачем мы будем с собой такую ценную вещь таскать?
— Ахмет, я ведь не дура?
— Ты умная, хоть и дура.
— Хорошо. Ты можешь поверить, что этот портсигар нужен Андрею?
— Очень даже могу поверить. Он из него папиросы достает.
— Ахмет, этот портсигар может спасти ему жизнь.
— Но его жизнь не надо спасать! Это мое дело. Я его сам спасу.
— А вдруг случится, что ты не сможешь? Ты же только человек!
— Я очень хитрый человек. Если они нам не отдадут Андрея, мы всех поставим к стенке.
— Но если не выйдет, передашь?
— Если не выйдет, мы так будем бежать, что некогда отдавать портсигары.
— Ахмет!
— Давай сюда свой портсигар. Только я ничего не обещаю.
— Я знаю.
— А теперь иди внутрь, а то совсем холодно, простудишься.
— Вы когда уходите?
— Мы пойдем в одиннадцать, — сказал Ахмет.
— Вы не будете штурмовать тюрьму?
— Глупо! Зачем нам умирать? Мы должны внутрь пройти, у нас там люди купленные.
Они ушли раньше одиннадцати, и Лидочка была обижена — она сидела в комнате, смотрела на часы, ждала одиннадцати, чтобы проститься с татарами, тайком перекрестить их. Но они ушли раньше, и когда она выглянула на веранду, их и след простыл. Для Лидочки началось тягучее и томительное ожидание, в котором медленнее улитки двигалось время.
После завтрака Коля Беккер заснул и проспал почти весь день, приказав Раисе всем говорить, что его нет дома. Но Раиса и сама ушла, все еще сердитая на Колю за то, что тот не хотел освободить Елисея Мученика. Это не значит, что она поспешила выручать старого друга, — Раиса была привязана к людям по-кошачьи: пока мужчина рядом, он хорош и любим. Но людей, которые были в каком-то другом, далеком месте — в отъезде, в тюрьме или померли, — она любить и даже помнить не умела, даже имена их вспоминала с трудом. Так и с Мучеником — он и без того отступил далеко назад перед Колей, а теперь пропал. Коля поступил плохо, не по-людски, не порадел за Елисея, но его тоже можно понять: чего ему вступаться за Раисиного любовника? Обидно было, что Коля недобрый, но Мученика не было жалко.
Так что Коля спокойно проспал весь день, а к вечеру проснулся от выстрелов на улице, совсем близко. И решил не выходить: был велик риск ходить по улицам, а к тому же неясно было — куда идти? В Морской штаб? А если его громят матросы и топят офицеров? А может, пойти к Гавену? Нет, Гавен совсем уж чужой, он может придумать для Коли дело, которое запачкает его репутацию, — а Коле не хотелось, чтобы его связывали с большевиками.
Коля поел, сам себе согрев еду, и стал ждать возвращения Раисы, а пока что играл в шашки с ее сынишкой, который, хоть и маленький, был в шашках силен…
Гавен, которому матрос принес из тюрьмы списки арестованных, страшно устал, он с ног валился — вторые сутки почти без сна! Он читал список, а думал о том, как бы поспать хотя бы полчаса. После каждого имени, написанного большими полуграмотными буквами, стояли пометки: «о», что означало офицер, и «п» — подозреваемый, или вовсе не было пометки, что означало, что составитель списка не представляет, почему заключенный оказался в тюрьме.
Гавен понимал, что он, волей судьбы вершитель жизни и смерти этих людей, должен всматриваться в этот список и быть холоден, но объективен. Но это было невозможно сделать без того, чтобы самому не допросить всех заключенных, — ведь доверять матросам было невозможно. Но ни он сам, ни его немногочисленные помощники не имели ни времени, ни формального права допрашивать тех людей. Больше того, ни один из узнаваемых членов его партии не должен был и близко подходить к тюрьме, чтобы никто никогда не связал с большевиками кровавые события в Севастополе.
Гавен, впрочем, отлично понимал историческую миссию, возложенную на него. И в частности, без всякого озлобления и даже с печалью осознавал, что обязан отдать на заклание офицеров, содержащихся в тюрьме, — иначе город не будет достаточно запуган, другие партии подавлены страхом, иначе не будет оснований и возможности захватить власть, имея в своем распоряжении лишь горстку заговорщиков. И для того чтобы совесть, существовавшая в Юрии Петровиче, как и в каждом человеке, молчала и не мучила его, Гавен не хотел видеть офицеров — пускай они останутся именами в списке врагов революции, но не людьми, у которых есть жены и дети.
Гавен, как недавно приехавший в город, мало кого знал на флоте и в полуэкипаже, так что, ставя крестики у фамилий, уже помеченных роковой буквой «о», был по-своему объективен. За двумя исключениями.
Среди первых же фамилий встретилась знакомая: Берестов Андрей Сергеевич. Возле фамилии стояла буква «п».
— Бред и чепуха, — сказал Гавен.
Нина Островская, которая как раз заглянула в комнату в поисках своего блокнота, услышала реплику и спросила:
— Что случилось, Юрий?
— Мои архаровцы перестарались, — сказал Гавен. — Видно, он шел с дежурства, его и прихватили. То-то я его сегодня не видел.
— Ты о ком?
— Андрей Берестов в тюрьме ждет расстрела.
— Полезный мальчик, — сказала Нина Островская. — Было бы жалко, если бы его пустили в расход.
— Хорошо, что я потребовал списки, — сказал Гавен. — Так можно лишиться перспективных товарищей.
— У меня идея, — сказала Нина Островская. — Я сейчас поеду как раз мимо тюрьмы, заскочу туда и его освобожу.
— Зачем?
— Пускай спасение у него будет связано с моим образом, — сказала Нина, резко поправляя черные прямые волосы. — Попутчики должны чувствовать, что партия о них заботится.
— И не мечтай, — сухо сказал Гавен. — Не смей близко к тюрьме подходить! Ты хочешь, чтобы завтра каждая собака в Севастополе кричала, что мы расстреливаем людей?
— Хорошо, хорошо, — устало ответила Нина. Она тоже не спала уже вторую ночь. — Только убедись, что его не шлепнут.
Гавен крупно написал возле фамилии Берестова: «Освободить». И потом, подумав, подчеркнул ее.
Рассчитывая увидеть еще одно знакомое имя, Гавен проглядел список. Его взгляд упал на фамилию Мученик.
— Нина, смотри, чего матросы натворили! — слишком громко сказал он.
Островская подошла и наклонилась. От нее пахло дешевым табаком и потом.
— Мученик? Как же наш соглашатель туда угодил?
— Вспомнил! — сказал Гавен. — Мне же Шашурин говорил, что он той ночью требовал прекратить расправу над гражданами свободной России, — тут его, видно, и прихватили!
Гавен не выносил Мученика, даже его громкий голос вызывал в нем внутреннюю дрожь. Если Мученик на заседании Совета вскакивал с очередным запросом, Гавен попросту выходил из комнаты.
— Анекдот, — сказала Островская. — Наш революционный соперник вместе с офицерьем! И чего его понесло?
— Я сам удивляюсь. Я думал, он наложил в штаны и сидит под кроватью, а он ночью на Малахов курган поперся.
— Теперь берегись, — сказала Нина, — Он в тюрьме получит информацию… лишнюю информацию. Это плохо.
— Не получит, — сказал Гавен, ставя возле фамилии Мученика буковку «о» и крестик для надежности. — Не получит он никакой информации, потому что его отправят в штаб Духонина. Вместе с его подзащитными.
— Ты решил его не освобождать?
— Вот именно. Трагическая случайность.
— Трагическая случайность неожиданно оборвала жизнь нашего старого товарища, члена Севастопольского Совета от партии социал-демократов меньшевиков… Нет, не трожь его. Меньшевики поднимут вой.
— История не прощает либерализма, — возразил Гавен. — Мученик для нас опаснее, чем сто офицеров, — он враг внутренний, маскирующийся под революционера.
— Ты просто его не выносишь. И сам велел его арестовать.
— Его не выносит мое классовое чутье, — сказал Гавен.
— К какому классу принадлежим? — ядовито спросила Нина.
Гавен сложил список, подошел к двери и крикнул:
— Шашурин!
Вошел толстый вольноопределяющийся с красным носом.
— Товарищи из тюрьмы ждут?
— Сидят, чай пьют.
— Отлично. Передай товарищам этот список. Они знают, что делать.
Гавен вернулся в комнату и сказал:
— Как я хочу спать!
— Революция — это бессонница, — сказала Нина Островская. Потом подумала немного и добавила: — Но я продолжаю настаивать на освобождении Мученика.
— Я учел ваше мнение, товарищ Островская, — официально сказал Гавен и улегся, не снимая сапог, на продавленный кожаный диван. — А теперь можно поспать. Хотя бы час.
Островская вышла, хлопнув дверью.
Странное, тягучее, почти праздничное напряжение все более овладевало Андреем по мере того, как приближалась ночь. И это происходило не только с ним, но и с прочими обитателями большой камеры. Никто не спал. Многие стояли или пытались ходить, вызывая раздражение и ругань тех, кто оставался сидеть на полу. Люди не разговаривали, а перебрасывались отдельными фразами как будто для того только, чтобы не упустить тот момент, когда начнет отворяться дверь. «Я провел с этими людьми почти целый день, — думал Андрей, — но за исключением Елисея и Оспенского я никого не заметил, и если когда-нибудь судьба, уберегши меня, столкнет с одним из соседей по камере, я же его не узнаю!»
— Почему все страшное происходит ночью? — сказал Андрей. — И чудеса, и смерть.
— Люди даже умирают под утро, — сказал Оспенский, — это медицинский факт.
— У нас все объясняется просто, — объяснил Елисей Евсеевич. — Днем матросы и прочие власти заняты на митингах и грабежах, вечером они пропивают награбленное, а ночью занимаются делами.
Елисей Евсеевич будто сам себя уговаривал, потому что и он оробел перед лицом безжалостной ночи.
Дверь раскрылась часов в одиннадцать — сначала все услышали, как по коридору идут люди, и ждали — у этой камеры они остановятся или пройдут дальше. Остановились. Щелкнула заслонка, потом со скрипом, будто что-то железное упало на пол, открылся замок, и дверь поехала внутрь. Надзиратель с фонарем крикнул, светя на лист бумаги:
— Ладушкин!
По камере пронесся облегченный вздох и потом прервался. Все слушали, как с нар сползал и, прихрамывая, шел к двери черный сутулый силуэт — память о человеке, который мелькнул в жизни и никто не разглядел его лица.
— А что? — спросил этот человек у надзирателя в двери. — Куда меня?
— Домой вас, — сказал надзиратель. — Я так понимаю, что домой пойдете. Хлопотали за вас.
— Вот видишь, — сказал Елисей Евсеевич, — значит, и меня вот-вот позовут. Попрощаемся… и, вернее всего, навсегда!
Андрей испытывал неприязнь к Мученику — к этому самодовольному торгашу, который и на самом деле выйдет отсюда и будет на радостях пить сухое вино и заедать цыпленком. «А я в эту самую минуту… в ту минуту, когда он будет худыми жадными пальцами разрывать цыпленка, буду стоять у стены и ждать, когда некто безликий крикнет: «Пли!»
— Андрюша, Андрюша, — сказал Елисей Евсеевич тихо, — а ваша жена совсем молоденькая, это так?
Андрей не стал отвечать — в горле был комок, так хотелось заплакать.
— У меня есть один план, — сказал Елисей. — Только ты, Оспенский, отвернись, мы будем шептаться.
— Идите вы к чертовой матери, — буркнул Оспенский, он лежал и глядел в черноту невидимого потолка.
— Вы понимаете, что шансов у вас почти нету?
— Шансы всегда есть, — буркнул Оспенский.
— Разве можно им доверять? — удивился Елисей Евсеевич. — Если так рассуждать, то мы можем просто лишиться такого человека.
Андрею хотелось надеяться, и он боялся надеяться на то, что в голове Елисея Евсеевича родился какой-то спасительный план. Вся неприязнь Андрея к нему мгновенно испарилась.
— Интересно, а как вы его спасете? — спросил Оспенский.
— А как бы вы спасли?
— Я бы молился, — сказал Оспенский.
— А я думал, — сказал Елисей. Он наклонился ниже, и Андрей тоже наклонил голову. — Как все гениальное, мой выход прост. Сейчас придут за мной — они освобождают тюрьму от лишних ртов. Они придут за мной, и вы, Андрюша, отзоветесь на мое имя.
— Почему?
— Потому что они выкинут вас на улицу. Кому нужен торговый агент Елисей Мученик?
— А если они постановили сегодня шлепать торговых агентов? — спросил Оспенский.
— Не говорите глупостей! Торговых агентов сажают в тюрьмы и даже бьют, но их никогда не расстреливают.
Андрей молчал. Спасение, забрезжившее рядом, было слишком невероятным.
— А какой вам в этом смысл? — спросил Оспенский.
— Прямой, — сказал Елисей Евсеевич. — Я помогаю молодому человеку и доставляю радость его семье.
— Ага, вы еще намерены и сами остаться в живых!
— Неужели я похож на самоубийцу?
— Но когда вас выведут на расстрел под именем Берестова, как вы намерены выкрутиться?
— А вот вы посмотрите! Я подниму такой крик, что из-за российской расхлябанности матросы собираются под видом офицера расстреливать бедных евреев. Вы взгляните на мой профиль — неужели кто-нибудь может принять меня за офицера? Поверьте моему слову: матросню легче всего брать за горло. Это — на случай, если Берестова вызовут первым.
— А если первым вызовут Мученика? — спросил Оспенский.
— Тогда Андрюша уйдет, а я останусь ждать, пока всех уведут. А потом спрошу: «Господин офицер, а почему меня не вызывали?»
— Нет, — сказал Андрей, — это для вас опасно.
— Вы думаете, что я не хочу жить? Какая наивность! Я вам должен сказать, что во мне заложена такая жажда жизни, что вам и не снилось. Меня можно топить, как кутенка в сортире, а я все равно выплыву. Но пожалуйста, молодой человек, не думайте, что я все это делаю совершенно бескорыстно и только из-за ваших прекрасных глаз. Ничего подобного: будьте готовы, что в решающий момент жизни к вам в дверь постучится некто в черном и потребует долг. Вы этого не боитесь?
— Нет, что вы!
— Тогда по рукам!
— Вы все сошли с ума, — сказал Оспенский, глядя, как Андрей пожимает руку Елисею Евсеевичу. — Перед лицом вечности не дело заниматься глупыми шутками.
— Запомните, — сказал Елисей Евсеевич, — вы теперь Мученик, Елисей Евсеевич.
— Елисей Евсеевич Мученик, — послушно повторил Андрей.
— Вы живете на Нижней Николаевской в доме вдовы Петерсон. Запомнили? У них есть паспорт, к счастью, без фотографии, и когда будете уходить, обязательно его возьмите. Когда я освобожусь, я сразу отыщу вас, и мы поменяемся документами.
— Сумасшедший дом, — сказал Оспенский. Он сидел на нарах разувшись и постукивал пятками по грязному полу.
— Я думаю, этого достаточно, — удовлетворенно сказал Елисей Евсеевич. — Теперь будем ждать.
— Чего? — спросил Андрей.
— Кого вызовут первого. Хотите пари?
— Хочу, — сказал Андрей. В голове шумело, словно он выпил бокал шампанского. Мученик казался прекрасным, умным и остроумным другом. «Почему мы не встретились раньше, мне так недоставало старшего друга!»
— В наших общих интересах, — сказал Мученик, — чтобы сначала вызвали Мученика.
— Почему?
— Со мной им придется разбираться, может подняться шум — тогда наш с вами план будет погублен. Но если вас вызовут первым и сразу отпустят — тогда мы победили.
Конечно, Мученик рисковал, потому что Берестова могли счесть за офицера и расстрелять. Зато Мученика Гавен убьет наверняка.
В камере снова наступила тишина. Все ждали, что шаги остановятся у двери. Но надзиратели прошли мимо, и еще некоторое время тишина сохранялась, слушали, как открывается дверь соседней камеры…
Начали возникать голоса, шевеление — и тут снова пауза: по коридору идет молчащая, но шумная множеством шагов группа людей.
Перед дверью возник шум, возня, потом кто-то крикнул:
— Прощайте, господа! Передайте всем, что мы невиновны!
Камера молчала, будто никто не слышал.
Оспенский сделал несколько шагов к двери, хотел что-то прокричать в ответ, но остановился и понял, что опоздал, — люди в коридоре уже ушли.
Оспенский не стал возвращаться к нарам. Он так и стоял посреди камеры, руки в карманах.
Андрей молчал. Он боялся, что их заговор обнаружится и его наверняка расстреляют. Он старался думать о других вещах, о приятных, но ничего другого в голову не вмещалось. Но он так старательно заставлял себя думать о приятном, что прослушал тот решающий момент, когда дверь открылась снова. И случилось неожиданное.
— Всем на выход! — крикнул надзиратель от двери. — Хватит вам прохлаждаться. Выходи по одному.
Он сделал шаг от двери в коридор, и обитателей камеры охватила растерянность — надо было шагнуть к открытой двери, за которой обещана вроде бы свобода, а может быть, и смерть, — и неизвестность эта может разрешиться только в случае, если ты уйдешь из относительно темной, душной безопасности камеры.
— А ну давай, кто первый! — крикнул надзиратель.
Оспенский, который стоял близко к двери, решительно пошел вперед — и это движение потянуло за собой других. И повлекло Андрея, словно он был щепкой.
Когда Андрей, протолкнувшись сквозь узкое горнило двери, попал в коридор, он увидел, что в коридоре стоят несколько надзирателей и матросов. Старший надзиратель спрашивал каждого, кто показывался в двери:
— Фамилия!
Потом отыскивал ее в списке, который держал в руке, и показывал рукой направо или налево, — две кучки людей стояли в коридоре под охраной надзирателей.
— Чистые и нечистые, — сказал кто-то за спиной Андрея, но Андрей не стал оборачиваться. Внимание его было приковано к пальцу надзирателя, который замер над списком.
— Ну? — крикнул он вдруг и уперся в лицо Андрея маленькими очками. Андрей обернулся, будто ожидая поддержки от Елисея Евсеевича, и в самом деле услышал подсказку:
— Мученик.
— Мученик! — с облегчением произнес Андрей. Главное — прыгнуть в воду, потом уже не так страшно.
— Ну и фамилия, — сказал надзиратель, ведя карандашом по списку, и Андрей заметил, что возле фамилий были какие-то значки.
— Есть Мученик, — сказал надзиратель с облегчением, а у Андрея было чувство усталости, будто он вместе с надзирателем целый день перекапывал списки в поисках Мученика.
«Я — Мученик, в этом есть перст судьбы, — думал Андрей. — Сейчас они спохватятся».
— Направо! — сказал надзиратель, Андрей замешкался, и второй надзиратель грубо подтолкнул его. Андрей не видел, кто стоит рядом, впрочем, это не играло роли. До него донесся голос Елисея Евсеевича:
— Берестов. Андрей Сергеевич. Будьте любезны!
Группа людей, невидимой и безгласной частицей которой был Андрей, двинулась по коридору прочь от камеры.
Они миновали открытую железную решетку, затем еще какие-то двери, узкую лестницу вниз и оказались у выхода из тюрьмы: сквозь приоткрытую дверь проникал холодный мокрый воздух.
— Сколько? — спросил матрос, появившийся в этой двери. На нем была мокрая офицерская фуражка и черный бушлат.
Надзиратель передал ему список.
— Тридцать два, — сказал он, — всего тридцать два.
— Отлично, — обрадовался матрос. — Хорошо работаете. Никого себе не оставили?
От черного прямоугольника двери отчаянно дуло.
Матрос сложил список, положил в карман и приказал:
— Выходить по одному!
Андрей понимал, что он сейчас окажется на улице, и в то же время поведение матроса было таким, будто он не собирался отпускать арестантов. Люди выходили, и матрос громко считал их. Андрей оказался тридцатым. Ему вдруг захотелось остаться в тюрьме, но сзади стояли надзиратели, которые были рады избавиться от Андрея.
Андрей прошел сквозь дверь и оказался в мире, где не место живому человеку, — сверху хлестал ледяной дождь, под ногами было скользко, ветер был таким промозглым, пронзительным и яростным, что Андрея начала бить дрожь. Выбегая из тюрьмы, люди оглядывались — и другой матрос приказывал: вперед, вперед!
Там стоял большой открытый грузовик с высокими бортами.
Матросы велели людям лезть в грузовик, и тогда Андрей вдруг окончательно понял, что произошла ошибка — их везут убивать! Никто не будет везти людей ночью в открытом грузовике для того, чтобы выпустить на свободу. Нет, это неправда, просто надо освободить тюрьму, тесно в тюрьме, и поэтому их перевозят в Симферополь. Это объяснение было таким здравым, что он почти успокоился.
Когда тридцать два заключенных были в грузовике, в кузов забрались два матроса с пистолетами, и один из них приказал всем арестованным сесть на пол.
Сразу стало теплее и не так дул ветер.
Матросы уселись на задний борт.
— Ну что, спаслись от смерти? — спросил Оспенский, который оказался рядом.
— Вы здесь? — Андрей даже обрадовался, что есть знакомый человек.
— И я, и вы, и еще тридцать офицеров и угнетателей трудового народа, — сказал Оспенский. — Если когда-нибудь вы встретите на том свете господина Мученика, плюньте ему в лицо!
— А вы думаете, что ему лучше? — спросил Андрей. — Ведь не исключено, что нас везут на вокзал, чтобы отправить в другую тюрьму.
— Это еще зачем? — спросил Оспенский.
— Сидеть! Сидеть! — кричали матросы, следя, чтобы заключенные расселись.
Андрей повторял для себя: «Все-таки на вокзал — вот мы поедем и увидим, что едем на вокзал».
— Сидеть!
Над бортом рядом с Андреем поднялась рука, которая осторожно кинула ему на колени портсигар и исчезла. Андрей инстинктивно накрыл портсигар обеими ладонями.
Он потянулся к борту. Там в матросской одежде и в заломленной назад бескозырке стоял татарин Иса, которого Андрей помнил по партизанскому отряду Ахмета. Иса улыбался, показывая голубоватые в темноте зубы.
— Вы что? Вам плохо? — спросил Оспенский, обнаружив способность переживать за других в момент, когда на свете уже не остается никого, кроме тебя самого.
— Спасибо, — сказал Андрей, чувствуя, как в нем поднимается торжество, именно торжество превосходства над этим миром, над прочими людьми, прикованными к своему часу и покорно плывущими, подобно щепкам, по реке времени.
Торжество питалось гордыней, словно Андрей сам придумал и изготовил портсигар, словно он и есть Дедал, уже испытавший крылья.
Сидя в той же позе, Андрей осторожно и уже привычно провел по ребру портсигара. Портсигар вернулся к владельцу, а это могла сделать лишь Лидочка, которая видела, как он пропал. Надо уходить. Уходить и забыть об этом сумасшедшем доме, о страшной камере и ночном путешествии под ледяным дождем. Андрей нащупал кнопку, но не нажал ее, он понял, что этого не надо делать в грузовом автомобиле, потому что обязательно упадешь на землю с большой высоты — сначала надо выйти из грузовика.
Грузовик ехал довольно долго, и заключенные жались друг к другу, и никто не разговаривал, словно все уже умерли, даже матросы на заднем борту казались мокрыми статуями. Сейчас можно кинуться на матросов, невольно начал рассуждать Андрей, — их тут всего двое, — свалить их и бежать!
Как бы в ответ на его мысли грузовик прибавил скорость. На такой скорости спрыгнуть с мотора — значило искалечиться. И матросы, как бы уловив мысль Андрея, зашевелились, положили ладони на раскрытые кобуры.
Он уйдет… а Оспенский? У него же двое детей! Как ему помочь? Обнять его и нажать на кнопку — а если портсигар не может взять двоих, вернее всего, он не сможет этого сделать, значит, они оба погибнут?
Грузовик остановился. Вокруг была темная мокрая пустота, и кто-то сказал:
— Малахов курган.
— Последняя остановка, — ответил второй голос и хихикнул: — Трамвай дальше не идет.
— Бежим, — сказал Оспенский. — Другие тоже побегут.
Вспыхнул прожектор, ударив в людей, вылезавших из грузовика, Андрей скорее угадал, чем увидел, группу матросов, стоявшую в стороне.
— Давай, давай, без задержки!
Матросы — их набралось человек десять — погнали арестованных вниз под горку, к какой-то яме, чуть задетой лучом прожектора.
— Беги! — крикнул Оспенский и бросился в сторону.
— Стой!
И сразу застучали выстрелы…
Далее нельзя было ждать ни секунды.
Андрей нажал на кнопку, передвинутую на три дня вперед.
И провалился в уже знакомый поток времени.
Елисею Мученику, освобождая его из-под стражи, отдали мешочек с личными вещами Берестова. Мученику было неловко брать этот мешочек, и от вида его радость избавления, умиление собственным умом, выручившим его из безнадежного положения, тут же сменились раскаянием перед юношей, который пошел на смерть вместо него. И Елисей стал доказывать себе, что это не совсем так, вернее, совсем не так. Он пошел на эту уловку ради своей партии, ради революции, ради спасения миллионов людей. Идет война, он на войне, он солдат, и военный закон велит ему прибегать к различным хитростям, чтобы остаться в живых и продолжать борьбу за правое дело.
И все же Мученику было гадко, и он решил обязательно отыскать молодую жену Андрюши Берестова и отдать ей мешочек с вещами. Выйдя из тюрьмы и ожидая трамвая, он развязал мешочек Берестова и увидел в нем стальные наручные часы, триста рублей денег, свернутых в рулон, и мелочь, что бывает в карманах, но ни фотографии, ни письма — ничего, что могло рассказать о погибшем.
До дому Мученик добрался еле живой и весь следующий день не вылезал наружу, ожидая, чем кончится игра большевика Гавена.
Он оказался прав.
На следующий день в городе, потрясенном ночными расстрелами на Малаховом кургане, начал действовать временный военно-революционный комитет, составленный из большевиков. Первым приказом комитета был арест всех офицеров флота во избежание их поголовного уничтожения вошедшими в раж убийцами.
На некоторых кораблях матросы сопротивлялись и не отдавали своих офицеров. Если там дело срывалось, Гавен не расстраивался. Город был парализован — лидеры меньшевиков и эсеров либо прятались, либо оказались в тюрьме, а некоторые были убиты вместе с офицерами. Военно-революционный комитет стал единственной властью в городе, достаточно решительной, чтобы, использовав матросский террор, через несколько дней вернуть своих опричников в экипажи.
Весь день Елисей Евсеевич бродил по своей девичьей комнатке, в которую так ни разу и не привел свою Раису. Порой он присаживался к узенькому гимназическому столу и начинал писать, волновался, ломал перо, менял его, пачкая пальцы чернилами, снова писал и рвал листы бумаги.
Так и не написав, чего хотел, он лег в постель, не заснул, вскочил, ночью зажег лампу, хоть хозяйка и сердилась, берегла керосин, и без помарок, быстро и легко, написал заявление о приеме в социал-демократическую партию большевиков.
С утра он пришел в Совет, там еще бродили растерянные и никому не нужные вчерашние правители города, узнал от них о создании военно-революционного комитета, отнес туда заявление и, не моргнув, выдержал яростный взгляд Гавена.
— Как ты ускользнул? — спросил наконец Юрий Петрович с искренним удивлением.
— Откуда? — сделал большие глаза Мученик.
— Ладно уж притворяться. Тебя должны были расстрелять.
— Откуда ты знаешь об этом, товарищ Гавен?
— Птичка донесла.
— У тебя уже и птички в доносчиках?
— Я вызову караул.
— Подожди, Юрий Петрович. Сначала прочти.
Он протянул Гавену заявление о вступлении в партию большевиков.
Тот прочел, окинул Мученика ироническим взглядом и сказал:
— Заходи.
— Может, вы не пожалеете, что меня не расстреляли, — сказал Елисей.
Пока Мученик ждал убежавшего куда-то Гавена, он раскрыл свежую севастопольскую газету. В ней был список жертв матросских самосудов. Под номером 23 шел Е. Мученик. Видно, в редакцию попал заранее составленный список. Под номером 29 числился капитан Оспенский.
На этот раз путешествие было относительно коротким. В плавании по реке времени Андрей научился оценивать длительность прошедшего времени. Это было, как оказалось, уникальное качество, не свойственное более ни одному из путешественников.
В полете Андрей потерял равновесие, упал и ушиб локоть. Так что сначала он почувствовал острую боль и лишь затем смог открыть глаза. Ему показалось, что он остался в той минуте, из которой бежал, — вокруг было так же темно, так же моросил ледяной дождик и дул порывистый ветер.
Андрей приподнялся, потирая локоть, и оглянулся — вокруг было пусто. Как будто никогда сюда не приходили люди.
И тут же он услышал легкие шаги…
Он не успел подняться и встретить Лидочку — она налетела на него и чуть не опрокинула вновь.
— А знаешь, — говорила она, целуя при том его щеки, уголки губ, глаза, лоб мокрыми, но горячими губами, — знаешь, я видела, как в точке твоего появления возникло зеленое свечение и потом лопнуло — как будто очень большой воздушный шар. Ты слышишь?
Андрей прижал ее к себе:
— Ты ждала меня? Ты долго ждала?
— Какое счастье! — сказала Лидочка и громко чихнула. — Я жду тебя всего вторые сутки. Я знала, что ты ненадолго улетишь. Но ты не бойся, я сказала Ахмету, что я тебя дождусь, и он поверил — он дал мне такую теплую бурку, ты просто такой не видел. Идем, а то ты замерзнешь! Я когда узнала, что Иса передал тебе портсигар, я упала в обморок, честное слово. Когда увидишь Ахмета, спроси, он подтвердит, а Ахмет повез в Симферополь главного муфтия Челибиева, это очаровательный мужчина, ты не представляешь, он не мог тебя дождаться…
— Погоди, моя любимая, погоди, моя хорошая, — сказал Андрей. — Пойдем отсюда. Они же могут вернуться.
— Нет, — уверенно возразила Лидочка. — Они не вернутся. Они выполнили, что от них требовалось, — они запугали город, а теперь власть захватили большевики.
Лидочка провела его за невысокий каменный забор, за которым, под одиноким тополем, было устроено ее логово.
— Садись, — сказала она, — тебе надо немного отдохнуть.
Большая кавказская бурка сохранила внутри Лидочкино тепло. Они забрались в нее и прижались друг к другу очень тесно, чтобы поместиться под буркой. Они стали целоваться, потому что им не хотелось больше говорить — ими овладело неуемное страстное, нервное желание — как истерический смех. Еще два дня назад они не знали, что когда-нибудь будут снова вместе, и теперь их тела как бы требовали убедиться в том, что они вернулись друг к другу. И это соединение было более мучительным и сладким, чем их первые ночи в Батуме.
А потом им надо бы идти в город — зачем оставаться в нехорошем месте. Но так и не разъединившись, они заснули. И проспали до утра, когда дождь пошел сильнее и они уже не могли согревать друг друга. Накрывшись буркой, как громадным зонтом, они побежали в тот дом, который им достался по наследству от Ахмета, и налетавший порывами ветер хотел вырвать у них бурку или хотя бы опрокинуть их на землю.
Старуха, хозяйка домика, еще спала, они на цыпочках прошли в свою комнату и снова заснули.
Новый, 1918 год Лидочка с Андреем встретили в Симферополе в доме тети Маруси. Уже неделю они жили там, намереваясь уехать в Москву, что с каждым днем становилось сделать все труднее. Они надеялись на помощь Ахмета, ставшего при татарском правительстве немалым человеком. Надежда была на специальный поезд до Киева, которым туда отправлялась депутация Крымского курултая для переговоров с Украинской Радой о трех северных уездах Крыма и о военной помощи Украины Симферополю. Но поезд все откладывали из-за боев с Центрофлотом в Евпатории и Феодосии.
Андрей полагал, что Новый год они встретят одни. С утра тридцать первого он отправился на оскудевший рынок, где ему повезло — там торговал мукой его бывший однокашник Киприати. Андрей вернулся домой с добычей: три фунта муки, два фунта яблок и, что удивительно, — принес полголовы сахара.
День тридцать первого был сумрачным, ветреным, но без снега. В комнате не было света, и в полумраке Андрей остановился пораженный — в углу перед трюмо стояла небольшая зеленая елка, на которой поблескивали серебряные гирлянды.
— Лидия! — закричал Андрей. — Это еще откуда? Ты прорвала блокаду?
Лидочка вошла из кухни, вытирая руки передником.
— Подойди ближе, мой повелитель, — сказала она.
Андрей уже сам ступил ближе и догадался, что елка нарисована на большом листе картона, а гирлянды и блестки к ней приклеены.
— Тогда и я покажу тебе, что и я достоин твоего внимания.
Андрей начал выкладывать на стол сокровища, добытые на рынке.
Лидочка тут же решила сделать настоящий пирог с рисом и изюмом, что отыскала в буфете.
Андрей наколол дров — их осталось немного, чтобы хоть на Новый год как следует протопить печку. Стало тепло, как до революции. Потом он сказал:
— Лидуш, а что, если я позову Нину Беккер? Она же здесь совсем одна.
— Я буду рада, — сказала Лида, она не хотела огорчать Андрюшу, хотя Нина Беккер ее раздражала своей немощью и демонстративным христианским смирением. Она понимала, что Нина бесконечно одинока и несчастна, но жалость к ней была сродни жалости к нищенке на дороге — хочется кинуть монету и более ее не видеть.
Андрей пошел к соседям. Нина встретила его на дворе, как будто сидела перед окошком и ожидала, — она выбежала в одном платье, застиранном до того, что потеряло цвет.
Она затащила его в такие холодные сени, что Андрей догадался — она вообще не топит всю зиму.
— Приходи сегодня к нам, — сказал Андрей. — Встретим Новый год. Может, он будет лучше, чем семнадцатый?
— Хуже некуда. Одна прорицательница обещала конец света в будущем году.
— Ты придешь?
— Нет, что ты! Мне совсем нечего надеть.
— Глупости, — сказал Андрей. — Мы же будем втроем.
— На праздник наряжаются не для других, а для себя, — строго сказала Нина и поджала без того тонкие губы.
— Приходи часам к десяти, — сказал Андрей. — Проводим старый год, а потом встретим новый. Хорошо? У нас пирог будет!
— Спасибо.
Андрей хотел было спросить, нет ли вестей от Коли, — он все забывал об этом спросить, потом решил: спросит вечером.
Вечером, когда стемнело, Андрей зажег коптилку — единственный источник света в доме, потому что керосин кончился, а на базаре керосину достать не удалось.
И тут в ворота постучали.
Андрей решил, что это Нина. Ей стало скучно, и она пришла пораньше. Но, выйдя к воротам, Андрей увидел высокого мужчину в длинной кавалерийской шинели и папахе.
Он узнал пана Теодора по глубоким, как ямы, глазницам — его мефистофельская бородка исчезла.
— Принимаете гостей? — грудным голосом спросил Теодор.
— Хорошо, что вы приехали на Новый год, — сказал Андрей. — Мы и не ожидали, что будет столько гостей на праздник.
— Много гостей? — Теодор обернулся, будто гости уже приближались.
— Только соседка, она милая девушка, совсем одинокая.
Лидочка была рада Теодору — она знала его ближе и понимала лучше, чем Андрей, хотя бы потому, что они вместе были на не существующей в этом мире могиле Андрюши.
— Я рад, что застал вас в отличном настроении, — сказал Теодор.
Он положил на пол вещевой мешок и вытащил оттуда три большие свечи, бутылку шампанского и банку свиной тушенки.
— Пир грозит превратиться в праздник чревоугодия, — сказала Лидочка.
Теодор помылся холодной водой и вышел в гостиную в казачьей черкеске, которая ему шла. Андрей даже с некоторой ревностью поглядывал на Лидочку, стараясь перехватить обмен взглядами между ею и гостем, — это было первым в их совместной жизни испытанием ревностью.
— Вы сейчас откуда, Теодор? — спросила Лидочка.
Теодор словно ждал вопроса. Он вытащил из мешка сложенную карту и расстелил на столе. Карта была велика и охватывала Европейскую Россию. Она была исчерчена стрелками, крестиками и линиями.
— Я из Петрограда, — сказал Теодор, — но по дороге сюда побывал в Новочеркасске.
— Расскажите тогда, что же происходит, мы здесь как на краю света — даже газеты не знают правды, — попросила Лидочка.
Андрей рассматривал карту. Лидочка зажгла одну из свечей, и от контраста между ее светом и светом коптилки казалось, что в комнате взошло солнце.
— Большевики твердо держат власть в центре, — сказал Теодор, указывая длинным ногтем сначала на Петроград, потом на Москву. — Но за пределами Центральной России их власть почти везде под сомнением. Некоторые губернии признали ее формально, другие и не знают толком, кто правит державой. Но, в общем, большевики — народ вполне серьезный, и они не питают иллюзий по части чести и благородства — как своего, так и соперников. Вернее всего, первый шок от их возвышения уже прошел, и оппозиция начинает расти как снежный ком. Мое путешествие, — Теодор провел пальцем от Петрограда через Москву и далее на юго-восток, к Дону, — показало, что оппозиция большевикам уже находит свои лозунги, идеалы, строит свои армии, и чем больше большевики будут совершать ошибок, тем скорее будут крепнуть их враги.
— А что сейчас в Москве? — спросила Лидочка.
— В чем беда Петрограда и Москвы? — ответил вопросом на вопрос Теодор. — Они могут давать России станки и машины, ситец и ложки, но сами не могут себя прокормить. А вот сельскохозяйственные области большевики удержать не смогут. Так что в самые ближайшие месяцы обе столицы будут поражены страшным голодом. А от голода два шага до голодного бунта. Голодный бунт в феврале прошлого года свалил императора, голодные бунты в Москве и Петрограде сметут большевиков.
— А выхода нет?
— Выхода нет. Радикалы впервые захватили власть в стране — словно исполнили завет Пугачева. Но удержать ее они не в состоянии. Недаром я принес карту. Глядите: на западе, совсем близко от Петрограда, находятся стальные немецкие армии. В их руках Прибалтика, на их стороне значительная часть прибалтийского населения, которое почитает себя куда более связанным исторически с немцами, чем с русскими. Южнее — обособилась Украина. Это житница империи, и она не намерена кормить большевиков. Чуть восточнее — земли казачьи. Здесь уже собрались тысячи и тысячи оппозиционно настроенных офицеров и генералов. Они — непримиримые борцы с большевиками. Следовательно, у движения, которое в знак протеста против красных большевиков именует себя белым, есть уже не только ресурсы, но и военные кадры. Исход войны не вызывает у меня сомнений. Но это будет страшная война, в которой население больших городов будет задушено голодом и болезнями, а остальные местности России вернутся к каменному веку, потому что городская промышленность будет полностью разрушена.
— Вы в этом уверены? — спросила Лидочка. Ей стало страшно.
— К этому выводу меня приводит немалый жизненный опыт, — сказал пан Теодор, — и умение анализировать. Если вы задумаетесь, как задумался я, боюсь, что вы придете к тем же выводам.
— Значит, нам не стоит ехать в Москву? — сказала Лида.
— Но университет? Твое художественное училище? — сказал Андрей.
— Забудьте на год, на два — дайте истории поставить точку. Москва — это ловушка. Перед своей гибелью большевики прибегнут к устрашению и террору. Оставайтесь здесь — или попытайтесь перебраться в отдаленные губернии.
— Куда? — спросил Андрей. — В Среднюю Азию? На Кавказ?
— Боюсь, что и там начнутся национальные движения и возникнут независимые государства, подобно Финляндии или Польше, в освобождении которой я не сомневаюсь. Нет, пока эта буря не успокоится, лучше отсидеться.
— Что вы сами будете делать?
— Я, так сказать, нахожусь на службе. На службе Хроноса.
— Вы должны наблюдать? — спросила Лидочка.
— Не только наблюдать. Наша задача — обеспечить движение цивилизации по ее основному пути, не допустить, чтобы Земля попала в тупиковую ветвь, которая приведет ее к гибели.
— А мы? — спросил Андрей.
— Путешествие во времени оказалось для вас небесполезным, — сказал Теодор.
— Я бы просидел эти годы в тюрьме.
— Они у тебя остались. Как в банке. И тебе еще предстоит их истратить — в будущем. Пока что ты был рабом обстоятельств, в которых умение плыть в потоке времени было лишь полезной для тебя способностью. Но со временем твоими путешествиями все более будут руководить воля и долг.
— Долг?
— Долг не перед конкретным человеком, но перед своей страной, перед всей Землей. Как только ты осознаешь свою силу, свою возможность оказывать влияние на судьбы миллиардов людей, ты обязан будешь трудиться ради их блага… Не улыбайся, Андрей. Громкие ли это слова или истина, тебе предстоит разобраться самому. В отличие от прочих твоих учителей я не утверждаю, что прав. Лишь ты сам можешь в этом утвердиться.
— Мы можем от этого отказаться? — спросила Лидочка.
— Боюсь, что поздно.
— Почему?
— Если бы наш разговор состоялся хотя бы десять лет назад, мне бы никак не доказать вам, что нынешние обстоятельства трагичны и ужасны, что человек — песчинка, он летит по ветру и нет ему места приклонить голову и нет надежды пережить события. Но сегодня вы меня понимаете куда лучше, чем я понимал своего учителя.
— А когда вы были… когда вас учили? — спросил Андрей.
— Очень много лет назад, — сказал Теодор. Он увидел разочарование в глазах Андрея и добавил: — Триста с небольшим лет. Биологически мне сейчас чуть меньше пятидесяти.
— А вам не жалко? — спросил Андрей.
— Не жалко чего?
— Не жалко тех лет, которые вы пропустили?
— Жалеешь ли ты, Андрей, о тех двух годах, когда тебя не было?
— Не знаю.
— Вот и я. Я прочел о том, чего не увидел. И потом увидел результаты пропущенных событий. Это куда интереснее.
— Если наша цель — следить за людьми Земли и исправлять, как вы считаете, какие-то пункты и тупики истории, значит, кто-то должен был придумать ваш долг. Кто?
— Не знаю.
— Вы их не видели?
— Не знаю.
— Что вы хотите сказать?
— Мне приходилось встречаться с людьми, облик и знания которых были для меня удивительны.
— Значит, вы слуга?
— Каждый из нас, выбирая правду и дело в жизни, должен кому-то довериться. Я доверился наставнику.
— А как мы можем довериться, если мы его и не видели! — сказал Андрей. — Вы нам предлагаете отдавать, а что даете взамен?
— Это неправда, Андрюша, — сказала Лидочка. — Пока что нам только давали.
— Андрей хочет сказать, — произнес Теодор, — что ему не нравится мой прогноз относительно будущего России и, в частности, его поездки в Москву. Я не настаиваю. Я не способен смотреть в будущее. Я могу лишь предполагать. И ужасаться тому, что может случиться.
— Так же говорил мой отчим…
— Он оказался не прав?
— Он оказался прав.
В дверь стукнули — коротко. Теодор не успел схватить со стола карту, как дверь распахнулась. В дверях стоял офицер в фуражке и черной кожаной куртке. В первое мгновение они не узнали Ахмета.
Ахмет шагнул вперед — пламя свечи осветило его.
— Вы решили, что к вам с обыском? — сказал он, усмехаясь. — Но не успели спрятать вещественные доказательства.
— Ахмет, как славно! — воскликнула Лидочка. — Но ты же сказал, что тебя не будет в городе.
— Я приехал за пулеметами, — сказал Ахмет, подходя к столу и глядя на Теодора. — Мы с вами незнакомы, — констатировал он.
— Ты забыл, — сказал Андрей. — Вы знакомы. Господин Теодор — старый приятель моего отчима, он приехал к нам на Новый год.
— Простите, — сказал Ахмет, — я помню, как вы гадали судьбу моей любимой княжне Татьяне.
Он снял фуражку, кинул ее на диван и сказал:
— У вас слабое освещение во дворце, мадам, очень слабое освещение. Наверное, слуги воруют оливковое масло.
— Глупости, — сказала Лидочка, — мы отапливаемся китовым жиром, разве вы не чувствуете аромата?
Ахмет подошел к столу и принялся смотреть на карту.
— Какой маленький Крым! — сказал он. — А я с утра от Джанкоя сюда добирался. На дрезине. Еле отогрелся.
Глаза Ахмета блестели — он был немного пьян.
— Садись, — сказала Лидочка, — я сейчас тебе кофе сделаю.
— Спасибо, Лида-ханум, — сказал Ахмет. Отстегнув и поставив в угол саблю, Ахмет уселся у стола и отогнул край карты, как бы показывая этим, что ее надо убрать.
«Смешно, — подумал Андрей, — как Ахмет изменился за считаные дни. Ладно, будем привыкать к Ахмету в новой роли: великий татарский полководец».
— Погодите, не надо убирать, — сказал Теодор. — Если не секрет, я хотел бы узнать, какая сейчас ситуация в Крыму.
— Ситуация как ситуация, — сказал Ахмет тоном полковника, который не желает разговаривать со штафирками, но Теодора поддержала Лидочка:
— Ахмет, нам это важно знать. Мы же хотим уехать в Москву.
— О Москве пока забудьте, — сказал Ахмет. — Матросы нас провели как маленьких. И не знаю, как исправлять положение.
— А что случилось?
— Центрофлот послал против наших эскадронцев, которые занимали Феодосию, крейсер «Память Меркурия» и три миноносца с десантом. Я там был… Может, мы бы и устояли, но на их стороне был феодосийский гарнизон. И мы отступили к Джанкою.
— Когда это было? — спросил Теодор.
— Позавчера — мы отступали по железной дороге. Они соорудили бронепоезд с японскими скорострельными орудиями и на нем ворвались в Джанкой на наших плечах… Вот и все.
Андрей поглядел на карту. Симферополь оказывался в кольце: моряки уже заняли Евпаторию, Феодосию и начали наступление от Севастополя на Бахчисарай. А на севере в их руки перешел Джанкой. Татарская республика, не успевши толком родиться, уже была на краю гибели.
— И что будем делать? — спросил Теодор заинтересованно, как будто ждал решения Ахмета по поводу какой-то сделки.
— Что делать? Завтра утром мы пускаем к Джанкою отряд пулеметчиков. А ночью туда пойдут эскадроны крымцев.
— Только ты осторожнее, — сказала Лидочка.
— Я не могу осторожнее, потому что я командую поездом, который будет освобождать Джанкой, — если мы не выкинем отряд Мокроусова из Джанкоя, нас задушат в считаные дни.
Лидочка пошла на кухню.
Теодор рисовал на карте крестики и стрелки. Ахмет взял у него карандаш и, перечеркнувши одну из стрелок, провел ее севернее — от Феодосии на Карасубазар.
— Вот так они близко, — сказал он.
— Сейчас будет чай! — крикнула из кухни Лидочка.
От плиты шло тепло.
— У вас хорошо, господа, — сказал Ахмет. — Так не хочется с рассветом на мороз! Думаешь, я на авто поеду? Нет, на платформе. Может, до смерти замерзну. А жалко.
— А их там много? — спросила из кухни Лидочка.
— Я надеюсь на эскадроны.
— Значит, еще один барьер, — сказал Теодор. — Еще один.
В дверь постучала и вошла Нина Беккер. Она была причесана, под суконным старым пальто — мамино праздничное платье. Она принесла сумку, в которой была бутылка вина и мешочек грецких орехов. При виде стольких гостей она оробела, но потом узнала Ахмета и даже обрадовалась ему, потому что для нее гимназические годы брата, его друзья казались теперь светлым временем жизни. Тогда их дом был живой и родители были живые, и все надеялись, что дальше будет еще лучше.
Начали собирать на стол и провожать старый год: Ахмету надо было выезжать на фронт, а Ниночка сразу сказала, что до полуночи не останется — она так поздно не ложится.
Пирог получился румяный, а Лидочка говорила, что, если бы были дрожжи, он бы получился лучше. От тети Маруси остались высокие бокалы для шампанского.
Андрей увидел прижавшееся к окну человеческое лицо — как светлый круг на черном квадрате.
— Там кто-то есть! — крикнула Нина, проследившая за взглядом Андрея.
Ахмет кинулся в угол, почему-то схватил саблю. Но сабля ему не понадобилась. Андрей распахнул дверь и увидел, что на улице стоит замерзший, переодетый в мастерового, но в остальном живой и здоровый Коля Беккер.
Больше всех обрадовалась, конечно, Нина, которая упала в обморок, и ее пришлось отпаивать водой.
— А я приехал домой, — сказал Коля, — приехал, а заперто. Вышел в переулок. Вижу, свет горит. Я к вам, гляжу и глазам не верю: все вместе! И Нина, и Андрюха, и прекрасная Лидия! И даже Ахмет, который уже стал генералом.
— А ты, я вижу, генералом не стал, — сказал Ахмет.
— Нет, не стал, — признался Коля. — Мне все надоело. Хватит. Я дезертир, и если хотите — выдавайте меня властям.
— Власть здесь я, — сказал Ахмет, — так что я тебя прощаю. Но если ты к нам надолго, то могу мобилизовать тебя в армию свободного Крыма. У нас много русских офицеров.
— Ахмет, не так сразу, — сказал Коля, усаживаясь за стол. — Может быть, и придется с тобой вместе воевать. А ты кто будешь?
— Ты видишь перед собой, мон женераль, — сказал Ахмет, — заместителя полковника Макухина, командира отдельного Джанкойского железнодорожного отряда капитана Керимова. Удовлетворен?
— Завидую, — сказал Коля. — Я так и не дослужился до таких чинов.
— У нас в армии дослужишься. Во времена революции легче всего стать генералом.
— Если правильно выберешь сторону, — сказал Коля.
Лидочка передала ему кусок пирога, и он впился в него белыми ровными зубами.
— Я жутко голодный, — сказал он, — с утра ни маковой росинки.
— Из Феодосии? — спросил Ахмет.
— Оттуда.
— Не боишься?
— Господа, товарищи и просто граждане, — сказал Андрей. — Вы не представляете, как я счастлив, что вы собрались здесь в такую ночь. Я и не мечтал, что увижу здесь всех моих друзей.
Потом Коля вытащил плоскую немецкую фляжку со спиртом, дамы пили вино, но еды было мало. Нина смотрела на брата и все время плакала — Коля даже морщился и сказал наконец:
— Растаешь, сестра!
Потом Андрея уговорили рассказать, как он спасся в Севастополе. И он рассказал всю правду, кроме конца. Он сказал, что в темноте убежал и скрылся. Рассказал он и об удивительной истории с Елисеем Мучеником, который предложил поменяться именами, чтобы спасти Андрея, а спасся в результате сам.
— Боюсь, он знал заранее, что Берестов будет спасен, а его должны расстрелять, — сказал молчавший до того Теодор.
— Вряд ли, — сказал Андрей, — он же торговый агент. И я рад, если он спасся.
— Он не торговый агент, — вдруг сказал Коля. — Он приезжал к нам. Он известный политик, эмиссар меньшевиков.
— Не может быть! — ахнула Лидочка. — Неужели он был так коварен?
— Почему коварен? — сказал Ахмет. — Он купил себе жизнь, а взамен отдал чужую. Хорошая коммерческая сделка.
Андрей смотрел на Колю. Неужели он ничего не знает о втором Берестове? После разговора с Баренцем Андрей почти уверился в том, что именно его гимназический приятель и сосед, полагая, видно, что сам Берестов сгинул, взял себе его имя. И то, что было бы немыслимым в мирное время, в бессмысленной суматохе революции могло сойти, по крайней мере на время, и избавить Колю, к примеру, от немецкой фамилии… Но не мог же Коля надеяться, что его обман не будет в конце концов открыт? Вот полковник Баренц навел справки, вот и сам Андрей уже подозревает Колю. И он сейчас спросит Колю: «Послушай, мне сказали, что ты выступаешь в Севастополе под именем Берестова?» И Коля тогда смешается, покраснеет и вынужден будет признаться.
Андрей понял, что не посмеет задать Коле такой вопрос. Его труднее задать, чем ответить на него. Ну как ты спросишь у старого приятеля: «Ты меня обокрал?» Нет, это немыслимо! А вдруг Андрей ошибается и нанесет Коле несправедливое оскорбление?
Андрей стоял, опустив глаза, и как сквозь шум водопада слышал продолжение разговора.
— Этот полковник Баренц говорил Андрею, — произнесла Лидочка, — что Берестов приближен к Колчаку. И матросы его ненавидят.
— Я бы слышал об этом, — сказал Коля. — Мне как социал-демократу приходится много бывать среди матросов. Они доверяют мне свои секреты. Но я никогда не слышал о Берестове, тем более приближенном к Колчаку.
Андрей наконец осмелился поднять глаза и встретился взглядом с Колей. И тот, глядя в упор, закончил свою мысль:
— Впрочем, я не бывал в окружении Колчака и не знаю, кто там к кому приближен.
— Все равно он обманщик и мерзавец! — со злостью сказала Нина. — Я бы его задушила вот этими руками!
Она протянула над столом тонкие слабые руки, и Андрей понял, что ей не задушить и цыпленка. Но он так и не понял, имела ли она в виду лже-Берестова или коварного бунтовщика Мученика.
Ахмет поднялся — стройный, невысокий, но кажущийся выше ростом от того, как он прямо держал спину и чуть закидывал назад голову. Он надел фуражку, привычно, будто всю жизнь ходил в военной форме, проверил ребром ладони, точно ли по центру оказалась кокарда — белый полумесяц на красном кружке. Затем наклонился, поднимая саблю.
Все смотрели на него, как смотрят товарищи на актера, гримирующегося, чтобы выйти на сцену.
— Я буду в Джанкое, — сказал он. — Завтра мы вышибем оттуда большевиков.
Он пожал всем руки — поцеловал Лидочку в щеку и сказал:
— Прости, Андрюша, у нас в Париже такой обычай.
Последним он попрощался с Колей.
— Я не верю, Беккер, — сказал он, — что ты дезертир. Не твоя это специальность. Ты должен быть с сильными. И если ты не с нами, то, всего вернее, ты агент большевиков и тебя прислали в Симферополь, чтобы убить нашего премьера Сейдамета.
— Ахмет! — воскликнул Коля.
— Он шутит, шутит! — испугалась Нина, которая кожей почувствовала опасность.
— Или убить меня, — закончил Ахмет с улыбкой. — Я ведь тоже большой начальник в нашей деревне. До встречи, господа!
После ухода Ахмета некоторое время стояла тишина. Нарушил ее Коля Беккер.
— Я думаю, мы с Ниной тоже откланяемся, — сказал он.
— Может, зайдешь завтра? — сказал Андрей, которому не хотелось задерживать Колю. С уходом Ахмета людей осталось слишком мало, чтобы сохранялось ощущение праздника.
— Я постараюсь, — сказал Коля. — У меня много дел. Мне не хотелось говорить этого при Ахмете, но я представляю Центрофлот. Надеюсь, это останется между нами?
После ухода Беккеров Лидочка зажгла еще одну свечу и поставила ее возле елки.
— Я ночую у вас, — сказал Теодор как само собой разумеющееся. — По улице ходить опасно.
— Конечно, конечно, — сказала Лидочка. — Я вам постелю в комнате Марии Павловны.
Лидочка убирала со стола и потом мыла посуду, хотя ей интереснее было бы остаться с мужчинами. Но ее не догадались позвать, хотя никто, конечно, и не погнал бы прочь. Лидочка не хотела возвращаться без приглашения. В этом была ее неуверенность в себе и в собственном праве быть такой же, как мужчины. Это преодолевается не сразу. Из гостиной до нее доносились голоса: неровный, порой взволнованный голос Андрея и чуть монотонный, низкий — Теодора, голоса эти складывались в некую музыку беседы.
Закипел чайник, и Лидочка заварила чай.
— Мы так ничего и не решили, — сказал Андрей, когда Лидочка вернулась в гостиную.
— Мы не можем рисковать вами, — сказал Теодор, — у нас слишком мало молодых агентов.
Слово «агент» неприятно покоробило Лидочку.
— Теодор предлагает нам отправиться в будущее. Он считает, что нас ничего здесь не держит, — сказал Андрей.
— Неужели вам не интересно поглядеть — увидеть воочию, чем завершится грандиозное действо русской революции? Клянусь вам, если бы не неотложные дела сегодня, я бы тоже уплыл лет на десять вперед. Ведь есть шансы, что Россия сможет построить новое общество. Что она станет добрым примером для иных народов. Большевики исчезнут как накипь — придут достойные люди, Россия заслужила это.
— Как странно, — сказала Лидочка. Она налила чай и подвинула чашку поближе к Теодору. — Мне казалось, что вы очень трезвый и скептически настроенный человек. А вы поете гимн нашему будущему. Неужели люди изменятся?
— Если изменятся условия их существования, то последовательно будет меняться и природа человека.
«А ведь Теодор — не очень умный человек, — подумала Лидочка и испугалась собственной догадки. Прежде он казался ей ипостасью Бога, существом, способным таинственным образом преодолевать пространство и время. — Впрочем, неизвестно, кто из нас прав. Я, которая видит, как вокруг все сильнее волнуется море, поднимая со дна вонючую тину, или он, которому видится светлое будущее».
— Мы будем там чужими, — сказал Андрей.
— В обществе строителей, творцов никто не будет лишним, — возразил Теодор. — А сегодня, здесь, что связывает вас с этим миром?
— Мама, — сказала Лидочка, — я очень тоскую без мамы. Я так надеялась ее увидеть.
— Вы увидите свою мать через пять или десять лет. Она почти не изменится.
Глаза Теодора казались черными провалами, и лицо было неподвижно.
— У вас была мама? — спросила Лидочка агрессивно.
— Да, — сказал Теодор. — Но я ее не помню.
— А жалко!
Теодор не дал втянуть себя в спор. Он подвинул чашку к Лидочке и попросил подлить чаю.
— Я повторяю, — сказал он, — вы еще не вкусили по-настоящему счастья и трагедии полета во времени. Вы еще живете среди своих сверстников, и они даже не догадываются, что вы уже стали на два года их моложе. Я вам могу предсказать — само время заставит вас плыть дальше и быстрее. И наступит день, когда окружающие вас люди станут не более как тенями. Какими они стали для меня. Вы будете вступать с ними в отношения, но не сможете породниться. Ибо нельзя быть моложе собственного внука.
— У меня не будет детей? — спросила Лидочка.
— Вряд ли.
— А у вас есть дети?
— Если были, то давно умерли, — сказал Теодор.
— Я не согласна на такую жизнь, — сказала Лидочка. — Андрюша, ты слышишь, что я не согласна!
— Хорошо, — сказал Андрей. В отличие от Лидочки его совсем не беспокоило в ту минуту, будут у него дети или нет. Он куда острее помнил, как портсигар спас его на Малаховом кургане.
Лидочка поняла, что Андрей ей не союзник, и сразу замолчала.
— Мы боимся… вернее, я боюсь оставлять вас на эти переломные годы. Вероятность гибели молодых людей в катаклизме русской революции слишком велика. Недопустимо велика! Давайте пойдем на компромисс: вы улетаете лишь на три года вперед, ну максимум на четыре. Ничего особенно не изменится — и мама ваша вас дождется. Но будет главное — мир.
Лидочка поднялась из-за стола. Она посмотрела на нарисованную елку. Язычок пламени свечи заколебался от движения Лидочки, и елка будто шевельнула ветками.
За ее спиной Теодор сказал:
— Мне завтра уезжать. Рано. Разрешите, я лягу спать. А завтра перед отъездом мы все решим, хорошо?
Он поздравил Андрея и Лидочку с наступающим Новым годом, до наступления которого оставалось меньше часа, и ушел в комнату Марии Павловны, где Лидочка ему постелила. Он взял с собой свечу, чтобы помыться перед сном. Лидочка его спросила:
— Вы привыкли жить без дома?
— Иногда у меня бывал дом. Но это вовсе не обязательно.
— Спокойной ночи.
Лидочка вернулась к Андрею. Они говорили тихо, чтобы не мешать Теодору. О Коле Беккере, о том, как он высох, изменился, о том, что Ахмет, конечно же, догадался, что Беккер здесь по какому-то политическому делу и что они с Ахметом давно не выносят друг друга, но какие-то гимназические правила поведения удерживают их от открытой вражды, о Нине, как ей трудно будет найти себе мужа или хотя бы друга, о том, как естествен Ахмет в роли татарского офицера, потом они еще говорили о Мученике, и Андрею все не хотелось верить в коварство этого человека… Часы пробили двенадцать. Они разлили по бокалам последнее шампанское и выпили его. Потом Лидочка сказала:
— Может быть, мы вернем эти портсигары?
— Как так вернем?
— Я боюсь прожить жизнь бродяжкой, я боюсь не увидеть более моей мамы — ты не представляешь, как ужасен бег времени, бег без родных, без близких, без дома…
— Но зато у нас есть защита. Если станет плохо и надо будет убежать — мы убежим.
— Какой ты еще мальчик! — сказала Лидочка. — Ты превратишься не только в Вечного жида, гонимого проклятием, ты еще и станешь слугой неизвестных нам сил, и, вернее всего, сил злых!
— Почему?
— А почему им надо таиться и наблюдать за нами исподтишка? Ты не был в параллельном мире, а я там была — и ты там умер! А сколько раз мне предстоит увидеть твою смерть, а тебе — мою? Мне страшно, Андрюша, я тебя умоляю, не надо нам этих дьявольских подарков. Я христианка, я рождена ею. Это не важно, что я не хожу в церковь, но убежать от своей судьбы — это же грех!
— Кто сказал? Где это сказано?
— Ты не хочешь? Тогда я боюсь, что мне придется уйти от тебя.
— Пойдем спать, ладно? Ведь пока что мы с тобой вместе…
Утром в шесть, когда уходил Теодор, Андрей еще спал. Лидочка вскипятила Теодору чайник, дала на дорогу последний кусок вчерашнего пирога. Теодор принимал ее заботу как должное, он привык проводить всю жизнь по явочным квартирам, всю жизнь принимать услуги людей, которые только и ждут, когда ты уйдешь…
— Я еще раз прошу вас обдумать мое предложение, — сказал Теодор. — Три года. Всего три года, и вы избавитесь от ужаса гражданской войны.
— Извините, но мы ночью решили, что мы не будем больше нырять в реку времени.
Она положила на стол перед Теодором небольшой сверток, обернутый белой тряпкой.
— Что это? — спросил Теодор, уже догадавшись, что в свертке лежат портсигары.
Лидочка не ответила.
— Ничего не выйдет, — сказал Теодор и улыбнулся одними губами. — Вы уже заражены. Не было случая, чтобы зараженные выздоравливали.
— Мы оба решили.
— Решили вы и своей женской силой, силой молодой самочки, убедили Андрея, который без вас никогда бы такого не сделал.
— Но ведь он со мной!
— Мне нравится ваш характер, — сказал Теодор. — Мы с вами еще славно поработаем.
— Вам пора идти?
Теодор взял в левую руку сверток с портсигарами, правой — руку Лидочки и, низко склонившись, поцеловал ее. Лидочка чувствовала себя неловко, будто она предала этого человека.
Теодор сказал:
— Не провожайте меня, на дворе мороз.
Он вышел из дома, все еще держа сверток в руке. Лидочка хотела сказать ему, чтобы он спрятал портсигары в мешок, но потом подумала, что его заботы слишком далеки от нее. Пускай несет, как хочет. И в ней не было раскаяния.
Она проводила Теодора до двери. Еще только-только светало — морозная синь сразу ворвалась в сени.
— Закрывайте дверь, простудитесь! — Это были последние слова Теодора.
Через час проснулся Андрей.
— Отдала? — спросил он.
— Да, мой милый.
— Вообще-то жалко.
— Очень жалко?
— Нет, не очень.
Андрей пошел мыться.
— Интересно, — сказал он за чаем, — Ахмет сегодня отвоюет Джанкой?
— Я очень на него надеюсь, — сказала Лидочка. — От этого зависит, сможем ли мы уехать.
— Я верю в Ахмета, — сказал Андрей. — И надеюсь, что через неделю я уже буду в университете, а ты в училище.
— Мы как три сестры: в Москву, в Москву… — улыбнулась Лидочка. — Принеси дров, а то печка холодная. Чего теперь их беречь.
Андрей накинул тужурку и пошел на улицу, а Лидочка осталась в странном, неприятном предчувствии скорой беды. Неужели Ахмет не победил? Или мама уехала из Одессы?
Вернулся Андрей.
— Погляди, что я нашел на дровах, — сказал он.
И Лидочка поняла, о чем предупреждало ее предчувствие: Андрей держал на ладони развернутый белый сверток, а в нем один на другом лежали два портсигара.
Андрей положил портсигары на стол:
— А он хитрый, ведь выкидывать мы не станем!
— Андрюша, милый, ты не прав! Давай выкинем! Сейчас же — или жалко, оставим в этом доме, в подполе — никто не найдет. Если увидим Теодора, то скажем ему, где искать.
Андрей кивнул, вроде бы соглашаясь, но он был не уверен в том, что оставит портсигары в Симферополе. К нему возвратилась радость и надежность существования, словно ему, герою американского Дикого Запада, кто-то вернул верного иноходца… теперь берегись, коварный шериф!
Они больше не говорили о портсигарах. И Лидочка даже не стала спрашивать Андрея — взял он их с собой или оставил, как договаривались. Ей казалось, что, если она станет от них избавляться, они появятся вновь, как неразменный пятак…
Колю Беккера они больше не видели — когда Андрей зашел попрощаться к Нине, она сказала, что Коля ушел еще на рассвете. Глаза ее были красные, распухшие, она находилась в таком глубоком горе, что Андрею было стыдно: ведь он не один!
Вечером прискакал нарочный. Джанкой был взят татарскими эскадронами и бронепоездом Ахмета Керимова. Мокроусов с феодосийцами бежал в степь. Ночью отходит литерный поезд в Киев.
Они приехали на вокзал в уговоренное время и думали, что поезд стоит где-то на дальнем пути и к нему проходят на цыпочках, повторяя пароль.
На самом деле поезд стоял у главного перрона и его штурмовали толпы людей различного звания. Весь Симферополь знал о поезде, и никто не был уверен, что после него будет еще много других. Эскадронцы Ахмета смогли втиснуть Берестовых в вагон. К счастью, вещей у них было мало.
Джанкой поезд прошел без остановки, зато долго стоял у Турецкого вала, будто не решался переправиться через Сиваш. Только утром он не спеша выполз в украинскую степь. Степь была покрыта тонкой непрочной снежной простыней. Ветер рвал ее и пытался смять, затыкая снегом овраги. Было пасмурно, студеный ветер гнул вершины тополей. В вагоне было душно, шумно, но уютно, как уютно птенцам в переполненном гнезде.
Впереди был Киев — столица вольной Украины, а потом Москва.
ПОКУШЕНИЕ
Глава 1
ЯНВАРЬ 1918 г.
В ночь с 25-е на 26 октября 1917 года в России произошла вторая за несколько месяцев революция. На этот раз ее жертвой стало Временное правительство, которое, придя к власти, клялось никого не казнить, всем дать свободу и внести в российскую жизнь ругательное прежде слово «демократия». Ближе к осени, когда дела пошли хуже, правительство, дабы удержаться на плаву, принялось арестовывать казнить и запрещать. Но делало оно это неуверенно и постоянно опаздывало запретить или казнить, что давало оппонентам возможность проклинать Керенского за уничтожение демократии. В том была ирония, ибо демократия оппонентам была ненавистна.
С конца октября большевики принялись покрепче усаживаться на троне, подобно кукушонку, который, подрастая, вышвыривает из гнезда других птенцов. К началу зимы было разогнано Учредительное собрание, запрещены почти все партии, от демократических до недемократических. Но в отличие от Керенского большевики казнили, ссылали и запрещали не с опозданием, а вовремя или даже раньше, чем следовало. И в отличие от разрозненных свар демократов и плутократов большевики были воистину орденом, братством, не знающим границ, для которого высшим законом была партийная дисциплина, и наиболее последовательные из них в решающий момент готовы были подчиниться ей, жертвуя свободой семейными и дружескими привязанностями и даже жизнью, В стране же, где родилась уникальная для человечества поговорка «от тюрьмы и от сумы не зарекайся», отношения властей и революционеров были уголовной смесью европейско-балканской и турецкой политик. В Берне и Цюрихе вожди эсдеков и эсеров обсуждали и голосовали вполне разумные вопросы как т?: составление редколлегией газет, выборы в центральные комитеты и ревизионные комиссии, выдачу пособий и провоз нелегальной литературы. А потом шепотом в узком кругу решали действительно важные проблемы — убийство царей, ограбления банков суды над настоящими и вымышленными предателями.
Когда гимназист Володя Ульянов узнал о смерти своего брата — молодого революционера Саши Ульянова казненного азиатским правительством за балканскую попытку убить царя, этот юноша, как говорят его официальные жизнеописания, произнес историческую фразу: «Мы пойдем другим путем». Считается, что другой путь исключал убийство царей и губернаторов. С тех пор революционное движение в России разделилось на две ветви. Одна именовалась социалистическо-революционной и убивала царей. Эсеры научили любимых ими крестьян поджигать помещичьи усадьбы и кидать в огонь барских детенышей, что крестьяне, будучи уже пятьсот лет рабами отлично умели делать и без эсеров. Вторая ветвь именовалась социал-демократической и была менее романтической ветвью заговорщиков, что и обеспечило ей в конце концов победу. Социал-демократы читали книги, сблизились с принявшими их за европейцев коллегами из Германии и объединили с ними усилия по освобождению пролетариата. Они отыскали себе зарубежного пророка Карла Маркса и его верного Пятницу — Энгельса. Так что европейские собратья полностью уверовали в то, что русские социал-демократы их соратники, хоть и темные, отсталые и нищие.
Социал-демократы поделились на большевиков и меньшевиков. Неудачно назван себя меньшевиками и потому обрекая себя на поражение (кто в России будет ставить на меньших?) правое крыло социал-демократов искало в Европе демократические ценности для применения их в России. Тех из меньшевиков кто не успел помереть или уехать в Европу, большевики в России уничтожили, и никто их не пожалел.
Трезвые большевики намеревались поднять мировую революцию и уничтожить буржуазию.
Удивленные неожиданным триумфом русских социал-демократы Европы смотрели на Россию с вожделением и надеждой, хотя и понимали что революция в России — случайность и нарушение заветов пророка Карла. Для того, чтобы исправить ошибку, революции следовало победить в какой-нибудь настоящей европейской стране, чтобы перенести туда центр борьбы.
Сегодня с высоты прошедших лет, эти надежды и намерения кажутся наивными и беспочвенными. Всем ясно, что коммунисты могли победить лишь в России. Но так ли все ясно было в 1918 году? И так ли уж безнадежно было положение левых социал-демократов в Германии? В Венгрии? А если пойти дальше — разве не могло так получиться, что, не наделай стратегических ошибок злобный Сталин и не слушайся его немецкие коммунисты — они бы захватили власть в Германии в 1933 году в союзе с социал-демократами и заменили таким образом Гитлера? И как бы тогда покатилась история Европы? В Москве Сталин, в Берлине — Тельман, во Франции — народный фронт. Такая коалиция, безусловно, разгромила бы Франко — вот вам и еще одна социалистическая республика. Конечно, через несколько лет началась бы борьба за власть между социалистическими республиками — но разве так невероятно превращение Европы в концлагерь социализма уже в середине тридцатых годов? Ведь международный орден коммунистов умел захватывать власть и удерживать ее, уничтожая всех возможных соперников. Беспощадно. И лишь фашизм смог стать настоящим соперником коммунистов — оба были орденами, один в своих лозунгах интернациональным, другой — сугубо национальным, но оба — бесчеловечными в своей практике.
Кто задумывался о том, что человечество, как живой организм, в ответ на появление опасной инфекции коммунизма стало вырабатывать в своих жилах лейкоциты фашизма? Сами по себе лейкоциты вредны, и избыток их может загубить организм, но в борьбе с инфекцией лейкоциты незаменимы. В конце концов микробы одолели врагов, но и погибнув, лейкоциты смогли хотя бы частично выполнить свою функцию — научить демократию воевать. А коммунизм, хоть и усилился, хоть и захватил половину Европы, дальше распространиться не смог. И с этого момента высшей власти началось его падение.
В конце 1917 года о старении и гибели русского большевизма никто не помышлял.
Утвердившись на столичном троне, новая власть озиралась, пытаясь сообразить, что делать далее и какие из врагов ей наиболее опасны.
Враги внутренние в первые месяцы вели себя разобщенно и наивно, как бы продолжая играть по правилам, отмененным большевиками. Так что любой их выигрыш вызывал лишь снисходительную улыбку истинных победителей. Попытка к сопротивлению только укрепляла большевиков, потому что давала им оправдание к ужесточению власти.
Сбор офицеров на дону, сепаратизм Украины и Прибалтики саботаж чиновников, попытки забастовок профсоюза путейцев — Викжеля, критика, а то и проклятия со стороны прессы были большевикам неприятны, но не более. Против всего у них находились средства — можно было закрыть, разогнать, арестовать или расстрелять.
Последний аргумент становился все более расхожим и привычным. Но пока внутренний котел нагревался, даже бурлил, но не закипал, основной опасностью новому режиму была сила внешняя — германская армия, которая продолжала продвигаться по Прибалтике и Белоруссии, и австрийцы, которые оживились в Галиции. Большевики понимали, что, провозгласив мир и дав тем моральное право разойтись по домам солдатам, они не имеют действительных средств противостоять гуннам — безжалостным врагам России.
Начиная с тех дней и по день сегодняшний, затихая и поднимаясь вновь, бытует версия о том, что Ленин и его соратники были немецкими шпионами и потому спешили расплатиться со своими хозяевами российскими территориями и украинским хлебом.
Будь так, никаких проблем с миром и не возникло бы: Германия сообщила бы, какие ей нужны контрибуции и территории, а большевики выполняли бы приказание. На деле же сотрудничество Германии и социал-демократов было игрой лиц, не испытывавших друг к другу никакой симпатии. Ленин не выносил кайзера так же, как и царя. Но когда он смог использовать кайзера против Романовых, он не отказался от такой возможности.
Немецкое правительство провезло социалистов в Россию, потому что эта акция вписывалась в стратегические планы войны с Антантой, но вряд ли они ожидали благодарности от большевиков, Это была достаточно холодная сделка, не влекущая сентиментальных последствий.
Как только большевики заняли освободившийся императорский престол, началась их эволюция от борцов за права мирового пролетариата к российским имперским интересам. Как и любое правило, эта эволюция не обошлась без исключений.
Обнаружилось, что переосмысление своей политической функции по-разному проходят у различных лидеров новой России. И если наиболее трезвые и цепкие уже к началу 1918 года поняли, что главное — удержать власть, а остальное когда-нибудь приложится, то иные, скажем романтики, продолжали исповедовать религию Маркса — крестовый поход за освобождение мирового пролетариата, ради чего можно пожертвовать своим господством в России.
Большинство большевистских лидеров полагало, что самое насущное дело — заключение мира с Германией. Ведь, объявив мир народам и этим как бы придав законность развалу фронтов и стремлению усталых солдат вернуться домой, они стали беззащитны перед неуклонным наступлением германской военной машины. Если война будет продолжаться, то через несколько недель немецкая армия войдет в Петроград (вскоре большевики вернут ему старое название — Петербург), затем возьмет Москву и ликвидирует первое в истории государство рабочих и крестьян.
Защищать республику некому. Своей армии еще нет, а красногвардейцы и матросы Кронштадта годны более для арестов и реквизиций, чем мя сражений.
Ленин и Свердлов понимали, что Германии так же крайне необходим мир на Востоке.
Это означало возможность снять несколько корпусов и бросить их во Францию, где и решались судьбы войны. Это означало открытие продовольственного потока из России и Украины — а ведь Берлин и Вена были близки к голоду. Ленин полагал, что на переговорах о мире противники будут торговаться, выжимая все выгоды из тяжелого положения безоружной России, но следовало пойти на уступки, чтобы не потерять всего.
Существовала и другая точка зрения — романтическая. Звучала она наивно, а с высоты последующих лет даже глупо: Мы объявили мир всем народам. Мы не хотим воевать. Если немцы такие плохие, пускай они наступают, пускай они нас завоевывают. Но мы убеждены, что германский пролетариат не позволит совершиться такому насилию над Россией и восстанет против угнетателей. Германское наступление на Свободную Россию станет призывным сигналом для мировой революции.
Пока шли первые споры о стратегии отношений советского государства с мировым империализмом, делегация большевиков в составе Йоффе, Каменева и Сокольникова отправилась в пограничный Брест-Литовск, занятый в то время немцами. Конечно, большевики предпочли бы вести переговоры в Стокгольме либо ином нейтральном европейском городе, под взорами и перед ушами тысяч журналистов, чтобы любое слово, сказанное там, служило разоблачению низменных устремлений Германии, но в Стокгольм германские представители ехать отказались. Поспорив для порядка, большевики сдались. А раз переговоры начались с такой важной уступки, они продолжались под знаком германской инициативы.
Но кто знает, в какой прекрасный день Ленин и его ближайший соратник Свердлов поняли, что на их политических весах власть в России котируется важнее всех мировых революций вместе взятых? Кто скажет, когда Ленин понял, что желает быть властителем величайшей империи мира, а не подручным в склоках германских и французских филистеров, которых в глубине души, возможно, всегда презирал? А кто убедит нас в том, что, посылая первую делегацию именно в Брест-Литовск (хотя романтики Радек и Троцкий, поддерживаемые большинством в верхушке партии, категорически сопротивлялись тому, чтобы переговоры шли в логове принца Леопольда), Ленин не принял уже главного решения того года: мир с Германией любой ценой, даже если эта цена — провал мировой революции.
Граф Оттокар Чернин, министр иностранных дел Австро-Венгерской империи, в начале переговоров с русскими социалистами писал другу в Вену: «Известия из России все настойчивее указывают, что русское правительство безусловно и как можно скорее хочет заключить мир. В этом случае немцы уверены, что смогут перебросить массу своих войск на Запад, прорвут фронт, займут Париж и Кале и станут непосредственно угрожать Англии… Таким образом, русский мир может стать первой ступенью на лестнице всеобщего мира».
Австро-венгерский министр искренне желал мира. Но на условиях Центральных держав.
«В последние дни я получил достоверные известия о большевиках, — продолжал он. — Их вожаки почти исключительно евреи, руководимые фантастическими идеями. Я не завидую стране, которой они управляют… Узнать что-либо точное о большевиках нельзя или можно узнать многое, но противоречивое. Они начинают с того, что уничтожают все, напоминающее о труде, благосостоянии и культуре, и истребляют буржуазию. Они, по-видимому, уже забыли о «свободе и равенстве», и их программа заключается в зверском подавлении всего, что не является пролетарским. Русская буржуазия почти так же труслива и глупа, как и наша, и позволяет себя резать, как баранов».
Возможно, в тот момент в выводах министра было некоторое преувеличение.
Большевики еще не имели ни сил, ни возможностей провести в жизнь такую программу.
Но в конечном счете пессимистический прогноз Чернина оправдался.
Что же касается заключения сепаратного мира с русскими, то в частном письме Чернин был весьма откровенен, что позволяет предположить, что если бы политика большевиков была тверда и последовательна, то Брестский мир не стал бы таким трагичным для всей России, Но некому было вскрыть личную переписку министра, в стране большевиков не нашлось провидца.
Полагая и надеясь, что большевики долго не продержатся у власти, Чернин сделал на основе этого любопытный вывод: «Конечно, русский большевизм представляет опасность для Европы, и было бы правильнее совсем не вступать в переговоры с этими людьми, пойти походом на Петербург и восстановить порядок. Но этих сил у нас нет, и мы нуждаемся в самом скором мире для нашего спасения… Чем короче будет пребывание Ленина у власти, тем поспешнее надо вести переговоры, ибо следующее русское правительство уже не возобновит войны».
Европейские социалисты находились в экзальтированном состоянии по причине победы революции в России, Они полагали, что Ленин и его соратники выполняют их заветы.
Ибо рассматривали русских коллег как младших братьев под идеологической опекой мудрого Запада. Они быстро пережили теоретический конфуз русской революции, не только разрушившей империю, но и поставившей под сомнение постулаты марксовой теории, учившей о победе революции в странах, где пролетариат силен и организован. Ведь без него революция не сможет стать пролетарской. Но раз Россия так нарушила правила, ей придется стать запалом мирового пожара и, если суждено, сгореть в этом пожаре.
Вчерашний Ленин разделял такую точку зрения и сам учил тому своих соратников.
Вчерашний Ленин, конечно бы, настаивал на том, чтобы мирные переговоры с Германией велись в нейтральной европейской стране, чтобы они сами стали событием в истории марксизма, чтобы каждый шаг их освещался социал-демократами и служил бы на ускорение победы пролетариата в Германии, Австро-Венгрии, а затем уж и во Франции. В Стокгольм как самый удачный из пунктов переговоров, уже собрались вожди европейской социал-демократии, интернациональная братия профессиональных революционеров — Парвус, Радек, Ганецкий, Воровский… Они желали превратить мирные переговоры с Германией в социалистическую конференцию, на которой будет разоблачен германский и антантовский империализм. Если же германские войска задушат эту случайную, непредусмотренную русскую революцию, этим они поднимут победоносное восстание западноевропейского пролетариата.
Известие о том, что петроградские большевики согласились на переговоры в Брест-Литовске, тогда как их наставники уже сбежались в Стокгольм, было воспринято ими как предательство, каковым оно и было. Ведь в Брест-Литовск ни один чужеземный социалист допущен не был. Радек и Парвус злобствовали более прочих — Парвус жаловался Ганецкому, что Ленин не отвечает на его возмущенные телеграммы, а Радек кинулся в Петербург, объявил себя русским социал-демократом и в этом качестве проник в Брест, чтобы давать указания русским товарищам. Даже Роза Люксембург сделала Ленину публичный выговор: еще бы, решение его ставило под угрозу скорое начало революции в Германии.
Ленин был готов к нападкам коллег, но он уже принял решение: игрушкой в руках немцев он не станет. Если нужно, он сделает все от него зависящее для помощи германской революции. Но не за счет власти большевиков в России.
В те дни Ленина угнетало отсутствие настоящего друга, к совету которого можно прислушаться. Раньше он с людьми лишь приятельствовал, но до тех пор, пока те правильно служили делу. Исключение делалось лишь для родственников, доказавших верность многолетними жертвами и самоотречением. Но сестры, брат, мать только служили ему и как мыслители были ничтожны.
При том Ленину было свойственно увлекаться людьми. Порой он мог даже влюбиться в человека. До первого своего каприза или вспышки подозрительности. Тогда он отдалял от себя приятеля, даже клеймил и разоблачал его. Но, подобно Екатерине Великой, которая не держала зла на изменивших или надоевших фаворитов, никого из них не гнал и не уничтожал, На рубеже восемнадцатого года Ленин полюбил Троцкого. Троцкий был умен, интересен, талантлив и не опасен. На это у Ленина был особый нюх. Троцкий, как ни парадоксально, был замечательным исполнителем. Правда, при условии, что он полагал себя вождем. Он почитал Ленина, как старшеклассница почитает усатого учителя физики, и не стремился его оттеснить, А трезвый Ленин понимал, что не сегодня-завтра его неоспоримое лидерство будет оспорено внутри партии, как оспаривается уже в Европе. Ленину даже любопытно было присматриваться к верным соратникам, стараясь угадать среди них будущего Брута. Выбор его обычно падал на Свердлова или Дзержинского. Оба были мучениками, оба были по натуре мстителями и людьми религиозными — ибо идею воспринимали как веру. А в Троцком не было мученичества, не было мстительности и не было внутренней злобы. Словно он не был никогда унижен. Значит, из него не выйдет монстр. Из Свердлова или Зиновьева он выйти может — пример тому Французская революция.
А кто я, Владимир Ульянов?
Мститель за убиенного брата? Это было давно, это уже забыто, и память о брате стала родом символа. Теперь я отдаю должное рациональности правительства — правительство обязано карать, что предусмотрено уже первобытным общественным договором. И если в том возникнет нужда, а главное — политический смысл, то придется поставить к стенке государя императора, благо на его совести куда больше преступлений, чем на совести юноши, повешенного его отцом.
Но кто я? Монстр? Ничего подобного. Во мне нет злобы, а только ярость. Ярость, с которой я бросаюсь на спасение дела, как верный пес — на защиту хозяйского дома.
Ярость проходит, и я всегда готов простить человека, если он полезен делу. Я не способен убить человека, я не могу видеть, как людей убивают. Я предпочел бы выбросить смерть из политического арсенала. Но она объективна, как объективна классовая борьба. Олень насаживает на рога волка, спасая своего детеныша. Нет, монстр опасен для дела, для своих более, чем врагов. Монстр подвержен мании преследования, а мне это не угрожает…
Может быть, я — мессия? Глупо — я всегда был рационален. Чудес не бывает. Мессия это оратор, кинувший в толпу удачный лозунг. Далее, чтобы поддерживать энтузиазм и преданность толпы, он обязан перед ней расстилаться, лгать ей, потакать ее низменным качествам.
Нет, я — ученый. Я знаю, как сделать революцию. И знаю, как устроены люди и массы людей. Я знаю, как разделять и властвовать. Но не ради себя или своего рода, а ради этих самых наивных, жестоких, неумных людей — без меня им будет хуже. Я, как гениальный алхимик, знаю, какие волшебные капли надо влить в их жизненное зелье. Я знаю. Я — мыслитель, И сам факт владения правдой, знанием мне важнее любой славы и мести.
Нужен ли я всему миру? Или пришло время решать — Россия против Европы? Это трудный выбор. Троцкий хоть и умен, но слишком марксист. Троцкому нужен учитель и поводырь. Но в своей табели о рангах Троцкий ошибочно считает первым пророком покойного Карла Маркса, гениальность которого ограничена и старомодна. Я должен сделать так, чтобы вытеснить Маркса с первой строчки духовной библии Троцкого. И это реально, потому что Троцкий мне ясен, …Но Троцкий бывал непредсказуем.
Это было опасно.
Почему-то он вчера спросил:
— Как могло случиться, что вы, Владимир Ильич, не предугадали, не предвидели Февральской революции?
— Разве это была революция? — отшутился Ленин и сам засмеялся громко и заразительно. — Революции не бывают случайными На самом деле упрек был неприятен, потому что справедлив.
Троцкий сам пришел на помощь:
— Важна не ошибка или просчет. Важно сделать мя себя правильные выводы.
В первом списке министров — народных комиссаров правительства — Ленин предложил Троцкому пост народного комиссара иностранных дел. Помимо личной симпатии к этому жовиальному самоуверенному человеку Лениным руководили и соображения пропагандистские: в отличие от него самого и многих других вождей большевизма Троцкий никак не был скомпрометирован связями с немцами или Временным правительством. Его не было в злополучном вагоне, он находился в Америке и Канаде, не бедствовал, не голодал, не томился по ссылкам и тюрьмам, как Дзержинский, Свердлов или Сталин.
Наставляя Троцкого перед отъездом в Брест, Ленин сказал, почесывая еще не отросшую с революции бородку:
— Я бы не хотел, чтобы Парвусы и Радеки рассматривали Россию как пуговицу на их смокингах.
Троцкий улыбнулся. Он только что сшил себе офицерского вида китель, который ладно сидел на его широких плечах, Наверное, он подолгу стоит перед зеркалом, подумал Ленин. Любит глазеть на себя.
Говорят, у него хорошенькая сестра. Почему я ее не видел? Впрочем, такие глаза, как у него, могут скрасить и вовсе не привлекательное лицо.
— Вы ощущаете себя евреем? — неожиданно для себя спросил Ленин.
— Вы имеете в виду комплекс неполноценности, гонения, стремление отомстить обидчикам…
— В государственном масштабе.
— У меня было счастливое детство, — ответил Троцкий. — Хорошее, небогатое крестьянское детство.
— Крестьянское?
— Мой отец — арендатор на Украине. У нас в хате был глиняный пол.
И Троцкий довольно рассмеялся.
Догадался ли он, почему я спросил? Впрочем, это не играет роли. Мстители — Свердлов, Дзержинский, Сталин, проведшие десятилетия в тюрьмах и на каторге, были неизбежно узки и обозлены — тюрьма стала мя них естественным образом жизни, и стремление упрятать туда всех инакомыслящих казалось естественным и не выходило за пределы морали. Эти люди пришли скорее отомстить, чем осчастливить.
И когда отомстят обидчикам, перенесут эти отношения на друзей, ставших соперниками. Уж лучше мздоимцы…
— Уж лучше мздоимцы, — повторил Ленин вслух. Но Троцкий все же понял, потому что закончил фразу:
— Чем Угрюм Бурчеев с партийным билетом.
Во главе германской делегации был поставлен генерал Гофман, он и сформулировал от имени германского командования требования к России как условия заключения мира. Во-первых, заплатить Германии за содержание миллиона русских пленных, во-вторых, отказаться от Прибалтики, Молдавии, Восточной Галиции и Армении. Глава русской делегации Йоффе настаивал на заключении мира без аннексий и контрибуций. Гофман согласился на это при условии, что согласится и Антанта, — иначе Германия оставалась в невыгодном положении. Так что пришлось от этого условия отказаться, Русские настаивали на том, чтобы Германия не пользовалась перемирием мя переброски своих войск на Западный фронт — иначе нарушался баланс сил, и в самом деле могло случиться так, что Германия разгромит Францию, война закончится в пользу Центральных держав, и никакой революции в Европе не получится. Гофман заявил, что войск Германия перебрасывать не будет, но оставляет право отводить части в тыл на отдых и переформирование. Это была удобная лазейка — отдыхать можно было во Франции.
Как первый шаг было заключено перемирие до середины января 1918 года. Железные дороги в Европе заработали с невероятной нагрузкой — успокоенные за судьбу Восточного фронта немцы начали перебрасывать корпуса на Запад. Начальник Генерального штаба Людендорф готовил последнее и решительное наступление на Францию за счет войск, которые Ленин освободил на Востоке.
Троцкий и Каменев, выступая перед ВЦИКом, показывали перемирие как великую победу мировой революции. Троцкий сказал: «Мы верим, что окончательно будем договариваться с Карлом Либкнехтом, и тогда мы вместе с народами мира перекроим карту Европы». Каменев вторил ему: «Мы поехали в Брест потому, что наши слова через головы германских генералов дойдут до германского народа, что наши слова выбьют из рук генералов оружие».
Генералы не спешили расставаться с оружием, они готовились к решительному наступлению на Париж.
Чернин приехал в Брест 6 января. Он вспоминал, что последняя ночь была ужасной — отопление в его поезде замерзло, и он не смог сомкнуть глаз, несмотря на то что ему принесли второе одеяло. Но когда утром поезд втянулся на запасные пути брестского вокзала и задремавший под утро австрийский министр протер глаза, он увидел, что на запасных путях царит оживление: еще до него сюда прибыли поезда германских союзников — болгар и турок. Вагоны были украшены соответствующими гербами, по путям бродили и бегали — к зданию вокзала, к базару, к немецким складам и обратно — денщики, вестовые, адъютанты в экзотических Мундирах.
Министр иностранных дел Германии Кюльман пригласил Чернина к завтраку. Чернин рассказал коллеге, что в Вене уже несколько дней не выдают хлеба, Австрия на пороге выхода из войны. Во время завтрака принесли телеграмму из Петрограда о том, что поезд русских дипломатов уже в пути. Йоффе заменен большевистским министром Троцким.
В ожидании появления Троцкого воспрявшие духом дипломаты и военные центральных держав по приглашению командующего Восточным фронтом принца Леопольда Баварского отправились на охоту. Немцы чувствовали себя в Брест-Литовске как дома. «Погода была очень холодна, но прекрасна, — записал в дневнике граф. — Много снега и приятное общество. Дичи, против ожиданий оказалось мало, Адъютант принца загнал кабана, другой подстрелил двух зайцев. Вот и все. Возвратились в 6 часов вечера».
А на следующий день — Троцкий еще не приехал — произошло событие, которое и определило ход будущих переговоров. Появилась украинская делегация. Украинцы сразу же предложили немцам признать их самостоятельность. Они со своей стороны готовы заключить любой мир, который угоден немцам, даже продать всю Украину ради сохранения собственных министерских постов. Появление украинской делегации мудрый Чернин назвал «нашим единственным спасением». И продолжал: «Украинцы сильно отличаются от русских делегатов. Они гораздо менее революционны, обнаруживают гораздо больше интереса к собственной стране и меньше интереса к социализму». Так что еще до появления на сцене Троцкого позиции Германии укрепились и генералы воспряли духом.
На первых же заседаниях Троцкому было объявлено, что Центральные державы признают независимость Украины и хотели бы считать ее полноправным партнером в переговорах. Троцкий, который до того безуспешно пытался доказать украинцам, как опасно вступать Украине в самостоятельные отношения с Германией, признал, что Украина, как и любая страна, имеет право на самоопределение. Троцкий знал, что в Петрограде были приняты все меры, чтобы нейтрализовать украинскую самостийность. 12 января в Харькове было организовано параллельное правительство Советской Украины, которое тут же послало свою делегацию на переговоры в Брест-Литовск.
Еще один, уже пятый дипломатический поезд втиснулся на запасные пути. Но вождей Советской Украины — Медведева, Шахрая и Затонского — немцы на переговоры не пустили, указан Троцкому, что тот давал согласие на участие Украины в переговорах, когда в Бресте находилась лишь одна украинская делегация.
Троцкий ждал, когда киевское правительство падет, а пока тянул время, переругивался с генералом Гофманом, призывал к мировой революции и поддавался напору сторонника мировой революции польского социалиста Радека, спесивого, неопрятного демагога из той породы скандалистов, которые слишком быстро привыкают к удобствам своего высокого положения и принимаются кричать на шоферов и кухарок.
Радек отличился уже через три дня после приезда. Троцкий от имени делегации отказался от общих обедов с оппонентами, но согласился на предложение генерала Гофмана предоставить большевикам автомобиль, чтобы они могли совершать на нем поездки, В тот день шофер опоздал, заправляя автомобиль бензином, и Радек, прождавший его несколько минут, устроил страшный скандал. Он вел себя неприлично, и потому шофер дал газ и прямиком уехал в штаб, где нажаловался на русского делегата генералу Гофману. Генерал попросил Троцкого лучше следить за членами делегации.
— Пока не началась мировая революция, господин министр, — сказал он, — мне хотелось бы, чтобы вы соблюдали правила человеческого общежития. Мы в Германии не любим, когда нам отвечают хамством на любезность.
Троцкий попросил прощения и от имени делегации отказался от автомобиля. Радеку он сухо сообщил, что тому впредь полезнее совершать пешеходные прогулки.
Из Вены Чернину летели отчаянные телеграммы о голоде и завтрашнем восстании.
Немцы боялись, что Чернин предложит русским сепаратный мир. Ленин пытался ускорить создание армии — никто не знал, какая эта армия должна быть, и никто не мог превратить сотни отрядов и банд, увешанных оружием, как рождественские елки, закопанных в кожу и имеющих пулеметы, а то и броневики, в подобие армии, способной подчиняться и противостоять профессиональным немецким батальонам.
Разумеется, командиры этих банд и отрядов более всего боялись потерять власть и оружие и не собирались рисковать жизнью, воюя с немцами. Ленин ночью просыпался от ужаса перед реальностью предчувствия: серые ряды германской пехоты шагают по Невскому.
Днем Ленин принимал американского посланника Филипса и английского — Локкарта.
Те грозили гневом Антанты и обещали подмогу техникой и вооружениями, если Россия сохранит верность общему делу. Ленин понимал, что ни в Лондоне, ни в Париже у него не найдется союзников. Скорее германский император согласится на то, чтобы большевики остались в Петербурге и не мешали ему громить французов, чем французы станут тратить деньги на поддержку большевиков. А раз так, то надеяться можно только на то, что генерал Людендорф остановит свои войска, Пускай захватив половину России — мы вернем ее. Только бы пережить эту зиму!
Троцкий Ленина разочаровал. Оказавшись на пьедестале министра и главы делегации, он преувеличивал свое значение, и ему стало казаться, что мировая революция вот-вот начнется. Благо рядом был настойчивый Радек. Ленин был бы рад сам отправиться в Брест, уединиться с Гофманом или Людендорфом и обо всем договориться: Вам нужно зерно? Вам нужно сало? Вам нужна любая поддержка с Востока? Вы ее получите! Но оставьте в покое меня и мою страну!
Немцы же всерьез принимали риторику Троцкого и видели перед собой Радека, который в их глазах и представлял собой мировую революцию, готовую перекинуться на Берлин.
Украина же обещала хлеба. Столько хлеба, сколько потребуется, чтобы разгромить Антанту. Обещала уголь, мясо, масло. Взамен требовала гарантий независимости от москалей и австрийскую Галицию — от последней, впрочем, могла и отказаться.
Украинцы обещали так много, что германские дипломаты чуяли подвох, которого в самом деле не было. Министр иностранных дел Германии Кюльман отмечал в дневнике, что «украинцы хитры и коварны». 18 января Троцкому были вручены карты с территориями, которые Россия теряла по мирному договору. Список их был внушителен, общая площадь более 150 тысяч квадратных километров, но специфика германских требований заключалась в том, что эти территории большевики не контролировали. Финляндия уже была независимой, Прибалтика и Польша были оккупированы немецкими войсками.
Однако Троцкий отказался подписать договор и уехал в Петербург для консультаций.
Переговоры прервались, и в последующие несколько дней большевики о них забыли: в Петербурге было созвано и разогнано Учредительное собрание.
Эпоха демократии в России завершилась.
Лидочка и Андрей не собирались задерживаться в Киеве, где у них не было ни родных, ни знакомых, Но когда симферопольский скорый, изнемогая, подполз к киевскому вокзалу и изверг на обледенелый перрон многочисленных пассажиров, Андрей обнаружил, что у касс злым пчелиным роем покачивается темная толпа, в которую свежим пополнением влились пассажиры симферопольского поезда.
Андрей сделал было поползновение приблизиться к толпе, но Лида вцепилась в него, не пуская, — и тут же увела с вокзала. Атак как ей хотелось выкинуть из головы обязательные билетные заботы, она стала говорить Андрею, что давно хотела побывать в Киеве, все-таки это мать городов русских, хоть теперь и сменившая национальность, ставши столицей украинской державы. Лидочка даже вспомнила, что командует Украиной Центральная рада, то есть интеллигентный писатель Винниченко, он несколько лет назад снимал комнату в их доме, водил Лидочку на пляж и подарил ей скучную книжку с трогательной надписью. Четырнадцатилетняя Лидочка принесла книжку в гимназию и забыла на парте, чтобы девочки могли прочесть надпись и понять, какие у Лидочки знакомые…
Андрей легко дал уговорить себя задержаться в Киеве, таком Мирном, сытом и далеком от войны. Они погрузили свой нетяжелый багаж на извозчика и поехали в центр, где сняли номер в скромной и чистой гостинице Байкал» на Фундуклеевской улице, неподалеку от Городского театра.
Цыганистый портье с висячими, на украинский манер, тонкими усами был предупредителен, словно принимал Великих князей.
— Совсем не осталось молодоженов, — сообщил он, — может, и играют свадьбы, но чтобы в путешествие как у панов, этого уже нет. Откуда мы будем?
Он им объяснил, как лучше пройти к Софии и на Крещатик, и даже вышел проводить их к дверям, может, потому что швейцара в гостинице не было, от него отказались из-за дороговизны.
Они пошли к Софии пешком. Сначало было солнечно, солнце даже чуть припекало, что для начала января необычно. Под ногами хлюпала снежная каша. На Крещатике было Многолюдно, толпа была южной, говорливой, но неспешной. Витрины магазинов были богаче, чем в Симферополе. По улице, разбрызгивая снежный кисель, проезжали извозчики и автомобили. Над большим пышным зданием трепетал по ветру голубой флаг Рады. Лидочка крепко держала Андрея за руку, она радовалась, словно впервые увидела такой большой город. До революции Лидочка жила в Одессе и Николаеве, Ну и конечно, в Крыму.
— Разве Одесса меньше Киева? — спросил Андрей.
— Я забыла, — призналась Лидочка.
— Ты провинциалка?
— И горжусь этим, мой повелитель. А ты лучше погляди, какой смешной дом — как торт с орехами.
Андрею вдруг показалось, что этот город, этот Крещатик — декорация оперного спектакля, где сто человек в ярких одеждах становятся полукругом и смотрят, как девушка в белой пачке танцует па-де-де. Вокруг — раскрашенные фанерные фасады и виноградные грозди из ваты, обмазанной клеем, А там, за кулисами, пыльно и темно, для обывателей Киева война — это газетная выдумка, если, конечно, на ней еще не убило кого-то из близких. Никто не хочет думать, что скоро закроется занавес и спектакль кончится. И сюда придут люди с пулеметами — большевики из Петрограда матросы из Севастополя, немцы из Бобруйска, австрияки из Галиции. А может быть, писателю Винниченке не понравится, почему это он ходит под голубым флагом, а его военный министр Петлюра под жовто-блакитным?.. И все они начнут стрелять.
— Ты меня слушаешь? — спросила Лидочка. — Или опять думаешь, как будет плохо?
— Я Кассандра.
— Ты дурной вестник. Таких, как ты, казнили.
— Казни меня.
— Купи мне мороженого. Такова будет ужасная казнь.
Андрей купил мороженого в вафельных кулечках. Себе — шоколадного, а Лидочке — клубничного. Они уселись на скамейку, ветер сразу стал хватать за щеки и пальцы.
Прохожие поглядывали на них без удивления. Не все ли равно, когда есть мороженое, если оно вкусное?
— Интересно, — сказала Лидочка, — у тебя уже есть характер, или ты еще не успел им обзавестись? Я все время за тобой наблюдаю, как за нашей кошкой. Ты не обижаешься?
— Я не обижаюсь, — ответил Андрей. — Я читал, что девочки раньше взрослеют, но потом останавливаются в своем развитии.
— Я замерзла. — Лидочка поднялась и пошла по улице.
Андрей поспешил за ней.
— Не воображай, будто я обиделась, — сказала Лида. — Хотя ты мог быть повежливее.
Она покосилась на него. Ей нравилось разглядывать Андрея.
Наверное, я в него влюблена. До сих пор.
За два года, которые они так или иначе провели рядом, Андрей вытянулся до шести футов. Он обещал, что больше расти не станет. Он стал шире в плечах, и руки тоже стали шире — от ладоней до предплечий. Хотя кость у Андрея была нетолстой.
Волосы вьются перед дождем. А в сухую погоду — не вьются. Они красивого цвета — русые, но золотистые. Конечно, он еще мальчик. Но и мужчина. И эта двойственность подчеркивается двойственностью календаря, в котором он существует…
Как и она.
— Сколько нам лет? — спросила вдруг Лидочка.
— Пойдем лучше дальше, — сказал Андрей. — А то совсем замерзнем.
Солнце зашло, утонуло в темной снежной туче, и сразу наступила глухая, мрачная зима. Они направились к развалинам древних городских ворот, что стояли на Владимирской улице.
— Познакомились мы в Ялте, — сказала Лидочка, дохрустывая вафельный стаканчик. — В августе тринадцатого.
— Но объяснения не последовало, ибо она не разглядела в нем своего будущего рыцаря.
— Погоди! Я в самом деле хочу разобраться.
— Во второй раз я примчался к тебе через полгода.
— И у тебя украли фуфайку. Помнишь, тот чистильщик на набережной? Ты тогда уже поступил в Московский университет.
— А ты еще никак не могла выпутаться из пеленок ялтинской женской гимназии.
— А потом убили Сергея Серафимовича, а тебя хотели посадить в тюрьму. Отсюда начинается наша двойная жизнь, Андрей обнял Лидочку за плечо, притянул к себе и хотел поцеловать в губы, но Лидочка чуть отстранилась, и поцелуй пришелся в щеку.
— У нас с тобой появились табакерки, сказала Лидочка, всерьез намеренная подвести первые итоги их жизни. Но у Андрея такого настроения не было. Он только мешал ей считать.
— Лучше бы они не появлялись, — сказал он, Они вышли к непонятной громоздкой груде кирпичей — древним городским воротам.
Сверху белой шапкой лежал снег. Ворота не казались древними. Их могли воздвигнуть и десять лет назад, а потом они рухнули из-за паршивого раствора.
— Твой отчим завещал нам свою судьбу… По крайней мере дважды с помощью этих табакерок мы убегали с тобой в будущее. Не будь этого, ты бы и сейчас сидел в тюрьме.
— Или наоборот, — ответил Андрей. — Я был бы выпущен из тюрьмы восставшим народом и провозглашен Робеспьером.
— Но этого тебе пришлось бы ждать больше двух лет — до марта семнадцатого.
— Это искушение, от лукавого, — сказал Андрей.
— Так выбросим эти табакерки. Выбросим!
Лидочка расстегнула застежку сумки, но Андрей остановил ее руку. Трудно отказаться от способности в любой момент исчезнуть в этом мире и возникнуть вновь в будущем. Ты поставил шарик портсигара на нужное деление — и вот ты уже в двадцатом году или в тридцатом… где захочешь.
Ты очнешься через три года, через десять лет — точно такой же, как нынче. Даже ботинок не истрепал. А близкие твои состарились, а враги твои убиты или, наоборот, торжествуют на вершине власти… Прошло не так много времени с того дня, как умирающий Сергей Серафимович передал Андрею свой портсигар — машину времени, а Глаша второй — для Лидочки. По земному счету это произошло в октябре 1914 года, то есть чуть более трех лет назад. Но уже вскоре Андрею пришлось воспользоваться машиной времени, чтобы убежать из-под стражи. В апреле семнадцатого года Лидочка, последовавшая за ним, встретила Андрея в Батуме, куда он приплыл из Трапезунда.
— А это значит, — сказала Лидочка с внутренним торжеством, — что нам с тобой на два года меньше, чем тем, кто родился с нами в один день.
— Посмотрим, что будет через пятьдесят лег, — ответил Андрей.
— Ты тоже думал об этом?
— Для этого мне и дана голова.
— Я так надеюсь, что портсигары больше никогда нам не понадобятся!
— А почему? Мне интересно. Ведь если своими ножками прожить сто лет — какими старенькими мы станем! Атак заглянем…
— Но не сможем вернуться! Ты понимаешь — не сможем вернуться.
— А как ты думаешь, сколько лет папу Теодору? Сколько лет было моему отчиму?
Может быть, им по тысяче лет? По две тысячи? Легенда о вечном жиде не придумана.
Кто-то знал об этих людях…
— Я не хочу, честное слово, я не хочу. — Лидочка готова была заплакать, — Я буду жить, как все.
— Если нам позволят, — ответил Андрей.
— Значит, мы прокляты?
— Я не знаю — проклятие это или спасение, Но я знаю, что мы теперь навсегда, до конца дней, не такие, как остальные люди на земле. Не хуже и не лучше, но другие.
И с каждым годом мы будем все более удаляться от них.
— Я не хочу!
— Не кричи. Люди оборачиваются.
— Это не люди, это лица за окном поезда.
— Мы не сможем иметь друзей и привязанности. Но у меня есть ты.
— Мне маму жалко…
Андрей остановился и прижал к себе Лидочку, и она спрятала лицо у него на груди.
Ей казалось, что она чувствует, как бьется его сердце.
— Пойдем осматривать Софийский собор, — сказал Андрей. — Сегодня мы — туристы.
Андрея беспокоило то, что Лидочка отправилась гулять по январскому Киеву в резиновых ботиках — в Симферополе трудно было купить зимнюю обувь, Лидочка отложила покупки до Москвы — они все откладывали до Москвы. Сегодня же надо будет уговорить Лидочку приобрести зимние сапожки. Ведь Лидочка сама не замечает, как притоптывает, ноги уже замерзли — и пальто у нее демисезонное, без мехового воротника, — ну куда же ты смотрел, Берестов? О чем ты думал? О судьбах человечества? Человечество без твоей помощи истребляет себя на Марне и в Альпах.
Их денежные дела были не так хороши, как хотелось бы. В Москве придется устраиваться на службу. Теперь это важнее, чем университет. Пока он был одинок, то мог не думать о том, что ест и как одевается, А теперь на нем ответственность за семью. Смешно — никак не привыкнешь. Сколько у нас осталось? Около шестисот долларов. Пока их можно разменять — в Симферополе Андрей так и делал. Неизвестно только, меняют ли их в Москве? Можно было продать тетушкин домик в Симферополе, но рука не поднялась. Да и где тогда будет твой родной дом, Берестов? Где родовое поместье в три окна по беленному известкой фасаду?
Сизая туча ударила в лицо таким густым зарядом снега, что в мгновение ока не стало видно домов по сторонам, трамвая, что, звеня, бежал навстречу, и путников, застигнутых метелью. Стало темно, но не ровной темнотой вечера, а тревожной сиреневой, светящейся изнутри тьмой, какой видится в воображении преисподняя.
Андрей протянул руку и отыскал пальцы Лидочки.
Им попалась подворотня, они нырнули в нее и увидели, что там уже стоят, отступив в мирную сень каменного туннеля, с полдюжины прохожих. Вновь прибежавшие принялись отряхиваться — совсем по-собачьи. Вбежал еще один человек, отторгнутый снежной бурей.
— Вот метет, так метет, — сказал он, словно запоздалый гость.
— Я такой погоды не помню, — сообщил грузный монах, тяжелая и мокрая ряса которого выползла из-под черного пальто, а в черной бороде так и не растаял снег.
— Я бы сказал, что близится конец света.
— Конечно, у вас есть дополнительные сведения, — язвительно откликнулся студент в фуражке, оттопыривавшей красные уши. — Вам сообщают.
— Не говорите глупостей, молодой человек, — сказал монах, — речь идет об интуиции, если вам известно такое понятие. Но налицо многие признаки апокалипсиса.
— Я помню, как в ночь под девятисотый год все ждали конца света, — включилась в разговор дама под лиловым зонтиком. — Но ведь не случился.
— Запоздал, — сказал вновь пришедший. — Немного промахнулся.
Кто-то засмеялся.
Зазвенел трамвай. Все побежали наружу, чтобы сесть в вагон. Перед тем как убежать к трамваю, студент в большой фуражке сообщил Лидочке:
— Виноваты мы сами, и только мы! Уровень загрязнения воздушных масс превышает все допустимые пределы. Человечество скоро уничтожит само себя. Поняли?
— Спасибо, — сказала Лидочка.
Студент уже бежал, он скакал в струях снега, стараясь уцепиться за стойку задней площадки. Наконец это ему удалось — по крайней мере в подворотню он не возвратился.
— Я ужасно замерзла, — сообщила Лидочка. — Давай пойдем в кафе, будем есть пирожные и пить грог.
Они нашли кафе, там были пирожные, но грога не нашлось. Они выпили по рюмке портвейна. К тому времени, когда они вышли, снегопад кончился, но похолодало, и вдоль улиц ветер нес снежную пыль и вырванные из-под снега жестяные дубовые и каштановые листья.
Вскоре они добрались до собора Святой Софии. Собор был открыт; но там не служили.
Они стояли в полутьме, ощущая скованное стенами, вытянутое к небу пространство.
Неожиданно снаружи облака разбежались, и лучи солнца прорвались в гулкую высокую пещеру собора, заставив тревожно заблестеть золотую мозаику в неподвижной вышине купола. В соборе тоже было холодно. По узким выложенным в стенах лестницам они поднялись на галерею. Ступеньки были стесаны подошвами тысяч людей, которые поднимались сюда сотни лет назад. Когда они вышли наружу, где под холодным солнцем неслись по синему небу рваные облака, Андрей спросил:
— Может, вернемся в гостиницу?
Лидочка шмыгнула носом и уверенно ответила:
— Не сходи с ума. Мы завтра уезжаем. А я еще не была в Печорах и не видела Святого Владимира.
Они прошли мимо провинциального, нескладного памятника Богдану Хмельницкому и повернули налево, к Михайловскому монастырю.
— Интересно, — спросила Лидочка. — Они его снесут?
— Кого?
— Хмельницкого.
— Почему?
— Андрюша, не будь наивным. Он же не захотел отдавать Украину полякам и отдал ее русским. Он — их местный предатель.
— Наверное, они поставят вместо него памятник Мазепе, — сказал Андрей, — за то, что тот хотел отнять Украину у русских и отдать шведам.
— Нет, — возразила Лидочка. — Они придумают Богдану Хмельницкому какой-нибудь другой подвиг. Им будет жалко такой большой памятник. На коне…
Они обошли Михайловский монастырь, и с площадки открылся вид на Подол, Днепр и левый берег. Как будто они внезапно вознеслись высоко в небо, как птицы, — так далеко внизу была земля, так широко был виден в обе стороны не везде замерзший Днепр и так бесконечно тянулась впереди снежная равнина, кое-где скрытая полосами снегопада, соединившими землю и серые тучи.
— Мы стоим и ждем печенегов, — сказала Лидочка.
— Так можно до смерти замерзнуть, — ответил Андрей. — Ты еще жива?
— Нет, не жива, но счастлива, — сказала Лидочка. — У меня к тебе большая-большая просьба, мой повелитель.
— Представьте мне ее в обычном порядке, — сказал повелитель, — на слоновой бумаге, скрепленную сургучной печатью.
— Слушаюсь и повинуюсь. И просьба моя заключается в том, чтобы ты запомнил это мгновение. Как единственное. Вот этот странный день — не то грозовой, не то солнечный, не то метельный, И этот вид до самого конца земли. И мы с тобой вдвоем, такие молодые и красивые.
— Попрошу без преувеличений! — возмутился Андрей.
— Потерпи, повелитель. Я скоро кончу свою поэму… Великий Днепр течет у наших ног, а за спиной незыблемый и вечный Михайловский монастырь и собор. Мы умрем, а он останется…
— Мы никогда не умрем. Мы всех людей переживем!
— Не смей так страшно говорить. И даже думать так не смей. Самое главное в жизни — это поймать драгоценное мгновение, И оставить его в себе. А я хочу, чтобы это мгновение осталось в нас обоих. Неужели тебе не понятно?
— Мне все понятно. И когда мы сюда вернемся?
— Мы вернемся сюда… через сто лет!
— Долго ждать. Давай через пятьдесят!
— Заметано, как говорят у нас, шулеров! Через полвека мы придем сюда, такие же молодые…
— Когда это будет?
— Это будет шестого января тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года. Ты составишь мне компанию?
— Обязательно, моя прелесть, — сказал Андрей. — А теперь побежали отсюда — я боюсь за твое здоровье. У тебя даже губы синие.
— В Печоры?
— В Печоры, а оттуда — в гостиницу.
Они выбрали не самый близкий путь — сверху, с неба, все пути кажутся короткими и простыми, — они спустились на фуникулере, что начинался от Михайловкого монастыря и звался Михайловским подъемом. Вагончик представлял собой лесенку из пяти купе — в каждом скамейка и своя дверь сбоку, все это стянуто общей трамвайной крышей. Кроме них, фуникулер ждали лишь две говорливые красноносые тетки с одинаковыми мешками. Мешки эти согласно шевелились и порой издавали негромкое визжание — тетки везли вниз, на Подол поросят.
Тросы, по которым сползал фуникулер, скрипели и визжали, словно жаловались на погоду и старость, вагончик раскачивался и тоже скрипел, окно с одной стороны было разбито, и ветер, проникая в него, был особенно холодным и злым.
Внизу Лидочка сказала, что еле дотерпела — лучше бы побежали по откосу пешком.
Тут бы Андрею настоять на возвращении в гостиницу, но Лидочка бывает упрямой до глупости, а Андрей не смог ее переубедить — думал, сейчас посмотрим на эти Печоры… вот сейчас. А добирались до них, наверное, больше часа, Уже тогда Лидочка начала кашлять, Вход в святые пещеры был закрыт: то ли выходной день, то ли забастовка монахов — никто не смог толком объяснить. Лидочка уже была рада, что можно возвращаться домой, — ее трясло. К счастью к монастырю подъехал извозчик, и они возвратились в гостиницу быстро. Лидочка прижалась к Андрею и хлюпала носом.
В гостинице она сразу разделась и забралась под одеяло, пока Андрей добывал внизу горячей воды, чтобы попарить ей ноги. Но когда он вернулся с тазом и кувшином, Лидочка уже забылась — лоб ее был горячим и влажным от пота. Андрей снова спустился вниз и спросил у льстивого портье, где найти доктора. Тот вдруг испугался и стал спрашивать, что случилось, не с поезда ли они? Потом признался, что боится тифа — в Киеве уже есть случаи, люди помирают как мухи, истинный крест, как муки. Говорите, у вас в Симферополе тифа нет? Ну, будет.
Андрей добежал два квартала до частной лечебницы Оксаны Онищенко. Там долго ждал, пока искали врача, и еще дольше уговаривал нанести частный визит в гостиницу.
Доктор Вальде, пышнотелый и женственный, что не опровергалось пышными усами, отмахивался от посулов Андрея и повторял:
— Рано еще — если она заболела, то дайте болезни проявить себя! Завтра приду!
Андрей все же вытащил доктора. У Лидочки уже был жар, тридцать восемь и пять Цельсия, доктор прописал ей аспирин. Он выразил надежду, что молодой организм справится, отделается банальной простудой. Он прописал горчичники и аспирин и оставил свой адрес.
Банальной простудой Лидочка не отделалась. Утром, в восемь, когда температура поднялась до сорока, Андрею снова пришлось идти к доктору, а тот встревожился и послал из больницы карету «скорой помощи — санитары вынесли Лидочку на носилках, а портье так и не поверил, что у Лидочки простуда. Он начал бормотать о том, что следовало бы и Андрею покинуть гостиницу, но доктор Вальде накричал на него, и Андрея в гостинице оставили, Ближайшие недели Андрей провел мёжду своим номером и больницей — у Лидочки образовалась двусторонняя пневмония, опасная для жизни, и только через шесть дней кризис миновал, и началось медленное восстановление.
Так что Берестовы, задержавшись в Киеве, провели там, сами того не желая, больше месяца.
Этот месяц при всей тоске и тревоге, в которой они прожили, принес и пользу — он еще более сблизил Андрея и Лидочку. Киев и драматические события в нем были задником, на фоне которого Андрей совершал некие почти ритуальные повседневные действия: покупал на рынке фрукты или у Гельмгольца лекарства, листал старые книги и новые журналы в книжных магазинах на Крещатике, порой, правда, нечасто, забирался в Общедоступную библиотеку и конспектировал труды Соловьева или Уайтхолла — как бы делая вид, что помнит о занятиях в университете, и не знал даже, будет ли зачислен на второй курс как прослушавший лекции и сдавший экзамены за первый, либо ему придется поступать в университет заново. Ведь неизвестно, как представляют себе университетское образование московские большевики. Может быть, теперь в университет принимают лишь сознательных товарищей матросов?
Но более всего времени Андрей проводил с Лидочкой, ставши своим человеком в женском отделении больницы, и даже вынужден был отстаивать там мужскую честь от посягательств невероятно страстной провизорши Григоренко, которая когда-то в юности неосмотрительно выбрила усики над верхней губой и теперь они росли у нее, как у гренадера. Остальные женщины — а мужчин в больнице почти не осталось — на Андрея не посягали и сочувствовали молодым людям, попавшим в беду далеко от дома.
Николай Беккер, воплощение мужественной красоты с британского военного плаката, прогуливался по пустынной ялтинской набережной, беседуя с товарищем Мучеником из Ялтинского Совета.
Гуляли они открыто, не таились, не торопились, любовались темными, почти лиловыми волнами, шуршавшими, перемешивая гальку. Волны отражали зимние тучи, которые срывались с Ай-Петри, стремились к морю, но над Ялтой наталкивались на теплый чистый южный ветер, истончались, пропуская к земле холодный, яркий солнечный свет. День, подходивший к раннему закату, был чудесным, собеседники были молоды и полны сил, революция уже свершилась, притом росла, набирала скорость, размах и мощь, грозя ослепительной волной залить всю планету. Это было славно. Собеседникам было приятно сознавать, что они вовремя и безошибочно выбрали сторону в борьбе и оказались вместе с победителями.
Рассуждали они о брестских переговорах, рассчитывая на скорое поражение германцев, бранили неверных украинцев, которые старались без всяких на то оснований притянуть Крым к своей опереточной державе и заполучить надежду революции — Черноморский флот.
Собеседники остановились у мола, возле которого покачивался на зимних волнах катер с миноносца «Керчь». Катер, как они знали, поджидал возвращения на борт командующего особым севастопольским морским отрядом товарища Андрющенко.
Андрющенко задерживался, так как обедал после казни полковника Макухина и еще одиннадцати офицеров, пойманных в лесу, где они несколько дней скрывались после разгрома эскадронцев. Поимкой Главкома Макухина война независимой Татарской республики с Севастополем завершилась. Крым стал советским!
— На что надеялись эти авантюристы! — громко произнес Мученик, придерживая шляпу, которую норовил сорвать поднявшийся ветер. — Мне рассказывали, что железнодорожные рабочие в Симферополе, рискуя жизнью, срывали погрузку эскадронцев в вагоны!
— Эскадронцы расстреляли товарища Чауса, — сказал Коля.
— Вот именно! И они заслужили суровую кару. Коля услышал сзади треск, словно рвалось упасть большое дерево. Он быстро обернулся, Вблизи не было деревьев — а до громадного древнего платана было метров двести.
Возле того платана взрослые обыватели Ялты старались не проходить. Под ним крутились лишь мальчишки и собаки. Потому что еще тринадцатого января командир вошедшего в город с целью воспрепятствовать его захвату большевиками 4-го эскадрона Крымского конного Ее Величества полка ротмистр Баженов для устрашения обывателей приказал срезать мелкие ветви с нижних сучьев платана на набережной, чтобы всем издали были видны тела большевиков, когда их будут вешать на дереве.
Гражданская война еще только начиналась, ненависть и садизм возникали как бы спорадически и сменялись более обыкновенным чувством удивления противников — неужели мы обречены быть такими? да, обречены, потому что ненавидим тех, кого трепещем. Настоящие садисты и психопаты лишь начинали свое страшное движение вверх, к власти, не пользуясь одобрением собственных же начальников. Штаб-офицеров Уссурийской казачьей дивизии Семенова и фон Унгерна товарищи по полку недолюбливали, а начальство не давало им ходу. Время страшных, искалеченных, уродливых звезд смерти наступит лишь в разгаре гражданской войны. Пока что Баженов, ранняя однодневка, вешал от сознания своего поражения, собственной слабости и страха перед городом, враждебность которого он ощущал и полагал предательством. Хотя городу Ялте и в голову не приходило предавать ротмистра Баженова — сильно раненного в Галиции, контуженного под Варшавой, глухого на правое ухо, бедного как церковная крыса, недалекого и обреченного человека.
Город Ялта просто ждал, когда придет какая-нибудь власть, при которой можно ходить по улицам и даже выпускать на улицу детей.
Баженов злобился, а вокруг него росло поле отчуждения — сами эскадронцы, рядовые конного полка, среди них многие были крымскими татарами, фронтовиками, не принимали обреченной жестокости ротмистра. Потому эскадрон так быстро растаял, когда к самому концу мола подошел миноносец «Керчь» и дал по городу первый залп.
Командир отряда Андрющенко тоже не любил Ялту, ему казалось, что Ялта сопротивляется ему сознательно. Первый десант с «Керчи» и «Хаджи-бея» был загнан обратно я шлюпки двумя пулеметами баженовского эскадрона. Андрющенко тут же послал в Севастополь испуганную телеграмму:
По полученным данным в Ялту прибыло 4 эскадрона татарских войск. Мы просим Вас о помощи, потому что с рассветом предполагается серьезный бой. Из прибывших в Ялту 4-я часть выбыла из строя, Пришлите также патронов пулеметных берданочных и патронов «Наган», а также для русских винтовок. Андрющенко.
В тот же день с «Хаджи-бея» в Севастополь доносили:
Город занят мусульманами. Артиллерия миноносца обстреливает город. Передайте в Симферополь, что если не отзовут свои силы, то город будет разрушен. Член Центрфлота Фролов.
Телеграммы словно предназначались для будущих музеев революции. На самом деле город защищали остатки 4-го эскадрона и несколько татарских ополченцев.
Весь день четырнадцатого два миноносца и подошедший легкий крейсер «Дакия» бомбардировали Ялту. Десятки домов в ней горели. Люди бежали в горы, но на улицах многих ранило и убило особенно тех, кто шел медленно, обремененный повозками с барахлом, детьми и стариками. Подняв воротник бушлата, командир Андрющенко метался по мостику «Керчи». Командир миноносца старший лейтенант Кукель старался не замечать бывшего вахмистра из береговой конной команды и не слушать его, потому что Андрющенко все время матерился и ненавидел город за то, что не осмеливался его штурмовать.
Наконец утром пятнадцатого, получив пополнение и требуемые боеприпасы, включая патроны к «Нагану», Андрющенко приказал начать новый штурм. На набережной матросов никто не встретил. Не было врагов и на улицах. Матросы скользили по засыпанным мокрым снегом улицам, город был похож на девицу, отвернувшуюся от грубого кавалера. У банка натолкнулись на группу татарских ополченцев, которые грузили в мотор тюки. Ополченцы убежали, бросив берданки и тюки с ассигнациями.
Командир Андрющенко доносил в Севастополь:
Город в наших руках, в городе полный порядок, татары от города отошли… Мною было предложено мусульманам, чтобы они сдали все оружие в Военно-революционный комитет, выдали зачинщиков контрреволюции и признали советскую власть… массы сочувствуют нам. Командующий Андрющенко. Миноносец «Керчь».
В тот же день с платана сняли тела повешенных. Собралось много людей. Никто раньше не думал, что на платане, у которого назначали свидания, можно вешать людей. Люди лежали на земле в ряд, шесть человек. Потом двоих местных взяли по домам, а четверых, да еще трех Матросов, погибших при первой высадке, закопали в братской могиле в городском саду.
А девятнадцатого, вчера, как раз когда Коля Беккер приехал в Ялту, в лесу за городом поймали командующего татарской армией полковника Макухина, а с ним одиннадцать офицеров, включая ротмистра Баженова. Макухин был в матросской форме и пытался уйти стороной, отделившись от офицеров. Но его поймали. Утром их судили революционным судом и всех приговорили к смерти.
Офицеров повесили на платане, благо ротмистр Баженов подготовил дерево к казням.
Никто из взрослых жителей города не пришел посмотреть на казнь, там были только те, кто должен был присутствовать по долгу службы. Судьи, командир отряда Андрющенко, члены Ялтинского Совета, прибывшие из Севастополя и Симферополя, чтобы возвратиться к исполнению обязанностей, а также командированный в город эмиссар Центрфлота Андрей Берестов, то есть принявший это имя еще до революции Николай Беккер.
Елисей Мученик, знавший Колю по Севастополю, предложил тому прогуляться по набережной, отдохнуть перед обратной дорогой. А может, у него были другие причины искать общества Коли. Коля с радостью согласился, потому что на него казнь произвела тягостное впечатление и осталась в памяти набором неподвижных картинок — картинкой приезда грузовика с офицерами, которые, помогая друг дружке, спрыгивали с грузовика на землю и все оказались разутыми. Им было так холодно, что некоторые поджимали ноги совсем по-птичьи. Была вторая картинка — как офицеры стоят кучкой и передают из рук в руки коробку с папиросами — Коля так и не понял, кто им ее дал. Они закуривали, торопясь затягивались, будто опасаясь, что не успеют до смерти накуриться. Один из уходящих к помосту офицеров передал недокуренную папиросу тому, чья очередь еще не подошла. Последний офицер, совсем молоденький, остался сразу с тремя папиросами, он затянулся ими и пошатнулся — голова закружилась. Наверное, были и звуки — кто-то говорил, кто-то кричал, кто-то молил, — но звуков Коля не запомнил. А потом офицеры висели на разных ветках — для всех было трудно подыскать один толстый сук. Сверху свисало много босых или обмотанных портянками ног. А людей не стало.
Когда стали расходиться и рассаживаться по машинам, Коля обратил внимание на то, как много недокуренных папирос осталось лежать под деревом, Одна из них еще дымилась. Человек уже был мертв, а она еще оставалась теплой. Коля хотел наступить на нее; но не посмел. И вот тогда Мученик предложил ему погулять по набережной и отвлечься. Хотя деловых оснований для прогулки не было — Коля еще до казни получил у Мученика полный отчет о положении дел в Ялтинском Совете и роли в нем левых эсеров. Островская не хотела, чтобы большевистский контроль над Ялтой ослабевал. Она не доверяла Мученику, потому что он лишь недавно перешел к большевикам…
Уйдя далеко от дерева, к самому молу, они говорили о политических проблемах, но ни слова — о ситуации в Ялте.
— Разрешите высказать мнение старшего товарища? — спросил вдруг Мученик. — Не обидитесь?
— Валяйте, — ответил Коля.
— Рано или поздно, молодой человек, — сказал Мученик, — кто-то обратит внимание на одну странность вашей биографии.
— У меня нет тайн.
— Я сказал «странность», а это не обязательно тайна. — Мученик подхватил двумя руками шляпу, которую ветер приподнял над его головой, выпустив на свет буйную шевелюру. — Мы живем в маленькой стране Крым. И здесь рано или поздно вы встретите знакомых. Кстати, сегодня ко мне приходил некто Циппельман. Эта фамилия вам что-нибудь говорит?
— Я знал Циппельмана в Симферополе, — признался Коля. — У него кондитерская.
— Теперь у него нет кондитерской, он приехал сюда к сестре, а потом собирается к дочке в Керчь. Он увидел вас и попросил меня, которого знает еще по довоенным временам, передать теплый привет Коле Беккеру, понимаете, Коле Беккеру. И я не стал ничего отвечать старому человеку и даже не стал с ним спорить. Вы меня понимаете, Коля?
Коля ответил не сразу — тем более что на мол выехал мотор, в котором сидели несколько матросов. Мотор остановился у пришвартованного к причалу катера, и матросская компания высыпала наружу. Матросы были выпивши, громогласны и резки в движениях.
— Вон тот, первый — сказал Мученик.
Я узнал, — ответил Коля. Он и на самом деле узнал командующего Андрющенко, которого за прошедшие сутки видел неоднократно. Впрочем, он видел его и в Севастополе, но мельком. Андрющенко не был фигурой солидной или известной, Но сейчас требовалось много командиров и вождей — в каждом городе и городке Крыма требовался вождь или каратель. Так что сотни вахмистров мичманов и бывших гимназистов получили свой шанс. Некоторые им воспользовались, другие упустили.
— Я никогда не скрывал своего настоящего имени, — сказал Коля. — Имя было мне предложено. Вот именно, предложено. Партия предложила мне взять псевдоним, русский псевдоним. Вы меня понимаете.
— Разумеется, — улыбнулся Елисей, который не поверил Коле.
— Я выбрал имя своего близкого гимназического товарища Андрея Берестова. Он пропал без вести, утонул… Все думали, что он утонул.
— Может быть, ваш псевдоним очень хорош в Москве, — сказал Мученик. — Но Крым — маленькая страна. Мне даже кажется, что я встречал одного Андрея Берестова.
— Вы? Где, когда?
— Мой знакомый погиб, — ответил Мученик. — Он помог мне вырваться из контрреволюционной тюрьмы, а сам при этом погиб.
— Вы шутите?
— Нет, я не шучу. — Когда Мученик был печален, он был печален настолько, что плакать хотелось даже природе. Солнце зашло за облака, стало темнее, ветер сменил направление и ледяной стеной рухнул с гор. — Сейчас не время и не место рассказывать, но Андрей Берестов, уроженец Симферополя, погиб.
— Когда? — Коля видел Андрея и Лидочку Берестовых на Новый год. Они встречали 1918 год в Симферополе в стареньком домике Марии Павловны в Глухом переулке. Все вместе друзья детства: Андрей Берестов, Ахмет Керимов, Лидочка Иваницкая и он сам, Коля Беккер.
— Это было в декабре. Больше месяца назад.
— Ну и хорошо, — неожиданно для Мученика с облегчением ответил Коля. Он не стал объяснять этому не очень приятному ему человеку, что Андрей жив. Конечно же, жив.
И наверняка покинул Крым. А в тюрьме с Мучеником либо был иной Берестов, либо Мученик врет. Зачем? Не новое ли это испытание большевиков? Может быть, Островская велела Елисею допросить Колю? С нее станется… Коля непроизвольно посмотрел туда, в сторону гигантского платана, Из перепутанных ветвей палочками и тряпочками свисали маленькие ножки повешенных. Внизу под деревом бегали мальчишки и медленно бродили собаки, которые слизывали кровь — некоторых офицеров сильно били перед смертью, а другие были ранены. Когда их вешали, немало крови накапало на брусчатку.
Катер с освободителями Ялты отвалил от причала и взял курс на маленький миноносец, который стоял под парами в полумиле от берега. Матросы размахивали руками — видно, пели. Мотор, привезший их, попятился, выезжая с мола.
— Давайте воспользуемся оказией! — вскинулся Мученик. — Это наш мотор, из Совета.
Доедем!
— Поезжайте, — сухо сказал Коля. — Я еще останусь. Пройдусь.
— Тогда и я с вами.
— Поезжайте, поезжайте, — сказал Коля. — Я хочу побыть один. Без вас.
Наверное, это звучало не очень воспитанно. Но Коля хотел поставить Мученика на место. В конце концов, не для того он поступал в партию большевиков, чтобы каждый местный проходимец мог читать ему нотации.
Мученик не понял тона или сделал вид, что не понял. Он дружески хлопнул Колю по плечу и, неловко подпрыгивая, побежал к молу, криками стараясь привлечь к себе внимание шофера. Тот заметил ялтинского зампреда и взял на борт. И Коля остался один.
Дождавшись, пока авто, увозившее Мученика, скроется за углом, Коля пошел вдоль набережной, прочь от платана и обернулся впервые, лишь когда был уверен, что набережная изогнулась настолько, что платан ему не увидеть.
Вечерело, солнце скрылось за Ливадией, ветер словно дожидался этой минуты, загудел, понес по набережной сор революции — в Ялте уже год как не осталось дворников. Среди горожан бытовала шутка, что все дворники служат министрами у Сейдамета.
Наверное, Коле надо было возвращаться в гостиницу, где ему был оставлен номер, а может, даже попросить мотор у дежурного в Совете, чтобы тут же вернуться в Севастополь, объяснив возвращение партийной секретной необходимостью. И он знал: найдут для него авто и шофера — не посмеют отказать, Ежась под ветром, который нес сухие снежинки, Коля увидел впереди у самого среза набережной девичью фигурку.
И удивился, до чего это зрелище прекрасно.
Море — темное море, на котором видны ослепительно белые, словно подсвеченные снизу барашки. Небо на востоке, в сторону Гурзуфа и Массандры, глубокое, почти черное, а на западе — красно-лиловое, полосатое. Вдали, на границе моря и неба, совсем черный, четкий хищный силуэт миноносца «Керчь», который набирает скорость, уходит к Севастополю. И как бы парящая в невесомости в центре этой композиции — девушка в длинном, не модном уже, но элегантном пальто и без шляпки. От непрочности и ненадежной легкости фигурки нетрудно вообразить, что новый порыв ветра сейчас сорвет ее с набережной и кинет туда, где волны разбиваются о камень.
Коля поймал себя на том, что идет к одинокой девушке, охваченный желанием схватить ее, удержать, увести от опасного края моря.
Девушка неожиданно обернулась. Ее лицо на таком расстоянии виделось белым треугольником. Коля сразу замедлил шаги — он не хотел испугать девушку.
Та, будто поняв, что намерения Коли безвредны, снова стала смотреть на волны. И тут Коля увидел, что на обширной и доступной всем ветрам сцене появился еще один актер.
Очевидно, тот человек вышел из освещенного ресторана или гостиницы дальше по набережной. Завидев девицу, он направился к ней широкими уверенными шагами, как капитан Скотт к Южному полюсу, и в первое мгновение Коля решил было, что человек знаком девушке и даже договорился с ней о встрече в таком неуютном месте, как набережная. Но по мере того как человек приближался к девушке, та начала волноваться повернулась спиной к морю и смотрела то на Колю, то на человека — словно оказалась между двух огней. Коля к собственному удивлению понял, что он все еще идет к девушке, и заставил себя остановиться — столь очевиден был ее испуг.
Девушка все быстрее шла вдоль края причала прочь от Коли и неизвестного, Она направлялась к мостику через речку, в сторону рынка.
Коле, которому стало зябко, повернуть бы назад — что за дело ему до девиц, рискующих честью на пустынной набережной, — но он увидел, как целенаправленно и равномерно — с равномерностью паровоза — неизвестный повернул за девушкой. И тогда Коля тоже пошел следом. Правда, на значительном расстоянии.
Девушка шла все быстрее, потом мелко и небыстро побежала.
Коле почему-то показалось, что девушка похожа на Лиду. Разве не здесь они когда-то познакомились — она гуляла по набережной с подругой Маргаритой, а он был один в белой летней студенческой тужурке, на которую, будучи лишь гимназистом, не имел никакого права… Как давно это было! Еще до войны, еще тогда, когда набережная была щедро освещена и заполнена шумной толпой гуляющих.
Неизвестный перешел на бег и догнал девушку у одиноко горящего фонаря. И только тогда Коля окончательно уверился в том, что тот человек не только не знаком с девушкой, но наверняка это грабитель или насильник. Он схватил девушку за руку, и она стала вырываться, но вырывалась слабо и неловко, как маленькая птаха, попавшая в зубы кошке и даже готовая вот-вот смириться со своей смертью.
И тогда Коля побежал на помощь девушке. Он бежал к ней, как бежал бы на помощь Лидочке или своей сестренке Нине. Как цивилизованный человек он должен был спасти девичью честь… так это еще недавно называлось? У меня сохранилась способность видеть мир в свете иронии, подумал он, это хорошее качество.
Девушка неожиданно вырвалась от нападавшего, но ненадолго через пять шагов он догнал ее, схватил за плечи и начал трясти — он кричал что-то, но Коля не мог разобрать слов, потому что их уносил ветер.
Но когда приблизился, услышал слова — неожиданные для слуха, ибо ожидал услышать что угодно — но иное.
— Я тебя давно вижу, жидовня! — кричал мужчина. — Я давно вижу, как ты город поганишь!
Мужчина был без шляпы, у него было мясистое грубое лицо и бобриком подстриженные волосы. На вид ему было немного лет — вряд ли больше тридцати.
Девушка молчала, прядь темных волос упала ей налицо, а потому Коля не смог ее разглядеть.
Мужчина еще раз рванул девушку к себе и, оттолкнув, отпустил — девушка послушно упала на колени.
И тогда Коля, не останавливаясь, тараном врезался на бегу в мужчину. Мужчина от неожиданности ринулся в сторону, но не упал, а удержался на ногах. И тут же обернулся к Коле.
Глаза у него были пьяные, мутные и злые.
— Это что еще происходит! — Голос Коли сорвался, и конец фразы прозвучал высоко, по-детски.
Коля всегда, еще с первых лет гимназии, со страхом относился к любым физическим столкновениям, к дракам или даже мальчишеской возне. Он не был особенным трусом, но любое столкновение вызывало в памяти прошлое — мальчиком его часто и больно бил отец. Бил непонятно за что — вернее всего, за собственные беды и собственную бедность. Соприкосновение с мужчиной вызывало боль и оскорбление.
И еще полгода назад Коля, даже увидев, что обижают девушку, никогда бы не решился вмешаться, он заранее признал бы свое поражение и ушел быстро и тихо; чтобы не привлекать к себе внимания.
Но сегодня все было иначе. Совместилось и воспоминание о первой встрече с Лидочкой, и трогательность девичьего силуэта на фоне зимнего моря, и главное — осознание себя Важной Персоной.
Потому что здесь в Ялте, что подчеркивалось сегодня весь день местными чинами и должностными лицами, — он был начальником, представителем всемогущего Центрфлота и Севастопольского горкома партии большевиков. Не сам он, а идея, которую он олицетворял, была всемогущей. Он играл роль наследного принца в заколдованном королевстве. И в этом королевстве не было места несправедливости и жестокости.
Мысленно Коля увидел гигант-платан и ноги повешенных, видные из-под ветвей — это тоже было доказательством торжества справедливости и его, Коли, могущества.
— Чего происходит? — спросил мужчина со скотской рожей. — А то, что жидам пощады не будет! Понял сука?
Человек говорил с мягким, очевидно, прибалтийским акцентом. Конечно же, он был пьян.
— Молчать, скотина! — закричал Коля и полез в карман черной шинели со споротыми морскими погонами, будто намеревался вытащить оттуда револьвер системы «Наган» с только что присланными из Севастополя патронами.
Пистолета в кармане, конечно же, не было — Коля никогда не носил с собой пистолета, в нем не было столь обычной в его возрасте любви к огнестрельному оружию. Он предпочел бы иметь сейчас за своей спиной двух матросов с Хаджи-бея».
— Это ты брось! — испуганно крикнул мужчина, лицо его покраснело от гнева. Коля шагнул к нему и неожиданно получил удар в лицо — видно, мужчина выставил вперед свой здоровенный кулак, и Коля как бы сам ударился о него скулой.
Он не понял, что произошло — все было слишком быстро, — будто его сбило пушечным ядром.
Мостовая набережной сильно ударила его в спину, отталкивая и заставляя подняться.
Но подняться не было сил, зато слух работал изумительно — каждый шепот, каждое движение были слышны до болезненности.
— Получил жидовский выкормыш?
И Коля понимал, что, выкрикнув эту фразу, мужлан снова затопал вслед за девушкой, лицо которой за последние секунды он успел рассмотреть и запомнить: треугольное лобастое, но с маленьким подбородком большеглазое растерянное губы сжаты, тонкие голубоватые ноздри раздуты, а черные прямые, чуть вьющиеся на концах волосы рассылались, закрывая глаз и щеку.
Мужчина бежал за девушкой — он настигал ее, Коля хотел подняться, чтобы остановить скотину, но ноги его не слушались — они перепугались куда больше, чем голова.
И ему стало все равно, как бывает только в кошмаре. Он знал, что уже не в силах помочь этой девушке…
Догнав девушку, мужлан замахнулся, и Коле казалось, словно это происходит медленно и долго. Медленно поднимается кулак и медленно отклоняется девушка, стараясь избежать удара.
И тут между Колей и мужчиной появился еще один человек.
Коля так и не понял, откуда он взялся.
Высокий, худой человек в длинной кавалерийской шинели и фуражке с сорванной кокардой ловко, как бы походя, раскрытой ладонью ударил мужлана по уху. И тот, громко ахнув, схватился за ухо и, согнувшись, завыл.
— Бородино, Аустерлиц, — произнес Коля, но никто его не услышал… Коля неловко поднялся — болела переносица. От нее по всей голове шел болезненный гул — лучше бы остался лежать… Но нельзя, простудишься, Беккер.
Высокий кавалерист поманил воющего мужчину пальцем, как бы притягивая к себе, И тот покорнейшим образом распрямился и даже по мере сил постарался вытянуться во фрунт. Драма превращалась в анекдот.
Девушка отпрянула на несколько шагов, но совсем уйти не смела, словно обязана была каким-то образом отблагодарить спасителя.
— Ты кто? брезгливо спросил кавалерист. У него была маленькая голова, но крупный нос и глаза. Конечно же, он военный, и говорит, как столичный гвардеец.
Почему-то мужчина принялся расстегивать пальто, достал из внутреннего кармана бумажник, раскрыл и толстыми испуганными пальцами вытащил из него визитные карточки. Молча протянул карточку кавалеристу и другую, после секундного колебания, словно боялся удара, сунул в руку Коле.
Визитка оказалась необычной, Коля такой еще не видел, она была лживой, как сама красная рожа ее владельца. Тонким почерком рондо на визитке было напечатано: «Альфред Вольдемарович Розенберг. Студент Рижского университета». Словно звание студента соответствовало штаб-офицерскому чину.
— И что же вы, — усмехнулся кавалерист — на дуэль меня так вызываете, милостивый государь?
Он поднял руку с визиткой и раскрыл пальцы. Визитка вырвалась из пальцев и, подхваченная порывом ветра, взлетела над набережной светлым осенним листом, затем, сделав круг в вышине, сгинула над черным морем.
Альфред Розенберг смотрел вслед визитке.
Коля спрятал вторую визитку в карман. Может быть, придется еще встретиться с этим человеком.
— И что же, лейтенант, мы с ним сделаем? — спросил кавалерист, дружелюбно оборачиваясь к Коле, И хоть Коля давно уж не носил погонов и не ожидал обращения как к морскому офицеру, ему польстило, что высокий кавалерист угадал его недавний чин и признал в нем своего.
— Пускай катится отсюда, — сказал Коля, стараясь попасть в тон кавалеристу.
— А ну! — прикрикнул кавалерист на Розенберга. — Вы слышали?
Розенберг постарался отдать честь, но был не приучен к военным жестам — получилось комически.
— Спасибо, — сказал он с искренней радостью человека, которому сказали, что зуб драть не обязательно. — Вы чего не подумайте, Ваше Превосходительство!
— Иди, иди, мерзавец!
Розенберг послушно отшатнулся и чуть не налетел на девушку, неподвижно стоявшую в трех шагах от них. Коля видел лицо девушки — беззащитное и жалкое, и надутый молодой густой кровью затылок Розенберга. Видно, девушка что-то заметила во взгляде студента или в движении губ — Розенберг знал, что его лицо скрыто от мужчин. Она закрыла глаза тонкой рукой, пересекла лицо длинными белыми пальцами.
Высокий кавалерист тоже увидел, как Розенберг исподтишка испугал девушку. И хоть их разделило с Розенбергом не менее сажени, он сделал легкий шаг вперед и умудрился, не потеряв равновесия, послать носком сапога молодого мерзавца далеко вперед. Пробежав несколько метров, тот все же не удержался на ногах и следующий отрезок пути, к удовольствию зрителей, совершил на четвереньках. Коля рассмеялся.
Кавалерист тоже смеялся, но девушка засмеяться не посмела, хоть ей хотелось улыбнуться.
— Молодой человек, — обратился кавалерист к Коле. — Могу ли я надеяться, что вы проводите девицу до дома?
— Так точно! — ответил Коля, чувствуя, что в голосе и манере кавалериста было особое качество, которое заставляет людей испытывать радость от подчинения.
— Спасибо, — сказала девушка, глядя в упор на Колю черными глазами. — Большое спасибо вам, господа, вы были очень любезны.
Так как мужчины молчали, не зная, как вести себя дальше, девушка продолжила:
— Этот господин преследовал меня сегодня… он несколько раз подходил ко мне. И оскорблял… Я не жалуюсь, не думайте, в конце концов, я привыкла. И наверное, смогла бы постоять за себя… Но тем не менее еще раз спасибо, и не стоит меня провожать — я живу вон в том доме. Мне осталось сто шагов. Спокойной ночи.
Она запахнула пальто — словно ей стало очень холодно. Потом поглядела на Колю и попрощалась с ним отдельно — так он понял ее взгляд.
Девушка побежала через площадь, через мостик к угловому дому на втором этаже горели два окна. Было еще не поздно, но светились лишь редкие окна.
Электрическое освещение включили только прошлой ночью — до того Ялта провела больше недели без света. Обыватели предпочитали не зажигать огня, не привлекать уличных хищников.
— Ну что ж, — сказал высокий кавалерист. — Очевидно, нам самое время познакомиться.
Он снял тонкую кожаную перчатку и протянул Коле руку.
— Врангель Петр Николаевич, — сказал он размеренно. — Бывший командир Нерчинского казачьего полка.
— Андрей Берестов, — представился Коля, — Я… служу.
— Служите? А раньше что делали? — Врангель насторожился.
Коля ощущал тягучее желание понравиться Врангелю.
— Служили по флоту?
Врангель был одного роста с Колей, но держался столь прямо, чуть откидывая назад небольшую породистую голову, что казался несколько выше.
— Так точно, служил.
— И сейчас служите большевикам?
Вопрос был таким неожиданным, что Коля не успел собраться с мыслями и ответил машинально:
— Служу. В Центрфлоте.
— Приятно было познакомиться, — сухо подытожил Врангель.
И Коля понял, что сейчас этот кавалерист со знаменитой фамилией, командир Нерчинского полка, повернется и уйдет, презирая тебя, Беккер. И мысль о том казалась невыносимой. Врангель уже отворачивался, и тут Коля не выдержал:
— Простите, господин барон, — сказал он, перекрывая взвизгнувший ветер. — Но у меня нет средств к существованию…
Прозвучало неубедительно.
— Средства… — Кавалерист снисходительно сощурился. — В вашем ли возрасте думать об этом? С таким образом мыслей вы не должны были вступаться за еврейскую девицу.
Но Коля не сдавался.
— Простите, — произнес он в отчаянии, предавая тех, с кем связал судьбу в последние недели. — Но я был адъютантом Александра Васильевича. И Александр Васильевич, отбывая в Соединенные Штаты, оставил меня здесь, сделав мне поручение особой важности.
— Какой еще Александр Васильевич? — раздраженно произнес Врангель, но тут же сообразил, откашлялся и сказал холодно, как прежде, и так же не глядя на Колю: — Вы имели в виду вице-адмирала Колчака? Тогда я не понимаю, почему вы считаете возможным делиться чужой тайной с незнакомым человеком? А может быть, вы поделились ею и со своими большевистскими товарищами? — Последнее слово прозвучало как оскорбление.
И Врангель зашагал прочь, не оборачиваясь и не кланяясь ветру, превратившемуся в ураган.
«Ну и черт с тобой!» — мысленно крикнул вслед Врангелю Коля. Было обидно.
Коля посмотрел на дом, в котором скрылась девица. На втором этаже загорелось еще одно окно. Слава богу, что хоть девушка в безопасности.
Коля пошел обратно по набережной, но на полпути понял, что дорога проведет его мимо гигантского платана, и потому свернул от моря, обойдя тот участок набережной переулками, чтобы не увидеть повешенных.
Поздно вечером Коля сидел у окна в номере «Ореанды», где с трудом поддерживалось великолепие былых времен — суррогатный кофе из серебряного кофейника и пшеничная каша на мейсенской тарелке. За окном несся мокрый снег, и не верилось, что он где-то сольется с морем, а не вернется к облакам. Было грустно, и Коля ощутил в себе стремление описать события дня — в их противоречии и правде: последние папиросы офицеров, прогулку с Мучеником, пьяного Андрющенко, сцену с девицей и генералом… Но Коля знал, что дневника никогда вести не будет — это слишком опасно для эмиссара партии большевиков…
Подобные соображения не останавливали генерал-майора Врангеля, который отсиживался в Крыму, не желая служить в украинской армии и уж тем более сотрудничать с большевиками, которых считал изменниками России. Возвратившись на квартиру и рассказав супруге за чаем о конфликте, свидетелем и участником которого ему довелось быть, Врангель прошел в комнату, служившую ему временным кабинетом. Там он записал все в дневник. Правда, отвел столкновению всего шесть строчек — остальная страница была занята рассуждениями генерала о переменах в народной нравственности под влиянием тяжких и кровавых событий.
Выводы генерала были пессимистическими. Потом Петр Николаевич отложил ручку и задумался — его отец уехал в Ревель, и от него уже три месяца не было вестей, но хуже того — с матерью, оставшейся под большевиками в Москве без средств к существованию, генерал тоже потерял связь. Он опасался, что баронесса может пострадать из-за того, что у нее два сына в высоких чинах.
Краткую запись о событиях того вечера оставил в своих записках вечный студент из Риги Альфред Вольдемарович Розенберг, ненавидевший евреев не только за то, что они окутали весь мир сетью жидомасонского заговора, но и за то, что ему, чистейшей воды немцу, тысячу раз в этой дьявольской стране приходилось выслушивать вопрос: «Розенберг, а вы из евреев?» и отвечать на него: «Я лютеранин!» И слышать в ответ смешок и видеть паскудную славянскую усмешку. «Страна славянских лицемеров, — писал он быстро, с нажимом, мелким почерком, — которые осмеливаются напасть на тебя, только если они вдвоем, вооружены и знают, что ты безоружен».
Розенберг отложил перо. Он стал думать о том, что его отпуск в Крыму слишком затянулся. Пора возвращаться в Ригу. Но в Ригу возвратиться трудно, потому что перед ней пролегла линия фронта. При первой же возможности следует ехать в Германию, в страну великую, рождающую гениев и мыслителей. Там он будет среди своих, там его оценят и поймут.
А на третьем этаже углового дома, также у окна, выходившего в сторону моря, глядя в мерцание снежинок под одиноким желтым фонарем, сидела черноволосая девушка. Ей и в голову не приходила мысль описать сегодняшние события — она твердо знала, что революционер никогда не носит с собой лишних бумажек. Сколько товарищей лишились свободы, подвели организацию и в конечном счете погибли только из-за того, что доверились белой предательнице — бумаге! Дора потушила свет, чтобы не разбудить кузину, которая, проснувшись, начнет задавать лишние и ненужные вопросы. Она вглядывалась в полет снежинок и с тупой тоской думала о том, что ей уже двадцать седьмой год, что она стареет, что она подурнела. А что в том удивительного, если она десять лет своей жизни провела на каторге и в ссылке?.. Молодой человек в черном плаще и морской фуражке, вступившийся за нее на набережной, был хорош собой и благороден. Ах, чертова, чертова, чертова жизнь!
Завтра уезжать в Москву — потому-то она и прощалась с вечным и прекрасным морем.
Никогда ей не увидеть больше этого юношу, как, впрочем, и этого буйного, свободного моря!
— Дора, спать, — окликнула ее из соседней комнаты кузина. — Тебе завтра в шесть вставать на автобус.
Дора Ройтман погасила лампу и легла спать.
Завтрашним дневным поездом она возвращалась в Москву.
Вести о судьбе Учредительного собрания, разогнанного по приказу Дыбенко караулом вошедшего в славную историю партии матроса Железняка утром 19 января, были встречены в Германии с откровенной радостью. Если бы Учредительное собрание стало органом власти, а большевики потеснились, подчиняясь большинству, то судьба переговоров с Германией становилась проблематичной — правые эсеры категорически выступали против сепаратного мира с Германией. Теперь же оппозиции не существовало. Тем лучше. Можно повысить уровень требований к русским. Скоро им будет некуда деваться. Только бы не началось восстание в Вене!
Но торжествующие немцы не знали об опасности, которая наваливалась на Ленина изнутри собственной партии и игнорировать которую он не мог. Пленум Московского областного бюро партии большевиков принял резолюцию, требующую немедленно прекратить мирные переговоры с Германией. За ним подобные резолюции приняли почти все крупнейшие губернские и городские комитеты партии — рядовым большевикам, которые свято верили в мировую революцию, сама постановка вопроса о мире с империалистами, когда следует разжигать мировой пожар, была недопустима.
Когда вернувшийся из Бреста Троцкий доложил на Совнаркоме о последних требованиях Германии, там большинство также выступило за прекращение переговоров.
Но Ленин тут же бросился в бой. Он заявил, что армия воевать не сможет, зато способна сбросить правительство большевиков. Так что мир с Германией будут заключать тогда не большевики, а правительство, которое их сменит.
Ленин уже не ждал мировой революции.
Если делать ставку на нее, можно потерять Россию. Троцкий тут же умчится следом за Радеком в Германию или Канаду и будет там принимать громкие резолюции. Потом напишет большую книгу и получит от вида ее больше радости, чем от всех революций вместе взятых.
Но Ленину поздно возвращаться в подполье или изгнание — вновь уже не подняться, жизни не хватит, Единственная возможность сохранить власть — мир с Германией.
Пускай она забирает себе все, что уже имеет. Пускай возьмет в придачу Украину, которой правят наивные и циничные самоубийцы, пускай сожрет Батум и Ревель… Но править Россией, половиной России, третью России будем мы, социал-демократы!
В те дни казалось, что прав Троцкий: по Германии, не говоря уже об Австро-Венгрии, прокатывались забастовки, уже появились первые рабочие Советы. В одном Берлине насчитывалось полмиллиона стачечников. Вот это был настоящий пролетариат, не чета русскому!
Еще немного потерпеть! Игра стоит свеч!
— Заманчиво, — соглашался Ленин. — Но слишком рискованно, потому что вы сравниваете то, что может быть, с тем, что уже свершилось.
Узкое совещание руководства партии 21 января проголосовало против Ленина. Его предложение подписать сепаратный мир получило 15 голосов, 32 голоса досталось сторонникам революционной войны, которых стали именовать левыми коммунистами, а 16 голосов получил Троцкий, выступивший с идеей «ни войны, ни мира».
Он предложил отказаться от заключения мира, остаться «чистыми перед рабочим классом всех стран» и развеять подозрения и даже высказывания скептиков в Европе, обвинявших Ленина в том, что он — тайный агент Германии и поет под ее дудку. Но войны Германии не объявлять. Так как она не имеет сил и решимости начать широкое наступление на Восточном фронте, особенно теперь, когда основные боеспособные части переброшены на Запад. 24 января Ленин снова выступил за мир и снова потерпел поражение. Бухарин заявил в тот день, что позиция Троцкого — самая правильная. «Пусть немцы нас побьют, — рассуждал он, — пусть продвинутся еще на сто верст. Мы заинтересованы в том, как это отразится на международном движении. Сохраняя свою социалистическую республику, мы проигрываем шансы международного рабочего движения».
Ленин был взбешен — Бухарин, оказывается, тоже намеревался провести ближайшие двадцать лет в Женеве.
Еще обидней и больнее было слышать Дзержинского. Тот волновался так, что щеки стали малиновыми.
— Ленин делает в скрытом виде то, — выкрикнул он, — что в октябре делали Зиновьев и Каменев.
Зиновьева и Каменева Ленин назвал предателями. Все об этом помнили. Теперь в предательстве Дзержинский обвинил Ленина.
В результате победила формула Троцкого. Ни революционной войны, ни позорного мира. И ждать восстания Европы.
Троцкий тут же собрался в Брест, чтобы проводить свою линию на практике.
Перед отъездом у него был последний разговор с Лениным.
— Допустим, что принят ваш план, — сказал тогда Ленин. — Мы отказались подписать мир, а немцы после этого переходят в наступление. Что вы тогда делаете?
— Подписываем мир под штыками. Тогда картина ясна рабочему классу всего мира.
— Вы не поддержите тогда лозунг революционной войны?
— Ни в коем случае.
— При такой постановке опыт может оказаться не столь уж опасным. Мы рискуем потерять Эстонию и Латвию, Очень жаль пожертвовать социалистической Эстонией, — усмехнулся Ленин. — Но уж придется, пожалуй, для доброго мира пойти на этот компромисс.
Ленин и Троцкий сговорились, что мир будет подписан. Но не раньше, чем немцы начнут наступление.
Согласие Ленина с Троцким было достигнуто вождем революции не без лукавства.
Ленина более беспокоили левые коммунисты с их идеей революционной войны. Он согласен был даже на формулу «ни войны, ни мира», только бы Троцкий не перешел в могучий лагерь сторонников священной войны, призванной спалить Ленина ради либкнехтовских и парвусовских интересов.
А в Бресте продолжалась игра на русско-украинских разногласиях, 1 февраля граф Чернин записал в дневнике: «Заседание под моим председательством о территориальных вопросах с петербуржскими русскими. Я стремлюсь к тому, чтобы использовать вражду петербуржцев и украинцев и заключить по крайней мере мир с первыми или со вторыми. При этом у меня есть слабая надежда, что заключение мира с одной из сторон окажет столь сильное влияние на другую, что мы, может быть, добьемся мира с обеими… Как и следовало ожидать, Троцкий на мой вопрос, признает ли он, что украинцы могут самостоятельно вести переговоры о границе с нами, ответил категорическим отрицанием…»
На следующий день Чернин пошел ва-банк, и не без успеха. Вот что он записал тем вечером:
«Я просил украинцев открыто наконец высказать свою точку зрения петербуржцам, и успех был даже слишком велик. Грубости, высказанные украинскими представителями петербуржцам сегодня, были просто комичными и доказали, какая пропасть разделяет два правительства и что не наша вина, если мы не можем заключить с ними одного общего договора. Троцкий был в столь подавленном состоянии, что вызывал сожаление. Совершенно бледный, с широко раскрытыми глазами, он нервно рисовал что-то на пропускной бумаге. Крупные капли нота стекали с его лица. Он, по-видимому, глубоко ощущал унижение от оскорблений, наносимых ему согражданами в присутствии врагов».
В тот день Троцкий получил решение ЦК партии не признавать сепаратного украинского договора с Центральными державами. 5 февраля Троцкий заявил: «Пусть германцы заявят коротко и ясно, каковы границы, которых они требуют. И советское правительство объявит всей Европе, что совершается грубая аннексия, но что Россия слишком слаба для того, чтобы защищаться, и уступает силе».
Германское командование в Берлине решило «достичь мира с Украиной и затем свести к концу переговоры с Троцким независимо от того, положительным или отрицательным будет результат». Людендорф там же заявил, что у него уже разработана «быстрая военная акция».
Троцкий чувствовал эту опасность — в штаб Западного фронта пошла телеграмма с требованием срочно вывозить в тыл материальную часть и артиллерию.
Ленин прислал Троцкому телеграмму, в которой утверждал, что Киев уже захвачен красными войсками и Украинская Рада свергнута. Надо срочно довести это до сведения немцев. Немцы игнорировали эту информацию, у них была своя. Украинская Рада держалась и спешила заключить с немцами мир, отдаваясь под их охрану.
Левые коммунисты и их союзники в Германии, пытаясь сорвать мир, пошли на крайние меры — по Берлину были разбросаны листовки с требованием убить императора и генералов и захватывать власть. Подобное воззвание было перехвачено по радио.
Когда об этом доложили Вильгельму, он пришел в бешенство. «Сегодня большевистское правительство, — писал он в Брест министру Кюльману, — обратилось к моим войскам с открытым радиообращением, призывающим к восстанию… Ни я, ни фельдмаршал фон Гинденбург более не можем терпеть такое положение вёщей. Троцкий должен к завтрашнему вечеру подписать мир с отдачей Прибалтики до линии Нарва — Плескау (Псков)… в случае отказа перемирие будет прервано к 8 часам завтрашнего дня».
Министр Кюльман был в панике. Он пытался сопротивляться — война с Россией была бы безумной авантюрой. Чернин подержал коллегу. 10 февраля Троцкий наконец объявил: «Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора».
На спешных тайных совещаниях немецкие генералы решили немедленно наступать, тогда как дипломаты сопротивлялись, «При удачном стечении обстоятельств, — утверждал трезвый Кюльман, — мы можем в течение нескольких месяцев подвинуться до окрестностей Петербурга. Однако я думаю, что это ничего нам не даст». Он доказывал, что русское правительство может отступать до Урала — немцам за большевиками не угнаться. А захваченную до Волги Россию нечем удерживать. За успехом первых недель неизбежно последует крах Германии. Это будет самоубийство пострашнее, чем авантюра Наполеона в 1812 году.
Под давлением дипломатов предложение Троцкого было принято, и Чернин, предвосхищая события, телеграфировал в Веку, что мир заключен.
Можно предположить, что брестская эпопея так бы и закончилась неустойчивым и выгодным большевикам неподписанным миром, если бы не украинский фактор. Для Киевской Рады важно было одно — удержаться на плаву. И даже если ради этой цели придется пожертвовать каждым вторым свободным украинцем — тем лучше. История их поймет! В этом отношении соратники Винниченко были близки к большевикам, но обошли их продажностью и стремлением перехитрить всех на свете, что привело в конце концов к тому, что Рада в первую очередь перехитрила сама себя. И если большевики все же унаследовали своего рода ответственность за Российскую империю, то правительство Украины согласно было жить под властью иноземцев и отдать им ту Украину, от имени которой они выступали.
Пока Троцкий отчитывался в своих победах перед соратниками, генерал Гофман использовал на все сто процентов слабое звено в цепи дипломатии Троцкого: правительство Центральной Рады, понимая, что ему не устоять против харьковских большевиков, шаг за шагом уступало генералу Гофману. Миллион тонн зерна?
Пожалуйста, только возьмите! Уголь? Сколько угодно. Только сами приходите и берите. Войдите в наши города, займите наши деревни — мы открываем границы. И если в делегации на переговорах возникали сомнения в масштабах уступок, Киев тут же телефонировал — соглашайтесь!
Договор между Украиной и Германией, полностью отдававший Украину под контроль германских войск, был подписан 26 января — в тот день, когда на окраинах Киева уже появились отряды харьковских большевиков.
А большевики в Петербурге в массе своей еще не сообразили, что вся игра Троцкого, все маневры большевистской дипломатии пропали втуне: дорога на Украину была устлана для немцев розами и уставлена возами с салом. Даже малые немецкие отряды могли беспрепятственно занимать украинские города. Генералу Гофману не понадобилось значительных военных частей, чтобы в несколько дней оккупировать богатейшее государство размером с саму Германию.
Немецкие тыловые команды лишь входили в украинские города, как Ленин первым осознал всю опасность положения.
В ответ на восторженную телеграмму Троцкого главкому Крыленко: «Мир. Война окончена. Россия более не воюет… Демобилизация армии настоящим объявляется» — Ленин тут же телеграфировал в ставку: «Сегодняшнюю телеграмму о мире и всеобщей демобилизации армии на всех фронтах отменить всеми имеющимися у вас способами по приказанию Ленина». Но Ленина не послушали — Крыленко подтвердил приказ о демобилизации.
Ленин торопил харьковские отряды продвигаться вперед, но понимал, что сил у него на Украине недостаточно. Уже через несколько дней оказалось, что германские войска обошли Россию с юга. Стратегически Россия потеряла способность к сопротивлению. Ведь не только произошла демобилизация (армия все равно была мало боеспособна), но сдача Украины немцам отрезала от России Южный и Западный фронты и миллионы солдат, дезорганизовала всю систему снабжения, пути сообщения, связь с Черным морем — от страны остался жалкий обрубок, с которым можно не церемониться.
И тогда армии Людендорфа перешли в наступление на Петроград.
Дипломатов с их стратегическим пессимизмом уже никто в генеральном штабе не слушал — к украинским ресурсам следовало приложить промышленные возможности Центральной России — и тогда война выиграна!
Мир любой ценой! — взывал к соратникам Ленин.
Но они еще не понимали той страшной угрозы, которая нависла над страной. И прошли дни, даже недели, прежде чем понимание этого проникло в умы новых вождей страны.
Первую неделю, пока Лидочке было совсем плохо и подозревали даже плеврит, Андрей дневал и ночевал в больнице. Впрочем, ему и не хотелось возвращаться в гостиничный номер — там тем более ощущалась собственная неустроенность. В отделении Андрея все знали. А раз мужчин в больнице почти не осталось — даже многие санитары были мобилизованы, в женском мире Андрей стал вроде бы героем — преданный молодожен, да еще такой привлекательный.
Четырнадцатого января Лидочка сказала Андрею:
— По-моему, в гостинице жить неразумно. Во-первых, это бешеные деньги…
— Других теперь не бывает, — ответил Андрей. — Отбивная в ресторане стоит сорок рублей. Принести тебе отбивную?
— Погоди ты! Я не шучу. Доктор Вальде сделал тебе предложение.
— Я не девушка…
— Больше я ни слова не скажу!
— Значит, ты уже выздоравливаешь.
— Вальде сказал, что завтра-послезавтра, если температура не будет повышаться, он разрешит мне вставать.
Андрей не ответил — пока что температура вечерами поднималась, и Лидочка была безумно слаба. Тот же Вальде признался ему, что пройдет не меньше недели, прежде чем Лидочка поднимется с постели.
— Ты знаешь, что Вальде холостяк и у него есть квартира на Софийской площади? Он может сдать тебе одну из комнат — это в десять раз дешевле, чем в гостинице, и к тому же ты будешь не один.
Доктор Вальде не вызывал у Андрея неприязни, и когда тот повторил свое приглашение, Андрей переехал к нему жить.
С третьего этажа большого доходного дома был виден памятник Богдану Хмельницкому — вот уж не думал Андрей, что увидит его вновь, да еще сверху. А если посмотреть направо, то увидишь колокольню Софии. По площади, сворачивая на Михайловскую, порой дребезжал трамвай, гудели редкие автомобили, от стоянки извозчиков у памятника в тихий день доносилась перебранка, а то и голоса туристов — как ни удивительно, и в эти чреватые страхом дни находились люди, приезжавшие из Одессы или Ростова, чтобы полюбоваться замахом булавы украинского гетмана или золотым мерцанием Софии.
Доктор Вальде принадлежал к тем умным очкастым рохлям, которых до шестого класса мама за руку водит в гимназию, а потом им категорически не разрешается жениться, потому что отыскать достойную пару Васечке (в данном случае — Геннадию) в наши дни невозможно. Так Васечка становится старым холостяком со всеми проистекающими проблемами и нянчит стареющую маму, которая все более разрывается между желанием завести внука и невозможностью разделить сына с недостойной женщиной.
Мама доктора Геннадия Генриховича Вальде померла уже три года назад, пребывая в ужасе от того, что же он будет делать без нее в жестоком мире, а доктор Вальде продолжал жить по инерции, размышляя о том, что лучше бы уехать из Киева, да неизвестно куда, и покорно ожидал того часа, когда в его окружении отыщется достаточно энергичная дама, согласная взять на себя мамины функции. Дамы-то были, но, к счастью или несчастью доктора, всерьез на него не претендовали. Или вовсе ему не нравились.
Квартира доктора Вальде была дамской, заполненной вещицами и вещичками, пыльной и заброшенной, хоть у доктора была оставшаяся от мамы служанка, нечто бесплотное и забитое, — Андрей, проживя в доме две недели, так и не запомнил ее. Но запомнил безвкусную тоску любой пищи, приготовленной ею.
В ночь на шестнадцатое Андрей проснулся от тревоги.
Было тихо. Потом за окном зашумел ветер и чуть зазвенело стекло. Непонятно, что же встревожило его?
И тут послышался отдаленный удар — пушечный выстрел. И следом еще несколько выстрелов.
Андрею вдруг страшно захотелось, чтобы все это было сном. Во сне отдаленный гром зимней грозы — такие бывают в Симферополе — кажется орудийной канонадой, но проснешься — небо уже светлое, голубое, вымытое ночным дождем…
В соседней комнате проснулся доктор. Стукнул о тумбочку будильником, щелкнул выключателем настольной лампы, и уютная полоска желтого света обозначилась под дверью. Потом заскрипели пружины дивана — доктор спал в кабинете, — шлеп-шлеп…
Вальде идет к окну.
И тут бухнуло снова, как будто даже ближе.
Андрей не стал бы так тревожиться, если бы еще вчера не началась стрельба со стороны киевского завода «Арсенала, прибежища местных большевиков и сторонников объединения с Россией. Но это бухали другие пушки — и было впечатление, словно эти пушки делятся в твой дом.
Андрей тоже поднялся с постели и подбежал к окну. С высоты третьего этажа площадь казалась особенно пустынной — ни одного человека. Потом быстро проехал мотор, крыша поднята, и не разглядишь, кто там внутри.
Окно смотрело в город, а канонада доносилась слева — издали, из-за Днепра.
— Вы не спите? — спросил Вальде. — Мне показалось, что вы не спите.
Доктор зашел в комнату. Он был в ночной рубашке, почти до пола, и в ночном колпаке Андрей подумал, что такой наряд он видел лишь на иллюстрации к сказкам братьев Гримм.
— Это красные — сказал доктор. «Красные» было новым словом, оно появилось в лексиконе киевлян лишь несколько дней назад и относилось к харьковскому правительству, которым, по слухам командовала госпожа Евгения Бош. Говорили, что она — немка, присланная специально Вильгельмом для того, чтобы разгромить Центральную Раду. Эта версия была бессмысленна, потому что Вильгельму вовсе не нужно было громить Украинскую Раду, готовую на все ради немецкой победы. Но слухи порой лишены смысла, отчего становятся еще более реальными и пугающими. И все верили в эту самую немку Бош, хотя Шульгин в своем страшно реакционном «Киевлянине» успел заявить, что зовут госпожу Бош Евгенией Готлибовной и родом она из-под Шепетовки.
— Как вы думаете, — спросил доктор, прилаживая толстые очки к бесформенному носику, — большевики возьмут Киев?
— Я здесь и двух недель не живу, — сказал Андрей.
— И все же у вас опыт, Вы их видели в Симферополе, и в Севастополе, и в Ялте — вы же сами говорили.
— Я верю в то, что большевики будут делать все, чтобы взять Киев до подписания мира с немцами, — сказал Андрей. Он вычитал это в либеральных «Ведомостях». — Они не хотят, чтобы Украина сама подписала с немцами договор, пустила их сюда…
Впрочем, я могу понять большевиков, потому что их интересы совпадают с интересами России.
— Разве вы большевик? — доктор произнес эту испуганную фразу, словно увидел у Андрея рога.
— Вы знаете об обратном, — возразил Андрей. — Но если немцы сейчас расправятся с частями России поодиночке, это будет ужасно.
— Ужасно… — согласился доктор и тут же спохватился: — Но ведь большевики — это немецкие агенты, Разве вы не слышали? Немцы их привезли в запечатанных вагонах, Как бы ни привезли, — ответил Андрей — но теперь они уже не оппозиция готовая на сделку с кем угодно, лишь бы приблизиться к власти, они правительство России.
Неужели вы думаете, что Ленин захватил власть мя того, чтобы служить немцам?
— А вы такие думаете?
— Ни в коем случае.
— Андрей, вы еще молоды рассуждать, — подвел итог дискуссии доктор. — Вы совершенно не представляете себе коварства тевтонской нации и продажности некоторых наших политиков.
— Ленину нужна власть, и он сейчас торгуется — как лучше ее удержать. И чем он хуже вашей Центральной Рады?
— Как вы только смеете! — возмутился милый доктор. Он сорвал с головы ночной колпак и вытер им пот со лба. — Они все как на подбор милейшие люди, демократы.
Вы же не знаете, а говорите! Я с некоторыми вместе учился.
— И чем же они лучше Ленина? — спросил Андрей, в котором проснулся дух противоречия. — В отличие от Ленина они и пяди родной земли не отдадут тевтонам?
— Андрюша, вы не врач! Вы не знаете, что порой приходится жертвовать органом тела, чтобы спасти жизнь. Вот именно!
— И каким же органом Украины хочет пожертвовать Винниченко?
— Голубович.
— Пускай Голубович? Каким органом? Может головой?
Доктор не стал больше спорить. Он был искренне опечален. Не прощаясь, он ушел к себе в комнату. Заскрипели пружины — доктор плюхнулся на диван.
Андрей стоял у окна. Над домами в сторону Святого Владимира вспыхнуло зарницей небо — Андрей подумал, что там, наверное, стоят пушки защитников Киева. Тут же громыхнуло — нестройно и зло, даже стекла звякнули.
— Это еще что? — сердито крикнул из своей комнаты Вальде.
— Мы отвечаем ударом на удар, — сказал Андрей.
Он вернулся к своему ложу и лег. Может быть, воспользоваться портсигарами? Ведь в самом существовании портсигаров, оставленных перед смертью отчимом, был приказ, предопределенность.
На следующий день пошел густой мокрый снег, Андрей с доктором добирались до больницы пешком — трамвай не ходил, а извозчиков они не встретили. В городе было очень тихо, так бывает в снегопад, даже шагов не было слышно, Орудия из-за Днепра начали стрелять, когда они добрались до больницы. И хоть они еще не видели разрывов снарядов либо каких-нибудь разрушений, они все же побежали, вломились в подъезд и долго переводили дух на лестнице. А в холодном высоком гулком вестибюле за стеклянной дверью санитарки и выздоравливавшие и смотрели на улицу, будто ждали начала представления.
— Все говорят, что большевики возьмут Киев, — сказала Лидочка.
— Значит, никто не верит в серьезность намерений этого правительства.
— Жаль, что я заболела. Прости.
— Глупо говорите, леди.
— В крайнем случае мы с тобой можем улететь отсюда.
— Странно, но я сегодня тоже думал об этом.
— И не радовался?
— Конечно, нет.
— Я понимаю, что раньше мы с тобой жили как обыкновенные люди. У нас не было особенных способностей, но нам и не грозили особенные опасности. Мы с тобой как будто завладели неразменным рублем. Если он есть, значит, его надо тратить.
— А потратил, — подхватил Андрей, — хочется потратить его еще раз. Иначе пропадает смысл такого сокровища.
Лидочка улыбнулась и положила тонкие пальцы на колено Андрёю.
— Ты помнишь первый раз? — спросила она.
— Я помню, — сказал Андрей, — и понимаю теперь, что спасение, которое нам дарили портсигары, — ложь, обман!
— Почему?
— Не было бы портсигаров, не попали бы мы с тобой во всю эту историю.
— Объясни, Андрюша.
Пальцы Лидочки, исхудавшие за эти две недели, были совсем невесомыми.
— Почему нам достались портсигары? — сказал Андрей. — Потому что мой отчим оказался путешественником во времени. Потому что он мог с помощью портсигара нырнуть в реку времени и плыть в ней, обгоняя воду. Не будь он путешественником во времени, его бы не убили.
— Это не играло роли, — возразила Лидочка. — Люди, которые убили Сергея Серафимовича, не подозревали, что у него есть портсигар. Они считали твоего отчима богачом.
— Но откуда у него было это богатство?
— Мы ведем пустой спор, — сказала Лидочка. — Что было, чего не было… а нас ведь интересует только наша жизнь. Правда? У нас с тобой есть способность, которую Бог не дал другим людям, — нам дозволено обгонять время.
На том беседу пришлось прервать, потому что прибежал доктор Вальде и сказал, что красных много, они наступают от Дарницы и с севера это настоящие полки, присланные из Москвы, Они били из тяжелых орудий, и некоторые снаряды разорвались в центре, один попал в церковь Скорбящей, а осколками другого — повредило Аскольдову могилу. Правительство Рады готово пожертвовать всем — только бы уговорить немцев перейти в наступление и занять Киев.
После ухода доктора Лидочка спросила Андрея:
— И что мы решили, повелитель?
— Пока мы вдвоем, ничего не страшно, — опрометчиво заявил Андрей.
— Все наоборот, — возразила умница Лида. — Пока я одна, я почти смелая. А когда с тобой — боюсь за тебя куда больше, чем за себя.
Через три дня стало еще хуже. Артиллерия красных расстреливала город днем и ночью. У красных была тяжелая артиллерия и даже бронепоезда, они подвезли их с севера, у них было вдосталь снарядов, и они выполняли задачу, поставленную Лениным, — любой ценой взять Киев до того, как украинская делегация в Брест-Литовске успеет подписать мир. Любой ценой, От этого зависит судьба России и мировой революции.
В городе начались пожары. На глазах у Андрея снаряд попал в четырехэтажный дом и разворотил стену. Из дома вывалился рояль и застрял в пробоине толстыми ножками.
Непонятно было, за что он держался.
Вечером на Софийскую площадь выехала батарея трехдюймовок и развернулась к востоку. Из подъезда соседнего дома выбежал старик военного вида в новенькой бекеше и принялся громко ругать артиллеристов, потому что они подвергают смертельной опасности женщин и детей, живущих в этих домах.
— Большевики возьмут вас в вилку! — кричал он. — А угодят в нас!
Украинские артиллеристы мрачно молчали и не глядели на кричавшего старика, а офицер стал оправдываться и говорить что-то о военной необходимости. Потом, когда Андрей снова выглянул из окна, обнаружилось, что орудия так и стоят посреди площади, но прислуги вокруг нет.
Двадцать второго в город с оркестром вошла армия Семена Петлюры. Андрей с Вальде как раз возвращались домой, и на Софийской площади перед двумя шеренгами кое-как одетого войска и эскадроном вильных казаков выступал военный министр, который бежал от большевиков у Гребенки и теперь, как положено демагогу, отыгрывался словесно за свое бегство перед разделившим его участь войском и немногочисленными зеваками: по улицам в те дни ходили только по большой надобности — снаряды ложились все гуще.
Военный министр показался Андрею мелким, никаким, человеком, который все время норовил подняться на цыпочки и взять в руки саблю. Над его головой холодный снежный ветер трепал жовто-блакитное знамя, которое держал могучий веселый стрелец, возвышавшийся на голову над военным министром.
— Показуха, — проворчал доктор Вальде. Он очень устал — видно было, что шагает из последних сил. За последние три дня больницу буквально захлестнул поток раненых, с которыми уже не справлялись большие госпитали. Вальде и старику Горовцу приходилось и оперировать, и перевязывать, а вчера Вальде даже провел ампутацию, чего, как подозревал Берестов, ему в жизни делать не приходилось.
Петлюра изъяснялся на украинском языке, но его армия не всегда этот язык понимала. Солдаты переминались с ноги на ногу, переговаривались — все тоже устали и замерзли.
Андрей с доктором не стали ждать окончания парада, а поднялись к себе на третий этаж. Доктор залез в комод в поисках свежего белья, Андрей растопил печь, чтобы согреть воды. Постучал сосед — ухоженный и наманикюренный адвокат Жолткевич он интересовался новостями, так как не выходил из дома уже два дня.
Жолткевич остался пить чай, достал с полки атлас Маркса и, открыв страницу, где была Киевская губерния, стал показывать направления движения войск. Получалось, что немцы могут успеть на помощь Раде, если они уже начали двигаться из Волыни, а австрийцы — из Галиции, Он уверенно называл населенные пункты и города возил пальцем по листу атласа — спасители неотвратимо надвигались на Киев.
— А по мне, так лучше большевики, чем немцы, — вдруг заявил Вальде. — Они хоть русские люди. Я патриот, господа.
Сказав так, Вальде заморгал глазами, вглядываясь в лица собеседников, будто ждал отчаянного сопротивления. Но никто не нападал на Вальде. Все занялись чаем, даже Жолткевич отодвинул атлас. И лишь через несколько минут адвокат сказал:
— Мне тоже хочется верить в лучший исход. Я никогда в жизни не видел, как убивают человека. Даже в суде я боролся за то, чтобы людей не убивали. Но я боюсь большевиков именно потому, что они не русские люди.
— Только ради бога, Николай Богданович, без антисемитских заявлений! — воскликнул доктор.
— Я не имею ввиду еврейский вопрос, — возразил адвокат. — Меня беспокоит то, что большевики заменили идею национальную, идею религиозную, идею здравомыслия, наконец, на идею классовую. Вам приходилось сталкиваться с их учением?
— Ну постольку-поскольку… — неуверенно сказал Вальде.
— Нет, вы никогда не задумывались над этим! Опасность большевиков заключается в том, что им плевать на вас как на человека, личность. Им плевать на русских и китайцев. Им нужно разделить мир на своих и чужих. Свои — это их банда. Чужие — все человечество. Они будут вам говорить, что любят трудящихся и крестьян, что призваны освободить их от капиталистов. Но знаете, как они намерены это сделать?
Убив всех капиталистов и их детей и их родственников, а заодно тех рабочих и крестьян, которые не поддерживают светлую большевистскую идею.
— Но это уже было, — сказал Андрей. — Любое фанатичное религиозное движение тоже делит мир на истинно верующих и еретиков.
— Не совсем так — ответил адвокат. — Ведь противостоящие, скажем, мусульманам еретики в самом деле исповедуют другую религию и сознают свое противостояние исламу. У большевиков же враг выдуманный — это эксплуататоры, в число которых отлично можно включить и меня, и вас, и доктора. Враги большевиков и не подозревают подчас, что они враги. Им не хочется участвовать ни в каких политических играх. Это ничего не значит! Мы все равно уже отмечены проклятием.
— Но у них высокая цель — благополучие всех трудящихся, — сказал Андрей, уже зная, каким будет возражение.
— Кончится война, и большевики в первую очередь возьмутся за трудящихся — ведь кто-то должен служить новому классу. И поверьте мне — большевики будут купаться в роскоши с куда большим наслаждением, чем капиталисты и империалисты!
— Это называется — перераспределение богатства, — мрачно заявил Вальде. Пока адвокат с Андреем говорили о большевиках, он достал из буфета графин, наполовину наполненный водкой, в которой покоились полоски лимонной кожуры. Рюмки были тонкие звучащие, нарезные, а вот закусить было нечем, При виде графинчика Жолткевич ахнул и убежал к себе — возвратился через пять минут с двумя тарелочками, на которых была нарезанная колбаса и соленые огурчики. Так что соседи устроили пир, который продолжался до тех пор, пока очередной снаряд не грохнул так близко, что дом вздрогнул и стекла чуть было не вылетели.
Андрей был голоден, но старался беречь небогатую закуску, так что водка ударила в голову. Ему стало почти весело, а его собеседники казались такими милыми и умными людьми.
— А если бы у вас была возможность, — спросил он у адвоката, — уехать отсюда?
— Уехал бы немедленно! В Австралию, в Канаду, в Швейцарию — в то место, где не стреляют и даже не подозревают, что там можно стрелять.
— А если бы вам предложили убежать… в будущее. Вы бы согласились?
Адвокат воспринял вопрос серьезно.
— Наверное, да, — сказал он наконец, — я стараюсь верить в здравый смысл.
— И сколько лет понадобится России, чтобы вернуться к здравому смыслу?
Андрей хотел получить ответ на этот вопрос, потому что сам ответа не знал.
— Ну что ж, у нас есть исторические прецеденты, молодой человек, — сказал адвокат.
Доктор Вальде разлил по рюмкам остатки водки и дунул в горлышко графина. Графин отозвался тихим глухим свистом и как будто вызвал новый взрыв — чуть ли не на площади, Опять зазвенели стекла.
— Я предлагаю не заниматься глупыми разговорами, а спуститься в подвал. Туда по крайней мере не залетят осколки, — произнес Вальде.
Но так как никто на его слова не отреагировал, доктор выпил водку и принялся рассматривать дольку разрезанного огурца.
— К историческим прецедентам я отношу, — сказал адвокат, — схожие ситуации.
Смутное время. Вы помните, сколько продолжалось Смутное время?
— Лет пять-шесть?
— Приблизительно. Вальде, у тебя нет больше водки?
— Прости, не запасся.
— Вот и дурак. Следующий пример — Великая французская революция. Террор завершился за три-четыре года.
— Но потом начались наполеоновские войны. Они загубили куда больше людей, чем десять терроров, — вмешался Вальде.
— Дело не в абсолютных цифрах, доктор! дело в том, что наступил порядок, логическая связь времен и событий. Если ты адвокат, ты можешь заниматься своей практикой и не бояться, что тебя вытащат на Гревскую площадь, потому что ты слишком богат или твой папа был графом. Так что я прогнозирую — эпоха сумасшествия в нашей стране завершится через пять или шесть лет, и тогда наступит порядок.
— Значит, в двадцать первом году?
— Да. И Россия восстанет из пепла.
— Под водительством большевиков?
— Да хоть черта пузатого!
— Никогда ничего не кончится, — мрачно заявил доктор. — Мы, к сожалению, дожили до апокалипсиса. И грядут времена страшные, и пока большевики не перебьют друг друга, они будут питаться нашей кровью.
Доктор поднял вверх толстый указательный палец.
С улицы донесся крик.
Андрей кинулся к окну. Форточка была приоткрыта, и потому сцена, происходившая внизу, была и видна, и слышна. Три вильных казака на сытых лошадях кружили вокруг парочки — молодой человек был в шинели коммерческого либо торгового училища, а девица казалась гимназисткой. Один из казаков поднял нагайку, наехал на девушку и взмахнул рукой — резко, словно рубил. Нагайка сбила шапочку — шапочка покатилась по мокрому снегу, девушка схватилась за голову. Она вскрикивала: Помогите! Казак снова полоснул ее нагайкой:
— Молчать, сука!
Студент попытался защитить девушку, но движения его были неуверенными — он был слишком напуган, чтобы быть настоящим защитником.
Второй казак, не вынимая сапога из стремени, ударил ёго носком, студент покачнулся и схватился за подругу, казак разозлился всерьез и выхватил шашку.
Андрей пытался открыть окно, Окно было заклеено на зиму — две рамы. Тогда он распахнул кулаком форточку и закричал:
— Эй, вы! А ну прекратите!
Но пока он возился с форточкой, он опоздал: сверкающее под светом одинокого фонаря лезвие шашки опустилось на плечо студента, тот упал и был неподвижен.
Второй казак поднял голову и стал смотреть по окнам — где горит свет, — откуда кричали. Увидел и стал поднимать карабин.
— Уйди, уйди! — закричал Вальде, оттаскивая Андрея от окна.
Адвокат кинулся тушить свет, но Андрей вырвался и выскочил на лестницу. В одной рубашке, без тужурки, он ринулся вниз по пустой неосвещенной лестнице.
Когда он выбежал из подъезда, все еще не соображая, что безоружен и никому не страшен, все оказалось кошмарным сном — казаки скакали прочь, уже растворившись во тьме Больше никого на площади не было, Студент лежал на боку, спрятав лицо в снег, но рука его была откинута назад, и шинель и тужурка расстегнуты и распахнуты — Андрей догадался, что, уезжая, казак успел вытащить бумажник.
Вокруг студента было много крови, так много, что она не смогла впитаться в снег, а образовала темное болотце вокруг его тела.
Девушка пропала, будто ее и не было.
Дверь подъезда хлопнула, вышел дворник — Андрей уже знал его.
— Это вы сверху кричали? — спросил он. И не дождавшись ответа, продолжал: — Я у окна стоял, смотрел. Вы их пугнули, господин студент, чес-слово пугнули. Мало ли кто кричит, а если кричит, может, право какое имеет.
Дворник рассмеялся. Он был в пиджаке, но без шинели и без шапки.
— А девушка? — спросил Андрей.
— Утикла. И шапку свою взяла. Видишь — шапки нет, взяла. Вот они, бабы, какие.
Андрей понял, что дворник осуждает девушку за то, что не осталась у тела студента.
— Надо куда-то сообщить? — спросил Андрей.
— Телефон не работает. Я завтра скажу в околотке. Только теперь столько мертвяков, что их просто в ямы кидают.
Адвокат уже ушел, доктор Вальде начал было читать заготовленную лекцию об опасности мальчишеского поведения во время войны, но потом махнул рукой.
Утром, когда они шли в больницу, студента на площади уже не было.
Всю ночь на двадцать седьмое января, под свист метельного ветра из города тянулись отряды стрельцов и казаков, вывозили автомобили и телеги с документами и барахлом. Большевики могли бы вступить в город и раньше, но их было не так много, и они не были в себе уверены. Они дождались донесений разведки, что противник оставил свою столицу, и тогда принялись переправляться из Дарницы и подниматься с Подола к центру.
Андрей в ту ночь остался в больнице.
Заснуть было трудно — оживленное движение по улице, крики и выстрелы, как ни странно, создавали не только нервную, но и праздничную атмосферу. Словно шла подготовка к Рождеству либо съезжались разбойники и покупатели на большую ярмарку.
У киевлян еще не было достаточного представления о большевиках, и потому нашлось немало людей, даже из числа состоятельных, которые надеялись, что с большевиками придет настоящая власть, которая лучше, чем анархия вильных казаков бандитов и пьяных сечевых стрельцов.
Андрей стоял у окна коридора, когда по Фундуклеевской проходил красный отряд.
Красные шли неровными рядами, скорее толпой, чем колонной, в основном это были солдаты, среди них некоторое число гимназических и студенческих шинелей и гражданских пальто. Все были вооружены трехлинейками, а за колонной ехало несколько телег и фур с хозяйством отряда.
Это была не армия.
— Это не армия, — сказала провизорша Генкина, которая тоже смотрела на улицу. — Это банда, и даже удивительно, что они прогнали таких бравых господ офицеров и казаков.
Перед отрядом шла молодая женщина в солдатской шинели и французской каске, она несла небольшое красное знамя с черными буквами, образовавшими непонятную надпись.
Впрочем, как понимал Андрей, большевикам в те дни вполне хватало красных отрядов, чтобы выгнать Раду, которая была схожа с Временным правительством тем, что никто ее не поддерживал настолько, чтобы положить за нее жизнь, зато многие ждали, когда она падет. Одни надеялись на приход красных, другие — на твердую руку генерала Алексеева или Корнилова.
Весь первый день город, притихнув, ждал действий новых властей. А они все въезжали в город, сгружались с харьковского и московского поездов, занимали дворец и учреждения, где вчера еще царила Рада, срывали голубые флаги и изображения рюриковского трезубца, организовывали работу типографий, проверяли, как работают телеграф и почта, — то есть вели себя так, как начинает себя вести любая новая власть, мгновенно обрастающая всем, что положено иметь власти, включая лакеев и перебежчиков от власти старой.
Через день или два по Крещатику, а потом к дворцу, где она заняла апартаменты пана Винниченко, проехала в открытом автомобиле товарищ Евгения Богдановна Бош.
Она была в армейской фуражке, из-под которой выбивались неровные черные пряди, лицо ее, сухое и неприветливое, было лицом жестокой учительницы арифметики, которая ставит детей в угол на горох и сама порет их розгой. Два матроса в бескозырках и расстегнутых бушлатах сидели на заднем сиденье ее авто. В те дни матросы еще не научились носить андреевским крестом на груди патронные ленты — легенда о матросе революции еще только зарождалась. Этих матросов товарищ Бош получила от старой партийной подруги Нины Островской, которая, выполнив свою миссию в Севастополе, отправлялась в Петроград за новыми заданиями партии. Нине Островской были более не нужны телохранители — до самого Петербурга теперь тянулась советская земля, где правили товарищи Нины Островской и Жени Бош.
Евгения Богдановна потратила вечер, уговаривая Нину остаться с ней в Киеве — сейчас здесь, как никогда, нужны испытанные на митингах и в политических спорах старые партийцы. Но Нина не согласилась; ее вызвал в Петроград сам Свердлов, которого Нина боготворила еще по ссылке, — Островской отводилась еще неизвестная, но важная роль в будущей борьбе.
Беседа Жени и Нины — впрочем, так они называли друг друга, но не позволяли так называть себя посторонним, ибо обе уже стали сорокалетними женщинами, отдавшими все — и молодость, и здоровье — делу партии, истратившие по тюрьмам и ссылкам яркость взглядов и пылание щек, — проходила в номере гостиницы «Националь», где остановилась Нина Островская и сопровождавший ее молодой член партии, недавний морской офицер Андрей Берестов, которого Нина почему-то называла Колей, Это Евгению Богдановну не удивило, потому что она провела всю жизнь в мире псевдонимов и кличек, да и сама, сохранив имя и фамилию, сменила себе отчество с неблагозвучной Готлибовны на торжественную украинскую Богдановну. Скрыпник нетактично пошутил, проезжая по Софийской площади: «Это не вашему папе памятник, Евгения Богдановна?» Бош с ним после этого долго была холодна.
— Ты изменилась, Нина, — сказала Женя Бош. — К лучшему.
— А мне кажется, что уже десятилетиями не меняюсь, — отмахнулась Нина. Но она лукавила, хоть и не отдавала себе в этом отчета.
За неделю до отъезда из Севастополя она побывала у Василия Васильевича. Тот был странным человеком, отставным баталёром, аккуратистом — он ведал складом конфискованных вещей. Сам придумал, сам сторожил, свозил, даже, как говорили в ревкоме, ездил на обыски и расстрелы, чтобы не упустить ничего для своего хозяйства. И при том был бескорыстен, сам же ночевал в комнатке при складе, сам был ему ночным сторожем, а если нужно было помочь товарищу, а то и многодетной семье, мог собрать целый мешок барахла и отвезти по адресу.
Партийцы порой злоупотребляли его добротой — совершали набеги на склад и пользовались добром небескорыстно. Василий Васильевич сердился, укорял их, говорил, что все это еще пригодится республике тружеников, но не мешал брать сколько хочется.
Островскую Василий Васильевич повел в святая святых — в железную комнату, куда складывали добро, взятое у Великих князей и графов империи, имения которых в Крыму были заняты и обобраны. Грубый внешне, похожий на большую гориллу, но снабженный высоким нежным голосом Василий Васильевич раскладывал на столе вещи и даже украшения, словно был хозяином шикарного магазина. А Нина Островская, зная, что здесь она в безопасности, что никто не увидит ее женской слабости, с увлечением перебирала горы нижнего белья, проходила, трогая вешалки, между рядов платьев и шуб, нагибалась, раскрывая коробки с ботиками и туфлями, картонки со шляпами. Все это было ей не нужно и даже не интересно, все это было предметом ее всегдашнего презрения, но сейчас, когда не требовалось изображать презрение, она играла в это, как в куклы, — не успела наиграться в молодости.
Василий Васильевич хотел бы всучить, подарить, навязать товарищу Островской дорогие платья и шляпы, но знал, что ничего не выйдет, так что спор между ними был не более как игрой. В конце концов Островская приняла туфли, коробку чулок и некоторых предметов нижнего белья, самых простых и нужных, — сейчас все это так трудно достать, особенно из хорошего шелка. Но из верхней одежды она согласились лишь на сравнительно длинную по щиколотки, темно-синюю юбку и светлее тоном синюю блузку с отложным белым воротничком — что ее молодило, превращало в курсистку — если, конечно, привести в порядок космы.
Вернувшись к себе, Островская забрала прямые волосы в пучок на затылке — пучок получился маленьким. Но все лучше, чем было раньше.
Нина надела обновки уже в поезде, собираясь в Киев. И первым их увидел Коля, когда Нина сняла шинель в поезде Севастополь — Киев. Это был штабной вагон, его хорошо топили, кроме Нины, там ехали несколько товарищей по военным надобностям.
— Ой! — воскликнул Коля, пораженный разительной переменой в немолодой, лишенной женского обаяния революционерке. — Что ты с собой сделала?
Они уже давно были на «ты», по-партийному.
— Что? — вдруг покраснела Нина. — Что-нибудь неправильно? Так не носят?
— Тебе очень идет, — ответил Коля, пряча улыбку. — Просто я не ожидал.
Как и положено членам тайного боевого ордена, большевики в основном были равнодушны к роскоши, им важнее была власть. И потому потребовалось несколько лет, прежде чем элита большевиков привыкла быть богатыми, кушать икру и ездить в «линкольнах». Но в начале восемнадцатого года в Крыму рыцари недавнего тайного общества, а ныне правящего ордена большевиков Островская, Гавен, младший брат Ленина Дмитрий Ульянов и их товарищи могли пройти мимо кучи золота и не заметить ее, если овладение кучей не входило в интересы партии. И если бы Нина не ощутила странного щекотного, бессонного чувства к этому красивому молодому офицеру, которого она вовлекла в партию, так как ей нужен был свой человек в штабе флота, она бы воздержалась от похода на склад. Но даже каменные большевички в минуты отчаянной борьбы за власть и победу революции могут ощутить запоздалое движение гормонов в крови и поддаться проклятой и сладкой власти мужских рук и губ. Это и случилось с Ниной Островской на тридцать девятом году в основном подпольной жизни.
Превращение Нины Островской из грязной, упрямой тюремной парии в госпожу губернаторшу, вольную казнить и миловать тысячи людей, произошло для нее закономерно, для других — фантастически неожиданно.
Эта метаморфоза была субъективно проста, потому что подготавливалась всей жизнью Островской. Когда-то ей, молоденькой девушке, было сказано пророком: если ты будешь терпеть без конца, без ропота, когда все иные уже разуверятся во мне, — то придет к тебе спасение, и получишь ты власть над миром, как верная и претерпевшая!
Или, иными словами; если вы, товарищ Островская, согласны ради торжества идеи Маркса и целей Партии провести половину жизни по тюрьмам и конспиративным квартирам, испытать сибирские морозы и ругань конвоиров, то вторая половина жизни станет воплощением нашей общей социалистической мечты!
Только не надо думать, что жизнь подпольщицы, революционерки, гонимой и преследуемой властями, была столь уж беспросветной и безнадежной. В ней была важная черта — возможность принадлежать к Избранным. А эта Принадлежность давала тебе не только кров и помощь, но и право общаться с членами той же тайной секты, угадывать их в потоке жизни, ощущать тепло единоверца… Всегда были и будут люди такого рода, согласные терпеть, но за вознаграждение, — и чем медлительнее и тяжелей терпение, тем выше его цена. …Раздался клекот серебряных труб Революции, Истинно верующие выпорхнули из темниц.
У входа их встретила не только свобода, но и старшие товарищи, те самые, кто предпочел (и имел к тому возможность) провести эти тяжкие сроки не в Сибири, а в Цюрихе.
— Все твое, — сказали товарищи. — Вот тебе Россия. Правь ею, но оставайся при том верным и послушным членом нашей партии.
Революционеры и революционерки вышли из тюрем, вовсе не удивившись тому, что пророчество сбылось, — иначе чего бы им в него веровать! И они пошли править Россией, по крайней мере до тех пор, пока их не оттеснят от власти люди более профессионально подготовленные, ибо вскоре обнаружится, что Островские, Боши Землячки были готовы к тому, чтобы карать, но не имели ровным счетом никакого жизненного опыта, чтобы управлять и строить.
Ленин и Свердлов имели обыкновение бросать самых толковых и преданных товарищей с места на место, не давая засидеться и обрасти связями и симпатиями. Поэтому за какой-нибудь Ниной Островской или Евгенией Бош не было прошлого. Они возникали то как абстрактные карательницы, то как ломовые лошади революции. И исчезали так же неожиданно, чтобы покорно и самоотверженно возглавить прорванный врагами фронт, тонущий крейсер, соседнюю республику или баню для членов партии. И знать, что не сам пост важен, а важно доверие партии, которое может проявиться или исчезнуть на любом посту.
Так и Нина Островская приехала в Севастополь, когда влияние большевиков там сошло на нет. Поначалу она недоедала, срывала глотку на сходках и митингах — и в конце концов с помощью подоспевших товарищей перехватила власть в Крыму, чтобы не отдать его ни белым, ни хохлам Центральной Рады. Крым всегда должен был оставаться большевистским.
На первых порах Коля Беккер был для Нины не более чем полезным агентом во вражеском стане. Коля пошел на это сотрудничество, не стараясь извлечь из него особых выгод — он желал уцелеть в сумасшедшем доме, в который постепенно превращался Севастополь, выбрать побеждающую сторону — а в те дни, прошлой осенью, еще не было очевидным, что таковой будут большевики. Коля рискнул и выиграл.
Несколько месяцев до отъезда в Россию Коля продолжал числиться в штабе флота под именем Андрея Берестова. Был он человеком аккуратным исполнительным, трезвым и потому пришелся ко двору у Гавена, латышская душа которого не выносила окружающего бардака и всеобщей необязательности, заражавших и самую сердцевину партийных кадров. Так что вскоре Коля уже стал своим среди большевиков Крыма, но при том всей шкурой чувствовал, что из Крыма надо бежать — Крым враждебен, опасен и грозит смертью.
За пределами Крыма у Коли почти не было близких людей. Сестра его маялась в Симферополе, бывшая подруга Марго исчезла, не писала, не подавала о себе вестей, на Ахмета и Андрея надежды мало — детская дружба себя изжила. Пожалуй, оставалась одна верная женщина — Раиса, у которой Коля снимал комнату…
Коля мучился, рождая и отвергая планы бегства на север. Он готов был для этого даже стать возлюбленным своей покровительницы, но не знал, как к ней подступиться.
Казалось, что за много лет, проведенных в подполье или в ссылке, Нина принимала все меры, чтобы изжить из себя женское начало, так мешавшее в совместных боевых и политических действиях с товарищами-мужчинами. Она коротко, под горшок, стригла прямые черные волосы, обходилась без лифа — благо груди ее были невелики и неочевидны, туфли носила без каблуков и никогда их не чистила, одевалась бесполо и безлико.
Намеки, понятные любой шестикласснице, для Нины были бессмысленны, так как она, вступив в партию шестнадцати лет и будучи при том всегда некрасива (иначе бы, наверное, и не поступила в партию), не получила положенной средней гимназистке любовной муштры. Даже о том, что деторождение связано с любовными отношениями мужчин и женщин, она узнала лишь в тюрьме на первой своей пересылке.
Думая о Коле, она признавалась себе, что Берестов ей приятен как человек и перспективен как партийный работник. Она даже как-то говорила Диме Ульянову, что поощряет приход в партию молодых людей из интеллигентных семей, потому что после взятия власти нужны будут специалисты, а не только солдаты. Дмитрий Ильич стал с ней спорить, утверждая, что перебор непролетарского элемента в партии может ее ослабить и бюрократизировать, чему есть немало примеров в истории.
Впрочем, испытывая удовольствие от близкого присутствия Коли, находя смысл и пользу в разговорах с ним, Нина Островская и не подозревала, что руководствуется чем-то иным, нежели заботой о деле партии.
Так что когда Островская отправилась к Василию Васильевичу, чтобы экипироваться на складе для поездки в столицу, она и не подозревала, что делает это в значительной степени из-за своего молодого спутника, который все не решался попроситься в Петербург. Наконец Коля, отказавшийся от надежды соблазнить начальницу большевиков, за несколько дней до отъезда бросился к Островской с просьбой взять его с собой: он хочет быть в центре революции — его место там! И к крайнему удивлению Коли Островская лукаво улыбнулась и ответила:
— Я уже говорила об этом с Гавеном. Он тоже так думает.
Так был решен вопрос о поездке. Коля вырвался из постылого Севастополя и получил возможность увидеть Нину Островскую в женском обличье.
В киевской гостинице «Националю» они с Колей остановились в соседних номерах, небольших, приличных, ничем не выдающихся, хотя, конечно же, пожелай того Островская, ей бы выдали «люкс, Но Островская была, как и прежде, скромна и непритязательна. Ее можно было купить властью, но не деньгами. Да и как купишь человека, который знает, что может получить вдесятеро больше, чем имеет, стоит лишь пошевелить пальцем, но не делает этого движения, потому что презирает мелочи жизни. Такого рода революционеры первого поколения всегда становятся и не нужны, и опасны диктатору, которого обязательно рождает революция. Диктатору нужны подчиненные, которых можно купить, продать и помиловать. Как ты будешь миловать Островскую или Бош, если для них единственный судья — партийная совесть?
Их следует обязательно уничтожать — впрочем, так и случается, иначе они примутся судить товарищей по партии, так как они и есть — Партия.
Евгения Бош приехала к Нине, как только узнала, что та проездом в Киеве, Они не виделись четыре года, расставшись в ссылке в Туруханском крае, где жилось хоть и трудно, но весело, в спорах, планах, мечтах о свободе мя себя и России.
Там Нина подружилась с Яшей Свердловым, познакомилась с Сосо Джугашвили и некоторыми знаменитыми меньшевиками.
— Какое чудо, Женя, что ты здесь! — говорила Островская, проводя подругу в номер.
Там с чайником в руке стоял Коля Беккер.
Нина поспешила представить спутника:
— Андрей Берестов. Наш товарищ из Севастополя. Сопровождает меня в Питер.
— Очень рада. — Ладонь товарища Бош была холодной, узкой и крепкой.
Эта женщина показалась Коле очень похожей на Нину, хотя, пожалуй, сходство это было весьма поверхностным. Лицо Нины было крупнее чертами и резче, что порой придавало ей сходство с вороной, тогда как Бош была куда изящнее, детали лица были мелкими, но четкими и как бы лишенными мяса, Потому так трудно было бы угадать ее возраст. От тридцати до пятидесяти…
Бош критически обозрела Колю.
— Моряк? — спросила она.
— Морской офицер, — ответила за Колю Островская.
— Давно в партии? — Что-то не нравилось Евгении Бош в Коле, что-то тревожило.
— Давайте сядем за стол, — предложила Нина. — В ногах правды нет. Раздевайся.
Раздевайся и поговорим. Ты же не спешишь?
— Конечно, спешу, — сухо улыбнулась Боги, но скинула шинель. Коля успел ей на помощь и повесил шинель в стенной шкаф.
— У нас нечего выпить, — сказала Нина.
— Я не пью, — ответила Бош с очевидным укором в голосе.
— Прости. — Нина суетилась чуть-чуть больше, чем нужно. Она как бы давала понять, что стоит на ступеньку ниже на партийной лестнице, чем гостья, впрочем, кроме Коли, никто этих тонкостей не заметил. А Коля понимал, что его присутствие мешает откровенному разговору старых подруг, и потому сказал, что ему нужно отлучиться, и его никто не задерживал.
Подруги в соседнем номере чуть отмякли, подобрели у уютно шумевшего самовара, крепкий чай с бубликами и колотым сахаром напомнил счастливые мирные дни ссылки, когда можно было мечтать о будущей погоде, о том, как царские сатрапы, от министра до станового пристава, следящего за ссыльными, послушно опустятся на колени перед виселицами.
Жизнь, обрубленная, словно дерево без веток — одно бревно, — рождала особенный ущербный тип человека — мир настолько четко делился на своих и чужих, что чужие становились не людьми, а некими существами, которых требуется уничтожать и гнать.
И не испытывать чувства зависти. Как схоже, бывало, тащили на костер еретиков и ведьм монахи, лишенные любовного чувства. Главное — убедить себя, что твои враги, оппоненты, не более как препятствия на пути народа к высокой цели, сродни фантомам.
Неудивительно, что в начале разговора не было сказано ни слова о родных — в беседе старых партийных товарищей той поры не услышишь пожеланий здоровья маме и папе, впрочем, чаще всего ты и не знал, кто родители у твоего товарища. Отец Софьи Перовской был губернатором, отец Троцкого — богатым арендатором, отец Ульянова — штатским генералом, отец Джугашвили — сапожником. Отцы приговаривались к забвению. Товарищ по партии, член секты был ближе родителей.
Евгения Бош спросила:
— Как обстановка в Севастополе? Она меня тревожит. Сама понимаешь, какая у нас связь с Крымом — Главное, — ответила Нина, разливая хорошо заваренный чай по принесенным половым из лучшего гостиничного сервиза чашкам, — что нам удалось отстоять Крым как от украинцев, так и от татар.
— Трудно было?
— Несколько недель в боях, — ответила Нина. — Мы потеряли много товарищей. Ты помнишь Бураева?
— Бураева? Мишу, из Нарына?
— Нет, я имею ввиду Баню Бураева. Его захватили эскадронцы в Евпатории. Он был там председателем ревкома.
— Сильно мучили? — спросила Бош.
Как профессиональный революционер она всегда ждала смерти и старалась подготовиться к ней. Правда, с годами шансы мученически погибнуть уменьшались, а после двадцатого года исчезли совсем, Осталось только желание мстить врагам, которые заставили тебя просыпаться ночью в ожидании поражения и страшной гибели.
А потом, когда врагов не осталось, — мстить врагам воображаемым. Но это феномен будущего. О нем Бош и Островская в феврале 1918 года еще не подозревали. Но было страшно. Женя Бош стояли как на вершине, открытая ветрам. Партия вознесла ее на немыслимый пост диктатора Украины. Ради партии она стояла на вершине и дрожала от ледяного ветра ненависти, дующего в лицо.
— К сожалению, — сказала она задумчиво, — здесь трудящиеся массы отравлены духом национализма.
— Я никогда не любила Киев, — ответила Нина. — Мещанский чиновничий город.
— У меня только завод «Арсенал», — сказала Бош, глядя прямо перед собой и не видя Нину. — И донбасские шахтеры.
— Завтра придет отряд из Севастополя. Они следуют за мной.
— Я получила телеграф. Они задержались — бьются с бандой Махно.
— Это еще кто?
— Какой-то мелкий бандит. Таких тут много.
— Мы послали следом бронепоезд, на нем две роты самых сознательных товарищей из дивизиона эсминцев, Для Евгении Бош разницы между эсминцами и крейсерами не было, но Нина за месяцы в Севастополе научилась разбираться в различиях настроений дивизионов, экипажей и корабельных команд.
— Ты можешь быть спокойна, — продолжала Нина, — с юга тебе ничто не угрожает. Мы тебе всегда поможем.
— Спасибо.
— А что ты знаешь о Бресте? — спросила Островская. — До нас доходят смутные слухи — связь плохая.
— У нас было задание — взять Киев до того, как Рада подпишет договор с немцами.
Мы послали нашу делегацию. Пока немцы упрямятся. Ильич уверяет, что Украину необходимо отстоять, Слово «Ильич» Евгения произнесла особенно: Ленин был авторитетом для профессионалов — с ним можно было спорить, его можно было не слушаться, но в партии не было человека, который был бы равнодушен к вождю революции. Обеим собеседницам приходилось видеть Ленина, говорить с ним, и обе имели основания полагать, что и Ленин их помнит.
— С запада у меня нет заслонов, — сказала Бош.
Она не имела опыта в делах военных, но, будучи председателем украинского правительства, считала своим долгом разбираться в них лучше любого генерала. Она искренне верила, что в конечном счете побеждает не умение и не знания, а сила идей. Еще вчера у нее был спор с Шахраем, который предложил брать на службу в штабы и управления армии тех офицеров, которые дадут клятву честно сотрудничать с большевиками, Бош была категорически против этого и настояла на том, чтобы провалить план Шахрая на заседании правительства. Она была убеждена, что классовое происхождение офицеров делает всех их предателями. Евгению Богдановну поддержали тогда Бакинский и Люксембург, а когда план Шахрая был отвергнут, с кратким сообщением выступил Скрыпник. Он сообщил, что по его сведениям как раз перед сдачей города большевикам Центральная Рада провела регистрацию всех офицеров, и им были выданы розовые учетные карточки. Это белый крест на воротах гугенотов, сказал Скрыпник, и Бош его поняла, Командирам красных отрядов и патрулей был дан приказ вылавливать на улицах и в домах всех, у кого розовые карточки, и считать этих людей предателями дела рабочего класса.
Об этом Евгения не стала рассказывать Нине — это дела внутренние, почти хозяйственные. Истребление крыс.
Перед уходом Бош договорилась с Ниной, что та возьмет с собой для личной передачи Свердлову секретный пакет. Конечно, можно было бы послать фельдъегеря.
Но Бош больше верила товарищу по партии.
Женщины расстались на грустной ноте. Ведь когда-то даже железные женщины должны поплакать. И плечо, на которое они опускают свою усталую голову, должно быть родным, плечом другого члена партии.
— Мне трудно, Ниночка. — Голос Жени Бош дрогнул. — Я тут совсем одна, Если я не успею убежать, то погибну…
— Что за чепуха! Почему они возьмут Киев?
— Я здесь чужая.
— Я попрошу Свердлова, чтобы он направил меня сюда, — сказала Островская. — Можешь мне поверить.
— Спасибо! — Евгения сжала руку Островской.
Было уже пять часов, Бош должна была выступать в университете — там готовился митинг революционной молодежи. Она вытерла слезы, надела шинель.
— А этот молодой человек… Берестов, он надежен? — спросила она перед уходом.
Ее не столько беспокоила нравственность Нины, как сохранность секретного пакета.
— Я за него отвечаю, — ответила Нина. — До встречи.
— Привет Якову, — сказала Евгения. Ей не хотелось уходить.
— Я всем передам приветы. Они наверняка с вниманием и надеждой следят за тобой и за твоим правительством.
Бош резким движением распахнула дверь и пошла, не оборачиваясь, по коридору.
Нина смотрела от двери, как Бош легким девичьим шагом улетает по длинному гостиничному коридору.
Нина подумала о том, что Коля, наверное, сидит сейчас голодный и даже обиженный.
Ведь для члена партии обидно недоверие товарищей.
Нина подошла к двери Беккера и, постучав, вошла, Беккер лежал на постели, не сняв сапоги.
— Товарищ Берестов, — сказала Нина. — Пошли ко мне, самовар еще горячий.
Глаза Коли были закрыты.
— Я знаю, что ты не спишь, — сказала Островская и улыбнулась: он еще совсем мальчик и обижается, как мальчик. — Вставай, вставай.
Коля открыл глаза и сел на кровати. Он вовсе не был обижен и с удовольствием поспал на мягкой постели — в жизни еще не приходилось спать в такой роскошной гостинице. Но если Нина хотела, чтобы он перестал обижаться, для этого следовало сначала обидеться. Так что Коля не смотрел на свою спутницу и скучно думал, глядя в незанавешенное синее окно: «Вот и еще один день прошел…»
Нина положила ему руку на плечо. Плечо было крепким, молодым, совсем как плечо Сурена Спагдарьяна.
Нина, хоть Коля и был убежден, что она — старая дева раньше была близка с мужчиной, с Суреном. Сурен жалел ее, но хоть и был горячим кавказским человеком, женщины в ней не понял. Они были близки всего один раз, летом, в Монастырском.
Сурен был пьян, он кашлял, и все говорили, что он скоро умрет от чахотки. Она терпела, потому что Сурен сделал ей больно, но не смогла удержаться от плача. «Я большой грешник, — говорил Сурен, — меня бог накажет. Ты весталка революции, тебя нельзя трогать». Она не поняла, зачем он это говорил. Сурен умер за несколько недель перед революцией, в Курейке, была зима, и Нина не смогла приехать на похороны.
Коля поднялся и сделал к ней шаг. Нина отшатнулась — но лишь чуть-чуть. Коля положил ей руки на плечи и притянул к себе.
— Не надо, — сказала Нина серьезно, — я весталка революции.
Коля улыбнулся. Вокруг глаз Нины было много мелких паучьих морщинок. Как будто поняв, что его взгляд критичен, Нина положила голову ему на плечо. Ее прямые черные волосы приятно пахли дешевым мылом — сегодня она смогла помыться в настоящей гостиничной ванне. Коля поцеловал ее в затылок. Среди волос были седые.
— Пошли чай пить, — сказала Нина. — У меня чай остывает.
Пальцы Коли опускались по ее спине — к талии и даже ниже. Нина сделала попытку отодвинуться.
— Это глупо и несерьезно, — сказала она хрипло.
— Молчи.
— Нет, я должна сказать — возразила Нина, словно это был политический спор. — Ты меня совершенно не знаешь.
— Нет знаю, — возразил Коля. Он хотел сказать, что любит Нину, но было неловко так говорить. Это было бы полной неправдой. И в то же время Коля испытывал сильное возбуждение и желание одолеть Нину, овладеть ею, потому что в этом было некое торжество над властью, над силами, правящими этим миром. Ведь легенду о красоте Клеопатры придумали ее любовники для того чтобы оправдать свое желание обладать самой знаменитой женщиной мира — красоту ей они придумали потом.
Коля замер, прижавшись к Нине, потому что вдруг ощутил себя нерадивым учеником — он забыл, что надо делать дальше. Нина почувствовала, как ослабли его пальцы, и вдруг испугалась, что он отпустит ее, попросит прощения и отодвинется…
— Скажи что-нибудь — попросила она.
Коля, как бы вспомнив, поднял за подбородок ее тяжелую послушную голову и, отыскав губами ее губы, начал ее целовать Нина отвечала ему неумело, стиснув зубы. Потом вдруг рванула, освобождая, голову и сердито — это ему показалось, что сердито, а на самом деле в страхе — приказала:
— Погаси свет, нельзя же так!
Когда все кончилось, суматошно, неправильно, потому что Коля, ломая неожиданное, запоздалое, но упорное сопротивление Нины, не сдержался и завершил любовный акт, лишь начав его, он отодвинулся и стал смотреть в потолок. Глаза уже привыкли к темноте. Островская тихо дышала рядом, касаясь его плечом и обнаженным бедром.
От ее волос неприятно пахло дешевым мылом.
Я этого не хотел, думал Коля мне это вовсе не нужно. Она сама пришла ко мне, чтобы меня соблазнить, и потому все получилось по-дурацки. Теперь она думает, что я никуда не гожусь как любовник! И мне придется распрощаться с карьерой в партии большевиков — может, это и лучше? Может, судьба распоряжается мной, оберегая от страшного безбожного дела… Я уйду и сегодня же отыщу здесь офицеров. Здесь должны быть офицеры, они знают, как пробраться на Дон, там наши сопротивляются… А почему бы мне не пробраться в Америку? Я могу быть полезен Александру Васильевичу. Он будет мне рад, и когда мы выстроим на Марсовом поле последних пленных большевиков, я замечу в заднем ряду Нину — оборванную, голодную, запуганную… И я скажу начальнику караула: «Вон ту, которая похожа на ворону, попрошу освободить». И он ответит, пожав плечами: «Слушаюсь, господин полковник!»
— Я пойду? — спросила Нина, Словно он мог запретить ей уйти.
— Хорошо, — сказал Коля холодно. — Иди, уже поздно.
Нина поднялась, Коля закрыл глаза. Он слышал, как она натягивает чулки, застегивает юбку, блузку, щелкает застежками… это было бесконечно. Неужели она не научилась этому за свою долгую жизнь? Интересно, она могла бы быть его мамой?
Ей около сорока, ему — двадцать два. Вполне возможно… а вдруг она — его мать?
Ну что ты несешь, Беккер! — сказал он себе. А Нина все застегивала крючки. Она молчала, и молчание было тягостным.
— Я пошла, — сообщила она, Коля промолчал.
Нина приоткрыла дверь и выглядывала в коридор, чтобы никто ее не заметил. Коля внутренне улыбнулся — поглядела бы сейчас госпожа Бош, как ее подруга и диктаторша Крыма смотрит в щелочку, держа в руке туфли.
Убедившись, что в коридоре никого нет, Нина хотела было юркнуть в дверь, но тут замерла, остановленная мыслью.
— Коля, — сказала она виновато, — самовар еще горячий. Отдохнешь, приходи ко мне… если хочешь.
— Спасибо, — сказала Коля и отвернулся к стене. И вскоре заснул. И проспал часов десять!
Утром следующего дня Коля поднялся чуть свет. Он не сразу вспомнил, что же гложет его. Потом спохватился. Воспоминание было противным. И не потому, что Нина была ему неприятна, в ней даже было нечто трогательное, неистраченное, девичье. Гадко было собственное поведение. Можно соблазнить нежную девушку, потому что страсть овладеть ее нежным телом сводит тебя с ума. Колю же ничто не сводило с ума. Он хотел обеспечить себе будущее, потому что не верил в любовь большевиков к бывшему адъютанту Колчака, и не придумал ничего лучше, чем роль альфонса. Да, альфонса! Он сознавал мерзость своего поступка настолько, что готов был назвать его именно таким словом…
В дверь постучали. Неужели опять она?
Но пришла горничная. Она быстро проговорила:
— Госпожа из восемнадцатого приглашают пана на кофий.
Захихикала — видно ей еще не приходилось передавать такого приглашения.
Нина была в новой блузке.
— Садись, — откликнулась она на его приветствие.
Форточка была открыта, с улицы доносились голоса, скрип колес. Ничего прошлым вечером не случилось — это было лишь плодом Колиного воображения. Перед Ниной на столе лежали газеты, она их просматривала. На туалетном столике под зеркалом Коля заметил стопку исписанных листов. Нина перехватила его взгляд и сказала, наливая ему в стакан чай из заварочного чайника:
— Всю ночь пришлось работать. Я обещала Евгении Богдановне оставить справку о расстановке сил в Крыму и ходе последних боев. Им здесь, в Киеве, нужны свидетельства из первых рук.
— О себе не забыла? — спросил Коля, осмелев от спокойного тона Островской.
— Не говори глупостей, — холодно оборвала его Нина. — Мы, большевики, никогда не гонимся за личной славой. Если справедливое общество будет построено на нашей планете, благодарные потомки не забудут о нас. Тебе покрепче?
— Спасибо, достаточно.
— У нас в ссылке в Курейке мужчины пили очень крепкий чай, в Сибири его зовут чифир. Не слыхал?
— Откуда мне!
— Вот именно — откуда тебе. А знаешь, Николай, в чем твоя беда? Твоя беда в том, что тебе не пришлось переносить настоящие испытания, не пришлось рисковать жизнью и страдать.
— Ты мало обо мне знаешь.
— На тебе все написано, Ромео.
Такое обращение Коле не понравилось, потому что в нем угадывался намек на вчерашнее. Но он промолчал…
Он смотрел на ее щиколотки. Щиколотки были видны из-под юбки, в узкой полоске чулка между верхом башмака и подолом.
В дверь постучали. Пришел студент, посланец от Бош. Откозырял, передал конверт с билетами на поезд, сказал, что авто подано, и если товарищи из Севастополя хотят осмотреть город, то они могут распоряжаться мотором до самого отъезда. Нина отдала студенту листы, написанные за ночь, и тот сказал, что знает об их ценности, И тут же передаст курьеру.
После его ухода Нина подошла к окну и стала смотреть на улицу.
— А в Москве сейчас еще холодно, — сказала она.
Коля подошел к ней — совсем близко. Он положил руку ей на плечо, не потому что хотел этого, а чтобы проверить — как она себя поведет. Нина не шевельнулась. Она продолжала говорить:
— Я не люблю Петербург. Там неуютно, там все улицы просматриваются. И очень много шпиков.
— Ты откуда родом? — спросил Коля.
— Мой папа был ветеринаром, — сказала Нина. — Я не люблю животных. Может быть, проедемся по городу, погуляем? Я тут не была с последнего этапа. Видела Киев через решетку фургона.
Внизу, в конфискованном, еще шикарном авто их ждали шофер и студент. Нина предложила было студенту отдохнуть, но тот сказал, что в городе еще много всякой нечисти и могут быть провокации.
Коля отдал бы сейчас полцарства, только бы не кататься по городу в обществе этой женщины.
Но почему я раздражен? Ведь она ведет себя идеально — ни словом, ни жестом не показала мне, что наши отношения изменились. Чего же я хочу?
День был солнечным, совсем весенним, но Нина мерзла — вскоре она велела шоферу остановить машину и поднять верх. Люди на тротуаре замедляли шаги, смотрели на большевичку и молодого человека рядом с ней. Потом видели студента с винтовкой.
И старались больше на машину не смотреть. Потому что после первых дней устройства на новом месте власть большевиков принялась карать совершенно не готовых к этому киевских обывателей, Словно она и на самом деле взяла штурмом вражеский город, который был отдан на поток и разграбление.
Новое правительство Украины смертельно боялось мятежа и измены, хотя бы потому, что не имело оснований рассчитывать на преданность киевлян. А для того, чтобы искоренить мятеж в зародыше, следовало ликвидировать самых опасных врагов. Самых опасных — значит мужчин молодого и среднего возраста, желательно буржуев.
Автомобиль, в котором прогуливались Нина с Колей, проехал вдоль всего Крещатика и свернул налево, к Софийской площади. Он затормозил возле собора, и Коля хотел было помочь Островской спуститься на мостовую, но та словно не заметила руки молодого человека, а решительно широким шагом направилась к храму. Площадь была пуста, Коля не смотрел в окна домов — иначе бы мог, поднявши голову, увидеть в окне третьего этажа дома на углу площади и Большой Владимирской своего старого приятеля Андрея Берестова. Но Андрей его увидел.
Андрей знал, что Коля теперь служит большевикам, и видел, как тот приехал к собору с какой-то стремительной худой дамой. Спуститься к Коле? Но захочет ли того его приятель? Какую роль он играет при этой большевичке?
Так что Андрей остался у окна — все равно надо дождаться доктора, который поехал с визитом к своему старому пациенту — хоть и не ездил по визитам, но тут отказаться было нельзя. После этого они собирались вдвоем поехать на Подол, там, говорят, разгрузились две баржи с севера — привезли картошку. Если сейчас не купишь, весной будет совсем трудно.
По площади, дребезжа, ехала извозчичья пролетка, в ней, развалясь, сидели два солдата в папахах, на которых по диагонали были натянуты красные ленточки — единственный пока знак различия в революционной армии. Другой извозчик, не подозревая плохого, обогнал их и остановился на углу Большой Владимирской.
Элегантный Жолткевич, адвокат, сосед доктора Вальде, стал расплачиваться с извозчиком. Второй извозчик, с солдатами, поравнялся с ним и остановился.
Солдаты что-то спросили у адвоката, который уже опустился на землю и ждал сдачи.
Тот что-то ответил, потом достал бумажник и протянул солдатам розовый листок бумаги.
Солдат жестом приказал адвокату забираться в пролетку. Адвокат показывал на свой дом, видно, старался объясниться.
— Пора идти, отклейтесь от окна! — крикнул доктор Вальде из прихожей. Он незаметно вернулся домой и даже переодел пальто.
Андрей пошел одеваться.
— Что вы там увидели? — спросил доктор Вальде.
— Нашего соседа Жолткевича задержали, — ответил Андрей. — А он показывал им какой-то розовый листок.
— Розовый листок? дурак! Ах, какой дурак! — расстроился доктор. — Это же очень рискованно. Дай бог, чтобы обошлось!
— Почему?
— Месяц назад пан Петлюра решил зарегистрировать всех военнообязанных. Годным раздали розовые квитки. А у многих теперь других документов нет. Попался патрулю — что-то надо показать… Говорят, что красные всех, у кого есть такой квиток, забирают.
— Куда? К себе в армию?
— Сильно сомневаюсь, — проворчал Вальде, открывая дверь и выглядывая на лестничную площадку. — Боюсь, что в тюрьму. Так что никаких квитков им не показывайте.
Они спустились по лестнице, и Вальде первым выглянул на улицу. Там никого не было. Машина, в которой приехал Коля с революционной дамой, тоже исчезла.
— Не дай бог, с Жолткевичем что-то случится, — сказал Вальде. — У него же трое детей.
Андрей с запозданием пожалел, что не сбежал вниз, не вмешался, не окликнул Колю — ведь тот же мог помочь!
— Не расстраивайтесь, — произнес Вальде, поднимая воротник, чтобы не продуло свежим, почти весенним, но очень холодным ветром, который задул, как только солнце заволокло легкими торопливыми облаками. — Нам бы самим до госпиталя добраться.
Они дошли до госпиталя без приключений. На улицах было мало народа, и в основном публика была простонародная, соответственно одетая. Немногочисленные извозчики медленно проезжали вдоль Крещатика, но пассажиров не находили. В больнице, в ординаторской, старшая сестра стала рассказывать, как пропал без вести ее брат, чиновник, а другая сестра сказала, что ночью в Царском саду за дворцом расстреливали людей.
Андрей собрался на крытый рынок, хотел купить Лиде моркови и лука, но она догадалась о его намерениях и стала умолять его никуда не ходить.
Адвоката Жолткевича расстреляли в пять часов пополудни.
В нижнем белье он стоял на мокром снегу и думал, как громко кричат вороны и как много их вьется над деревьями Царского сада. Ему было почти не холодно, но он понимал, что обязательно простудится, если это безобразие не кончится и его не отпустят домой. До последней секунды он утешал себя тем, что солдатам нужны его вещи, а не жизнь.
Только через несколько Дней, когда немцы двинулись к Киеву от Житомира, а красные части начали разбегаться, жене адвоката удалось узнать, что его тело лежит в общей могиле — неглубокой яме, кое-как засыпанной мешаниной снега и земли. Она собрала все драгоценности и отдала солдатам, что стояли в Царском саду — берегли уже многочисленные могилы. Шансов найти тело мужа у нее не было — но повезло: солдат-расстрельщик, которому она показала фотографию Жолткевича, его признал и вспомнил, в какой яме он лежит. Потом откопал и даже помог найти подводу, чтобы отвезти тело домой.
Вдова позвала доктора Вальде и Андрея на похороны — некому было нести гроб.
Вдова была тиха, смирна, даже умиротворена — она сделала для Коленьки невозможное, и он должен быть доволен. Дети ее шли за катафалком — причесанные, ухоженные и пристойно одетые. Немногочисленные гости помянули Жолткевича домашней, с лета сохраненной наливкой.
От усталости и отчаяния доктор Вальде быстро опьянел, и Андрею пришлось тянуть его домой на себе. Той ночью снова пришли с обыском — либо с грабежами. Ломились в дверь, но двери в доме были толстые, прочные. Дворник, которого солдаты водили с собой по этажам, спас доктора — сказал, что в этой квартире были тифозные и умерли, а пока там карантин.
На следующий день, поговорив с Лидочкой, которая уже начала вставать, Андрей поехал на вокзал — узнать, как достать билеты в Москву.
На вокзале царил бедлам — одни спешили уехать из Киева прежде, чем появятся немцы, другие бежали от террора большевиков, все более отчаянного по мере завершения их господства. А толпа перед кассами словно и не сдвинулась с места с того дня как Андрей приехал в Киев.
Ночью на вокзале была перестрелка, охрана сражалась с какими-то бандитами — в углу главного зала лежали два трупа, кое-как покрытые красным полотнищем. На полотнище были белые буквы «Вся власть…».
Говорили, что немцы будут дня через три — ждут, пока город минует чехословацкий корпус, с которым воевать они не намерены. Вместе с немцами вернется Центральная Рада и министр Винниченко, который встречал освободителей в Житомире.
Все попытки Андрея за любые деньги добыть билеты у перекупщиков оказались пустыми.
Когда часа через два Андрей готов был уже сдаться, счастье подошло к нему в облике высокого господина с эспаньолкой и в пенсне, очень похожего на Чехова.
— Я вижу, что вы ищете билет, — сказал господин. — Случайно не в Москву?
Оказалось, что у господина заболела тифом жена и их отъезд откладывается.
Продавать билет случайному человеку господин боялся, наслышавшись историй о грабежах и обманах. Он заметил Андрея, присмотрелся к нему и осмелился к нему обратиться.
— Я лишнего с вас не возьму, разумеется, — сказал господин, — но учтите, что билеты очень дорогие, в мягкий вагон.
Господин отдал Андрею билеты по ценам месячной давности, то есть просто даром.
Андрей кинулся в больницу рассказать Лидочке, что через два дня они отбывают на север.
Весь цвет мировой социал-демократии ждал, когда же наконец немецкие милитаристы, соблазненные беззащитностью пролетарского государства, кинутся, чтобы сожрать его, и вызовут этим революцию возмущенных рабочих Германии.
Наконец 16 февраля германское командование известило Петроград, что перемирие истекает через два дня и тогда же Германия возобновляет военные действия. Верх там взяли генералы.
Вечером 17 февраля прошло заседание ЦК партии большевиков. Ленин потребовал немедленно принять все германские условия и подписать мир с Германией, какими бы ни были его условия. Предложение Ленина большинством голосов было отвергнуто.
Большинство поддержало Троцкого, который считал нужным подождать с возобновлением переговоров, пока не проявится позиция пролетариата Запада. В последовавшие затем сутки прошло еще два заседания ЦК. Ленин выступал через каждые пять минут. На третьем заседании он уже имел 7 голосов из 12. Это случилось потому, что Ленину удалось сломить Троцкого, убедив его что мир — единственная возможность сохранить единство партии. Ленин имел гипнотическое влияние на Троцкого и был уверен, что Троцкий в конце концов признает его власть.
Троцкий строил свой громадный воздушный замок — мировую революцию. В пределах России он хотел быть вторым. После Ленина. Но это в конечном счете означало: вместе с Лениным, Но даже Ленин не смог бы перетянуть Троцкого на свою сторону, если бы тому не стало очевидно предательство Украинской республики. Она подписала сепаратный мир со странами Четвертного союза, предпочтя немецкую оккупацию господству красных отрядов. Причем Украина объявила своими Курскую и Воронежскую губернии, а также область войска донского и Крым, отдан эти земли под защиту германского оружия.
Даже слабые тыловые немецкие части были боеспособней отрядов большевиков. В считанные дни Украина была оккупирована, а на Западе немецкие отряды двинулись из Прибалтики к Петрограду.
Достаточно было немецкого взвода, чтобы занять крупный город. Не имея фактически свободных войск — стоит представить себе, что означала для Германии оккупация громадной Украины и юга России, — принц Леопольд рассыпал несколько полков малыми ударными группами и кинул их вперед. Это была авантюра, которая могла удаться лишь ввиду полного развала русской армии. 18 февраля был занят Двинск, 19-го — Минск, 20-го — Полоцк, 21-го — Орша 24-го — Псков и Юрьев, 25-го — Ревель, Лишь в редких местах отдельные красные отряды оказывали сопротивление — Нарва держалась до 4 марта. 20 февраля Петроград был объявлен на военном положении — немцев ждали с минуты на минуту. Город полнился слухами — мало кто, если не считать большевиков, опасался немецкого вторжения. Даже самые квасные из патриотов готовы были увидеть на Невском проспекте немецкие пикельхельмы, только бы закончился кошмар большевистской власти.
Но в конечном счете прав был министр иностранных дел Германии Кюльман, прав был и Троцкий, хоть об этом впоследствии никто не хотел вспоминать. Германские отряды наступали лишь там и тогда когда им не оказывали никакого сопротивления.
И с каждым днем их продвижение замедлялось — Германии не хватало войск ни для наступления, ни для оккупации, ни для грабежа Украины. 20 февраля Центросовет рассматривал вопрос об эвакуации города, а на следующий день был создан штаб обороны Петрограда. Возглавил его Свердлов. Было объявлено о создании новой революционной армии и мобилизации всех буржуев на рытье окопов.
События этих дней еще более обострили раскол в партии. Левые коммунисты жили надеждой на то, что завтра вся Европа встанет на защиту России, но Европа молчала. Может, это случится послезавтра?
Ленин тоже считал часы.
Еще день-два, и Петроград может пасть. Ленин и его соратники много говорили о том, что они готовы отступать до Урала. Но Ленин отлично понимал, что отступать до Урала они будут без него. Он перестал быть непререкаемым авторитетом для ЦК, завтра партия его сбросит. 23 февраля Германия прислала новый ультиматум: очистить всю Украину и Финляндию, не говоря уж о занятых немцами территориях. Это был к тому же блеф, германская армия уже выдохлась. Но она еще наступала и могла пугать.
Ленин заявил, что, если германские условия не будут приняты, он уйдет в отставку.
Троцкий выступил после Ленина и, вернее всего, по соглашению с ним, заявил, что он остается на старых позициях, но голосовать за войну не будет. Сталин высказался Туманно:
«Договор не подписывать, а вести мирные переговоры». Дзержинский и Йоффе выступили против Ленина, но не стали голосовать за войну, чтобы не расколоть партию.
В тот день Ленин снова победил. После этого Троцкий подал в отставку с поста наркоминдел, за ним подали в отставку еще пять наркомов. Зиновьев просил Троцкого остаться, чтобы не сорвать подписание мирного договора. Сталин попросил слова и, обращаясь к Троцкому, сказал, что испытывает боль по отношению к товарищам, которые уходят со своих постов, потому что их некем заменить. Троцкий смягчился.
Ленин молчал — он выиграл главный бой.
На следующую ночь в Брест отправилась делегация во главе с Йоффе. Троцкий на позор не поехал.
Ленин не спал всю ночь, а на следующий день все время бегал к телеграфному аппарату узнать, как движется поезд с делегацией. Поезду пришлось простоять почти сутки под Псковом, потому ЧТО он не мог пересечь линию фронта. Ленин бомбардировал поезд телеграммами, выговаривая за медлительность. Ему чудилась измена. Он боялся, что немцы передумают и не подпишут договора. Но страхи его были напрасными. Немцы не двигались к столице — они с таким же нетерпением ждали русских. А Ленин этого не знал.
Мирный договор был подписан 3 марта. Подписали его с обеих сторон второстепенные персонажи. 6 марта собрался чрезвычайный съезд партии, чтобы ратифицировать мирный договор.
На съезде набралось всего лишь около ста делегатов, причем меньше половины с решающим голосом — ни о каком кворуме и речи не было, Ленин назвал договор передышкой и провозгласил его как спасение республики и революции. Его громили все и как могли. Бухарин открыто смеялся над «передышкой», которая нужна только немцам и которая приведет к срыву революции в Европе. Урицкий требовал отказаться от ратификации. Бубнов утверждал, что договор предательский удар по мировой революции. Радек назвал политику Ленина неприемлемой и невозможной.
Рязанов считал договор изменой по отношению к русскому пролетариату. Ленин пытался свалить вину за затяжку и неудачи на Троцкого, но тут же выступил Свердлов, который заявил, что это клевета и Троцкий точно выполнял все указания ЦК.
Ленин был недоволен Свердловым. В нем, а не слишком ярком Троцком, который не умел держаться за посты и почести, он вдруг почувствовал соперника. И это было странно даже самому Ленину, потому что не было более тихого, обходительного исполнительного канцеляриста, чем Свердлов. Но сегодня он показал Ленину когти. 11 марта началась эвакуация правительства и всех учреждений из Петрограда в центр России, в Москву. Это было объявлено временной мерой. Но в России нет ничего более постоянного, чем временная мера.
За два дня несколькими эшелонами под охраной латышских стрелков руководство партии и правительства переместилось в центр России.
В Германии, в надежде на украинское сало, началась подготовка к наступлению на западном фронте. К последнему и решающему!
В Берлине постепенно заглохли стачки, совет старост был разогнан, и сами рабочие старосты были отправлены на фронт. Либкнехт и Люксембург остались в тюрьме.
Ленин спас себя, Ленин отсрочил гибель кайзеровской Германии. Погубил ли он мировую революцию — вопрос открытый. Впрочем, надо признать, что основные поставки товаров и зерна шли с Украины, которую за полгода немцы и австрийцы умудрились основательно ограбить.
Глава 2
ФЕВРАЛЬ 1918 г.
Утром семнадцатого февраля, когда немецкие разъезды, ожидавшие, пока мимо Киева на восток проследуют чешские эшелоны, показались на окраине столицы, на четырех моторах к Владимирскому спуску промчалось правительство большевиков.
Во втором авто, вжавшись в сиденье, опустив на нос шляпку, таилась Евгения Бош, рядом крепко и нахально сидел военный комиссар, коренастый усатый Шахрай, скалился белыми без червоточины зубами и повторял:
— Мы вернемся, вернемся, мать вашу! Мы вернемся и покажем мать вашу!
Правительственный кортеж, если так можно сказать о беглецах, обгонял телеги, фуры, автобусы, шарабаны, груженные нужным добром, что вывозила армия и партийцы, которым негоже было оставаться при немцах. У моста машины обстреляли, охрана из заднего мотора открыла огонь по засаде, в перестрелке ранило Скрыпника, но не сильно, в плечо. Это было боевым крещением.
За Днепром Евгения Бош ожила, выпрямилась, стала смотреть по сторонам, а когда Дарница осталась позади и машины запрыгали по мерзлой грязи разбитого тракта, она затеяла громкий спор с Шахраем о тактике большевиков на текущий момент. Бош склонялась к позиции левых большевиков: «Революционная война с Германией, которая неизбежно перерастет в мировую революцию». В Броварах правительство ожидал специальный поезд.
Доктор Вальде пошел провожать Берестовых на вокзал.
Андрей просил его не ходить, опасно, но Вальде только отмахивался. Если девочке не опасно, почему должно быть опасно старому тюфяку? Вальде сам отыскал извозчика и помог одеть и свести вниз Лидочку. День был холодный и сырой, а Лидочка еще слаба — Вальде опасался возвратной пневмонии.
Но на вокзале Лидочка была предоставлена самой себе, потому что Андрей тащил чемодан, а доктор Вальде мешок с провизией — говорили, что в Москве голодно, продукты выдают по карточкам.
Когда они проталкивались на перрон, доктор тоскливо предсказывал:
— Вот увидите, увидите, что они продали кому-то еще билеты на ваши места.
Поторопитесь, господа, единственная наша надежда — успеть первыми и выставить острые коленки.
Поезд еще не подали, но перрон был набит народом. Среди тысяч людей не было никого с пустыми руками, и потому передвигаться в толпе было немыслимо, и тем не менее все передвигались. Толпа находилась в движении, так как люди стремились заранее занять места у входа в свой вагон. Но каков будет порядок вагонов в поезде, никто не знал, по перрону непрестанно проносились слухи, и тогда, подхватив тюки и чемоданы, пассажиры устремлялись вдоль перрона, чаще всего навстречу таким же, как они, бедолагам, поддавшимся другому слуху.
Железнодорожники показали себя изысканными садистами и в одно мгновение лишили смысла всю беготню, так как состав был подан на четвертый путь, и вся гигантская толпа, давя детей и стариков, рванулась на пути, под вагоны товарного поезда, мирно стоявшего на третьем пути, отрезав дорогу к цели.
Доктор Вальде велел Андрею бежать вперед, оставив вещи, и постараться занять купе, благо он молод и скор. Андрей подчинился, но его усилия чуть было не пошли прахом, потому что дверь в вагон была заперта, и проводник не намеревался показываться буйной толпе.
Дверь отворилась, когда Вальде с Лидочкой, запыхавшись, влились в небольшую, но тесную толпу, что бушевала у мягкого вагона. В проеме, как на сцене провинциального театра, появился главный герой проводник: небритый рыжий тип с пышными нечесаными бакенбардами. Почему-то он сначала, не боясь простудиться, красуясь, почесал живот под распахнутой путейской тужуркой, а затем, словно не слыша народного возмущения, откинул железную приступку, чтобы открыть ступеньки, ведущие в вагон. Вид его был столь строг, что толпа, рванувшаяся было в вагон, замерла, ожидая дозволения.
— Попрошу билеты, сволота, — мирно сказал проводник. — У меня мягкий вагон, а не теплушка. Без билета никто не войдет.
Еще вчера он был послушным и терпеливым лакеем, не смевшим высказать грубость даже самому смирному из пассажиров. Теперь он — распределитель счастья, а то и жизни людей, для которых поезд из средства путешествовать из города в город превратился в спасательную шлюпку тонущего «Титаника».
Андрей сделал движение вперед — словно дело происходило в мирное время — и протянул проводнику билеты, и тот, благоволя к Андрею за то, что тот согласен выполнять правила игры, развернул билеты, прочел то, что положено прочитывать проводнику, и, возвратив их Андрею, произнес:
— Купе четыре. Я потом зайду, если чаю принести.
Проводник издевался над толпой и этими словами как бы превысил свои полномочия — сдержанный гул сопротивления разразился криками, и Андрею пришлось тащить Лидочку наверх — проводник помогал ему, отбиваясь от толпы. Все обошлось — повезло, что они были первыми, и даже чемодан и мешок пронесли в купе без помех.
Купе поразило бывшим великолепием и нынешним упадком, Андрею с Лидой еще не приходилось ездить в мягком вагоне — не только из-за дороговизны, но и потому, что в их кругу это не было принято. Так что для них увиденное было в новинку. Купе оказалось просторным, как настоящая комната. Его стены были обтянуты бежевым атласом с выдавленным на нем узором в стиле модерн, а кресло и оба дивана были обтянуты рыжим бархатом. На стенах красовались овальные зеркала, а на откидном столике возвышалась лампа на бронзовой витой ноге. Но… атлас стен был в пятнах различного размера, формы и оттенка, скорее всего на стены плескали супом, вином и жидкой кашей с одной стенки атлас пытались срезать, правда, похитителям удалось лишь исполосовать материю. Зато с диванами и креслом им повезло куда больше — так что железнодорожникам пришлось накладывать на мебель заплаты из желтого сатина. Одно из овальных зеркал было разбито, второе только треснуло, абажур лампы пропал, и из патрона торчала оплывшая свеча. Пол был сырым и затоптанным так, словно по нему прошагал выходивший из Пинских болот полк солдат. Но главное из худшего заключалось в том, что в купе было подвально, безнадежно холодно, как в помещении, не топленном уже много дней, отчего в воздухе законсервировались и сохранились отвратительные запахи папиросных окурков и пьяной изжоги.
Но в тот момент Берестовы были счастливы тем, что проникли в поезд, и потому склонны либерально относиться к неудобствам быта. Зная заранее, что лишь один из диванов принадлежит им, Андрей убрал в багажную сетку мешок с продуктами и поставил чемодан за диван. Лидочка подошла к окну, за которым, отступя от почти не поредевшей толпы, ожидал доктор Вальде, Увидев в окне Лидочку, толстый доктор обрадовался и стал, припрыгивая, писать пальцем в воздухе какие-то непонятные каракули, а Лидочка кивала, соглашаясь с ним, и догадывалась, что таким образом он просит ее не забывать писать письма, а сам обещает также сообщать обо всем из Киева.
За спиной Лидочки взвизгнула, отъезжая, дверь.
В купе один за другим протиснулись два человека.
Первым вошел сухой энергичный усач с пышным чубом из-под солдатской папахи, в солдатской же шинели и скрипучих офицерских сапогах на высоких каблуках, чтобы прибавить роста. Он был офицером бравым и гордым, хоть и старался безнадежно выдать себя за солдатика. Весь багаж поручика, как про себя назвала его Лидочка, состоял из потертого баула.
— До Москвы? — спросил усач, прошел к свободному дивану и поднялся на цыпочки, чтобы положить баул на багажную сетку.
Следом за ним появился среднего роста, красивый, весьма пожилой человек с аккуратно подстриженной волнистой седой бородой, крупным, с горбинкой, носом и живыми карими глазами. Этот господин втащил немалого размера тяжелый чемодан рыжей кожи, обтянутый ремнями, — и странно было, как же он может путешествовать среди грабителей и воров, не опасаясь демонстрировать свое благополучие. А благополучие старика не ограничивалось чемоданом. Его черная шуба была подбита мехом, а шапка была бобровой. По мнению Лидочки, старик должен был заговорить вальяжно, картинно, адвокатски, наверное, он — присяжный поверенный.
Андрей вскочил, чтобы помочь старику устроить свой чемодан, а старик заговорил со смешным украинско-еврейским акцентом, стараясь объяснить будущим попутчикам, что у него есть билет в мягкий вагон и за все заплачено, и он не будет им обузой или помехой. Усач сначала сделал вид, что весь диван принадлежит ему, но за старика вступилась Лидочка. Усач сдался и освободил для старика половину желтого дивана.
Затем они все вместе втолкнули стариковский чемодан на багажную полку, и усач спросил:
— Вы там возите кирпичи или только сало?
— Там все есть, — сдержанно ответил старик. Усач ему не нравился, но старик был с ним подчеркнуто любезен, как христианин в клетке со львом.
Лидочка подошла к окну и выглянула наружу. Перрон был все так же заполнен подвижной толпой — над головами, покачиваясь, как в шторм, плыли чемоданы, тюки и корзины, словно выдавленные наверх тестом толпы. Сквозь толстое стекло гул толпы доносился приглушенно и невнятно.
Одноглазый мужчина в съехавшей на ухо шляпе встретил взгляд Лидочки и поднял вверх руку в митенке, показывая, что Лидочка должна опустить стекло и впустить человека в купе. Лидочке стало страшно от настойчивости взгляда и ярости человека, она отступила в глубь купе и закрыла занавеску. В дверь постучали, усач сказал:
— Не открывайте, у нас билеты!
Стучали и в окно — Лидочке показалось, что это одноглазый достал до стекла и молотит по нему, надеясь разбить.
— Скорее бы уж поехали, — сказала Лидочка.
— Что у нас с оружием? — спросил усач.
Ему никто не ответил. Оружия не было.
— Я вам так скажу, хлопчик, — заявил старик, — в наши дни лучше не иметь оружия, особенно если ты еврей. Так, может, и не убьют, а если с револьвером, то я вам обещаю, что загинете обязательно.
— Я не еврей, — сердито сообщил ему усач.
Дверь сотрясалась от ударов. Усач решительно подошел к ней и откинул задвижку.
Дверь сразу отлетела в сторону, и в проеме образовалась пьяная рожа — Лидочка успела лишь заметить, что в коридоре копошится влившаяся туда с улицы толпа, которая, как и положено жидкости, норовит затопить все еще свободные от человеческих тел и чемоданов места.
Андрей, увидев, как толпа рванулась в купе, постарался закрыть собой Лидочку, старик — почему-то Лидочка успела это заметить — сидел на диване, уронив руки на колени и закрыв глаза. Усач один сражался в дверях, кричал что-то угрожающее, Тыкал в рожи кулаком, и почему-то ему удалось вытолкнуть нападающих. Лидочка не сразу сообразила, что же произошло, — поезд наконец-то решился, дернулся, растянулся и сжался громадной гармошкой, свалил тех людей, что неустойчиво покачивались в коридоре, и перед дверью образовалась секундная пустота — ровно настолько, чтобы усач успел задвинуть дверь, забросить на место крюк и, обернувшись к остальным, произнести, перекрывая все растущий шум колес:
— Больше дверь не открывать. Пока все не успокоятся.
— Извиняйте, хлопчик, — тут же кинулся в спор старик, — а если человеку надо до ветру, то он должен терпеть?
— Вот именно! — радостно ответил усач. — И если сомневаетесь, то можете пойти погулять по коридору. Ха-ха-ха-ха-а-ха! — Он ухнул раскатистым смехом, как ухали, насытившись человеческой кровью, уэллсовские марсиане в «Войне миров».
А колеса поезда все чаще стучали о стыки рельсов, как будто это был самый обыкновенный поезд, и сейчас им принесут горячий душистый чай с печеньем или бубликами — и сахар будет в стеклянной глубокой сахарнице, колотый, словно мрамор.
Откуда-то снизу потянуло холодом — холод отгонял в сторону нагретый дыханием воздух, и с каждым содроганием вагона в нем раскрывались щели, и снаружи, из светлого морозного дня, в давно не топленый вагон забегал сердитый мороз.
Этот враг оказался куда более зловещим, чем коридорные люди, — впрочем, им там, в коридоре, было чуть теплее, так как они сидели, тесно прижавшись друг к другу.
Если они не дураки, подумала Лида, то они больше не будут рваться в купе, так как здесь хуже, чем в коридоре.
— Кильки ж нам, простите, ехать? — спросил старик. — Я, конечно, не возражаю, но паненка очень скоро отдадут богу душу.
Андрей раскрыл чемодан и достал оттуда толстые шерстяные носки для Лидочки, потом заставил ее натянуть его фуфайку. Лидочка отказывалась, но Андрей призвал на помощь остальных мужчин, объяснив им, что Лидочка попала в поезд прямо из больницы, где лежала с пневмонией.
Старик начал покачивать головой, как китайский болванчик, а потом попросил, чтобы усач подсадил его, раскрыл чемодан и достал оттуда шерстяную шаль — оказывается, старик вез эту шаль в подарок невестке, которая ожидала его в Петербурге. Старика звали Давид Леонтьевич, он был состоятельным арендатором в Херсонской губернии — на землях у него сидели евреи-землепашцы, потому он жил в достатке и дал образование детям. Недавно его жена померла, остался он один — дети разлетелись. Чуя, какие грозные времена наступают на юге, Давид Леонтьевич отправился через всю Украину и Россию в Петербург к старшему сыну, который служил по важному департаменту. Старик давно не видел внуков — вот решил, что переедет на север, будет заботиться о внуках, а сын подыщет ему хорошее место.
Старик рассказывал неторопливо, порой повторяя фразу, если ему казалось, что молодые люди или поручик его не поняли.
Поручик оказался сотником. Он так представился попутчикам:
— Сабанеев. Бывшего Уссурийского войска сотник.
Поезд тем временем пошел медленнее, он перебирался через длинный мост, который вел на левый берег Днепра — Днепр был покрыт льдом, на льду сидели редкие рыболовы, стерегли свои лунки, с островов ветром сдуло снег, и обнажился охристый песок. Закутанная Лидочка все равно мерзла. Она старалась удержать кашель, но ее более беспокоило то, что нос ее покраснел и даже распух из-за жгучего слезливого насморка.
Лидочке хотелось забиться в уголок, накрыться чем-нибудь и надышать под одеяло, как она делала в детстве, Но в купе не было одеял, и накрыться было нечем.
— Предлагаю немного обогреться, — сообщил сотник Сабанеев, — Вхожу в долю.
Он снял с багажной сетки свой баул, поставил на столик возле свечи, щелкнул замком и вытащил оттуда длинношеюю бутылку с мутной жидкостью — самогоном.
Поставил на столик.
— Золотая валюта, — сообщил он. — По степени влияния наравне с пулеметом системы «Максим. Согласны?
Никто с ним не спорил.
Сабанеев обратил свой взор к чемодану старика, но Давид Леонтьевич, угадав, конечно, смысл взгляда, поспешил с ответом:
— У меня в чемодане все упаковано, вы даже не представляете. А для того, чтобы в дороге поснидать, у меня торбочка.
Торбочка лежала в углу за диваном. Она была невелика и обвисла, словно пустая, но это было ложным впечатлением — на самом деле в торбочке было полбуханки хлеба и шмат розового сала с бурыми прожилками копченого мяса.
— Вот это правильно, — поощрил старика сотник. — Потому что нашей даме Лидочке нужна не только выпивка, но и пища — сытый организм не мерзнет и не страдает. Я вам как фронтовик это говорю.
— Мы сейчас, — сказал Андрей и, положив на диван чемодан, хотел его открыть, но спутники не велели, уверяя, что молодым людям их запасы пригодятся в Москве.
Берестовым надо устраиваться. И неизвестно, где и как, — об этом соседи по купе уже знали.
Все же Лидочка достала крымский лиловый лук и свежий хлеб — конечно же, Давид Леонтьевич и Сабанеев о хлебе забыли.
Сабанеев уговаривал Лидочку выпить сразу стакан самогона — у него был с собой специальный стакан, дорожный, серебряный, поменьше стеклянного, «Ох из него попито, ох и попито!» — почему-то сокрушался сотник. Давид Леонтьевич как человек непьющий не возражал, что Лидочке надо маленько выпить, стакан пить целиком не велел — та ты что ж, дитятко!
Лидочка так закоченела, что надеялась на самогон как на горькое лекарство — словно не замерзала, а мучилась головной болью.
Пили из одного стакана по очереди. Лидочка изумилась тому, какое жгучее, невкусное, вонючее лекарство ей досталось. Потом выпили по второму разу — Сабанеев настаивал, даже Давид Леонтьевич оскоромился, второй стаканчик выпил покорно.
Час простояли на каком-то пустынном разъезде. И тогда внизу за окном, мимо голых деревьев и проплешин серого снега проходили вооруженные винтовками солдаты в папахах с красными лентами наискосок. Некоторые люди из коридора, которым нечего было терять, вылезали из вагонов. Лидочка, выглядывая из-за занавески, видела, как согнутый мужичок с волосами, как у дьячка, собранными в косицу, держа в руке алюминиевый чайник, спрашивал у солдат о кипятке, а те гнали его обратно в вагон.
Сабанеев разлил еще по половинке стакана. Лидочка пить не смогла, только пригубила. Внутри нее уже было тепло и уютно — путешествие казалось совсем не таким страшным, как описывали его сестры милосердия в больнице. Завтра утром они уже будут в Москве.
Давид Леонтьевич стал рассказывать про свою семью. Он выбрал в слушатели Андрюшу.
Вытащил из пришитого изнутри к поле пальто кармана кожаный бумажник — в нем было несколько фотографий. Старик показывал их Андрею одну за другой и поименно перечислял родственников. После пятой фотографии Андрей уже знал в лицо всех трех детей Давида Леонтьевича, покойную его супругу, внучат и племянников.
— За освобождение нашей великой России от большевистской заразы! — поднял стакан Сабанеев. Как маленький человек, не имевший большого веса, в котором мог бы раствориться алкоголь, он быстро опьянел. — Всех на столбы, па-прашу!
Он залез в свой баул и достал оттуда револьвер. Стал делиться из него в окно.
Лидочке он стал неприятен, а старик сразу замолчал, стал собирать и спрятал семейные фотографии.
— Вот сейчас, — сказал Сабанеев. — Сейчас я им покажу!
Стало слышно, как на станцию въезжает состав. Состав был смешанный — Лидочка насчитала в центре три классных вагона, а остальные были теплушки и платформы.
На платформах стояли автомобили, и возле них, сжавшись в тулупах, замерзали часовые, Поезд замедлил движение, почти остановился.
Лидочка осталась у окна, забыв, что видна снаружи.
Солдаты с винтовками шли между составами, поглядывая на окна.
Начало мести, и снег струился между составами, там тянуло, как в трубе.
Напротив Лидочкиного окна оказалось окно мягкого вагона. У окна стояла женщина средних лет, худая, гладко причесанная, усталая и жестокая лицом. Как учительница чистописания, которая не любила детей и била их, если ты написал неправильную букву.
Женщина тоже увидела Лидочку и посмотрела на нее внимательно, как бы запоминая, чтобы потом наказать. Лидочка поняла, что знает эту женщину, видела ее недавно.
И через секунду вспомнила — это была начальница всех большевиков Евгения Богдановна Бош. Она совсем недавно проезжала в открытом моторе по Киеву, под окнами лечебницы, в которой томилась Лидочка. Мотор ехал медленно, за ним двигался броневик, и скакали кавалеристы. А теперь товарищ Бош тоже бежала из Киева.
Товарищ Бош оглянулась к кому-то, невидимому Лидочке, и ее губы зашевелились.
Холодный воздух ринулся у лица Лидочки — это сотник Сабанеев появился рядом.
— Ага! — воскликнул он радостно. — Кого я вижу! Госпожу большевичку номер один.
Ать-два — и не будет госпожи большевички.
Лидочка догадалась, что он хочет сделать.
— Нет! — закричала она, повернувшись к Сабанееву. Револьвер тяжело и тускло поблескивал в его руке. — Не смей!
Не думая о том, что это опасно, Лидочка ударила его по руке.
Андрей с опозданием в секунду кинулся на Сабанеева сзади, схватил за шею и потащил назад.
Громко звякнул, ударившись о пол, револьвер.
— Ай, какая беда, какая беда! — закричал старик.
Лидочка снова обратила взгляд к окну.
Товарищ Бош прижала лицо к стеклу, всматриваясь в глубину купе, будто стараясь увидеть в его темноте и глубине угрозу, — успела ли она увидеть Сабанеева?
А рядом с ней почему-то стояла Маргошка, старая подруга, Маргарита Потапова, веселая бесшабашная Маргошка.
Лидочка так обрадовалась неожиданной встрече с подругой, след которой давно уже потеряла, что замахала рукой, вовсе забыв о том, что происходит сзади.
В этот момент поезд, увозивший на восток товарища Евгению Бош и ее правительство, дернулся и начал набирать скорость. Поезд спешил к Харькову, большевики надеялись удержаться в Слободской Украине, опираясь на Донбасс, чтобы иметь базу, когда немцы уйдут. Тогда надо будет опередить очередную Украинскую Раду.
Сабанеев сидел на диване, тяжело дыша. Давид Леонтьевич нависал над ним, размахивая подобранным с пола револьвером.
— Хлопчик, — говорил он. — Вы, конечно, вольная птаха и имеете право на смерть, Но здесь Лидочка с Андрюшей. Вы о них думали? Вы желаете их молодую жизнь погасить, как свечу?
Правительственный поезд разогнался, и мимо пролетали окна вагонов — потом пошли теплушки… Они смотрели на поезд зачарованно, вдруг забыв о скандале. Вот и конечные платформы. Одна с мешками с песком, вторая с корабельной пушкой длинной, задранной дулом почти к небу.
— Если они успели увидеть, — сказал Андрей, — то сообщат на ближайшую станцию.
Или даже на эту. Надо выкинуть ваш револьвер.
— И не надейтесь, студент! — вскинулся Сабанеев и рванулся, желая вырвать револьвер у Давида Леонтьевича. Но тот отступил на шаги поднял руку с револьвером. Так что Сабанеев, будучи пьян, промахнулся и не удержался на ногах.
Андрей подхватил его и снова посадил на диван.
— Я думаю, что они видели оружие — сказала Лидочка.
— Вы как хотите, — сказал Давид Леонтьевич. — Но считайте это купе как чумной барак. Я отсюда ухожу, чтобы остаться живой, потому что когда придут искать покусителя, то сразу арестуют старого еврея.
— У тебя сын большевик, — сказал Сабанеев.
— Конечно — согласился Давид Леонтьевич. — Он приедет ко мне на похороны и даже закажет венок из живых роз — вы не представляете, как они будут пахнуть!
— Дурак! — сказал Сабанеев. — Им оттуда ничего не увидеть — я же к окну не подходил.
— Подходили — возразила Лидочка. — И даже делились.
— И жалею, что не выстрелил, упрямо сказал сотник.
— Вы как желаете, — сказал Давид Леонтьевич, — а я ухожу.
Он двинулся к двери.
— А чемодан? — ехидно спросил протрезвевший сотник.
— Чемодан? Чемодан останется здесь, а я буду без чемодана, но живой, — ответил старик.
— Не надо! сказал сотник. — Я виноват, виноват! Я уйду. Я уйду и посижу в тамбуре. А вы меня не видели. Отдайте оружие, Давид Леонтьевич!
Старик посмотрел на Сабанеева, склонив голову, а затем, соглашаясь, произнес:
— Если все обойдется, то возвращайтесь часа через два. А револьвер я советую вам, хлопчик, выкинуть.
— Это я решу.
Лидочка подумала, что правила хорошего тона велят ей отговаривать Сабанеева, оставить его в купе. Но она промолчала.
Сабанеев открыл свой баул, вытащил оттуда какие-то бумаги, сунул их под шинель, затем засунул револьвер в карман шинели — если у тебя револьвер, то нужно его носить так, чтобы можно при нужде его достать.
— Не поминайте лихом, — сказал он, подходя к двери.
— Может, обойдется? — неуверенно сказала Лидочка.
— Риск не нужен ни вам, ни мне, — многозначительно произнес Сабанеев, становясь выше ростом.
Поезд уже тронулся и медленно, толчками, наращивал скорость. Сабанеев открыл дверь в коридор, и Лидочка внутренне сжалась, ожидая, что оттуда внутрь хлынет толпа.
Но ведь прошло уже несколько часов с тех пор, как они покинули Киев, и люди кое-как притерлись, отыскали себе места в коридоре не хуже тех, кто таился в купе, — в коридоре было даже теплее, потому что люди там жили вплотную друг к другу.
Сабанеев постоял с минуту, глядя в обе стороны вдоль коридора, рассуждая внутренне, куда и как идти, потом сказал, не оборачиваясь:
— Заприте дверь. — И добавил шепотом: — Стукну три раза.
Дверь снова закрыли, Андрей и Лидочка устроились на своем диване и накрылись всем, что у них было. Напротив на диване сидел Давид Леонтьевич, накрывшись шалью, как талесом, он покачивался, клевал носом в такт тряске вагона и как будто дремал.
— Что же делать, деточки, — сказал он вдруг. — Я же через Херсонщину шел. Ну ладно, меня с рук на руки верные люди передавали, но я же видел, что такое паи Нестор Махно с чоловиками вытворяет. Какой душегуб и изверг…
Лидочка сидела, прижавшись к Андрею, закутавшись в его тепло, и старалась не слушать старика, который рассказывал о каком-то атамане батьке Махно, видно, особом садисте, грабившем еврейских арендаторов и немецких колонистов. Этот батько имел приближенных анархистов, черное знамя и собственные деньги…
Батько Махно был далеко, а Лидочка прислушивалась — нет ли шума в коридоре, не идут ли к ним солдаты с ружьями, которые будут искать сотника, что делился в саму Евгению Бош и Маргариту Потапову, почему-то оказавшуюся рядом с ней в правительственном поезде большевиков.
— Вы бывали в Яновке? — спросил Давид Леонтьевич. — То ж гарно место, колония Громоклей. И какие там соловьи поют, вы не представляете. Моя покойная супруга Анна, — продолжал Давид Леонтьевич, — всегда мне говорила, Давид…
В голове шумело и Лидочка задремала — она была пьяна. Заснуть глубоко она не смогла — все время одному боку было холодно, она крутилась, мешала Андрею, тот ее терпеливо баюкал.
Во сне Лидочка не услышала, как вернулся Сабанеев и стал говорить, что ему надо было бы выстрелить. Все большевики продались немцам, и сейчас они в Брест-Литовске окончательно продают родину за тридцать сребреников. Вот скоро в Киев войдут тевтонцы…
Лидочка проснулась, когда заговорил Андрей. Он стал спорить с замерзшим Сабанеевым, который налил себе полный стакан самогона и забыл уже, в чем винил большевиков и евреев. Главное, утверждал он, ссылаясь на неизвестного остальным Петра Николаевича, впустить на Украину германцев. Как это ни неприятно — нашествие тараканов можно остановить временным потопом. Придут немцы и уничтожат большевистскую заразу, а потом немцы уйдут, потому что мы их выгоним, но уже не будет и большевиков. Андрюша обвинил Сабанеева в том, что он сам рассуждает как большевик, и Сабанеев обиделся. Он стал нести что-то о ликвидации украинского национализма с помощью немецкой военной машины — ведь надо быть хитрым, как змеи, и использовать одних врагов против других. Этим всегда была сильна Русь. Лидочка старалась вспомнить, каких врагов Русь натравливала на других врагов, но спящая голова отказывалась искать виноватых.
Когда Лидочка открыла глаза, в купе было почти совсем темно — значит она проспала долго, — может, они приближаются к Северному полюсу? А на северном полюсе царит вечная ночь… Она замерзла, и Андрюша уже не согревал — видно, и сам растерял тепло.
— Россия любит крепкую руку! — услышала она монотонный, но визгливый голос Сабанеева. — Тевтонец придет, выпорет кого надо, повесит смутьянов, вы меня понимаете?
В полутьме Давид Леонтьевич, который сидел на диване рядом с Сабанеевым, казался заснувшей птицей с картинки Бёклина.
Он зашевелился, просыпаясь, и вдруг вполне спокойно и трезво, будто и не спал вовсе, произнес:
— Вы глубоко ошибаетесь, господин сотник. Или большевики — немецкие шпионы и потому отдают им Россию, либо вы со своим Петром Николаевичем — немецкие шпионы, потому что зовете их на Украину.
— А вы бы помолчали! — обиделся Сабанеев. — Вам, евреям, все равно — у вас нет родины, ваша родина — где платят побольше.
— Не надо меня оскорблять, господин сотник, — сказал Давид Леонтьевич. — Мы уже сто лет как пашем землю в этих краях.
— Ах, я не о вас! В каждом племени есть исключения.
— Нет о нас! Еще как о нас. Потому что я тоже имею политические воззрения. Я стою за мир без аннексий и контрибуций, как говорит господин Ленин. Мы, евреи, очень утомились от аннексий и контрибуций.
— Это позорный мир!
— Мир, — ответил старик, и в темноте его борода как будто чуть светилась серебром, — не бывает позорным. Мир — это когда люди живут сколько им положено и делают хлеб.
— Лучше смерть, чем мир с гуннами! — спорил Сабанеев. Он курил, и когда затягивался, из темноты выплывали его глаза, нос и усы.
Зачем же тогда ваш Петр Николаевич так хочет с ними замириться?
— Не замириться, голова седая, а использовать их в своих интересах. Ради освобождения России от большевиков.
— А если Ленин хочет их использовать для своего дела, то кто же предатель?
— Вот именно! — почему-то обрадовался Сабанеев, будто отыскал неотразимый аргумент. — У Петра Николаевича цель благородная. Понимаете — благородная!
Возвышенная! Ау этих жидовских сволочей — подлая! Они же хотят Россию продать вот какая цель. Да я бы всех перевешал собственными руками!
Сабанеев зафыркал носом. Лидочка скорее угадала, чем увидела, как он растирает носком сапога окурок.
— Не дай бог, господин сотник, — оставил за собой последнее слово Давид Леонтьевич. — Не дай бог вам заняться таким нехорошим делом!
Сабанеев не ответил.
И сразу стало слышно, как стучат колеса, вноси трезвость и успокоение в промозглый и страшный мир, таящийся за окнами, за дверью и даже проникший внутрь купе.
И Лидочка задремала вновь.
Несколько раз за ночь поезд останавливался, один раз он стоял долго Андрей просыпался и видел за окном все тот же тусклый желтый фонарь. Потом поезд начинал дергаться, никак не мог оторвать колеса, примерзшие к рельсам, все же отрывал их и начинал с трудом проворачивать и все быстрее разгоняться, пока стук колес не становился ровным, мирным и убаюкивающим.
И тут Андрей проснулся от страха.
Он знал, что страшно, хотя еще ничего не понимал.
То ли чувство страха родилось оттого, что поезд затормозил резче, чем обычно, — словно натолкнулся на стену и безуспешно старался продавить ее грудью. То ли крики снаружи — из холода начинавшегося рассвета были более враждебными и резкими, чем раньше.
Но Андрей не пошевелился. Он чувствовал грудью и животом, как дышит, как спит, пригревшись, Лидочка.
Поезд дернулся словно из последних сил. Прополз еще с аршин и замер.
Паровоз выпустил дух.
Сразу стало очень тихо, И Андрей, все еще не осознавая причины страха, подумал, что, может быть, поезд остановился в поле, где никого нет, чтобы починить что-то или загрузить уголь… Такие мысли рождаются только во сне.
И чтобы разрушить иллюзии — тут же обвалом, нахально обрушились звуки рассветной замороженной станции.
Голоса перекатывались, стучали словами, пели фразами, слышен был звон, треск, стук — будто неподалеку работала мастерская.
Послышался близкий скрежет, и Андрей догадался, что открылась примерзшая дверь в вагон.
А голоса скопились возле нее, они еще были невнятны и неразличимы, но Андрей уже понял, отчего ему страшно: от понимания того, что вагон с этой секунды перестал быть убежищем. И их купе, запертое, — на самом деле лишь частичка холодного мира, выделенная из него тонкими фанерными перегородками — ударь посильнее прикладом, и эти перегородки разлетятся. Убежища не существовало. Это был обман, мышеловка.
Надо скорее бежать и скрыться с Лидочкой в лесу, в кустах, в каком-нибудь настоящем доме… Андрей не шевелился, застыв и колдуя: вот сейчас Некто пройдет мимо их купе и подумает: чего я тут не видел? Пойду дальше.
И в то же время он бормотал под нос:
— Это, наверное, пограничники, потому что должны же быть пограничники, когда мы приехали до России, как вы думаете, это пограничники и они проверяют документы, да?
Сабанеев протянул Андрею конверт — светлый, узкий — и сказал повелительно:
— Здесь ничего нет, кроме личного письма. Если со мной что-то случится, отнесите.
Это моя мама. Вы поняли? Это моя мама!
— Почему вы тогда отдаете? — спросила Лидочка, оправляя пальто.
— Я не отдаю. Это лежит здесь, — сказал зло Сабанеев. Он кинул конверт на багажную полку, к стенке, с глаз долой. — Если эти сволочи что-нибудь со мной сделают, вы отнесете, ясно?
Он хотел было продолжить, но ему было неудобно — старик притиснул его к столику.
И тут дверь дернулась — кто-то сильно ударил по ней.
— А ну! — закричали оттуда весело и громко. — Чего заперлись? Открывай, мировая буржуазия!
— Я же говорил, — сказал старик, спеша открыть дверь. — Я же говорил.
Дверь открылась, и солдат в серой папахе, с наганом, ввалился в купе и втолкнул глубже Давида Леонтьевича.
А тот, как бы произнося заготовленную фразу, протягивал солдату свой бумажник и громко говорил:
— У меня есть все документы, господин пограничник, — можете убедиться. Все документы в порядке.
В дверях появился фонарь летучая мышь». Он покачивался наверху, на вытянутой руке. Андрею хотелось выглянуть наружу и понять, что же происходит в коридоре и как этим людям удалось столь быстро пробиться к их купе, преодолев завалы из мешков и чемоданов.
Из коридора доносились нестройные звуки, скорее не крики, а вой, прерывающийся трелями и хлюпаньем совсем звериным.
Еще одно лицо выдвинулось в пределы света фонаря. Это было тяжелое скуластое лицо с пятнистой розовой, обожженной кожей. Человек был в кожаной тужурке самокатчика и в кожаной же фуражке без кокарды.
Обожженный был деловит и напорист — он вырвал у солдата бумажник Давида Леонтьевича, короткие пальцы другой руки шевелились в воздухе, призывая остальных отдать документы.
Андрей вытащил документы — ненадежные, мятые — удостоверение сотрудника археологической экспедиции в Трапезунде студенческий билет, просроченный черт знает когда, бумажку — свидетельство о браке с гражданкой Иваницкой — и Лидочкин паспорт…
Обожженный схватил тонкую стопку бумаг, переложил в другую руку, и требовательные пальцы угрожающе потянулись вперед.
И тут Сабанеев не выдержал.
Оказывается, он не выбросил свой револьвер. Впрочем, и наивно было бы полагать, что он расстанется с оружием.
А сейчас — от страха ли, от смелости, от отчаяния или трезвого расчета — он вытащил сзади — из-за себя — револьвер и закричал:
— Назад, суки! Стреляю!
Андрей отпрянул, хоть и стоял сбоку, — спиной начал теснить Лидочку в угол купе.
Что делал старик — Андрей не увидел, но обожженный ничуть не растерялся — словно ждал именно таких действий Сабанеева. В купе расстояния ничтожны, а людей там скопилось как сельдей в бочке. Сабанеев не мог даже толком повернуться.
Обожженный быстро и ловко ударил по руке Сабанеева снизу, револьвер негромко, но зловеще выстрелил, пуля пошла вверх, разбила верхний край зеркала. И вот уже солдат навалился на Сабанеева — мощной тушей старался задушить уничтожить сотника, и тот хрипло и визгливо взмолился оттуда, из-под ног:
— Пусти, помру!
— Веди его, — приказал солдату обожженный и, пока тот выволакивал из купе обессилевшего Сабанеева, деловито спросил: — Еще оружие имеется?
— Нет, вы же знаете, что нет, — сказал Андрей. И старик поддержал его.
— Мы люди-обыватели, — сказал он. — Этого бандюгу только-только разглядели.
— Пошел, пошел, — приказал обожженный старику, — там и разберемся.
— Как так пошел? У меня есть билет, господин начальник. И все документы в совершенном порядке.
— Пошел, говорю! — Обожженный сердито растирал правой рукой левую кисть — видно, повредил, ударив Сабанеева. — Где вещи?
— Но вы войдите в мое положение, — принялся ворковать Давид Леонтьевич — и Андрей к ужасу своему понял что все слова и уговоры — и даже подарки — обожженного человека ни к чему не приведут, потому что главной радостью для того было уничтожать людей, делать их ничтожными, вытаптывать из них сапогами человеческую сущность, потому что он — человек будущего, человек идущей к власти породы. Но ни объяснить, ни даже сформулировать для себя эти мысли Андрей не смог — да и некогда было: ему пришлось помогать старику стаскивать с полки чемодан — как же он таскал такой по всей Украине? А Лидочка принялась успокаивать старика, который почуял, что ему больше не вернуться в купе, и потому стал плакать и причитать что-то по-еврейски.
Обожженный приказал вернувшемуся солдату:
— Ты смотри, у него там, думаю, пулемет, не меньше! Чтобы ждать меня до полного осмотра!
— Так можно я здесь этим деточкам сальца оставлю? — обреченно спросил Давид Леонтьевич, показывая на Лиду и стараясь таким образом спасти хоть малую толику своего добра. Обожженный облил его таким потоком грязных слов, что старик скис и даже не смог попрощаться с Андреем и Лидочкой. Андрей попытался что-то по-петушиному прокричать обожженному — чтобы он не смел употреблять такие слова при женщине, а Лидочка тянула его за рукав и умоляла:
— Андрюша, помолчи, Андрюша, не надо!
— А вот с тобой разговор особый. — Радостно щерясь, обожженный словно уличил Андрея при допросе и теперь волен его казнить.
Свет фонаря в полную силу уперся в лицо Андрея.
Андрей зажмурился. Он ожидал удара, но удара не последовало. Солдат был занят выдворением из купе Давида Леонтьевича — он тянул чемодан, Давид Леонтьевич цеплялся за чемодан, будто понимал, что расстается с ним навсегда — стоит отпустить его ручку. В таком странном неловком тесном танце они медленно выползали из купе, освобождая пустое пространство, на котором слишком свободно расположились Андрей, Лидочка и обожженный — чем-то знакомый Андрею, как будто он знал его раньше, когда у обожженного были ресницы и кожа на лице.
— А вы чего ждете? — спросил он, когда после шумной паузы солдат и Давид Леонтьевич исчезли из тихой темноты купе, чтобы раствориться в шумной темноте коридора. — Давай выматывайся, сволочь буржуйская!
— Вы не имеете права! — звонко воскликнула Лидочка, не зная даже, что была изобретательницей этого возгласа, повторенного в тот же год миллионами людей, которым не положено было обладать правами.
— Вещи брать с собой! — приказал обожженный.
— Но почему вы нас сгоняете с поезда? спросила Лидочка. — Хоть объяснитесь!
— Вы все тут — Одна банда, — лениво сказал обожженный. — Одна банда. И револьвер у вас изъяли.
— У нас не было револьвера!
— А это что?
Обожженный навел блеснувший под неверным лучом фонаря револьвер на Лидочку, потом на Андрея, снова на Лидочку…
Андрей понимал — в купе им не вернуться. Спрятанный здесь пакет с бумагами Сергея Серафимовича и всеми их деньгами останется под диваном… Впрочем, о чем он думает? Ведь речь идет о жизни Лидочки! Если они найдут этот пакет у него или у нее в вещах — они никого не пощадят. Исписанная бумага — главный враг этих людей. Более всего они боятся исписанной бумаги!
— Живее! — произнес обожженный, негромко, словно не хотел, чтобы его слова доносились до тех, кто прислушивался из коридора. — Живее, а то до утра вас в расход пустить не успеем.
Андрей взял чемодан — он даже не мог оглянуться… Пропустил Лидочку вперед. Она отшатнулась от глаз обожженного — от красных голых век. Обожженный между тем поднял револьвер и направил на висок Андрея. То ли шутил, то ли пугал, то ли на самом деле хотел его убить — Андрей отшатнулся.
— Что вы делаете? — закричала Лидочка — она почувствовала опасность и обернулась.
— А ты иди, не оборачивайся…
Но тут же в коридоре возник новый источник голосов и шума — снова кто-то ругался, матерился, стонал, отбрехивался, — к купе приближались люди. И их появление заставило обожженного замереть с поднятым пистолетом — словно его удивил голос женщины, которая, покрикивая на тех, кто мешал ей, продвигалась по коридору.
Женщина эта возникла в проеме двери. Она была в длинной кавалерийской, но хорошо подогнанной по росту шинели, в заломленной папахе, из-под которой выбивались черные кудри. Она была яркой и смачной — это было понятно даже в сумраке купе.
Ее появление обожженному не понравилось — он принялся размахивать револьвером и велел женщине, которая стояла в дверях, мотать к черту, но та элегантно и весело отвела его руку с револьвером, словно обожженный предлагал ей ненужные цветы.
— Уходите отсюда! — сказала она ему — не крикнула, а сказала. И в этом шуме, криках, топоте ее голос прогремел по замершему вагону. — Вы меня слышите?
Обожженный в запале ничего не понял — он, как соловей, слышал только себя. Он попытался направить револьвер на женщину, и та сказала:
— Мне это надоело, товарищ.
И легонько ударила его по щеке тыльной стороной кисти, затянутой в черную кожаную перчатку.
Разумеется, зрители в деталях этой сцены не видели, Лидочке, стоявшей на шаг сзади Андрея, многое осталось непонятным в первую очередь — куда же делся обожженный. А было просто: женщина наклонилась, скользнула в купе, и на ее месте оказался матрос с золотыми буквами «Воля» по бескозырке.
— Я так беспокоилась, — воскликнула женщина, бросаясь к Лидочке, — я тебя увидела у окна и перепугалась: в Конотопе такие монстры окопались — ты не можешь представить!
Она обняла Лидочку и прижалась щекой к ее щеке.
Из коридора слышались возня, стон, крик боли.
— Ну, как ты, куда? Ой, Андрюша! Я тебя не узнала! Ты так повзрослел!
Маргошку Потапову нельзя было не узнать — все в ней было неповторимо: черные глаза, черные кудри, выбившиеся из-под папахи, негритянские алые губы и розовые, будто нарумяненные щеки и даже усики над верхней губой… Когда-то Коля Беккер называл ее Шемахинской царицей.
Отпустив Лидочку, Маргошка начала влажно и горячо целовать Андрея. Она искренне обрадовалась, увидев старых приятелей. От нее пахло дымом, одеколоном и перегаром.
— Я страшно интуитивная, — тараторила Марго. — Я Лидушу в окно увидела, у меня просто сердце оборвалось — это буквально волшебная сказка. Поезда несутся, я смотрю в окно… вдруг Евгения Богдановна мне говорит: черт знает что, даже здесь покушения! Отсюда ведь стреляли?
— Нет, Маргошка! — сказала Лидочка.
— Ты всегда была либералкой, — рассмеялась Маргошка. — А я всю ночь не спала — у нас совещание было, положение на фронтах тяжелое; дальше некуда, впрочем, вам это неинтересно. Встали в Конотопе. И тут я вижу — знакомый поезд! Я тут же накинула шинель, позвала Георгия — и в поход! И успела! Он бы вас всех в расход пустил. Христом-богом клянусь — хуже нет одичавших наполеончиков.
Маргарита заливисто расхохоталась.
На путях загудел паровоз.
— Ну вот, это за мной, — сказала Маргошка. — Нас отправляют зеленой улицей!
Правительственный.
— Ты в Киеве была? — спросила Лида.
Маргошка как будто не услышала ее.
— Вы будете в Москве? спросила она. — Или в Питере?
— В Москве, — сказал Андрей.
— Где в Москве?
Снова загудел паровоз.
— В университете!
— Я найду вас! — крикнула Маргошка и рванулась в коридор.
— Погоди. — Лидочка кинулась следом. — Там старик, Давид Леонтьевич. Он совершенно ни в чем ни виноват.
— Я отыщу вас! — крикнула Маргошка из коридора.
Андрей выглянул в окно — Маргошка спрыгнула из вагона и побежала по путям к другому поезду. За ней матрос с карабином в руке.
Еще не совсем рассвело, кисейная серая мгла скрывала очертания далеких предметов.
Состав, к которому бежали Маргошка и матрос, постепенно набирал скорость, и бегущие люди растворялись во мгле, и казалось уже, что поезд удаляется быстрее, чем они бегут. Андрей и Лидочка как завороженные приклеились к окну, словно смотрели на соревнования по бегу на коньках, переживая, успеет ли их подруга первой к финишу.
Маргошка поравнялась с группой людей — снятых с поезда; наверное, в ней было человек двадцать, все с вещами — но на этом расстоянии уже не разглядишь, кто там Давид Леонтьевич, а кто — Сабанеев.
Вдруг правительственный поезд дернулся, останавливаясь.
Маргошка и матрос добежали до последнего вагона и на секунду остановились, видно, совещаясь, забираться ли на концевую площадку, продуваемую морозным воздухом, или побежать дальше. Им навстречу бежали другие матросы и солдаты — и Андрей понял, что поезд остановился именно из-за них. Наверное, так приказала Евгения Богдановна, о которой говорила Маргошка.
Поезд снова двинулся, уполз, все ускоряя ход, и за ним обнаружилось невысокое каменное здание вокзала с надписью Конотоп» по фронтону.
На перроне перед вокзалом стояли различного рода темные фигуры, отсюда не разберешь — кто.
Андрею показалось, что он различает в толпе старика, перекошенного тяжестью чемодана и чуть отставшего от толпы. Солдат, остановившись, не зло подтолкнул его в спину прикладом, чтобы не задерживал остальных.
— Нам повезло, — сказала Лидочка. — Я так рада была увидеть Маргошку!
Андрей не знал, что ответить, — в сказочной сцене был элемент неловкости, словно они выплывали, потопив других. Это было неверно, но куда денешься от ощущения?
— Она красивая, правда? — спросила Лидочка.
Андрей обернулся к ней. Уже настолько рассвело, что видно было, какая Лидочка бледная.
— Он так надеялся, что здесь будет порядок и справедливость, — сказал Андрей. — Мир без аннексий и контрибуций.
Они говорили о старике и не говорили о Сабанееве, потому что его судьба была вне пределов обывательского понимания. Он был откровенным врагом тем людям, что вошли в поезд в Конотопе.
— Надо было сказать, что чемодан Давида Леонтьевича — наш, — сказала Лидочка. — Он бы вернулся сейчас и видит — чемодан здесь. А то у него в чемодане подарки внукам.
— Они бы нам не поверили, — ответил Андрей. — У такого старика обязательно должен быть чемодан.
Андрей взял ледяные руки Лидочки в свои ладони и стал тереть, согревая.
— Интересно, сколько мы простоим? — спросила Лидочка.
— В поезде вагонов десять, не меньше, — сказал Андрей. — Они же наверняка обыскивают все вагоны.
Он снова смотрел в окно. Постепенно рассветало, мгла рассеялась. Андрей увидел, как солдаты вели к станционному зданию еще группу людей — от другого вагона.
— Может быть, мне пойти поискать его? — спросил Андрей.
Лидочка страшно испугалась.
— Андрюшечка, миленький, — взмолилась она. — Не уходи, не бросай меня! Меня же убьют.
— Лида ты что?
— Не будь наивным. Ведь уже идет война, и без правил. Что было бы, не успей к нам Маргошка?
— Может, обошлось бы?
— Не говори глупостей. Мы бы шли сейчас вместе с ними.
Андрей больше не настаивал — Лидочка была права. Она не могла остаться в кажущейся безопасности вагона — ведь только что эта безопасность была разрушена в мгновение ока.
За окном уже совсем рассвело. Из голубого снег стал грязно-белым, На вытоптанном сером перроне у вокзального здания длинным погребальным курганом высились вещи — чемоданы, мешки, даже ящики. Вдоль них на некотором отдалении выстроились, перетаптываясь на морозе, владельцы вещей, отделенные от имущества несколькими солдатами.
Порой от толпы отделялся человек, подходил к вещам, вытаскивал оттуда свое добро и исчезал в здании вокзала. Третьим или четвертым Андрей угадал старика. Он уже не мог нести чемодан, чемодан тащил солдат.
Лидочка приоткрыла дверь в коридор. Народа там убавилось — можно было пройти в туалет. Люди сидели закутавшись, терпели, ждали, как стервятники. Никто не посмотрел в сторону Лидочки, Туалет был закрыт. Можно было побежать на станцию, как сказала женщина, кормившая грудью ребенка как раз у закрытой двери, но Лидочка не решилась. А другая женщина сказала, что можно пробраться под вагонами и все сделать с другой стороны. Когда Лидочка возвратилась в купе, Андрей все стоял у окна.
— Смотри! — сказал он.
Из вокзала вывели маленького человека в белой рубахе. Он мелко шагал, придерживая галифе.
— Сабанеев?
— Да, — ответил Андрей.
Сабанеева провели к боковой, глухой стене вокзала. Там он принялся ругаться со своими двумя конвоирами — он махал руками, дажё подпрыгивал, но конвоиры все теснили его к стене.
Пришел незнакомый человек и стал говорить, обращаясь то к Сабанееву, то к кучке людей — из местных, собравшихся там. И тут случилось совсем странное: Сабанеев отвернулся к стене, спустил галифе и помочился на стену. Зрители стояли и терпеливо ждали, пока он кончит. Потом Сабанеев подтянул галифе и снова обернулся к людям.
Люди по неслышному приказу отпрянули, толкаясь, подальше от стены, а вперед вышли три солдата с винтовками. Сабанеев стал кричать на солдат, но их начальник махнул рукой.
И только тогда Андрей понял, что он наблюдает за окончанием жизни очень здорового, молодого и даже веселого человека. И этот человек знает о неминуемой смерти и старается отсрочить ее, а зрителям интересно, как он умрет, — зрителям всегда интересен момент чужой смерти.
В ответ на крик начальника Сабанеев поднял руки — галифе тут же поехали вниз, Сабанеев подхватил их, и тут солдаты начали в него стрелять. И последние секунды своей жизни сотник старался все подтянуть галифе.
Когда Сабанеев упал, то он исчез из виду — за спинами сблизившихся солдат и зрителей, которые нагибались, будто случайно увидели упавшего человека и теперь собирались ему помочь, да не знали как.
Лидочка отвернулась от окна и спрятала лицо на груди Андрея, уткнулась носом в плечо. Ее било дрожью.
— Уедем? — шептала она, словно не обращаясь специально к Андрею, а разговаривая с собой. — Мы уедем, у нас есть портсигары — мы исчезнем, это же кончится, да?
— Это кончится, — сказал Андрей, — но я не знаю когда.
Там, у вокзала, начальник, видно, отдал приказ, и солдаты, закинув винтовки за спину, подняли тело Сабанеева. Его рубаха, только что белая, была вся в красных пятнах, и на снегу, где он лежал, тоже остались красные пятна. Солдаты понесли Сабанеева за угол вокзала.
— Но почему мы остаемся здесь? — спросила Лида. — Зачем?
— Ты лучше меня знаешь, — сказал Андрей. — Мы уже убегали с тобой. И разве стало лучше? Мы только стали еще более одинокими, чем прежде. А потом? Через десять лет? Мы останемся совсем одни в чужом мире?
— Но через десять лет в России будет хорошо, — сказала Лидочка, отодвигаясь от Андрея. — Все кончится. Все остальные состарятся только на десять лет — это не так много, правда?
— Это много, — сказал Андрей. Лидочка лукавила, она сама не верила в собственные слова.
— А мне никто и не нужен. Кроме тебя, мне никто не нужен.
— А мама?
— Ты не честен! — Лидочка сильно оттолкнула его — и еле успела упереться ладонью о стену, чтобы не упасть. — Ты говоришь нечестно!
Она села на диван.
В купе было пусто и очень просторно, как будто в доме, из которого ушли гости, что всю ночь веселились и танцевали, и вот теперь хозяевам надо убирать за ними и мыть посуду.
— Мы доберемся до Москвы, — говорил Андрей, положив руку на плечо Лидочки, — мы встретим Теодора. Устроимся, узнаем, решим, что делать дальше, — но не так, не в панике.
— Какая уж паника! — воскликнула Лидочка. — Они убили человека, которого мы с тобой уже знали. Тут он спал — ты видишь, что даже диван вдавлен от его тела!
— Да, — сказал Андрей, чтобы отвести в сторону мысли Лиды. — Совсем забыл: а где тот конверт?
Он протянул руку на верхнюю полку, но не достал. Пришлось встать на диван — сейчас он и не думал о приличиях. Наконец конверт нашелся. Он был в полосах пыли.
Белый заклеенный конверт, на нем лишь адрес: Сивцев Вражек, д. 18, кв. 6. И все.
Ни имени, ничего.
— Нашел? — спросила Лидочка, не поднимая головы.
— Мы отнесем, — сказал Андрей. — Как приедем, отнесем.
И эти слова сразу отрезали мысли о попытке убежать в будущее — словно моральные обязательства, взятые ими перед погибшим Сабанеевым, отменили право улететь в будущее.
Андрей извлек из-под дивана пакет с бумагами Сергея Серафимовича — странно, что лишь полчаса назад он был уверен, что никогда уже не возьмет его в руки. Пакет был тяжелым, тугим. Андрей стоял в неуверенности — не положить ли его пока обратно?
Лидочка догадалась и сказала:
— Вряд ли нас снова будут обыскивать.
— Не знаю, — ответил Андрей. — Наша с тобой покровительница как летающая богиня — примчалась, навела порядок, обидела местное начальство. И нет ее. Я бы на месте обожженного коменданта вернулся и показал нам, где раки зимуют.
Андрей говорил так, словно колдовал — он надеялся, что такого не случится, но высказать надежду вслух нельзя — не сбудется.
— Не надо, Андрюша, — устало ответила Лидочка. — Даже шутить так не надо. Положи его пока куда-нибудь подальше.
Андрей подчинился — сунул пакет и конверт Сабанеева в мягкую тугую щель между сиденьем и спинкой дивана. Потом подошел к окну.
За несколько минут, прошедших после смерти Сабанеева, утро вошло в силу, разогнало рассветные краски и рассветную тревогу — теперь это была обычная, шумная, бестолковая станция. Мимо станции протопал, попыхивая, маневровый паровозик, перед ним перебежал рельсы, чуть не угодив под колеса, мужичок в треухе с ведром, исходившим горячим паром, какие-то бабки с мешками по двое, по трое топали вдоль поезда и смотрели в окна, цыгане, несколько женщин с детьми и один мужчина с черной бородой, как петух во главе стаи, прошли рядом с вокзалом, как раз по красному снегу, и не заметили, что это человеческая кровь.
— Где наш Давид Леонтьевич? — спросила сзади Лидочка, как бы повторив мысль Андрея.
— Я думаю, надо сходить поискать его.
— Только вместе.
— Не надо, Лидочка, тебе лучше остаться здесь, Вещи нельзя оставить без присмотра.
— Но я не хочу, чтобы ты был один!
— Сейчас уже не так опасно.
— Почему ты так думаешь?
— Все, кому суждено было умереть, уже умерли. Мы теперь по ту сторону Стикса…
Я не шучу. Мы в советской России. Ее граждане.
Лидочка пожала плечами — она не поверила Андрею.
— Я далеко не буду отходить, — обещал он.
— Погляди на семафор, — сказала Лидочка. — Если он открыт, значит, в любой момент мы можем отправиться.
— Спасибо, — сказал Андрей. — Помни, ты на страже. Запрись и никому не открывай.
— И застегнись. Мороз на улице.
Но как только Андрей вышел из купе, Лидочка наклонилась к окну и прижала к нему нос.
Андрей вышел на площадку. Проводник стоял внизу и торговался с бабой, которая держала, принимая к груди, закутанный в шерстяной платок горшок с картошкой. И ему так захотелось есть — как никогда еще в жизни, — он почувствовал, что готов сейчас кинуться на бабку и отобрать горшок. Та, видно, почувствовала опасность, исходившую от Андрея, и испуганно взглянула наверх.
— Будешь брать? — спросил проводник. — Я лучше с голоду помру, чем полсотни платить буду, а у тебя жена молодая.
— Пятьдесят? — спросил Андрей и посмотрел вдоль поезда. Рука семафора с красным кругом вместо ладони была опущена. Андрей полез в карман пальто — там было только двадцать пять царскими.
Андрей стал искать дальше, а бабка смотрела на него, а проводник сказал:
— Ты что, старыми она и за червонец отдает.
— За червонец не отдам, а за четвертак бери.
Так что через минуту Андрей ворвался в купе — Лидочка испуганно вскочила — и высыпал прямо на столик вареную горячую картошку из котелка.
Чисти! — воскликнул он, а сам уже поспешил обратно, вернуть котелок.
Бабка схватила котелок, словно уж и не верила, что получит его обратно, а проводник сказал назидательно:
— А ты говорила, тетка!
— Сколько будем еще стоять? — спросил Андрей, снова взглянув на семафор.
— Пока стоим, — ответил туманно проводник.
— Я хотел сходить на вокзал. Там один человек.
— Не ходи, студент, — сказал проводник. — У тебя обошлось, не дразни судьбу.
— Вы меня не так поняли, — оказал Андрей. — Я знаю, что они расстреляли человека…
— Господи! — сказала бабка с пустым котелком. — И так каждый день, каждый божий день. Это все горелый, такой злой…
— Я хочу отыскать старика с седой бородой, — сказал Андрей. — Тоже из нашего купе.
— Отпустят его. Оберут и отпустят. Только не знаю, успеет ли он? — Проводник поглядел в сторону вокзала.
— Я быстро! — сказал Андрей. — Добегу.
— Беги, — согласился проводник. — Если что, я за твоей женой присмотрю, студент!
И он громко засмеялся вслед Андрею.
Андрей добежал до вокзала, никому он не был интересен и опасен.
Внутри вокзала было тесно, многолюдно и шумно. Андрей, уже имевший некоторый опыт в вокзальных зданиях революционной поры, остановился сбоку от входа, стараясь понять, где расположен центр паутины, управляющей этим людским массивом.
Но сделать этого не успел, потому что увидел Давида Леонтьевича.
Старик был раздет, расхлюстан, растоптан, разорен, из всего его добра осталась почему-то бобровая шапка — а вот вместо мехового пальто был рваный ватник.
Но старик склонился к содрогающейся от истеричных рыданий женщине в сером платке и в сером платье и, протягивая ей алюминиевую кружку, уговаривал:
— Пейте-пейте, это самое верное дело.
— Давид Леонтьевич! — крикнул Андрей, кидаясь к старику. — Ну что же вы! Поезд сейчас уйдет.
— Поезд? Какой поезд? Ах, конечно же! Но кто меня пустит? Они у меня все отобрали. Я теперь человек без документов и даже не имею фамилии… Ну как я вам докажу, что у меня есть фамилия?
— Прошу вас, успокойтесь!
— Но это же бандиты, как у батьки Махно. Я так им и сказал.
— Давид Леонтьевич!
— Слышу, слышу! Но я остаюсь и буду с ними спорить. Это не люди, а гайдамаки!
Женщина пила из кружки, и ее зубы громко стучали о край.
Я никуда не поеду без этой панночки, — совсем другим, куда более решительным тоном заявил вдруг старик. — Они ее уже ограбили, они ее били, они ее живой не оставят. Я буду ее охранять.
— А вещи? — спросил Андрей.
— Они все увезли и сказали: хотите — приезжайте, догоняйте. Только потом пеняйте на себя.
Загудел поезд.
— Это наш! — сказал Андрей. — Бежим!
— А как же она?
— Все бежим, все! — Андрей потянул женщину за руку, и она поднялась. Андрей потянул ее. Женщина тупо сопротивлялась. Но к счастью, Давид Леонтьевич уже пришел в себя и помог.
Поезд уже двинулся, и за ним бежали множество людей, кто с чайниками, кто с мешками. И словно понимая, что нельзя же причинять горе стольким людям, поезд долго полз еле-еле. Уже Андрей с ограбленными попутчиками догнал вагон, и проводник, семеня по путям, помог подсадить старика и женщину и даже поторговаться с Андреем, сколько он с него сдерет за новую пассажирку, уже Лидочка впустила всех в купе, а поезд еще полз по привокзальным путям.
А потом вдруг припустил, весело взревев, словно радовался, что все беды остались позади.
В купе было холодно — холоднее, чем на улице, но это уже не было трагедией.
Во-первых, стало светло. Во-вторых, была еще теплая картошка.
В-третьих, проводник принес большой чайник с кипятком, а когда Андрей, просто так, за хорошее настроение, дал ему сотенную, то проводник отыскал целую кипу казенных солдатских одеял. Так что все обитатели купе использовали добычу по собственному усмотрению — кто закутался, кто накрылся, кто накинул одеяло как плащ.
У Андрея с Лидой беды не было — все обошлось. И вещи целы, и руки на месте, и Лидочка даже не кашляла.
Старик был удручен и обижен.
Он провез чемодан с грузом для сына и внучат через всю Украину, сохранил от бандитов, но вот здесь, в России, где его сын был большим начальником, старика так обидно ограбили и еще били — там, на вокзале когда Давид Леонтьевич пытался объясниться.
— И эти люди охраняют нашу Россию? — спрашивал он у Андрея. — Когда я увижу моего сыночка, я скажу ему — да разгони ты этих байстрюков! Столбы по ним плачут!
— Ну вот, — сказала Лидочка, протягивая старику кружку с кипятком и кусок сахара из своих, набранных в больнице, запасов. — И вы туда же! Почему все хотят друг друга перевешать? Так никого и не останется.
— Они не заслуживают иной участи, — низким хриплым голосом произнесла новая пассажирка.
Лидочка никак не могла толком разглядеть ее — виной тому был низко надвинутый на лоб платок, который женщина носила подобно клобуку — так что наружу выдавался лишь острый кончик носа, — а глаза и рот оставались в тени.
— Сейчас я вам тоже налью, — сказала Лидочка. — У нас только одна кружка.
— Спасибо, я вовсе не замерзла.
Конечно же, женщина замерзла, даже кончик носа посинел, — но Лидочка понимала, что их новая спутница находится в отчаянном душевном состоянии и нуждается в утешении.
Прихлебывая кипяток и прихрустывая сахаром, Давид Леонтьевич подробно рассказывал о встрече с Дорой, словно был рад забыть свои собственные потери и унижения. Он заметил ее, когда пассажиров, снятых с поезда, гнали к вокзалу, и удивился тогда — зачем им бедная женщина, у нее всего небольшой чемоданчик. На вокзале, оказывается, всех задержанных по очереди вызывали в комнату начальника вокзала, где сидел тот, с обожженным лицом, и еще двое — как бы суд. Они выносили приговор. «И вы знаете, всем приговор был одинаковый! Конфискация имущества за попытку спекуляции! Вы не поверите! Как будто они сговорились!» А пальто и другие ценные вещи отбирались уже солдатами после приговора. Документы тоже никому не возвратили — так что некоторые побежали на поезд в надежде, что смогут воспользоваться добротой проводника, вернуться на свою полку, а другие сгинули неизвестно куда. Давид Леонтьевич пытался убедить обожженного, что его сын настоящий начальник, служит в Петрограде, но тот и слушать не захотел — выдал ему бумажку о конфискации нажитого нечестным путем имущества и велел идти.
Может, старик и выпросил бы у обожженного хотя бы бумажник с паспортом и адресом сына, но тут втолкнули Дору. Он тогда не знал, что это Дора, — увидел, как втолкнули молодую женщину и бьют ее, а она отбивается и оскорбляет мучителей словами. Давид Леонтьевич не выдержал и кинулся ей на помощь — даже забыл о своем бумажнике. Он понимал, конечно, что ему надо молчать и тихо уйти, но не сдержался — бывает. Так что солдаты накостыляли и ему. Вышли они с Дорой, сели в уголок и стали оба плакать, потому что не знали, куда теперь деваться. И слава те Господи, что прибежал Андрюша, буквально спас — до конца жизни, честное слово, до конца жизни буду благодарен! И сыну завещаю, и внукам!
— Давид Леонтьевич, не надо! — взмолился Андрей.
— А Сабанеева-то убили, — сказал Давид Леонтьевич. — Но сначала приговорили, он и признался в обладании оружием и в попытке акта, понимаете?
— Обратите внимание, — низким голосом проговорила Дора, — они никогда не идут на риск. Расстреливают втроем одного, потому что знают, что он не может ответить. А надо отвечать! На каждый удар надо отвечать ударом, вы меня понимаете?
— И это только приводит к новой смерти, — сказала Лидочка.
— Вы еще ребенок.
— Ты тоже не старая, — сказал Давид Леонтьевич, который ощущал свою ответственность за нового птенца в этом холодном гнезде. — Сколько тебе?
— Тысяча лет, — ответила женщина серьезно.
— Ну вот, паспорт отобрали, так что ничего тебе не докажешь, — сказал старик.
— Мне двадцать семь лет, — сказала женщина. — Двадцать семь — это много или мало?
— Это только начало.
— Это уже конец — я все видела, все прожила.
Как будто ей стало жарко, Дора откинула назад платок — у нее было суженное к подбородочку лицо, небольшой острый нос, чудесные синие глаза в очень минных черных ресницах и волосы ее, сейчас спутанные, нечесаные, видно, тоже были хороши — густые и блестящие, От маленького подбородка и остроты черт лицо казалось недобрым, лицом грызуна, но если ты встречался с рассеянным синим взором, то терялся — так ли зла и мелка эта женщина?
— Они мне разбили очки, — пожаловалась Дора.
Под глазами были темные пятна, словно она подкрасилась по новой моде. Но темнота лишь подчеркивала голубизну белков.
— Вы плохо видите? — спросил Андрей.
— Только очертания, даже заголовки в газетах не могу прочесть.
— Ничего, — постарался успокоить ее старик. — Будем сегодня в Москве, купим тебе новые очки.
— Теперь такие очки не достанешь.
— А ты московская? — спросил старик.
— Меня встретят, — сказала Дора. Из этого следовало, что она в Москве не живет, но и не хочет признаваться, откуда она. Впрочем, какое дело до того остальным?
Освободившуюся кружку Лидочка протянула Доре. Та, думая о другом, протянула руку, но промахнулась пальцами, и Лидочка с трудом успела ее подхватить. Хорошо, что вода уже немного остыла — никто не обжегся.
Дора взяла наконец кружку, и Андрей вложил ей в пальцы кусок сахара.
Дора принялась быстро, часто и мелко глотать воду, прикусывая сахаром, — и стала похожа на птичку или мышку.
Оказывается, она везла из Крыма от сестры продукты для себя и своих товарищей, а они могут не поверить в то, что чемодан конфисковали и будут недовольны.
— Вот уж товарищи! — удивилась Лидочка.
— У нас нелегкая жизнь, и надо делиться тем, что есть, — наставительно сказала Дора.
— И деньги отобрали? — спросил Давид Леонтьевич. Не отвечай, не отвечай, и без тебя знаю, что отобрали! Но мы как до Петрограда доедем, я моего сыночка Лейбу найду, он тебе поможет.
— Я же сказала, что меня будут встречать, — раздраженно откликнулась Дора.
— Замерзла, да? — спросил Давид Леонтьевич.
Как хорошо, что она есть, подумала Лидочка. Его мысли заняты ее бедами, иначе бы он извелся от своих потерь.
Но через какое-то время, когда Дора, отвернувшись к окну, накрылась с головой одеялом и как бы ушла из комнаты, старик осознал масштабы своей беды, и тогда уж Андрею и Лидочке досталось быть партером, когда на сцене играет такой трагик!
Беда и на самом деле была серьезнее, чем показалось в начале — дело заключалось не только в вещах и продуктах, не только в теплом пальто, — главное, что с бумажником старик утерял адрес сына. А так он его не помнил — знал, что его сын трудится в каком-то присутствии большим начальником. Присутствие находится в Петрограде, но все остальное было запечатлено на бумаге, которой уже не существует.
— Ничего страшного, — пытался успокоить старика Андрей. — Как доберетесь до Петрограда, пойдете в тамошний Совет и скажете имя вашего сына — и его найдут.
— Какое такое имя! — даже рассердился старик. — Разве Лейба — это имя, это все равно что слово «еврей».
— Ну тогда фамилию.
— Такая фамилия, как у нас, — сердито ответил старик, — валяется в Одессе на каждом шагу. Наша фамилия Бронштейн, а я сам знаю сто двадцать Бронштейнов, и из них половина мне даже не родственники. Мой сын Лейба Бронштейн, а знаете, что я вам скажу? Я скажу, что, на мой взгляд, у большевиков служат начальниками сто Лейбов Бронштейнов, а вы как думаете?
— И все-таки, может быть, вы ошиблись. И даже если у большевиков десять Бронштейнов, вы наверняка найдете своего сына.
— Может быть, и правда ваша, сыночек, — ответил Давид Леонтьевич, — но пока я даже не доехал до Петрограда и совсем не знаю, как это сделать, если у меня нет ни копейки.
— Мы постараемся вам помочь, — сказала Лидочка.
— И даже не говорите! — отмахнулся старик и погрузился в глубокое печальное раздумье о злой сути жизни.
— А обо мне не беспокойтесь, — непрошеной ответила Дора. — Меня встретят. У меня в Москве друзья.
Вторая ночь в поезде прошла не намного лучше первой. Правда, — одеяла, пожертвованные проводником, несколько скрашивали жизнь, но все равно — спать на морозе трудно, и ночью проснувшись от очередного толчка, когда поезд вновь замер на неизвестное время у неосвещенного разъезда, Андрей услышал, как Лидочка тихо сказала:
— Как я устала! Я никогда не думала, что можно устать от холода.
Андрей обнял Лидочку, постарался впитать ее в себя, обволочь ее, но не хватало рук и ног, все равно было холодно.
Дора Ройтман спала, обнявшись с Давидом Леонтьевичем — в том не было ничего личного, Дора могла бы так же спать с большим псом или медведем. Во сне она вдруг начинала говорить — но неразборчиво, что странно не сочеталось с внятностью непонятных слов.
Когда утром встали, вагон опять был набит, как при отъезде из Киева, дверь, хоть ее и заперли на ночь, была раскрыта, и как тесто, убежавшее из опары, в нее влились спящие люди, заполнившие пол купе, состоящий вроде бы не из людей, а из земляной массы. От этого не стало теплее или даже уютней — к счастью, новенькие не лезли на диваны, признавая право первой ночи за их обитателями.
Продрав глаза, Андрей обратился к окну, но окно за ночь заиндевело — видно, в центре России было холоднее, чем на Украине.
Конечно, воды никакой не было, и люди облегчались между вагонами, причем не всегда аккуратно — все замерзало, и проводник, который, конечно же, понимал, что ничего поделать не может, лишь матерился, когда еще одна дрожащая фигура выбиралась в тамбур. А туалет он не отпирал — там был склад, какой и чей — неизвестно.
Выделяя Андрея из числа пассажиров и понимая, что он единственный, кто ему платил и еще заплатит, проводник сообщил радостную весть — если ничего не случится, через час-второй — Москва.
Возвратившись по ворчащим и матерящимся телам в купе, Андрей увидел, что пейзаж там изменился — бугры и низменности приобрели форму человеческих голов и тел, пар от дыхания стал гуще, и главное — все находилось в медленном, как будто бы подводном движении. Старик и Дора сидели рядком под одеялами, подобрав ноги на диван, и смотрели на перемены в купе с каким-то ужасом, хотя, казалось бы, пора уже привыкнуть к творящимся вокруг чудесам. Андрей улыбнулся, потому что вдруг понял, на кого они похожи, — и сказал тихонько Лидочке:
— Княжна Тараканова во время наводнения!
— Полотно Флавицкого! — обрадовалась Лидочка. Она проснулась в том славном, здоровом молодом настроении, которое невозможно разрушить внешними причинами, ибо оно происходит от бодрых токов юного тела, от убеждения его в том, что вся жизнь еще только предстоит, — тоска по этому чувству порой посещает пожилых людей, тех, у которых хорошая память на свою молодость и отчаяние от того, как далеко она провалилась.
Дора сверкнула синими яростными глазами, отбросила одеяло и, оправив совсем уж смявшуюся юбку, пошла в коридор так, словно на баррикады.
— Она забавная, правда? спросила Лидочка.
— Трудно найти слово, которое подходило бы меньше, — возразил Андрей, и старик согласился с ним.
— У нее была очень тяжелая жизнь, — сказал он. — Я догадываюсь. Можете мне поверить.
В Москве Андрей должен был приехать по адресу — на Болотную площадь, там их будут ждать. Адрес был оставлен путешественником по реке времени паном Теодором.
Некоторая неловкость ситуации заключалась в том, что ждали там только двоих — его с Лидочкой. А что делать со стариком?
Андрей полез в карман, где лежал «прикосновенный запас. Денег было немного, но на извозчика хватит, даже если в Москве цены вдвое выше киевских.
Поезд замедлял ход, тащился еле-еле, словно истратил за последнюю ночь все силы.
Андрей продышал пятно в замерзшем окне. По сторонам дороги, близко к ней, подходили дачи, некоторые весело раскрашенные, но сейчас засыпанные снегом. Снег был свежим, чистым, сахарным, но Андрей отвернулся — внутренним взором вдруг увидел красный снег на вокзале в Конотопе.
Дору не встретили. И в этом не было ничего удивительного, потому что поезд из Киева вообще никто не встречал — он должен был прийти сутками раньше.
Вам есть куда идти? — спросил Андрей, надеясь что она ответит положительно.
— Идите, обо мне не думайте, — отрезала Дора. — Не помру.
Она все еще горбилась, как будто боялась, распрямившись, упустить тот пузырь теплого воздуха, что сохранился под одеялом, которым она закрылась с головой — как американский индеец. Одеяло купил Андрей — проводник даже взял за него немного, как за стакан кипятка. Дора отказывалась, а Давид Леонтьевич сказал:
— Я с Ондрием расплачусь. Ты не беспокойся.
Дора сразу забыла, кому обязана теплом.
— Может быть, вы запишете наш адрес? — спросила Лидочка. — Если будет плохо, всегда можете нас отыскать.
— Глупости! Почему мне должно быть плохо?
Сейчас многим плохо.
— Со мной лучше не связываться! — вдруг закричала Дора. — Я приношу несчастье.
Меня надо забыть!
Давид Леонтьевич сказал:
— Пошли с нами, доченька, замерзнешь ты здесь!
— Уходите, уходите, уходите! — как капризная девочка, настаивала Дора — вот-вот начнет топать ножкой.
Они пошли по опустевшему перрону вдоль холодного поезда. Идти было легко — багажа на всех один чемодан да мешок, Давид Леонтьевич набросил одеяло на плечи, подобно испанскому кабальеро. Ему было очень холодно.
— Две недели эту дуру таскал, — сказал он, имея в виду несчастный чемодан, — Лучше бы с самого начала в Громоклее оставил.
От паровоза Андрей обернулся. Дора все так же стояла, переступая с ноги на ногу, — неизвестно, чего она ждала. Ясно же было, что никто за ней не придет.
— Подождите меня в вокзале, — сказала Лидочка и побежала обратно.
Они не стали уходить, ждали, пока она приведет Дору, — неизвестно уж что за слова отыскала Лидочка, но Дора пришла. Она молчала и шла последней.
В Москве было холодно, холоднее, чем в Конотопе, мороз градусов десять по Цельсию, но внутри громадного, гулкого, еще новенького Брянского вокзала температура не ощущалась — он был мир сам по себе, холодный, студеный, но без ветра и без мороза. Даже запахи и вонь, столь обильные и наглые по всей России, здесь улетали куда-то под храмовый потолок.
Перед вокзалом на площади стояло несколько извозчиков в армяках и в особенных шляпах. Правда, они никому не были нужны — большей частью с поезда слезали либо свои, московские, знавшие, куда тащить свои мешки, а если иногородние, то не менее опытные, Справа от серой вокзальной громады в ряду питейных и обжорных заведений они увидели чайную, которая была уже открыта. Внутри было тепло, как в сказке, а виду посетителей половой не удивился, правда, попросил деньги вперед. Так что все отогрелись и были готовы к путешествию.
Извозчик, к которому они, разопрев и наевшись, подошли на площади, долго шевелил по красным щекам желтыми усами, глядя на кучку нищих в одеялах, потом тоже потребовал сотню вперед.
Андрей был готов к этому и опередил Дору, которая пожелала вцепиться в морду извозчика своими нечищеными ногтями. Он дал извозчику, сколько тот запросил, и извозчик сразу подобрел и даже видом стал не столь отвратителен. Пока пристраивали чемодан, он узнал, что они все ограблены большевиками, и совсем растрогался.
Извозчик поднял верх и повез на Болотную площадь. Дорога вела по узкому мосту через Москву-реку, потом вверх по откосу до Смоленской оттуда по узкому Арбату.
Седоки, хоть и сидели сгрудившись, снова замерзли. Но, конечно, не так, как в поезде. Они смотрели по сторонам, разговаривали, и будущее не казалось мрачным.
С неба сыпал мягкий снежок, потеплело. У Смоленского рынка всем купили дешевые шерстяные рукавицы.
— Жена Суворова завещала, — сказал Андрей — держать руки в тепле, а остальное в холоде.
— Жена Суворова была распутной женщиной, — ответила Дора, — он выгнал ее из дома.
— Нет, в самом деле? — удивился Давид Леонтьевич, — Графиню?
— Вот их и погнали, — сказал извозчик. — За распутство.
Видно, он имел в виду Октябрьскую революцию.
Арбат был оживлен. Мостовая на нем была не то чтобы очищена, но более уезжена, раза три встретились пролетки, мотор с поднятым верхом, в котором уместилось много людей в кожаных фуражках и папахах, магазины были большей частью закрыты, и окна их забиты досками или опущенными железными шторами, но доски, видно, отрывали, стекла били. На Арбатской площади, у рынка стоял трамвай. Он был пуст и без стекол.
— А что, трамвай не ходит? — крикнул Андрей извозчику.
— Иликтричества не дают — откликнулся тот. — К вечеру дадут — уедет.
Красная площадь произвела на Андрея неожиданно удручающее впечатление — в отличие от своих спутников он жил в Москве раньше и знал об отношении москвичей, независимо от их происхождения и положения, к этому святому месту. И вдруг, именно здесь, Андрей осознал всю неотвратимость и катастрофичность перемен.
Красная площадь, всегда выметенная и убранная, была теперь неровно, кое-где в сугробах, завалена снегом. В проезде Исторического музея Андрей попросил извозчика остановиться.
Тот взял правее, придерживая лошадь. Он не понял, чего нужно пассажиру, а может, и понял, но не хотел об этом говорить вслух, потому что при перемене власти и приходе к ней людей жестоких простые люди быстро научаются помалкивать и не только таить собственные мысли, но и отказываться от них.
Андрей пошел, проваливаясь в снегу, к башне, а остальные остались в пролетке и глядели ему вслед, словно он совершал какое-то неведомое им, но обязательное действо.
Андрей остановился, когда понял, что дальше не пройдешь — сугроб. Но и оттуда было видно, с каким остервенением стреляли по лику Николая Угодника — один из ангелов, поддерживавших икону, упал, второй был в нескольких местах прострелен, сень над иконой держалась на одном гвозде и, как пьяная кепка, прикрывала наискосок верхний угол иконы, Сама икона хоть со времени расстрела прошло уже два или три месяца, была покрыта пылью и грязью, и лишь глаза пробивались сквозь пелену, всматриваясь в площадь, но во лбу и щеках святого были дырки от пуль.
Андрей посмотрел вдоль проезда. И тогда он увидел сугробы, а дальше — Спасскую башню.
— Поезжайте, — сказал Андрей. Извозчик послушно тронул лошадей, Андрей пошел по площади скорее, чтобы согреться. У братских могил стояли зеваки. Спасская башня также была расстреляна, но на ней главной целью большевиков оказались ее знаменитые гигантские часы — сотни пуль вонзились в их циферблат. Большое неровное черное отверстие в центре циферблата показывало, куда угодил снаряд.
Подняв голову, Андрей увидел, что золотая глава колокольни Ивана Великого также пробита снарядом, — и ясно ему стало, что стреляли из озорства, из ненависти к чистому и святому, потому что не было и не могло быть военной цели в том, чтобы разбить часы на Спасской башне, убить икону на Никольской, сбить главу с Ивана Великого и расколотить купола великого Успенского собора.
Вдоль стены из снежных завалов виднелись части венков — там располагались братские могилы революционеров.
Андрей оглянулся — пролетка с его спутниками стояла за спиной. Андрею стало стыдно — он понял, что они замерзли.
— Простите, — сказал он. — Мне непонятно, откуда эта злоба, кто мог это сделать — ведь это не война?
— Сейчас вы скажете, что это делали евреи, — прохрипел из-под одеяла Давид Леонтьевич. — А я вам скажу, что вы брешете.
— Русскую церковь ненавидят более всего самые темные и религиозные низы русского народа, — вдруг заговорила Дора. — Только уничтожив доброту в России, они могут пробиться к власти.
Андрей уже готов был сесть в пролетку, как услышал неуверенный голос, словно окликавший его человек находился с ним в одной комнате и потому не напрягал связок.
Андрей обернулся и сразу пошел к тому человеку, потому что его охватила глубокая хорошая радость: человека не было, он умер, он ушел из жизни Андрея — а вот вернулся.
— Андрей, — сказал Россинский, палеограф, с которым он был в экспедиции в Трапезунде, — Андрей, я так рад тебя увидеть. Я думал, что ты в Крыму.
— Как же вы выбрались? — спросил Андрей. — Мы долго были в Батуме.
— Меня подобрала рыбачья шаланда, а она шла в Поти, — ответил Россинский. — А оттуда я уехал в Петроград. Я не знал, где все, ничего не знал и был огорчен. Ты представляешь, все мои протирки погибли?
Россинский вовсе не изменился — он был субтилен, почти бесплотен, в темной бородке появились седые волосы, и виски поседели.
— А я теперь тружусь в музее, в Историческом музее, сказал Россинский. — Знаешь, кто заведует у нас нумизматическим кабинетом? Никогда не догадаешься — мадам Авдеева!
— А я взял на «Измаиле» твою тетрадь, — вспомнил Андрей.
— Быть не может! Где она?
— Я ее в Симферополе оставил. Мне не хотелось думать, что ты погиб.
— Ну уж спасибо! Ты не представляешь…
— Хозяин, — сказал извозчик, — чтобы степь да степь кругом, замерзал ямщик, мы не договаривались.
— Мы сегодня первый день в Москве. Мы только что приехали. Я с женой, — сказал Андрей Россинскому.
— Ты женился, как приятно.
Россинский пошел к пролетке, стал всем пожимать руки, начиная с извозчика. Потом так же быстро и деловито пожал руку Андрею и сказал:
— Я буду в отделе нумизматики. Часов до шести, Я скажу нашим, что ты приехал. А с тетрадью… Ты изумил меня! Приходи.
— Спасибо, — ответил Андрей. Он был растроган обыденной теплотой Россинского.
Андрей глядел вслед быстро удалявшемуся по площади Россинскому и думал: как славно, что именно сейчас и здесь судьба возродила его из мертвых, чтобы мне не было страшно и одиноко в этом холодном городе.
Россинский обернулся и крикнул:
— Если ночевать негде, я помогу. Слышишь?
Андрей забрался обратно в пролетку и не удержался от торжествующего взгляда в сторону Доры. Ведь ее не встретили — а его ждали.
— Как вы еще молоды! — Дора угадала его взгляд, и Андрею стало стыдно.
Дом на Болотной площади, куда они приехали, оказался также жертвой революционных боев — он обгорел и был разграблен. Жильцы куда-то делись. Так что через двадцать минут пролетка уже стояла возле входа в Исторический музей, который, как ни удивительно, оказался открыт для посетителей.
В вестибюле было тепло, сумрачно, вокруг скамейки у лестницы расселась крестьянская семья человек шесть, включая детей — смуглые, черноволосые, луком от них пахло на весь вестибюль — они разложили на мраморном полу тряпицы и не спеша, степенно ели. Служитель с галунами на рукавах мундира их не гнал — и понятно почему: сидя на стуле по ту сторону ступеней, он рассматривал большую крепкую луковицу — подношение.
Андрей спросил, как пройти в отдел нумизматики, служитель встал и принялся с готовностью подробно объяснять путь, но вовсе запутал Андрея. Тот не стал переспрашивать, а пошел в боковую дверь и далее длинными коридорами. Там было тихо и пахло пылью. Лампочки горели лишь изредка. Потом он поднялся узкой винтовой лестницей, словно в крепостной стене, и, проплутав еще минут пять, наткнулся на Россинского.
Россинский в библиотеке разговаривал с худой, странно знакомой женщиной с убранными под косынку волосами, отчего ее лицо, и без того узкое, было похоже на голову мумии.
— Тилли, — сказал Андрей. — Ты тоже здесь служишь?
Россинский сказал:
— Вот видишь, я же говорил, что Андрей приехал.
— Вот уж не ожидала, — сказала Тилли с каким-то осуждением, словно в приезде было нечто постыдное.
— Он думал, что я утонул, — сообщил Россинский.
— Не узнал? — строго спросила Тилли. — Я постарела, стала еще уродливее?
— Ты не была уродливой и не стала, — сказал Андрей. — Я очень рад тебя видеть.
— Честное слово? Или ты, как всегда, лжешь?
Странное чувство испытал Андрей — словно он и не уходил из этого зала, от этих высоких шкафов с книгами, от столов и ламп с зелеными стеклянными абажурами, от тусклого зимнего света, проникающего с Красной площади. Словно он принадлежал этому миру, как покорный добровольный раб.
— Пойдем в отдел, — сказал Российский. — Княгиня Ольга будет счастлива.
— В этом я сомневаюсь, — сказал Андрей, но последовал за Россинским. Тилли тоже пошла, но неохотно, словно выполняла обременительный ритуал.
Они прошли в высокую комнату Нумизматического отдела. По ее стенам стояли монетные шкафы с планшетами, а в середине — рабочие столы, заваленные справочниками и рукописями.
Ольга Трифоновна Авдеева, супруга университетского профессора Авдеева, закутанная в большой шерстяной платок и потому весьма схожая с деревенской молочницей, сидела в глубоком кожаном кресле у освобожденного от бумаг стола и осторожно, но уверенно резала хлеб. На железной печке с коленчатой длинной трубой, протянутой в высокое окно, кипел чайник. Рядом с княгиней Ольгой стояла высокая пожилая женщина в темно-синем платье, с волосами, собранными сзади в седой пук.
Увидев, как вошел незнакомый ей молодой человек, женщина вздрогнула, и Андрей сразу понял, что она боится чужих. Третьим в комнате был мужчина в офицерском мундире, лишенном не только погон, но и пуговиц — пуговицы на нем были черными, и это вызывало подозрение, что обитатель мундира слишком уж подчеркивает свою непричастность к офицерству.
Черные пуговицы настолько удивили Андрея, что он не сразу узнал мужчину. Ольга Трифоновна легко подняла свое крепко сбитое красивое тело, кинулась к Андрею, облапила его и радостно загудела:
— Андрюша к нам приехал! Андрюша, мой мальчик! — словно полгода назад не вычеркнула его из числа знакомых.
И тут Андрей узнал замаскированного офицера — это был подполковник Метелкин, хозяин Трапезунда — как его занесло сюда? Полковник закрутил усы — единственное, что осталось от прошлого. Взгляд его был растерян, как у просителя, которого не желают признавать.
— Извините, — сказал Андрей. — Я вас не сразу узнал!
Метелкина это обрадовало.
Это хорошо, — сообщил он доверительно. — Я и не желаю, чтобы меня каждый узнавал.
Вы понимаете почему?
— Наверное, вы скрываетесь, — сказал Андрей с наивностью человека, первый день как попавшего в страну большевиков.
— Тише! — строго приказала Тилли, остановившаяся у дверей. — Здесь даже стены имеют уши.
— Кому мы нужны? — не согласился с ней Россинский. — Музейные крысы.
— В сердце России? У Кремля?
— Сердце России загажено, разбито, убито и никогда не возродится, — сказала старая женщина. Она была высока ростом и носила корсет, что не молодило ее, но подчеркивало класс высокопоставленной дамы. — Это не сердце, а пустая скорлупа, на которую наступила нога в грязном сапоге.
— И в самом деле, — сказала Ольга Трифоновна, — в Кремле никто не живет и, пока не вернутся Романовы, никто жить не будет.
Статную даму звали Марией Дмитриевной.
Тут подоспел чайник, и все сели пить чай — Тилли принесла две чашки. Андрей отнекивался. Ему было неловко перед спутниками, что ждали его внизу, но и признаваться в том не хотелось. Ведь если скажешь, то хозяева, богатые лишь заваркой, мелко наколотым сахаром и буханкой хлеба, будут вынуждены делиться с незваными гостями.
Андрей лишь отхлебнул горячего жидкого чая и в ответ на вопрос, надолго ли откуда и когда приехал, сразу сказал, что у него случилась незадача с комнатой — дом сгорел, и хозяева его пропали.
Последовали сочувственные возгласы, все рады бы помочь, но в Москве восемнадцатого года это было не так легко сделать. Россинский предложил разделить с ним его комнату, но тут княгиня Ольга спросила:
— А что по этому поводу думает Мария Дмитриевна?
Что вы имеете в виду, Ольга Трифоновна? — спросила пожилая дама, открывая лежащую на столе жестянку с махоркой и ловко сворачивая самокрутку. Подполковник Метелкин достал зажигалку, сделанную из патрона, и галантно щелкнул ею.
— Я имею в виду дезертира, — ответила княгиня Ольга. — Нового дезертира.
Метелкин громко захохотал.
Отвечая на недоуменный взгляд Андрея, Ольга Тихоновна рассказала, что перед самыми Событиям — так здесь называлась революция большевиков — супруг Марии Дмитриевны уехал по делам в Ревель и не смог вернуться. А обширную квартиру Марии Дмитриевны возлюбил домовой комитет, который принялся вселять туда трудящихся из подвалов, пока у Марии Дмитриевны не осталась одна комната. Со дня на день она ожидала, что ее возьмут и расстреляют как чуждый элемент и, видно, к этому шло. Но тут ей повезло: неблизкая, но сердечная приятельница уезжала в Финляндию и предложила Марии Дмитриевне переехать в ее опустевшую квартиру в ветхом доме, не ставшем предметом вожделений новых хозяев города. Мария Дмитриевна решилась на такой шаг и более того, вскоре отыскался некий дезертир из унтер-офицеров, который за кров рубил и носил ей дрова. Но совсем недавно, в ту среду, дезертир скрылся, унеся с собой все ценности старухи — благо за зиму у него были все возможности узнать, где их Мария Дмитриевна прячет. Так что места у Марии Дмитриевны достаточно, и если Андрей готов помогать ей по хозяйству…
Дальше Мария Дмитриевна продолжила речь Ольги, подтвердив ее и даже высказан желание тут же отправиться домой.
— А где ваша супруга? — спросила Мария Дмитриевна, и Андрей удивился, сообразив, что Россинский успел обо всем поведать коллегам.
На прощание Ольга Трифоновна сказала:
— Вы, надеюсь, намерены восстановиться в университете?
— Я хотел бы.
— Послезавтра мой супруг будет на кафедре.
— Спасибо.
— Благодарить будете потом, когда я вас устрою в этот отдел, — сказала Ольга Трифоновна и сделала паузу, любуясь немым эффектом. Так что расстались они взаимно довольными. Только Тилли куда-то запропастилась, даже не попрощалась с Андреем.
Россинский пошел проводить Андрея до вестибюля. Там Андрей представил старухе своих спутников — семью изгнанных из своих земель американских индейцев, и она, критически обозрев их, произнесла:
— В сущности, я не являюсь владелицей квартиры и надеюсь, что вы сможете своим существованием облегчить мне жизнь. А не осложнить ее.
— Я долго у вас не останусь, — сказала Дора. — Завтра же уеду.
Мария Дмитриевна пожала плечами.
— Ваша воля. Вы можете вообще себя не беспокоить.
Дора замолчала.
— Не серчайте на нее, ваше превосходительство, — сказал старик Давид Леонтьевич, обладавший тонким классовым чутьем. — Мы сейчас ограбленные, замерзлые, еле живые. А отогреемся — отблагодарим.
— Так пошли, чего же вы тянете время, господа?
Мария Дмитриевна шла впереди, будто не была с ними знакома. Наверное, решил Андрей, она нас стыдится.
Дом ее стоял недалеко — рядом с «Балчугом», был он трехэтажным, покосившимся и скучным. Идти от музея меньше десяти минут — но через мост, а там всегда дует.
Дверь в квартиру была на площадке второго этажа — другая дверь на той площадке была заколочена, В квартире скрипели рассевшиеся полы, мебели было мало. Мария Дмитриевна позволила Андрею растопить печку — и скоро стало тепло и уютно. У них был дом — настоящий теплый дом.
Глава 3
ВЕСНА 1918 г.
В ближайшие же дни жизнь беженцев в Москве более или менее наладилась, Андрей отправился в Исторический музей, там его встретил сам Авдеев. Он почти не изменился, но поседел. Перехватив взгляд Андрея, он произнес:
— Печать близкой смерти. Я тонул на «Измаиле», И Андрей понял, что о присутствии там Андрея он позабыл.
Слава Богу, что признал своего студента и обещал поспособствовать его возвращению в университет.
— Надеюсь, — добавил он строго, — среди твоих предков не было графов и паразитов?
Авдеев легко вписался в систему новых отношений и порядков.
— Завтра придут китайцы, — заметила княгиня Ольга, — и мой драгоценный супруг будет проверять у нас рисунок глаз.
Она со значением поглядела на Метелкина. Андрей подумал, что они, видно, остались близки.
— А я решил заняться амазонками, — сказал Авдеев Андрею за чаем. Чай достал Метелкин и не преминул о том сообщить Берестову. Вот что надо было привезти из Киева — там чай продавался свободно.
Андрею достались трофеи экспедиции Успенского. Оказывается, профессор все же смог доставить свое добро в Москву. Черепки тесно лежали в коробках из-под сигарет и халвы. На коробках были турецкие надписи и бравые картинки. Общие тетради с описями составлял Иван Иванович. Странно было читать аккуратные строчки. Где сгинул его чемодан, который чуть не погубил их в Черном море?
В Москву переехало из Петрограда правительство большевиков.
Оно поселилось в Кремле подобно допетровским государям. Главного государя звали Владимиром, Андрей видел, как он проезжал по Красной площади в машине под брезентовой крышей. Но, конечно, толком разглядеть вождя не мог.
Красная площадь была покрыта сугробами, темный весенний снег покрывал братские могилы и кучи кирпича, оставшиеся после ноябрьских событий. Расчищенная дорога вела к Спасским воротам и оттуда по Ильинке тянулась к Старой площади. Именно там и проезжали на машинах бонзы из Кремля. А иногда этой дорогой ездили грузовики или даже броневики с пулеметами.
В конце марта в музей залезли грабители и убили сторожа одноногого солдата.
Тогда комендант Кремля Мальков прислал охрану — латышей, которых называл надеждой революции. Латыши первые два дня никого не пускали в музей, потому что у сотрудников не было документов. Хранитель музея ходил к Малькову, чтобы дали паек для сотрудников. Мальков послал к Бонч-Бруевичу, потому что тот разбирался в искусстве и культуре. Паек иногда давали, а иногда не давали, потому что в приоритетах Кремля музей не был первым.
Большинство залов было заперто, а некоторые даже забиты досками.
Во всем музее топились две или три буржуйки. Одна как раз на первом этаже в отделе археологии.
Нина Островская получила комнату в доме Советов, бывшем «Метрополе».
Она сказала Коле:
— Я не могу поселить тебя со мной, Не потому что проявляю буржуазную стыдливость.
Я боюсь недоверия со стороны моих старых товарищей. Ты для них подозрительный элемент. Поживешь пока в общежитии Чрезвычайной Комиссии. Несколько дней. Я добуду для тебя отдельную комнату. Потерпи.
Нина говорила виновато.
Она привязалась к своему спутнику, который получил странное звание «Член Крымской делегации».
Сама она к Лацису не пошла, но позвонила по телефону.
Лацис был занят, его секретарь, краснолицый финн, выдал Коле ордер на подселение, слова при том не сказал, потом Коля не мог понять, почему он решил, что секретарь — финн?
Общежитие располагалось на Лубянском проезде, в здании первого кадетского корпуса. В дортуарах, рассчитанных на двадцать мальчиков, спали младшие командиры и полуответственные сотрудники Комиссии. Беспорядок царил ужасающий — все были страшно заняты, молоды, неопрятны, прибегали в комнату только поспать — максимально, давалось поспать десять часов — спали одиннадцать, выдавались полчаса — спали час. Там же перекусывали, порой и выпивали.
Коле досталась крайняя койка. От прежнего ее хозяина осталось несвежее белье и вафельное полотенце.
На соседней койке спал, вытянувшись во всю длину подростковой койки, молодой чернобородый детина кавказского или семитского вида. Он весело храпел и шевелил толстыми губами.
Коля аккуратно разделся и положил свое добро на тумбочку, а брюки повесил на спинку. Он всегда был аккуратен. Хоть у него была лишь одна смена белья, английский френч, который купила ему Ниночка в Киеве, и уланские синие брюки, Коля старался, и это ему удавалось, выглядеть подтянутым, чистым и отглаженным.
Это было сделать непросто.
Сосед по койке открыл глаза. Не шевельнувшись, даже не вздохнув и ничем не показан, что проснулся.
Поэтому, когда он заговорил, Коля вздрогнул от неожиданности, чем соседа развеселил.
— А ты беляк! — засмеялся он. — Белая кость, голубая кровь. К стенке тебя поставить придется.
— Как вы смеете! — возмутился Коля.
Возмутился, потому что испугался. И хоть он понимал, что вряд ли те, кто имеет право ставить к стенке, спят на койке в этом зале, но слова были неожиданными и попали в цель.
— А я таких навидался, пока мы в Одессе контру крушили.
Брюнет сладко потянулся. Только тут Коля понял, что он спал в очень блестящих хромовых сапогах.
Черная густая борода была аккуратно подстрижена.
— Здесь не Одесса, — сказал Коля, он старался, чтобы голос не дрогнул. В конце концов — он эмиссар Крымского Совета, большевик и не сегодня-завтра переедет отсюда в достойную квартиру.
— Где я тебя видел? спросил брюнет. — Ты в Одессе был?
— Нет.
Коля улегся на койку и прикрылся серым солдатским одеялом, точно по пояс.
— А в Крыму?
— Я из Крыма.
— Из Феодосии?
Коля насторожился. Меньше всего ему хотелось встретить знакомого по Феодосии, который наверняка знал бы его настоящее имя.
— Я вас в Крыму не видел.
Коля еще не научился к товарищескому, на «ты», обращению большевиков.
— По разные стороны баррикад, — сказал брюнет. — Мой полк ваших из Феодосии выбросил в горы, Вот я где тебя видал!
— Я в Феодосии три года как не был, — сказал Коля, и свой тон ему не понравился.
Будто он оправдывался.
— У меня память на лица, — заявил брюнет, резко, одним движением, словно прыжком, сел на койке, — давай знакомиться, контра. Меня Яшей зовут. Яшка Блюмкин. Не слыхал? Помощник начальника штаба третьей армии, Ветеран революции. Жду назначения, Андрей Берестов, — представился Беккер. — Я в Москве по делам.
— Они не помешают нам провести вечер в какой-нибудь берлоге?
— У меня денег нет на берлогу, — попытался улыбнуться Коля.
— Чепуха. Смотри.
Блюмкин совершил молниеносное движение и выхватил из-под койки рыжий кожаный чемодан, небольшой, потертый, когда-то служивший в благородном доме.
Он нажал большими пальцами на замки, чемодан щелкнул, нехотя раскрылся. Блюмкин вытащил из него сорочку, которая, оказывается, прикрывала пачки денег.
— Реквизиция, — пояснил Блюмкин. — Брали банк, потом пришлось вернуть в армейскую кассу. Три с половиной миллиона вернул, а остальные здесь осели.
Теперь придется тратить. Поможешь, Андрей? Ты мне понравился.
Глаза Блюмкина были непроницаемо черными, ни одному его слову нельзя было верить, но чем-то он привлекал, люке привораживал — может, лживой и наглой откровенностью. Как потом уже убедился Коля, ни одному слову Яшки верить было и нельзя, в то же время врал он редко, находя иные способы обманывать, И не было на свете человека, который умел бы с такой же ловкостью не отвечать на вопросы.
Коле не хотелось дружить и даже гулять вместе с подозрительным типом. Внутренняя осторожность и аккуратность Беккера призывали его держаться от Яши подальше, но гипнотические способности настойчивого Блюмкина оказались сильнее.
К собственному удивлению, Коля пришел в себя лишь в небольшом шумном ресторане «Элит» при гостинице на Неглинном проезде.
Яша Блюмкин, здесь многим уже известный, пил много и бестолково, угощал приблудившихся к столику дам революционного полусвета и сомнительных персон в кожаных куртках, как у авиаторов — мода бурных лет, — обнимался, а потом впал в пустой гнев, вытащил маузер и принялся палить по люстрам, стараясь побольше нашкодить. Стрелять он не умел.
Коля незаметно поднялся и ушел.
Он не поехал в общежитие. Он представил, что Блюмкин придет пьяный и будет вязаться к нему. Придется приласкать Нину и остаться у нее. Карьера радикала требует жертв.
Нина была в номере.
Как всегда, она работала. На этот раз писала справку для наркомовца Сталина. Его интересовали перспективы отношений Украины и Крыма, насколько вооружены и организованы татары.
— Хорошо, что ты пришел. — Нина подставила щеку для поцелуя. — Я тебе сделаю чай.
— Погоди, — сказал Коля и стал поворачивать ее голову, чтобы поцеловать в губы.
Ты пил? — спросила Нина, хмурясь. — Где? Почему? Что с тобой происходит?
— Потом, Нина, потом! Я хочу тебя, Нина!
— Не сходи с ума!
Она сопротивлялась и пыталась вырваться.
Она раньше не видела Колю пьяным и не была готова к такой перемене в нем. А Коля не знал, что Нина боится пьяных.
В двенадцатом году в деревне за Тобольском она попала на свадьбу. Ссыльных там было немного — она одна молодая женщина. Тая все напились, она тоже пила, потом стало душно, она вышла на свежий воздух. Они напали, свои же, давно знакомые, такие мирные и обстоятельные крестьяне; они затащили ее в баню и там втроем, хоть она молила ее пощадить, надругались над ней, да еще потом Семен Кузнец вернулся в баню, где она лежала на полке, и избил ее за то, что его штаны были измазаны ее кровью. Нина никому не посмела сказать, понимая, что будет хуже.
Позор падет на нее. Что, кому ты объяснишь? Можно только отомстить. Отомстить так, чтобы лишь жертва мести — а это обязательно — знала, за что ее настигла кара.
Она лежала в бане долго, почти до рассвета, там было холодно и сыро, она знала, что выживет, чтобы наяву увидеть то, что рисовало ей воображение, как она приезжает в то село, а за ней скачут красные рыцари революции, паладины справедливой мести. И под тремя виселицами стоят, понурившись, насильники. Она проходит мимо них и спрашивает каждого: «Ты помнишь?» Они молят о пощаде. Но пощады не будет…
Тогда она боялась забеременеть или подхватить дурную болезнь, Но обошлось. Она даже не видела больше насильников — по заявлению ее перевели в Николаевское, где была больница, санитаркой.
К счастью для Коли, он не был настойчив и, чутко ощутив ее отвращение, догадался, что оно связано с водкой.
Но он не мог догадаться, что, если бы ее револьвер не был спрятан в запертом ящике письменного стола, она, не колеблясь, разрядила бы его в возлюбленного, к которому испытывала лишь страх и отвращение.
Коля успокоился, но не ушел, как она ни просила об этом.
Он заснул на кушетке, подогнув ноги. Он не мог заставить себя вернуться к Блюмкину.
У каждого была своя постыдная тайна.
Он заснул, лицо стало чистым, беззащитным, добрым.
Нина села рядом с кушеткой на стул и долго рассматривала Колю, любуясь им, как мать любуется ребеночком.
Коле снилась Ялта, вечер на набережной, Лидочка, которая убегала от него в парке, и ее никак нельзя было догнать, потому что этому противились деревья и кусты.
Передышка, которую получил и отстаивал Ленин, была унизительной и грабительской.
Недаром и сам Ленин называл Брестский мир «похабным». Украину отстоять не удалось. Скоропадский спелся с бошами и старался накормить Германию украинской пшеницей и салом. Это ему не удавалось. Даже железные дороги сопротивлялись этому грабежу. Под немцами оказалась вся Прибалтика, Латвия провозгласила независимость в рамках Германской империи, была потеряна Белоруссия, пользуясь разбродом в Закавказье, турки и немцы вошли в республики, где остатки русской армии держали нейтралитет, и лишь армянские отряды могли и желали сопротивляться.
И как бы ни возмущались грузинские и армянские националисты, понимая, что Брестским миром русские большевики предали их, потому что равнодушно отдали Четвертному Союзу Карс и Батум, а турки двинулись и далее, На очереди был Баку.
Немцы презирали ими же подписанный договор и, как только представлялась возможность, продвигались на восток. Москва слала протесты по доводу оккупации Ростова и Донбасса, но ничем не могла их подкрепить.
Весной лишь Ленин и несколько близких к нему политиков продолжали отстаивать Брестский мир, потому что Ленин полагал, что Германия заинтересована в том, чтобы он оставался у власти. Другое правительство в России разорвало бы договор и стало сопротивляться.
А Ленин ждал и вел арьергардные бои на всех фронтах против своих же вчерашних соратников. Полностью лояльным ему оставался лишь Свердлов, в основном его поддерживал Троцкий. Левые коммунисты во главе с Бухариным, Ломовым и Дзержинским уже начали угрожать — выступая против Ленина, они еще не ставили вопроса о его уходе. Но это было делом завтрашнего дня.
Страшнее всего для Ленина было сближение вчерашних соратников, левых коммунистов, требовавших революционной войны с Германией, с последними союзниками вне партии — с левыми эсерами. Примерно треть депутатов в Советах, треть армии и партийных ячеек шли за левыми эсерами. И если они объединятся с левыми коммунистами, а переговоры уже шли об этом, то песенка Ленина спета. Дальше революция пойдет вперед без него.
Спасало Ленина лишь то, что левые эсеры, как и левые коммунисты, были романтиками революции. Она виделась им девушкой в алом платье, на баррикаде, с простреленным знаменем в руке. Им мерещились мировая революция и победа трудящихся.
Ленин не отрицал идеи мировой революции, но относил ее на дни после поражения Германии в войне, во что он верил. Хотя важнее всего было сохранить собственную власть.
В России.
В Москве.
И если необходимо, как он любил повторять в те дни то и на Урале или в Сибири.
Россия велика, есть куда отступать. Пускай наступают немцы, все равно им, как и всем прошлым завоевателям, не одолеть российских просторов.
Время работало против Ленина. Он терял власть уже на собственной партией. Все чаще ой оставался в меньшинстве.
На юге собирались офицеры и чиновники, там начинался мятеж против большевиков.
Основной его базой стали казацкие земли дона и Кубани. Там были генералы Корнилов и Алексеев. Юг России был уже потерян, под властью ленинской партии оставался лишь центр России, что стало ясно уже весной, когда начались восстания на Волге.
Левые эсеры надеялись одолеть большевиков демократическим путем, забывая о том, что недавно с помощью левых эсеров большевики ликвидировали сначала кадетов, затем анархистов и, наконец, правых эсеров и меньшевиков, То, что было республикой социалистического единства, многопартийной свободной страной, превращалось все более в вотчину большевиков. А левые эсеры полагали в массе своей, что в спорах с большевиками и рождается история. Несмотря на разногласия, они будут и дальше идти к светлому будущему.
Это не мешало отчаянно протестовать против союза с Германией и требовать его отмены.
Многое должно было решиться 6 июля на Съезде Советов, где почти все зависело от того, смогут ли левые эсеры объединиться с левыми коммунистами, как будет вести себя забравший слишком много власти Дзержинский, куда потянутся мелкие, еще не разогнанные союзные большевикам партии.
Обе стороны готовились к решающей схватке, и дело было не в большинстве голосов, а в расчетливом коварстве противников.
Ленину противостоял ученик иезуитов, шеф Чрезвычайной Комиссии Феликс Дзержинский, хотя внешне они продолжали оставаться товарищами по партии, и Дзержинский, не щадя сил и времени, боролся с контрреволюцией.
В гостиной был большой диван. На нем спал дядя Давид, Спальню Мария Дмитриевна уступила молодежи. Кровать там стояла широкая, двуспальная «с запасом». На ней уместились втроем — Андрей с Лидочкой и Дора. Было тесновато, тем более что на троих досталось одно стеганое ватное одеяло. По ночам начиналась борьба за место в середине, там, где наверняка тепло. Так что поверх одеяла приходилось класть пальто, Андрей вспоминал, как они ночевали с отчимом в палатке, когда бродили по крымским горам. Дора была девушкой очень серьезной, она редко улыбалась, ее лицо даже не было приспособлено к улыбке. Андрей думал, что она красивая, а Лидочка высмеивала его слова — не потому что на самом деле думала иначе, Ей не хотелось, чтобы Андрей влюбился в Дору. В ней было что-то животное, как полагала Лидочка, цыганское. Конечно, Лидочка признавала, что у Доры чудесные волосы и красивые глаза, но слишком полные губы и широкие скулы, а нос какой-то приплюснутый… Не в деталях дело, спорил с женой Андрей. Она — женщина. Объективно я признаю, что она худенькая, сутулая, и ноги у нее хоть и прямые, но совсем без икр, а когда смотришь ей в лицо, встретишься взглядом, понимаешь какая это страстная и чувственная натура.
Андрей со смехом рассказал в музее о том, что спит с двумя женщинами Лидочка ревнует, а Дора ни о чем не догадывается. Она все ждет, когда за ней придут товарищи, но почему-то сама их не разыскивает, а проводит весь день за чтением, благо в квартире обнаружилась солидная библиотека классики.
— Я бы рекомендовала тебе, Андрей, — сказала Ольга, — постелить себе на полу.
— Ревнуешь? — спросил Метелкин.
Он намеревался перейти в сектор снабжения новой армии. Армию готовили на случай угрозы Москве со стороны германцев. Сказал, что туда стали брать бывших офицеров, спецов. Если не пойдешь сам, могут поймать тебя в облаву — тогда ты уже не спец, а мертвец. Ему понравилась рифма, и он повторял ее в курилке. Революция дала народу немало свобод, но одну — права курить в самом отделе — Ольга народу не дала.
Дора писала друзьям на почту до востребования, но идти к ним не желала, ждала…
Ее друг заявился только в апреле.
Он приехал на автомобиле, и это сразу перевело Дору в категорию Важных Персон.
Сказка о Золушке, — сказала Лидочка Марии Дмитриевне, с которой они сблизились.
В Лидочке было нечто, располагавшее к ней пожилых дам. Некая порядочность и безопасность.
— Если бы мой сын не был счастливо женат, — сказала она, — я бы согласилась видеть вас своей невесткой.
Сын Марии Дмитриевны был пожилым сорокалетним мужчиной и служил где-то в армии, далеко от Москвы. Он не писал ей, да и не знал, где она находится. Но Мария Дмитриевна была убеждена, что с ним ничего не случится.
Друга Доры звали Сергеем Дмитриевичем. Он был среднего роста подтянутым мужчиной в английском френче и без головного убора. Его тяжелое барское лицо украшала эспаньолка.
Дора сама открыла ему дверь и провела гостя в комнату.
Она была строга и торжественна. Она представила его Давиду Леонтьевичу и Андрею, которые оказались дома.
— Сергей Дмитриевич, — сказала она. — Мстиславский.
Давид Леонтьевич сложил мягкие руки на животе и склонил голову, как умный попугай.
— Нет, вы только подумайте! — воскликнул он. — Самый настоящий граф, а мы даже не дали вам присесть.
— Я не граф, ответил Мстиславский, — Это мой псевдоним.
— Вы хотите сказать кличка?
И тогда Андрей сообразил, чего старик посмеивается над графом или князем, что он сразу догадался о том, что к ним заявился ложный человек. Самозванец.
Мстиславский не знал, кто стоит перед ним, потому был осторожен.
— Пускай будет кличка, — согласился он.
— А настоящая фамилия, если имеется?
— Настоящая — Масловский.
— Какой простой результат! Вы только подумайте. Просто Масловский.
Мстиславский обратился за поддержкой к Доре Ройтман, но поддержки не получил.
Дора собирала свою сумку и не слушала, о чем говорят мужчины.
— Значит, вы эсер, — сказал Давид Леонтьевич.
— Почему вы так уверены?
— Потому что вы самозванец и возвышенный тип. Кадеты и октябристы кличек не приемлют, они не склонны к секретам и грабежам. У эсдеков клички деловые. Чтобы не догадались. А догадавшись, задумались. И еще они предпочитают, понимаете, скрывать свое нерусское происхождение. Вы знаете, что я уже ходил в некоторые учреждения в поисках моего сына, И не нашел, Я думаю, что мой мальчик ходит по улицам под кличкой Молотов или Топоров, а может быть, Каменный или Твердый. А вы — Мстиславский. Вы знаете, что обязательно проиграете. Потому что мальчики, играющие в войну, всегда проигрывают дядям, которые не играют, а воюют.
— Мы, левые эсеры, — сказал Мстиславский, — не играем, а действуем.
— Вместе с большевиками?
— Сейчас вместе, потому что у нас общие цели. — Мстиславский нервно дернул себя за эспаньолку. И стал похож на козла.
— Посмотрим, посмотрим, — сказал Давид Леонтьевич. — И вы состоите в учреждении?
— Я нигде не состою, — ответил Мстиславский. — Я недавно вернулся из Брест-Литовска, где состоял в делегации от Советской России на переговорах с Германией.
— Ага! — воскликнул старик. — Это там вы продали немцам всю мою Украину. Ну спасибо, господин князь.
— У нас не было выбора. Иначе бы Германия уже захватила Петроград.
— Похабный мир? Так, кажется, сказал ваш Ленин?
— Не имею чести состоять в его партии! — взвился Мстиславский.
— Я готова, — сказала Дора.
Она подошла попрощаться к Давиду Леонтьевичу.
— Значит, ты тоже из эсеров? — спросил Давид Леонтьевич.
— У меня нет красивой клички, — сказала Дора.
— А какая?
— Фанни Каплан, — сказал за Дору Мстиславский. — Все революционеры знают Фанни.
— Почему? — спросил Андрей. — Вы боевик?
— В двадцать лет меня приговорили к пожизненной каторге, — сказала Дора. Видно, собралась уходить и решилась признаться. — Я прошла пешком по этапу в ножных и ручных кандалах. Знаете, что я даже в Крыму купалась в длинной рубашке? У меня на щиколотках шрамы. Уродливые шрамы. На кистях рук почти прошли, а на щиколотках остались. И это не забывается.
— Фанни пользуется глубоким уважением в партии, — сказал Мстиславский.
— В вашей партии?
— Я не принадлежу к партии, — сказала Дора. — Эсеры считают меня эсеркой, анархисты тоже думают, что я из их партии. Эсдеки… Дмитрий Ильич уговаривал меня перейти к эсдекам, но я считаю, что все эсдеки — предатели революции. И его братец в первых рядах!
— Дмитрий Ильич Ульянов заведует в Крыму санаторием мя революционеров. Каторжане проходят там лечение, — пояснил Мстиславский.
Под окном гуднула машина.
— Пошли, — сказал Мстиславский, — машина должна вернуться в Чека. Ее нам дал Александрович.
— А где я буду жить? — спросила Фанни.
— В первом доме Советов. Мы договорились с Бонч-Бруевичем.
Фанни обернулась к Андрею, подошла поближе и, привстав на цыпочки — она была невысока ростом, — поцеловала его в щеку. Ее карие прекрасные глаза были совсем близко. Андрей ответил на поцелуй.
Фанни отстранилась.
— Передайте привет вашей Лидочке, — сказала она. — Я сожалею, что наши с ней отношения не сложились.
— Нет, ты не права…
— Больше мы, наверное, не увидимся, — сказала Фанни.
— Почему ж? Ты к нам придешь. Мы тебе всегда рады.
— Приходи, девочка, — сказал Давид Леонтьевич, — я беспокоюсь о тебе. Ты очень цельная натура.
Старик порой удивлял Андрея — откуда эти слова?
— Мне недолго осталось жить, — сказала Дора.
— Закажите ей хорошие очки, — сказал Мстиславскому Давид Леонтьевич.
— Обязательно.
Когда они ушли, Давид Леонтьевич вдруг спохватился:
— Я же сегодня горьковскую «Новую жизнь» купил. Скоро ее большевики закроют.
— Почему ж? — удивился Андрей, хотя ничего удивительного в том не было. Хоть предварительную цензуру большевики вроде бы отменили, газеты штрафовали и закрывали куда злее, чем при царе, не говоря уж о Временном правительстве.
— Так будешь слушать?
— Слушаю.
Давид Леонтьевич нацепил очки и прочел из газеты:
— Грабят изумительно, артистически. Грабят и продают церкви, военные музеи, продают пушки и винтовки, разворовывают интендантские склады, грабят дворцы бывших Великих князей, расхищается все, что можно расхитить, продается все, что можно продать… слушай дальше, это тебя, Андрей, касается: в Феодосии солдаты даже людьми торгуют — привезли с Кавказа турчанок, армянок, курдок в продают их по 25 руб. за шт. Это очень самобытно, и мы можем гордиться — ничего подобного не было даже в эпоху Великой французской революции.
— Может, он преувеличивает?
— Это же лучший друг Ленина! Так что нового — ты же знаешь, как в шестом доме адвоката Киреева ограбили и всю семью вырезали?
Андрей не ответил.
Давид Леонтьевич сменил тему.
— Объявлено, — сказал он, — что трудящимся будут продавать конину. Первый сорт по рублю с полтиной за фунт, второй — по рублю. И знаешь? Ты меня слушаешь?
— Да.
— Значит, мы с тобой уже два месяца жрем эту конину, В колбасе.
— Может быть. Мне пора идти.
— Иди, иди, а большевики уже создают армию. Ты знаешь, что они назначили этого Троцкого наркомом по военным делам?
— Он друг Ленина. Воевать не будут.
— А с Калединым, с Алексеевым, с Корниловым?
Андрей признался Метелкину, что у него есть доллары.
— Липовые? — спросил Метелкин.
Но сам подобрался, как тигр перед прыжком.
— С чего вы так решили?
— В Трапезунде наши не раз попадались. Туда их привозили из Германии. Сделаны как в аптеке.
— Нет, они еще довоенные, мне от дяди остались.
— Покажи.
Разговор происходил в курительной комнате, они сидели рядом на скамье. Андрей достал двадцатидолларовую купюру. Метелкин поднялся, отошел к свету. Андрей закурил. Табак был плохой в нем, если затянуться, что-то взрывалось и шипело.
— Похоже на настоящую, — сказал Метелкин. — Но много нам с тобой не получить.
Рискованно. Если поймают — расстрел за валютные операции. Ты меня понимаешь?
— Я понимаю, что теперь у нас за все расстрел.
— Не шути, и у стен есть уши.
Даже здесь?
— Мы находимся в опасной близости к правительству. Сколько их у тебя?
Андрей решил поменять столько, чтобы не вызвать подозрений у Метелкина, и в то же время столько, чтобы не обращаться к нему в ближайшее время снова. С Метелкиным было спокойнее, чем с другим. Он был испытанным, опытным жуликом. И непотопляемым.
— Двести, — сказал Андрей.
Метелкин присвистнул.
— Почти двести. — Андрей испугался, что переборщил.
— Ты меня втягиваешь в опасную авантюру! — Метелкин был счастлив. Видно, давно его никто не втягивал.
Через два дня Метелкин принес пакет с деньгами и принялся было объяснять, почему так много пришлось отдать посреднику. Но Андрей слушал его вполуха. Он не знал курса обмена, и не потому, что был наивен, — просто не у кого было спросить.
Когда все валютные дела загнаны в подполье, лучше не задавать лишних вопросов.
Зато прямо из музея он поспешил на Сухаревку.
Деньги он рассовал по разным карманам, полагая, что если нор вытащит толику, то в другой карман не полезет.
Но видно, он вообще не вызывал у воров никаких позывов, его они обошли вниманием.
За первые недели в Москве он на Сухаревку не выбирался и не представлял, что именно она стала и чревом, и одеждой большевистской империи.
Андрей полагал, что если отыщет что-нибудь из носильных вещей, то сделает Лидочке сюрприз. Но скоро он пожалел о своем решении. Вещи были ношеные, мятые, а если и попадалось что-то приличное на вид, Андрею скоро стало казаться, что все это обман.
Конечно, идти надо было вместе с Лидочкой, тем более что Андрею так хотелось чего-нибудь купить для нее. Но деньги жгли руки — Андрею хотелось сегодня же, сейчас же купить нечто сюрпризное, красивое и очень нужное. А так как заранее он планов себе не составил, то, попав в столпотворение Сухаревки, растерялся, и ему хватило ума отказаться от наполеоновских планов, ограничиться необходимыми вещами и отложить настоящий набег на воскресенье.
Когда Андрей, приобретя коробку довоенного зубного порошка, кусок хорошего туалетного мыла, совсем новую сковородку — мечту Марии Дмитриевны, — вафельное полотенце и бутылку подсолнечного масла, продвигался к выходу, на Сретенку, он буквально налетел на стоящего посреди прохода нелепого очкастого соседа сверху, похожего на голодную стрекозу. В одной руке тот держал клетку с белыми мышами, а другой совершал летательные движения, в которых была некая элегантность, может, потому, что короткий рукав пиджака засучился, и белая тонкая рука заканчивалась такими тонкими и широко растопыренными пальцами, что они казались перьями.
Этого мужчину Андрей встречал раза два на лестнице или у подъезда. Он поспешил пройти мимо, сделав вид, что не узнал соседа, чтобы его не смутить. Не всем приятно, когда их ловят за занятием постыдным. Вряд ли сосед гордится торговлей мышами.
— Остановитесь! — Тонкие пальцы вцепились в рукав Андрея. — Ваше лицо мне знакомо. Я могу ожидать от вас сочувствия и денежной помощи.
— Здравствуйте, — сказал Андрей. — Мы с вами живем в одном доме на Болотной площади.
— Значит, вы не биолог?
— Я археолог.
— Тогда купите крысу, Они чрезвычайно сообразительны. Когда-нибудь вы будете гордиться тем, что помогли великому ученому в скорбную минуту.
Андрею хотелось спросить, неужели сосед на самом деле полагает себя великим ученым? Что он голодный ученый — это печальный факт.
— Нет, — ответил на непроизнесенный вопрос человек в стрекозиных очках. — Их есть нельзя. Это все равно что забивать гвозди хрустальной вазой. Эти крысы — плоды труда одинокого гения…
Сосед сделал паузу и представился:
— Доктор Миллер. Девичья фамилия Мельник, — Сосед рассмеялся.
Потом принялся уговаривать Андрея:
— Ну постойте рядом со мной еще минут десять. Вы приносите счастье. Я чувствую.
Если я не продам моих крысок, то мне нечем будет кормить мой зоопарк. Ведь вы не хотите, чтобы я отрезал от себя филейные части?
— Зачем такие крайности? — возразил Андрей. — Вы же можете кормить мышей мышами?
— Какими?
— Вот этими, которых вы продаете.
— Еще чего не хватало! Что я, людоед какой-нибудь?
Андрей не хотел спорить, но помимо воли язык произнес;
— А если покупатель их поджарит? Времена у нас голодные.
Сосед задумался. Он был совершенно серьезен.
— Ах, — сказал он. — Ну почему я не подумал о такой трагической возможности?
— Вам жалко мышей?
— Во-первых, — Миллер блеснул очками, которые подхватили лучи послеполуденного солнца и, сконцентрировав, кинули их в лицо Андрею — во-первых, это не мыши, а крысы. Мне надоело повторять банальные истины. Во-вторых, мне их жалко. В-третьих, я немедленно возвращаюсь домой, а вы ссужаете мне десять рублей. Всего десять рублей. Они у вас есть. Иначе бы не покупали такие ненужные человеку вещи, как подсолнечное масло. Дома вы мне, кстати, отольете из бутылки. Она слишком велика я вас, молодой человек.
Это было сказано тоном пожилого профессора, хотя судя по всему, Миллер был вовсе не стар.
— Сколько вам лет? — спросил Андрей.
— Мне двадцать шесть лет, но я выгляжу моложе. И учтите, что в моем возрасте Эварист Галуа уже погиб на дуэли, а Александр Македонский был близок к смерти.
Андрей достал из кармана брюк десятку. Миллер заметил, что десятка не одинока, и заявил:
— Вам придется расстаться еще с десяткой, потому что у меня оторвалась подошва.
Он поднял по-птичьи ногу, и Андрей, к ужасу, убедился в том что, вместо подошвы в правом ботинке видна черная ступня. Просто голая ступня.
— Ведь еще так холодно! — произнес он. — Земля холодная, снег недавно сошел.
— Вот именно! — заявил Миллер. — Вы намерены ссудить мне еще червонец?
— Разумеется, — согласился Андрей.
— Тогда я вам гарантирую место на трибуне мя почетных гостей, — сказал Миллер, — в день, когда я буду получать Нобелевскую премию.
— Не больше и не меньше, — улыбнулся Андрей.
— А я больше не намерен мелочиться, — сказал Миллер-Мельник. — Меня встречают и провожают по одежке. То есть я сам задаю уровень славословия или критики. Вы не проголодались?
— Не отказался бы от чашки чая, — сказал Андрей, который видел, что Миллеру-Мельнику просить невмочь, что он мысленно перешел рубеж, за которым выцыганивать подачки неприлично. Но замерз он безмерно — неизвестно еще, сколько он простоял на Сухаревке со своей клеткой.
Андрей покосился на клетку. Мыши сбились в кучку в углу — им тоже было холодно, а может, укачало от ходьбы.
Они зашли в сомнительного вида трактир на Сретенке. Половой долго игнорировал их.
Потом все же принес чайник с заваркой и самовар — это обошлось Андрею в пять рублей, да еще три рубля сахар. От еды Миллер-Мельник категорически отказался, Но тайком — думал, что Андрей не заметит, — сунул между прутьями клетки кусок сахара. Мыши засуетились, сбились вокруг лакомства.
— А в чем сущность вашей работы? — спросил Андрей, пока они ожидали чай.
Миллер ждал вопроса. Но отвечал снисходительно. Острый красный нос торчал между выпуклыми линзами очков, глаза были преувеличенно велики, а губы сжаты в линейку.
Ничего особенного в лице не было.
— Я физик, — сказал он, — но я не открываю законов, я экспериментирую. Я добиваюсь реальной власти над природой. Я ее калечу, изменяю и в конечном счете совершенствую. Мой конек — пустота. Вам этого не понять, ибо вы гуманитарий, а я и не буду стараться вам объяснять, Характер у физика был женский. Андрей с детства не выносил этой девичьей логики:
«Ах, что я знаю, но не скажу!» А так хочется сказать всему миру!
— Не хотите, не надо, — сказал Андрей. Но, конечно же, ему было любопытно узнать, чем его сосед занимается, Он мог быть чудаком, но не жуликом.
Половой принес самовар. Вот тут Миллер-Мельник скормил мышкам еще кусочек сахара.
Андрею не хотелось, чтобы половой это заметил.
— Вы представляете себе строение материи? — строго спросил Миллер.
— А как вас зовут? — спросил Андрей. — Я имею в виду имя.
— Разумеется, Григорий, — ответил Миллер и продолжал: — Основное содержание Вселенной — пустота, ничто! Вы можете себе это представить?
— Я слышал об этом, — сказал Андрей. Он отлично помнил лекции отчима о строении молекул и атомов.
— Ничтожную долю пространства занимает ядро атома, — сказал Миллер, который рисовал классическую модель атома, схожую с моделью Солнечной системы, пальцем на грязной скатерти. — Еще меньше места оккупирует электрон. Вкратце моя задача была в том, чтобы манипулировать расстояниями между материальными микрочастицами материи. Я понял, что, сближая атомы, мы можем уменьшать размеры материальных объектов. Вы следите за ходом моих рассуждений?
— Но как это сделать практически, не нарушая законов материи? — спросил Андрей.
— А вот тут, батенька, вы очень и очень ошибаетесь! — закричал Миллер-Мельник пронзительно. Немногочисленные посетители обернулись в его сторону, а буфетчик перегнулся вперед, будто намеревался перепрыгнуть через стойку и применить силу к крикуну.
Миллер стукнул бледным кулаком по столу так, что чашки зазвенели.
— То, чего я добился, человечество поймет и изготовит через сто лет. А я уже сейчас… сейчас! Вы смотрите!
Он нагнулся, открыл дверцу в клетку, вытащил оттуда белую мышку и стал совать под нос Андрею.
Черные бусинки мышиных глаз уставились бессмысленно ва самовар, остальные мыши прыснули из клетки в разные стороны, половой завизжал и вспрыгнул на стол, ножка стола подломилась, и половой полетел к стойке, хозяин, а может, буфетчик уже несся к Андрею и с помощью кого-то из посетителей вытолкал Андрея с Миллером на улицу, но там не забыл получить с Андрея за чай, сломанный стол и испуг полового.
Обратно шли раздельно. Вернее, Андрей шагал сам по себе и сердился на Миллера, хотя понимал, что сам виноват — физический гений с первой же минуты был открыт и не таился.
Миллер-Мельник шел сзади, шагах в трех, скользил по лужам и плюхам грязи, оставшимся от растаявших сугробов, и невнятно бормотал, будто решал некие физические задачи.
На следующий день, не дождавшись воскресенья, они вместе с Лидочкой пошли на Сухаревку.
Лидочка все время спрашивала, сколько осталось денег — а можно еще и это купить?
— Андрей еще вчера вечером пытался дать ей отчет в расходах и возможностях, но тогда она не слушала. А теперь спохватилась, хотя прямого вопроса — насколько мы богаты, сказочно или просто так, — она не задавала.
Лидочка вернулась в Новых, вполне приличных туфлях и полупальто. Она была счастлива, туфли поставила на ночь возле кровати, ночью просыпалась, чтобы на них поглядеть.
Так она делала всегда.
Нина Островская раздобыла комнату для Коли Беккера.
Правда, не номер, как у ведущих большевиков, живших в «Метрополе», а бывшую комнату горничных. Потому в ней не оказалось туалета и умывальника — приходилось ходить в конец коридора. Но это было не столь важно.
Как-то на совещании работников южных областей в доме генерал-губернатора Коля встретил Блюмкина. Тот был серьезен, трезв и изображал из себя большого начальника.
— Ты где теперь? — спросил он Колю, как старого приятеля.
— В аппарате Цвика, — ответил Коля, А ты?
— У меня отдел в Чрезвычайке. Травлю контру. Международную контру.
Так они и разошлись, не поверив до конца друг другу и еще раз убедившись во взаимной неприязни.
Неравноправие овладевало большевиками стремительно. Хотя далеко не всегда это было очевидно. Но самая верхушка обосновалась в Кремле, где целый корпус был выделен под квартиры вождей и самых близких лакеев, Например, лакею от поэзии Демьяну Бедному. Во дворе Кремля играли детишки вождей, ибо вожди были не стары, самому старшему, Ленину, не было и пятидесяти.
Московских обывателей потрясало то, что Кремль закрыли для простого народа, а ведь там еще вчера были монастыри и храмы — для всех.
С переездом «обожаемых» в Москву здесь в спешном порядке, порой в 24 часа, реквизируют особняки, гостиницы, магазины, целые небоскребы или их части, чтобы разместиться всем правительственным учреждениям и служащим в них. Многие семьи буквально выбрасываются на улицу со всем своим скарбом. Что церемониться с бездарными, глупыми и подлыми «буржуями», писал простой обыватель Окунев в своем дневнике, Конечно, гостиницы конфисковать и заселять было проще всего. Даже выкидывать никого, кроме постояльцев и хозяев, не приходилось. «Метрополь» стал вторым по рангу домом для элиты после Кремля. Во-первых, он стоял рядом, во-вторых, комнаты в нем были получше кремлевских, просторнее, правда, не все с удобствами.
Рестораны в этих гостиницах стали спецстоловыми, и это было удобно, потому что дороговизна и нехватка продуктов душили Москву, а в столовой ты мог досыта наесться — по ценам позавчерашнего дня. За этим следил наркомат внутренних дел.
Далеко не всем вождям и слугам народа было удобно и приятно обитать в гостиницах.
Хотелось чего-то более надежного, ясно было, что в гостинице ты всегда постоялец, и выгнать тебя могут с любым понижением по службе. И тут началась жилищная революция. Сначала пошли уплотнения. Для легализации их весной восемнадцатого года был издан указ о том, что каждый человек имеет право на 20 квадратных метров жилья плюс десять на семью. Кстати, эта норма в последующие годы была сокращена, и человек в СССР имел право занимать собой лишь девять метров площади плюс четыре метра на семью.
Но и первоначальный декрет, вкупе с разъяснением, по которому эксплуататоры и паразиты вообще лишались права на площадь, давал замечательную возможность освободить от жильцов тысячи квартир в солидных домах, где семья занимала обычно пять-шесть комнат. Эта семья либо переезжала в одну из комнат, а остальные раздавались партийной и бюрократической мелочи — по комнате-две на рыло, либо вся квартира целиком переходила к переселенцу из дома Советов — «Метрополя». Но советские коммуналки — славное изобретение революции — возникли именно в восемнадцатом году и просуществовали около ста лет. По крайней мере в дни, когда писалась эта книга, петербургский центр оставался «коммунальным с пятью семьями к одному унитазу и кухней, где у каждой хозяйки есть конфорка на плите и кухонный столик, В освободившиеся номера «Метрополя» въезжали новые высокопоставленные, но потенциально временные жильцы. Особенно эта бывшая гостиница полюбилась интернационалистам — иностранным коммунистам и попутчикам. И по мере их уничтожения в номера въезжали новые, обреченные на расстрел при следующем этапе террора немцы и поляки.
Дом на Болотной площади был небогат, и квартиры там были почти бедные. Возможно, пришельцев из Киева выгнали бы в какое-нибудь пригородное общежитие, но Андрей пожертвовал еще сотней долларов, и Метелкин раздобыл всем троим — Берестовым и Давиду Леонтьевичу — прописку. А Мария Дмитриевна, хоть и принадлежала к породе эксплуататоров, почему-то получила права на большую комнату.
Это было почти чудом. Но в трех комнатах квартиры теперь обитали всего четыре человека, причем среди них не было ни одного истинного пролетария.
Так что положение настоящих Берестовых было куда более надежным, чем у Коли Беккера. Каморка горничных — чулан для половых щеток и тряпок, а может быть, бельевая — кто там разберет — обещала ненадежность и даже таила угрозу. Мало кто из соседей по этажу намеревался задерживаться либо надеялся задержаться здесь надолго. В Кремле все квартиры были уже разобраны, и оставалась надежда перебраться в выселенные адвокатские жилища.
Нина Островская держала Колю при себе в качестве секретаря, хотя об этом не говорилось вслух. Она делала вид, что приискивает Коле соответствующее его талантам место, но не спешила, потому что окончательно влюбилась в Колю и не желала расставаться с ним надолго: Москва — город соблазнов и развратных женщин с буржуазным прошлым. А в классовом отношении, как понимала Нина, Коля подвержен стремлениям к своему буржуазному окружению.
Вечером, придя вместе с Ниной с совещания в ЦК, Коля поужинал в столовой, было там пусто, полутемно, почти все жильцы отужинали, он взял гуляш и компот и половину булки.
Коля был голоден и жадно поглощал скользкий гуляш, так что сначала не обратил внимания на женщину, которая сидела за два столика от него, в углу, отвернувшись к стене, так что Коле было видно ухо и часть щеки, И все же Коля ее узнал. Может, потому, что впервые увидел ее также сзади.
А волосы были чудесные — густые, почти черные, волнистые…
Девушка обернулась быстро и испуганно, как оборачивается птица.
На ней были очки в толстой роговой оправе, лицо от этого изменилось.
На кухне открылась дверь, и луч яркого света упал на лицо девушки. Глаза были светлые, прозрачные, зрачки увеличены линзами очков.
Густые горизонтальные брови.
Высокие скулы и полные яркие и не накрашенные губы.
Это было чувственное, прекрасное, хоть и некрасивое лицо. Лицо-противоречие, лицо-парадокс. Робкое и отважное, если бывают робкие и отважные лица.
Она узнала Колю.
Она улыбнулась ему, несмело, потому что не была уверена, что встретит в ответ улыбку или узнавание, Коля взял стакан с компотом и перешел к ней за стол.
— Мы виделись с вами, — сказал он. — Здравствуйте.
— Вы мой спаситель, — сказала девушка низким голосом, который так соответствовал грубым чертам ее лица.
— Как странно, — сказал Коля. — Вот не ожидал вас увидеть здесь.
— Сюда все приезжают, — сказала девушка. — А мы ведь не знакомы?
— Там не было возможности представиться — сказал Коля.
Девушка протянула руку через стол.
— Фанни — сказала она. — Фанни Каплан. Это моя партийная кличка, как говорит Давид Леонтьевич.
— Кто?
— Один хороший старик, — сказала Фанни.
— Фанни? — повторил Коля.
— Вообще-то можете звать меня Дорой. А как вас зовут?
— Моя партийная кличка, — улыбнулся Коля, — Андрей Берестов.
— А имя?
— Можете называть меня Колей.
— Мы живем в ненастоящем мире, — сказала Фанни, — Все вокруг придумано. Знаете, я провела много лет на каторге и в тюрьмах. И когда произошла революция, я просто растерялась. Честное слово. Я знала этих людей обритыми, голодными, безнадежными, умирающими и даже, извините, вшивыми. А потом вдруг произошло то, чего мы сами не ждали. Мы всегда говорили о революции, о победе над царем и его сатрапами, об освобождении народа, а сами не знали, как это будет выглядеть. Так что когда это случилось, наверху оказались самые шустрые, хитрые и безжалостные.
И знаете — народ ничего не получил, а мы, революционеры, сразу многое получили.
И теперь будем биться вокруг кормушки.
— Вы расстроены? — спросил Коля.
— В России будет не лучше, чем раньше.
— А свобода?
— Неужели вы думаете, что Ленин и Троцкий оставят кому-то хоть глоток свободы.
Вы большевик?
— Не знаю, — сказал Коля. И он был искренен.
— Меня считают эсеркой, по крайней мере так меня называют твои друзья.
— Я не большевик.
— Вы друг Островской. Мы же замкнутый мирок профессионалов, как актеры одного провинциального театра. Не так много тюрем для политических, не так много пересылок и этапов. Даже деревень для ссылок не так много. Побываешь полдюжины раз в ссылке или на каторге и уже будешь знать, что думает Свердлов о Достоевском или какие пирожки Надя Крупская печет мужу.
— А она печет?
— Раньше пекла, а потом этим занималась его любовница.
— И кто же его любовница?
— Коля, это еще рано знать, — засмеялась Фанни. — Главное, что я зимой прожила месяц в санатории для партийцев, восстанавливала здоровье, потерянное на каторге, и восстанавливала его во дворце одного из членов несчастного царского семейства.
— Зачем вы мне все это говорите?
— Потому что вы, большевики, уже предали революцию.
— Вы все-таки жили в том санатории?
— Меня уговорил Дима Ульянов, мой старый друг. Это чудесный человек. И вообще семья Ульяновых мне очень приятна.
— Вся семья?
— Разумеется, кроме Владимира. Владимира Ильича. Он мне годится в отцы.
— А теперь вы живете в «Метрополе»? — спросил Коля.
— В первом доме Советов, — улыбнулась Фанни. А вы?
— В чулане для щеток и тряпок.
— Когда-нибудь пригласите в гости.
— Обязательно, — сказал Коля.
Они говорили, как говорят влюбленные, хотя еще влюбленными не были. За простыми фразами скрывался второй, понятный лишь им самим слой. Который и не нуждался в словах.
— Вы собираетесь к своей начальнице? — спросила Фанни.
— А вы хорошо знаете Москву?
— Мне приходилось здесь бывать.
— Покажете мне?
Они пошли гулять по Москве, замерзли. Нина не ложилась спать, несколько раз выскакивала в коридор, бежала к чулану. Ей казалось, что Колю убили бандиты или забрали в Чека.
В половине двенадцатого, в очередной раз выбежав к лестнице, она увидела, как внизу в вестибюле Коля прощается с Фанни Каплан, которую она почти не знала, хотя угадала, что это именно известная эсерка, героиня покушений предвоенной поры.
Нина ничего не сказала. Она стояла на верхней площадке и смотрела на Колю. И думала при том, что даже эта молодая еврейка привлекательней для Коли, чем она, отдавшая жизнь и силы революционной борьбе.
Фанни поднялась наверх к своему номеру, на том же этаже, что и номер Островской, и Островская с ней не поздоровалась. А Коля пошел в чулан на первом этаже.
Нина ушла к себе и не спала до трех часов, она надеялась, что Коля осознает свой проступок и придет к ней. Она так желала его! Засыпая, она стала думать, как избавиться от Каплан, Надо убрать ее из Москвы.
В разговоре Нина попросила Феликса Дзержинского пристроить временно ее помощника Берестова, хорошего парня, молодого партийца, ему надо пройти в Москве школу борьбы с контрреволюцией.
— У меня нет синекур, — ответил Феликс. — У нас работа грязная, вонючая и, главное, неблагодарная. Счастливым потомкам нашим будет невдомек, какие завалы человеческой грязи разгребали их деды. Мы же скромно отойдем в сторону и не будем об этом напоминать.
— Кто-то должен делать такую работу, — согласилась Островская. Партия не дает нам выбирать легкую жизнь, И мы платим ей за это.
— Парадокс, — вздохнул Дзержинский. — Теологическая направленность ума.
Закалялись в спорах.
— Ирония неуместна, — возразила Островская. — Я не хочу, чтобы парень просиживал брюки в конторе.
— Есть у нас отдел… Он имеет образование?
— Гимназия, два курса университета, потом вольноопределяющийся…
— Ты умеешь подбирать людей с сомнительным происхождением.
— Ты, Феликс, лучше других знаешь, насколько несущественно происхождение.
— Когда-то оно даст о себе знать.
— Не сегодня. Сегодня ты — дворянин, и Владимир Ильич — дворянин. У нас дворян больше, чем у эсеров.
— А ты из шляхты?
— Мой дед был сослан в Крым после восстания в Польше.
— Есть у нас особый отдел по борьбе с международным шпионажем, — сказал Феликс Эдмундович. — Небольшой, но важный. Его сотрудники должны знать иностранные языки.
— Кто во главе?
— Ты его не знаешь. Молодой парень, Яшка Блюмкин, выдвиженец революции. В двадцать лет он был уже помначштаба в 3-й армии. А может, ему и двадцати не было.
— Не нашлось кого-нибудь постарше?
— Хороший парень, находчивый, смелый.
— Из генштаба? — В голосе Островской звякнула ирония.
— Из хедера, — коротко ответил Дзержинский. Больше он обсуждать своего сотрудника не пожелал. Значит, с ним была связана какая-то интрига, на которую Феликс был большим спецом.
— Я пришлю Андрея завтра? К кому? К Блюмкину?
— Да, прямо к Блюмкину.
Нина забыла фамилию заведующего отделом, но номер комнаты запомнила. Коля отправился в дом ЧК на Рождественке.
Пропуск Коле был заказан внизу.
Государство ограждало себя пропусками, литерами, допусками и прочими изобретениями революционного ума, до которых царская власть так и не додумалась.
Коля поднялся на третий этаж в 250-ю комнату.
Там стояло три стола.
Два были пустыми, канцелярскими, будто ожидающими оккупантов, а третий стол был начальствующим, по краю он был обнесен вершковой балюстрадой на деревянных точеных столбиках, покрыт зеленым сукном, на котором возлежало толстое стекло, в центре возвышался чернильный прибор — бронзовый, с медведями. Один из медведей держал чернильницу, другой — стакан для карандашей, третий лежал, положив морду на лапы, и, наконец, последний медведь являл собой папье-маше.
По сторонам на столе возвышались груды неорганизованной бумаги, за столом во вращающемся кожаном кресле сидел сам Блюмкин.
Судьба не давала им расстаться.
— А я знал, что тебя ко мне прислали, — сказал Блюмкин, вскочив из-за стола и бросившись к Коле лобызаться. — Мы славно с тобой поработаем. Должен сказать… ты садись, садись, рюмочку коньяка желаешь? Еле выцарапал тебя! Островская не отдавала. Ты с ней спишь?
Коля не знал, как обращаться теперь к Блюмкину. Был он моложе, но обладал некой способностью выплывать из безнадежных омутов жизни, И в то же время в нем была некая обреченность — явная, настоящая или напускная.
— Сейчас пойдем допрашивать Мирбаха, — сообщил он Коле. — Ты допрашивать умеешь?
— Не приходилось.
— Пора начинать, А то жизнь пройдет, а ты останешься на обочине, Блюмкин расхохотался. Он был большим, склонным к полноте человеком, хотя до полноты было еще далеко — он вскоре признается Коле, что ему еще нет двадцати, хотя во всех документах и анкетах он добавляет себе два года, чтобы его не считали мальчишкой.
В пустой комнате, куда они спустились, за голым исцарапанным столом сидел невзрачный молодой человек с узким лицом, которое сходилось к крупному, явно от другого лица приставленному носу.
— Сейчас будем с ним серьезно разговаривать, — сказал Блюмкин. — Знаешь, что за птица? Племянник графа Мирбаха!
— Простите, — сказал молодой человек, — вы ошибаетесь. Я не имею отношения к графу Мирбаху. Это случайное совпадение!
— Вот с этим мы и разберемся, — сказал Блюмкин, — Вот мой друг, — он показал на Колю, — немцев на дух не переносит. Как услышит — Ганс, Фриц, Шукер или Беккер, сразу хватается за револьвер. Правда, мой друг?
Коля пожал плечами. Даже ради успеха следствия он не смог бы признаться в испуге — а вдруг это не совпадение? Вдруг Яшка Блюмкин знает настоящую фамилию Коли?
Воссоздавать беседы великих людей, тем более беседы тайные, когда знающие друг друга собеседники пропускают в разговоре многие детали, известные им и без обсуждения, дело неблагодарное и мало что дающее постороннему человеку. Потому чаще всего остается лишь гадать, была ли такая беседа, что привела к великой беде или, наоборот, ко благу, или ее домыслили любопытные потомки и безответственные историки.
Именно одной из задач папа Теодора и иже с ним было узнать, когда такая беседа состоится и что на ней будет в самом деле сказано. Правда, учитывать приходится, что это вовсе и не беседа, а обмен словами, порой совсем непонятными для окружающих.
В апреле большевики вместе с левыми эсерами разгромили анархистов и отобрали у них особняки, в которых они пили водку и спорили об абсолютной свободе, выставив в окна рыльца «максимов». С полтысячи анархистов арестовали, многих потом отпустили и записали добровольцев в новую Красную армию, которую организовывал товарищ Троцкий, сменивший на посту наркомвоенмора случайных людей вроде Бонч-Бруевича-младшего или Крыленко. Армию готовили для сопротивления германской агрессии, потому что в нарушение Брест-Литовского договора Германия упорно продвигала на Восток границу своих владений, все более оттесняя к Азии Советскую республику. Армия создавалась медленно, единого фронта не было, на юге и западе создавались враждебные республике режимы и армии, с ними пока дрались военные силы на местах, и из этой сумятицы вырастали, как ядовитые поганки, вожди и атаманы. Они, впрочем, плодились не только у Советов, которых начали уже называть «красными», но и у белых, Началась война Алой и Белой Розы в русском варианте. Сходство ситуации было и в том, что положение на местах определили именно бароны, у которых вместо замков были села и города, и эти бароны порой быстро меняли стороны, если им это казалось выгодным. Так, село Гуляйполе стало феодом Нестора Махно, а неподалеку в Александровске правила Маруся, Богаевский сидел на Дону, Дугов еще восточнее, в Оренбурге, а Бермонтавалов обнаружился в Латвии.
Большевиков смущала демократия, которую сразу не удавалось искоренить, потому хотя бы, что они сами шли к власти как демократическая сила. Так что весной и в начале лета 1918 года продолжали выходить, хоть и покореженные новой цензурой, газеты разного направления и самая антисоветская из них «Новая жизнь» Максима Горького. Правых эсеров большевикам с помощью эсеров левых удалось обезвредить, но оставались еще партии, которые объявили себя сторонниками большевиков, союзниками в борьбе, а союзника порой пристрелить куда труднее, чем врага, потому что сначала приходятся доказывать, что союзник на самом деле держит камень за пазухой и готовит измену. Пока что шла подготовка к Съезду Советов, а на него шли и левые эсеры, которые в деревне были куда влиятельней большевиков, и небольшие партии вроде меньшевиков-интернационалистов и схожих с ними ненужных союзников.
Но хуже всего был рост сил левых коммунистов, противников «похабного» Брестского мира, которые явно нащупывали союз с левыми эсерами, те боролись против Бреста всей партией, последовательно и непримиримо, хотя на открытое восстание или выступление не решались, опасаясь погубить этим расколом республику Советов.
Левые коммунисты, стремившиеся к революционной войне с Германией и весьма популярные в стране, стали весной настолько сильны, что многократно проваливали инициативы Ленина я постепенно выталкивали его с первого плана, потому что мир, столь горячо навязанный Лениным, привел к катастрофе.
Беседовали Свердлов и Ленин. Именно их тандем пока удерживал власть в России.
Оба были гениальными тактиками и не всегда удачными стратегами. Оба понимали, что политическая необходимость исключает понятия совести и жалости. Они любили человечество, народ, но мало кого из людей. Оба были убеждены, что людей надо заталкивать к счастью дубинками и даже пулями, ибо сам народ не знает, чего он хочет. Зато они знали.
Разговор происходил в странном для постороннего человека месте, в купальне Узкого — имения Трубецких под Москвой. Купальня была старая, традиционная, построенная для того, чтобы случайный взгляд с той стороны пруда не мог увидеть частично обнаженных господ. Она являла собой домик с крышей, в полу которого был квадратный вырез, в нем и купались. Как бы в бассейне размером три на три метра.
Со стороны большого пруда была вымостка, на ней — два плетеных соломенных кресла, а в них сидели тепло одетые вожди государства и разговаривали, будучи убежденными, что никто их не может подслушать.
Тем более что со стороны берега стояли верные охранники, которые следили за тем, чтобы с суши никто не посмел подкрасться к купальне.
Одним из трех охранников был человек с густыми бровями и глубокими глазницами, пан Теодор. Не важно, как он проник в число охранников, главное — он записывал на пленку секретную беседу.
— Надо спешить, — сказал Ленин. — Времени в обрез.
— Дзержинский встречался с Камковым, — сказал Свердлов.
— Он опаснее многих, У него везде шпионы, у него карательный аппарат, организованный куда лучше нашей армии.
— Лев думает о себе, и если Дзержинский добьется своего, он благополучно переметнется к нему.
Собеседники замолчали.
— Очевидно, левую надо будет громить на Съезде.
— Иначе будет поздно.
— Но они должны быть в чем-то виноваты. В чем?
— Владимир Ильич, — сдержанно улыбнулся организованный Свердлов. — Неужели мы не придумаем такой малости?
Это была шутка, По крайней мере настолько Свердлов позволил себе приблизиться к шутке.
Обычно юмор или скорее ирония достаются первым лицам, а их заместители предпочитают оставаться серьезными.
— Необходимо событие, — продолжал Ленин. — Событие, которое не только отвратит от эсеров трудящиеся массы, но и откроет глаза на истинную сущность эсеров.
— С одной обязательной деталью, — согласился Свердлов, — в истинность события и стоящих за ним побуждений должны поверить не только мы с вами, то есть простой народ…
Ленин склонил голову, одобряя иронию соратника.
— Но и они сами, сами эсеры.
— А это самое трудное, — сказал Ленин. — Это вызов, который бросает нам история.
Это перчатка, тяжелая, железная рыцарская перчатка. Нам ее следует сначала отыскать, а затем поднять.
— Суммируем…
— Суммируем: к началу Съезда Советов, куда мы под видом выборов заманим добровольно идущих в клетку камковых и Спиридоновых, случится некое событие, которое скомпрометирует левых эсеров и позволит нам ликвидировать наших верных союзников.
— Надо назначить человека, достойного и способного организовать такое событие…
Предлагаю Феликса Эдмундовича.
— Его руками — его союзников?
— Разве это неразумно?
Ленин не ответил. Он поднырнул под деревянный настил и исчез.
Увлекшийся беседой Свердлов только тут заметил, что вождь революции успел, разговаривая, раздеться, оставшись в нижних полосатых панталонах.
Свердлов подумал было тоже нырнуть, но не стал.
Нина Островская невзлюбила Блюмкина. Как-то она невзначай заглянула в комнатку своего друга и увидела там Яшку, который принес бутылку коньяка из царских запасов и разложил на столике рыбку из Астрахани, круг армавирской колбасы и ситник — просто, но сытно.
Коля сидел за столиком и с удовольствием наблюдал за действиями своего шефа — тот умел вкусно обращаться с пищей.
Островской, которую он встречал и раньше, Блюмкин только кивнул, а Коля, конечно же, вскочил и смутился, потому что предугадывал, что сейчас услышит.
— Яков, — сказала Островская, — известно ли вам, что в нашей республике распитие алкогольных напитков строжайше запрещено, а тем более запрещено членам партии?
— Какое счастье, — высоким, звонким, странным для такого массивного тела голосом ответил Блюмкин, — какое счастье, что я состою в другой партии.
— А именно? — растерялась Островская, которая была убеждена в том, что Блюмкин хоть и дурная овца, но из своего стада.
— В последнее время я состоял в партии левых эсеров, — сказал Блюмкин, — Феликс Эдмундович сам одобрил мой выбор.
— Чушь какая-то! — воскликнула Нина. — Зачем ты пытаешься скомпрометировать в моих глазах паладина революции?
— Ни в коем случае. Феликс Эдмундович полагает, что в ряды левых эсеров давно пора влить новую свежую кровь. Такой вот агнец — ваш покорный слуга.
Блюмкин был способным лингвистом, у него был абсолютный слух и отличная память.
Так что, не получив, в сущности, никакого образования, кроме хедера, он не только выучил несколько языков, но и владел культурной русской речью без всякого акцента или еврейского местечкового говорка.
Впрочем, в Кремле многие говорили с акцентом. Комдив латышей Вацетис с трудом пробивался сквозь русскую фонетику, у Феликса Дзержинского и его близкого помощника Менжинского речь была мягкой, певучей, польской по мелодии. Сама Островская не могла избавиться от украинской мовы, впрочем, то же можно было сказать и о Троцком, украинце по месту рождения и воспитанию. Сталин, Орджоникидзе и Шаумян говорили с акцентом кавказским… часто слышался местечковый говор белорусского или украинского розливов… Блюмкин быстро и успешно освоил московскую речь, уж куда лучше Коли Беккера, который хоть и происходил из разночинной семьи, окончил гимназию, но крымского, хоть и легкого акцента, конечно же, не изжил.
— Андрей, — сказала тогда Нина, которая, как настоящая коммунистка, никогда не мирилась с поражением. — Немедленно следуй за мной.
Коля поглядел на Блюмкина словно в поисках защиты.
— Андрей Берестов работает в моем отделе, — сказал Блюмкин, — и ты, Ниночка отлично об этом знаешь. Ты сама отдала зайчика серому волку, и я научу его жрать ягнят. Поняла?
Блюмкин налил в фужер оранжевой жидкости и посмотрел на свет.
— Прилично, — сказал он. — Будешь, Нина?
Нина ушла.
— Она была грозна и молчалива, — сказал Блюмкин, — но, ваша честь, от вас не утаю, вы, безусловно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Это я написал.
— Это ты украл, — засмеялся Коля.
Он сменил хозяина, И был рад освобождению от зависимости. И может быть, не посмел бы поднять бунт на борту, если бы не Фанни. Он договорился пойти с ней в театр сегодня и намеревался признаться в этом Яшке, потому что нуждался в деньгах, а у Блюмкина всегда можно было занять без отдачи.
Он ничего не успел сказать, как Блюмкин, Блюмкин, который способен был порой к прозорливым озарениям, заявил:
— Ты никогда не станешь великим человеком, Берестов. О тебе даже в самой полной энциклопедии не напишут. И знаешь почему? Молчишь? Боишься, что я скажу что-то для тебя неприятное? Я скажу правду. Ты должен кому-то подчиняться. Без подчинения ты теряешься. Сегодня утром ты подчинился Островской. Наверное, потому что она баба решительная и бессовестная. Она сообразила, что может заполучить тебя в кроватку. И заполучила. Конечно, спать со стиральной доской — не лучшая участь для молодого кавалергарда, но куда деваться? Комната в первом доме Советов много стоит. Не бойся, теперь ты чекист. И мы с твоей Островской всегда справимся. Ничего она тебе не сделает — в случае чего пойдем к Александровичу или к самому иезуиту. И в расход пустим товарища Островскую за нападение на юного сотрудника. Правда, тебя она к тому времени уже шлепнет.
Вечная тебе память!
Не переставая заливисто хохотать, Яшка протянул полный фужер Коле и сказал, что отныне он его заместитель, потому что ему нужен заместитель-коммунист. К эсерам не все одинаково относятся.
Выпили.
Потом Блюмкин спросил, чего желает душа товарища Берестова.
Душа товарища жаждала получить взаймы до получки четвертак. Такие у души были запросы.
— Надеюсь, ты в азартные игры не увлекаешься?
— Нет.
— И не пробовал?
— Пробовал, не понравилось.
— Значит, к счастью, проиграл, и тебя не потянуло. Значит, женщина?
— Женщина.
— И как джентльмен ты не посмел брать взаймы у Островской, а аванс ты потратил на кожаную куртку, не дождавшись, пока ее тебе выдадут со склада.
— А разве мне положено? — Коля был расстроен.
— Если я велю, то будет положено.
— Спасибо. — Коля принял деньги от начальника.
— Как зовут счастливую избранницу? — спросил Блюмкин.
— Фанни.
— Француженка? Молчишь? Тогда я догадываюсь: жидовочка? Сколько же их приперлось в столицу, переплывя черту оседлости, словно Рубикон. Секретарша в наркомате товарища Троцкого?
— Она в отпуске, — признался Коля. — Она была в санатории, в Крыму, после каторги.
— Коллега? И что же ты находишь в революционных щуках?
— Не знаю… но чувствую, что у нее все в прошлом.
— Чепуха! Революция как лишай, заразился — и на всю жизнь. Тоже большевичка?
— Она была в партии правых эсеров, но выбыла из нее. Она теперь беспартийная.
— Террористка?
— Она была на каторге.
— Фанни… Фанни… Не знаю.
— Фанни Каплан. Она в нашей гостинице живет.
— Ого! — Блюмкин присвистнул. — Это штучка! Она, по-моему, два смертных приговора в личном деле носит. Известная штучка! Фейга Каплан.
— Вообще-то она Дора.
— А я Микеланджело Буонаротти, слыхал о таком краснодеревщике у нас в Одессе?
— У нас Айвазовский был не хуже.
— Молодец, настоящий патриот. Будучи в Феодосии, я посетил его музеум. Там есть самая длинная картина в мире — жизнь человека как бушующее море.
— Я знаю.
— Возьми меня в театр.
— Не хочу.
— Боишься, что я Фаньку у тебя уведу?
— Я не боюсь, У нас ничего нет.
— И правильно. Ты не знаешь этих эсерок. Ты Коноплеву здесь не встречал?
— Нет, а что?
Эта баба сломала себе здоровый зуб, живой нерв, представляешь, чтобы ходить к дантисту, окно кабинета которого выходило на дом мужика-полицмейстера, которого велели убить. Такие есть женщины в русских селеньях. Брось ты эту Фанни. Как волка ни корми, он в лес смотрит.
— У нас ничего нет.
— Но если она попадет к нам в Чека, я заступаться не буду. Предупреждаю. Никогда и пальцем ради эсерки-террористки не пошевелю. Я противник террора, ты не заставишь меня убить человека, в этом отношении я сторонник Ленина. Он противник индивидуального террора.
— А есть еще и коллективный террор?
— А вот это наша партия приемлет.
— Так ты эсер или большевик?
— Революция — моя невеста. Как невеста скажет, так тому и быть. А тебе я не советую по театрам шляться с террористками. А то Менжинскому скажу.
В Общедоступном Художественном театре, в новом, в стиле позднего модерна здании в Камергерском, давали «Анатему» Андреева. Пьеса была дурная, напыщенная и старомодная, хоть и написал ее Андреев совсем недавно. Психология революции коренным образом изменилась. Публика в зале была странная, казалось бы, в основном были люди переодетые, думающие о том, как они будут возвращаться домой в сумерках, и когда на них нападут бандиты, можно будет сказать: «Разве вы не видите, какой я бедный?»
За билеты Коля заплатил накануне, пятнадцатый ряд обошелся в двенадцать рублей.
Фанни робела и призналась в этом.
— Почему тебе пришло в голову позвать меня в театр? — спросила она вдруг, когда действие уже началось.
— Ты знаешь почему, — сказал Коля. — Я подумал, что ты давно не была в театре.
— Ты очень милый, Андрюша, — сказала Фанни. Она положила ладонь ему на колено. — Я тебе всегда буду благодарна. Это лучше, чем если бы ты купил мне манто.
— У меня нет денег тебе на манто.
Фанни вдруг улыбнулась.
— Когда-то очень давно, тысячу лет назад, еще в той жизни, я жила на квартире у одного адвоката, из сочувствующих. Он к тому же защищал наших в суде. И брал большие гонорары. Мне рассказывал об этом Витя Савинков, брат Бориса. Ты слышал о них?
— Слышал, конечно, слышал, — сказал Коля.
Эта милая, тихая и жутко одинокая женщина притягивала к себе Колю не только качествами женскими, скрытой животной страстностью, которую подавляла в себе, полагая это ненормальным и греховным, но и славой террористки, которая известна таким столпам революции, как Савинков или Ленин, за которой ухаживал, по ее же рассказам, брат Ленина Дмитрий, которую отыскал и привез в «Метрополь» Сергей Мстиславский, фигура в революции легендарная, хоть и не террорист. И эта женщина сидела рядом с ним в театре и даже дотронулась до него.
Коля привык к тому, что нравится женщинам, и даже научился снисходить к их настойчивости, И его вовсе не мучила совесть за то, что он сознательно пошел на близость с Островской, — он покупал себе свободу и, возможно, жизнь. Впрочем, в свое время он уже пытался использовать женщину в корыстных целях, когда соблазнил генеральскую дочку, дочь хозяйки квартиры, где снимал комнату. Еще в студенческий год, от которого остались полупогончики в его чемодане. Может, и не следовало возить с собой такой сувенир, но каждый человек имеет право на прошлое.
С Фанни все было иначе, даже иначе, чем с Маргаритой.
Он сам выбрал для себя эту женщину. А может, это сделала судьба, когда столкнула их на ялтинской набережной, когда он пытался защитить ее от злобного остзейца.
Как была фамилия полковника, который пришел ему на помощь? Врангель?
Он как-то спросил Фанни, не знает ли она полковника Врангеля. Она не знала. Как и Островская. А Блюмкин сразу вспомнил: «Был такой адмирал Врангель, он открыл остров в Полярном океане. Он так и называется — Земля Врангеля».
Коля спросил, когда это было, и Блюмкин признался, что не помнит, но уже много лет назад. Нет, это был другой Врангель. Неизвестный.
— Они проводили экс, — продолжала Фанни, — и почему-то вместе с деньгами им досталось манто. Соболиное манто, представляешь?
— Они квартиру ограбили?
— Ни в коем случае! Они взяли ломбард или нечто подобное. Может, даже логово ростовщика. Но братья Савинковы никогда не занимались грабежами. И если до тебя доносились такие слухи, то это клевета, которую распространяла охранка и большевики.
— Ну и что было дальше?
— Не хочется рассказывать. — Фанни была обижена за товарищей. И Коля рассердился на нее, Сам не знал почему.
— Ты с ним спала? — спросил он.
Получилось громче, чем следовало. Как раз в тот момент начал открываться занавес.
Гражданин, зашипел кто-то сзади — и Коля не осмелился обернуться — вы можете придержать свои грязные чувства при себе?
Фанни убрала руку с его колена.
Пьеса была высокопарной и не очень увлекательной. Коля раскаивался, что нахамил.
Он оборачивался к ней, и Фанни хмурила густые восточные брови, чувствуя его настойчивый взгляд.
В антракте Коля нашел правильные слова.
— Прости меня за вспышку ревности, — сказал он.
И это было признанием.
Неожиданно Фанни покраснела, румянец залил лицо — скулы и даже лоб, Отвернулась.
Коля понял, что на него больше не сердятся.
— Пошли в буфет, — сказал он. — У меня есть деньги.
— Нет, — сказала Фанни, — я совсем обнищала.
— Мы не у немцев, — сказал Коля, — а в России, здесь мужчины платят.
Фанни покорно пошла за ним в буфет. Народу там было немного. Они взяли по стакану жидкого чая и по прянику. А еще Коля заставил Фанни принять от него небольшое яблоко, мягкое от зимнего хранения.
— Тебе нужны витамины, — сказал он.
Чай был на сахарине, но горячий.
Коля заплатил за все десятку.
— Какой ужас — сказала Фанни.
— А что?
— Деньги надо экономить, — произнесла она голосом старшей сестры.
Коля знал, вернее, высчитал, что Фанни примерно тридцать лет. Но на самом деле догадаться о ее возрасте было невозможно. Очевидно, думал Коля, она и в пятьдесят будет моложавой женщиной без возраста.
— Кем ты будешь? — спросил он.
Этот вопрос поставил Фанни в тупик. Возможно, она и задумывалась о своем будущем, но мысли ее были настолько сокровенными, тайными, что она не смела высказать их вслух.
Так и не решившись ответить, она сказала:
— Не знаю, не думала.
— Пойдешь на партийную работу?
— А на что я гожусь? — Этот вопрос не требовал ответа.
— Тебе положена партийная пенсия, — сказал Коля, — как политкаторжанке.
— Я не обращалась за ней.
Больше они к этому вопросу не возвращались.
Не могла же Фанни сказать Коле, который ей нравился и притом был большевиком, близким по классовым воззрениям, п потому вряд ли поймет ее потайные мысли, что она хотела бы сидеть дома и растить детей. Что она очень стара для любой иной работы. В крайнем случае, если своих детей судьба ей не подарит, то она готова была ухаживать за чужими детьми, может быть, за племянниками.
В зале они взялись за руки.
Как гимназист с гимназисткой.
Ладошка Фанни была теплой, влажной и податливой. Коле хотелось поцеловать ее, но, конечно же, он удержался.
Он только сказал:
— У тебя чудесные волосы.
В этот момент герой шумно страдал на сцене, и потому Фанни переспросила:
— Что волосы?
— Чудесные.
Она удивилась.
Коля склонился к ее уху и прошептал:
— У тебя чудесные волосы.
— Перестань! Не мешай смотреть.
Но руку она не убрала и более того — чуть сжала несильными пальцами ладонь Коли.
Когда они шли домой, а вечер был уже почти теплым, обоим не хотелось расставаться. Коля поддерживал Фанни под локоть, чтобы она не угодила по своей близорукости в лужу или не ударилась о какой-нибудь кирпич. Он поймал себя на том, что ее беспомощность умиляет его и вызывает жгучее желание заботиться об этой слабой женщине, опекать ее и не давать в обиду.
Коля сам чуть не налетел на кучу пустых ящиков, почему-то не растащенных на дрова, потому что загляделся на странный, может, и некрасивый, но такой удивительный профиль бывшей террористки.
И уж конечно, он не видел, что шагах в ста сзади за ними от самого театра шел, почти не скрываясь, сутулый мужчина в гороховом пальто, оставшемся от службы в охранке — рядовых ее сотрудников последнее время стали привлекать в ЧК, там требовались их навыки и умение следить за подозреваемыми.
Утром его доклад о передвижениях граждан Берестова АС. и его спутницы лежал на столе у заведующего отделом по борьбе с международным шпионажем товарища Якова Блюмкина.
Яша желал знать все о слабостях и сильных сторонах своих сотрудников.
Чуть было не произошла неприятная для Коли встреча. В четверг Фанни решила навестить старика Бронштейна, а Коля вызвался ее сопровождать. У самой Болотной площади Коля вспомнил, что у него кончились папиросы, и сказал Фанни, что добежит до Пятницкой, купит пачку, а Фанни сказала ему адрес и обещала ждать.
Купив папирос, Коля не спеша дошел до нужного дома и готов был войти в подъезд, но тут его внимание привлекло маленькое животное — котенок, однако всем своим обликом и соразмерностью частей тела похожий на взрослого кота. Да и котят таких маленьких не бывает. Котенок был чуть больше мышки размером.
Коля наклонился было, чтобы схватить малыша, но в этот момент мимо него прошел человек в поношенной студенческой шинели.
Занятый своими мыслями человек не обернулся и не заметил Колю, но Коля сразу узнал своего невольного тезку и бывшего друга — Андрея Берестова, чье имя по нелепому стечению обстоятельств в разгар революционных событий в Крыму он взял, чтобы спастись от матросов, охотившихся за офицерами с немецкими фамилиями.
Коля не хотел встречать Берестова, потому что встреча обязательно потребовала бы объяснений. Впрочем, в тот момент он об этом не размышлял, а сжался и инстинктивно замер. Рука его тем временем схватила котенка, который пищал и мяукал высоким, как у комара, голосом и даже пытался царапаться — то есть вел себя как взрослое животное.
Коля готов был отбросить котика в сторону, но боялся привлечь этим внимание Берестова, потому терпел, когда миниатюрные коготки чувствительно рвали кожу, Андрей скрылся в подъезде, к которому как раз и направлялся Беккер.
Пронесло…
— Ах, спасибо, молодой человек! — послышался рядом высокий голос.
Чрезмерно очкастый сутулый мужчина в длинном черном пальто стоял рядом с Беккером.
— Я уже отчаялся. Я думал, что этот стервец сбежал окончательно.
Очкарик вытащил сопротивляющегося котенка из руки Коли, тот и не подумал смириться и продолжал рваться на волю.
— Вам понравился мой малышка? — спросил очкарик. — Вы не поверите — месяц назад он был самым обыкновенным помоечным котищей, и перед ним трепетали даже псы, И вот ссохся.
— Ссохся?
Очкарик сунул котенка в боковой карман пальто, карман оттопырился и стал вздрагивать. Очкарик протянул тонкопалую кисть Коле и представился:
— Мельник можете называть меня Миллером, в зависимости от политических симпатий.
— У меня нет политических симпатий, — осторожно произнес Коля.
— Я ваш должник, — сказал Миллер-Мельник. — Кстати, у меня есть самый настоящий кофе. Вы не поверите. Мой коллега Седестрем прислал мне с нарочным из Стокгольма, Приятно, когда о тебе помнят коллеги.
В Коле проснулось любопытство, Все равно Фанни будет ждать его наверху. А настоящего кофе хотелось — давно он не пробовал…
— А вы на каком этаже живете? — спросил Коля. Еще не хватало прийти к этому кошачьему чудаку и встретить там Берестова.
— На четвертом.
— Отлично.
— Так пойдете?
— Пойду.
— Но вы не представились.
— Андрей. Андрей Берестов.
— Какое смешное совпадение. Один шанс из миллиона. Вы представляете подо мной, точно под моей комнатой, обитает Андрей Берестов. Я с ним знаком. Но к сожалению, он не биолог, а историк, даже этот… он копается в земле. Археолог!
Они вошли в грязный, но не хуже других московских подъездов вестибюль. Дом был небогат, для мелких чиновников.
— Вы не поверите, как мне повезло! — сказал Миллер-Мельник, когда открыл дверь в черный коридор. Он быстро захлопнул ее за спиной и выпустил котика из кармана.
Тот умчался во тьму.
— Держите меня за руку, — велел Мельник. — Вы можете себе представить, что в квартире всего три комнаты, И две из них занимает красный командир. Настоящий красный командир. У него есть деревянная кобура, и сапоги страшно скрипят. Он так боится грызунов — вы не представляете. Вы боитесь грызунов?
Мельник открыл дверь к себе в комнату, и в нос Коле ударил запах крысиного логова и кошачьей мочи.
Под ногами началось какое-то шевеление. Мельник круговыми движениями башмака загонял какую-то живность внутрь комнаты, хлопнула дверь. Коля жестоко раскаивался в том, что согласился на кофе. Трудно было представить себе человека, который может распивать кофе в такой атмосфере.
Мельник пробежал рядом с Колей и широким жестом оттянул в сторону плотную штору.
Сразу стало так светло, что на секунду Коля зажмурился.
Он огляделся.
Комната была велика, потолок высок.
Вдоль одной стены на высоту человеческого роста одна на другой стояли клетки. В них бегали, лежали, спали, дрались, жрали маленькие животные. Коля разглядел мышей размером с тараканов, крыс размером с мышей, котят — или махоньких кошек, собаку ростом с белку… это был игрушечный мир, но мир живых игрушек. Из какой-то старой сказки. То ли у Одоевского, то ли у Погорельского — а может, у Гофмана?
— Вы их здесь выводите? — спросил он.
— Должен сказать, — ответил Мельник, — что вы сейчас видите перед собой крупнейшего естествоиспытателя нашего времени. Беда моя в том, что я родился и живу в этом диком несчастном государстве, где никому нет дела до моих исключительных достижений.
Мельник был доволен собой.
— Вы можете уменьшать животных? — спросил Коля.
— Это может сделать каждый, — сказал Мельник, — но я знаю, как устроен атом. Вы знаете, как устроен атом?
Только тут Коля увидел большой стол, который занимал треть комнаты. Стол был накрыт брезентом. Коля рванул за край брезента — сам не мог бы объяснить, почему он так сделал.
— Стой! — закричал Мельник. — Стой, это же ценное оборудование, я такого больше не достану.
Под брезентом оказались микроскопы, ряды пробирок и приборы, незнакомые Коле.
— Еще один махинатор, — сказал Коля.
— Клянусь вам, это величайшее достижение в биологии. Я могу уже сегодня уменьшить любое животное.
— Зачем? — спросил Коля. — Какого черта! Кому нужно ваше открытие!
— Любое открытие нужно. Если оно великое нужно вдвойне. Представьте себе, сегодня в Москве или в Петрограде трудятся подобные мне гении. Один разрабатывает лучи смерти, второй — бомбу, питающуюся энергией атомного ядра.
— Я пошел, — сказал Коля. — Играйте в своих мышек.
Мельник выбежал за ним в темный коридор.
Коля открыл дверь на лестницу и выглянул нагружу.
Он угадал. Дверь этажом ниже как раз отворилась.
— До встречи, Давид Леонтьевич, — сказала Фанни, выходя на лестницу.
— Может, купите кошечку? У меня катастрофа с деньгами, — просил в спину Мельник.
— Нет у меня денег, — прошипел, обернувшись, Коля.
— Вы кофе не выпили, — обреченно произнес Миллер-Мельник.
Коля побежал по лестнице следом за Фанни.
Он догнал ее на улице.
По дороге домой Коля попросил Фанни рассказать, кто живет в той квартире.
Фанни назвала Давида Леонтьевича и сказала:
— Еще там милая молодая пара — Андрей и Лидочка, только я не знаю их фамилии.
Коля рассказал Блюмкину об ученом чудаке.
Тот посмеялся вместе с ним:
— Котики из атомов? Чудо. Наша страна — замечательный сумасшедший дом. Маленькие, говоришь?
На том разговор и закончился.
Но при встрече с Феликсом Эдмундовичем Блюмкин не преминул рассказать о смешном ученом.
Возвратившись в свой кабинет после долгого и осторожного разговора с Лениным, Дзержинский приказал никого к нему не пускать. Он был так серьезен и задумчив, что острослов Александрович сказал Петерсу: «Ермак думу думает».
Предложение, сделанное Лениным, не было для начальника ЧК неожиданностью. Они и сам понимал, что лодка не может свезти двух пассажиров. Как это было сказано у О’Генри?
«Боливар двоих не свезет?»
Завтра об этом догадаются сами левые эсеры, а еще раньше — соратники по нашей партии.
Дзержинскому казалось забавным, что из всех возможных исполнителей Ленин выбрал его. А ведь мог договориться с Троцким. Троцкий — вечно второй, он и помрет вторым. Троцкий с радостью кинется уничтожать конкурентов, которые в свою очередь не скрывают своего недоброжелательства.
Но иезуитский, холодный ум Дзержинского отдавал должное Ильичу. Ильич гениальный тактик. Хотя когда-то, и, возможно, скоро, этот тактический талант погубит Ленина, Сегодня одной тактики мало. Недаром вся страна, весь мир понимают — Ленин проиграл Брестский мир, это его поражение и позор. Он понимает это и сам на всех перекрестках кричит о том, что Брест — это похабный мир. Но это передышка, которая приведет к всемирной революции. Передышка тянется и тянется, всемирной революции не предвидится, а уже скоро половина России окажется под немецким сапогом. Потеряны Украина, Белоруссия, Польша, Финляндия, Прибалтика…
Предложением, а может, даже приказом Ленин, казалось бы, поставил Дзержинского в безвыходное положение. Он ведь знает, что Дзержинский — вождь противников Брестского договора внутри партии, вождь левых коммунистов, И именно в этом пункте союзник эсеров. Но как настоящий коммунист он должен понимать — эсеров надо ликвидировать. Союзников, но лишних в лодке. И вот теперь… решай, Феликс.
Дзержинский предвидел разговор с Лениным, поэтому уже давно разработал план — как погубить партию левых эсеров ее же руками. Но пока он не считал необходимым посвящать вождя революции в детали гениального и такого банального, в сущности, плана.
Дзержинский попросил секретаря вызвать к нему товарища Блюмкина.
— Ну и что нового? — спросил он.
Борода у Яшки подросла, он обзавелся английского покроя френчем — в ЦИКе Свердлов внедрял пиджак и галстуки и проигрывал чиновничью войну. Надвигалась новая война, и потому мода также тянулась к пулям.
— Он дает показания, — сказал Блюмкин, имея в виду несчастного Мирбаха, которого, сменяясь, допрашивали все сотрудники отдела правда, безрезультатно, потому что ничего полезного Мирбах сообщить не мог.
— Вышли на посла?
— Надеюсь выйти.
Я даю тебе времени месяц, — сказал Дзержинский. — Через месяц дело должно быть готово.
Отдел был создан специально для того, чтобы можно было скомпрометировать немецкое посольство, которое, как назло, вело себя сдержанно и не попадалось ни на спекуляциях, ни на связях с контрой, ни на разврате. Проклятый граф Мирбах держал немцев в жесткой узде. Дзержинскому сначала показалось, что, взяв однофамильца посла и объявив его шпионом, он посла погубит. Но посол с удивительным и отвратительным для Дзержинского равнодушием встречал все попытки связать его имя с арестованным.
— Будет готово — обещал Блюмкин, хотя еще сам не представлял, что будет готово к началу июля. Однако понимал, что именно тогда намечен Съезд Советов, где встретятся все оставшиеся партии.
— Понял, все будет готово, — повторил Блюмкин.
— Что еще нового? — спросил Дзержинский. — Экстраординарного?
Это было любимое слово шефа. Каждую беседу с любым своим сотрудником он завершал таким вопросом. Подчиненные порой копили новости или хотя бы любопытные сплетни именно в расчете на этот вопрос.
Для Дзержинского такое завершение беседы не было пустым звуком. Из пустяков складывалось знание, которое зиждется не только и не столько на высоких каменных башнях общеизвестных трагедий, а на шорохе мышиных передвижений. Именно такие передвижения говорят о том, что скоро сваи нерушимого для всех моста рухнут, подточенные махонькими зубами.
Яша отлично знал об обычае шефа ЧК.
— Любопытную историю рассказал мне один из моих сотрудников, — сказал он. — Есть такой чудак, живет на Болотной площади и уверяет, что может уменьшать мышей и даже собак в несколько раз. Вернее всего, жулик, но мой сотрудник уверяет, что видел сам уменьшенных зверюшек.
— Фамилия, — сказал Дзержинский.
— Миллер-Мельник — наверное, псевдоним. Болотная площадь…
— Я не о нем, — сказал Феликс Эдмундович. — Я о вашем сотруднике.
— Берестов, Андрей Берестов. У меня к нему никаких претензий.
— Никаких?
— Он коммунист, в отличие от меня член вашей партии, протеже Нины Островской.
— Знаю, знаю. Бывший адъютант адмирала Колчака.
— Не может быть! Он же совсем молодой, моего возраста.
— Чем-то он Колчака пленил.
— Ну вот, никому нельзя верить.
— Якову Блюмкину тем более, — вдруг улыбнулся Дзержинский, как кот, надежно прижавший лапой мышь и желающий поиграть с ней, прежде чем ее сожрет. — Могу ли я верить человеку, который скрывается в моем ведомстве под псевдонимом?
— Это партийная кличка, — поправил шефа Блюмкин.
— И который во всех анкетах пишет ложные сведения о своем рождении. Вы, товарищ Блюмкин, на два года моложе указанного вами возраста.
— От вас ничего не скроешь, Феликс Эдмундович, — с явным облегчением сказал Блюмкин, что не скрылось от внимательного слуха начальника ЧК.
— Для этого я сюда поставлен партией, — наставительно произнес Дзержинский. — А вот ты, Блюмкин, не знаешь, почему твой Берестов оказался на Болотной площади.
— Площадей много… — туманно ответил Блюмкин. Что-то он недоглядел. И это ему зачтется в минус.
— Он пошел туда со своей подружкой, с возлюбленной, которая весьма нас интересует.
Блюмкин молчал, чуть склонив набок голову.
— А его подружка, как нам известно, на Болотной площади некоторое время жила в одной квартире со знатной дамой, находящейся у нас под наблюдением.
— Не томите, откройте тайну! — взмолился Блюмкин.
— Возлюбленную Берестова зовут Фанни. Фанни Каплан. Это имя вам ничего не говорит?
— Первый раз слышу.
— А вот это грустно. Потому что Фанни Каплан — известная террористка, всю свою молодость она провела на каторге под двумя смертными приговорами. Сейчас, по слухам, урезонилась, отдыхала в Крыму в санатории для политкаторжан… но как мы с тобой знаем, волк всегда волк, как его ни корми. Так что мы прослеживаем ее передвижения, связи и явки.
— Берестова мне рекомендовал товарищ Дзержинский. — Блюмкин смотрел на стену.
— Пока что мы его не подозреваем, если, правда, она не успела склонить его в свою веру… И если у нее еще есть вера. Они познакомились, насколько нам известно, в первом доме Советов, потому что оба там живут. Но в любом случае твой Берестов теперь фигура повышенной опасности. Глаз с него не спускай!
— Он не лидер, он склонен подчиняться… мне.
— У меня появилась мысль о том, как можно будет его использовать. А насчет собачек и мышек… мы этим займемся. Если это не жулик, то он может пригодиться для революции.
— Как же?
Для революции все может пригодиться.
Яшу Блюмкина губило желание показать себя. Это желание выражалось в опасном хвастовстве.
Он потащил с собой Колю в «Кафе поэтов. Блюмкина встретили там как своего, и Яше было приятно удивлять своего подчиненного связями, влиянием и даже славой, Народу в кафе было немало, сидели тесно, на небольшой эстраде гремел самоуверенный молодой человек с грубым мужественным лицом. Блюмкин провел Колю к столику, за которым сидел нежный белокурый красавец из «Снегурочки» Островского и мрачный лохматый мужчина, который в отличие от прочих знакомцев Блюмкина целоваться с ним не стал. Блюмкин сразу стал представлять Колю своим поэтическим приятелям, он называл его своим заместителем и врагом всяческой контры, потом уселся за столик, на табуретку, услужливо принесенную каким-то мелким завсегдатаем, грозился, что сейчас будет читать собственную поэму. Это звучало так:
— Всю ночь не спал. Андреев расстреливал, а я в промежутках писал сонет. Хотите послушать?
— Блюмкин, потише! — загремел со сцены здоровяк. — А то я вас выведу как нарушителя спокойствия.
Тебя я тоже прикажу пустить в расход! — ответил Блюмкин. — Твое социальное происхождение меня не устраивает.
— Сейчас я покажу тебе — не устраивает!
Поэт сделал вид, что спускается со сцены, Блюмкин опередил его, кинулся навстречу и принялся обнимать противника. Потом стал кричать Коле:
— Андреев! Коля! Иди сюда, я тебя познакомлю с Володей Маяковским.
— Я вам не Володя, — сказал Маяковский, — может называть меня Владимиром Владимировичем.
Он миролюбиво протянул руку Коле.
А Коля тут понял, что Блюмкин не случайно называет его здесь Андреевым. Не Андреем, а Андреевым. Он не хочет, чтобы поэты запомнили его под настоящим именем, то есть под именем, которое он полагает настоящим. Хотя нет никакой уверенности в том, что псевдоним не раскрыт. Мир революции мал, Как только ты делаешь шаг вперед из обшей шеренги, оказывается, что о тебе вождям все уже известно, О Маяковском Коля слышал, но поэзия его не интересовала — это дело Марго Потаповой. Она бы сейчас описалась от радости. А из меня делают выдающегося чекиста. Что ж, можно согласиться на такой камуфляж.
Блюмкин принялся читать плохие стихи, даже Коле было ясно, что они плохие.
Льняной красавец по фамилии Есенин закрыл голубые очи и мерно раскачивался в такт стихам. Но когда Блюмкин завершил чтение, он ничего не сказал. Хоть Коля именно он него ждал поддержки Яше. Зато лохматый и худой сказал:
— Не ваше это дело, Яша, поэзия. Занимайтесь-ка лучше стрельбой.
— Ты дурак, Ося, — ответил Блюмкин. — Мои стихи вам всем придется оценить, как вы оценили уже гениальные пьесы моего старшего брата Натанчика. Именно стрельба, как ты выражаешься, и вдохновляет меня на лирику.
— Не рассыпайте бисер перед свинтусом, Мандельштам, — сказал Маяковский.
— Не верите? — Блюмкин выхватил из кобуры, что висела на ремне через плечо, тяжелый револьвер, с которым никогда не расставался, и брякнул им о стол. — Андреев подтвердит вам, что у меня в руках сейчас находится не кто иной, как Роберт фон Мирбах. Это вам что-нибудь говорит?
— Это немецкий посол? — неуверенно произнес Мандельштам.
— Чепуха. Это его племянник и немецкий шпион. Я его завтра поставлю к стенке, клянусь памятью дедушки, равнина Исхака! Мы вышибем из Москвы всех немцев и начнем победоносный марш на запад мя освобождения пролетариата Германии!
Блюмкин схватил револьвер и поцеловал его.
— Но если ты, Ося, пожелаешь, я его тебе отдам, и ты можешь его расстрелять сам.
— Но Россия подписала договор о мире с Германией.
— Мы разорвем этой мир! — воскликнул Есенин. — Я как боевик партии левых эсеров предупреждаю всех — грядет мировая революция.
— Сережа! — закричал Блюмкин. — Дай мне тебя поцеловать! Ты настоящий поэт и настоящий, настоящий боец!
Он кинулся целовать Есенина, а сухой джентльмен, сидевший рядом с Колей, заметил:
— У него всегда мокрые губищи! Как противно, когда он тебя облизывает.
Громко человек говорить не осмелился. Эти поэты, понял Коля, Блюмкина побаивались. И даже не столько его, хвастуна и хулигана, а организацию, что стояла за его спиной. Почему-то Комиссия пожелала сделать Блюмкина большим человеком и большим палачом. Значит, ему дозволено убивать. А в те дни число людей, которым дозволено убивать, росло с каждой минутой.
— Я буду вынужден сообщить куда следует, — сказал Мандельштам, — о ваших угрозах, Блюмкин.
— Ты только попробуй, только двинься!
Блюмкин потрясал револьвером перед лицом тщедушного Мандельштама, и Коля увидел, что тот зажмурился. Интересно, подумал он, это хороший поэт или так себе? Он знал тех поэтов, которых проходили в гимназии — Пушкина, Лермонтова, Жуковского и Полонского.
Но современных поэтов не знал. Откуда их ему знать?
Мандельштам вскочил, опрокинул стул и принялся кричать на Яшу:
— Я вас не боюсь! Машите пистолетом сколько вам угодно! Всех не перестреляете.
Он повернулся и, проталкиваясь между потных людей, п шел к выходу.
Шум вокруг не уменьшился, мало кто заметил, что чекист машет пушкой. Может быть, это было не в новинку.
Блюмкин прицелился в спину Мандельштаму.
— Яшка! — закричал Есенин. — Побойся бога!
Блюмкин опустил револьвер и с искренним удивлением обернулся к поэту.
— Ты какого бога имеешь в виду?
Все вокруг облегченно засмеялись.
Вскоре Блюмкин закручинился и позвал Колю домой.
Никто Яшу не задерживал.
Вечер был холодным, налетали заряды дождя. Блюмкин повторял:
— Этот Мандельштам имеет доступ в верха. Он меня погубит! Ты не знаешь, Коля, сколько у меня врагов.
От очередной вспышки дождя они укрылись в подворотне.
— Скажи, а Беккер — еврейская фамилия?
— Немецкая, это означает «булочник. Но Беккеры так давно переселились в Россию, что даже немецкого языка не знают.
— А на идиш Беккер тоже «булочник. Наверно, все-таки еврейская. И не следовало бы тебе, чекист Андреев, отказываться от предков.
— Не неси чепухи, Яша, — сказал Коля. Как ему показалось, решительно. — Моя фамилия Берестов.
— А моя — Наполеон, И учти, ты пошел работать в организацию, которая знает о тебе куда больше, чем твоя мама. И когда-нибудь мы поговорим с тобой об ограблении и убийстве Сергея Серафимовича Берестова. Надо же — убить человека и взять имя его сына, Я тебя иногда боюсь, мой мальчик.
Блюмкин вышел из подворотни и приказал:
— Оставайся здесь и не смей за мной следить! Пристрелю, как собаку. И революция будет только рада, что избавилась от такого мерзавца.
Он быстро пошел по улице, отворачиваясь от дождевых струй и скользя по лужам.
Револьвер он не прятал, он держал его в повисшей руке.
Коля замер в подворотне. Он был рад хоть тому, что смог остаться один.
Знают ли они в самом деле что-нибудь о Берестове? Или это подозрение, и слова Блюмкина лишь провокация?
Коля переждал дождь и побрел в «Метрополь».
Ему никого не хотелось видеть.
Еще утром он был почти счастливым человеком, Он был влюблен в странную и привлекательную женщину и в то же время не отказывался от немолодой и полезной любовницы, у него было неплохое место в государственной структуре, причем самой влиятельной и всеведущей… но это обернулось против него. Сидел бы, не высовывался, не обратили бы на него внимание сыщики, его же коллеги. Теперь же в любой момент его могут арестовать…
Подойдя к дому Советов, он машинально поглядел на окно Фанни Каплан.
Ее силуэт был виден в нем. Фанни открыла окно, чтобы лучше увидеть Колю, когда тот придет.
В иной день он был бы счастлив тому, что Фанни ждет его.
Сейчас он не желал видеть и ее.
Завидев его, Фанни подняла руку. Она не была уверена, он ли это. Было темно, а с ее близорукостью даже в очках мало что разглядишь. Она надеялась на чувство, которое ее не обманет.
Понимая все это, Коля не стал отвечать на жест.
И оказался прав: у входа в дом Советов под тусклым фонарем курила Нина Островская.
— Живой! — произнесла она с облегчением.
И ее резкий голос уличного оратора разнесся по площади, может, даже добрался до Большого театра, но уж наверняка был услышан Фанни, которая даже наклонилась вперед, чтобы увидеть, кому голос принадлежит. Хотя знала кому.
— Не кричи, — сказал Коля. — Я был на выезде. Брали одного… поэта.
— Врешь, — сказала Нина, — я звонила в Чека. Никаких выездов. Ты с Блюмкиным где-то распутничал.
— Нина, только не здесь!
Коля понимал, что Фанни слышит все до последнего слова.
Он так спешил войти в гостиницу, что толкнул Нину. Она схватилась за косяк открытой двери.
— Ты меня бьешь?
Наверху хлопнуло окно. Фанни все слышала и все поняла.
— Прости. — Коля прошел мимо нее. Красногвардеец, стоявший на страже за стойкой швейцара, проснулся и вскочил.
— Спокойно, — сказал ему Коля.
Он пошел к лестнице.
— Стой! — крикнула вслед ему Нина. Ты обязан объясниться.
— Ничего я не обязан.
Нина бежала за ним по лестнице.
Коля отворил дверь в свою каморку, но не успел закрыть ее за собой.
Нина навалилась на дверь и оказалась рядом с ним в темной тесноте.
— Ты не смеешь, — бормотала она, растерявшись сама от того, что стоит, прижавшись к Коле, и злоба ее вдруг обрушилась, как плохо построенный кирпичный дом, рассыпавшись кирпичами по полу.
— Ты не смеешь, — повторила она. — Я тебя в порошок сотру…
— Уйди, — сказал Коля. — Я не хочу с тобой разговаривать.
Он уже не боялся ее.
— В конце концов, — громко прошептал он, словно темнота требовала понизить голос, — в конце концов, я служу партии не меньше, чем ты. Ты ничего не сможешь мне сделать…
— Я могу все! Нина тоже перешла на шепот. — Ты улетишь обратно в свою Феодосию, и тобой займутся органы. Твоим прошлым. Ты забыл, что именно я тебя создала.
— Это даже смешно! — ответил Коля.
Он понял, что хочет сделать ей больно, чтобы она заплакала, чтобы она почувствовала свое ничтожество перед сильным мужчиной. Здесь, ночью, все ее партийные штучки ничего не стоят.
— Ты баба, ты просто баба! — Он схватил ее за плечи и притянул к себе. Его пальцы вонзились ей в лопатки.
Нина охнула.
— Ты просто самка, сука, — шептал Коля, заваливая Нину на свою кровать.
А та вдруг замолчала и стала покорной и мягкой.
Он грубо поцеловал ее, так, чтобы завтра все увидели, что ее губа распухла… я сделаю так, чтобы твои губы распухли! Я сделаю так, что твоя щека распухнет.
Он ударил ее по щеке раскрытой ладонью.
Ее голова дернулась.
Из окна лился слабый свет позднего майского вечера.
Глаза Нины были раскрыты и смотрели на Колю так настойчиво и даже яростно, что он отвернулся, чтобы их не видеть.
Он раздевал ее неловко, потому что она ему не помогала, и от этого даже задрать длинную суконную юбку было непросто.
— Ну! — вырвалось у Коли. — Ты что? Помоги же.
Криком он ничего не добился, но в этой борьбе устал, и желание, столь неожиданное и острое, как-то заглохло, хотя, конечно же, он не мог остановиться и отказаться от насилия, иначе ему не вернуть власть над Островской, которая тоже разрывается между страхами страхом потерять обретенную так поздно и незаслуженную любовь, словно любовь к проститутке, и страхом потерять себя — революционерку, руководительницу, ветерана — все эти безмозглые слова тем не менее существовали в ее сознании и, возможно, были важнее, чем вспышки страсти к Коле, — она могла начисто забыть о нем днем, в заботах и мучиться от желания, оставшись одна. Недолгое время Коля был постоянством как постоянна жена, суетящаяся на кухне приходящего со службы чиновника, и тут стал уплывать, исчезать, так откровенно и цинично. Островской приходилось ревновать мужчин, которые ей никаким образом не принадлежали, как можно ревновать кинозвезду к балерине — оба существуют лишь на картинках и в воображении. А тут на нее свалилась ревность к мужчине, который обладал ею, был нежен и в любовь которого она, без всяких к тому оснований предпочла поверить, хотя для этого пришлось отказаться от любых надежд и вообще мыслей о будущем.
Когда Коле удалось наконец добиться ее губ, жестко до боли, сдавив ее подбородок, чтобы губы не прятались от поцелуя, она сдалась окончательно и стала быстро и жарко обцеловывать его лицо, невнятно умолять Колю чтобы он шел к ней скорее, что она не может больше терпеть… и впервые в жизни Нина поняла, что скрывается под словом «кончила», которое она слышала от товарок даже на каторге и в ссылке, потому что они там, независимо от партийной принадлежности, обсуждали эти вещи и даже погружались в женские греховные романы, и Нине приходилось делать вид, что она все понимает, проходила эти уроки еще в школе… но только в ту ночь, когда Коля пришел домой ночью, и эта тварь Каплан ждала его, дежурила у окошка Нина испытала это жгучее до вопля, счастье… она хлынула навстречу злому мужчине, который почувствовав ее пожар, воспалился сам и загонял ее в краткий восторг любви и сам разделял его, но при том не терял своей ненависти к ней.
И это была любовь Нины Островской.
Они лежали еще несколько минут безмолвно.
Потом Коля достал папиросы. Зажег себе и Нине.
Они лежали, курили, стряхивали пепел на пыльный пол.
Докурили.
Нина села на кровати, стала поправлять юбку и блузку, взяла со стула кожаную куртку, в которой поджидала Колю на площади, погасила папиросу в горшке с сухой пальмой на подоконнике.
Коля лежал на спине, он даже не сделал попытки прикрыть стыд.
— Я должна сказать тебе со всей ответственностью — произнесла Островская, — что я не допущу твоей близости с этой террористкой, я уничтожу ее. Ты знаешь, что это в моих силах. Я могу не пожалеть и тебя.
Коля не ответил. Он понимал, насколько серьезна его возлюбленная.
Она не из тех людей, кто отказывается от идеи для вещи, Или любовника.
Островская зажгла свет, Коля отметил про себя, что она точно знает, где у него выключатель.
— Дай мне слово, — сказала она, — что будешь вести себя достойно.
— Что это означает? — устало спросил Коля.
Он продолжал сидеть на кровати, не дав себе труда привести в порядок одежду.
— Я не люблю повторять, — сказала Нина.
Не дождавшись ответа, она вышла из комнаты и плотно, резким движением прикрыла дверь. Но не хлопнула ею. Она уже владела собой. Коля лежал на кровати.
В душе было гадко и пусто.
Он был рабом. Выпоротым, униженным рабом. И хозяева его не были людьми благородными и достойными того, чтобы повелевать им, Николаем Беккером, умным и талантливым человеком, красивым, стройным, высокого роста, достойным высокой участи…
Он понял, что ему пора уезжать.
Уехать сразу, ночью, сегодня или завтра на рассвете, чтобы ни одна душа не догадалась, куда он подался. На юге собирается армия, готовая защитить Россию от большевиков. И возродить ее. Там среди офицеров белой гвардии найдется Беккеру достойное место. Там, именно там он наверняка встретит адмирала Колчака, человека, который ценит Колю и знает ему истинную цену.
Коля сел на кровати. Старые пружины громко взвизгнули. Почему он не слышал их голосов, когда насиловал свою возлюбленную? Насиловал? Что за чепуха. Именно этого она хотела. Подчиниться настоящему воину. Она счастлива… Хоть завтра губу разнесет!
Коля не удержал улыбки.
Теперь спать, спать… чтобы быть готовым к бегству на юг, Коля приподнялся, чтобы выключить свет, Он повернул выключатель и как бы дал этим сигнал двери осторожно и медленно раствориться.
— Я сплю, — тихо сказал Коля, понимая, что вернулась Островская.
— Извини, — говорила Фанни. — Спокойной ночи… Прости.
Но она не уходила. Так и осталась стоять в дверях.
— Это ты Фанни? — сказал Коля. — А я тебя спутал.
— Я знаю, я все знаю. Тебе было плохо из-за меня.
— Входи и закрой за собой дверь, — велел Коля.
Фанни подчинилась.
— Я завтра уеду, — неожиданно сказала Фанни. — Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Я не могу… я люблю тебя, Я уеду.
Она заплакала.
Коля подошел к ней — всего два шага их разделяли.
Он обнял ее как мог нежно. Он стал целовать ее теплые, пахнущие как детская игрушка волосы, Фанни положила голову ему на грудь и повторяла лишь:
— Я уеду, ты не бойся…
А живое воображение Коли Беккера между тем рисовало Нину Островскую, которая крадется по коридору к его комнате, в руке наган, подарок ее подруги Евгении Бош или командира Шахрая. Сейчас ее силуэт покажется в щели не до конца закрытой двери…
Коля непроизвольно оттолкнул Фанни.
— Иди, милая, — сказал он тихо. — Все будет хорошо, никуда не нужно уезжать. Мы будем вместе, Хорошо бы она не догадалась, что я только что был близок с другой женщиной.
Впрочем, она почти наверняка выследила Нину, иначе почему она заявилась сразу после ее ухода. Может, это манера большевичек — не ревновать, мужчины должны быть общими… Тогда Нина ведет себя не по-партийному.
Фанни ушла, тихо, наверное, на цыпочках. Плакала ли она еще или перестала, Коля не знал.
28 мая Москва содрогнулась от страшных взрывов.
Начались они в два часа дня и гремели до самого вечера.
Горели склады в Гавриковом переулке, склады Казанского вокзала.
Потом стало ясно, что сгорела и товарная станция Казанской железной дороги.
Коля с Блюмкиным выезжали туда на машине Александровича. Там уже был Дзержинский.
Дым над Москвой поднялся такой, что во всей ее восточной части наступили сумерки.
Пожарных машин было мало, Дзержинский заставил своих сотрудников тушить вагоны на запасных путях, но вскоре сам отменил это приказание — тушить в этом потопе огня было невозможно, и так уже погибли сотни человек не только на станции и на складах, но и в окружающих домах, многие из которых были разрушены взрывами и огнем.
Вместо этого Дзержинский погнал сотрудников ловить мародеров — несмотря на пожар и взрывы, сотни людей лезли в вагоны, тащили оттуда все, что придется, и пытались скрыться в дыму.
— Стреляйте, коротко приказал Дзержинский, — Не жалейте мародеров.
— Пойдешь со мной, — воскликнул Блюмкин. Он был возбужден, измазан сажей, волосы растрепались, даже борода загнулась и вроде бы съехала набок.
Они побежали по путям, но не в гущу огня, а между складами и переулками, где и скрывались люди.
Бешеный ветер залетал от путей, и понятно было, что огонь еще не нажрался, ему есть чем питаться.
Люди с ящиками тюками, даже с досками и какими-то железками выскакивали как черти из ада, и мчались к домам, торопясь спрятать добычу, чтобы вернуться вновь.
— Стой! — кричал Блюмкин.
Он принялся налить из револьвера по бабам, двум бабам, которые вдвоем волокли длинный ящик.
Бабам повезло: Блюмкин, несмотря на свою любовь к оружию и нежелание расстаться с револьвером даже ночью, когда он засовывал его под подушку, стрелять патологически не умел. Перед ним поставь паровоз в трех шагах, и он умудрится промазать. Потому же он был опасен для друзей — не попади он в слона, мог случайно угодить в дружественную мышку.
Стреляя по грабительницам, Блюмкин страшно и грозно вопил, перекрывая шум близкого пожара, а бабы сначала в азарте не сообразили, чего хочет черный бородач в кожаной куртке, но одна пуля угодила в ящик, и тогда они поняли — подобрали юбки и с визгом кинулись за угол.
Блюмкин все нажимал на курок, но револьвер замолчал, потому что кончились патроны. Он стал шарить левой рукой по карманам, где-то там у него россыпью лежали патроны.
При том он кричал, теперь уж Коле:
— Да стреляй ты! Уйдут! Скорее, Андреев!
В последние дни в отделе все привыкли к новой кличке Беккера. Забыли, что он — Берестов. Коля был рад этому, во-первых, потому что псевдоним был официальным как бы служебным, а не его, тайным изобретением. Он сразу перестал быть вором и самозванцем. И Фанни уже не сможет случайно в разговоре с Лидочкой или настоящим Андреем сказать, что знакома — о, совпадение! — с другим Берестовым, тоже родом из Симферополя. Коля сразу сказал ей, что отныне он Андреев, Николай Андреев, это имя ему дали на партийной службе. Как дисциплинированная революционерка Каплан тут же примирилась с решением партии и стала называть его Колей, Николаем.
Беккеру это было привычно и приятно. Словно с именем к нему вернулась и легальность.
— Стреляй, — кричал Блюмкин.
— Все равно сгорело бы, — ответил он наконец.
— Пошли! Это же достояние республики!
Два солдата остановились неподалеку, прислушивались к разговору.
— Пошли отсюда, — сказал Коля.
Но Блюмкин уже зарядил револьвер и крутил головой в поисках новых жертв.
Один из солдат ловко, незаметным движением, сбросил с плеча винтовку и как бы невзначай направил ее на Блюмкина.
Чутье у того на опасность было фантастическое.
Стрелять он не стал, а быстро и как-то деловито пошел в сторону.
Солдат выстрелил. Фонтанчик пыли поднялся у самой ноги Блюмкина.
И тот не выдержал.
Он пригнулся и, виляя, как опытный дезертир под обстрелом, кинулся к пожарным каретам.
Солдат перевел винтовку на Колю.
— Я ухожу, — сказал Коля. — Все понятно.
Второй солдат засмеялся.
Он был похож на Борзого. Казалось бы, забыл почти древнюю историю, а всплыло злое грубое лицо.
Коля уходил и всей спиной, лопатками чувствовал, как солдат делится ему в спину.
И если он выстрелит, то не промахнется.
Выстрела не последовало.
Блюмкин стоял рядом с Александровичем и прочим начальством и живо обсуждал с ними важные проблемы.
На Колю он не смотрел. Не замечал его.
Подъехал высокий грузовик, из него стали спрыгивать красные солдаты, с ними приехал сам Вацетис, латышский красный генерал. Александрович велел им рассыпаться цепью и гнать мародеров от складов.
— А вы, Андреев, чего стоите? — спросил Александрович.
Он был левым эсером, дружил с Дзержинским, а может быть, они изображали дружбу в интересах революции.
Коля пошел за латышами.
Латыши шли спокойно, переговаривались на своем языке, иногда кто-то из них стрелял. Но Коле было непонятно, хотели ли они убивать или только пугали.
Впереди стояла стена дыма до самого неба.
Внизу ее подчеркивала полоса огня.
Люди, пробегавшие у складов, были черными чертиками, суетливыми и будто вырезанными из бумаги марионетками.
Изредка слышались выстрелы латышей, но их заглушал рев пламени.
Коле не хотелось приближаться к черной стене, и он повернул направо за несколькими латышами, которые углубились в переулок.
Видно, слух о том, что приехали солдаты и стреляют в воров, разнесся по пожару, потому что местные жители и прочие люди стали убегать, завидев издали латышей.
Все же догнали целую семью — отец, женщина и трое детишек, все они волокли мешки с крупой. Отец — даже два, дети тащили мешки по земле. Латыши стали кричать, чтобы люди бросили поклажу, но, видно, отец решил, что по детям стрелять не будут.
Он был прав.
Солдат прицелился и выстрелил два раза в отца, но поранил мешки. Из них начали бить струи крупы. Солдатам было смешно. Другой солдат догнал детишек, прикрикнул на них, и те оставили мешки на мостовой. Солдаты аккуратно подобрали мешки и оттащили их на тротуар, к стене дома. Оказывается, Вацетис сказал им, что приедут машины и заберут отнятое у грабителей добро.
Пока латыши занимались делом, Коля пошел дальше.
И тут увидел давешних солдат. Они добыли где-то пулемет «максим» и катили его по улице. Ленты висели у них через плечо, и концы их тяжело покачивались в такт шагам.
Коля обернулся. Он был один.
Он хотел позвать латышей, но солдаты увидели его раньше, и тот, который был похож на Борзого, засмеялся и развернул пулемет в сторону Коли. Он играл в войну.
Ему было очень весело. Второй присоединился к нему и стал вставлять ленту.
Пулемет был без щитка, и, когда солдат поднял голову, Коля окончательно убедился, что видит Борзого.
— Не уйдешь! — крикнул Борзой. А может, эти слова почудились Коле.
Он него до пулемета было недалеко, но все-таки не меньше сотни шагов.
Время заморозилось.
Коля смотрел на пулемет. Солдаты были неподвижные.
И вдруг из рыльца пулемета выскочил огонек, Будто кто-то сигналил Коле фонариком — часто, но скрытно.
А звук долетел через секунду.
Пули отбили штукатурку над головой Коли.
Он видел лицо Борзого, который что-то весело кричал.
Коля понял, что сейчас он сдвинет прицел и убьет его.
Револьвер был у него в руке — он вынул его, когда пошел за латышами.
Коля быстро вскинул его и выстрелил в лицо Борзому. Еще раз… И тут же, почти не целясь, перевел мушку на второго солдата. И успел увидеть, как на лице Борзого посреди лба появилось красное пятно, видное даже в сумерках. Борзой поднял руку, словно хотел вытереть кровь, и голова его исчезла, упала на землю.
Пулемет замолк.
Мимо Коли протопали латыши, они сгрудились возле пулемета.
Оба пулеметчика лежали неподвижно.
Когда Коля подошел, они расступились.
Командир отряда Вацетис тоже подошел к пулемету. Кто их? — спросил он, И сам уже догадался, потому что протянул ладонь Коле и, пожимая его руку, сказал:
— Вы славно стреляли. Офицер?
Коля испугался вопроса. И поспешил ответить:
— Я большевик. Я сотрудник ЧК.
— Фамилия? Имя?
— Николай Андреев.
— Спасибо. Возможно, вы спасли жизни наших товарищей.
Убитый солдат совсем не был похож на Борзого. Даже странно, что можно было принять его за Борзого.
Латыши подходили и равнодушно рассматривали мертвецов.
Мертвый солдат, принятый Колей за Борзого, смотрел в небо. Коля опустился на корточки и положил ладонь на теплые веки, чтобы закрыть глаза.
— Раньше не убивал? — спросил латыш.
— Не убивал, — солгал Коля.
Это была нечаянная ложь, потому что в тот момент он начисто забыл о смерти шофера, убитого им в прошлом году под Ялтой.
Когда через несколько дней Дзержинский собрал совещание в своем кабинете, обсуждался пожар в Гавриковом и действия чекистов, председатель ЧК сказал:
— По докладу товарища Вацетиса я хочу выразить благодарность сотруднику контрразведотдела Николаю Андрееву за мужество, энергию и точную стрельбу. Я надеюсь, что в будущих боях за нашу революцию товарищ Андреев, уничтоживший в жестоком бою пулеметный расчет противника, покажет себя достойным именного оружия.
Все чекисты принялись хлопать в ладоши.
Правда, Блюмкина в тот день не было — он простудился и остался дома, в квартире, которую ему выделили как одному из руководителей Чрезвычайной Комиссии. Раньше там жил видный октябрист, и Блюмкин радовался тому, что ему досталась славная библиотека, в том числе целый шкаф поэзии, до которой Блюмкин был охотником.
Дзержинский вручил Коле кожаную желтую кобуру с револьвером.
— Ты открой, посмотри, — сказал Коле Вацетис, который сидел за столом рядом с Председателем.
Коля подчинился.
Сбоку на рукояти была привинчена серебряная пластинка с надписью:
Николаю Андрееву за проявленную доблесть в борьбе с контрреволюцией от Председателя ЧК Ф. Э. Дзержинского 28 мая 1918 года Блюмкин, когда увидел револьвер, сказал:
— Смотри, как бы ты не загремел в расстрельную команду. Там требуются стрелки в цель.
Жизнь становилась все труднее, даже с деньгами было нелегко достать приличной еды. К тому же случилась беда — пропал Метелкин. Непотопляемый, подпольно всемогущий Метелкин, который умел, в частности, обменивать доллары на черном рынке. Доллары еще оставались, но отыскать желающего и не угодить при том в ЧК было почти невозможно. А когда Андрей все же решился и, взяв двадцать долларов, отправился на Сухаревку, в тот ее угол, где толпились подозрительного вида личности, которые меняли деньги и скупали у благородных бабушек фамильное золото, то именно в тот момент, когда покупатель рассматривал купюру на свет, чтобы убедиться в том, что доллары не фальшивые, началась облава. В облаву Андрей не попал, убежал, но так как покупатель убежал в другую сторону, денег Андрей не принес.
Жили они в квартире на Болотной мирно, даже дружно. Самым состоятельным среди них был Давид Леонтьевич — чего-то он зашил в подкладку черного пиджака. Старику доставляло удовольствие ходить на рынок или по оскудевшим лавкам. Он сам потом жарил картошку на настоящем подсолнечном масле, а тут купил большую зеленоватую щуку и принялся готовить рыбу-фиш, но получилась просто вареная рыба, пахнущая болотом. Давид Леонтьевич был огорчен, но все хвалили и были ему благодарны.
Особенно радовалась Мария Дмитриевна, которая, оказывается, свежей рыбы не пробовала с осени, остальные-то приехали с юга, там рыба еще была недорогой и обычной пищей на бедном столе.
Разумеется, Лидочка с Андреем не могли столоваться за счет старика. Да и понимали они, что оказались придатком, хвостиком к Марии Дмитриевне, которую Бронштейн глубоко почитал и, можно сказать, был в нее влюблен, хотя двадцатилетним Андрею и Лидочке понять, как может влюбиться семидесятилетний старик, было невозможно и почти смешно. Впрочем, Давид Леонтьевич заботился о соседке трогательно, а по вечерам читал ей вслух книги про любовь, А Мария Дмитриевна, хоть и утверждала, что раньше на кухню и не заходила, потому что у нее был славный повар и чудесная прислуга, безропотно и даже весело штопала Бронштейну носки, стирала рубашки, гладила, Правда, она быстро уставала, и тогда за дело принималась Лидочка. В конце концов, в семье, повторяла она, человеком больше, человеком меньше — не столь важно, Их ведь и оставалось всего четверо.
Раза два заходила Фанни.
Давид Леонтьевич будто особым телепатическим чутьем угадывал ее появление, доставал из своей ухоронки булочку или конфету. Он ее даже порой называл внучкой, хотя во внучки она ему вряд ли годилась. Фанни уже было тридцать лет, это было очевидно для женского взгляда.
Фанни, по ее словам, устроилась работать в каком-то учреждении, жила в общежитии и встретила одного человека…
Об остальном знала только Лидочка.
Фанни клялась, что ее отношения с Колей Андреевым чисто платонические, они даже не целовались. И понятно почему: ведь Коля еще мальчик, ему всего двадцать с небольшим, Поэтому никакой речи о близости и быть не может.
Фанни лукавила, она мечтала о близости, но Лидочка предпочитала выслушивать монологи Фанни. Она рассказывала, что знала о Коле. Он, оказывается, родом из Феодосии, там служил во время войны, потом вступил в партию и приехал в Москву вместе с Островской. Вот Островской от Фанни доставалось. Она, совсем уж старая баба, под сорок, претендует на чувства Коли, пользуясь своим высоким положением…
Фанни страдала, и ее чувства явно приходили в противоречие с политикой. Ей самой ее эсеровское прошлое казалось дурным сном, хотя большевиков она не выносила, отчасти из-за того, что большевичкой была Островская, но более от эгоистичной и предательской политики — Брестский мир должен быть разорван! Не для того шли на виселицы и каторгу лучшие сыны и дочери русского народа, чтобы большевики сидели в Кремле подобно царской своре и занимались в основном уничтожением своих бывших и даже нынешних союзников.
Лидочка брала уроки акварели у Туржанского и приспособилась работать под звук низкого, глухого, с южным акцентом голоса Фанни.
Фанни оказалась милой несчастной занудой без всякого жизненного опыта. С ранней юности она жила в мужском исковерканном мире террористов, спала на чужих койках, отвечала на вопросы жандармов и следователей, выжидала жертву, шагала в кандалах — казалось бы, повидала всю Россию, встретилась с сотнями людей, а на самом деле никакой России она не видела и среди сотен людей ни одного близкого человека не встретила, уверовав в то, что люди — это лишь исполнители высокого предназначения Идеи. Идея отвечала требованиям ее необразованного, но нахватавшегося чужих слов разума: надо покончить с несправедливостью, уничтожить — иного они не понимают — царей и их сатрапов вплоть до последнего исправника, и тогда освобожденный народ сам заберет дорогу к счастью, За тридцать лет жизни Фанни уже многократно убеждалась в том, что ее усилия народу не требуются, и в момент истины этот самый представитель народа изберет сторону исправника, по крайней мере донесет на революционерку, что прячется у него в сарае после попытки освободить народ от полицмейстера. Но это, конечно же, не меняло ее воззрений. Ведь даже малые дети капризничают и не желают пить полезный, но невкусный рыбий жир. И слова Ильича, хоть и соперника в борьбе за это счастье, о том, что мы силой «загоним народ к счастью», были понятны и убедительны.
Когда же так поздно Фанни наконец-то по-настоящему влюбилась, она поняла, что даже в самых обычных вещах наивна и необразованна, Пока Коля также был влюблен в нее, он не обращал внимание на ее потрясающую неграмотность, на то, что она не читала самых обычных книг и не имеет представления о том, кто такой Микеланджело.
Что она не умеет приготовить борщ и выбрать на рынке мясо, не способна вышивать и вязать. Хотя когда ей было шестнадцать, она написала стихотворение. Она его забыла, но помнила рифмы: «Борьба — всегда, грязные лапы — сатрапы, путь — не забудь».
Что же будет дальше?
Фанни не думала об этом, или, вернее, ей казалось, что она об этом не думает, хотя бы потому что близости с Колей у нее не было, и она не знала, будет ли с ним близка. Но раз у нее вырвалось: «Конечно, я ему не пара. Он учился в университете, он из хорошей семьи», — причем в слова «хорошая семья» Фанни вкладывала вполне буржуазное обывательское понимание.
Как-то Андрей сидел на кухне, пил чай с Давидом Леонтьевичем и старался растянуть кусочек рафинада на две чашки вприкуску. Давид Леонтьевич рассуждал о том, что женщине положено делать славный подарок ко дню ангела. Вот он и решил подарить Марии Дмитриевне браслет. Присмотрел в лавке Миродаридзе серебряный браслет с бирюзой. Этот Миродаридзе не сегодня-завтра лопнет. И он сам не понимает ценности браслета, потому что купил его на толкучке за два фунта картошки.
Но для того, чтобы осуществить свой замысел, Давид Леонтьевич намеревался пойти в Столешников, где он продаст золотой червонец. Там и собираются нужные люди.
— Давид Леонтьевич, я хочу участвовать в вашем начинании, — сказал Андрей. — У меня есть немного долларов, но я не знаю, как их обменять. Метелкин из музея пропал, а на Сухаревке меня ограбили.
— Сколько у тебя долларов? — спросил дед Давид. Он сразу стал деловит и серьезен.
В нем жил игрок, который провел всю жизнь в поле, среди крестьян, где игроки не приветствовались, и потому таил свои страсти. Но тут, в Москве, перед ним раскрывались великие возможности, и если бы не большевики, он бы мог стать большим человеком.
Может, поэтому еще Давид Леонтьевич не очень стремился к тому, чтобы отыскать своего сына. Сын был, по всему, большевистским вельможей, то есть противником деда Давида. Ему же оказалось куда удобнее и милее существовать на Болотной площади в обществе милой его сердцу Марии Дмитриевны. Давид Леонтьевич подозревал не без оснований, что, как только он воссоединится с сыном, эта жизнь завершится, и он, старый Бронштейн, станет отцом большевика и сам почти большевиком. Так что он даже не пря знавался Марии Дмитриевне о поисках сына и делал вид, что тот трудится в Петрограде, и когда переедет в Москву, тут Давид Леонтьевич его и отыщет.
Мария Дмитриевна не пыталась заставлять Бронштейна признаваться и не настаивала, чтобы он искал сына. Тем более что у нее самой было куда больше оснований сидеть в квартире и носа не высовывать, Судя по всему, ее сын оказался на юге, среди казаков, где готовил восстание против сына Давида Леонтьевича. И чем дольше родители будут находиться в неведении касательно судеб и местонахождения сыновей, тем больше шансов уцелеть в том сумасшедшем доме, в который превращается несчастная Россия.
— Сто долларов? — удивился Давид Леонтьевич. — Это бешеные деньги, Кого ты убил, мой мальчик?
— Это наследство, — сказал Андрей.
— А какими бумажками?
— По двадцать.
— Показать сможешь?
— Разумеется, я принесу, завтра принесу.
— А то бывают старые, их уже вынули из употребления, но понимаете, Молодой человек, некоторые недобросовестные люди их всучают. А это что? Это уголовщина.
Андрей принес доллары Бронштейну, и тот долго нюхал их, вертел в пальцах, смотрел на свет, разглядывал подпись казначея, доллары были большими, больше керенок, но поменьше царских красненьких.
— Мы с тобой будем ждать, пока наступит выгодный курс, — сказал Давид Леонтьевич.
— Это не так важно, — сказал Андрей. — Цены все равно так быстро растут…
Он решил разменять сразу сотню, чтобы был запас денег. К тому же нужна была одежда. И Андрею так хотелось купить красок и бумаги для Лидочки. Не сегодня-завтра принадлежности для рисования совсем исчезнут.
Давид Леонтьевич вечером, когда Андрей ждал его, домой не вернулся.
Андрей сказал Лидочке о том, куда пошел старик.
Лидочка объяснила все расстроенной Марии Дмитриевне.
Темнело. Ясно было, что случилась беда.
Андрей, которому не хотелось думать, что он мог стать причиной несчастья с Давидом Леонтьевичем, предположил, что у старика могло стать плохо с сердцем и его забрали в больницу.
— Чепуха! — возмутилась Мария Дмитриевна. — Мы с ним обсуждали проблемы здоровья.
К счастью, сердце Давида Леонтьевича работает как часы. Для семидесятилетнего мужчины он просто орел.
— Надо ехать, — сказал Андрей. — Надо его искать.
— Подожди до утра, — воспротивилась Лидочка. — Тебя сейчас в лучшем случае ограбят, в худшем — попадешь в тюрьму.
— А в еще худшем, — добавила Мария Дмитриевна, — тебя просто убьют пьяные матросы.
Но может быть, он в больнице…
— В тюрьме, в больнице, в морге, — заявила Мария Дмитриевна, — вы ему, Андрей, не поможете. Как говорил Базаров, жертва — это сапоги всмятку. Пойдете утром.
Конечно, все согласились с Марией Дмитриевной. Да и ясно было, что Лидочка его ночью не отпустит.
Утром Андрей поехал на извозчике на Столешников. Там толкались темные личности, и когда Андрей принялся спрашивать, не было ли вчера какого-нибудь происшествия, ему тут же рассказали, что вчера была облава, нескольких человек взяли.
— А где их искать? — спросил Андрей респектабельного гражданина, похожего на Николая Первого, правда, не в ботфортах, а в валенках не по сезону. Видно, валютные спекуляции не принесли ему богатства.
— Может, на том свете, — сказал мужчина, — а может, в ЧК. Только не суйтесь в милицию, они ничего не знают, но вас на всякий случай посадят.
И все же у Андрея не оставалось другого выхода, как пойти на поиски деда Давида в страшную организацию, о которой рассказывали разное, но ничего хорошего, Хотя, может быть, Андрею еще не пришлось столкнуться с теми людьми, интересы которых эта Комиссия защищала.
Андрей быстро поднялся в гору и дошел до Рождественки, там перед Рождественским монастырем и как раз между двух церквей буквой «П» расположилась четырехэтажная гостиница «Лондонская», которую заняла Комиссия, ожидая, пока для нее очистят более солидное здание — страховое общество «Россия» на Лубянской площади.
Андрей остановился перед церковной оградой и стал смотреть на гостиницу, чтобы понять, куда ему следует идти.
Разные, в основном молодые, уверенные в себе, деловитые люди в кожанках, как у самокатчиков или пилотов, в фуражках без кокард более всего входили в центральную дверь. Туда же один за другим подъехали по округлому пандусу три автомобиля.
Андрей поглубже вдохнул и решился — перешел узкую Рождественку и по сбитым ступеням поднялся к входу.
Перед ним как раз шагал мужчина во френче и с большим портфелем.
Андрей пристроился за ним и избежал необходимости толкать тяжелую дверь.
Но там, внутри, он увидел барьер по пояс, и в нем узкий проход, по обе стороны которого стояли молодцы в кожанках.
— Здравствуйте, — сказал Андрей, — можно справку получить?
Страж показал пальцем через плечо — там обнаружилось окошко, какое бывает в заводской кассе, полукруглое, с подоконником, в него можно только сунуть голову.
— Вчера вечером, — Андрей склонился к окошку и увидел, что ниже его сидит молодая женщина, коротко остриженная и облаченная в куртку — словно униформа там была какая-то, — я имею основания полагать…
— Короче! — рявкнула девушка, словно Андрей был наверняка врагом революции. — Фамилия!
— Бронштейн, Давид Леонтьевич, семидесяти лет, — сказал Андрей послушно.
— За что сидит? — Девушка раскрыла амбарную книгу и повела пальцем снизу вверх, от самых последних жертв Комиссии к ранним, вчерашним. Страница была велика, а читала девушка медленно, Прошло минут пять, прежде чем она радостно произнесла:
— Бронштейн. Как же! Есть у нас такой.
— А когда его отпустят?
— А с чего ты решил, что его отпустят? У нас редко отпускают.
— Почему? — глупо спросил Андрей.
— Потому что у нас не ошибаются, — ответила девица. — У нас если взяли, то все — амба!
— Но ведь он ни в чем не виноват! Он просто попал в облаву. Я могу за него поручиться!
— А вот это лишнее, парень, — сказала девица. — Такие, как ты, защитники у нас кончают, Кто он тебе? Ты тоже будешь из Бронштейнов?
— Сосед по дому. По квартире. Он очень хороший человек, у него сын в правительстве работает.
— Смешно, — сказала девица.
— Скажите хотя бы, в чем его обвиняют?
— Тебе очень нужно?
— Пожалуйста!
Девушка была обыкновенная такие хамки всегда сидят в секретаршах и регистраторшах, но ее можно было уговорить. Андрей был ей сверстником и ближе, чем собственное начальство, тем более что, судя по ее речи, девица была не из народа, а из так называемого среднего слоя.
Девица подняла телефонную трубку и попросила телефонистку соединить ее с товарищем Блюмкиным.
— Нет его? А когда будет? После обеда?
Девушка повесила трубку на рычажок и без недавней злобы сказала Андрею:
— Товарищ Блюмкин будет после обеда. Он у нас начальник отдела по борьбе с иностранными разведками. Если ты желаешь, я могу тебя направить к его сотруднику, к Андрееву. Но Андреев ничего не решает, а Блюмкин все решает, даже больше решает, чем ему разрешают!
Девушке понравилось стихотворение, что у нее случайно получилось, Она принялась смеяться.
— А почему иностранные разведки?
А ты не знаешь, за что его загребли?
— Честное слово, не знаю.
— Подожди, я уточню.
Она попросила соединить ее с Андреевым, и с ним она разговаривала без всякого пиетета.
— Коля? — спросила она. — Андреев? Скажи, вчера тут старика привезли, у меня по книге проходит. Бронштейн Давид Леонтьевич. Что там у него? Зачем? А затем, что к нему пришел племянник, хочет узнать. Какой племянник? да ты спускайся, Коля, только пропуск на него выпиши. Как тебя зовут?
— Берестов, — сказал Андрей. — Берестов Андрей Сергеевич.
— Берестов, — повторила девушка. — Андрей Сергеевич. Как так некогда? Ты же сам сказал. Ясно. Я то же самое ему сказала.
Кончив разговор, девушка сказала Андрею:
— Андреев сейчас занят, ему не до вашего старика. Но раз он в контрразведке, дело его дрянь. Связь с иностранцами.
— А может быть, что это деньги? Обмен долларов?
— Все может быть, — согласилась девушка. — И я тебе еще что скажу. Лучше ты после двух не приходи. Если хочешь своему еврейскому дядечке помочь, пришли свою сестру.
— Но у меня нет сестры.
— Дурак. Жену пришли или соседку только чтобы была молодая и красивая. Ты сам ничего от Блюмкина не добьешься, он мальчиков не любит — во всех отношениях. А к женщинам неравнодушен. Он плохого не сделает, а если она ему понравится, пускай использует свою силу.
Андрей искренне поблагодарил девушку, которую, оказывается, звали Феней.
Пойти решила Лидочка.
Андрей не стал заходить в дом ЧК, а остался на Кузнецком мосту, зашел там в книжною лавку и принялся копаться в старых журналах, Лидочка принесла Фене пакетик ирисок из запасов дедушки Давида.
Феня даже отказываться не стала.
— Ты ему, Андрею, кем приходишься?
— Женой.
— Жалко, — вздохнула Феня. — Как попадется красивый парень, оказывается, он уже какой-нибудь фифой захвачен, как Москва Наполеоном.
У Фени было очень белое лицо синие яростные глаза и коротко, под горшок, остриженные прямые черные волосы. Рост был маленький, но губы полные, будто она приготовила губы для поцелуя.
Она вызвала товарища Блюмкина, и когда тот сказал, что сейчас сам спустится с пропуском для Лидии Берестовой, Феня успела дать последние инструкции:
— Ты ему не подыгрывай, не кокетничай, веди себя построже. Он любит строгих женщин. И моя ошибка в свое время заключалась в том, что я слишком быстро легла с ним на служебный диван.
Фенечка засмеялась, но не очень весело.
Тут сверху сбежал по лестнице человек, который одновременно олицетворял собой эту организацию — он был весь в хрустящей коже, от ворота до подошв сверкающих сапог, он был деловит и быстр, как все в том доме, но в то же время являл собой разительный контраст с остальными чекистами, хотя бы густой и пышной черной бородой и буйной шевелюрой, а также оголтелым взглядом черных вишен глазищ.
— Меня ждут? — спросил он издали, хотя спрашивать и не нужно было, в вестибюле стояла лишь Лидочка.
Лидочка сделала шаг вперед, Блюмкин, громко представляясь, протянул короткопалую руку. И по-польски куртуазно поцеловал ее пальцы, но не склонился к руке, а потянул ее вверх к колючей бороде, будто составленной из проволочек.
Он тут же оценил Лидочку — с макушки до щиколоток.
— Курсистка? — неожиданно спросил он.
Голос оказался высоким, не совсем соответствующим полнеющему громоздкому мужчине.
— Я работаю в Ботаническом институте, — сказала Лидочка.
Она еще не начала там работать, только отнесла туда акварели, потому что Мария Дмитриевна рекомендовала ее профессору Граббе, составлявшему атлас растений Южной России. Ему нужен был художник, профессор был консерватором и горячим поклонником английской манеры акварельной передачи растений и птиц и был уверен, что фотография, даже цветная, не способна передать нежный и трепетный образ фиалки или подснежника.
— Ботаника! — сказал Блюмкин. — В свое время в университете я начинал изучать ботанику, но революционная деятельность отвлекла меня от науки. Фенечка, возьми бумажку — я забираю красавицу к себе на допрос.
И сказал он это с такой преувеличенной серьезностью и театральной угрозой, что испугаться такого шута было невозможно.
Лидочка проследовала за Блюмкиным на третий этаж. Коридор узкий, но высокий, как ущелье, в котором текла извилистая река, был устлан вытертой дорожкой, на дверях сохранились гостиничные номера, и Блюмкин, остановившись наконец перед дверью номера 251, сказал:
— Дух дешевых номеров мы изгоним отсюда не скоро. Здесь царили грехи распутство.
Вы знаете, что сюда водили девиц?
— Нет, не знаю, — ответила Лидочка.
— Вы делаете гербарии? — Блюмкин пропустил Лидочку вперед. Она оказалась в небольшом квадратном кабинете, За окном была видна церковь. В комнате стоял большой стол с витыми ножками, зеленым сукном и массивным чернильным прибором.
Блюмкин решительно обогнул стол, бухнулся в кожаное кресло и указал Лидочке, которая нерешительно остановилась у двери, на венский стул с другой стороны стола.
— А теперь, — сказал Блюмкин, превращаясь на глазах в строгого следователя и подвигая по столу к Лидочке лист бумаги и отточенный карандаш, — заполните этот листок. Это чистая формальность, каждый мой гость должен представляться мне вот так.
Лидочка заполнила отпечатанный в типографии лист, где надо было указать фамилию, место жительства, место и дату рождения — раньше Лидочке не приходилось заполнять такую анкету. Теперь же везде положено было заполнять такие листки.
Власть желала все о тебе знать.
Блюмкин подвинул заполненную анкету к себе и стал читать ее по пунктам, шевеля губами, как малограмотный человек.
— Ясно, — сказал он, — А теперь я желал бы знать, Лидочка, кем вам приходится некий Давид Леонтьевич Бронштейн. Только честно и подробно.
— Это очень хороший добрый человек, — сказала Лидочка. — Честное слове, Яков Григорьевич.
— И давно вы знаете этого хорошего человека?
— Мы с ним ехали вместе в поезде из Киева и столько всего пережили.
— Ну, вы ехали, чтобы заняться ботаникой, — мягко предположил Блюмкин. — Ваш муж — калединский офицер, не так ли?
— Мой муж — археолог, — сказала Лидочка. Этот Блюмкин был не таким веселым, как показалось ей вначале. — Он работает в Историческом музее и еще учится в университете.
— Что-то много мя одного офицера.
Блюмкин снова заглянул в анкету Лидочки.
— Ваш муж, — произнес он. И замолчал. Потом медленно произнес: — Берестов Андрей Сергеевич? Это так?
— Конечно.
— И давно вы видели его в последний раз?
— Сегодня утром, — сказала Лидочка. — Час назад.
— Вы в этом уверены?
— Ну конечно же!
— Странно, очень странно. Зачем вашему мужу скрываться под фамилией нашего сотрудника? Зачем?
— Он не скрывается. Он с рождения Андрей Берестов.
— Ну, это мы проверим. Как следует проверим. И должен признаться, милая Лидочка, эта история мне нравится все меньше. Сначала мы задерживаем американского агента Антанты с большой суммой американских денег, затем приходите вы, а ваш муж скрывается под чужой фамилией.
— Что вы говорите? Это же чистой воды чепуха!
— Про чистую воду мы еще выясним.
Блюмкин поднял трубку и сказал в нее кому-то, кто, видно, ждал на том конце провода.
— Приведите ко мне Бронштейна, Давида Бронштейна из внутренней тюрьмы. Мне есть о чем его расспросить. И скажите Бочкину, пускай пришлет бойца, чтобы отвел в камеру предварительного задержания одну птичку. Потом вели зайти ко мне Андрееву.
Лидочка вскочила:
— Вы хотите меня… задержать?
Слово «арестовать» не выговорилось.
— Только до выяснения обстоятельств, — сказал Блюмкин, — Если вы ни в чем не виноваты, то вам не следует бояться. Мы только все проверим и отпустим вас домой.
Андрей ждал Лидочку больше часа. Потом им овладело беспокойство.
Он вернулся на Рождественку.
Вошел в главную дверь, Он хотел попросить Феню, чтобы она узнала, где Лидочка.
Но вместо Фени в окошке торчала голова обезьяноподобного мужика в пенсне.
— Вам чего? — Он увидел огорченное лицо Андрея, который склонился к окошку.
— Мне Феню, — сказал Андрей.
— Какую Феню?
— Она здесь сидела.
— А ты кто такой?
— Мы с ней договорились в коммунхоз сходить, — быстро ответил Андрей. — Я ее двоюродный брат, из Конотопа приехал, мы с ней комнату хлопочем.
Почему-то эта ложь показалась обезьяньей роже убедительной. Видно, и для него комната была реальностью, за которую надо бороться.
— Сменилась она. Не дождалась тебя, студент. Иди домой, она тебя в общежитии ждет.
— Спасибо, — Андрей быстро пошел к выходу, вышел на улицу и побрел к Кузнецкому мосту. Он не успел еще придумать, что делать дальше. Может, надо было спрашивать не Феню, а постараться узнать, что случилось с Лидочкой. Но он уже знал, что на вопросы в ЧК отвечают скупо.
И тут ему повезло.
На углу Кузнецкого он увидел Феню, которая оказалась существом миниатюрным, стройным, даже кожаная куртка не могла скрыть ее фигурки. Феня стояла перед витриной, на которой красовались груды колбас и окороков из папье-маше.
Андрей кинулся к ней.
Феня обернулась, узнала его и сказала:
— И кому это мешало?
У нее были чистые, очень блестящие глаза, голова была велика по сравнению с тоненьким телом. Она была похожа на цветок пиона. Только в кожаной куртке и синей юбке почти до щиколоток, из-под которой виднелись узкие носки зашнурованных ботинок.
— Феня, — произнес, задыхаясь от волнения, Андрей. — Прости, но мне так повезло, что я тебя догнал.
— А что? С женой что случилось?
— Она так и не вернулась.
Так и двух часов не прошло. Не беспокойся, Блюмкин ее не обидит, Если она сама того не пожелает.
— Не говори так.
— А чего я должна жалеть ее? — спросила Феня. — Меня никто никогда не жалел.
— Какой Блюмкин? — спросил Андрей. — Почему Блюмкин?
А он у нас начальник отдела по борьбе с иностранными разведками, забыл, что ли?
Я же еще давеча говорила, что только он решает.
— Да, конечно… Феня!
— Двадцать два года как Феня, — ответила девушка из ЧК, — Но возвращаться на службу не буду. Потому что это подозрительно, Ты что думаешь, у нас своим верят?
А я жить хочу. И ваши шпионские игры мне ни к чему. Понимаешь, ты мне конфетку, а я тебе голову на тарелочке?
— Мне только узнать, почему она не выходит?
— Пока не выпустят, она не выйдет, — заявила Феня.
— А как узнать?
— Не знаю!
— Может, вам нужны деньги? — спросил Андрей вслед Фене.
Феня обернулась. Ее лицо исказилось от вспышки бешенства.
— А ну пошел отсюда! — закричала она так, что прохожие стали оборачиваться. И близко ко мне не подходи. И к ЧК не подходи, Я тебя сразу сдам Петерсу — он тебя в пять минут оформит к Духонину, в штаб. Понял, студент! А я еще подумала — хороший мальчик, советы тебе давала… а ну вали отсюдова!
Андрей потерял еще полчаса у входа в ЧК. Хорошо еще, никто не обратил на него внимания. Он был готов уже ринуться внутрь и умолять их там, чтобы Лидочку отпустили. Ведь не может быть, чтобы они арестовывали совсем ни в чем не виноватых людей!
И тут его осенила мысль, которая спасла от этого глупого шага: ему пришлось бы признаться, возможно, в том, что именно он дал доллары Бронштейну. А это признание вряд ли спасло бы деда, но наверняка погубило бы Андрея.
Он стоял в растерянности и растущем страхе и перебирал мысленно немногочисленных знакомых в Москве, к кому можно обратиться за помощью, Метелкин — пропал.
Авдеевы не могут и не захотят вмешиваться.
Фанни!
Она же революционерка, она одна из них!
Ну как же он раньше не подумал!
Андрей знал, что Фанни живет в первом доме Советов — в «Метрополе».
Он тут же побежал туда. Благо, бежать недалеко.
И все же когда он добрался до гостиницы, то совсем выдохся.
Фанни, которая, на счастье, оказалась у себя, сразу вышла к Андрею.
Они говорили на улице, на пустыре напротив Большого театра.
Уже темнело, но фонарей не зажигали — свет экономили даже в центре.
— Это нехорошо, — сказала Фанни, когда Андрей рассказал ей об исчезновении Давида Леонтьевича и Лидочки. — Что могло случиться?
Почему-то Андрей думал, что Фанни будет возмущаться, может, даже заплачет, побежит куда-то наводить справедливость.
Ничего подобного. Она была совершенно спокойна, будто речь шла о пролитом молоке.
Андрею даже стало неприятно, что Фанни совсем не чувствует опасности, которой подвергаются ее знакомые.
— У меня нет знакомых в руководстве Чрезвычайки, — сказала Фанни тихо, словно рассуждала вслух. — Хотя там есть наши люди. Я имею в виду левых эсеров. Беда в том…
Мимо прогремел старый трамвай и заглушил слова Фанни, Загорелся фонарь над самой головой, и тяжелые густые волосы Фанни заблестели под ним, как атлас.
— Прости…
— Беда в том, — повторила Фанни, — что они не станут вмешиваться в дела Дзержинского. Ситуация сложная, Прошьян и Попов опасаются провокаций со стороны Дзержинского. Он только делает вид, что он наш союзник, а предпочтет Ленина.
— Но ведь нам не нужна политика. Я хочу только узнать, где мои друзья, где Лидочка, почему их не выпускают. Кто такой Блюмкин, наконец!
— Блюмкина я знаю, — сказала Фанни. — Я его не люблю. Он фанфарон и хвастун, но в душе трус. А трусы опасны, потому что ради спасения своей шкуры способны на любую измену.
— Блюмкин — начальник отдела, который арестовал деда Давида. Мне сказали это в ЧК, когда я туда утром ходил.
— А зачем туда пошла и Лида?
— Это непросто и я себя теперь за это казню. Там была девушка, в окошке, она пропуска дает. Она сказала, что спрашивать должна Лида. Блюмкин ей все скажет, потому что она молодая…
— И красивая. — Фанни в первый раз улыбнулась. — Это похоже на Яшу Блюмкина.
Девушка была права, не казни себя. Но, видно, что-то серьезное есть у них на деда Давида…
— И я теперь понимаю, что это может быть, То есть я с самого начала подозревал, но сам себе не хотел сознаваться. Виноват во всем я сам.
— Не бей себя в грудь — сказала Фанни. — Это еще никому не помогало. Что ты сделал?
— Я дал Давиду Леонтьевичу сто долларов, чтобы он их обменял. У нас совсем кончались деньги…
— И еврейская закваска дала себя знать! Он отправился делать гешефт, — сказала Фанни.
— Он согласился сделать это для меня, Он часто ходил в Столешников, там есть что-то вроде биржи…
— И попал в облаву?
— И они нашли у него доллары.
— Тогда понятно, почему он у Блюмкина. Блюмкину дали борьбу с иностранным шпионажем. А что может быть выгоднее дела, когда ты арестовал приезжего старика и сделаешь из него славный заговор!
— Фанни, может, мне сдаться им и объяснить, что деньги мои?
— И увеличить заговор еще на одного врага Советской власти. Давай, котенок, пробуй… — Фанни согнала с лица усмешку, словно провела по глазам ладонью. — Прости, но ты говоришь глупость. А я попытаюсь что-то сделать. Я поговорю с Колей Андреевым. Он мой… знакомый. Он работает в отделе у Блюмкина. Я его попрошу.
— Когда? Ты же понимаешь, что мы не можем ждать!
— А вот истерики не надо — сказала Фанни. — Нервы не помогают. Я поговорю с товарищем Андреевым с Колей. Тогда и будем решать.
— А где его найти?
— Его не надо находить. Он живет тут же, в доме Советов, Он придет домой, и я с ним поговорю.
— Я подожду здесь.
— Глупее ничего быть не может. Тебя прибьют бандиты или пристрелит патруль.
Ночью все равно ничего не происходит. И Блюмкин спит без задних ног. Завтра с утра я к вам приду.
— Лучше я приду, можно?
— У тебя нет никакого опыта, Андрей. Возможно, нам не стоит появляться вместе.
Андрей не посмел возразить, хотя ему совсем не понравилась эта мысль, его встревожила сама возможность совершать нечто недозволенное. Ведь он же ничего не сделал… Андрей был по натуре своей вполне добропорядочным обывателем, в нем не было авантюрной жилки, мирно дремлющей и всегда готовой пробудиться в Лидочке.
Но судьба не желала считаться с намерениями и желаниями Андрея, будто она была склонна жестоко посмеиваться над его попыткой отойти в сторону и пропустить мчащийся мимо с ревом и грохотом поезд истории. Чтобы не попасть под колеса, ему приходилось пускаться в дикий бег по рельсам впереди паровоза либо бросаться с насыпи в кипящую бездну.
— Ты когда придешь?
— Не будь наивным, мой друг, — сказала наставительно Фанни. — Я приду, как только что-то узнаю.
Конечно же, Мария Дмитриевна не спала.
Она осунулась за часы ожидания. Глаза были красными, словно старуха плакала.
Андрей даже не ожидал, что она будет так остро переживать исчезновение Давида Леонтьевича.
Она сразу поставила самовар, Андрей умылся с дороги и за самым настоящим чаем, принесенным еще на той неделе дедом Давидом, подробно рассказал ей о событиях дня. Мария Дмитриевна кивала, соглашаясь со словами и поступками Андрея, и тому было не легко признаться в истинной причине ареста деда Давида. Но в конце концов он пересилил себя и сказал Марии Дмитриевне о долларах. И та была так расстроена, что даже поднялась из-за стола и отошла к дверям, будто готова была просить Андрея покинуть комнату, но сдержалась и только сказала:
— Как неразумно, как по-мальчишески. Зачем же вы дозволили корысти завладеть собой? И втянули Давида Леонтьевича…
Почему-то Андрею захотелось назло этой даме крикнуть: «Вы бы посмотрели, с каким наслаждением он схватил эти доллары! Я же его не заставлял». Но, конечно же, Андрей промолчал. Он опустил голову и смотрел, как у ножки стола возятся две махонькие мышки. Такие малютки, с каждой неделей все мельче, сбегали от Миллера-Мельника, который почти не кормил своих питомцев.
— Каково там Лидочке, — произнесла между тем Мария Дмитриевна. — Девочка из хорошей семьи совсем не приспособлена к тому, чтобы проводить ночи в подвалах Чека… Какой ужас!
Она взглянула на Андрея и добавила:
— Я так надеюсь на Фанни. У нее наверняка есть связи. Они все бывшие террористы.
Мария Дмитриевна не позволила Андрею бежать с утра на Рождественку, апеллируя к его здравому смыслу. Куда полезнее ждать Фанни здесь.
Фанни пришла на Болотную площадь куда раньше, чем ее ждали. Оказывается, она поговорила со своим другом Андреевым еще ночью, когда он вернулся со службы.
Коля сам заглянул к ней, потому что у него кончался чай и сахар, а политкаторжанам выдавали усиленный паек.
К тому же он хотел поделиться с Фанни своей бедой.
Он только что разговаривал с Блюмкиным, который арестовал старика Бронштейна.
Тот попался на облаве с большой, гигантской, фантастической пачкой американских долларов, которые старался обменять на рубли. Американской разведке надо было содержать свою агентурную сеть.
Во всех охранках, и двести лет тому назад, и сегодня, принято в собственном кругу даже для внутреннего пользования, не говоря уж об окружающих слушателях, сильно преувеличивать число арестованных, масштаб преступления и объем конфискованного оружия, наркотиков или денег. Эта обычная ложь поднимает значение органов в собственных глазах, что самое важное, а потом уж в глазах начальства и — в последнюю очередь — в глазах народа, что уже не так важно.
Так что сто долларов, изъятые у Давида Леонтьевича, превратились в толстые пачки, хотя бы потому, что сотней долларов агентурную сеть не накормишь, а Блюмкину срочно надо было отличиться, потому что никаких сенсаций его отдел не мог родить.
Когда же в кабинет Блюмкина привели старого валютчика с его сотней, Блюмкин включил свою буйную фантазию, чтобы выковать заговор и раскрытую шпионскую сеть.
И тут ему крупно повезло. Заявилась девица Лидия Берестова, сама, добровольно.
Агент американской разведки. Теперь следовало не спешить. Взять, повязать их всех…
Не следует думать, что Блюмкин был столь наивен, что сам верил в пачку долларов и агентуру. Но он понимал, как можно разыграть карту. Сначала необходима сеть.
Затем добровольное признание главы заговора. Возможно, не старик состоит в этой должности. Может, следует отыскать кандидатуру помоложе, может быть, офицера или иностранца. А уж потом кого-то придется застрелить при попытке к бегству, чтобы даже при желании (хотя вряд ли оно возникнет) понять, был заговор или нет, в этой сумятице было бы невозможно.
Поздним вечером Блюмкин вызвал к себе Колю и рассказал о своей идее. Даже сказал ему, что с утра пошлет команду в гнездо заговора, на Болотную площадь, Он бы сделал это сразу, но оказалось, что ночью все машины и все группы вооруженных чекистов были задействованы на ликвидацию особняков, в которых засели анархисты.
Руководству ЧК было не до блюмкинского заговора.
Пока Блюмкин старался найти группу, чтобы произвести набег на Болотную, Коля проглядывал личные дела, вернее, листки допросов первых арестованных. Первый — Давид Леонтьевич Бронштейн — был ему неизвестен. А второй оказалась Лидочка.
Коля сделал усилие, чтобы Блюмкин не заметил ужаса, который его охватил.
Лидочка!
И конечно же, тот самый дом на Болотной площади, куда ходила Фанни!
Они же ехали в поезде из Киева. Как он мог не вспомнить: дед Давид, который ищет сына, и чета Берестовых.
— Что ты думаешь? — спросил Блюмкин.
Он не выспался, потому что провел ночь в одной веселой поэтической компании. Там гуляли имажинисты, он подрался с Мариенгофом, битва кончилась победой чекиста, но теперь страшно болела голова, и Блюмкин ненавидел весь мир.
Коля понимал это и никак не мог придумать, что сделать.
— Думаю, что за этим может ничего не скрываться, — сказал Коля. — Старый еврей вытащил из сапога доллары и решил спекульнуть. А девушка и на самом деле его соседка…
— Как ты подозрительно прост, Андреев. Может, это твои дружки?
Интуиция у Блюмкина была сказочная, она не раз позволила ему выпутываться из смертельных переделок.
— Делай как знаешь! — Коля отодвинул от себя исписанные листы.
— Это наше с тобой общее дело, — возразил Блюмкин. — Там должны быть документы.
И мы поедем туда с обыском. И это надо сделать прежде, чем они сообразят, что произошло.
— Если это шпионы, — возразил Коля, — они давно уже сообразили. И там нечего искать.
— Тогда возьмем людей.
— Где ты их будешь брать? Они уже в Киеве.
— Чепуха. — Блюмкин был не уверен в своей правоте, к тому же больше всего ему хотелось вытянуться на диване, на славном кожаном адвокатском диване, стоявшем в кабинете. Этот диван был свидетелем и страстных, и страшных сцен. — Тогда первым делом с утра. Поедешь на грузовике. А сейчас иди вниз и любой ценой закажи грузовик, чтобы мы отправились туда на рассвете.
Блюмкин встал, ожидая, пока Коля уйдет, а потом в три шага дошел до дивана и рухнул во весь рост.
Через минуту он уже храпел.
Он хотел сказать, засыпая, что чекисты работают без выходных и даже по ночам не спят в своих кабинетах, как Робеспьеры. Но ему лишь приснилось, что он произнес эти революционные фразы.
Коля же, спустившись вниз, в транспортный отдел, спросил там сонного дежурного, есть ли машины на завтра. И тот ответил — приходи завтра. Откуда я знаю. В этом бардаке никто не разберется.
Коля не стал заказывать машину. Какой в том смысл. Но если будут проверять, дежурный подтвердит, что Андреев сюда приходил.
Оставаться в Комиссии не было смысла. Ничем он Лидочке не поможет. Завтра у Блюмкина будет другое настроение. Он выспится и сможет разговаривать по-человечески.
Но вот обыска допускать в квартире нельзя, Мало ли что там хранит этот идиот Берестов или старорежимная старуха. Как только завтра отыщут револьвер или два патрона, считай, что заговор готов, и тогда Лидочку не выцарапаешь никакими силами.
Самому идти туда не стоит. Вся история с переменой имен и дружескими детскими отношениями со смертью Сергея Берестова и вообще ялтинские годы должны остаться в прошлом. Это может погубить самого Колю…
Значит, оставалась Фанни. Она должна была помочь. С ее опытом и равнодушием к опасности только она и сможет помочь.
Так что Коля поспешил в первый дом Советов.
И надо же было так случиться, что Фанни сама ждала его прихода.
И когда они заговорили и когда выяснилось, что Блюмкин арестовал спутников Фанни, то Коля мог, не открывая своей связи с Берестовыми, выказать себя защитником обездоленных и стал давать Фанни добрые советы, честно признав, что Блюмкин спешит выковать заговор и, как только добудет грузовик и охрану, кинется на Болотную.
И вот что они решили.
Коля остается в гостинице «Метрополь», потому что у него жар и неожиданная ангина. А Фанни, как только рассветет, мчится на Болотную, чтобы успеть раньше Блюмкина, Так что Фанни заявилась на Болотную в шестом часу утра. Она была тщательно причесана, одета как одеваются бедные лавочницы, — все продумала. Фанни чувствовала себя бодрой и молодой, словно возвратились прежние времена. Надо было спасать явочную квартиру, а это она умела делать.
Как только ее впустили в дом, она велела Андрею и Марии Дмитриевне немедленно, чтобы через пять минут их здесь не было, уйти из квартиры, взяв только самое необходимое и в первую очередь все, что могло бы помочь следствию в создании версии о шпионском гнезде.
Оказывается, Мария Дмитриевна и Андрей предусмотрели именно такую возможность, У обоих были сложены сумки — небольшие, чтобы не вызывать подозрения на улице.
Они сидели на стульях посреди гостиной и проверяли себя:
— Фотографии взяли? деньги взяли? Письма взяли…
Фанни велела им уходить к Пятницкой и там ждать в сквере у церкви. Ждать терпеливо. Может быть, час, может, два. Ничего предсказать пока нельзя. Можно поесть там в трактире. Но без сообщения от Фанни не уходить. Она узнает, что предпринимает Блюмкин.
Сама Фанни вышла из подъезда раньше и пошла по набережной. Там, метрах в ста от подъезда, она остановилась. Утро было прохладное, ветреное, но облака казались тонкими, сквозь них начало просвечивать солнце.
Через час приехал грузовик с солдатами.
Блюмкин, размахивая револьвером, первым выскочил из кабинки. За ним — Коля.
Блюмкин стал отдавать приказания солдатам, а Коля, отойдя чуть в сторону, принялся оглядывать окрестности.
Через минуту его взгляд достиг черноволосой фигурки с откинутым на воротник голубым платком.
Коля кивнул.
Все сделано.
И он спокойно пошел следом за Блюмкиным, который загонял в подъезд бойцов, но сам не спешил войти в его черную дыру.
Коля взял инициативу на себя.
Он первым взбежал на второй этаж и ждал, пока слесарь, мобилизованный в ЧК именно для таких дел, вскроет замок.
Блюмкин был зол.
Квартира оказалась пустой. Обыск ничего не дал. Пока он позволил себе шесть часов поспать на черном кожаном диване, кто-то спугнул птичек.
— Не вини себя, — сказал Коля. — Они ушли отсюда уже вчера вечером. Потрогай чайник и самовар.
Блюмкин потрогал ладонью самовар. Он был холодным.
Фанни пришла в садик к церкви на Пятницкой, там сидел только Андрей.
— А где бабушка?
— Она сказала, что поедет к родственникам.
— Легкомысленно. Мы так не поступали.
— Она думает, что никто не знает ее родственников.
— Она недооценивает профессиональный сыск, — сказала Фанни. Это была фраза из полицейского лексикона.
Они сидели рядышком на скамейке и никак не могли придумать, чем помочь Лидочке и старику. Пока что Блюмкин не отказался от идеи заговора и, как сказала Фанни: «За их жизнь я и двугривенного не дам».
— Что мне делать? — спросил Андрей.
— В квартиру пока не возвращайся, они наверняка оставили там засаду.
— Я пойду на работу, в музей?
— Они могли допрашивать Лиду, и она сказала им, где ты работаешь. Это же не тайна, Садись на пригородный поезд и поезжай в Малаховку.
— В Малаховку?
— Если хочешь в Тайнинку. Посиди там в леске до вечера, а вечером увидимся у Большого. В восемь вечера.
— Я раньше приду.
— Чем дольше ты будешь сидеть на одном месте, тем скорее тебя засекут.
— Ты надеешься?
— Я никогда не теряю надежды, — сказала Фанни. — Если не получится уговорить Блюмкина, тогда я пойду к Дзержинскому. Он меня помнит, Мы с ним вместе были на пересылке.
Она сказала это так, как молодой английский лорд говорит невесте:
— С моим шафером мы учились в Оксфорде.
Тем временем бедно, но аккуратно одетая старая женщина с такой прямой и гордой осанкой, словно молодость провела в балете, подошла к проходной наркомата военных и морских дел.
Она сказала красноармейцу у входа, что, намерена поговорить с товарищем наркомом Троцким по важному делу. По личному делу.
— Как вас представить? — спросил стоявший там командир, юный, но профессиональный молодой человек, слепленный из того материала, который природа тратит на адъютантов.
Такие молодые люди даже на службе революции делают различие между просто просителями и просителями с большой буквы.
А бедно одетая дама вообще в категорию просителей не вписывалась.
— Народный комиссар здесь?
— Он еще не прибыл. Но здесь находится его заместитель товарищ Склянский.
— Мне нужен именно Троцкий.
— Простите, я не расслышал вашего отчества и фамилии.
— Скажите народному комиссару, что его желает видеть баронесса Врангель. Мария Дмитриевна Врангель.
— Разрешите проводить вас в приемную, — предложил адъютант.
И госпожа баронесса Врангель благосклонно согласилась подождать, тем более что страшно не выспалась, устала и переволновалась.
Нарком республики по военным и морским делам Лев Давидович Троцкий ворвался в наркомат в двенадцатом часу. До того было совещание в ЦИКе, на котором с печалью изучались новые изобретения германской армии. Так что он был зол, ибо Ленин позволил себе упрекнуть его, верного союзника, в идиотской, на его взгляд, позиции в Брест-Литовске. «Тогда мы, батенька, по вашей милости с формулой «ни мира ни войны» и потерпели поражение».
Это было несправедливо.
Но приходилось мириться с реальным положением вещей: мировая революция или хотя бы революция в Германии не начиналась. Немцы захватили юг России, в том числе и родные места народного комиссара, и как там родные, живы ли — одному богу известно.
Троцкого встретил его адъютант.
— Вас ждет баронесса Врангель, — сказал он, не сдерживая легкой усмешки. — Первая баронесса после вашего назначения.
— Оставьте ваш юмор при себе, — огрызнулся Троцкий.
Но при виде вставшей при его появлении в приемной дамы он взял себя в руки. В то же время он не мог позволить себе на глазах у секретаря чем-то показать преференцию по отношению к баронессе.
Замечено, что русские большевики, и чем дальше, тем более, уничтожая аристократию, внешне ненавидя ее, все же робели перед князьями и графами. Даже расстреливая и вешая их, робели. И не исключено, что, проживи Сталин подольше и достигни он крайних степеней маразма, в СССР могли бы ввести титулы. Но это из породы домыслов…
— Вы ко мне? — спросил Троцкий.
— Вы народный комиссар военных и морских дел Лен Давидович Троцкий? — спросила Мария Дмитриевна.
— Вы угадали.
Все вокруг, кроме Троцкого, улыбались, им казалось забавным, что кто-то не узнал вождя. Второго человека в Советском государстве.
— Тогда мне нужно поговорить с вами наедине.
Троцкий колебался.
Ему хотелось спросить у охраны, обыскивали ли эту женщину? Правые эсеры могли устроить покушение на него.
Словно угадав, баронесса передала свою большую дорожную сумку адъютанту. «Поставьте ее где-нибудь, здесь ничего ценного».
Но потом Троцкий взял себя в руки, несколько театральным жестом поправил курчавую шевелюру и пригласил баронессу в кабинет.
Адъютант хотел последовать за ними, но баронесса обернулась от двери и промолвила:
— Это лишнее. Молодой человек подождет.
И ей все подчинились.
Кабинет Троцкого был велик, над широким столом висела во всю стену карта России.
— Садитесь, — сказал народный комиссар.
Мария Дмитриевна, прямо держа спину, села и с неожиданной строгостью спросила Троцкого:
— Где ваш отец?
— Мой отец? Вернее всего, на Украине.
— Его зовут Бронштейн Давид Леонтьевич?
— Именно так.
Сердце Троцкого охватило дурное предчувствие.
— Он полный человек с седыми волосами, как у вас, бороду стрижет, руки большие, мозолистые…
— Что с отцом? — почти крикнул Троцкий.
— Он в Москве, — ответила Мария Дмитриевна. — Надеюсь, что жив и даже не болен.
— Вы взволнованы? — догадался Троцкий. — Принести вам воды?
— Нет, спасибо.
— Я не знал, что отец в Москве. Он мне ничего не сообщил.
— Он давно в Москве.
— Я ничего не понимаю.
— Он приехал сюда еще в начале весны, когда вы были в отъезде, и думал, что вы находитесь в Петрограде. Но когда он доехал до Москвы, был ограблен, и он жил со своими друзьями здесь.
— Почему же он не пошел ко мне? Он ведь ехал…
— Не сердитесь. Давид Леонтьевич пытался вас найти. Но как я понимаю, это было сделать непросто. Он не догадался, что вы здесь находитесь под кличкой.
— Это не кличка. Это партийный псевдоним.
— Как знаете, товарищ Троцкий. — Мария Дмитриевна подчеркнула интонацией свое отношение к большевистским псевдонимам. — Ваш отец наводил справки о вас как о Бронштейне. Но ваша кличка так к вам приклеилась, что добраться до вас было нелегко. Как вы знаете, Бронштейн — довольно распространенная еврейская фамилия, и среди ваших коллег по перевороту оказалось несколько разного рода Бронштейнов.
К тому же с вашим отцом не желали разговаривать в учреждениях, куда он приходил в поисках своего сына Бронштейна, Лейбы Бронштейна. Лейбы, если не ошибаюсь? Ну кто вас знает как Лейбу Бронштейна? Вы же большевистский комиссар товарищ Лев Троцкий.
— Обойдемся без демонстраций, — оборвал баронессу Троцкий. — Я осведомлен о том, как меня звали и как зовут. Я понял, что мой папаша, непривычный к московской жизни, к тому же попавший сюда в момент потрясений и переезда из Петрограда в Москву, мог меня не найти, допускаю. Как допускаю, что он не спешил меня найти…
— Может быть, — согласилась с наркомом баронесса Врангель. — Может быть, насмотревшись на деяния ваших друзей, на то, во что вы превращаете Россию, он был разочарован.
— Он говорил вам об этом?
— Он много разговаривал со мной.
— И вы его убеждали в том, что мы — я и мои товарищи — пособники Антихриста?
— Ах как просто! — возмутилась Мария Дмитриевна. — Вернее, упрощенно. Мы много говорили, пользуясь взаимной симпатией. Давид Леонтьевич в высшей степени порядочный и разумный человек. Но я стараюсь оставаться в стороне от политики.
Она обжигает и убивает. Эту мою позицию разделял ваш отец.
— Где он сейчас?
— Он в опасности, Поэтому я сочла возможным прийти к вам, хотя, как вы можете понять, это может представлять опасность ля баронессы.
— Вы из семьи открывателя арктического исследователя мореплавателя Врангеля?
— Наша семья принадлежит к боковой ветви рода.
— Отец послал вас ко мне?
— Самое любопытное заключается в том, что он до сих пор не уверен, что его сын — народный комиссар Троцкий. Как раз два дня назад мы с ним обсуждали такую возможность и пришли к выводу, что эта версия наиболее вероятна. Он бы наверняка посетил вас не сегодня-завтра. Но не смог…
— Продолжайте.
— Его забрала Чека.
Как? Почему?
— Он возглавляет американскую шпионскую сеть и заговор против Советской республики.
— Что за чепуха!
— А в этом заговоре состоим мы — жильцы той же квартиры, где он живет. Потому что он вовлек нас в заговор. Мы вынуждены скрыться из дома, хотя милейшая молодая женщина, которая смело отправилась в Чека узнать, что происходит, и помочь вашему отцу, была тоже арестована как шпионка.
— Откуда вы все знаете?
— Даже у нас есть связи в ваших органах.
— Надеюсь, что вы ничего не выдумали.
— Я похожа на сумасшедшую старуху, которая добровольно бежит в гнездо самых злобных большевиков, из которого она может и не выйти живой, только для того, чтобы спасти какого-то еврейского старика?
— Может, вы даже знаете, кто там ведет это дело?
— Некий Блюмкин.
— Впрочем, это не важно.
Троцкий ладонью ударил по звонку на столе. Звонок мелодично заверещал.
В кабинет заглянул давешний адъютант.
— Чаю для гражданки Врангель, — приказал Троцкий, — и срочно соедините меня с товарищем Дзержинским.
Дзержинского в ЧК не оказалось. Он выехал подавлять сопротивление анархистов.
С его заместителями Троцкий разговаривать не пожелал, а велел подать машину.
— Лидия Берестова, — сказала вслед Троцкому баронесса. — Лидия Кирилловна. И если она останется там, ваш отец этого никогда вам не простит.
Троцкий был тронут. Будучи человеком сентиментальным, он был открыт для чувств других людей, когда обстоятельства позволяли ему разделить эти чувства.
— Я ваш вечный должник Мария Дмитриевна, — искренне произнес он и подумал, до чего хороша эта пожилая женщина, в нее и сейчас можно влюбиться. И понятно, если его отец испытывает к этой баронессе теплые или даже нежные чувства. Еще чего не хватало, вдруг испугался он.
— У него чудесные внуки, — сказал Троцкий, будто хотел этим упрекнуть баронессу.
— Вам подадут авто.
И быстро вышел, как и положено великому человеку революции, — его ждали великие дела.
А Мария Дмитриевна отказалась от автомобиля, допила чай и пошла пешком на Пятницкую и там, у канала увидела Андрея.
— Где вы были? — спросил Андрей.
— У одного видного большевика, — улыбнулась Мария Дмитриевна.
— Зачем? Это же так опасно?
Мария Дмитриевна покачала головой.
— Нет, не очень опасно.
— А что? Есть надежда?
— Подождем, — сказала Мария Дмитриевна.
Солнце грело совсем по-летнему, Мария Дмитриёвна сидела на лавочке, закинув голову к солнцу, закрыв глаза и чувствуя горячий свет солнца сквозь прикрытые веки.
Она поступила правильно, думала она. Ее мальчики одобрили бы ее безрассудный, на первый взгляд, поступок. Ведь этот Троцкий — известный бандит и садист. Но ведь и у бандитов есть сыновьи чувства. Причем евреи куда более ценят своих родителей — чем русские.
— Но скажите, есть надежда? — Андрей готов был снова бежать на Рождественку — нет ничего хуже пустого ожидания.
— Все будет хорошо. — Больше Мария Дмитриевна ничего Андрею не сказала.
А в это время Троцкий, который ворвался в здание ЧК, как Александр Македонский во дворец к Дарию, был вынужден затормозить у стражи, для которой нарком ты или рядовой — не важно, Пятиминутное ожидание, пока искали кого-нибудь из начальства, вывело Троцкого окончательно из себя, и чекисту Лацису, из исполнительных латышей, пришлось выслушать ряд нелицеприятных заявлений о порядках в Комиссии.
Правда, Лациса Троцкий не испугал, тот подумал — вот попадешься мне в лапы, тогда посмотрим, кто и как умеет кричать. В какой-то степени это Лацису удалось.
Пройдет несколько лет, и он примет участие в изгнании Троцкого из республики Советов.
Они поднялись в кабинет к Блюмкину.
В те первые месяцы Советской власти еще не было строгой системы, еще не сложилась советская бюрократическая машина, и даже машина подавления работала пока любительски, жестоко, но непоследовательно.
Блюмкин только что пришел, был сонным и злым, предстоял трудный день допросов и обысков. Надо было шить большое дело. И тут к нему пришел Лацис — неприятный холодный бонза из верхушки Комиссии, который временами заменял Дзержинского, а с ним примчался лохматый дядька с диким взглядом, лицом, сдавленным между большим лбом и острым подбородком, так что нос крючковато выдавался вперед. Усы и черная эспаньолка, маленькая, будто приклеенная, придавала типу театральный облик.
Увидев сидевшего за вальяжным столом Блюмкина, пришедший товарищ почему-то быстрым движением снял пенсне и принялся протирать стекла большими пальцами, Блюмкин поднялся. Что за напасть. Визитеры сердиты. Кто на него накапал?
— Блюмкин. — Лацис не любил этого парня, хоть тот и был протеже самого Председателя. У него был нюх на авантюристов, к тому же внешнее наблюдение уже не раз докладывало, что Блюмкин не чурается подозрительных связей, — Ты задерживал Давида Бронштейна?
— Да, он у меня проходит по делу.
— Что задело? — спросил Лацис — прямой, как палка, белесый и скучный.
— Не могу при посторонних! — сыграл в преданность идее Блюмкин.
— Отставить! — остановил его Лацис. — Говори.
— Дело пахнет шпионским заговором. После долгой оперативной работы раскрыли сеть агентов. Они обменивали пачки долларов на наши деньги для оплаты агентуры. Часть заговорщиков взяли, остальные пока в бегах. Возьмем к вечеру. Дело серьезное.
— А сеть, — громко сказал курчавый с эспаньолкой, — состоит из юной девушки Лиды Берестовой, которая пришла к вам просить за старика.
Лацис с удивлением посмотрел на него.
— Для отвода глаз. — Блюмкин уже не был так уверен в том, что ему удастся стать генералом на этом громком деле. — Для отвода глаз она пришла сюда и попалась.
Они еще надеялись… но найдены связи с американским посольством. Бронштейн во многом сознался.
— Сколько было долларов? — спросил Троцкий, которого Лацис не стал представлять Блюмкину.
— Крупная сумма.
— Сколько? — вдруг рявкнул Лацис, который уже отлично понял, что Блюмкин кует заговор на пустом месте. А Лацис ни в чем не терпел дилетантства и авантюр.
— Разве дело в сумме? — не сдавался Блюмкин. — Вы бы посмотрели на этих типов…
— Вот это мне и нужно, — сказал Лацис. — Где эти типы?
— Во внутренней тюрьме, — сказал Блюмкин.
— Чтобы через пять минут они были здесь! Сам беги, ножками.
— Слушаюсь, товарищ Лацис.
Блюмкин потопал сапогами по коридору. Коля как раз шел к нему, но прижался к стене, увидев, что красный, злой Блюмкин тяжело бежит навстречу.
Блюмкин даже не заметил Колю, а тот повернул обратно, к себе. Так будет лучше.
В кабинете Блюмкина Лацис предложил Троцкому сесть в кресло Блюмкина, но тот отказался. Он подошел к окну и стал смотреть на церковь. По крайней мере отец жив. Иначе Блюмкин не побежал бы за ним.
«Отец, отец… что за характер! Весь в меня, Теперь еще придется оправдываться — и за себя, и за всю партию». Троцкий даже улыбнулся.
— Кем вам приходится гражданин Бронштейн? — спросил за спиной Лацис.
— Отцом, — ответил Троцкий. — Он приехал с юга и искал меня. Он не догадался, что меня здесь никто не знает как Бронштейна.
Понятно, — сказал Лацис, — Вы можете ехать, у вас, наверное, дела, Лев Давидович.
А то освобождение заговорщиков потребует некоторого времени и некоторых формальностей…
— Надеюсь, вы не разделяете подозрений этого молодого человека? — спросил Троцкий.
— Бывают и у нас дураки.
— Если у него отдел по борьбе с иностранцами — заметил Троцкий, — значит, это кому-то нужно.
— Я не вмешиваюсь в высокую политику, — сказал Лацис. Я — ищейка.
— Боюсь, что мы с вами еще услышим эту фамилию, — сказал Троцкий. — На вашем месте я бы проверил, как он сюда попал и для чего его здесь держат.
Сначала вошел Бронштейн, за ним Лидочка, последним — Блюмкин. В дверях остановился чекист, который охранял заключенных, Видно, он не оставил их своими заботами, получив странный приказ Блюмкина.
— Отец! — Троцкий бросился к Давиду Леонтьевичу.
Тот стоял и молча глядел на сына.
Троцкий увидел, что один глаз старика заплыл, на щеке — кровоподтек.
— Кто это сделал? Скажи, какая сволочь это сделала?
— Лучше бы я не приезжал, — сказал дед Давид. — Лучше бы я пожил при немцах.
— Я сегодня же поставлю вопрос на заседании ЦИК, — сказал Троцкий Лацису. — Вашу контору следует прочистить от всякой примазавшейся к ней сволочи.
— Будьте уверены. Товарищ Блюмкин у нас больше не работает, — сказал Лацис.
— А меня били по спине и животу, — сказала Лидочка, — они сказали, что не хотят мне рожу портить…
— Тебя этот бил? спросил Троцкий и, не дожидаясь ответа, дал Блюмкину хлесткую пощечину. Голова Блюмкина дернулась, и он выскочил в коридор.
— Нет, — сказала Лидочка, — у них есть для этого страшные люди, Ужасные люди. Вы не представляете.
Давид Леонтьевич обнял Лидочку и сказал сыну:
— Эта девочка не испугалась и пошла в самое логово бандитов, чтобы выручить меня.
Запомни это, Лейба.
— К счастью, она была не одна, — ответил Троцкий. Он обернулся к Лацису:
— Надеюсь, я могу верить вашему слову, что эти методы будут искоренены из работы Чрезвычайной Комиссии. Это типичная контрреволюция, эти провокации выгодны нашим противникам.
— Я понимаю и совершенно с вами согласен, — ответил Лацис. — Я прошу всех пройти ко мне в кабинет, чтобы составить и подписать бумаги об освобождении граждан.
Понимаете, должен быть порядок. Во всем.
— Когда забирали, кто соблюдал порядок? — спросил Давид Леонтьевич. — Когда молотили хуже, чем при царе, кто соблюдал?
Они вышли в коридор и направились к кабинету Лациса.
Блюмкина в пределах видимости не было. Он отправился в медчасть, чтобы получить справку о болезни.
В те дни, в середине июня 1918 года, в Омске образовалось временное сибирское правительство. Оно опиралось на чехословаков, которые тогда взбунтовались против большевиков.
Чехи, которые сыграли такую важную роль в русской гражданской войне, попали в Россию не по доброй воле.
Рассыпалась, умирала и никак не могла окончательно помереть громадная лоскутная Австро-Венгерская империя. И практически все народы, кроме австрийцев, в нее входившие, мечтали о независимости. А так как армия империи была в значительной степени составлена из мобилизованных инородцев, то многие принялись сдаваться в плен к русским. И в лагерях для военнопленных скопились сотни тысяч солдат и офицеров, которые требовали, чтобы их снова пустили в окопы, но с другой стороны.
Они желали сражаться за независимость своей родины. Чехи — Чехии словаки — Словакии, венгры — Венгрии, поляки (из южных воеводств) — Польши.
Царское правительство решило использовать пленных, вооружало их, сводило в полки и дивизии, посылало к ним для контроля и обучения русских офицеров, но немногие из новых союзников успели принять участие в боях. После революции эти полусформированные полки стали для большевиков опасны. Идея новых правителей России помириться с Германией и Австро-Венгрией была им отвратительна, Они ее воспринимали как предательство. Поэтому первый и второй польские корпуса начали воевать с наступающими германскими частями в Белоруссии и на Украине, а чехи, которых насчитывалось примерно 60000 человек, дисциплинированных, вооруженных, имевших своих командиров, потребовали, сговорившись с французами, чтобы их отправили на дальний Восток, а там союзники переправят их морем на фронт против Австро-Венгрии.
Большевики этих чехов и поляков боялись.
И начали суетиться.
Будь они спокойнее и опытней в военных делах, они бы сделали все возможное, чтобы как можно скорее избавиться от чехов и поляков мирным путем. Но отношения с братьями-славянами портились день ото дня, и большевики пришли к выводу, что те готовят восстание, Поляков, собравшихся в Екатеринбурге, окружили и перебили — лишь некоторым удалось убежать в Мурманск и Архангельск, а то и на юг — в Одессу. Но чехов было куда больше, и они были отлично организованы. Эшелоны с ними медленно двигались на восток, растянувшись на сотни километров от Волги до Омска.
Ехали чехословаки не в вакууме. В каждом городе на каждой станции они общались с местной властью и местными политиками, И они понимали, что большевики — их враги.
Их следует опасаться и верить им никак нельзя, В Челябинске, где их затормозили и не пускали под разными предлогами дальше, они сговорились с тамошними демократами и разогнали Совет.
Известие об этом всполошило Москву.
Был отдан приказ всем Советам по Сибирскому пути разоружать чехов. А тем временем 25 мая чехи, вступившие в открытый конфликт с советской властью, заняли Мариинск, и 8 июня вал большой город Новониколаевск, известный ныне как Новосибирск.
Московский приказ опоздал.
За несколько следующих дней чехословаки захватили все станции к западу. Вплоть до городов на Волге — Самары и Сызрани.
Восстание чехословаков распространялось неотвратимо, железные дороги оказались теми артериями, по которым текли микробы болезни.
На юге белые части остались без командира. 17 апреля случайным снарядом под Екатеринодаром убило генерала Корнилова. Принявший командование Антон Деникин отступил в район Ставрополя. Красные отряды под командованием жестокого садиста Сиверса залили кровью казачьи области. Немцы вошли в Донбасс, они торопилась захватить угольный бассейн.
А в Москве у германского посла графа Мирбаха угнали из гаража его роскошный посольский автомобиль. И его не нашли!
В тот же день глупо погиб знаменитый актер и бузотер Мамонт-Дальский. Он попал под трамвай, и ему отрезало ноги. Современник писал: «Это был гений и беспутство, олицетворение Кина, к тому же к концу своей мятежной жизни он бросил сцену и объявился убежденным анархистом.
Тот же современник писал в дневнике: «Гастрономические впечатления: икра зернистая черная — 38 рублей фунт, красная — 10 руб., десяток огурцов — 10 руб., коробка сардин — 16 руб.».
Судя по всему, черная икра еще не стала исключительным лакомством.
Особенно если «костюм пиджачный обходился в 800 руб., а шляпа — в 60 рублей. Вот и живи на 625 р. в месяц!» — пишет чиновник, который и при большевиках чиновник.
Что еще происходило в те дни? На Адриатическом море французская подводная лодка взорвала австрийский дредноут «Св. Иштван». На заседании ЦИК 15 июня представители меньшевиков и правых эсеров исключены из ЦИК.
Тот же современник восклицал: «Теперь там остались одни большевики. При каком царе Горохе царствовала только одна партия?» 20 июня началась страшная жара.
В городе ходили слухи об убийстве Николая II. В Петрограде убили большевика Володарского, а Трибунал вынес смертный приговор командующему Балтийским флотом А. Щастному за то, что он намеревался устроить заговор и скинуть большевиков.
Обвинение было стандартным. Щастного расстреляли.
Часть Черноморского флота возвратилась в Севастополь из Новороссийска, остальные по приказу Москвы взорваны.
Большевики готовились к Съезду Советов и ликвидации верных пока союзников — левых эсеров.
Блюмкина не выгнали с работы. В ликвидации левых эсеров ему была отведена важная роль.
Глава 4
6 ИЮЛЯ 1918 г.
Утром 6 июля недавно снятый с должности заведующего отделом борьбы с иностранными разведкам Яков Григорьевич Блюмкин, двадцати лет от роду, по партийной принадлежности — левый эсер, пришел в общий отдел и взял у Любочки чистый бланк. Потом пошел к себе в кабинет, который никто у него не отнял, и сам напечатал двумя пальцами такой текст:
Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией уполномочивает ее члена, Якова Блюмкина, и представителя революционного трибунала Николая.
Андреева войти непосредственно в переговоры с господином германским послом в России графом Вильгельмом Мирбахом по делу, имеющему непосредственное отношение к самому господину германскому послу.
Секретарь комиссии (Ксенофонтов)Председатель комиссии (Дзержинский)
Полюбовавшись на убедительно выглядевший документ, Блюмкин достал какую-то хозяйственную бумагу и скопировал подпись Ксенофонтова. Получилось мало похоже, но это не играло роли, потому что подпись Ксенофонтова никому за пределами Рождественки не была известна.
С мандатом в черной папке Блюмкин поднялся к Председателю.
Дзержинский прочел мандат, поправил опечатку и размашисто подписался.
Потом недобро улыбнулся и сказал:
— Славно ты поделал подпись, Блюмкин. Талант у тебя по этой части.
— Стараемся, — ответил Блюмкин.
— Желаю удачи. Жду со щитом. Ошибиться нам с тобой нельзя. Сегодня на Съезде Советов мы должны ликвидировать фракцию твоих товарищей по партии. Боливар двоих не свезет.
Дзержинский имел в виду рассказ американца О’Генри, о существовании которого, как и автора, Блюмкин не подозревал. Но со словами Феликса Эдмундовича он сразу согласился.
— Твоя акция — бикфордов шнур революции, — закончил Дзержинский. — Иди. Не торопись, пускай работает Андреев. У него твердая рука.
Дзержинский хотел было закончить свое напутствие латинской фразой «Идущие на смерть приветствуют тебя, но передумал. — Блюмкин не знает латыни, ее в хедере не изучают. А латынь семинарскую Председатель подзабыл.
Дальнейшее Блюмкин на следствии описал так:
«Из Комиссии я поехал домой, в гостиницу «Элит» на Неглинном проезде, переоделся и поехал в первый дом Советов. Здесь уже ждал меня Николай Андреев. Там мы получили снаряд, последние указания и револьверы, Я спрятал револьвер в портфель, бомба находилась у Андреева также в портфеле, заваленная бумагами. Из «Метрополя» мы вышли около 2-х часов дня. Шофер не подозревал, куда он нас везет. Я, дав ему револьвер, обратился к нему как член Комиссии тоном приказания: «Вот вам кольт и патроны, езжайте тихо, у дома, где остановимся, не прекращайте все время работы мотора, если услышите выстрелы, шум, будьте спокойны».
Денежный переулок, что идет от Арбата параллельно Садовому кольцу в сторону Пречистенки, в обычное время тих и малолюден. Обширный претенциозный особняк, построенный в начале века, который выделили в Москве германскому посольству, принадлежал до революции сахарозаводчику Бергу. Берг скончался, и вдова с многочисленными детьми, которую, разумеется, выселили, была искренне рада, что ее особняк попадет в хорошие руки: немецкое посольство для сохранения дома и оставшейся в нем мебели, гобеленов и ковров было спасением, «Наш дворец, — записал в дневнике советник посольства барон фон Ботмер, — вполне заслуживающий такого названия, кроме нескольких залов и многочисленных помещений для прислуги, насчитывает еще не менее 30 комнат».
Денежный переулок был пуст, серый бастион особняка скрывался в тени, отделенный от тротуара высокой железной оградой. Но сама проезжая часть, как и небольшие дома на другой стороне, были ослепительно освещены июльским солнцем.
Длинный автомобиль с опущенным верхом затормозил перед подъездом посольства, возле которого таился в тени почти невидный с переулка милиционер. Яша Блюмкин посмотрел на золотые наручные часы, трофей одесских времен.
— Два с четвертью, — сообщил он почему-то Коле.
Коля кивнул.
Коля не чувствовал страха, хотя должен был понимать, что ему осталось жить на свете несколько минут. Его состояние было скорее тупым, как у гимназиста на экзамене, когда вытащен необоримый билет, вот-вот учитель позовет к доске, а ты смотришь в окно и думаешь, улетит сейчас воробей или замрет на ветке.
Он последовал за Блюмкиным в подъезд, мимо сонного милиционера в вестибюль, в котором было жарко, потому что солнце било через стеклянный потолок. На стульях в ряд, спинами к стене, сидели немногочисленные посетители. Или просители.
Скучный немец в сером костюме со старомодным моноклем на цепочке спросил господ товарищей, зачем они пожаловали в неурочное время, как раз недавно начался обеденный перерыв. Глаза у немца были подозрительные, визитеры ему не понравились.
Смуглый, массивный черноволосый тип в кожаной, несмотря на жару, куртке сказал:
— Нам надо видеть посла фон Мирбаха по срочному государственному делу.
— По окончании обеда к вам выйдет сотрудник посольства.
Скучный немец навострился уйти из вестибюля, сделав на прощание широкий жест лапкой: ждите-с!
Но от Блюмкина так просто не уйдешь.
Чекист в три шага догнал Немца, схватил его за локоть и рванул к себе.
Когда тот невольно развернулся, Блюмкин брызнул ему в лицо слюной:
— Мы ждать не будем. Если ты не вытащишь своего посла, мы все это посольство к чертовой матери разнесем. Видишь, машина под окнами стоит? Так я же Чрезвычайный комиссар Советской России! Я имею право всех перестрелять без суда и следствия.
Блюмкин продолжал нести грозную чепуху, распаляя в первую очередь самого себя.
Немец повернулся в дверях и резко произнес:
— Прошу ожидать!
Блюмкин почему-то не посмел шагнуть за ним в следующую комнату — обшитую малиновыми шпалерами.
Больше воевать было не с кем.
Коля стоял с портфелем в руке. Портфель казался очень тяжелым, он оттягивал руку, хотя в нем, помимо ненужных бумаг, лежал лишь наган и граната-лимонка.
— Ну, я им покажу! — сказал Блюмкин и уселся на стул для посетителей.
Коля остался стоять.
— Ну ты чего маячишь! — рассердился па него Блюмкин.
За полчаса, которые пришлось просидеть в вестибюле, они не сказали друг другу ни слова.
От жары и наведенной ею сонливости Коля потерял смысл действия. Хотел, чтобы все поскорее кончилось и его не задело. Смущал только вчерашний разговор с Феликсом Эдмундовичем. Тот не называл имен, времени и места действия, но напутствия были понятны и без этого.
— Яшу надо будет подстраховать, — говорил Председатель. — Во-первых, он может в неожиданный момент потерять рассудок или впасть в припадок ярости. А мы, чекисты, должны всегда сохранять холодной голову.
Он откашлялся и исправил поучение:
— Сохранять холодной голову и главное — холодное сердце! Нет ничего опаснее горячего сердца. Назовем это ложной романтикой.
Дзержинский допил стакан чая с лимоном, которого не стал предлагать подчиненному.
— Но главное, учтите, Андреев, что Яков Григорьевич патологически плохо стреляет.
Он единственный наш сотрудник, который может десять раз из десяти промазать мимо паровоза. Но стрелять должен он. Это его работа. Мне сейчас не отыскать другого известного левого эсера, который согласится на акт и сможет его исполнить. Но когда он промахнется, стрелять будете вы. Для надежности вы бросите бомбу.
Ошибки быть не должно. Иначе последнюю пулю — себе в голову.
Дзержинский не улыбался.
Будто хотел сказать — живым я тебя обратно не жду.
Но на прощание по-товарищески пожал Коле руку.
И закончил речь мирно:
— Вы — наш партийный контроль в этой операции. Левые эсеры должны совершить это преступление. Постарайтесь уж, голубчик, чтобы оно свершилось.
Коля проснулся, когда в вестибюль вошли два немца. Один — давешний, второй — склонный к полноте, с добрым, даже веселым красным лицом и губами, лоснящимися после только что завершенного обеда.
Коля перехватил в руку портфель, который почивал у него на коленях, Блюмкин уже вскочил, как провинившийся гимназист.
Круглолицый коротко поклонился, изобразил добрую улыбку и прёдставился:
— Советник посольства доктор Рицлер.
— Лейтенант Миллер, — произнес второй.
— Чем мы можем служить вашему ведомству?
— Мы приехали говорись с послом Германии графом фон Мирбахом, — сказал Блюмкин.
— Посол занят, Я как советник уполномочен вести любые переговоры.
— Речь идет о его племяннике, — настаивал Блюмкин.
Он протянул Рицлеру письмо.
Тот прочел его быстро, видно, русский изучал как следует.
Затем сделал жест в сторону красной гостиной.
Блюмкин колебался. Отказаться от беседы с советником и уехать, не выполнив приказа?
Затем медленно, откинув шевелюру, как театральный трагик, он двинулся вперед.
В красной гостиной стоял длинный стол. Немцы уселись по одну сторону, Коля с Блюмкиным — напротив.
Коля сразу посмотрел на окна. Окна были открыты. Значит, это не мышеловка, Убежать можно. За окном виднелись домики на той стороне переулка.
— Что же вы можете сообщить нам нового о Роберте Мирбахе? — спросил Рицлер. По этим словам нетрудно было догадаться, что какие-то переговоры об австрийском военнопленном он уже вел.
— Я повторяю, что буду вести переговоры только с послом. Это пожелание моего непосредственного руководители. Вы не спросили мнения посла. Может, он все же хочет со мной поговорить?
«Не соглашайся, — мысленно умолял Коля советника Рицлера. — Неужели ты еще не догадался, что мы пришли убить Мирбаха? Если он к нам не выйдет, то не будет убийства, и я, Николай Беккер, останусь жив, Я не хочу никого убивать!»
Рицлер пожал плечами и, переглянувшись с Миллером, поднялся.
Блюмкин не сдержал торжествующей усмешки.
Ну почему я не сказал Дзержинскому, что не хочу? Он бы меня освободил. Коля понимал при этом, что Дзержинский никогда бы его не освободил.
Он теперь — человек Дзержинского, и никто его не освободит от этой чести и проклятия. Вместе со злым гением Дзержинского он, Беккер-Берестов-Андреев вознесется и погибнет и вместе с ним рухнет.
И тут же в гостиную вошел посол Мирбах.
А длинные, как колонна, часы в углу принялись громко отсчитывать последние секунды его жизни.
Седой пробор, проведенный опасной бритвой вдоль головы, усы короткие и чуть согнутые, как плечики для платья, костюм сидит, как генеральский мундир… посол занял место во главе стола.
— Чем могу служить?
Яша подобрался, как полк перед прыжком, и страшно побледнел. В нем всегда уживались трусость и приступы отчаянной смелости, даже безрассудства. «Во мне живет дух берсеркера», — сказал он как-то Коле. Коля знал, что берсеркеры — оголтелые викинги.
— Господин посол, ваше превосходительство, — Блюмкин говорил быстро, словно читал по бумажке затверженный урок, — я явился к вам по делу лично вам незнакомого члена венгерской ветви вашей семьи Роберта Мирбаха, который арестован нами по подозрению в шпионаже.
— К сожалению, — ответил посол, — я не имею ничего общего с этим офицером, и это дело для меня совершенно чуждо. А так как я собираюсь в Большой театр на заседание Съезда Советов, то надеюсь, что этот вопрос исчерпан.
Посол намеревался подняться, но Блюмкин заговорил вновь:
— Дело вашего племянника будет рассматриваться трибуналом через десять дней.
Неужели судьба родственника, которому грозит смертная казнь, оставляет вас равнодушным?
Коля испугался, что посол сейчас уйдет, а он не успеет достать наган, спрятанный под бумагами в портфеле. Он расстегнул замок портфеля, и на громкий щелчок замка все обернулись.
— У меня здесь документы, — сказал Коля виновато. — Я сейчас покажу.
— Вряд ли это нас заинтересует, — заметил советник Рицлер, который всей шкурой чуял неладное и молил бога, чтобы посол ушел поскорее. — Я предлагаю передать эти документы по обычным каналам, через господина Карахана в Наркомате иностранных дел.
— Нет, это очень интересно! — закричал Коля, чтобы поторопить, подтолкнуть Блюмкина. Он вдруг понял, что Блюмкин уже готов уйти.
Блюмкин кинул бешеный взгляд на Колю, и тот понял, что Блюмкин вытащил из кармана револьвер и сейчас выстрелит.
Коля стал вынимать свой наган из портфеля, а вывалилась граната. Она гулко упала на пол, но нё взорвалась, а покатилась к двери.
Блюмкин налил из револьвера в лица немцев, а те, растерявшись, оставались сидеть в мягких креслах, делая лишь неуверенные попытки выпростаться из их объятий.
Блюмкин расстрелял в упор всю обойму и, как потом стало ясно, умудрился не попасть ни в одного из немецких дипломатов, А Коля не стрелял, он видел замеленное движение Мирбаха.
Этот высокий уверенный в себе человек свалил кресло и кинулся к двери в вестибюль. Он бежал, согнувшись, сжавшись, будто ждал удара пули в спину и знал, что она его настигнет.
Колей овладело мгновенное спокойствие, как перед выстрелом в тире. Он видел серую спину старого человека, который через несколько шагов скроется в вестибюле, И ему надо было попасть в десятку — в основание шеи посла.
Коля выстрелил лишь раз, посол, как от сильного удара в спину, полетел нырком вперед, и в этот момент взорвалась граната. Коля так и не знал, вытащил ли он из нее запал или взрыв произошел сам по себе.
Взрывной волной Колю отбросило назад, он ударился бедром о край стола, было больно, но Коля помнил, что в трех шагах открытое окно. И он кинулся туда.
Комнату заволокло пылью и дымом. Волной поднимались крики изнутри здания.
Коля, хороший гимнаст, подтянулся и перепрыгнул через железную ограду.
Он влез в машину и закричал:
— Гони!
Но матрос, сидевший за рулем, не двинулся с места.
Двигатель работал.
— Стой, не уезжай! — это кричал Блюмкин, Он перебирался через ограду, зацепился за нее штаниной и неловко свалился на тротуар. Видно, он повредил ногу, потому что не переставал вопить и стонать.
Шофер открыл я него дверцу машины!
Блюмкин подтянулся и упал вдоль заднего сиденья. Коля отодвинулся к дальней дверце.
Коля видел все, что происходило вокруг, но его не покидало ощущение, что все это не имеет к нему отношения, С той стороны улицы какой-то мужчина, высунувшись в открытое окно, кричит милиционеру у подъезда: «Стреляй же! Уйдут!» И милиционер тянет с плеча ремень винтовки. А в подъезде уже появился силуэт германского военного с револьвером, и револьвер успел пыхнуть огнем, прежде чем автомобиль Г 27–60 рванул к Пречистенке, где в особняке стоял отряд ЧК под командованием левого эсера Попова.
— Я сломал ногу, — повторял Блюмкин. Ему было очень больно, и он просил шофера ехать не так быстро, а потом спохватился и спросил Колю:
— Где портфель? Ты где его посеял?
Только тут Коля сообразил, что портфель он оставил на столе. Когда вытаскивал из него револьвер и бомбу.
— Ты понимаешь, что наделал! — Блюмкин, казалось, забыл о боли. — Там же письмо из ЧК и мой мандат. Через полчаса весь мир узнает о том, что посла убил я! Я изменил судьбу нашей республики, а может, и всего мира! Но меня уберут!
Понимаешь, мной можно пожертвовать.
— Ты не убивал Мирбаха, — сказал Коля. — Ты ни в кого не попал и отлично об этом знаешь.
— Ах, помолчи, кто догадается о твоем существовании? Ты лишь бледная моя тень.
Мирбаха убил Блюмкин! Понимаешь, козявка! И если ты этого не поймешь, то исчезнешь с лица земли. Уж в тебя-то я не промахнусь.
Почему-то Блюмкин показал Коле кулак.
Револьвера у него не было — револьвер он оставил в посольстве, И тут автомобиль затормозил у особняка. Там было людно. Боевой отряд ЧК был поднят по тревоге. Ждали Дзержинского, который обещал приехать сразу со Съезда.
Попов не знал, что на Съезде готовится разгром эсеров. Его участь также была решена — эсеровский отряд, хоть и верный Дзержинскому, должен быть уничтожен, потому что его следует объявить ядром эсеровского мятежа. Именно поэтому шофер автомобиля Г 27–60, переодетый матросом командир латышской роты, имел приказ сразу же после акта в немецком посольстве доставить убийц именно к Попову. Это будет лучшим доказательством того, что покушение было организовано и выполнено союзниками большевиков.
Попов об этом еще не подозревал. Как и о событиях в Большом театре.
И когда Блюмкин, которого внесли в особняк и положили в комнате, отведенной под лазарет, бойцы-чекисты, позвал Попова и сообщил тому, что по секретному приказу ЦК партии левых эсеров он убил немецкого посла и разорвал этим позорный мир, тот был растерян, так как никаких распоряжений или новостей не получал. Но понял, что на отряд надвигается опасность, и велел поставить в окнах пулеметы.
Чекист Беленький, который видел, как Блюмкин подъехал к Попову, сразу кинулся искать Дзержинского. Он не был в курсе дел и потому решил, что спасает революцию.
Беленький поторопил события, Дзержинскому хотелось сначала разделаться с эсерами.
Беленький застал Дзержинского в германском посольстве, куда уже съехались советские вожди, Сначала там появился вездесущий суетливый Карл Радек, вскоре появились Дзержинский, которому немцы показали мандат Блюмкина с собственной подписью. Вот этого Блюмкин не должен был делать! Дзержинский был взбешен. Он заявил, что подпись фальшивая, но никто ему не поверил. Дзержинский поклялся отомстить Блюмкину, стереть с лица земли этого растяпу. Какой же это, к черту, заговор левых эсеров!
Разгром левых эсеров должен был быть завершен. Но вождям следовало как-то смягчить содержание послания, которое отправят сейчас в Берлин немецкие дипломаты.
Поэтому в посольство поехала верхушка партии — Ленин, Свердлов и Чичерин.
Троцкий остался руководить делами на Съезде Советов. К тому же он подчеркнул, что никакой жалости ни к послу, ни к миру с Германией не испытывает. Война так война! Но Ленин был в отличном расположении духа. В машине он даже шутил, как бы не перепутать немецкие слова «симпатия» и соболезнование». Он полагал, что немцы на разрыв мира не пойдут: у них самих дела шли гадко, а войск для дальнейших завоеваний не осталось, к тому же мечты о хлебе, угле и прочей добыче оказались пустыми — вывезти добычу не удавалось.
Дзержинский все еще был в посольстве. Он сказал Ленину:
— Моя подпись на мандате скопирована. Фигура Блюмкина выяснилась: он эсеровский провокатор. Я распорядился немедленно отыскать его и арестовать.
— Кто был с ним? — спросил Свердлов. — Немцы говорят, что посла убил второй человек.
— Не представляю, — сказал Дзержинский. — Он не из моей Комиссии.
Советник Рицлер пригласил визитеров в приемную.
Именно там Ленин на неплохом немецком языке принес извинения за случившееся и выразил надежду, что трагические события на неконтролируемой советскими властями посольской территории, охрану которой несет немецкая сторона, не повлияют на отношения между дружественными державами.
С этими словами он поднялся, за ним ушли и члены правительства, Ленин снял своими словами ответственность с правительства за события.
Дзержинский оставил в посольстве своего помощника Стучку с приказом — под любым предлогом унести папку с подписью Председателя. Что Стучка благополучно и сделал.
Мандат Блюмкина исчез. Ни на суде, ни в архивах он не фигурировал.
Дальнейшие события того дня постепенно переместились в Большой театр.
Но до этого Дзержинский отправился в отряд Попова, чтобы арестовать Блюмкина и второго убийцу, неизвестного Андреева.
Тем временем Ленин, не поверивший ни одному слову Дзержинского, снял его с поста Председателя ВЧК, а на его место был назначен верный Лацис. Дзержинский, которого Попов, узнавший о событиях, в Большом театре задержал, еще не знал о том, что Ленин подозревает, что именно Дзержинский стоит за заговором, направленном на срыв Брестского мира.
Ленин с товарищами тем временем обсуждали детали разгрома левых эсеров. Ленин был в радостном приподнятом настроении. История была как синяя птица Метерлинка, которая попала ему в руки. Ему удалось подтолкнуть Дзержинского к акту, свалить его на эсеров, и теперь надо было действовать быстро и подавить эсеровский мятеж раньше, чем эсеры догадаются его начать, Через час, уже в пятом часу, Ленин оборвал дискуссию.
— Дело такое ясное, — сказал он, — а вот мы обсуждали его больше часа. Впрочем, — лукаво усмехнулся вождь, — эсеры еще более любят поговорить, чем мы, У них наверняка сейчас дискуссия в самом разгаре. Это поможет нам, пока Подвойский раскачается.
Давно у Ильича не было такого легкого, воздушного настроения, когда все получается и все двери распахиваются перед тобой, как от дуновения ветра. И за дверями возникал милый сердцу, чистый немецкий пейзаж, отороченный зеленой дубравой и устланный желтыми ровными полями.
Какое счастье упасть на траву, вдыхать ее аромат, видеть кузнечика, ползущего по былинке, и слышать перезвон колокольчиков далекого баварского стада.
В те минуты вожди левых эсеров, не понимая, что же происходит, на нескольких автомобилях помчались по притихшей Москве к дому, где ждал ощетинившийся пулеметами отряд Попова, где в лазарете лежал Блюмкин.
Но сама фракция оставалась в Большом театре. Триста пятьдесят депутатов все еще не знали об акции Блюмкина. С ними оставался Мстиславский.
В зале было тревожно. И хоть заседание было назначено на четыре, президиум оставался пуст, стенографистки томились у сцены. Ленин так и не приехал.
В особняке Попона лидеры эсеров после долгих споров решили, что партия возьмет на себя ответственность за убийство. Иной выход был чреват разочарованием рядовых ее членов в вождях. Эсеры никогда не осуждали убийство и террор. Мир с Германией, изобретение большевиков, был позорен. Спиридонова кинула камень своего голоса на весы. И тут до высокого совещания долетело известие: Большой театр окружен латышами и броневиками. Большевики объявили убийство Мирбаха сигналом к мятежу левых эсеров и постановили взять их всех под стражу. И для начала в Большом театре были заперты все четыреста делегатов съезда.
Узнав об этом, импульсивная, ненадежная, крикливая и в конечном счете искупившая все своей мученической кончиной в ленинских лагерях председатель партии Спиридонова ринулась к Большому театру и потребовала, чтобы ее арестовали вместе с делегатами съезда.
Большевики с готовностью пошли Спиридоновой навстречу.
И с тех пор до казни Спиридонова лишь меняла тюрьмы и лагеря.
Убийство Мирбаха Ленин, неизвестно, знавший ли о нем заранее или только подозревавший, что оно случится, использовал на триста процентов.
По всей стране прокатилась волна арестов эсеров. Их отряды были разоружены, а так как мятеж был подавлен в первые же дни и сами мятежники о нем и не подозревали, лишь в некоторых городах эсеры сопротивлялись. Их расстреливали.
После убийства Мирбаха большевики правили страной без союзников, оппозиции и соперников. Вплоть до конца 80-х годов.
Жена будущего члена Политбюро, а в те дни одного из вождей партии Отто Куусинена, вспоминала:
«На самом деле эсеры не были виновны. Когда я однажды вернулась домой, Отто был у себя в кабинете с высоким бородатым молодым человеком, которого представили мне как товарища Сафира. Когда он ушел, Отто сказал мне, что я только что видела убийцу графа Мирбаха, настоящее имя которого Блюмкин. Когда я заметила, что Мирбах был убит левыми эсерами, Отто громко рассмеялся. Несомненно, убийство было только поводом для того, чтобы убрать левых эсеров с пути, поскольку они были самыми серьезными оппонентами Ленина».
Когда мятеж был подавлен, в Германию приехал нарком торговли Лев Борисович Красин, один из наиболее талантливых и порядочных людей в Советской России. По словам сотрудника посольства, Красин «с глубоким отвращением сообщил, что такого глубокого и жестокого цинизма он в Ленине даже не подозревал». А в день убийства Мирбаха Ленин, по словам Красина, «с улыбочкой, заметьте, с улыбочкой, заявил: «Мы произведем среди товарищей эсеров внутренний заем… и таким образом и невинность соблюдем, и капитал приобретем».
Но одну ошибку Ленин все же совершил.
И роковую.
После завершения разгрома левых эсеров он счел опасность, исходившую от левых коммунистов, в первую очередь от Дзержинского, Пятакова и Бухарина, сошедшей на нет. Левым коммунистам, врагам Брестского мира, отныне не с кем было объединяться. А без помощи эсеров они были бессильны.
Но речь шла не просто о левых коммунистах, а об оппозиции Ленину, в которой объединились демократы вроде Красина и террористы, подобные Дзержинскому.
Ленин использовал в своих интересах и в интересах своей власти и власти своей партии убийство Мирбаха. Опыт государственных заговоров, в которых так славно можно использовать мятежных эсеров, копился среди радикальной оппозиции. Для нее Ленин не был иконой, а казался лишь надоевшим доктринером и диктатором. На это место были желающие.
В Москве гремели пушки — большевики расстреливали редкие очаги сопротивления эсеров.
Коля Беккер ушел из отряда Попона сразу после приезда туда Дзержинского. Он не получал никаких указаний на этот счет, но атмосфера в отряде была ему не по душе.
Он не хотел лишних вопросов, и, слава богу, Блюмкин, одержимый манией величия, никому не говорил, что убил посла не он, а красивый молодой человек, большевик, родом из Крыма, обладатель нескольких имен.
Никто Колю не задерживал — уйти из штаба эсеров было просто.
Он сел на трамвай и поехал в центр, он хотел рассказать обо всем Нине — человеку нужно исповедаться. Но ее не было, зато Фанни оказалась дома.
— Что случилось? — спросила она. — От тебя пахнет порохом.
— Ну я нюх у тебя!
Фанни, конечно, не ожидала, что Коля заглянет днем, и накрутила мокрые волосы на гильзы от охотничьего ружья — бог знает, откуда она их раздобыла.
Она смутилась и стала выпутывать гильзы из густых упругих волос, халат расстегнулся, и Коля впервые увидел ее небольшую белую грудь с розовым маленьким соском.
Фанни не заметила непорядка в своей одежде, она была встревожена слухами и новостями, перелетавшими через площадь от Большого театра. Интуиция велела ей уходить, пока не дошла очередь и до нее, но она вдруг испугалась, что если уйдет в подполье, то потеряет Колю, разминется с ним. И чтобы не сидеть без дела и не прислушиваться к раскатам шагов судьбы, она принесла от коменданта большой чайник кипятка и вымыла голову.
Коля ворвался, как удар ледяного ветра.
Все было плохо.
Поэтому Фанни не заметила его взгляда. А сказала:
— Запах пороха в меня въелся. Я его, как видишь, отмываю. Ты пришел, чтобы…
Она оборвала фразу, потому что не посмела сказать, что он пришел попрощаться.
Но его ответ был неожиданным.
— Я убил немецкого посла, — сказал он.
Слова для него самого прозвучали впервые.
Фанни сразу поверила ему, но не поняла, зачем большевику убивать немецкого посла.
— У вашего правительства с немцами мир, — сказала она, словно поймав Колю на ошибке, а может, на лжи.
— Это все так сложно… — сказал Коля. — Наверное, меня ищут. Меня наверняка ищут.
Фанни вырвала из волос последние гильзы и приказала:
— Отвернись.
Коля отвернулся.
Он слышал то, чего слух не должен был уловить, — как опустился на одеяло халатик, как Фанни начала надевать, застегивать лиф.
И тогда он резко обернулся.
Фанни увидела в его глазах нечто, испугавшее ее.
— Коля, — попросила она. Именно попросила. — Отвернись, хорошо?
Он сделал шаг к ней.
Фанни стояла обнаженная до пояса, в простых белых панталонах до колен, в упавшей руке она держала лифчик.
— Ты забываешься, — сказала Фанни, когда он протянул руки, чтобы ее обнять.
— Пожалуйста, — умолял ее Коля. — Ты должна понять… мне никто не нужен, кроме тебя.
Она отступала, но отступать было некуда — сзади была лишь кровать.
— Тебя ищут? — сказала она. — Это правда, что тебя ищут?
Он ничего не ответил, он не мог ответить, потому что возбуждение, охватившее его, не было похотью. В нем противоестественно (а впрочем, что мы знаем о естественности чувств!) соединилась нежность к Фанни, желание обнять это нежное беззащитное тело, и желание спрятаться от ужаса, владевшего Колей, в чем он сам не отдавал себе отчета.
— Я люблю тебя, — сказал Коля. — Ты знаешь. Только не отказывай мне, не смей…
Она уперлась ему в грудь локтями, стараясь разорвать кольцо жадных рук, но сопротивление Фанни было половинчатым, обреченным на поражение с первой же секунды.
И когда он упал вместе с ней на широкую гостиничную кровать, она вдруг сказала:
— Надо штору закрыть.
Коля ее не слушал. Он стремился к ней, чтобы во всем мире остались только они.
Фанни была неопытной, неумелой любовницей. Немногие ее связи возникали в обстоятельствах неестественных для любви, да и не было в них любви. От них осталось чувство стыда и ощущение нечистоты того, что с ней делали мужчины — ночью на явочной квартире, за занавеской в избе, где квартировал товарищ по ссылке, а раз от страха перед становым приставом в селе под Чухломой.
Счастье, подаренное ей Колей было настолько неожиданным и сладостным, что она внутреннее сжалась и замерла, понимая, что это все сейчас прервется, как сон от визгливого будильника. Но на самом деле ей становилось все радостней, и она нетерпеливо вдруг, не владея собой, стала кричать Коле, чтобы он не отпускал ее, и тогда она захлебнется и утонет в бездонном наслаждении.
— Я убил, — шептал Коля, и, конечно же, Фанни не слышала его шепота, — Я убил, убил, убил…
Не слыша его, но нутром подхватывая слова и вкладывая в них иной смысл, Фанни вскрикивала:
— Убей меня, убей меня…
На следующий день в час тридцать Ленин издал приказ арестовывать левых эсеров, где бы они ни прятались. Особенное внимание он приказал обратить на вокзалы, в первую очередь — на Курский вокзал.
Вацетису он велел:
— Организовать как можно больше отрядов, чтобы не пропустить никого из бегущих.
Арестованных не выпускать без тройной проверки и полного удостоверения непричастности к мятежу. Направить лучшие силы по квартирам, где живут или прячутся эсеры.
В два часа сорок минут Вацетис доложил вождю, что приказ выполнен.
Несколько десятков латышей собрались возле здания ВЧК на Рождественке. Ленин стоял среди солдат, которые мирно курили, обсуждали события дня.
— Почему не вижу арестованных контрреволюционеров? — спросил Ленин, обращаясь ко всем и ни к кому в частности.
Хотите посмотреть? — спросил один из латышей.
Он взял Ленина под локоть и повел за угол на Варсонофьевский переулок. Там было шумно и людно — солдаты лучших сил революции тащили из секретных складов ВЧК мешки и бочки с продуктами и вином. В ряд выстроились извозчики, в сторонке торчали башни броневиков. Солдаты узнали, что чекисты прячут продукты, конфискованные у врагов революции. Охрану смяли, объявив ее эсеровской.
Дзержинский, освобожденный из плена, уехал домой спать, он почти не спал последние дни.
Ленин сердился, потому что операция сорвалась. Лациса сняли и на место председателя вернули Дзержинского, которому Ленин не доверял и чьей инквизиторской честности, особой и корыстной, он опасался. Дзержинский был скрупулезно честен, но при том жаден и жил взаймы, потому что большую часть полученных денег отправлял своему брату, имение которого сожгли крестьяне. У брата была большая семья, дворянину в деревенских западных краях было опасно.
К этому счастливому для большевиков, но омраченному грабежами дню относится и первая встреча Ильича с Мельником-Миллером.
С Рождественки Ленин поехал на Пятницкую, где тогда жила Инесса Арманд, его любовница и искренний друг.
Когда роллс-ройс вождя пересекал Болотную площадь, под него кинулся человек худого телосложения, сутулый и с диким взглядом.
— Стой, — кричал он. — Дальше ни шагу!
Опытный шофер Ленина Гирс сумел затормозить так, что радиатор чуть коснулся бока дикаря.
— Спасибо! — бросил тот и опустился на корточки.
Он стал ползать, по мостовой и собирать с камней булыжников каких-то жуков.
Гирс погудел, чтобы пугнуть чудака. Он показался ему неопасным, Но надо было глядеть в оба, потому что к товарищу Арманд Ленин ездил без охраны.
Ленину стало любопытно, Его еще не покинуло хорошее настроение. Он умел увидеть относительную ценность явлений и событий. Разгром эсеров и уничтожение конкурентов в борьбе за власть в Российской Республике превышало разочарование в преданности идеалам революционных солдат. Ленин отлично понимал, что у солдат, просидевших годы в вонючих окопах, никаких идеалов не осталось — идеалы могут выжить лишь в гостиных и академических кабинетах. Жаль только, что инквизиторы революции, солдаты Дзержинского, ненадежны, как и ненадежен сам Председатель ВЧК.
Дзержинского придется каким-то образом убрать. Он становится опасен. Для него революция — это он в революции, потому что, как и положено выкормышу польских иезуитов, он претендует на высшее и истинное толкование воли божества. И если он, Ленин Владимир Ильич, еще год назад был его божеством, то теперь Дзержинский уже свалил его с пьедестала и примеряет пьедестал под себя.
Но схватка с Дзержинским еще предстоит. Если знаешь, кто твой враг, то считай, что ты его по крайней мере наполовину разоружил.
Ленин легко соскочил на булыжную мостовую и пошел поглядеть, что там делает чудак в шляпе.
Тот поднялся, держа в руке большую стеклянную банку, которую прикрыл ладонью.
— Странное место для поиска насекомых, — сказал Ленин.
— Если бы это были насекомые, я бы не переживал, — ответил лохматый человек с диким взглядом подвижника. — Но это куда более ценные представители фауны. Не желаете ли взглянуть?
Ленин взял банку.
И он сразу же сообразил, что увидел нечто совершенно невероятное: это были животные. Кошки, уменьшенные до размеров майского жука. Они бегали по дну банки и выгибали спинки, поднимали хвостики и задирали к небу головки, будто отчаянно мяукали. Только ни звука из банки не доносилось.
— Что это означает? — спросил Ленин. — Что это за фокусы?
Он нашел самое простое из возможных объяснений, потому что знал, что в подавляющем большинстве случаев именно простые объяснения оказываются верными.
— Если вы не знаете, — ответил обиженно Миллер-Мельник, — то не стройте из себя умника. В последнее время развелось безумное число специалистов. Если это фокусы, то вы — коверный, а скорее всего рыжий клоун.
Ленин решил не обижаться и не реагировать на грубость, потому что перед ним стоял чудак, и притом чудак неординарный.
— Тогда объясните — потребовал Ленин.
— Это плоды моих открытий и опытов, — ответил Мельник-Миллер. — Вряд ли вы слышали обо мне, потому что моя основная лаборатория осталась в Риге, захваченной по милости большевиков тевтонами.
— Рига была оставлена русской армией в шестнадцатом году, — поправил Мельника-Миллера Ленин. — И большевики здесь совершенно ни при чем.
— Вы просто не в курсе дел, — возразил Мельник-Миллер. — Это нелюди! Не далее как на прошлой неделе два бандита из так называемой Чека ворвались ко мне в квартиру, если комнату под лестницей можно назвать квартирой, и возжелали конфисковать все мои труды.
— И что же, товарищ? — В глазах Ленина блеснула озорная искра. — Как вижу, им не удалось выполнить свое задание.
— А на что существует электричество! — воскликнул вызывающе Миллер-Мельник.
— На что?
— На то, чтобы такие типы забывали дорогу в мою лабораторию.
— Конкретнее! И представьтесь наконец!
В голосе Ленина прозвучал металл. Собеседник, услышав этот голос, обычно опускал глаза и замолкал.
— Миллер-Мельник, или наоборот. Я сам порой не помню, какая часть моей фамилии шествует первой.
— У вас лаборатория?
— Вот именно. Но я как беженец остался совсем один. Вы не представляете, как мне бывает трудно. Даже с питанием моих питомцев. Приходится скармливать их друг дружке.
Ленин поморщился.
— А что случилось с чекистами? — спросил он.
— Я вытащил их бесчувственные тела на лестницу. Когда они ночью пришли в себя, они ничего не помнили.
— И не вернулись?
— Куда им возвращаться?
— Начальство подскажет.
— Значит, не подсказало.
— Итак, — сказал Ленин, — попрошу вас пригласить нас к себе в лабораторию. Это далеко отсюда?
— Нет, вон в том доме.
— Отлично.
— У меня не убрано.
— Меня не интересует ваша кровать или остатки завтрака, — поморщился Ленин, — Мне важно оружие гипноза, которым вы занимаетесь.
— Да не занимаюсь я гипнозом, я же биолог!
— Пошли, пошли! — Ленин подтолкнул Мельника-Миллера в спину.
Гирс медленно ехал сзади.
Они вошли в подъезд.
— Четвертый этаж, — сказал ученый. — Только у меня не убрано.
Они поднялись наверх по давно не метенной лестнице.\ Мельник-Миллер принялся звонить в дверь.
— Ключи я всегда забываю, — сказал он. — А когда я увидел, что они сбежали, то буквально ринулся за ними. Я знаю, куда они бегают! Я все знаю об их вредных привычках.
Но он не объяснил, что за вредные привычки у его кошечек и почему он ловил их на мостовой, почти у обводного канала.
Потому что дверь распахнулась и Мария Дмитриевна грозно воскликнула:
— Григорий Константинович, это невыносимо! Я вашего таракана вчера вытащила из молока. Вы же знаете, насколько редок и труднодоступен теперь этот продукт. Я собиралась…
Тут она увидела невысокого рыжеватого господина с эспаньолкой, в серой кепке и поношенном пиджаке, и продолжала, обращаясь к нему:
— Я как раз собиралась кипятить молоко и вижу, в нем что-то плавает. Оказывается — его уродец! Такой вот, как в вашей банке. Вы намерены их купить? Для цирка, правильно я вас понимаю?
— Не совсем так, — сказал Ленин, — Не совсем так. Но я заинтересовался опытами вашего соседа… или родственника?
— Еще не хватало, — возмутилась баронесса, — обладать подобными родственниками.
Мельник-Миллер направился по коридору к своей комнате. Ленин с банкой в руке — за ним. Из кухни навстречу им шла Лидочка. Она несла чайник, забежала домой с курсов, чтобы перекусить.
Она поздоровалась с Лениным, и он показался ей знакомым. Потом, уже дойди до комнаты, она сообразила, что этот человек похож на Ленина, которого изображали на портретах и открытках, — это был один из самых популярных вождей республики, немного уступавший по популярности самому Троцкому.
Ленин проследовал за Мельником-Миллером в его комнату.
В комнате царил, по выражению баронессы Врангель, «более чем бэдлам».
Потребовалось бы возбужденное перо писателя фантастического свойства, чтобы описать это нагромождение приборов, стеклянных и металлических сосудов и трубок, а главное — аквариумов и клеток, в которых копошилась всякая живность. Запахи, царившие здесь, были неприятны и многообразны. Для борьбы с ними Андрей с помощью старика Бронштейна прибил по периметру двери матерчатый валик, набитый ватой, но и это не всегда помогало, К тому же крысы, уменьшившиеся в размерах до тараканов, умело прогрызали ходы и дыры, а потом разбегались по квартире, и далеко не всех удавалось поймать и возвратить на место.
— Удивительно живете, товарищ Мельник-Миллер, сказал Ленин и принялся пробираться вдоль клеток и аквариумов, рассматривать приборы и заглядывать в банки, в которых плавали заспиртованные уродцы.
— Очень велик процент отходов, — пояснил Мельник-Миллер, — не всегда качественная пища и химикалии. Вы не представляете, как трудно все доставать.
— Представляю, — коротко ответил Ленин.
За дверью был слышен голос Марии Дмитриевны.
— Надеюсь, наконец он все это продаст. Давно пора.
— Я не намерен ничего продавать, — сказал Миллер-Мельник. — Это великое открытие, которое прославит меня на весь мир.
— Вы имеете в виду электрический гипноз? — спросил Ленин.
Его практический ум не заинтересовался звериной мелочью — возможно ли уменьшение кошек и мышей либо нет, его сейчас не интересовало. Но сила электричества и возможности использовать его как оружие была насущна и архинужна!
— Гипноз — чепуха! — крикнул Миллер-Мельник. — Но я не могу больше работать в таких условиях. Меркулов обещал мне целый дом. Где он? Почему молчит Академия наук?
Ленин приоткрыл дверь в коридор и увидел стоявшую неподалеку баронессу. Мария Дмитриевна не подслушивала. Она почитала своим правом знать обо всем, что происходило в квартире. Тем более после того, как Давид Леонтьевич стал часто уходить и даже ночевать вне квартиры, оставив ее полностью на попечение баронессы, Но семья сына Левушки, дела которого отец не одобрял, но все же любил как самого умного сына на свете, семья сына требовала заботы.
— Гражданка, — сказал Ленин, — вы не будете так любезны подойти к нам поближе?
Мария Дмитриевна осторожно сделала два шага в его сторону и остановилась.
Интуиция подсказывала ей — остерегайся этого невзрачного мужичка, который не снимает кепки в помещении.
— Вы сможете продемонстрировать действие электрического гипноза на этой гражданке? — обратился Ленин к Миллеру-Мельнику.
— Только попытайся! — предупредила Миллера-Мельника баронесса. — Я поговорю с Троцким, и вашей ноги здесь не будет.
— Знаю, — поспешил с ответом оробевший Мельник-Миллер. Мы все знаем.
И в самом деле, в квартире все знали о подвиге Марии Дмитриевны, которая возвратила сыну блудного отца.
— Я жду, — сказал Ленин, — И теряю терпение.
— Вот на нем и пробуй свой гипноз, — сказала баронесса.
— А как же он тогда увидит его действие? — спросил Миллер-Мельник.
— Ты ему потом расскажешь.
— Прекратите пустую болтовню, — рассердился Ленин. — Иначе я сейчас уйду, и вы не получите никаких, повторяю — никаких средств на продолжение опытов. Более того, я, голубчик, позабочусь, чтобы ваши опыты перешли к другому, более лояльному ученому.
— Вот видишь, — сказала баронесса.
Миллер-Мельник и на самом деле испугался Ленина и не нашел ничего лучше, как послушаться баронессу. Он ее вообще всегда слушался.
Мельник-Миллер опустил сизый рубильник на щите за спиной и, не отпуская его, вытянул вперед худющую руку с растопыренными костлявыми пальцами.
И вдруг из кончиков пальцев веером вылетели синие молнии, которые устремились к Ленину. Тот не успел отскочить, и одна из молний поразила его в щеку.
Схватившись за щеку, Ленин зажмурился и покачнулся.
— Гриша! воскликнула баронесса. — Что вы наделали!
— Вы же сами просили, — удивился Мельник-Миллер.
Ленин медленно, стараясь удержаться за угол стола и чуть его не опрокинув, опустился на пол.
Он сидел, запрокинув голову, и блаженная улыбка заставила по-кошачьи шевелиться его усики.
— И что вы намерены делать? — спросила баронесса.
— Он не умрет, — ответил Мельник-Миллер. — Он обо всем забудет.
— Надо помочь ему уйти, — сказала баронесса.
Она крикнула вдоль коридора:
— Лидочка! Поспешите на помощь нашему бестолковому гению. Он загипнотизировал своего гостя.
— Это не гость, он сам пришел!
Лидочка уже бежала по коридору.
— Ой! — воскликнула она. — Это же Ленин!
— Тогда тем более нам надо как можно скорее от него избавиться. Берите его под руку с той стороны, а я с этой! Гриша, откройте входную дверь. Надеюсь, что там нет гвардейцев с красными пушками.
Гвардейцев не было, потому что шофер Гирс не беспокоился, С Ильичом сегодня ничего не должно было случиться.
И потому он крайне удивился, увидев, как из подъезда две женщины — старая и молоденькая — выводят под руки спящего Ильича.
— Что с ним?
— Ровным счетом ничего страшного, — сказала Мария Дмитриевна. — Наверное, солнечный удар.
Гирс посмотрел на небо. Со стороны Кремля быстро надвигалась сизая грозовая туча, и в ней проскакивали молнии. Гром грохотал непрерывно, словно отдаленный водопад.
Гирс посадил Ильича на заднее сиденье, и тот сразу завалился набок, свернувшись калачиком.
— Может, кто-то из вас поедет со мной? — сказал он без уверенности.
— Ничего страшного, — повторила баронесса Врангель.
Они с Лидочкой смотрели вслед осторожно катившему прочь автомобилю.
— Ох и доиграется наш Гриша со своими опытами, — сказала Мария Дмитриевна. — И без того к нашей квартире повышенное внимание. Одна я с моими сыновьями-генералами чего стою! А тут еще электрический гипноз.
Вечером зашел на чай паи Теодор.
Лидочка рассказала ему о происшествии с вождем, и Теодор заволновался:
— Чего же ты молчала! Судя по всему, изобретение вашего Мельника-Миллера произошло куда раньше, чем дозволено логикой науки. А это чревато отклонением в истории. Как бы здесь, рядом с вами, не зародился ложный вариант. Ложный вариант, ложный рукав, ложное русло реки Хронос.
Не допив чай, пан Теодор пошел знакомиться с Гришей.
Он просидел у ученого больше часа и вышел оттуда убежденный в том, что очередное нарушение может возникнуть именно в захламленной комнате Мельника-Миллера.
— Время, когда одинокий гений мог потрясти мир, завершается, — сказал он, прощаясь с Берестовыми. — Изобретение Гриши ужасно, сила его гения бесконтрольна.
Он сам этого не сознает. Не спускайте с него глаз.
Лидочке было трудно увидеть угрозу человечеству в чудаковатом человеке с его котятками и мышками, скорее надоедливыми и докучливыми, чем опасными.
— Если бы он выводил гигантов, — возразил Андрей, — мы бы с тобой встревожились.
— Именно так, — согласился Теодор. — Гигантская крыса пожирает жителей Петрограда! Это фантастический роман. Но для гигантской крысы ни у него, ни у его коллег еще не доросли возможности. Тогда как крыса, уменьшенная в сто раз, не менее страшна.
— Почему же? — спросила Лидочка.
— Знаешь, что мне сказал этот чудак? — произнес пан Теодор. — Он сказал, что мечтает уменьшить в сто раз человека. Но не берется за этот опыт, пока не отыщет надежных иностранных химикалиев и точных приборов. Он должен отработать технологию на простых организмах, А потом возьмется за людей.
— Это уже сказка.
— А это сказка? — Пан Теодор вытащил из кармана маленькую стеклянную баночку, завязанную марлей. В ней сидела мышка размером с ноготь и глазела на людей. — Мне пришлось ее украсть. Надеюсь, он не пересчитывает перед сном своих монстров.
— Они у него то и дело убегают, — сказала Лидочка.
— И может, даже размножаются, — сказал Теодор.
Кстати, — заметила Лидочка, — а он умеет гипнотизировать. Электричеством. Он загипнотизировал самого Председателя Совнаркома.
— Этого еще не хватало! — воскликнул пан Теодор. — А ну рассказывай по порядку…
— Вся эта русская революция, — говорил пан Теодор, — гигантская флюктуация, изгиб истории, который разрушит последовательность цивилизаций, но флюктуация слишком велика, чтобы мы могли ее исправить, к тому же силой своего притяжения она рождает постоянно новые уродливые парадоксы, ответвления от кошмара, рождающие фарс.
— Вернее всего, история с господином Мельником-Миллером не более как фарс, на который нам не следует обращать внимания.
Но после беседы с Гришей Теодор исчез на несколько дней, как говорил, побывал в Пензе, Самаре и даже Челябинске, там, где восстали части чехословацкого корпуса, которых везли поездами на Дальний Восток.
Первоначально он должен был проследовать дальше, к Владивостоку, но после совета со своими товарищами, с неизвестными Лидочке и Андрею, но реальными и могущественными бессмертными хранителями вечности, он срочно возвратился в Москву, потому что должен был наблюдать за Миллером-Мельником.
Он встретился с Лидочкой на берегу канала, чтобы его не видели в квартире.
— Это фарс. И мы признали, что это фарс, но он может погубить всю Землю, если случится самое опасное — если изобретение вашего Гриши изменит судьбу России.
— Как? — спросила Лидочка.
С утра была гроза, но она не принесла прохлады, воздух был влажным и тяжелым, даже плечи уставали от его давления.
— Лучше всего, как предлагают некоторые из моих друзей, сейчас же, пока не поздно, сжечь дом.
— А мы? — удивилась Лидочка.
— Может, не сжечь, может, отравить газом, может убить Миллера. Но мы не имеем права убивать.
— И никогда не убиваете?
— Очень редко, — ответил паи Теодор. Он смотрел прямо в глаза Лидочке, а она не могла, никогда не могла увидеть блеска его глаз в глубоких глазницах под густыми черными с проседью бровями. Вместо глаз могли быть просто бездонные ямы.
Пан Теодор ждал, скажет ли что-нибудь еще Лидочка, и когда не дождался то, продолжал:
— Удивительно то, что в Рижском политехническом институте никто не слышал о Миллере-Мельнике и его опытах по уменьшению животных. Наши люди обследовали все частные клиники и лаборатории, искали чудаков, которые пожелали вложить свои немалые средства в это дикое предприятие. Нет! Мы просмотрели все адресные книги Риги и других латышских губерний и городов. Безрезультатно! Такого человека в Латвии не было. Ни в Латгалии, ни в Курляндии.
— Он сказал неправду? Он обманывал вас?
— Он не похож на лжеца. Но чудак он или хитрец? А знаешь ли ты, какова стоимость приборов, которыми набита комната в той квартире? Это сотни тысяч рублей, причем многие из приборов сделанные специально для опытов Мельника-Миллера, просто неизвестны современной науке.
— Он въехал сюда раньше, чем Мария Дмитриевна.
— Кто-то перевез все его добро и покупает химические реактивы, еду. Кто-то, в конце концов, добыл ему эту комнату в центре Москвы и до поры до времени скрывал ее от бдительных очей ВЧК — А потом перестал скрывать? — сказала Лидочка.
Вороны собирались в гигантские крикливые стаи и двигались к Кремлю. Солнце на несколько секунд пробилось сквозь тучи и облило Москву каким-то искусственным, словно электрическим, светом.
— Значит, кому-то нужно, чтобы о Миллере-Мельнике узнали в Кремле, — произнес паи Теодор.
— Кому это может быть нужно? — удивилась Лидочка.
— Именно то, что такое решение лежит за пределами здравого смысла, вызывает в нас уверенность, что мы знаем, кто это.
— Кто же?
— Ты сейчас думаешь о том, почему Андрей задерживается в университете, ты беспокоишься, потому что опасно ходить по Москве интеллигентному молодому человеку. Ты с трудом слушаешь меня. Так что давай перенесем разговор на следующий раз. Он слишком серьезен, чтобы говорить между делом.
— Только скажите, кто этот человек, — сказала Лидочка.
— Я не стал бы называть его человеком…
— А вас можно так называть?
— Если ты, Лидочка, человек, то и я человек, и Сергей Серафимович.
— Так кто же он?
— Если на свете есть добрые силы, а мне хотелось бы считать себя принадлежащим к их числу, то, значит, нам должны противостоять силы зла.
— Я читала, кажется, это манихейство? Борьба черного и белого, бога и дьявола?
— Начитанный ребенок — улыбнулись тонкие губы Теодора. — Принцип борьбы добра со злом, минуса с плюсом, черного и белого, жизни и смерти, огня и воды… Ты видишь, я сравниваю несравнимое. Ведь зло, даже абсолютное зло, является таковым только с моей точки зрения, и чем выше цель, тем труднее отыскать критерии. Ни один негодяй не считает себя негодяем в этом роковая ошибка начинающих писателей, которые заставляют своих мерзавцев бить себя в грудь с криком «Виноватые мы!».
— Значит, дьявол — не обязательно зло.
— Он — зло лишь с точки зрения доброго христианина или мусульманина. Любой сатанист будет уверять тебя в обратном. Его зло — попытка устроить добрый и справедливый мир по своим законам… А мы их признавать не желаем.
Лидочке не хотелось соглашаться с паном Теодором. Но она боялась, что у того есть веские доказательства своей правоты относительности добра и зла.
— Представьте себе, — сказала она, — что к власти в России пришел вождь погромщиков, какой-нибудь Пуришкевич или Шульгин. И он начал проводить в жизнь свою политическую программу — выселять, а то и истреблять евреев…
— Есть выражение, — перебил ее Теодор, — волки — это санитары леса. Волк благородно истребляет поганую часть фауны — больных и слабых, сохраняя чистоту вида. Вот вам и оправдание мя Пуришкевича-практика. Но я надеюсь, что двадцатый век ничего подобного не увидит.
— А что он увидит?
— Не знаю.
— Зачем тогда вы нужны?
— Чтобы людям не стало хуже. Чтобы они не погибли, и не прервалась цепь времен.
— А он… или они — противостоит вам?
— Очевидно, — согласился Теодор.
И разговор так и остался неоконченным.
По странной случайности за беседой Лидочка и Теодор не увидели, как из подъезда дома на Болотной вышел Миллер-Мельник, в плаще и шляпе, надвинутой на уши, хоть день был жарким. Следом за ним шагал незаметный человек. Незаметный настолько, что даже родная мать забывала ставить перед ним тарелку с супом. Они повернули за угол, где у начала Каменного моста их ждала обычная извозчичья пролетка.
Глава 5
30 АВГУСТА 1918 г.
Через какую-то из своих партийных приятельниц Фанни сняла в Подлипках, в двадцати верстах от Москвы, сарайчик с маленьким окошком под односкатной тесовой крышей. Пол в сарайчике был земляной. Одну стену занимали полки с пустыми пыльными бутылками и банками, а еще там умещались деревянные, к счастью широкие нары, покрытые ватным одеялом, стол о трех ножках и два стула.
Лето стояло жаркое, грозовое, порой налетал ливень, даже с градом. Тогда наступало временное облегчение от духоты.
Первые недели они жили мирно, дружно, хоть и в бедности.
На участке еще стоял большой бревенчатый седой дом, поделенный на комнатки фанерными перегородками и занавесками. Жильцы там были тоже временные, беженцы с юга или, напротив, беглецы на юг, которые ждали там оказии.
Когда первый страх Коли, который поверил Фанни, что чекисты наверняка захотят от него избавиться не только как от убийцы, но и как от ненужного и опасного свидетеля, прошел и Коля понял, что тут, в сарайчике, который прятался за кустами малины и крапивой в рост человека и был отделен от тихой улички заросшим сорняками участком, где кишели крикливые детишки, его никто не отыщет, он стал планировать бегство, Лучше всего, полагал он, будет убежать в Симферополь, где есть дом и живет сестра.
Он обсуждал бегство с Фанни, они оба понимали, что для этого нужны хоть какие-нибудь деньги, а достать их было неоткуда. К сожалению, единственного влиятельного и надежного друга — Мстиславского — большевики арестовали в Большом театре, и когда Фанни поехала в город, она обнаружила, что в квартире члена ЦК партии левых эсеров живут другие люди. К счастью, будучи опытной террористкой, Фанни в квартиру не пошла, а расспросила соседей. От бабушек на дворе она узнала, что в квартире поселили каких-то переодетых чекистов, и она должны вылавливать визитеров.
На обратном пути Фанни продала кожаную куртку, которую ей выдали еще в мае в распределителе для политкаторжан. Куртка была почти новая, хорошая, английская, на Сухаревке за нее дали двести рублей, хотя она стоила все шестьсот.
Фанни купила себе там же новый лифчик, потому что старый был застиран и расползался по швам, а на сто рублей набрала всяких продуктов, и вечером они впервые за две недели по-настоящему наелись.
Коля с каждым днем все яснее понимал, что в Симферополь с Фанни ехать — безумие.
Ничего себе — парочка. Эсерка, которую наверняка ищут, и убийца посла, которого хотят расстрелять. Один он смог бы отыскать себе тихое место на южном берегу, где его не знают, и затаиться, пока о нем не забудут. Да и власть, вернее всего, скоро изменится.
От этого подспудно и пока еще не сильно начало назревать в Коле раздражение.
Против жизни.
Завтра оно станет раздражением против Фанни.
Самым счастливым днем их любви был не первый день и даже не второй, Сперва должен был пропасть страх. Страх Коли перед арестом и страх Фанни потерять возлюбленного, потому что она не умеет делать того, что делают в постели настоящие любовницы.
Конечно, она так и не научилась особенностям любви, но она поняла, что Коле с ней хорошо, что он не притворяется, когда шепчет, что она — первая в его жизни женщина, которая дарит ему наслаждение.
На смену первым страхам у Фанни возникла боязнь, что Коля ее бросит, потому что она такая бедная, так плохо одевается. Нельзя же красивому мужчине любить женщину, у которой лишь две пары панталон и один лифчик, застиранные до потери цвета.
Она старалась оттянуть момент близости до темноты, но Коле, наоборот, хотелось обладать ею днем, при свете, заглядывать ей в глаза, чтобы читать в них страсть.
Им еще было интересно друг с другом. Для Коли в Фанни была тайна опасной жизни на краю обрыва, жизни, всегда сопровождаемой насилием и риском смерти. Фанни так хотелось теперь забыть о той жизни, и ею владело стремление к несбыточному счастью, ну почему ей нельзя жить с Колей в небольшом доме, чтобы он занимался наукой, а она родила бы ему двух, трех детей. Когда пойдут дети, он ее полюбит по-настоящему, не как любовницу, которую всегда можно бросить, а как спутницу жизни, жену хозяйку дома.
Мечтая об этом, вернее, позволяя себе приблизиться к этой мечте, Фанни отлично понимала, что ничего подобного она от жизни не получит. И Коля — лишь сон, счастливый сон, который завершится тоскливым пробуждением на нарах или в грязной избушке.
Коля же не спешил заглядывать в будущее, к тому же он никак не смог бы разделить мечту Фанни.
Фанни не кичилась своим жизненным опытом, приключениями профессиональной революционерки, террористки, Ей было куда интереснее рассказывать о забавных или любопытных событиях в ее жизни, которая для постороннего казалась бы авантюрной и насыщенной событиями, а ей самой казалась быстро промелькнувшей и даже не очень интересной повестью, схожей с биографией цирковой артистки — гостиницы, гостиницы, сцены, манежи, свист чаще, чем аплодисменты, редкие удачи и трагические срывы, когда твой партнер падает с трапеции и, матерясь от боли, умирает у тебя на руках.
Фанни понимала, что Коля рассказывает ей далеко не все. Иначе история с тем, что ему поручили убить германского посла, просто так, случайно ткнув пальцев в первого встречного, была бы мистической и фантастичной. И хоть революция знает немало нелогичных и странных взлетов и падений, Фанни было трудно поверить в то, что молодой помощник Островской, по ее протекции попавший на мелкую должность в Чрезвычайке, вдруг удостоится такого доверия самого Дзержинского. Сам Коля объяснял это, как ему казалось, правдиво. А именно случаем на пожаре, когда Коля показал свое умение метко стрелять. А также приятельством с Яшей Блюмкиным, действительным исполнителем акта.
Фанни было трудно уяснить истинные причины выбора убийц Дзержинским, потому что, несмотря на близость и даже союз эсеров и большевиков, основной принцип их отношения к человеку был диаметрально противоположен.
Левые эсеры были романтиками, пережитком карбонариев, крайними индивидуалистами.
Их жертвы были личными жертвами, а судьба попавшего в беду товарища затрагивала всю ячейку, если не партию. Это был трагический (а исторически порой и трагикомический) союз обреченных на смерть нигилистов. Перегоревшие, устремленные к нормальной политической деятельности товарищи перетекали к правым эсерам. Идеал левого эсера — отрицание! Уничтожение произвола, угнетения, рабства. Они и с большевиками не могли ужиться, ведь те вместо угнетения царского предлагали собственное угнетение.
Большевики не были нигилистами и хоть пели «разрушим до основанья», главное видели в том, чтобы «свой новый мир построить». Добиться власти и ни при каких обстоятельствах ее не выпустить, никому не отдать. В отличие от карбонариев, исторически обреченных уступить власть соперникам, их орден отрицал индивидуализм. Тогда, в начале своего пути к власти, они еще не сформулировали своего отношения к членам своей партии (существа за пределами ее не стоили индивидуального внимания и участия), но с самого начала действовали на основе термина, выработанного позже, Люди — это винтики в механизме государства. А винтиков много, они, самое главное, взаимозаменяемые. И через несколько лет Сталин выразит это в формуле «У нас незаменимых нет». Большевики стремились создать государство муравьев. Основная масса жителей муравейника были рабами (хотя именовались хозяевами муравейника), меньшая, привилегированная часть именовались солдатами, а наверху сидели матки, короли и королевы этой кучи. И на самом деле идеалом муравейника было накормить, обслужить, удовлетворить, охранять этих маток.
В таком муравейнике солдат или рабочий сам по себе ничего не значил, а значение имела лишь его функция. Пока он ее выполнял, он имел право на жизнь и относительное благополучие. Выполнив функцию или потерян нужность ля муравейника, он подлежал ликвидации или забвению. Поэтому для Дзержинского Коля (в меньшей степени Блюмкин, который занимал более высокое положение в муравьиной иерархии) был лишь исполнителем на раз. Солдат партии, который умел стрелять, не имел связей в Москве и потому, выполнив функцию, мог исчезнуть, не оставив следа.
Никто не хватится Николая Андреева, настоящее имя которого известно лишь нескольким лицам в Чрезвычайной Комиссии, а все детали события, все нити его находятся в руках самого Феликса Эдмундовича. Так что Коля был мавром, который сделал свое дело и может уходить. Более того, Блюмкин, как гениально предусмотрел Дзержинский, на самом деле рук своих кровью немецкого посла не обагрил, и навсегда останется тайной, как мог Блюмкин выпустить восемь патронов в немцев с двух Метров, и ни один из них не достиг цели, И был ли в его задании пункт — попасть в посла. Или с самого начала эта честь принадлежала безликому Николаю Андрееву, которого толком никто и не разглядел.
Так что желание Фанни Каплан было инстинктивно и рассудочно верным. Она ошибалась лишь в одном — она опасалась, что Колю арестуют, чтобы судить за убийство Мирбаха, а его намерены были поймать, чтобы незаметно уничтожить.
Фанни подозревала, но не знала наверняка, что Колю ищут агенты Чрезвычайки.
Его на самом деле искали — и в Москве, и даже в Крыму. Так что если бы любовники убежали в Крым, еще находившийся под властью Скоропадского и его немецких союзников, то агенты Дзержинского подстерегли бы там и убили Колю.
Но искали Колю только месяц.
Может быть, месяц с небольшим.
До тех пор, пока Дзержинскому не доложил агент ВЧК по Московской губернии, что есть основания полагать, что разыскиваемый по подозрению в убийстве немецкого посла Андреев Николай, бывший сотрудник ВЧК и наймит партии левых эсеров, прячется со своей любовницей, известной боевичкой той же партии, в поселке Подлипки. Дзержинский с интересом прочел донесение и готов был уже написать по диагонали в левом верхнем углу свою резолюцию: «Задержать» либо «Ликвидировать».
Но тут занесенная для удара рука с карандашом замерла.
Потому что за последний месяц ситуация в стране изменилась.
— У нас деньги еще остались? — спросил поздно вечером двенадцатого августа Коля у Фанни.
— Двадцать рублей, — ответила Фанни.
— Как раз на молоко, — сказал Коля.
— Фунт черного хлеба, молоко.
— Пачку папирос, — сказал Коля.
Приходилось экономить на куреве. Курили они оба, но в последние дни Фанни старалась совсем не курить.
Она похудела, глаза стали еще больше, скулы обозначились резче, волосы отросли, и Коля, запуская в них пальцы — и возбуждаясь от их неподатливости, говорил:
— Ты черная львица!
— У львиц не бывает грив.
— Ты единственная гривастая львица.
— У меня опять гвоздь в ботинке вылез, — сказала Фанни.
— Я завтра забью.
Они лежали, обнявшись. Ночь выдалась холодная, дождливая, и агенту, сидевшему в кустах за сарайчиком и обязанному записывать или хотя бы запоминать, о чем говорят беглецы, было зябко даже под клеенчатым плащом.
Губы Фанни, полные, мягкие и нежные, ласкали щеки, лоб, веки Коли.
— Черная львица, — повторял он.
— Иди ко мне, мой любимый…
Потом он долго не спал. И пока не заснул, мучился мыслями о безысходности их счастья… Фанни тоже не спала, она боялась пошевелиться, потому что в его дыхании, движениях мышц, в нежелании коснуться ее она видела, чувствовала, как истончается и тает, не выдерживая времени, их неладная любовь.
А московский обыватель, агент национализированного пароходства «Самолет Никита Петрович Окунев, записывал ночью в дневнике, который хранил в примитивном тайнике за шкафом, следующее:
30 июля/12 августа. «В советских «Известиях» напечатано:
«Казань занята незначительными отрядами чехословаков. Она окружена железным кольцом советских войск, и ее постигает участь Ярославля…» Как береза «стоит и шумит».
Вышел приказ всем бывшим офицерам до 60-летнего возраста явиться на сборный пункт. И вот все эти тысячи явились и попали как бы в ловушку. Прошло четыре дня, а выпущены еще немногие… Никому не известно, что это: регистраторство, заложничество, сыск или просто хамство рабочей диктатуры?
Надо бы разобраться вот в чем: что Ленин и Троцкий сделались так обаятельны для большинства российской бедноты и незажиточности благодаря своим исключительным дарованиям в виде красноречия, умения сочинять декреты, воззвания, приказы и страшной энергии или только потому, что проводят в жизнь те идеи, которые наиболее приятны для пролетариата?
В «Известиях» уж очень хлопочут о мировой революции, а посему крупными буквами печатают: «В Индии по всей стране восстания и массовые вооруженные выступления.
Но уж очень далеко от нас эта Индия-то. Ведь мы не знаем, что делается сейчас в Казани, а не только за тридевять земель.
На днях видел на Мясницкой Шаляпина. Похудел, но едет на извозчике. Да и с чего ему худеть и от чего не на автомобиле ездить? Он теперь получает колоссальнейший гонорар, которого и в царские дни не получал. За участие в последних 10 спектаклях в «Эрмитаже» ему уплатили 160.00 рублей.
Говорят, к Троцкому приехал с Украины, спасаясь от немцев, его отец Бронштейн, который арендовал десять тысяч десятин, обрабатывал землю трудом батраков и считался миллионером, а сына хотел видеть механиком. Жили бы счастливо. Мне видится в генерале Лейбе Троцком что-то от Хлестакова. Не думаю, что он долго продержится у власти, но дел натворить успеет.
Тяготы жизненные с каждым днем становятся все увесистей. Черный хлеб покупаем по 10 р. за фунт, яйцо 1.50 к. шт., молоко — кружка 2 р. 50 к., арбузов, конечно, совсем нет — отрезана «арбузная» страна от Москвы. Спирт продают по 160 руб. за бут. Папиросы самые дешевые 10 к. шт.
Луначарский то и дело устраивает религиозные диспуты.
Давид Леонтьевич посетил Марию Дмитриевну. С сыном отношения начали портиться, революцию старик не одобрял, поссорился с зятем — партийная кличка мужа дочери Ольги, так похожей на Надю Крупскую, была Каменева.
Давид Леонтьевич устроился работать бухгалтером на мельницу.
Господин Окунев не знал, что имение Давида Леонтьевича разграбили красноармейцы еще в конце октября прошлого года, а старика выгнали из дома. Иначе бы в Москву он не поехал.
Он сказал Марии Дмитриевне:
— Отцы трудятся, зарабатывают на старость, а дети делают революцию и оставляют их ни с чем, Мария Дмитриевна беспокоилась о сыновьях, Они были на юге, и если там образуется сопротивление большевикам, то Врангели, конечно же, ринутся в бой.
И Давид, и Мария Дмитриевна полагали, что с детьми им повезло, дети умные, образованные, но в это смутное время они избрали для себя самые опасные дорожки.
Давид Леонтьевич приносил с мельницы хорошую муку, Мария Дмитриевна пекла пышки, пшеничные, на дрожжах. Чай дома не переводился. Миллер-Мельник притащил откуда-то пол-литровую банку сахарина в порошке. Так что недостатка жители квартиры на Болотной ни в чем не испытывали.
Когда живешь рядом с гнездом птицы Рокк, то его размеров толком не ощущаешь. Вот и жильцы квартиры, несмотря на предупреждения папа Теодора, серьезно к уменьшительным опытам Гриши не могли относиться. И его зверюшки становились мельче со дня на день, хотя Миллер-Мельник обещал вот-вот изобрести средство, чтобы остановить их рост и даже обратить его обратно, то есть в сторону постепенного увеличения.
Порой к Грише приходили люди, но никто не видел и не рассматривал их. Тем более что являлись они обычно, в темноте, а коридор квартиры освещался одной маленькой, в пятнадцать свечей, лампочкой.
В минуты откровенности, разомлев от чая или плюшек, Гриша начинал рассуждать, что главная его цель раздобыть для опытов человеков. Тогда он исполнит главную мечту человечества — всех жителей Земли он сможет накормить и разместить. Ведь если уменьшить человека до размеров муравья, тот будет довольствоваться пшеничным зернышком в неделю…
Разумеется, рассуждения Миллера-Мельника принимались соседями с должной долей веселья, И Лидочка даже предложила как-то себя как кандидатуру на уменьшение.
— Почему? — совершенно серьезно спросил Гриша, окинув взглядом ее тонкую фигуру.
— Тогда Андрюша будет носить меня на руках, — сказала она, чем развеселила Давида Леонтьевича.
— Нет, — сказал, поразмыслив, Гриша. — Надо будет подыскать кого-нибудь попроще.
Красин предложил привлечь Бухарина, яркого левого коммуниста, способного журналиста и спорщика.
— Он растрезвонит о наших намерениях по всей Москве. Хуже Радека, — ответил Дзержинский.
— Я и не предлагал кандидатуру Радека, — возразил Красин.
На Пятакове сошлись сразу.
В заговор решено было посвятить лишь самую необходимую малость.
— Как говорят немцы, — напомнил Красин, — что знают двое — знает и свинья.
Дзержинский протянул Красину листок бумаги с текстом, напечатанном на машинке.
— Перехват письма из немецкого посольства, — сказал Дзержинский. — Пишет советник Рицлер. О нас.
За последние две недели положение резко обострилось. На нас надвигается голод, его пытаются задушить террором. Большевистский кулак громит всех подряд. Людей спокойно расстреливают сотнями… материальные ресурсы большевиков на пределе.
Запасы горючего для машин иссякают, даже на латышских солдат, сидящих на грузовиках, больше нельзя полагаться — не говоря уже о рабочих и крестьянах.
Большевики страшно нервничают, вероятно, чувствуя приближение конца, и поэтому крысы начинают заблаговременно покидать тонущий корабль… Карахан засунул оригинал Брестского договора в свой письменный стол. Он собирается захватить его с собой в Америку и там продать, заработав огромные деньги на подписи нашего императора…
— Дальше, — сказал Дзержинский, — тут приписка Траутмана:
Красин прочел:
В ближайшие месяцы должна вспыхнуть внутриполитическая борьба. Она может привести к падению большевиков. Один или два большевистских руководителя уже достигли определенной степени отчаяния относительно собственной судьбы.
— Ничего нового. — Красин усмехнулся и почесал указательным пальцем солидную буржуазную бородку, — Троцкий на последнем заседании ВЦИК, где вы, Феликс Эдмундович, не были, сказал, что мы уже фактически покойники, а дело теперь за гробовщиком.
— Мне доложили, — сказал Дзержинский. — Мы теряем время.
— Вы знаете, что сказал Ильич, когда Троцкий спросил его, что делать, если немцы будут наступать и дальше?
— Отступим дальше на восток, создадим Урало-Кузнецкую республику, вывезем туда революционную часть питерского и московского пролетариата. До Камчатки дойдем, но будем держаться.
— Ему важнее стать во главе Камчатской республики, чем упустить власть в центре, — сказал Красин.
— Он обратил против республики крестьянство, — заметил Дзержинский. — Германский посол отозван в Берлин?
— Москву покинули турки и болгары. Их дела никуда не годятся. Понимание без открытия истинных намерений было достаточным для опытных в сокрытиях коллег.
И ведя разговор между строк, Дзержинский и Красин должны были наметить конкретные действия.
— Троцкий с нами, — сказал Дзержинский.
— Но никогда не пойдет в открытый бой со стариком.
— Зато когда мы все сделаем, он будет лояльным. Его мечта — мировая революция.
Его лояльность старику подвергается страшному испытанию.
— Человек, который никогда и нигде не станет первым, — заметил Дзержинский.
— Тогда мы придумаем него троцкизм. И в нем он будет первым.
— Мы не переиграем в тактике, — сказал Красин. — Он тактический гений. Нужно действие, действие, а не голосование.
— Не гений тактики, а гений интриги, — поправил Красина Дзержинский.
— Он лишен чести.
— Им правит целесообразность.
— Что бы ни случилось, — предупредил Красин, — события не должны быть связаны с нами, с нашими именами.
— Есть враги и помимо нас.
— Мы не враги, — сказал Красин. — Но членство в партии в Московской организации за последние три месяца упало с пятидесяти до восемнадцати тысяч.
— Знаю.
Они оба были примерно одинаково информированы и в обмене сведениями не просвещали, а испытывали друг друга.
— Наша цель — спасти партию от безумной авантюристической политики некоторых ее лидеров, — сказал Красин.
— Это может быть несчастный случай.
— Ваше дело, Феликс Эдмундович, организовывать случаи. Но попрошу без жестокости, столь вам свойственной.
— Если вы решили заняться революцией, — заметил Дзержинский, — отложите в сторону гуманизм.
— Тогда в следующий раз мы займемся рассмотрением кандидатур на посты наркомов, — сказал Красин. — А вы расскажете нам, что придумали.
— Лучше будет, если я вам этого не расскажу. Тогда вас, в случае чего, не будет мучить совесть. Вы же говорили о гуманизме.
Красин чуть поморщился.
Но выхода не было — партия должна была избавиться от лидера, который вел ее к гибели и к гибели принципов идей социализма. Сделать это демократическим путем не представлялось возможным. Он их переиграет, как переигрывал уже не раз.
Именно об этой беседе Дзержинский думал в тот момент, когда стал перебирать бумаги из утренней папки и натолкнулся на донесение агента о Коле и Фанни.
— Голубки, — произнес Феликс Эдмундович вслух. — Голубки. И что он в ней нашел, наш вольный стрелок?
Пятнадцатого августа по новому стилю Фанни снова уехала на поезде в Москву, без билета, потому что денег не было и на билет. Коля страдал без курева. Он стал раздражителен и второй день не желал разговаривать с Фанни из-за какого-то пустякового повода. Он был голоден — разве наешься половиной ситника? Но главное — мучился из-за отсутствия курева до безумия, до звона в ушах, до ненависти ко всему миру, начиная с Фанни, которая затащила его в эту дыру. Уж лучше бы он покаялся и сдался. Они бы его пощадили. Он же им еще нужен!
Когда Фанни ушла, поцеловав его на прощание, он отклонил голову, чтобы ее губы не коснулись его виска.
— Прости, милый, — сказала Фанни. Она понимала, что виновата, и в то же время в ней тоже гнездился гнев — ведь ты не мальчик, ты мужчина, ты мой мужчина. Но она сама испугалась, почувствовав в себе ростки гнева.
Она быстро ушла, и Коля, глядя ей вслед из-за приоткрытой двери, подумал, что балахон, который она нацепила, может погубить изящество любой женщины. Фанни изящной не назовешь.
И подумал: надо уходить. Пока ее нет. Оставить записку и уходить. Он наймется, найдет себе место, может быть, место грузчика на товарной станции, кочегара — он думал о том, что уйдет, и тогда наступит освобождение. Тогда появится надежда.
Хлопнула калитка.
Заплакал в доме ребенок.
Только бы она не вернулась со станции. Нет, она будет до вечера ходить по проваленным явочным квартирам в поисках своих партийных друзей, а потом вернется без шелкового платка — последней своей ценности, который вчера на всякий случай выстирала в холодной воде.
Коле нечего было собирать.
Он взял свою куртку. Конечно, ее можно было давно бы продать, как Фанни продала свою, но Коля берег ее. Ведь может случиться, что наступят холода, да и вообще человеку нельзя ходить по городу без пиджака или куртки. Ботинки у него были еще приличными. Плохо с сорочками. Правда, Фанни стирала их, занимая хозяйственное мыло у хозяйки дома, но хорошо пока стояла жара — иногда он ходил без рубашки целыми днями. Сейчас, когда чуть похолодало, рубашка нужна.
Когда Коля говорил себе, что намерен устроиться грузчиком и заработать на дорогу в Симферополь, на самом деле он знал — хоть и не думал об этом, — что вернее всего постарается встретиться с. Ниной Островской. По ее взгляду, по первым ее словам он поймет, может ли рассчитывать на прощение. А если она не простит, остается еще один вариант — Берестовы. Берестовы на Болотной площади. В конце концов, он ни в чем перед ними не провинился. И даже имя у него теперь старое — Николай. Беккер, партийный псевдоним — Андреев. И им незачем знать о его подвигах, благо в газетах картинок и портретов не печатают.
Через полчаса после ухода Фанни Коля последовал ее примеру. Он натянул куртку и вышел на тихую дачную улицу.
Он дошел до угла, у поворота на станцию его ждали два человека в куртках, схожих с его курткой. При виде их Колю охватил первобытный до рвоты ужас. Он замер, но не смог побежать назад, потому что знал, что агенты вооружены.
Он не мог и пойти вперед, ноги отказывались нести его навстречу смерти.
Но агенты пошли к нему сами — как будто пожалели немощного.
Он стоял, они приближались и увеличивались, как в синематографе.
Первый, усатый и неторопливый, спросил его, хотя спрашивать было не обязательно.
— Гражданин Андреев? Николай Андреев?
Коля кивнул.
— Следуйте за нами, — сказал второй.
— Разумеется, — согласился Коля. Только не надо их сердит!
И он пошел между ними.
Со стороны они, наверное, казались друзьями, что спешат на поезд.
На деле агенты повели Колю на дорогу, где ждал небольшой грузовичок, крытый фургон, какие использовали в ВЧК для перевозки арестованных.
Дзержинский показал Коле на стул, а сам встал из-за своего стола и стал ходить по кабинету, негромко рассуждая:
— В принципе вы, Беккер, были правы, когда решили сбежать. Вы не возражаете, что я вас называю настоящей фамилией?
Коля кивнул.
Он все еще стоял на эшафоте и не знал, прикажут ли сунуть голову в петлю или отпустят в объятия ревущей толпы, И он знал, что ласковый, даже задушевный тон Председателя еще не значит, что ты спасен или прощен. Дзержинский предпочитал не выдавать своих намерений заранее.
— Впрочем, отказаться от псевдонима разумно. По крайней мере в недрах нашей организации вы не найдете упоминания о сотруднике Николае Андрееве, потому что мы держим у себя лишь проверенных, чистых духом и поступками людей, к каковым Николай Андреев, назовем его государственным преступником, не относится.
Дзержинский сделал паузу, чтобы смысл его слов проник в сознание Коли.
Возможно, Коле следовало бы промолчать, но вопрос вырвался неожиданно для него самого:
— А как же Блюмкин?
— Он — эсер, обманным путем проникший в наши органы, когда там левые эсеры играли важную роль. Ведь мы их по наивности полагали своими союзниками, Блюмкин выполнял приказ ЦК партии эсеров и по поддельным документам проник в немецкое посольство. Наверное, вы, Беккер, слышали?
Вот в этот момент Коля уверовал в то, что его не казнят. Что у Дзержинского есть на него виды. Ведь республике нужны преданные бойцы!
Дзержинский, словно угадав мысли Коли, продолжил:
— Я не могу отнести вас, Беккер, к числу преданных бойцов революции. Скорее всего вы попутчик с авантюрным уклоном. Вы меня боитесь, Вы боитесь за свою жизнь, за которую я бы сейчас и копейки не предложил…
Дзержинский позволил своим тонким губам улыбнуться.
— Наверное, вы боитесь также за жизнь свой любовницы Фанни Ройтман, она же Каплан? Хотя совершено не понимаю, чем она могла вас увлечь? Немолодая, не очень привлекательная профессиональная революционерка, которая даже не знает, что такое настоящее нижнее белье, правда?
Коля непроизвольно кивнул — и этим выдал себя, свои секретные мысли. Дзержинский же сделал вид, что не заметил этого кивка.
— К тому же вы сейчас попали в совершенно безвыходное положение. Будь вы один, попробовали бы убежать на юг, в родные места. А с таким балластом… нет, я вам не завидую. У вас, наверное, даже на папиросы денег нет.
Коля думал, что это — предположение Председателя. На деле же агент ВЧК подслушивал в течение двух дней дневные и даже ночные разговоры возлюбленных, В этом не было сложности — стены сарайчика были тонкими, Так что Дзержинский знал обо всем, что обсуждали Фанни с Колей и о чем спорили.
— Помочь вам могу только я, — сказал наконец Дзержинский. — И я готов помочь, потому что сам как бывший курильщик знаю, как мучительно остаться без табака…
Дзержинский вздохнул и замолчал.
Потом вернулся за свой стол, отпил чая из тонкого стакана в серебряном подстаканнике. Взял с тарелочки бутерброд с сыром и откусил от него под пристальным взглядом Коли, что было тоже оружием в психологической войне, которую Дзержинский не без удовольствия вел с Колей, как кот, который играет с придушенной мышкой.
— Готовы ли вы, Николай, искупить свою вину перед партией, Комиссией и мной лично?
— Как? — спросил Коля.
— Я понимаю, что вы еще не готовы ответить на прямо поставленный вопрос. Я дам вам подумать некоторое время, немного. И при следующей нашей встрече вы не будете задавать мне вопросов, которые таят в себе условия. Мне нужно ваше абсолютное послушание. Причем учтите, что каждый ваш шаг, каждое сказанное вами слово даже под одеялом, немедленно становится мне известно. И в первую очередь я должен быть уверен, что ни слова, ни дуновения ветра не донесется до вашей подруги. У меня есть все основания не доверять ей. А перед вами стоит жизненный выбор — или мы или Фанни. Рассудите, вы умный человек, что ждет вас, если вы изберете Каплан. Идите.
— Куда? — Коля поднялся и остановился в нерешительности.
— Кажется, ваше убежище называется — станция Подлипки, Станционный проезд, владение номер шесть. Сарай… — Потом он неожиданно добавил: — Ильич с Зиновьевым провели чуть ли не месяц в сарае, летом. Ровно год назад. Но они не были любовниками. Ну чего вы стоите?
— Извините, — сказал Коля.
Ему ничего не сказали, не простили и не казнили, а оставили подвешенным к завтрашнему дню. Надо было спросить: «И что потом?» А кот ничего мышке не ответит.
Коля повернулся от двери, сказал:
— До свидания.
Дзержинский кивнул. Он читал бумаги, разложенные на столе, и прихлебывал чай из стакана.
Коля вышел в приемную.
В приемной было пусто. Только средних лет секретарша сидела за ундервудом.
— Товарищ Беккер? — спросила она. — Андреев?
— Да, это я.
Сейчас она велит мне пройти в комендатуру…
— Возьмите конверт, — сказала она. — Товарищ Дзержинский просил меня передать его вам, если вы сюда придете.
Коля покорно взял конверт и не знал, можно ли заглянуть внутрь.
— До свидания, — сказала секретарша. — Чего же вы стоите?
Коля пошел к двери, держа конверт в руке.
И надо же! Через двадцать шагов он встретил в коридоре Яшку Блюмкина. Правда, в черных очках и без бороды.
Коля хотел поздороваться. Но Блюмкин картинно отвернулся.
И только тогда Коля сообразил, что Блюмкин не один. Рядом с ним шла молодая женщина с жестким, даже грубым лицом, блондинка, почти альбинос с белыми ресницами.
Коля прижался к стене, пропуская ее.
Женщина посмотрела на него в упор. У нее был спокойный змеиный взгляд. Коля понял сразу, в одно мгновение, что никогда не забудет этого взгляда.
Он вышел из здания ВЧК беспрепятственно.
Но в конверт заглянул не сразу.
Он спустился к Рождественскому бульвару и там, за монастырем, уселся на лавочку.
Конверт был заклеен.
В конверте лежало сто рублей. На папиросы.
Феликс Эдмундович недолго оставался в своем кабинете.
Он приказал секретарше вызвать автомобиль.
Автомобиль отвез его к небольшому особняку на Пречистенском бульваре. Уже две недели как Миллера-Мельника перевезли в этот особняк и выставили у небольшой дверцы в каменном заборе охрану.
Недавно из особняка выгнали анархистов, которые, в свою очередь, освободили его от хозяев.
Охрану Дзержинский назначил особняку круглосуточную, из латышей.
Никаких пропусков, никаких исключений, доступ в особняк, кроме лаборанта, пленного венгра, который по-русски так и не выучился, но объяснялся с Миллером-Мельником по-немецки, и самого Дзержинского, был запрещен для всех.
Поэтому латыши там были те, кто знал Председателя в лицо.
Дзержинский был удивлен, когда, соскочив с автомобиля, подошел к калитке и тут охранник остановил его.
— Что это означает? спросил Феликс Эдмундович.
— Я вас уже пропускал, — ответил часовой.
Шофер Дзержинского, верный Марек, заглушил двигатель и подошел к ним.
Латыш не открывал калитку.
— Ты не узнаешь, что ли? — спросил он.
— Извините, я узнаю, но товарищ Дзержинский уже там.
— Но ты машину знаешь? спросил Марек. — Ты нашу машину, наше авто знаешь? Такого второго в Москве нет.
Машина была новая, малиновая, бенц», такого больше в кремлевской конюшне не водилось.
— Вот мой пропуск, — сказал Дзержинский.
— Тогда я не понимаю, — сказал латыш, но отступил назад и взял под козырек.
— А вот это мы сейчас выясним.
Дзержинский вошел в калитку, за ним последовал Марек, и Дзержинский, не любивший неоправданного риска, не стал его прогонять.
Между калиткой и особняком было метра три — короткая дорожка, выложенная плиткой, с кадками по сторонам, из которых торчали высохшие пальмы. Затем изысканно расписанная трубочным дымом в стиле модерн дверь.
Дзержинский толкнул ее и ступил в сторону.
Марек понял его и быстро шагнул внутрь.
За ним последовал Дзержинский.
Они миновали прихожую.
Затем через открытую дверь вошли в гостиную, частично переделанную в лабораторию.
Получился странный гибрид — мягких кресел, торшеров и лабораторного стола с пробирками и центрифугой.
Золтан — розовый, аккуратный, в изумительно белом халате — отмерял корм в клетку.
— Добрый день, — сказал Дзержинский. — Где Гриша?
— Оу! — ответил Золтан.
И разразился венгерским монологом, из которого Председатель ничего не понял, но ощутил изумление лаборанта.
Поэтому рукой указал Мареку на дверь в бывшую спальню.
— Ах! — произнес немногословный шофер.
Дзержинский не уловил в возгласе страха, а лишь удивление, и последовал за Мареком в следующую комнату.
И тоже удивился На отодвинутой к стене широкой кровати сидел он же, то есть другой Дзержинский, в такой же тщательно выглаженной гимнастерке, брюках со складкой и начищенных ботинках.
При виде гостей он поднялся, не спеша и без следов испуга.
— Простите, сказал он, — но я был вынужден пойти на небольшую проделку, чтобы проникнуть в это помещение.
— Зачем? — спросил Дзержинский, заложив руки за спину.
Марек держал пистолет, готовый выстрелить.
— Мне надо было поговорить с моим учеником и подопечным, которого вы знаете под именем Григория. Я не ошибаюсь — Григория?
— Марек, доставь гражданина Коромыслова в комиссию, — сказал Дзержинский. — Я его допрошу завтра.
— Ну и память! улыбнулся незнакомец Коромыслов улыбкой Дзержинского. — Мы с вами виделись лишь однажды, в девятьсот двенадцатом году, на явочной квартире в Минске. Я прав?
Лицо Коромыслова неуловимым образом изменилось, чуть-чуть, но он уже не был похож на Дзержинского, хотя формально все — и костлявый нос, и узкое лицо со впалыми щеками и даже маленькая бородка, эспаньолка, какими любил украшать себя Шаляпин, изображая Мефистофеля, — все осталось.
— Я полагаю, — сказал Коромыслов, отводя в сторону руку Марека с револьвером жестом ленивым и легким, как отводит руку назойливого поклонника знатная красавица на балу, — что нет смысла задерживать меня, раз я сам решил уйти. Рад был встретиться.
Он наклонил голову.
Дзержинский хотел было возразить, но передумал, промолчал, глядя, как Коромыслов прощается за руку с робеющим Миллером — Мельником.
— Поздравляю тебя с успехами, мой мальчик, — сказал Коромыслов. — Я не обманулся в своих ожиданиях. Но повторяю то, что сказал: может быть, тебе еще рано приниматься за человека. Это рискованно не только в научном аспекте, меня смущают моральные и этические последствия такого эксперимента.
— Но это было решение… — Гриша перевел взгляд на Дзержинского. — Для этого мне выделили средства и новую лабораторию. Вы же знаете…
— Я не останавливаю тебя, — произнес Коромыслов. Мое дело — предупредить вас с покровителем об опасности, которую вы, как свойственно людям, еще не осознаете.
Именно для этого я сюда пришел в таком несколько необычном виде. А знаете, Феликс, вас на улицах узнают и даже разбегаются по подъездам.
Коромыслов неприятно визгливо рассмеялся. Словно смеяться не умел.
Не прощаясь, Коромыслов быстро, походкой Дзержинского, нетерпеливой, спешащей, покинул комнату, простучал каблуками по паркету гостиной, и оставшиеся посмотрели скорее на место, в котором он только что находился, будто не верили собственной памяти.
— Кто он? — спросил наконец Дзержинский.
— Он… это мой старый… наверное, «покровитель» неточное слово, правда?
— Как его имя?
— Вы назвали его Коромысловым, — осторожно уклончиво ответил Гриша.
— Как! Его! Имя?
— Я называл его Учителем.
— Точнее!
— Феликс Эдмундович, я не ваш лакей, И я не намерен отвечать на глупые вопросы.
Гриша говорил медленно и тихо.
Подчиняясь незаметному движению пальцев Дзержинского, шофер Марек вышел из комнаты.
Дзержинский умел владеть собой. Человеку, мало знавшему его, могло показаться, что он смирился, отступил.
— Рассказывайте, Гриша, что у нас нового.
Дзержинский сделал упор на местоимение.
— Я докажу вам, — сказал Гриша. — Хотя Учитель возражает против опытов с людьми.
— Никто ни к чему вас не принуждает, — сказал Дзержинский. — Вы можете немедленно собрать свой скарб и убираться куда пожелаете.
— Это невозможно, — ответил Гриша. Он был серьезен. Он всегда был серьезен, и это опасно, если имеешь дело с гением узкой специализации.
— Почему же? — язвительно заметил Дзержинский.
— С новым оборудованием и расширением объема работ я не смогу вернуться на Болотную, и мне придется прекратить работу.
Он смотрел на Дзержинского, как на малого непонятливого ребенка.
— Коромыслов вас субсидировал? — спросил Дзержинский.
Он надеялся, что Марек смог послать за Коромысловым латыша или сам в крайнем случае пошел за ним. Надо было выяснить, где прячется этот оборотень. Нельзя было допустить, чтобы по Москве разгуливал человек, посмевший принять облик Дзержинского настолько убедительно, что часовой спутал его с оригиналом.
Опасность, исходившая от Коромыслова, усугублялась тем, что Дзержинский не мог отыскать ему полочку, место в системе мироздания. Будто он был человеком из небытия, А значит, врагом.
— Учитель всегда помогал мне, — ответил Гриша. — Вам показать образец один? —
— Да, — сказал Дзержинский. — А где Коромыслов проживает?
— Он говорил, что в Костроме, — сказал Гриша, — но по выговору он москвич.
Заходить в комнату вы не будете, — сказал Гриша. — Чтобы не травмировать образец.
В стене спальни, за шторой, было вырезано круглое окошко.
— С той стороны зеркало, — сообщил Гриша. — Он вас не увидит.
ЗАПОВЕДНИК ДЛЯ АКАДЕМИКОВ
Часть первая
Как это было
Глава 1
22 октября 1932 года
День был такой дождливый и сумрачный, что Лидия не уловила момента, когда он, закончившись, стал мокрой октябрьской ночью, хотя на часах было всего около шести и люди возвращались со службы. На трамвайной остановке у Коровьего Вала народу было видимо-невидимо, все молчали, терпели дождь, а оттого почти не двигались — словно стая воронов на рисунке Бёклина. Лидочка пожалела, что не взяла зонтик, хотя отлично знала, почему не взяла, — зонтик был старый, одна из спиц торчала вверх, к тому же он был заштопан. Она не могла ехать в санаторий ЦЭКУБУ с таким зонтиком. А у шляпки поля были маленькие, капельки дождя свисали с полей, росли и срывались, норовя попасть на голую шею, — и, как ни кутайся, им это удавалось.
«Семерки» долго не было, а когда трамвай пришел, Лидии не удалось в него влезть, потому что она была с чемоданом и не протиснулась в дверь — чужие коленки, каблуки и локти оказались сильнее.
Трамвай ушел, сверкая теплыми желтыми окнами, люди внутри шевелились, оживали, а те немногие, кто остался за бортом, смотрели на уходящий трамвай с пустой ненавистью.
Следующий трамвай не шел так долго, что Лидочка совсем промокла и готова была вернуться в общежитие — обойдемся без ваших милостей. Академия наук! Но идти обратно было еще противнее, чем стоять. И Лидия решила, что, если она досчитает до тысячи и трамвая еще не будет, она уйдет. Когда она досчитала до тысячи шестисот, показались огни трамвая, и на этот раз Лидия влезла в вагон, как обезумевшая миллионерша, которая рвется добыть место в шлюпке тонущего «Титаника». Те, кто лез вместе с ней, ругались, конечно, но поддались ее напору. Лидия втиснулась в конец вагона, там меньше толкали, поставила чемодан на пол между ног и хотела отыскать петлю, чтобы держаться, но петли близко не было — все расхватали. Лидочка расстроилась, но тут высокий мужчина с маленькой изящной головой в зеленой тирольской шляпе и усиками а-ля немецкий фашист Адольф Гитлер подвинул ей свою петлю, а сам ухватился за стойку.
— Вам так будет удобнее, — сказал он.
В душном тепле набитого трамвая вода начинала испаряться и люди — пахнуть. Возникли запахи нечистого белья, пота, пудры, табака и сивухи. Но от мужчины в тирольской шляпе пахло приятно и иностранно. Хороший мужской одеколон. И плащ на нем иностранный. Наверное, дипломат. Или чекист. Нет, чекист не стал бы носить такие усы.
Высокий мужчина смотрел на Лиду спокойно и уверенно — так, наверное, положено смотреть на женщин на Западе, охваченном мировым кризисом.
Старый вагон трамвая жестоко раскачивало на рельсах, дребезжали стекла в рамах, кондуктор выкрикивал остановки, люди, отогревшись, пустились в разговоры, наверное, в лодках после гибели «Титаника» люди тоже начали разговаривать.
Женщина в большом сером платке говорила своему спутнику, жидкой бородкой и бледностью напоминавшему расстригу, о том, что Пелагея не пишет, что у них там голод страшный, а расстрига перехватил боковым зрением взгляд Лидии и зашипел, что все это обывательские слухи, которым нельзя верить. И женщина в сером платке быстро согласилась с ним, что это обывательские слухи, и вспомнила о свояке, который уехал на Магнитку, где хорошо платят, а высокий иностранец с усиками а-ля Гитлер заговорщицки улыбнулся Лидочке — не надо было ни подмигивать, ни поднимать брови, чтобы достичь понимания.
Лидочка подумала, что этот иностранец, наверное, тоже едет в Узкое, что было маловероятно, так как по Большой Калужской и улицам, что текут рядом с ней — Донской, Шаболовке, Малой Калужской, — стоит столько жилых домов и учреждений, что простая математика отрицает возможность такого совпадения.
С Октябрьской площади трамвай повернул на Большую Калужскую и побежал, то разгоняясь, то подползая к остановкам, мимо Голицынской больницы и деревянных домишек с огородами, фонари горели по улице редко и тускло, прохожих не было видно. На остановках людей выходило больше, чем входило, и вагон постепенно пустел. Та деревня, что, голодная и пугливая, но невероятно живучая, вторглась в Москву в последние годы, не могла и не смела селиться в центре, а осваивала полузастроенные просторные, отгороженные заборами домишки Сокольников, Марьиной Рощи, Калужского шоссе и иных московских углов…
Возле иностранца освободилось место, он уверенно взял Лидочку за мокрый плащовый локоток и посадил. Он смотрел по-хозяйски, как она садится, словно она была его старенькой, нуждающейся в заботе мамой, а потом сказал текучим приятным голосом:
— Приедете домой, обязательно ноги в горячую воду. Разогрейте — и в воду. А то завтра гарантирую вам жестокую простуду.
Лидочка хотела было ответить ему, что вряд ли сможет достать таз с водой в санатории ЦЭКУБУ, но такой подробный ответ мог означать желание знакомства с ее стороны, а хорошо воспитанные девушки так не поступают.
— Я не шучу, — сказал иностранец, его рука лежала у нее на плече.
Надо было ее оттуда убрать, но как? Двумя пальцами? Это слишком брезгливо. Смахнуть движением плеча — неуважительно к старшему. Впрочем, старшинство в таких случаях не играет роли. Через несколько минут они расстанутся навсегда.
Тут, к счастью, освободилось еще одно место, и Лидочка сразу сказала:
— Садитесь, вон место.
Иностранец послушно сел напротив Лидочки, и плечу стало легко.
Но теперь они были вроде бы знакомы. И можно было продолжать беседу.
— Вы учитесь? — спросил иностранец. Ему приходилось тянуться к ней, чтобы она могла его расслышать. Опустевший трамвай безбожно дребезжал и гремел.
— Я работаю! — крикнула в ответ Лидочка.
Она посмотрела в запотевшее окно, протерла его ладошкой. За окном было темно и неизвестно.
Женщина в сером платке и расстрига сошли. Они остановились под фонарем на остановке и смотрели на Лидочку, словно прощались. А может, ждали, когда трамвай уйдет, не хотели показывать, в какую сторону направятся. Трамвай поехал дальше.
Иностранец что-то говорил, но Лидочка не слышала.
Трамвай дернулся, разворачиваясь, покатился по кругу — за окном в лужах были видны перевернутые фонари.
Иностранец поднялся и сказал:
— Приехали! Если вы, конечно, не хотите прокатиться обратно до Октябрьской площади.
— Это Калужская застава?
— Вот именно, — сказал иностранец.
Он был быстр и ловок. Он соскочил на землю и протянул Лидочке руку, помогая сойти. Лидочка приняла любезность и, как ей показалось, еще более себя закабалила.
— До свидания, — сказала она решительно.
— Рад был с вами познакомиться, — сказал иностранец.
Лидочка оглянулась, стараясь понять, куда ей идти. Было сказано: на Калужской заставе в половине седьмого за отдыхающими будет автобус. Вы его увидите.
Ничего Лидочка не видела — площадь была обширна, и непонятно, где она заканчивалась, потому что совсем близко она была перерезана пропастью, откуда шел дьявольский дым и вылетали красные искры. Очевидно, что эту демонстрацию ада производил паровоз, который тащил по глубокой выемке состав с грузом. Дождь, блеск воды в лужах, еще не облетевшие толком деревья, палисадники перед крепкими домиками, убегающими в два ряда к Москве. И ни одного автобуса, ни одного мотора. Сразу стало так одиноко, что захотелось нырнуть в трамвай, который как раз в этот момент зазвенел, перекликаясь с паровозом, сыпанул искрами из-под дуги и полетел, легкий, по кругу, чтобы вернуться в город. Внутри была видна лишь согбенная фигура кондуктора, который сидел на своем месте и пересчитывал деньги из сумки. Надо было его спросить, куда идти, но теперь поздно.
Дождь сыпал еще сильнее, и, главное, он был куда более холодным, чем полчаса назад. И почему она не взяла зонтик!
— Я вижу, что вы в некоторой растерянности, — сказал иностранец, о котором Лидочка забыла. — Может, вас проводить?
— Куда? — удивилась Лидочка.
— Это вам лучше знать. — Иностранец показал очень ровные белые зубы, наверное, искусственные. — Но если вы ищете автобус из Санузии, то пошли вместе.
— Мне не в Санузию, — сказала Лидочка разочарованно. — Мне в санаторий ЦЭКУБУ «Узкое».
— Совершенно верно, — сказал иностранец. — Санузия — это прозвище нашей с вами обители, придуманное его веселыми обитателями. Это название вольной и славной республики ученых.
Он уверенно взял у нее из рук чемоданчик и пошел вперед, вроде бы не торопясь, но достаточно быстро, и Лидочке пришлось за ним спешить.
Они пошли прямиком через площадь. Подошвы Лидочкиных ботиков скользили по неровным, неухоженным, кое-где ушедшим в глубокие лужи булыжникам. Будь Лидочка одна, пошла бы вокруг площади по дорожке вдоль палисадников, но иностранец не думал об удобствах дамы, а дама не стала жаловаться. На иностранце, кстати, были рыжие шнурованные сапоги под самое колено на ребристой каучуковой подошве и клетчатые брюки гольф, такие мягкие на вид, что хотелось пощупать пальцами.
В центре площади на широком мосту через ущелье железной дороги фонарей вообще не было, и Лидочка старалась ощупывать носком ботика дорогу впереди, чтобы не грохнуться. Иностранец вышагивал не оборачиваясь, и Лидочка поняла, что и он боится поскользнуться.
Впереди тянулись цепочкой тусклые фонари. Под одним из них стояла кучка людей. Люди эти сначала были маленькими, недостижимыми, а потом выросли до нормального размера. Почти все они стояли под зонтами и не страдали от дождя.
Из-за зонтов их лиц не было видно, зато свет фонаря отражался от зонтов, и все это напоминало провинциальный театр, ночную сцену на площади Вероны или Модены…
— Товарищи, — сказал громко иностранец, не доходя нескольких шагов до людей с зонтиками, — не вы ли несчастные, ожидающие попутного транспорта в государство Санузия?
Зонтики зашевелились, закачались, словно их владельцы только сейчас заметили иностранца и Лидочку, а может быть, только теперь приняли их за людей, достойных приветствия.
— Матя! — завопил вдруг один из зонтов утробным басом. — Матя Шавло! Ты приехал?
Зонтик побежал навстречу иностранцу, затем качнулся, показал, что под ним скрывался толстый человек в широкополой шляпе, как у Горького в Сорренто. Человек раскачивал зонтом и тянул руку к иностранцу.
— Рад видеть тебя, Максимушка, — пропел иностранец, — жалею, что не могу раскрыть навстречу тебе объятия, потому что страшно промок.
— Небось по Риму только в авто «Альфа-Ромео», — сказал толстяк и хрипло засмеялся, обращаясь к оставшимся сзади слушателям, словно хотел, чтобы все разделили его радость.
Лидочка стояла близко от толстяка, ей хотелось нырнуть под зонт, который все равно болтался без дела.
— На время или насовсем? — спросил Максим.
— Такие вопросы решаются там. — Иностранец по имени Матя ткнул пальцем в черное небо.
— Понимаю, — сказал Максим, — мне не надо уточнять.
Лидочка услышала обращенный к ней женский голос:
— Барышня, идите ко мне, у меня зонтик большой.
Большой черный зонт качнулся назад, показывая Лидочке, куда спрятаться.
Не говоря ни слова, Лидочка нагнула голову и нырнула под зонт, словно вбежала в сухой амбар, и только потом, наслаждаясь счастливой переменой в судьбе, сказала:
— Спасибо.
Женщина, которая спасла Лидочку, была молода, обладала надтреснутым и интеллигентным голосом, какие раньше культивировались в шикарных детских, а теперь порой возникают даже в коммунальных квартирах. На спасительнице была шляпа с короткой вуалеткой. В темноте были видны только белки глаз и зубы — женщина улыбнулась и дотронулась рукой в перчатке до Лидочкиного плеча, привлекая его поближе.
— Я вас промочу, — сказала Лидочка.
— Не думайте об этом, — сказала женщина, — у меня непромокаемый макинтош. Когда-то мой муж Крафт привез его из Лондона.
Сказано это было не для того, чтобы похвастаться визитом мужа в Лондон — да и кто будет в тридцать втором году хвастаться такой опасной привилегией? — это было деловое объяснение достоинств макинтоша.
Из-под зонта было плохо видно вокруг, но зато слышно, как иностранец Матя и его друг Максим включили в свой бодрый разговор других людей, которые были в большинстве между собой знакомы.
Загромыхал поезд, пробираясь ущельем, будто там был иной мир, горячий, таинственный и очень шумный.
— Меня зовут Мартой, — сказала женщина, — Марта Ильинична Крафт.
— Очень приятно. Лида. Лида Иваницкая.
— У вас ноги не промокли?
— Нет, у меня ботики совсем новые.
— Сейчас делают такие плохие ботики, что иногда лучше ходить вообще без них, босиком…
Вдали возникли два белых огня, как глаза чудовища, которое надвигалось на них.
— Автобус идет! — крикнул кто-то.
— Чепуха, — отозвался другой голос, — это же от Москвы едут.
Огни тем не менее приблизились, и, расплескав близкую лужу, возле группы людей остановился длинный черный автомобиль. Шофер раскрыл дверцу, оттуда стали вылезать невнятные фигуры. Они сразу раскрывали зонтики — кто-то кого-то окликнул, Марта Ильинична сказала:
— Это из университета. Как же я не догадалась, что ректор выделит авто для Александрийского!
Лидочке положено было разделить чувства Марты Ильиничны, но она не знала, хорошо или плохо то, что ректор выделил авто для Александрийского. Ей стало холодно — раньше было какое-то движение, а теперь — пустое ожидание. К тому же Лидочка опаздывала со службы и поесть не успела.
Последним из авто вылезло нечто худое и согбенное — из-под шляпы торчал длинный нос, нависший над тонкогубым лягушечьим ртом, изогнутым в ухмылке. Толстый Максим наклонил свой зонтик к этому человеку, чтобы прикрыть от дождя, но согбенная фигура принялась вяло отмахиваться, а потом открыла свой зонт.
— Но это же безобразие! — сказал Максим. — Почему нельзя довезти вас на моторе до Санузии? Вы мне ответьте почему?
— Не доедешь, — сказал шофер, обходя авто спереди, чтобы забраться на свое место, — туда от Калужского шоссе никакой дороги нет.
— Это неправда! — сказал вдруг иностранец. — Зачем лгать? Я летом приезжал на моторе, мы отлично доехали.
— Тогда дождей не было, — сказал шофер и хлопнул дверцей.
— При чем тут дожди?! — Все ополчились на шофера, и это было нелепо, только Марта Ильинична сказала Лиде с усмешкой:
— Как у нас любят разоблачить стрелочника!
— При чем тут дожди?! — повторил грозно Максим, направив острие зонта на шофера. — Трубецкие ездили, не жаловались.
— А при царе дороги чинили, — сказал шофер, повернул ключ, и мотор послушно заревел.
Сделав широкий крут по площади, автомобиль умчался, разбрызгивая лужи. Его задние красные огоньки долго были видны, потом смешались с огоньками трамвая, который как раз разворачивался за оврагом.
— Не исключено, что он прав, — сказала согбенная фигура, у которой оказался красивый низкий голос. — Трубецкие платили, за дорогами было кому следить.
— Не вообще, Пал Андреевич, — сказал Максим, — а только за теми, что принадлежали лично им, и ремонтировали не они сами, а крепостные или зависимые бесправные люди.
— Максим, — загудел иностранец, — ну что ты несешь! Мы же не в кружке по ликвидации нашей политической неграмотности.
— Есть элементарные вещи, которые приходится напоминать, — сказал Максим.
Александрийский опирался на трость, но не потому, что почитал это красивым, а тяжело, словно поддерживал себя.
— А что с ним? — спросила Лидочка.
Марта Ильинична сразу поняла:
— У него больное сердце. Врачи говорят, что аневризма. Каждый шаг достается ему с трудом… и он еще читает лекции. Это самоубийство, правда?
— Не знаю, — сказала Лидочка. Раздражение к согбенной фигуре уже пропало. Может, потому, что Лидочке понравился голос.
Разговоры затихли — все уже замерзли и утомились от дождя и ветра. К счастью, вскоре приехал и автобус из Узкого. Он являл собой довольно жалкое зрелище — даже неопытному взору было очевидно, что он переделан из грузовика, над кузовом которого сделали ящик с затянутыми целлулоидом окошками, а внутри поперек кузова были положены широкие доски. Александрийского посадили в кабину, в которой приехала медицинская сестра из санатория. Она хотела устроить перекличку под дождем, но все взбунтовались. Александрийский спорил и намеревался лезть в кузов. Тогда иностранец, который оказался также знаком с Александрийским, сказал ему, перекатывая голосом слова, как бильярдные шары:
— А ты, голубчик Паша, намерен доставить себя в лице хладного трупа? Разве это по-товарищески?
Лидочка с Мартой влезли в автобус последними, они уселись на задней доске, глядя наружу, — сзади автобус был открыт. Лидочка шепотом спросила у Марты, кто такой Максим. Марта сказала:
— Современное ничтожество при большевиках. Администратор варьете.
Она фыркнула совсем по-кошачьи.
Автобус дернулся и поскакал по неровному, узкому, сжатому палисадниками и огородами Калужскому шоссе. Лидочке приходилось держаться за деревянную скамейку, а то и цепляться за Марту, чтобы не выбросило наружу. Но все равно было весело, потому что это было беззаботное путешествие, в конце которого должен стоять сказочный замок.
Медицинская сестра начала перекличку. Перекличка проходила в полной темноте, и, когда на фамилию отзывался голос, Лидочка пыталась представить себе, каков же обладатель голоса. Максима, который оказался Максимом Исаевичем Крейном, она уже знала, а иностранец откликнулся на Матвея Ипполитовича Шавло. Он поправил медсестру, которая назвала его было Илларионовичем. Но в том не было ничего удивительного, потому что она вела перекличку, подсвечивая себе ручным электрическим фонариком. Автобус подпрыгивал, луч фонарика метался по кузову…
Лидочке казалось, что путешествие тянется бесконечно, и странно было, как терпеливы ее спутники, все без исключения старше ее. Вокруг происходили оживленные беседы, двое молодых мужчин справа от Лидочки даже заспорили о каких-то неведомых ей мушках-дрозофилах, которые дали чрезвычайно интересные мутации, а за спиной Лидочки высокий мужской тенор уныло доказывал, что если бы они ехали зимой, то за ними прислали бы сани, а на санях под меховой полостью ехать в Узкое одно удовольствие, но вот не повезло — не получилось с путевкой ни летом, ни зимой, а сейчас самое плохое время, на что капризный женский голос ответил, что летом путевку бы и не дали — летом там тещи и внучки знаешь кого!
— Вы в первый раз к нам едете? — спросила Марта Ильинична.
— В первый раз.
— Вам очень понравится, вам обязательно должно понравиться. В наши дни, когда всюду потеряны критерии порядочности и класса, Узкое — единственное место, которое поддерживает марку.
— Мне говорили, — согласилась Лидочка.
— К нам сюда приезжают именитые гости, — сказала Марта Ильинична. — Рабиндранат Тагор был. А в прошлом году приезжал Бернард Шоу. Его Литвинов привез в Узкое. А куда еще? Не в Петровское же к партийцам! По крайней мере в Узком всегда есть люди, которые могут вразумительно ответить на вопрос, заданный по-английски.
Высокий голос позади произнес:
— Конечно, его летом привозили. Сейчас бы он завяз по дороге.
— Неужели вы думаете, что Бернард Шоу специально подгадывал свой приезд под состояние наших дорог? — фыркнула Марта Ильинична.
— А я смотрела «Пигмалион», — сказал капризный женский голос, — Бабанова была бесподобна.
От тряски Лида устала и как бы оглохла, но и задремать невозможно, хоть и клонит ко сну, — только прикроешь глаза, как тебя подбрасывает к фанерному потолку.
— Придет время, и клянусь вам, оно будет близко, — я читал, — донесся громкий, вроде бы торжествующий, но не скрывающий издевки голос Мати-иностранца, — когда сверкающая гладкая лента шоссе проляжет между Москвой и Калугой, где в тиши, знаю об этом профессионально, обитает пророк.
— В Калуге пророки не живут, — отозвался другой голос. — Кому он там будет проповедовать?
— В Калуге, в тиши своего кабинета, обитает пророк будущей эры межпланетных путешествий Константин Циолковский!
Голос Мати был сыт, молод и полон желания рассмеяться.
— Такие опасны, — вдруг сказала шепотом Марта. — От их энтузиазма уходят по этапу целыми институтами.
Лидочка кивнула.
Казалось, что грузовик ехал уже много часов, — Лидочка выпростала из-под длинного рукава кисть, чтобы поглядеть на часы. Часы, подаренные в восемнадцатом году паном Теодором, были швейцарскими, фирмы «Ролекс», цифры на циферблате явственно светились ясно-зеленым фосфорным цветом. Лидочка тогда не хотела их брать — такие большие, мужские, грубые, но Теодор сказал: «Пловцам во времени полезно иметь надежные часы». Было без шести минут восемь.
— Еще долго ехать? — спросила Лидочка.
— Разве разберешь?
Но соседка сзади услышала вопрос и громко произнесла:
— Кто знает, сколько осталось ехать?
Поднялся бестолковый спор, мужчины подвинулись к задней части фургона, стали выглядывать, чтобы понять, где же едет грузовичок. От того, что Крафт спорила с Максимом Исаевичем и обладательницей капризного женского голоса, проехали ли уже деревню Беляево или не доехали еще до села Теплый Стан, ничего не менялось. Вокруг была темень, а если и попадалась деревня, то как угадать ее имя по тусклым огонькам?
Матвей Ипполитович принялся властно стучать в стену кабинки, шофер притормозил, скатившись к обочине, потому что решил, что кому-то надо покинуть машину по нужде. Когда же узнал, в чем дело, то вместо ответа выругался так, что было слышно в кузове, и рывком двинул машину дальше. Лида сидела мышонком, она испугалась, что сейчас начнется выяснение, кто же начал этот опасный разговор. Когда выяснится, что виновата Лида, ее высадят в диком подмосковном лесу, не доезжая до села Теплый Стан. Тут Лиде стало себя безмерно жалко, а Максим Исаевич, который сидел у заднего борта, оттеснив Марту и Лидочку, замахал руками и закричал, что видит огни. По общему согласию было решено, что огни принадлежат Беляеву.
— Теперь держитесь! — прокричал Матя голосом массовика-затейника. — Последние две версты изготовлены специально, чтобы мы с вами нагуляли аппетит.
— Никто не хочет работать, — сердито сказала Марта Ильинична. — Можно платить миллионы, а дорожники будут играть в карты или подводить итоги соревнования.
— Соревнование — становой хребет нашей пятилетки, — сказал Максим Исаевич громче, чем надо, никто ему не стал отвечать, а грузовик продолжал путешествие к подмосковному имению князей Трубецких, вовсе не добровольно передавших его большевикам вместе с картинами, конюшнями и семейным привидением учительницы музыки, утопившейся лет пятьдесят назад от несчастной любви к дяде последнего владельца, убитого, в свою очередь, где-то под Ростовом ревнивцем, жену которого князь, несмотря на свой почтенный возраст, неосторожно соблазнил.
Грузовик снизил скорость, начал сворачивать с шоссе, и его опасно зашатало по ямам. Кто-то в темноте коротко взвизгнул. Мотор отчаянно заревел. Лида увидела белую оштукатуренную кирпичную арку, которая выплыла из-за спины и, пошатываясь и уменьшаясь, растворилась в темноте.
Лидочка подумала, насколько удивительна скорость деградации предметов и даже целых местностей, попавших под власть большевизма. Например, дорогу к имению Трубецких, наверное, держали в порядке. Если у нас на дворе тридцать второй год, значит, прошло пятнадцать лет с последнего ремонта дороги — всего-то две версты от Калужского шоссе, — но дороги как не бывало. Грузовик ухал, съезжая в очередную яму, скользил к кювету, опасно накренившись, замирал над ним, собирался с силами, выползал вновь на середину дороги и несколько метров проносился, словно железный мяч по каменной терке, затем подпрыгивал на неожиданном пригорке и снова ухал в реку, прорезавшую многострадальную дорогу.
Люди в грузовике совершали невероятные движения руками и всем телом, чтобы не вылететь наружу или не свалиться под ноги своим спутникам, они цеплялись друг за дружку, за деревянные скамейки, за задний борт и занозистые стойки, они даже потеряли способность проклинать Академию наук, которая никак не соберет денег для ремонта своей дороги, Трубецких, которые могли бы отремонтировать дорогу лет на сто вперед, и, конечно же, шофера, который мог бы ехать осторожней, но, видно, торопится к своей бабе, что ждет его за столом у бутылки рыковки.
Когда Лидочке уже казалось, что еще минута такой пытки и она добровольно выскочит из грузовичка и отправится дальше пешком, вдруг грузовик стал заметно сбавлять ход, притом пронзительно и жалобно гудеть — Лида впервые услышала его голос.
Никто в кузове не проронил ни слова, но все напряженно слушали, стараясь сквозь шум мотора и плеск воды услышать нечто новое — и тревожное. Наконец, не выдержав, кто-то нервно спросил:
— Что? Приехали?
— Да что вы говорите! — возмутился Максим Исаевич. — Мы еще и версты не проехали — неужели непонятно?
— Я боюсь, — сказала Марта Ильинична, которая также была старожилом, — что разлился нижний пруд.
— Как так разлился? — обиделся за пруд Максим Исаевич. — Что вы хотите этим сказать?
— А то и хочу, — сказала Марта Ильинична, — что вышел из берегов.
— А зачем шофер гудит? — спросил Матвей Ипполитович. — Чтобы пруд вошел обратно в берега?
Никто не засмеялся, потому что, перебрасываясь фразами и слушая эту пикировку, все продолжали ловить звуки снаружи.
Грузовик дернулся и замер. Сразу стало в сто раз тише — остался только шум дождя, а его можно было игнорировать.
Хлопнула дверца кабины. Захлюпала вода. Ясно, что шофер вышел наружу.
— Что там у вас? — спросил у кого-то шофер.
Ему ответили. Но невнятно.
Максим Исаевич высунулся из кузова головой вбок — кто-то невидимый его поддерживал, чтобы не вывалился.
— Там авто, — сказал Максим Исаевич, забравшись обратно. — А вы говорите — наводнение!
— Я ничего не сказала, — возразила Марта Ильинична. — Я только высказала предположение.
— Тише! — крикнул Матвей Ипполитович Шавло. — Дайте послушать.
— Ничего интересного, — сказал Максим Исаевич, как человек, вернувшийся с покорения Эвереста или Южного полюса и имеющий моральное право утверждать, что там лишь снег, только снег и ни одного дерева!
— Вам неинтересно, — огрызнулся Матя, — а если та машина застряла так, что вам ее не вытащить, нам придется здесь ночевать!
— Что? Что вы сказали?
И поднялось невероятное верещание — потому что все устали, все так надеялись, что через несколько минут окажутся в тепле дворца, и тут — новая опасность!
Шум не успел еще стихнуть, как послышались шаги по воде, и над задним бортом появилась черным кругом голова шофера.
— Так что, граждане отдыхающие, — сказал он и сделал драматическую паузу. И все молчали, потому что неловко прерывать Немезиду. — Там мотор стоит, въехал по уши в канаву. И нам его не объехать… Понятно?
Никто не ответил — все знали: продолжение следует.
— Так что пока не сдвинем, не толкнем то есть, — дальше не поедем.
— А мы при чем? — громко и высоко крикнул Максим Исаевич.
— А вы толкать будете, — сказал шофер. — Если, конечно, уехать хотите.
— А если нет?
— А если нет — добро пожаловать с вещичками полторы версты по воде да в горку. Мое дело маленькое.
— Вы обязались нас доставить до места назначения, — сказала обладательница капризного голоса.
— Это кому я, гражданка, обязывался? — обиделся шофер. — Да я себе место в два счета найду — не то что здесь, в деревне, по лужам ишачить!
— Спокойно, спокойно! — раздался голос Мати Шавло. — Шофер прав. Никто не заставлял нас сюда ехать, и добровольцы на самом деле могут погулять под дождем. Я предпочитаю короткое бурное усилие, а затем — заслуженный отдых! Физическая работа на свежем воздухе — вот основа физкультуры трудящихся!
Говоря так, Шавло, перешагивая через доски-скамейки, добрался до заднего борта, перенес через него ногу, нащупывая упор, и все продолжал говорить:
— А что за авто, скажите, товарищ шофер? Кого понесла нелегкая на легковой машине в Узкое? Неужели никто не сказал этому легкомысленному мальчишке или покрытому сединами отцу семейства, что так себя вести нельзя?
— Сюда ногу ставь, сюда, а теперь опирайся об меня, — слышала Лидочка голос шофера. — Вот так. А машина из ГПУ, точно тебе скажу. Я их по номерам знаю.
— Ну, это совсем лишнее — что же я, должен машину ГПУ, которая, может, приехала арестовывать очередную заблудшую овечку, подталкивать к ее неблагородной цели?
— Матя! — грозно воскликнул Максим Исаевич.
Лида между тем уже стояла у заднего борта.
— Матвей Ипполитович, — сказала она, — дайте руку.
— Прекрасная незнакомка? Я вас с собой не возьму. Вы простудитесь.
— У меня непромокаемые боты, — сказала Лидочка, опираясь пальцами на поднятую к ней ладонь. Она легко перемахнула через борт и полетела вниз, в бесконечную глубину, словно с парашютом, но Матвей поймал и умудрился притом прижать ее к себе, а уж потом осторожно поставить на землю.
— Молодец, девица, — сказал он. — Чувствую за вашей спиной рабфак и парашютную вышку в парке Сокольники. Будь готов?
— Добрый вечер, — сказал человек, подошедший из-за грузовика, — темный силуэт на фоне черных деревьев. — Мне хотелось бы внести ясность как пассажиру авто, которое так неловко перекрыло вам дорогу к санаторию.
Голос у него был чуть напряженный, как будто владелец его старательно и быстро подыскивал правильные слова и при этом решал проблему, как произнести то или иное слово, где поставить ударение. В ближайшие дни Лидочке предстояло убедиться в том, насколько она была права, — восхождение Яна Яновича Алмазова к власти было столь стремительным, что у него не оставалось времени подготовить себя к той роли, которую ему предстоит играть в жизни. Но как только жизнь немного успокоилась, появился досуг. Алмазов не стал тратить его на мещанство, на девиц или пьянки — он работал и учился. Но не алгебре или электрическому делу — он учился лишь тому, что могло помочь ему в общении с людьми, наследственно культурными, знающими с рождения много красивых, значительных слов. Он стал учить ударения в словах и фразах, он занимался географией и историей — настолько, чтобы не попасть впросак. Ян Янович панически боялся попасть впросак в разговоре с интеллигентом, и если такое все же происходило, то горе тому интеллигенту, который своим присутствием, вопросом или упрямством заставил ошибиться товарища Алмазова.
— Добрый вечер, — сказал Матя Шавло, все еще не отпуская Лидочкиной руки, но не помня о ней — встреча с чекистом требовала всего внимания.
Чекист протянул руку Мате и представился:
— Ян Алмазов, тружусь, как вам уже доложили, в ОГПУ. Считаю долгом развеять ваши опасения и сомнения — я никого не намерен арестовывать или обижать, я такой же отдыхающий, как вы, и хотел бы, чтобы вы забыли о моей специальности, хорошо, Матвей Ипполитович?
Матя Шавло вздрогнул, но почувствовала это только Лидочка, которой он касался плечом.
— Вы удивились, как я вас узнал, — засмеялся чекист. — Но вас же многие знают. Вы человек всемирно известный.
— Тогда пошли к вашей машине, — сказал решительно Шавло. — Что с ней случилось?
И он, скользя по глине, поспешил к перекрывшей дорогу машине Алмазова — длинному лимузину, возле которого стоял могучий детина в черной куртке и такой же кожаной черной фуражке — шофер Алмазова.
Лидочка обернулась, удивляясь тому, что никто не последовал их примеру и не спешит вытаскивать из грязи машину чекиста. Шавло, не оборачиваясь, угадал ее мысль, потому что сказал (сквозь дождь его слова донеслись невнятно, и, может быть, Лидочка додумала их):
— Мы с вами не ему идем помогать, а тем, кто остался в грузовике. В этом вся разница.
Лидочка согласилась — на самом деле ей хотелось как можно скорее добраться до теплого санатория и забыть об этой дикой дороге, схожей по трудностям с путешествием Скотта к Южному полюсу.
Тут Лидочка ухнула ногой в глубокую яму, полную черной ледяной воды, и страсть делать исторические сравнения тут же оставила ее.
Пока она, прыгая на одной ноге, пыталась вылить воду из ботика, мимо прошел Алмазов. Его плащ блестел, будто сделанный из черного фарфора. Он гнал перед собой шофера грузовичка. Именно гнал, хотя никакого насилия над тем не производил. Уж больно покорно была склонена голова шофера, а руки были почему-то заведены за спину и сцепились пальцами, будто шоферу уже приходилось так ходить.
— Ну что же вы стоите, товарищи, — сказал чекист. — Навалимся?
Он сделал широкий округлый жест рукой в черной перчатке, призывая народ включиться в выполнение и перевыполнение.
Машина Алмазова попала передними колесами в глубокую промоину в дороге, и ее колеса по ступицы скрылись под водой. Лучше бы что-нибудь под них подложить, но Алмазов был сторонником прямых действий.
Подчиняясь его жестам и крикам, остальные навалились на зад машины. Спутники Лидочки казались ей черными пыхтящими тенями — по пыхтению она угадала, что справа от нее трудится Шавло, а слева — один из шоферов.
Машина чуть покачивалась, но не двигалась с места. Алмазов принялся помогать, напевно восклицая: «А ну, раз! Еще раз! Раз-два, взяли, и-що взяли!»
Они с минуту подчинялись крику и ритмично наваливались на забрызганный грязью зад лимузина, потом Шавло первым выпрямился и сказал:
— Так дело не пойдет.
— А как пойдет? — заинтересованно спросил Алмазов.
— Надо сучьев под передок наломать, — сказал шофер грузовика.
— Все равно народу мало, — сказал Шавло. — Не справимся. Поднимайте людей.
— Почему? — вдруг озлилась Лидочка, хотя понимала, что следовало подчиниться инстинкту самосохранения. — Если вместо того, чтобы командовать, вы тоже испачкаете ручки, машина, может, и сдвинется.
Чекист не рассердился.
— Порой важнее иметь человека, умеющего командовать, — ответил он, — чем стадо неорганизованных дикарей.
Дождь припустил с новой силой.
Алмазов постучал по дверце лимузина. Дверца тут же приоткрылась, и оттуда вылезла палка, которая замерла под углом вверх, будто некий охотник вознамерился стрелять из машины по пролетающим уткам. Затем раздался громкий щелчок, и палка превратилась в раскрывшийся зонт. Под прикрытием зонта из машины выглянула ножка в блестящем ботике и светлом чулке, ножка замерла над лужей, затем из машины донесся отчаянный писк, и ножка соприкоснулась с водой, которая фонтаном взмыла вверх, обдав шелковые чулки и край юбки существа женского пола, которое таким образом вылезало из машины.
— Этого еще не хватало! — возмутилась Лидочка. — Мы толкаем, а ваши друзья… сидят. Если бы я знала!
Алмазов ничего не ответил, а маленькая женщина отважно кинулась вброд через лужи к чекисту и, вознеся зонтик над его головой, словно бы он был китайским богдыханом, пропищала нечто умиленное.
— Немедленно в машину! — приказал Алмазов, который, как показалось Лидочке, и сам на секунду растерялся от неожиданного явления. — Альбина, вы простудитесь!
Алмазов взял свою спутницу под руку и повлек к машине. Остальные стояли под дождем, всматриваясь в темноту, ибо, стоило человеку исчезнуть из конусов, образованных светом фар машины или грузовика, он становился невидимым.
Заталкивая попискивающую даму в лимузин и отказываясь принять из ее рук большой зонт, Алмазов крикнул своему шоферу:
— Жмурков, пойди к грузовику, вытащи оттуда всех мужчин. А то мы до утра прочикаемся.
Алмазов громко хлопнул дверцей лимузина, затем запустил руку в глубокий карман прорезиненного плаща и достал оттуда электрический фонарь в форме длинной трубки с лампочкой на конце. Он включил фонарь и пошел вокруг лимузина, будто только сейчас ему пришла в голову мысль убедиться в том, насколько серьезно положение его автомобиля.
Лидочке вдруг все надоело. Как будто то, что здесь происходило, было направлено именно против нее. Угадав ее движение, Матя Шавло схватил ее за руку и удержал.
— Потерпим, — сказал он, — и будем относиться с юмором к таким коллизиям.
— Юмора не хватает, — сказала Лидочка.
— Ваш друг прав, — сказал Алмазов, вынырнувший из-за лимузина. Он имел дьявольскую способность все слышать, даже если говорившие находились от него на обратной стороне Земли. — Терпение и еще раз терпение. Только так мы достигнем своих высоких целей. А цель у нас простая — освободить дорогу для грузовика. К сожалению, моему мотору дальше не проехать. — Тут же он сменил тон, как будто один человек ушел, а другой, хамский, занял его место: — Жмурков, тебя что, за смертью посылать? Где наша ученая рабочая сила?
— Идем! — откликнулся Максим Исаевич, возглавлявший небольшое научное стадо, которое продвигалось будто бы по Дантову аду, то попадая в свет фар, то исчезая в прорезанной дождевыми струями темноте. Если возмущение и владело этой группой людей, то, вернее всего, оно было истрачено еще в машине, когда властью Алмазова их вытягивали под дождь, на холод, а сейчас все молчали, бунтовать было бессмысленно — все уже знали, чью машину надо стаскивать с дороги.
— Попрошу минуту внимания, — сказал Алмазов, поправляя фуражку, с козырька которой срывались тяжелые капли. — Женщины толкают автомобиль сзади, мужчины приподнимают передний бампер, чтобы не повредить мотор. Как только машина окажется на обочине, все свободны. Задача ясна?
Не дожидаясь ответа, он отошел к передку машины и принялся загонять в глубокую канаву несчастных своих рабов во главе с Максимом Исаевичем и очкастым молодым человеком, сидевшим в грузовике позади Лидочки.
План Алмазова удался на славу — в считаные минуты продрогшие, а потому горевшие страстью к труду ученые развернули черный лимузин, чтобы не мешал проехать грузовику, и, отпущенные Алмазовым на волю, кинулись под защиту фанерного потолка своего автобуса. Лидочка шла последней. В отличие от остальных она промокла насквозь, и ей нечего было спасать. К тому же ей стало любопытно, не забудет ли Алмазов свою спутницу.
Нет, он ее не забыл. Сам открыл дверцу лимузина, велел ей выйти. Пока женщина раскрывала зонтик и попискивала, вытаскивая из машины свой баул, Алмазов давал указания шоферу, оставшемуся у машины, чтобы тот никуда не отлучался, — Алмазов по телефону вызовет ему помощь. Тем временем остальные пассажиры грузовика уже влезли в кузов, спрятались от дождя, задержалась лишь Лидочка, ведь она все равно промокла. Незамеченная, она увидела, как Алмазов повлек было свою даму к кузову, но она вдруг тихонько жалобно заверещала. Выслушав эти звуки, Алмазов пошел не к кузову, а к дверце кабины и решительно отворил ее. Оттуда на него воззрился согбенный профессор Александрийский.
— Освободите, пожалуйста, место, — вежливо, но решительно заявил чекист.
— Простите? — послышался скрипучий неприятный голос Александрийского. — К сожалению, не имею чести быть с вами знаком…
Слова Александрийского были неразборчивы, в ответ Алмазов плевался краткими приказами, Лидочка хотела объяснить чекисту, что профессор болен, она ринулась к машине, но поскользнулась и со всего размаха уселась в лужу, а когда поднялась, то увидела, что мимо нее проходит, не глядя по сторонам, Алмазов, ловко и быстро подтягивается, переваливается через задний борт в кузов и весело, громко, перекрывая дождь, кричит:
— А ну, трогай!
Голоса под фанерным кузовом подхватывают крик, машина послушно катится вперед, набирая скорость.
Лидочке надо было кинуться следом и закричать — они наверняка бы остановили машину — ведь забыли ее по недоразумению, от растерянности и страха — еще минута, и должна спохватиться Марта Ильинична. Но Лидочка не кинулась, не закричала, потому что в этот момент увидела человека, который стоял, являя собой вопросительный знак, он опирался обеими руками на трость, согнувшись и натужно кашляя.
Лидочка не сразу сообразила, что это — Александрийский. Стоит под дождем темная человеческая фигура и кашляет, но тут же она поняла: Алмазов попросту вытащил старика из кабины, чтобы освободить место для своей дамы.
— Это вы? — спросила почему-то Лидочка и потом уже побежала за грузовиком, крича: — Стойте! Стойте! Остановитесь немедленно!
Но задние красные огоньки грузовика уже растаяли в ночи, и гул его двигателя слился с шумом дождя.
Лидочка подбежала к Александрийскому — тот перестал кашлять и старался распрямиться.
— Вам плохо?
Тот ответил не сразу, сначала он все же принял почти вертикальное положение.
— А вы что здесь делаете? — спросил он.
— Меня забыли. Как и вас. — Лидочка улыбнулась, как ни странно, обрадованная тем, что она не одна на этой дороге и Александрийскому не так уж плохо, — вот и он улыбнулся.
Александрийский сделал шаг, охнул и сильнее оперся о палку.
— Беда в том, — сказал он медленно и отчетливо, — что, падая из машины, я подвернул ногу. Мне еще этого не хватало.
— Больно? — спросила Лидочка.
— Вот именно что больно, — сказал профессор.
— Я вам помогу дойти.
— Вы здесь впервые?
— Не бойтесь, — сказала Лидочка. Она старалась разговаривать с Александрийским как с маленьким — он был так стар и слаб, что мог упасть и умереть, его нельзя было сердить или расстраивать. — Мы обязательно найдем это Узкое — я думаю, что совсем немного осталось.
— Вы совершенно правы, — сказал Александрийский, — тут уже немного осталось. Но я боюсь, что мне не добраться.
— Это еще почему?
— А потому, что за плотиной начнется подъем к церкви, а я его и раньше одолеть без отдыха не мог. Так что придется вам, дорогая девица, оставить меня здесь на произвол судьбы и, добравшись до санатория, послать мне на помощь одного-двух мужиков покрепче, если таковые найдутся.
— А вы?
— А я подожду. Я привык ждать.
— Хорошо, — догадалась Лидочка. — Если вам трудно идти, то забирайтесь в машину и ждите меня там.
— Это разумная мысль, и в ней есть даже высшая справедливость, — согласился Александрийский. — Если меня выбросил на улицу хозяин этой машины, то она должна дать мне временный приют.
— А что он вам сказал? — спросила Лидочка, поддерживая Александрийского под локоть и помогая дойти до лимузина.
— Он сказал, что я должен уступить место даме. А когда я отказался, сославшись на мои болячки и недуги, он помог мне выйти из машины.
— Это хамство!
— Это принцип современной справедливости. Уважаемый Алексей Максимович сказал как-то: если враг не сдается, его уничтожают. Он, лукавец, очень чутко чувствует перемены в обстановке. Мне не хотелось бы попасть во враги человеку в прорезиненном плаще. Это Дзержинский?
— Что вы говорите? Дзержинский умер!
— Как, по доброй воле? Или его убили соратники?
— А я не сразу поняла, что вы шутите.
Дверцы в лимузин были закрыты. Шофера не видно.
— Эге! — сказала Лидочка. — Кто в домике живой?
— Никакого ответа, — добавил Александрийский, может быть, цитируя «Тома Сойера».
Лидочка потрогала ручку дверцы, ручка была холодной и мокрой. Она чуть-чуть подалась, и затем ее застопорило.
— Эй! — рассердилась Лидочка. — Я уверена, что вы нас видите и слышите. Так что не притворяйтесь. Вы видите, что на улице по недоразумению остался пожилой человек. Он может простудиться. Откройте дверь и впустите его, пока я сбегаю за помощью. Вы меня слышите?
Никакого ответа из машины не последовало.
— Послушайте, — сказала Лидочка. — Если вы сейчас не будете вести себя по-человечески, я возьму камень и стану молотить им по вашему стеклу, пока вы не сдадитесь. Вы не можете быть таким бессердечным, когда человек страдает.
Дверца машины распахнулась резко и неожиданно, словно ее толкнули ногой. Хоть глаза Лидочки давно уже привыкли к темноте, тьма в машине была куда более густой, чем снаружи, и она скорее угадала, чем увидела, что там, скорчившись, сидит закованный в кожу шофер Алмазова, выставив перед собой револьвер.
— А ну, давай отсюда! — заклокотал злой и скорее испуганный, чем решительный, голос из автомобильной утробы. — Долой, долой, долой!
— Да вы что! — закричала Лидочка и осеклась, потому что слабые, но цепкие пальцы Александрийского вцепились ей в рукав и тянули прочь от машины.
— Считаю до трех! — крикнул из машины шофер. Чтобы не свалить Александрийского, Лидочка была вынуждена подчиниться ему и отступить. На секунду мелькнули растопыренные пальцы, которые потянули на себя дверцу машины. Дверца хлопнула, и стало тихо — как будто скорпион сам себя захлопнул в банке и ждет, кто сунет руку, кого можно смертельно ужалить.
— Он сошел с ума, — сказала Лидочка.
— Ничего подобного. Ему страшно, — сказал Александрийский. — Он остался совсем один, и ему кажется, что вокруг враги. А мы с вами хотим захватить государственную секретную машину и умчаться на ней во враждебную Латвию.
— Вы уже промокли?
— Не знаю, пожалуй, пока что только замерз.
— Давайте пойдем отсюда.
— Попытаемся. В любом случае оставаться здесь опасно. В любой момент шофер может открыть огонь по белополякам.
Вдруг Лидочке стало смешно, и она сказала:
— Даешь Варшаву!
Александрийский старался не сильно опираться о руку Лидочки, но совсем не опираться он не мог, и, хоть был очень легок и стеснялся своей немощи, получалось, что Лидочка тащит старика по скользкой дороге под черным дождем, что вела прямо вперед между стенами деревьев. Лидочка обернулась, лимузин Алмазова можно было угадать только по отблеску черного металла.
Шагов через триста Лидочка остановилась. Александрийский ничего не сказал, но Лидочка почувствовала, что он уже устал, — по давлению его горячих пальцев на ее руку, по тому, как он реже и тяжелее переставлял трость.
— Если вам не холодно, давайте передохнем, — сказала Лидочка.
— Давайте, — согласился Александрийский. — Скоро дорога начинает подниматься — это самое трудное.
— Выдюжите? — спросила Лидочка, стараясь, чтобы ее вопрос звучал легко, как обращение к малышу.
— Постараемся, — сказал Александрийский. — У меня, простите, грудная жаба.
— Ой, — сказала Лидочка, которая знала о такой болезни только понаслышке и с детства боялась этих слов. Что может быть страшнее для живого детского воображения, чем образ скользкой мерзкой жабы, сидящей в груди у человека и мешающей ему дышать.
— К сожалению, — продолжал Александрийский, — после прошлогоднего приступа у меня в сердце образовалась аневризма, это ничего вам не говорит, но означает, что я могу дать дуба в любой момент — стоит сердцу чуть перетрудиться.
— Негодяй, — сказала Лидочка, имея в виду чекиста.
Профессор понял ее и сказал:
— Пойдемте, моя заботница, а то вы совсем закоченеете. Как вас, простите, величать?
— Лида. Лида Иваницкая.
— Тогда, чтобы не скучать, вы мне расскажите, кто вы такая и почему вас понесло в это богоспасаемое Узкое в такое негуманное время года.
Лидочка чуть приподняла локоть, чтобы Александрийскому было сподручнее опираться, и рассказала старику, как ее уважаемый шеф Михаил Петрович Григорьев, с которым она трудится в Институте лугов и пастбищ, составив атлас луговых растений, наградил ее путевкой в Узкое за ударное и качественное завершение работ.
— Значит, вы ботаник? — спросил Александрийский. Он говорил медленно, потому что на ходу ему трудно было дышать.
— Нет, я художник, но плохой, — призналась Лидочка. — Но у меня хорошо получаются акварели и рисунки тонких вещей — например, растений. И мне нравится такая работа.
— Это интересно. Я любил рассматривать старые атласы.
— Если в типографии не обманут, это будет хороший атлас. Красивый. Я вам подарю.
— Спасибо, — сказал профессор, — я постараюсь дожить. — Он засмеялся и оттого закашлялся. Пришлось остановиться и переждать, пока он отдышится. Лидочка решила больше не смешить старика. А то еще умрет. Ей было холодно. Просто било от холода, и надо было эту дрожь скрывать от Александрийского.
Впереди заблестела вода — по обе стороны дороги.
— Пруды, — сказал Александрийский. — Здесь система прудов, они устроены каскадом. Через весь парк. Только теперь они запущены… Простите, Лида, но я попросил бы вас остановиться — мне что-то нехорошо.
— Конечно, конечно. — Лидочка испугалась, потому что не знала, что делать с человеком, у которого грудная жаба, и ей стало страшно, что он может умереть, — он был такой субтильный, хрупкий…
Они остановились перед каменными столбами ворот; сами ворота из железных прутьев были распахнуты и покосились — видно, их давно никто не закрывал.
От ворот дорога круто шла вверх.
— Лучше всего, если вы, Лидия, оставите меня здесь, — с трудом произнес Александрийский. — Я обопрусь об этот столб. И буду терпеливо ждать помощи. Вам меня в эту гору не втащить.
— Нет, что вы! — возразила Лидочка, но она уже понимала, что старик прав. — Я вам дам мое пальто, — сказала она. — Вы его накинете на голову и плечи и будете дышать внутрь. Так значительно теплее.
— Не надо, вам оно нужнее.
— Я все равно побегу, — сказала Лидочка. — И не спорьте со мной.
Но ей не удалось исполнить свое намерение, потому что наверху, на вершине подъема, куда стремилась дорога, сверкнул огонек. Рядом с ним второй — они раскачивались, будто были прикреплены к концам качелей.
— Смотрите! — воскликнула Лидочка. — Это люди. Это нас ищут, да?
— Я хотел бы надеяться, — сказал Александрийский с неожиданной тяжелой злостью, — что кто-то спохватился. И даже послал за нами сторожа.
— Эй! — закричала Лидочка. — Идите сюда!
— Эй-эй! — отозвалось сверху, и дождь не смог поглотить этот крик. — Потерпите! Мы идем!
И еще через минуту или две донесся топот быстрых крепких ног — с горы бежали сразу человек десять. Никак не меньше десяти человек, хотя, конечно же, Лидочка в мелькании фонариков и «летучей мыши», которую притащил молодой человек с красивым лошадиным лицом, не могла сосчитать или даже увидеть толком всех, кто прибежал за ними из санатория.
Шавло, большой, теплый, принявшийся согревать в ладонях совсем закоченевшие пальцы Лидочки, сбивчиво объяснял, почему помощь не пришла сразу, а его перебивала Марта, которая держала зонтик над головой Александрийского. Оказывается, когда грузовик тронулся, Марта почему-то решила, что Лидочку поместили в кабину, потеснив Александрийского, — почему она так подумала, один Бог знает. А Шавло вообще был убежден, что Лида сидит в грузовике у заднего борта и потому ему не видна. А что касается Александрийского, то абсолютно все были убеждены, что он благополучно восседает в теплой кабине.
Каково же было всеобщее удивление, когда по приезде в Узкое обнаружилось, что в кабине находится подружка чекиста Алмазова, а ни Александрийского, ни Лидочки в грузовике нет. Алмазов вел себя нагло и утверждал, что попросил Александрийского перейти в кузов, потому что его подруга Альбина — актриса и вынуждена беречь голос. А когда Марта возмущенно заявила, что Александрийский тяжело болен, Алмазов лишь пожал плечами и ушел. Грузовик к тому времени успел умчаться в гараж, так что добровольцы во главе с Мартой отправились спасать Александрийского и Лидочку пешком.
Лидочка была так растрогана появлением шумной компании спасателей, что не смогла удержать слез; Шавло заметил, что она плачет, и стал гладить ее по мокрому плечу и неловко утешать. Марта отстранила его, тут же вмешался толстый Максим Исаевич, который сказал, что у него две дочки на выданье и он знает, как успокаивать девиц, а Александрийский ожил и стал рассказывать, как Лидочка спасала его. Никто не произнес имени Алмазова и не сказал ни слова упрека в его адрес. Правда, все смеялись, когда Александрийский, задыхаясь, поведал, как Лидочка пыталась спрятать его внутрь лимузина, а шофер из ОГПУ готов был отстреливаться, чтобы не пустить их в машину.
Тем временем Шавло и молодой человек с лошадиным лицом, который представился Лиде как поэт Пастернак, сплели руки, как учили в скаутских отрядах, чтобы Александрийский мог сидеть, обняв руками своих носильщиков за шеи. Всем было весело, и Лидочка тоже смеялась, потому что все изображали караван, который идет к Эльдорадо. Дорога в гору была очень крутая, и Шавло с Пастернаком выбились из сил, но не хотели в том признаться. На полдороге их встретили молодые, похожие друг на друга братья Вавиловы — один физик, второй биолог, которого Лидочка знала. Ему очень нравились Лидочкины акварели, и он уговаривал ее уйти к нему, но Григорьев сказал, что только через его труп. Братья Вавиловы сменили Шавло и Пастернака.
Еще пять минут, и у высокой крепкой белой церкви подъем закончился. Справа, за открытой калиткой, голубым призраком, открывшим множество желтых глаз, лежала двухэтажная усадьба с центральным портиком. Справа от них был подъезд, к которому вела дорожка, по сторонам на столбах горели электрические фонари.
Высокая дверь в дом была открыта. За ней толпились встречающие.
Казалось бы, событие не весьма важное — забыли по дороге двух отдыхающих. Но почти все обитатели Санузии в той или иной степени приняли участие в их спасении. И дело было не столько в Лидочке и профессоре, как в возможности безобидным поступком противопоставить себя чекисту и его дамочке. Шла мирная политическая демонстрация, и если Алмазов увидел ее и понял ее значение — виду он не подал.
Еще минуту назад была глубокая ночь, была пустыня и невероятное одиночество, словно Лидочка вела Александрийского через полуостров Таймыр.
И вдруг — словно поднялся занавес!
Тяжелая дверь отворилась им навстречу.
За дверью, из которой пахнуло теплом и вкусным запахом чуть подгоревших сдобных пышек, толпились люди, видно, волновавшиеся за их судьбу. Полная кудрявая рыжая женщина в белом халате взволнованной наседкой накинулась на Александрийского, и его тут же понесли, хоть он хотел стать на ноги и сам идти, направо, где за двустворчатыми дверями горел яркий свет и был виден край зеленого бильярдного стола, а Лидочка попала в руки другой медички — курносой, маленькой, с талией в обхват двумя пальцами. Одной рукой она стащила с Лидочки промокшую и потерявшую форму черную шляпку, которую и без того пора было выкинуть, другой — словно опытный птицелов — накинула на нее махровую простыню, точно такую, как была дома, в Ялте, и забылась, как и многие другие удобные и приятные для жизни вещи. Потерявшую возможность видеть и слышать Лидочку тут же куда-то повели, она чувствовала, как поскрипывает паркет, затем началась лестница. От простыни пахло лавандой. Скрипнула дверь…
Простыня съехала, и Лидочка зажмурилась от яркого света. Она была в небольшом, узком врачебном кабинете — вдоль стены низкая койка с валиком вместо подушки и клеенкой в ногах. Возле нее табурет, а дальше, к окну, стол с толстым, исписанным до половины, в черном коленкоре журналом.
— А ну немедленно ложитесь! — весьма агрессивно приказала девица Лидочке, девица была не уверена в себе и боялась неповиновения.
— Зачем мне ложиться? — спросила Лидочка, стараясь не сердить сестричку, которой при свете оказалось не более семнадцати. — Я совершенно промокла. Лучше скажите мне, в какой комнате я буду жить, и я переоденусь.
— Но Лариса Михайловна сказала, что вы должны вначале подвергнуться медицинскому осмотру.
— Разве обязательно для этого быть мокрой?
Сестричка тяжело вздохнула и сказала:
— Может, таблетку аспирина примете?
— Я этим займусь! — раздался голос от двери. Там стояла Марта Ильинична, которая тут же вызволила Лидочку из рук сестрички Маруси. Оказывается, она была не только сестрой милосердия, но и сестрой-хозяйкой, то есть заведовала простынями, наволочками и полотенцами. Из-за ее малых размеров и стремительности движений гостивший здесь не так давно писатель Алексей Толстой прозвал ее сестрой-козявкой, и это прозвище приклеилось к ней на века, и единственным человеком, не подозревавшим о нем, была сама Маруся.
— Он негодяй! Таким руки не подают в порядочном обществе, — сказала Марта Ильинична, как только они вышли в коридор. А так как первое свое путешествие вдоль него Лидочка совершала с простыней на голове, то коридор ей был внове.
В коридоре второго этажа размещались врачебный кабинет, комната для процедур, а также несколько жилых комнат без удобств, наструганных из бывших классных помещений для многочисленных княжеских детей. Здесь отдыхали обитатели «камчатки», то есть простые научные сотрудники, особых заслуг не имевшие и связями в высоких сферах не обладавшие.
С торцов коридор завершался лестницами. Одна из них вела в прихожую и к выходу на первом этаже, вторая, служебная, узенькая, — на кухню. В том же коридоре находились две туалетные — мужская и женская, — по утрам возле них выстраивались небольшие очереди, что напоминало всем о московской жизни в коммунальных квартирах, от которых никуда не денешься даже в покинутом князьями подмосковном дворце. Оказывается, достаточно пятнадцати лет, чтобы и княжеские покои под влиянием строящегося социализма стали покоями коммунального типа.
Марта Ильинична отворила дверь и подтолкнула Лидочку вперед, чтобы та рассмотрела их комнату.
Комната была так узка, что две кровати, умещавшиеся в ней, стояли не друг против друга, а вдоль одной из стен. Марта сказала:
— Как ты понимаешь, у меня перед тобой преимущество, как возрастное, так и по стажу. Моя кровать ближе к окну, а твоя — к двери. Надеюсь, не возражаешь!
Лидочка не ответила. Она была счастлива, что ее кровать стоит ближе к двери, — она не была уверена, что смогла бы пройти пять шагов, чтобы добраться до дальней кровати, — а два шага до ближней она одолела и рухнула на кровать, возмущенно взвизгнувшую всеми своими старыми пружинами.
— Ты сама снимешь ботики или тебе помочь? — спросила Марта.
— Сама, сейчас… — Лидочка понимала, что первым делом надо снять ботики, но наклониться… нет, это выше человеческих сил!
Тогда Марта быстро присела на корточки и стянула ботики, а потом мокрые чулки. Лидочка пыталась сопротивляться, но Марта лишь отмахивалась.
— Да погоди ты, не суетись, я сделаю это быстрее, — говорила она. — У тебя детей нет? А у меня двое. И каждую осень они прибегают по три раза за день промокшие до ушей. Ничего в этом позорного нет — Александрийский сказал, что ты буквально тащила его в горку на себе. Я должна сказать, что ты совершенно не производишь впечатления героини, но с другой стороны — у меня очень хорошее чутье на людей: ты обратила внимание, что я еще у Калужской заставы тебя начала опекать? Мне же не пришло в голову опекать какую-нибудь идиотку. А ты бы посмотрела, какую мамзель притащил с собой этот жандарм! Ты не возражаешь, что я тебе тыкаю? Я вообще-то не выношу эту коммунистическую манеру — она происходит из дворницкой, но мне кажется, что мы с тобой знакомы уже тысячу лет.
— Ничего, мне даже приятно.
Тут в дверь постучали — вошла докторица Лариса Михайловна — завитая рыжая Брунгильда, которая заставила Лидочку лечь, пощупала пульс, потом велела Лидочке переодеться в сухое, принять горячий душ, а завтра с утра она ее осмотрит.
— Как там Александрийский? — спросила Марта.
— Лучше, чем можно было бы ожидать, — сказала Лариса Михайловна. — Мне кажется, что он даже доволен приключением.
— Ой, — сказала Лидочка, — а мой чемодан?
— Когда ты его в последний раз видела? — спросила Марта. Лидочка совершенно не представляла когда. Но сама судьба в лице Мати Шавло появилась в дверях, чтобы навести порядок, — Матя принес чемодан, который он взял у Лидочки еще в трамвае, и, оказывается, не расставался с ним до самого санатория.
Лидочка наконец-то смогла как следует рассмотреть своего нового приятеля. Конечно же, он был фатом, но фатом добродушным и неглупым — его восточные карие глаза смотрели со всегдашней иронией, к тому же у него были умные губы. Другие люди определяют ум человека по глазам, а Лидочка была уверена, что бывают умные и глупые губы.
Матя готов был остаться в комнате надолго, но Марта его сразу выгнала, и Лидочка была ей благодарна, потому что знала, какое жалкое зрелище она собой представляет — спутанные мокрые волосы, не исключено, что физиономия вся в грязи… от таких женщин мужчины сбегают.
Не успел Матя уйти, как сунулся Максим Исаевич. Ему хотелось принадлежать к тем сферам, где происходят самые важные события. А так как Лидочка оказалась в центре внимания, Максиму следовало находиться поближе к Лидочке. Максима объединенными усилиями удалось выдворить. Правда, как он ушел, Лидочка не помнила — она задремала минут на десять. Ей казалось, что она не закрывала глаз, — и вдруг проснулась от голоса Марты.
— Лучше ты после ужина ложись пораньше, — говорила Марта. — А то сейчас разоспишься и останешься голодной.
— Я не голодная, — ответила Лидочка, раздражаясь на соседку. — Я ничего не хочу.
— Тебе так кажется, а потом ночью накинешься на меня и сожрешь.
— Не накинусь. — Глаза не хотели открываться, но было ясно, что от Марты не отделаться.
Марта присела на стул в изголовье Лидочкиной койки и погладила ее волосы.
— Я бы могла в тебя влюбиться, — заявила она.
Пока она не влюбилась, пришлось открыть глаза. Лампочка под потолком светила тускло, даже не набирая объявленной силы в двадцать пять свечей.
— Ты замужем? — спросила Марта.
— Да.
— Почему такая пауза? Вы в разводе?
— Нет, он уехал. В экспедицию.
— Все понятно, — сказала Марта. Она резко поднялась и отошла к темно-синему окну. Встала спиной к нему, опершись ладонями о подоконник. Она как бы давала Лидочке время и возможность исповедаться. Но Лидочка молчала. В Москве тридцать второго года не стоило откровенничать с незнакомыми. Или со знакомыми. Особенно если у тебя в семье не все благополучно.
— Он геолог? — спросила наконец Марта, не дождавшись исповеди.
— Археолог, — честно ответила Лидочка.
Господи, как он сейчас, где он? Андрею пришлось бежать из Москвы, иначе бы его взяли. Пан Теодор, их с Андреем покровитель, помог Андрею уехать, сказав при том, что у него есть для Андрея важное дело.
И лучше для всех, если Лидочка не будет знать, где скрывается Андрей, что он делает. Потому что, если ты чего-то не знаешь, ты не расскажешь об этом на допросе. Лидочка не стала спорить с Теодором, потому что у нее не было иллюзий. А теперь она ждала Теодора с вестями от Андрея. А в институте скрыла, что замужем, благо у них с Андреем разные фамилии, она — Иваницкая, Андрюша — Берестов.
— Я буду тебе верить, — сказала глубокомысленно Марта. — А знаешь почему?
— Почему?
— Если бы что, тебе бы путевку в Санузию не дали! Здесь такие люди бывают!
Марта наклонила голову по-птичьи, ждала ответа. Лидочка поднялась с постели. Ведь не скажешь ей, что путевка была горящая, досталась Лидочке случайно, потому что не смогла поехать Гордон-Полонская. Фамилию на путевке поправили, директор, благоволивший к Лидочке, написал собственноручно: «Исправленному верить».
Успокоив себя, Марта оставила пост у окна и подошла поближе. Она выкинула из головы проблемы, оставшиеся за пределами Санузии. Или ей показалось, что выкинула.
Всесилие пана Теодора должно иметь пределы. Вера в беспредельность сродни религии, а она, Лидочка, никогда не сотворит себе кумира… Ну что ему стоит приехать! Хотя бы кинуть в ящик открытку. Сколько можно ждать? Она же всю жизнь ждет, и ждет, и ждет…
Марта стояла уже рядом.
Это были чужие люди, так быстро и ловко перевоспитанные советским режимом, словно до него никакой истории не было. И Лидочку порой изумляла забывчивость окружающих. Ведь Марте уже за тридцать, революцию она встретила взрослой, может быть, успела окончить гимназию. Как приятно, наверное, существовать, не помня о прошлом. А завтра уже не будет и сегодняшнего…
— Ты завиваешься или они сами вьются? — спросила Марта. И, не дождавшись ответа, продолжала: — Моя беда в том, что все мои любовники хотели, чтобы у меня вились волосы — как у цыганки. Я похожа на цыганку? По-моему, совершенно не похожа, потому что все цыганки очень грубые и брюнетки, а я натуральная шатенка. В результате я пережгла себе волосы, и они страшно секутся. Хочешь покажу, какие у меня щипцы? Настоящие электрические, заграничные, фирмы «Филипс». Если этот Алмазов меня арестует, оставлю тебе в наследство.
Лидочка устроилась перед зеркалом и стала причесываться.
— А почему он вас арестует? — спросила она.
— Ведь не просто так он сюда приехал? Обязательно с заданием. Впрочем, не бойся, я пошутила, я колдую. Я говорю: ах, меня завтра возьмут! И даже представляю себе, как это случится. И тогда не случается. Никто не приходит. К соседям приходят, а ко мне никогда. А знаешь почему? Потому что мой Миша, это мой муж, я тебя обязательно с ним познакомлю, он главный специалист по автомобилям. Если его арестовать, то завод буквально остановится, а кто пострадает? Они и пострадают. А они не дураки.
Марта замерла с полуоткрытым ртом — ее монолог тоже был частью ритуального колдовства, и ей хотелось, чтобы Лидочка ей поверила. Лидочка сделала вид, что поверила в незаменимость Миши Крафта.
— Скажите, а молодой человек — мужчина, который нес Александрийского, это тот самый Пастернак?
— Кажется, он поэт. Не понимаю, почему им сюда путевки дают! Я очень уважаю Пушкина, но эти современные витии — Маяковские и Пастернаки, — они выше моего понимания. И поверь мне, голубушка, что через десять лет их никто уже не будет помнить.
— Пастернак очень хороший поэт, — сказала Лидочка. Она не любила и не умела спорить, но ей показалось нечестным отдать на растерзание Марте такого хорошего поэта и человека, который под холодным дождем прибежал спасать их с Александрийским. Еще неизвестно, побежал ли бы Пушкин… впрочем, Пушкин бы побежал, он был хороший человек.
— Ты меня не слушаешь? — донесся сквозь мысли голос Марты. — Здесь ты можешь встретить удивительных людей. В Москве ты их только в «Огоньке» или в кинохронике увидишь, а здесь можешь подойти и спросить, какая погода. В прошлый раз здесь был сам Луначарский. Он часто сюда приезжает в субботу и воскресенье. Ты знаешь, он читал свою новую трагедию!
— В стихах? — спросила Лидочка.
Марта не уловила иронии и, сморщив сжатый кудрями лобик, стала вспоминать, как была написана трагедия. И в этот момент ударил гонг.
Звук у гонга был низкий, приятный, дореволюционный. Он проникал сквозь толстые стены и катился по коридорам.
— Ужин, — сообщила Марта голосом королевского герольда. — Восемь часов. Земля может провалиться в пропасть, но гонг будет бить в Узком в восемь ноль-ноль.
— А что у вас надевают к ужину?
— У нас здесь демократия, — быстро ответила Марта. — Но это не означает распущенности. Даже летом не принято входить в столовую с открытой грудью или голыми коленками.
— Сейчас вряд ли это кому-нибудь захочется.
— Ну, что у тебя есть?
— Платье и фуфайка. И еще вторая юбка. — Лидочка открыла чемодан. Чемодан был старенький, сохранившийся еще с дореволюции, возле замочка он протек, и на юбке образовалось мокрое пятно.
Марта дала свою юбку. Она спешила, потому что президент республики Санузии не терпит распущенности. Только попробуй опоздать к ужину!
— И что же случится?
— А вот опоздаешь — узнаешь.
Это было сказано так, что Лидочке сразу расхотелось опаздывать, и она покорно натянула юбку, одолженную Мартой, — они с ней уже составили стаю, в которой главенство принадлежало старшей обезьянке. Она решала, что кушать и когда прыгать по деревьям. Лидочка, как хроменький детеныш, уже поняла, что любая самостоятельность преступна.
Они пробежали коридором, спустились вниз к высокому трюмо и оказались в прихожей — там Лидочка уже побывала сегодня. Прихожая была пуста, если не считать чучела большого бурого медведя, стоявшего на задних лапах с подносом в передних — для визиток.
— Его убил князь Паоло Трубецкой, — сообщила Марта, не сбавляя шага. — В этих самых местах… Не отставай.
Лидочка успела лишь заметить громоздкий комод и вешалку со многими шубами и пальто — Марта увлекла ее дальше, в гостиную, где стояли пианино, и кушетка, и кресла благородных форм, но с потертой обивкой, затем они оказались в столовой — ярко освещенной, заполненной лицами и голосами. Лидочку оглушили крики и аплодисменты — они предназначались им с Мартой. Лидочка смутилась и поняла их как похвалу за совершенные ею на ночной дороге подвиги. На самом деле причина аплодисментов заключалась в ином.
Когда аплодисменты и крики стихли, за длинным, покрытым относительно белой скатертью столом поднялся очень маленький человек — его голова лишь немного приподнялась над головами сидящих.
— Это он наш президент, — прошептала Марта, вытягиваясь, словно при виде Сталина.
— Добро пожаловать, коллеги, — заговорил президент. — Будучи общим согласием и повелением назначен в президенты славной республики Санузии…
— Слушайте, слушайте! — закричал Матя Шавло, изображая британский парламент.
— …Я позволю себе напомнить нашим прекрасным дамам, что гонг звенит для всех, для всех без исключения!
Президент поднял вверх ручку и вытянул к потолку указательный палец.
— От малого греха к большому греху!
Зал разразился аплодисментами, а Марта что-то выкрикивала в свое и Лидочкино оправдание. Пока шла эта игра, Лида смогла наконец рассмотреть зал, куда они попали. Зал был овальным, дальняя часть его представляла собой запущенный зимний сад, а справа шли высокие окна, очевидно, выходившие на веранду. С той стороны зала стоял большой овальный стол, за которым свободно сидели несколько человек, среди них Лида сразу узнала Александрийского и одного из братьев Вавиловых. За вторым, длинным, во всю длину зала, столом, стоявшим как раз посреди зала — от двери до зимнего сада, — народу было достаточно, хотя пустые места оставались. И наиболее тесен и шумлив был третий стол — слева.
— Я намерен был, — надсаживал голос президент Санузии, — выделить дамам места за столом для семейных, потому что там дают вторую порцию компота, но их странное пренебрежение к нам заставило меня изменить решение! — Голос у него был высокий и пронзительный, лицо, туго обтянутое тонкой серой кожей, не улыбалось. Это был очень серьезный человек. — Мой приговор таков: сидеть вам на «камчатке»!
Это заявление вызвало вопли восторга за левым столом.
— К нам, девицы! — закричал знакомый Лидочке Кузькин — аспирант ее Института лугов и пастбищ, где она трудилась над атласом. — К нам, Иваницкая! У нас не дают добавки компота, зато у нас дружный коллектив!
Места для Марты и Лидочки были в дальнем конце стола, и пришлось идти сквозь взгляды и возгласы. Большинство отдыхающих были мужчинами пожилого возраста, даже за столом-«камчаткой», куда усадили наказанных за опоздание женщин, они составляли большинство, так что деление по столам было скорее социальным, чем возрастным. Стол овальный — для академиков, стол «семейный» — для докторов и третий — «камчатка» для случайных и обыкновенных. Осмотревшись, Лидочка увидела, что Матю усадили за столом для семейных.
Подавальщица в белом переднике и наколке, что было совсем уж странно для советской действительности 1932 года, с сухим малоподвижным лицом, вкатила столик, уставленный тарелками с кашей. Появление каши было встречено новой волной криков, словно прибыл состав с манной небесной.
— Натужно, слишком натужно, — сказал Пастернак, сидевший рядом с Лидочкой.
— Даже страшно, — сказала Лидочка.
— Это игра, в которую играют серьезно, — сказал Пастернак. — Представьте себе, вечером после работы расковывают галерных гребцов, они садятся в кружок и устраивают профсоюзное собрание.
Официантка ловко и бесстрастно кидала тарелки с кашей, и они из рук в руки попадали на свои места. Пастернак взял стоявшую на середине стола плетенку с хлебом и протянул Лидочке.
— Спасибо, — сказала Лидочка.
— Вы, наверное, страшно промокли и продрогли, — сказал Пастернак.
Он не хотел показаться вежливым, он в самом деле представлял, как Лидочке было холодно и мерзко в темном лесу.
— А вы прибежали, как красная конница, — сказала Лидочка.
— Конница? — Пастернак улыбнулся, но как-то рассеянно, а Лидочка, затронутая его глубоко запрятанной тревогой, стала крутить головой, потому что еще не видела Алмазова.
— Он еще не приходил, — сказал Пастернак, угадав ее мысль.
— А что делать? — спросила Лидочка.
— Ничего, — сказал Пастернак. — Мы с вами не можем ничего делать, потому что этим доставим неприятности другим людям.
— Кому?
— В первую очередь профессору Александрийскому… Чем меньше мы их замечаем, чем меньше общаемся, тем незаметнее они уйдут.
— Вам хорошо, — сказала Лидочка.
— Мне?
— Вы умеете себя утешать… и обманывать.
— Но ведь нет исхода!
— А если уйти вперед?
— Куда?
— В будущее?
— Оно не будет лучше. Ни за что.
— Не может быть, — сказала Лидочка. — Подумайте, сколько уже выпало на нашу долю — и мировая война, и революция, и гражданская война…
— А голод на Украине еще не кончился, — сказал Пастернак, — и сейчас там умирают дети. Я знаю. Мне рассказывали. А потом будет хуже.
Матя Шавло пытался поймать взгляд Лидочки, а поймав, улыбнулся ей, подмигнул, всем видом показывая право на какие-то особые отношения с Лидочкой. И притом он умудрялся хмуриться, морщить нос, демонстрируя неприятие Пастернака.
Лидочка не была уверена, что может примириться с присутствием чекиста. Она должна будет сказать, сделать нечто принципиальное, чтобы он понял, какой он подонок. Чтобы все поняли.
И тут, как бы в ответ на бегущие в суматохе мысли Лидочки, дверь широко растворилась и четкой походкой, какую позволяют себе при входе в трапезную лишь императоры или полководцы армейского масштаба, вошел Алмазов, рядом с которым семенило воздушное, нежное, как взбитые сливки, создание.
Весь зал молчал. Оборвались разговоры, замерли ложки, занесенные над глубокими тарелками, полными плотной пшенной каши, густо заправленной изюмом. Казалось, должны были вновь загреметь аплодисменты — ведь появились опоздавшие, которых принято было встречать таким образом. Но никто не аплодировал. И все замолчали — было очень тихо, и только с кухни донесся звон посуды и женский голос: «А чего с него, козла вонючего, возьмешь, все равно пропьет». Но никто даже не улыбнулся.
Алмазов отлично почувствовал атмосферу столовой. Атмосферу отторжения, общей безмолвной демонстрации, на какие так способны российские интеллигенты, когда чувствуют свое бессилие и смиряются с поражением, не признаваясь в этом.
Такую атмосферу надо и должно ломать плетью — и Алмазов умел это делать. Недаром он с восемнадцатого года был в ЧК. Но, даже обломав плеть об этих людей, Алмазов ничего бы не добился — ему сегодня не нужна была война.
В полной тишине Алмазов взял под локоть свою спутницу и повел ее, покорную былиночку, к «академическому» столу, за которым, замерев так же, как и все остальные в зале, сидели Александрийский, братья Вавиловы и неизвестный Лидочке старичок.
— Уважаемый Павел Андреевич, — сказал Алмазов, и голос его был напряжен и звенел, будто мог сорваться от волнения. — Мне очень трудно говорить сейчас. Конечно же, мне удобнее и проще было бы попросить у вас прощения приватно, без свидетелей. Но я боюсь, что оскорбление, которое я нечаянно нанес вам, это и оскорбление для всех собравшихся здесь научных работников. Поэтому я счел необходимым принести свои извинения здесь, при всех.
Лидочка удивилась чуть старомодной и гладкой речи Алмазова — словно тот записал свое выступление «перед научной общественностью» на бумажку и вызубрил его перед зеркалом.
Александрийский смутился — он, как и все остальные, никак не ожидал такого хода со стороны всесильного чекиста. Он хотел подняться, начал шарить рукой в поисках трости, но Алмазов быстро сделал шаг вперед и положил ему на секунду руку на плечо — и рука его, видно, была так тяжела, что Александрийский послушно остался на стуле. Это движение руки — властное и рассчитанное именно на то, чтобы придавить Александрийского, прижать его к креслу, — не прошло незамеченным, по крайней мере Лидочка, даже не оборачиваясь, почувствовала, как дернулось крыло носа Пастернака, как поджались негритянские губы.
Все молчали — будто понимали, что продолжение следует. И Алмазов продолжал, но уже глядя не на Александрийского, а обращаясь ко всему залу и начиная улыбаться.
— Поймите меня, товарищи, правильно, — сказал он. — Ночь, дождь, авария, нервы мои издерганы — третью ночь без сна, и тут появляется ваш грузовик. Для себя мне ничего не нужно, но со мной находится слабая болезненная женщина, только что перенесшая воспаление легких, правда, Альбина?
— Да, — пискнула Альбина.
— Я подхожу к грузовику и вижу, что в кабине отлично устроился мужчина средних лет. И на моем месте, наверное, каждый из вас попросил бы незнакомца выйти, чтобы уступить даме место. Правда?
И тут Алмазов улыбнулся — мальчишеской, задорной, заразительной улыбкой. Лидочка никак не ожидала, что его лицо способно сложиться в такую очаровательную улыбку. Смущенно проведя пальцем по переносице, он закончил свою апологию:
— Если бы вы, Павел Андреевич, хоть словом, хоть вздохом дали мне понять, что немощны, что плохо себя чувствуете, неужели вы думаете, что я позволил бы себе такие грубые действия?
И, сказав так, Алмазов замер, приподняв брови в безмолвном вопросе.
Видно, по либретто этого действия Александрийскому следовало кинуться ему на шею и облобызать. Но Павел Андреевич лишь пожал плечами и сказал:
— Садитесь, каша остынет.
Пастернак оценил ответ Александрийского, дотронувшись рукой до локтя Лидочки, и та кивнула в ответ, а Матя со своего стола поднял вверх большой палец — будто был зрителем в Колизее.
Последовала пауза, потому что Алмазов, видно, не мог найти достойного продолжения сцены для себя, но затем он все же собрался с духом и, согнав с лица улыбку, потянул от стола свободный стул рядом с Александрийским и приказал своей Альбине:
— Садись.
Всем было ясно — происходит катастрофическое нарушение всех традиций. В этом имении еще никогда ни один гэпэушник, ни один большевик (если не считать Луначарского, который все же был интеллигентным человеком и писал плохие трагедии) не садился за стол академиков. Вернее всего, Алмазов и не подозревал, какое святотатство он совершает, но не исключено — он знал, что делает, и делал это сознательно, ибо был человеком коварным и особенно ненавидел тех, у кого вынужден был просить прощения.
Усадив свою спутницу, Алмазов намеревался и сам сесть рядом с ней по левую руку Вавилова, а президент Санузии уже вскочил, но не посмел открыть рта. Положение спасла подавальщица с невыразительным лицом, которая громко сказала:
— А вам, товарищ с дамочкой, не сюда — вам тут накрыто, слышите?
И так как никто не удерживал Алмазова, то после короткой заминки, завершенной облегченным возгласом президента: «Там вам НАКРЫТО!», Алмазов пошел к месту за «семейным» столом, за ним вскочила и поспешила Альбина. Когда она проходила мимо подавальщицы, та протянула ей две тарелки с кашей и сказала:
— Вам и вашему.
Девица отнесла тарелки и поставила их перед Алмазовым, который сидел теперь рядом с Максимом Исаевичем и принялся есть, чтобы чем-то заняться.
Постепенно шум возник снова и все усиливался, а особенно стало шумно, когда принесли компот и вкусные пирожки из пшеничной муки с капустой. Таких горячих, свежих, пышных пирожков Лидочка не видела уже больше года, потому что в Москве хлеб давали серый, непропеченный, словно все уже забыли, как три года назад булки продавались в последних частных булочных.
Не доев пирожка, Пастернак попросил прощения, поднялся и, незамеченный, вышел из столовой. Уход его хоть и свидетельствовал о прискорбном факте — известный поэт не увлекся с первого взгляда Лидией Иваницкой, что лишало ее права писать о нем воспоминания, — зато спас ее от опасности увлечься поэтом, что тоже не даст права на воспоминания, и позволил не спеша оглядеться и рассмотреть компанию, в которую ее закинула судьба.
Подавляющее большинство людей, жадно или нехотя поедавших пирожки с жидким чаем, не относились к научной элите, а принадлежали к быстро растущей категории научных работников — старших и младших, — которые оседали в плодящихся с началом пятилеток научных институтах и центрах, нужных для производственных успехов. Эти институты и научные центры стали как поглотителями получивших образование в рабфаках и университетах детей трудящихся и выходцев из провинции и еврейских местечек, так и прибежищем для образованных остатков господствующих классов, которые не желали покидать столицу и устремляться на возведение строек социализма в пустынях и тайге.
Осенью 1932 года, когда Украина вымирала от голода, а эшелоны с крестьянами ползли в Сибирь, когда на ошметках разграбленной деревни правили шабаш пьяные райкомовцы и никчемные подонки, близкая всеобщая гибель уже нависла над милым заповедником по прозвищу Санузия, что означало «Санаторий «Узкое». Завершая первое десятилетие своего существования, санаторий, столь весело и шумно, катаясь на лыжах, играя в волейбол на аллеях княжеского парка, загадывая шарады, танцуя по вечерам в гостиной, проведший двадцатые годы, стал закисать.
И дело не только в том, что на ужин вместо куриного фрикасе стали подавать пшенную кашу да не хватало лампочек, но в общем моральном угасании республики.
Зимой еще ремонтировали и подсыпали снегом пологую горку, ведшую от террасы особняка к среднему большому пруду, чтобы кататься с этой горы на санках и лыжах, но оказалось, что Главакадемснаб не имеет на складе новых лыж, а старые почти все пришли в негодность, так что с тридцать второго года ограничились санками. Еще в тридцатом году в конюшне «Узкого», что располагалась в полуверсте от главного корпуса по дороге к Ясеневу, стояли не только три рабочие лошадки, но и лошади для верховых прогулок, но весной двух забрали в армию, а одну увезли в академический совхоз. И так во всем…
Веселье было обязательным, как обязательной считалась физкультура. Правда, и в этом произошли важные перемены, раньше всем хотелось заниматься физкультурой, все с большей или меньшей охотой выбегали на газон перед дворцом и делали там гимнастические упражнения или бегали, а теперь занятия стали обязательными, и пропустивший занятие, подобно опоздавшему к обеду, становился центром неблагоприятного внимания — его, вроде бы со смехом и шутками, тем не менее безжалостно критиковали и вполне всерьез лишали, к примеру, второго, если оно было мясным, или компота, если он был из свежих фруктов. Потому что здоровье индивида перестало быть его собственностью — на здоровье претендовало государство.
Все эти меры не распространялись на академиков. Еще в конце двадцатых годов академики считались равноправными членами республики, теперь же им самим, за малым исключением, не хотелось участвовать в видимости детских игр. И они предпочитали общаться с себе подобными, может, потому, что им подобные (если это не были академики-нувориши, выскочки из коммунистического университета или с колхозных полей) реже занимались доносами…
Лидочке с ее места было отлично видно, что братья Вавиловы как добрые друзья болтали с Александрийским, затем в беседу вступил седой астроном по фамилии Глазенап. Академикам и дела не было до шума, что издавала «камчатка» и уступавший ей «семейный» стол, за которым сидели не настоящие ученые, а люди, попавшие в Санузию по знакомству, либо будущие академики и директора институтов.
Матя Шавло, сидевший рядом с Алмазовым за «семейным» столом, не смотрел на Лидочку, а склонился к дамочке, привезенной Алмазовым. Он надувал щеки, почесывал усики, напыживался, обольщал, и Лидочке он сразу стал неприятен, может, оттого, что она уже почитала его своей собственностью — тем «своим» мужчиной, какой всегда возникает у привлекательной девушки в доме отдыха и санатории.
Неожиданно для себя Лидочка поняла, что у нее есть союзник — справа от нее с чайником в руке стояла высокая подавальщица с худым большеносым лицом. Не замеченная никем — кто видит официанток? — она смотрела на Матю столь интенсивно и, как показалось Лидочке, злобно, что Лида не могла оторвать от нее взгляда. Без сомнения, подавальщица знала Матвея.
Подавальщица выглядела странно для своей роли: она могла быть монахиней, молодой купчихой из старообрядческой семьи, даже фрейлиной немецкого происхождения — только не подавальщицей в столовой Санузии.
Лидочка хотела обратиться к Марте, которая всех здесь знает, но Марта сидела через два человека, и до нее не докричишься, тем более что она была занята беседой с розовощеким молодцем. Марта непрерывно вещала, а молодец согласно покачивал головой, подобно китайскому болванчику.
Лидочка поднялась с места, подошла к большому самовару, взяла стакан с заваркой, налила туда кипятку, а сама продолжала наблюдать за подавальщицей.
На вид женщине было немного за тридцать — совсем еще не старая, — у нее были бледная, чистая, как будто перемытая кожа лица и забранные под платок каштановые волосы. Серые глаза, ресницы чуть темнее глаз, бледные, неподкрашенные губы — все в лице женщины было в одном тусклом колорите. Женщина не делала попыток себя приукрасить, словно нарочно старалась быть незаметной мышкой, и ей это удалось. Можно было десять раз пройти мимо нее на улице и не заметить. И в то же время чем внимательнее рассматривала Лидочка подавальщицу, тем яснее понимала, что видит перед собой редкое по благородству линий лицо, красота которого не очевидна, будто сама стыдится своего совершенства.
Женщина уловила взгляд Лидочки и быстро обернулась, но не рассердилась и не испугалась, а увидела восхищение во взгляде девушки и в ответ на ее растерянную улыбку — растерянность возникает в момент неловкости, ведь подглядывать плохо, а тебя поймали на месте преступления — чуть улыбнулась и на мгновение прикрыла рот, будто хотела что-то сказать, но раздумала — и Лидочка успела увидеть белизну и красоту ее зубов.
— Простите, — сказала Лидочка.
— Да что вы, пустяки… — Достаточно порой интонации, двух слов, чтобы понять социальное положение человека. Подавая тарелки с кашей или разнося чай, подавальщица старалась говорить и вести себя простонародно — сейчас же она забыла, что надо таиться, — и интонацией выдала себя. В коротком обрывке фразы. И сама поняла, что Лидочка ее разоблачила, а та поспешила успокоить испугавшуюся женщину.
— У вас чудесный цвет лица, — неожиданно для себя заявила Лидочка. Секунду назад она не намеревалась говорить ничего подобного.
— Глупости, — смешалась подавальщица и быстро пошла прочь, но Лидочка понимала, что она на нее не обижена, что отныне они с подавальщицей знакомы. Любая следующая встреча не будет встречей чужих людей.
Марта поднялась и спросила Лидочку, кончила ли та ужинать.
— Какое счастье, — сказала Лидочка, — что можно уходить когда хочешь.
— Это явное ослабление дисциплины, — ответила Марта. — Еще в прошлом году президент республики выгнал бы тебя мерзнуть на берег пруда, если бы ты посмела без спроса встать из-за стола.
В дверях они догнали Александрийского. Он шел еле-еле, опирался на трость. Лобастый Николай Вавилов поддерживал его под локоть. Лидочка услышала слова Вавилова.
— Не надо было вам выходить к ужину. После всех пертурбаций…
— А вам, коллега, — сварливо ответил Александрийский, — не стоит меня жалеть.
Тут Александрийский спиной почуял, что их слушают, и перешел на английский. Английский язык Лидочка знала плохо, да и не хотелось подслушивать.
— Теперь спать? — спросила Лидочка.
Вместо Марты сзади ответил высокий тревожный голос президента.
— Товарищи, граждане республики Санузии! — кричал он. — Не покидайте столовую, не выслушав маленького объявления. Среди нас есть новички, еще не принятые в гражданство республики. Поэтому после ужина властью, врученной мне великими тенями, я призываю всех выйти на вершину холма и оттуда, глядя на Москву, дать клятву верности нашим идеалам.
— Дождик идет! — откликнулся Максим Исаевич. — Ну какие же клятвы при такой погоде.
— Дождь прекратился, — возразил президент. — Я своей властью прекратил его, и с завтрашнего дня наступает чудесная, теплая и сухая погода. Однако на холм идут лишь желающие. Отступники — да пусть им будет стыдно — могут лечь спать в своих берлогах.
— Кино будет? — спросил простодушный курносый парень, деревенская версия императора Павла Первого.
— Сегодня кино не будет, — сказал президент, — кино переносится на завтра, потому что новый заезд сегодня проходил в трудностях.
— Я знаю! — крикнула толстушка в синей футболке с красной звездой на правой груди. — Киномеханик снова запил!
Кто-то засмеялся. Лидочка обернулась, ища глазами подавальщицу. Та убирала со стола грязные чашки и тарелки, но на Лидочку она не посмотрела.
Все участники похода на неведомый Лиде холм прошли прямо в прихожую, где на вешалке висели все пальто. К Лидочке подошел Матя.
— Вы серчаете на меня, сударыня, — сказал Матя, делая жалкое лицо, — не обращаете на меня внимания, будто мы и не знакомы.
Следовало приподнять в немом удивлении брови и отвернуться от ничтожной помехи. Лидочка понимала умом, как следует себя вести, но на практике так и не обучилась.
— Это вы на меня внимания не обращаете, — сказала она, — потому что дружите с Алмазовым.
— Дружба с Алмазовым подобна дружбе кролика с удавом. И вы это знаете.
— Значит, просто подлизываетесь?
— И я не так прост, и он не так прост. Но он мне любопытен. Я встречал его две недели назад, когда сдавал в Президиум отчет о моей стажировке в Италии. Он нас курирует.
— Курирует? — Лидочка не знала такого слова.
— Заботится о нас, следит за нами, выбирает из нас, кто пожирнее, чтобы зарезать на ужин.
— И вы до сих пор живой?
— Какой из меня ужин!
Подошла Марта. Матю она уверенно отстранила, как старого приятеля.
— Не приставай к девушкам, — сказала она. — Лучше скажи, кто то воздушное создание, которое притащил с собой Алмазов?
— А ты его откуда знаешь?
— У каждого есть свои источники информации, иначе в этом вертепе не выживешь.
— По-моему, она актриса. Из мюзик-холла.
— Я сразу почувствовала — птичка невысокого полета.
Матя пожал плечами.
— Может быть, не пойдешь? — спросила Марта у Лиды. — На тебе же лица нет.
— Пройтись по свежему воздуху — только полезно. Усталость в возрасте Лиды — это приятное чувство, которое способствует сохранению осиной талии, — галантно возразил Шавло.
Он помог Лидочке одеться, а Марта спросила:
— А как ее зовут?
— Девицу Алмазова? Ее зовут Альбиной. Ты ревнуешь?
Когда они вышли из дома и пошли налево по узкой, засыпанной чуть ли не по щиколотку желтыми липовыми и оранжевыми кленовыми листьями дорожке, Марта сказала:
— Это старая традиция Санузии — смотреть на ночную Москву.
— Даже когда ее не видно, — сказал Матя. Он был так высок, что Лидочке приходилось запрокидывать голову, разговаривая с ним. Но в комнатах она этого не почувствовала.
Их догнал Максим Исаевич. Он был в расстегнутом пальто, без шляпы и тяжело дышал.
— Вы меня бросили! — заявил он. — Вы меня оставили на растерзание этому занудному президенту.
Матя взял Лидочку под руку. Лидочке это было приятно.
— Если бы я был писателем, — сказал Матя, наклоняясь к Лидочке, — я бы обязательно вставил президента Санузии в роман. Вся его жизнь состоит в пребывании здесь, остальные одиннадцать месяцев — лишь скучный перерыв в его настоящей, бурной, красивой и романтической деятельности в этих стенах. Он рожден быть президентом республики Санузия, и, когда нас всех пересажают или разгонят, он умрет от скуки. Хотя сам же на нас донесет.
— Типун вам на язык! — сказал Максим Исаевич и обернулся, но вблизи чужих не было.
Слева тянулись огороды и тускло светилась оранжерея. Направо дорожка круто скатывалась вниз.
— Если бы не оранжерея и не огород, мы бы здесь бедствовали, как везде, — сказала Марта.
— Академики не любят бедствовать — подсобное хозяйство Санузии на особом положении, подобно подсобному хозяйству Совнаркома, — сказал Шавло.
Лидочка поглядела вниз, куда сбегала пересекающая их путь дорожка. За черными ветвями вдали блестела вода.
— Мы сходим с утра на пруды, — сказала Марта.
— Там благодать для прогулок, — сказал Матвей.
— А здесь в прошлом году нашли мертвое тело, — сообщил Максим Исаевич.
Он показал на вросшее в землю кирпичное сооружение, вернее всего, погреб, какие строили при богатых дворянских усадьбах.
— Меня тут не было, — сказала Марта. — Но говорят, что это был старый князь Трубецкой. Он тайно перешел границу, добрался до Москвы, он хотел достать клад, который Трубецкие зарыли во время революции.
— А почему не достал? — спросила Лидочка.
— Князь взял с собой старого слугу, из местных, чтобы он помог ему копать, — сказала Марта. — Но когда сундук показался из-под земли, старый слуга убил Трубецкого, схватил сундук и хотел бежать.
— И его поймали?
— Да, был такой процесс!
— Ничего подобного, — сказал Максим Исаевич. — Никто никого не поймал. Даже неизвестно, был ли убитый Трубецким. Какой-то бродяга забрался в погреб, а его убили.
— Просто так в погреба люди не забираются, — сказала Марта, ничуть не смутившись. — И тем более просто так их не убивают.
— А ваша версия? — спросила Лидочка. Они стояли возле погреба, дверь в него была полуоткрыта и манила Лидочку: надо было только сделать десять шагов — только десять, — и бездонная темнота подвала схватит тебя в объятия…
— У меня версии нет, — сказал Матвей. — Как вам уже донесли, я в это время находился в вечном городе — Риме.
Мимо прошла группа молодых людей с «камчатки».
— Ждете убийцу? — весело крикнул кто-то из них.
— Пошли, — сказала Марта. — Убийца сегодня не вернется.
Они пошли дальше. Дорожка вела на холм, деревья вокруг стояли пореже. Облака, что быстро бежали по небу, стали тоньше и прозрачней — иногда в просветах возникали звезды. Облака были куда светлее неба. Впереди на покатой спине холма возвышалась геодезическая вышка, похожая на нефтяную. На верхней ее площадке силуэтами из театра теней виднелись фигурки людей. Другие поднимались туда по деревянной лестнице.
— А вы там работали? — спросила Лида у Матвея.
— Да, я год стажировался у Ферми. Это имя вам что-нибудь говорит?
— Нет, — сказала Лидочка. — А оно должно мне что-нибудь говорить?
— Каждому культурному человеку — должно! — сказал Матвей и рассмеялся, чтобы Лидочка не обиделась.
А ей и не было обидно. Ферми, Муссолини — не все ли равно! Но показывать этого Матвею она не стала, а спросила:
— Он фашист, да?
— Он вовсе не фашист, — серьезно ответил Матвей.
— Тогда зачем он живет в фашистском городе?
— Там у него дом и работа.
— Мог бы уехать!
— А зачем? Ему никто не мешает. У него есть свой институт. Его очень уважают.
— За что же его уважают фашисты?
— Он физик, — сказала Марта. — Теперь все великие люди — физики. Самая модная категория.
— Вы категорически не правы, Марта Ильинична! — сказал Максим Исаевич. — Сегодня на первом месте работники искусства. Мы осваиваем марксизм в творчестве.
— Вряд ли стоит этим так смело заниматься, — фыркнула Марта. — Можно шею сломать.
— Нельзя так говорить.
— А вы работник искусства? — спросила Лидочка, желая поддержать Марту.
— Я — театральный администратор. Но я каждый год бываю в Узком и совершенно в курсе всех дел в нашей науке. Я чуть было не поехал в Калугу к Циолковскому — отсюда была экскурсия.
— Лидочка, к счастью, не знает, кто такой Циолковский, — сказал Матвей. — Можете не метать икры.
— Не икры, а бисера, — сказала Лидочка. — И не надо меня подозревать в абсолютном невежестве. Я знаю, что Циолковский поляк.
— Вот видите! — загремел на весь парк Матвей. — Он — поляк! Он всего-навсего — поляк! А вы что кричите?
— Я ничего не кричу, — надулся Максим Исаевич. — Я только знаю, что это великий самоучка, который изобрел дирижабль для путешествия в межзвездном пространстве. Недаром наше правительство обратило внимание на его труды. Вы посмотрите — пройдет несколько лет, и звездолеты Страны Советов возьмут курс на Марс.
— Макс, я порой думаю — ты дурак или хорошо притворяешься? — сказал Матвей.
— Если ты имеешь в виду мои классовые позиции, то учти, что мой отец был сапожником, и у меня куда более правильное социальное положение, чем у тебя.
— Он просто всего боится, — сказала Марта. — Сейчас он боится Лидочку. Он ее раньше не видел и подозревает, что она на него напишет.
— На меня даже не надо писать, — возразил Максим Исаевич, — достаточно шепнуть Алмазову, который специально приехал за мной следить.
— Нет, ты не прав, — сказал Матвей. — Я точно знаю, что это не Алмазов.
— А кто?
— Они никогда бы не обидели тебя такой мелкой сошкой, как Алмазов. Для тебя пришлют Дзержинского.
— А Дзержинский умер! — сказал Максим Исаевич. В голосе его прозвучало торжество ребенка, который знает, что дважды два четыре, а взрослые об этом не подозревают.
— Он не притворяется, — сказал Матвей.
— Вижу, — согласилась Марта.
Лидочка ничего не сказала, но была согласна с остальными.
— А ты бы помолчала, — обиделся Максим Исаевич, обернувшись к Марте. — С твоей фамилией лучше помолчать.
— У меня отличная девичья фамилия — Рубинштейн, — сказала Марта.
— Вот именно!
После этих слов Марта должна была пойти и добровольно сдаться властям, но, так как она не пошла, а стала смеяться и остальные тоже смеялись, Максим Исаевич, которому совсем не было смешно, сделал вид, что желает собрать букет из упавших листьев — мокрых и обвисающих в руках.
По дорожке от прудов поднимался Пастернак, он раскланялся с Лидочкой и ее спутниками. Марта голосом, более оживленным, чем обычно, спросила:
— А разве вы, Борис Леонидович, не пойдете смотреть на Москву?
— Простите, но я не сторонник массовых смотрин, — ответил Пастернак. — Захочу — посмотрю. Но один.
Тут же он улыбнулся, видно, подумал, что мог обидеть Марту своими словами, и добавил:
— Еще лучше в вашем обществе!
— Тогда завтра, как стемнеет! — громко сказала Марта, и все засмеялись.
Через две минуты что-то заставило Лидочку обернуться. Пастернак отошел уже довольно далеко — его высокая быстрая фигура слилась с черными стволами на повороте, и не он привлек внимание Лиды, — за погребом стояла подавальщица. Она была в длинном, словно из шинели перешитом пальто, накинутом на плечи. Спереди вертикальной полосой просвечивал передник. Женщина смотрела вслед Мате, но тот не почувствовал взгляда. Женщина поняла, что Лидочка видит ее, ступила за стену погреба и тут же пропала с глаз — словно ее и не было. Первым порывом Лидочки было окликнуть Матвея. Но Лидочка не сделала этого — стало неловко. Словно окликнешь — донесешь на подавальщицу. Что знала Лидочка об этих людях? Что Матя Шавло любезно поднес ее чемодан до санатория? Был вежлив, а потом оказался среди тех, кто прибежал спасать профессора Александрийского? Это говорит в его пользу. Еще у него открытая улыбка и чувство юмора. И это тоже говорит в его пользу. Но в то же время знаком с Алмазовым, был в фашистской Италии и даже носит фашистские усики.
Может, у этой бедной женщины есть основания за ним следить? Затаимся, как говорил с сардонической усмешкой ее старый друг пан Теодор. Наши знания, наши наблюдения — наше богатство.
Появление новой партии желающих поглядеть на Москву вызвало шум и веселые крики с высокой вышки — Лидочке даже показалось, что вышка зашаталась от такого гомона. Она обернулась — конечно же, фигуры в шинели не было видно, да и самого погреба не разглядишь, лишь тусклый свет лампочки, горевшей в оранжерее, напоминал о встрече. Еще дальше светились окна усадьбы…
— Не бойтесь, — сказал Матя, — вышку сооружали еще до революции, она сто лет простоит.
— Простоит, если на нее не будут лазить кому не лень, — возразил Максим Исаевич, все еще недовольный Матей.
Лидочка стала подниматься первой. Ступеньки были деревянные, высокие — словно она поднималась по стремянке, придерживаясь за тонкий брус. Один пролет, поворот, второй пролет, третий… поднялся ветер — видно, ниже его гасили деревья, а тут он мог разгуляться. Лидочка хотела остановиться, но снизу ее подгонял Матя:
— Главное — не останавливаться, а то голова закружится.
Сверху склонился молодой человек, похожий на Павла Первого.
— Вы пришли! — сообщил он Лиде. — Я очень рад. Я совсем замерз. Я думал, что вы не придете.
— Соперник! — услышал эти слова Матя. — Дуэль вам обеспечена.
— Здравствуйте, — сказал тот жалким голосом, и Матя узнал его.
— Кого я вижу! Аспирант Ванюша! Как говорит мой друг Френкель — лучшее дитя рабфака!
— Матвей Ипполитович, я даже не ожидал, — сказал рабфаковец, и Лидочке стало грустно от его тона, потому что она поняла: дуэли из-за нее не будет. Ванюша готов уступить любую девицу своему кумиру, а в том, что Матя его кумир, сомнений не могло быть — глаза аспиранта горели ясным пламенем поклонника.
— Неужели вы не заметили меня за ужином?
— Не заметил, — сознался Ванюша, одаренный редкостным прямодушием, — я смотрел все на Лидию Кирилловну. Так смотрел, что вас не заметил.
— Он уже знает ее отчество! — воскликнул Матя. — Такая резвость не свойственна физикам. Неужели вы — агент ГПУ?
— Ах, что вы! — испугался Ванюша.
Лидочка обернулась туда, куда смотрели собравшиеся на верхней площадке вышки, — Москва казалась тусклой полоской сияния, придавленного облачным небом.
— Отсюда надо смотреть днем и в хорошую погоду. Если захочешь, мы потом еще поднимемся, — сказала Марта.
— А вы видели Ферми? — допрашивал Матю восторженный Ванюша.
— Каждый день и даже ближе, чем вас, — ворковал польщенный Матя.
— И он разговаривал с вами?
— Даже я с ним разговаривал, — ответил Матя и сам себе засмеялся, потому что Ванюша не умел смеяться.
— А Гейзенберг? — спросил аспирант. — Гейзенберг к вам приезжал? Я читал в «Известиях», что в Риме была конференция.
— И Нильс Бор приезжал, — сказал Матя. — Ждали и Резерфорда. Но Резерфорд не смог отлучиться.
— Почему?
— Он должен заботиться о Капице.
— Да? — Аспирант чувствовал, что его дурачат, но не смел даже себе признаться в том, что настоящий ученый может так низко пасть. Лидочке его было жалко, но, честно говоря, она слушала разговор Мати с неофитом вполуха, потому что смотрела не на отдаленную, туманную и нереально далекую отсюда Москву, а на уютно желтые окна дома, так откровенно манящие вернуться.
— Лидочка, — сказал Матя, — разрешите представить вам юного поклонника — он просит об официальном представлении, — делаю это одновременно с ужасом и восхищением. С ужасом, потому что боюсь потерять вас, с восхищением, потому что талант будущего академика Ивана Окрошко вызывает во мне искреннюю зависть.
У будущего академика Окрошко пальцы оказались горячими и влажными.
На фоне бегущих, светлых на черном облаков образовалась фигурка президента. Он пронзительно выкрикивал фразы и, поднимая руки, командовал окружившими его девицами и чьими-то дядями с «камчатки», которые повторяли хором эти выкрики.
— Подобно Герцену и Огареву на Воробьевых горах!
— Подобно гер-гер-цену и ога-га-га-га-реву на во-рога-гареву…
— Мы клянемся не уронить знамени славной Санузии!
— Мы нем-немся неуроиз амении…
— Принципы и заповеди советского ученого!
— Иципы…
— Мы пошли, — сказала Марта и потащила вниз Максима, который старался участвовать в коллективных криках. Матя молча подхватил Лидочку за локоть и повлек следом. Сзади топал Окрошко, и Лидочке были понятны его мечты — чтобы Матя упал и уронил Лидию Кирилловну. Вот тогда-то он кинется ястребом и спасет прекрасную даму.
Матя не уронил Лидочку. Но она страшно замерзла. Еще не хватало простудиться.
Внизу, у лестницы, они встретили Алмазова с Альбиной.
— Боже мой, как здесь холодно, — пропела Альбина, обращаясь почему-то к Лидочке. — Я даже не представляла, какая здесь стужа.
Матя сделал шаг в сторону, раскуривая трубку.
Альбина была хорошо одета — на ней была беличья шубка и такая же меховая муфта. Из-под фетровой с узкими полями шляпки выбивались светлые кудри.
— Вы так легко одеты, — сообщила Альбина Лидочке, словно та этого не чувствовала всей шкурой.
— Мне не холодно, — ответила Лида.
— Вы меня презираете, да?
У Альбины были слишком большие и слишком голубые — даже в ночи видно — глаза.
Сейчас Алмазов услышит, вмешается и уведет ее. Лидочка проследила за взглядом, который кинула назад Альбина, — видно, она боялась Алмазова. Но Алмазов отошел к Мате на другую сторону опустевшей площадки. Сзади стоял только Ванюша Окрошко. Но тот или ничего не слышал, или не понимал.
— Я знаю — вы думаете, что я его боюсь. Но я докажу, докажу, — шептала Альбина. — Вы еще удивитесь моей отваге.
— Ванюша, — сказала Лидочка, — нам пора идти?
Ванюша не понял, но был счастлив, потому что Лида к нему обратилась.
— Ванюша Окрошко! — повторила Лида. — Я совсем замерзла.
— Я же говорила вам, что вы замерзнете, — сказала Альбина.
Матя с Алмазовым разговаривали, отвернувшись от остальных. До Лидочки донеслось:
— Попозже… у беседки.
Алмазов подошел к ним, встал рядом с Ванюшей Окрошко.
— Ну что, мои дорогие девушки, — сказал Алмазов. — Не пора ли нам домой, на бочок?
— Да, и как можно скорее, — сказала Альбина. — Вы же видите, что Лида совсем замерзла.
— Это дело поправимое, — сказал чекист. Лидочка не сразу поняла, что он делает — только когда Ванюша заскулил из-за того, что не додумался до такой простой мужской жертвы, — только тогда Лидочка обернулась, — но было поздно. Алмазов уже снял свою мягкую, на меховой подкладке, кожаную куртку — внешне комиссарскую, как ходили чекисты в гражданскую, но на самом деле иную — мягкую, уютную, теплую и пахнущую редким теперь мужским одеколоном.
Куртка улеглась на плечах Лидочки и обняла ее так ловко, что попытка плечами, руками избавиться от нее ни к чему не привела, хотя бы потому, что Алмазов сильными ладонями сжал предплечья Лиды. Лида вырвалась и пробежала несколько шагов, потом сорвала с себя куртку, обернулась и протянула ее перед собой, как щит, подбегавшему Алмазову.
— Большое спасибо, — сказала она. — Мне уже не холодно.
— Отлично, — сказал Алмазов, который умел не настаивать в тех случаях, когда настойчивость ничего ему не обещала, — я постарался лишь загладить тот грех, который я совершил на дороге. — В темноте жемчужными фонариками светились его зубы и белки глаз.
Лида сделала шаг в сторону на край дорожки и таким образом оказалась отрезанной от Алмазова и Мати Ванюшей Окрошко, который не успел толком разобраться, что же произошло, и со значительным припозданием спросил:
— Вам мое пальто дать?
— Зачем, на мне же уже есть пальто.
— А куртку надевали, — сказал Ванюша с обидой, и всем стало смешно.
Когда они миновали перекресток: справа — погреб, слева вниз — дорога к пруду, Лидочка увидела, что к пруду, опираясь на палку, спускается Александрийский.
— Спасибо, — сказала Лида быстро. — До свидания. Спокойной ночи.
Последние слова она произнесла на бегу.
— Вы куда? — закричал Ванюша.
— Она лучше вас знает куда, — услышала Лидочка голос Мати. Видно, тот удержал аспиранта, потому что Лиду никто не преследовал.
Александрийский услышал ее быстрые шаги и остановился.
— Павел Андреевич, это я, — сообщила Лидочка на бегу.
— Вижу, — сказал тот. — На вышку бегали?
— Там неинтересно, — сказала Лидочка, поравнявшись с Александрийским. — Просто далекое зарево.
— Когда-то я поднимался туда. Но только днем и в хорошую погоду. Но мне кажется, что если вам хочется полюбоваться Москвой, то лучше это сделать с Воробьевых гор. Недаром Герцен с Огаревым клялись там.
— Клялись?
— Утверждают, что там они решили посвятить себя борьбе за народное счастье. Разве вы этого не изучали в школе?
— Нет.
— Простите, но сколько же вам лет?
Лидочка сказала:
— Двадцать один.
— Значит, вы должны были подвергнуться индоктринации в школе и узнать, что вместо еврея Иисуса вы должны почитать еврея Карла.
— Какого Карла?
— Вы меня поражаете — я имею в виду основоположника учения, именуемого марксизмом по имени Карла Маркса.
— Я не привыкла, что он Карл, — сказала Лидочка, — я привыкла, что он Карл Маркс.
— Разумеется, вы правы.
Они шли медленно — Александрийский неуверенно ставил трость, не сразу переносил на нее тяжесть тела.
— Я не так давно стал инвалидом, — сказал он. — Я даже не успел привыкнуть к тому, что обречен. Вы не представляете, как я любил кататься на коньках и поднимать тяжести.
Профессор говорил, не поворачивая головы к Лиде, и ей был виден его четкий профиль — выпуклый лоб, узкий нос, выпяченная нижняя губа и острый подбородок. Лицо не очень красивое, но породистое.
— А вы раньше встречали этого Алмазова?
— Да, встречал. В прошлом году, когда я был чуть покрепче и даже намеревался выбраться в Кембридж на конференцию по атомному ядру, он тоже вознамерился ехать с нашей группой под видом ученого. Я резко воспротивился.
— И что?
— А то, что я никуда не поехал.
— А он?
— Он тоже никуда не поехал. Они не любят, когда их сотрудников, как это говорят у уголовников… засвечивают. А мне сильно повезло.
— Повезло?
— Конечно. Если бы не моя грудная жаба, сидеть бы мне в Соловках с некоторыми из моих коллег. Когда они узнали, насколько тревожно мое состояние, они решили дать мне помереть спокойно.
Они вышли к пруду. Пруд был окружен деревьями, которые романтически склонялись к его глади, у берега дремали утки, по воде среди отраженных ею облаков и редких звезд плыли желтые листья, словно реяли над внутренним небом. Было очень тихо, лишь с дальней стороны пруда доносился шум льющейся воды, словно там забыли закрыть водопроводный кран.
— Может быть, я стараюсь себя утешить, успокоить, а они посмеиваются и готовы забрать меня завтра.
— Сейчас наоборот, — сказала Лидочка, хотя сама не очень верила собственным словам. — Сейчас многих отпускают. Я знаю, в Ленинграде целую группу историков выпустили, Тарле, Лихачева, супругов Мервартов…
— Свежо предание, — сказал Александрийский. Он остановился на берегу пруда. Здесь фонарей не было, но поднялась луна, и бегущие облака были тонкими — свет луны пробивался сквозь них.
— Вы думаете, что он вас узнал? — спросила Лидочка.
— Вряд ли. Было темно — он вышвырнул меня, как вышвырнул бы любого из нас. Он полагал, что академики в кабинках грузовиков не ездят.
Александрийский вдруг повернулся и пошел вдоль пруда куда быстрее, чем раньше. Он стучал тростью и зло повторял:
— Ненавижу, ненавижу, ненавижу!
— Не волнуйтесь, вам нельзя волноваться, — догнала его Лидочка и попыталась взять под руку, но профессор смахнул с локтя ее пальцы.
— Бодливой корове… это я — бодливая корова! Как нелепо! Я же еще вчера был совсем нестарым и весьма подвижным мужчиной… Наверное, ненависть увеличивается от бессилия что-либо сделать.
Он быстро дышал, и Лидочка все-таки заставила его остановиться, потому что испугалась, что ему станет плохо. Чтобы отвлечь Александрийского, Лидочка спросила у него, правда ли, что Матвей Шавло был в Италии.
— Не производит впечатления настоящего ученого? — вдруг рассмеялся Александрийский. — На меня вначале он тоже не произвел. Скоро уж десять лет прошло, как я его увидел. Ну, думаю, а этот фат что здесь делает?
— Может, посидим на лавочке? — спросила Лида.
— Чтобы завтра слечь с простудой? Ни в коем случае, лучше мы с вами будем медленно гулять. Если вы, конечно, не замерзли.
— Нет, мне не холодно. — Почему-то Лидочке почудились крепкие ладони Алмазова, она даже дернула плечами, как бы сбрасывая их.
— Я не терплю отдавать должное своим младшим коллегам, но в двух случаях Академия не ошиблась — когда посылала Капицу к Резерфорду, а Шавло к Ферми.
— А как же они согласились?
— Кто?
— Резерфорд и Ферми. Они живут там, а к ним присылают коммунистов.
— Они думали не о коммунистах, а о молодых талантах. Прокофьев сначала композитор, а потом уже агент Коминтерна. Петю Капицу я сам учил — он чистый человек. И ему суждена великая жизнь. И я был бы счастлив, если бы Петя Капица остался у Резерфорда навсегда. Но боюсь, что наши грязные лапы дотянутся до Кембриджа и утянут его к нам… на мучения и смерть.
— Но почему?
— Потому что рядом с политикой всегда живет ее сестренка — зависть. И всегда найдется бездарь, готовая донести Алмазову или его другу Ягоде о том, что Капица или Прокофьев — английский шпион. А кому какое дело в нашей жуткой машине, что Капица в одиночку может подтолкнуть на несколько лет прогресс всего человечества? Это будет лишь дополнительным аргументом к тому, чтобы его расстрелять. Вы знаете, что расстреляли Чаянова?
— А кто это такой?
— Гений экономики. Талантливейший писатель. И его расстреляли.
— А зачем тогда Матвей Ипполитович вернулся?
— Во-первых, он не столь талантлив, как Капица, хотя чертовски светлая голова! У него кончился срок научной командировки, а положение Ферми в Риме, насколько я знаю, не из лучших — возможно, ему придется эмигрировать. Фашистская страна сродни нашей. Те же статуи на перекрестках и крики о простом человеке.
— Павел Андреевич!
— Вот видите, и вам уже страшно, а вдруг дерево или вода подслушают. Помните, что случилось с Мидасом?
— Не помню.
— Неужели? Это хрестоматийно! Хотя вы же дитя пролетарского образования. Так слушайте: у царя Мидаса были ослиные уши. Не важно, как он их заработал, — поверьте мне, за дело. И у Мидаса, который стеснялся такого украшения, были проблемы с парикмахерами. Тем приходилось давать подписку о неразглашении. Вы о таких слышали?
— Не в древнем мире, но слышала.
— Молодец, девочка. Так вот один парикмахер подписку дал, а тайна, которую он узнал, продолжала его мучить. И он нашептал ее тростнику. Тростник подрос, его срезали на свирель, соответствующий исполнитель принялся в нее дуть, а свирель запела: «У царя Мидаса дворянское происхождение!»
— То есть ослиные уши?
— Называйте как хотите. Анкета есть анкета! Будем возвращаться?
— Наверное, вы устали.
От основной дорожки, шедшей вдоль цепи прудов, отходила дорожка поуже. Она поворачивала налево, проходя по перемычке, отделявшей верхний пруд от следующего, лежавшего метров на пять-шесть ниже.
Они свернули на нее. Но, пройдя несколько шагов, Александрийский остановился:
— Пожалуй, пора возвращаться.
— А что так шумит? — спросила Лидочка. — Где-то льется вода.
— Вы не догадались? Пройдите несколько шагов вперед и все поймете.
Лидочка подчинилась старику. И при свете вновь выглянувшей луны увидела, что в водной глади, метрах в полутора от дальнего берега пруда, чернеет круглое отверстие диаметром в метр. Вода стекала через края внутрь поставленной торчком широкой трубы и производила шум небольшого водопада.
— Сообразили, в чем дело? — спросил Александрийский.
— Туда сливаются излишки воды, — сказала Лидочка.
— Правильно. Чтобы пруд не переполнялся. А на глубине по дну пруда проложена горизонтальная труба, которая выходит в нижнем пруду под водой, — вы можете запустить рыбку в водопад, а она выплывет в следующем пруду. Интересно?
Александрийский совсем устал и говорил медленно.
— Я прошу вас, — сказала Лидочка. — Давайте посидим. Три минуты. Переведем дух.
— Отвратительно, когда тебя жалеет юная девица, — сказал Александрийский. — Дряхлый старикашка!
— Вы совсем не старик! — сказала Лидочка. — И когда выздоровеете, я еще буду от вас бегать.
— Я специально для этого постараюсь выздороветь, — сказал Александрийский, послушно отходя к скамейке.
По плотине быстро шел человек — занятые разговором Александрийский и Лидочка увидели его, когда он подошел совсем близко.
— Вот они где! А я уж отчаялся: решил — утонули! — Это был Матя Шавло.
— Легок на помине, — сказал Александрийский. — Что вам не спится?
— Вы перемывали мне косточки! — заявил Шавло. — То-то я чувствую, что меня тянет в парк. И что? Он называл меня развратником, лентяем, пижоном и наемником Муссолини? — Последний вопрос был обращен к Лиде.
— Любопытно, — усмехнулся Александрийский. — Он взваливает на себя сотни обвинений для того, чтобы вы не заметили, что он упустил в этом списке одно, самое важное.
— Какое? — спросила Лидочка.
— Агент ГПУ, — сказал Александрийский.
— Ах, оставьте, — сказал Матя, подходя к самому краю воды и глядя, как вода, серебрясь под светом луны, срывается тонким слоем в странный колодец посреди пруда. — Мне уже надоело, что каждый второй подозревает меня в том, что у Ферми я выполнял задания ГПУ.
— Я вас в этом никогда не подозревал, Матвей, — сказал Александрийский. — Я отлично понимаю, что Ферми читал ваши работы. Как только он увидел бы, что вы агент ГПУ, вы бы вылетели из Италии в три часа. Кстати, Ферми не собирается покидать фашистский рай?
— Маэстро признался мне, что намерен улететь оттуда, как только он сможет оставить свой институт, — ведь он же не жена, бросающая мужа. Целый институт…
— Проблема национальная?
— При чем тут национальность?! — Матя красиво отмахнулся крупной рукой в желтой кожаной перчатке. — На институт обратили внимание итальянские военные. Говорят, что интересуется сам дуче.
— Это касается радиоактивных лучей?
— Нет — разложения атомного ядра.
— К счастью, это только теория.
— Для вас, Пал Андреевич, пока теория. Для маэстро — обязательный завтрашний день.
Лидочка увидела, как Александрийский чуть морщится при повторении претенциозного слова «маэстро».
— Это — разговор для фантастического романа, — сказал Александрийский, но не тем тоном, каким старший обрывает неинтересный ему разговор, а как бы приглашая собеседника продолжить спор.
Матя сразу попался на эту удочку.
— Хороший фантастический роман, — сказал он, — обязательно отражает завтрашнюю реальность. Я, например, верю в лучи смерти, о которых граф Толстой написал в своем романе об инженере Гарине, не читали?
— Не имел удовольствия.
Лидочка только что прочитала этот роман, и он ей очень понравился — даже больше, чем романы Уэллса, и ей хотелось об этом сказать, но она не посмела вмешаться в беседу физиков.
— Толстой наивен, но умеет слушать умных людей, — продолжал Матя, нависая над скамейкой, на которой сидел, вытянув ноги, Александрийский. Он беседовал с Александрийским, не замечая, что поучает его, хотя этого делать не следовало. Александрийский, как уже поняла Лидочка, свято блюл светившуюся внутри его табель о рангах, в которой ему отводилось весьма высокое место.
— Передача энергии без проводов, о чем мы не раз беседовали с маэстро…
Тут Александрийский не выдержал:
— Вы что, у скрипача стажировались, Матвей Ипполитович? Что за кафешантанная манера?
— Простите, Пал Андреевич, — мгновенно ощетинился Матя, — я употребляю те слова и обозначения, которые приняты в кругу итальянских физиков, и не понимаю, что вас так раздражает?
— Продолжайте о ваших лучах, которые выжигают все вокруг и топят любой военный флот, осмелившийся приблизиться к вашей таинственной базе!
Лидочка поняла, что Александрийский, конечно же, читал роман графа Толстого.
— Пожалуй, пора по домам, — сказал Матя. — Уже поздно, и вы наверняка устали.
— Нет, с чего бы?
— И уж конечно, устала Лидочка. По нашей милости ей пришлось сегодня пережить неприятные минуты.
— Вы правы. — Александрийский тяжело оперся на трость, но весь вид его исключал возможность помощи со стороны молодых спутников. Так что они с Матей стояли и ждали, пока он поднимется.
Потом они медленно, сообразуясь со скоростью профессора, пошли по берегу среднего пруда, мимо купальни, какие бывали в барских домах еще в прошлом веке, чтобы посторонние взоры не могли увидеть купающихся господ, и вышли на широкую, стекающую к пруду поляну, наверху которой гордо и красиво раскинулся дом Трубецких — хоть и было совсем темно, лишь два фонаря светили возле него, да горел свет в некоторых окнах, дом был олицетворением благополучного уюта, респектабельности — как будто и он приплыл сюда по реке времени, либо они — Лидочка и оба физика — провалились в прошлое, когда дом еще принадлежал своим благородным хозяевам и туда не допускались незнатные физики, художники и прочая разночинная мелочь. Впрочем, что она знает об этих спорщиках — может быть, они потомки графов и князей, только таятся, чтобы их не вычистили из университета!
Совершенно забыв о присутствии Лиды, физики постепенно углубились в специальный разговор, в котором фигурировали неизвестные Лидочке, да и подавляющему большинству людей того времени, слова «позитрон», «нейтрон», «спин», «бета-распад» и «перспективы открытия бета-радиоактивности». Матя увлекся, взяв палку, разгреб подошвой листья с дорожки и стал рисовать палкой какие-то зигзаги, почти невидимые и совсем непонятные. Наконец, совсем уж замерзнув, Лидочка сказала, что оставляет их и пойдет домой одна, и только тогда физики спохватились и пошли к дому. И вовремя, потому что, как раз когда они снимали пальто под сердитым взглядом чучела медведя, раздался гонг, означавший окончание дня. И сверху по лестнице деловито сбежал президент Филиппов, чтобы лично запереть входную дверь.
— Успели, — радостно сказал он, — а вот кто не успел, переночует на улице.
Президент Санузии наслаждался тем, что кому-то придется ночевать на улице.
Александрийский жил на первом этаже — ему было слишком трудно подниматься на второй, — поэтому он, попрощавшись, пошел коридором, соединявшим главный корпус с правым флигелем. Матя поднялся с Лидочкой на второй этаж и проводил ее до комнаты. Он сказал:
— Глупо получилось, я же вас искал. И с вами хотел поговорить.
— О чем?
— Обо всем. О королях и капусте. Но Александрийский всегда был таким настырным. И вас от меня увел.
— Мне его жалко. Ему так трудно быть немощным.
— Я хотел бы дожить до его лет и не стал бы жаловаться на болезни.
— А сколько ему лет?
— Не знаю, но больше шестидесяти. Перед революцией он был приват-доцентом в Петербурге.
Матя взял Лидочку за руку и поднес ее пальцы к губам. Это было старомодно, так в Москве не делают, Лидочка вдруг смутилась и спросила, заставляя себя не вырывать руку:
— Это так в Италии принято?
— Это принято у поклонников, — ответил Матя.
Лидочка вошла в комнату. Марта лежала на застеленной кровати и читала при свете бра.
— Ты куда пропала? — спросила она.
— Мы гуляли с Александрийским, — сказала Лидочка. — А потом пришел Матвей Ипполитович, и они стали спорить.
— Я думаю, что Александрийский ревнует, — сказала Марта. — Когда-то Матя был его учеником, недолго, в начале двадцатых. И оказался более способным, чем учитель.
— Так все считают? — спросила Лидочка.
Она взяла вафельное полотенце, сложенное на подушке, и стала искать в сумке пакет с зубной щеткой и порошком.
— Это считает Миша Крафт, который для меня — высший авторитет, — сказала Марта. — Но я думаю, что причина в несходстве характеров. Матя при первой возможности ушел к Френкелю в Ленинград и работал в физико-техническом институте. А потом его отобрали для стажировки в Италии. То, что для Александрийского — предмет планомерного многолетнего труда, Матя всегда решал походя, между двумя бутербродами или тремя девицами. Александрийский считал его предателем, но дело не в предательстве, а в сальеризме Александрийского.
— Матвей Ипполитович совсем не похож на Моцарта, — сказала Лидочка.
— Ты же понимаешь, что дело не в простом сравнении.
Лидочка взяла полотенце и пошла в женскую умывальную комнату.
Лидочка пустила воду. Струя била косо, порциями, будто кран отплевывался. Вода была страшно холодной. Зубы ломило.
Лидочка не услышала, как открылась дверь и вошла подавальщица.
— Вы меня простите, — сказала она, закрыв за собой дверь. — Мне у вас спросить надо.
Лидочка испугалась, будто имела дело с умалишенной, готовой к иррациональным поступкам, но не обязательно намеренной их совершать.
Она так и осталась стоять со щеткой в приоткрытом рту, с измазанными зубным порошком губами.
— Вы видели, что я смотрела на мужчину, — продолжала женщина. — Вы его знаете, высокий, с усиками, красивый такой.
Лидочка кивнула. Она чувствовала, как белая струйка слюны с порошком течет по подбородку.
— Мне с ним поговорить надо, — сказала женщина ровным, скучным голосом. — А мне их имя-отчество неизвестны. Вы уж помогите, подскажите мне, гражданочка.
Женщина притворялась. Говорить простонародно она не умела, и дело было не только и не столько в словах, а в том, как она их произносила, — труднее всего подделать интонацию. Если бы Лидочку спросили, кто эта женщина по происхождению, она сказала бы — гражданка, вернее всего, москвичка из образованной семьи.
Лидочка взяла стакан, прополоскала рот, сморщилась от ледяного холода.
— Вы не спешите, — сказала женщина, — мне не к спеху.
Лидочка не могла решить для себя, ответить на вопрос или сослаться на неведение. Но потом поняла, что нет никаких оснований таиться.
— Этого мужчину зовут Матвеем Ипполитовичем Шавло, — сказала Лида. — Он физик, больше я о нем ничего не знаю.
— Шавло? И хорошо, что Шавло. Его тогда все Матей звали.
Под яркой голой лампочкой, висевшей над головой, Лидочка могла разглядеть женщину лучше, чем в столовой. На вид ей было лет тридцать, может, чуть больше. Она была высока ростом и стройна, густые каштановые волосы были убраны под косынку, и без окаймляющих лоб волос лицо казалось более грубым и резким, чем в действительности. Из таких женщин получаются террористки и настоятельницы монастырей. И если у иной женщины в таком же возрасте все еще впереди — и мужчины, и радости, и дети, — у этой жизнь окончена. И если бы не неведомая Лиде, но обязательно существующая цель, эта женщина спряталась бы уже в свой тихий полутемный угол — и доживала, не расцветши. Кем бы эта женщина ни была, она не могла быть подавальщицей в академической столовой.
— Спасибо, — сказала женщина, протянув руку, будто хотела дотронуться до Лиды. — Спасибо вам. Мне не его имя нужно. Важно было, что вы меня не оттолкнули.
Лидочка поглядела на ее протянутую руку. Пальцы были тонкими, некогда холеными, изысканными в своей длине и форме, но распухшими в суставах и огрубевшими.
— Вы знали его раньше? — спросила Лидочка.
— К сожалению, — ответила женщина.
Она сочла возможным скинуть маску подавальщицы, словно выказывая этим доверие к Лиде.
— К сожалению, — повторила она. — Я не ожидала когда-либо его увидеть, как не ожидаешь повторения кошмара.
— Кошмара?
— Вы все равно не поверите. Вы еще молоды.
— Это так кажется.
Неожиданно подавальщица засмеялась. И лицо ее стало мягче, женственней и добрее.
В этот момент дверь в умывальную медленно открылась. В дверях стояла Альбина в шелковом китайском халате.
Она, видно, поняла, что при ее появлении женщины оборвали разговор.
— Я вам помешала? — спросила она высоким, чрезмерно нежным голоском.
— Чего уж, — сказала подавальщица, — я вот щетку куда-то положила, а куда — не знаю. Извиняйте.
Она повернулась и, наклонив голову, быстро вышла из умывальной.
— Как наивно, — сказала Альбина ей вслед. — Я могу поклясться, что она из бывших, а устроилась в прислуги и притворяется. Правда?
— Не знаю, — сказала Лидочка, спеша вытереть лицо и собирая свои туалетные принадлежности.
— Спокойной ночи, — прощебетала вслед ей Альбина.
Глава 2
23 октября 1932 года
Утром Лидочка с трудом проснулась — за окном была такая дождливая мгла, такая полутемная безнадежность, словно дом оказался на дне аквариума, полного мутной воды.
Марта уже поднялась и приводила перед зеркалом в порядок прическу. В комнате пахло одеколоном «Ландыш». Лидочка потянулась — кровать отчаянно заскрипела. Марта резко обернулась.
— Ты меня испугала! Как себя чувствуешь?
Лидочка попыталась сесть — все тело ломило.
— Меня, по-моему, всю ночь палками били.
— А ты больше с физиками гуляй! Я удивлюсь, если ты не простудишься, — сказала Марта. — Давай вставай, скорей беги в умывалку. А то там очередь, наверное, а гонг зазвенит — опоздаешь. Филиппов тебя уморит воспитательными беседами.
— А я их не буду слушать.
— Значит, ты никуда не годная общественница. А ты знаешь, что у нас делают с никуда не годными общественницами? Их отправляют на перевоспитание трудом. Я знаю, что президент нашей республики уже разработал систему трудовых наказаний — опоздавшие ко второму удару гонга сегодня направляются на сбор опавших листьев. Под дождем.
— Откуда ты все это узнала?
— Я уже была в умывалке, все новости узнала, все сенсации.
— Даже сенсации?
Лидочка встала с постели, и ее повело — так трещала голова. Она ухватилась за спинку кровати.
— У тебя очень красивые ноги. — Марта критически осмотрела Лидочку. Ночная рубашка была ей коротка, и Лидочке стало неловко, что ее так рассматривают. — Хороши по форме, и щиколотки узкие — знаешь, я очень люблю, когда у девушек узкие щиколотки. А вот грудь маловата.
Не выпуская расчески и продолжая лениво расчесывать кудри, Марта кошечкой поднялась с табурета, подошла к Лидочке и поцеловала ее в щеку.
— И щечка у тебя пушистенькая. На месте мужиков я бы на тебя бросалась, как тигра.
— Не дай бог, — рассмеялась Лидочка. Она взяла со спинки кровати свой халатик.
— Ты не знаешь главной сенсации, — сказала Марта, возвращаясь к зеркалу, — сегодня ночью кто-то взломал дверь в погреб. Знаешь погреб по дороге к вышке, ну тот самый!
— И что?
— Больше ничего не известно.
— А в погребе что-нибудь лежит?
— В погребе пусто — какие-то доски, но ничего ценного. Замок сломали, а в воде, там вода, нашли спички — видно, они уронили спички и не смогли зажечь свечу.
— Кто «они»?
— Почти наверняка мальчишки из деревни.
— Здесь есть деревня?
— Это условное название — деревня Узкое, я тебе потом покажу, пойдем гулять и покажу — это флигели для слуг и несколько домов — там жила прислуга. Это в сторону Ясенева, напротив конюшен.
Ударил гонг.
— Да беги же! — закричала Марта, подталкивая Лиду к двери. — Даже мыться не надо — пописай и сразу в столовую. Если не хочешь под дождем листья собирать.
— Не хочу, — сказала Лида и побежала в туалетную комнату. Тем, к счастью, никого не было. Все уже ушли в столовую.
Кто-то залез в погреб. Лидочка знала, что это была подавальщица или ее сообщники. У нее здесь есть сообщники? Наверное, это сама графиня Трубецкая, которая пытается отыскать свои драгоценности. Разве так не бывает?
Приведя себя в порядок, Лидочка побежала обратно в комнату. Марты уже не было — она ушла в столовую. Лидочка натянула юбку и фуфайку: в доме было прохладно.
Верный Ванюша-рабфаковец — как она могла забыть о его существовании — ждал ее у входа в столовую, не входил, хотя уже прогремел второй гонг. Все сидели за столами, мрачная погода и темное утро подействовали на всех так уныло, что никто не стал хлопать в ладоши и изображать общественное осуждение опоздавшим. Лидочка с Ванюшей прошли к своим местам, и тогда президент Санузии поднялся во весь свой микроскопический росточек и натужно воскликнул:
— Объявляю свою президентскую волю! Опоздавшие к завтраку, среди которых есть Иваницкая, опоздавшая уже дважды, отправляются на сбор листьев в парке. Все, кто посчитает решение президента справедливым, прошу поднять руки.
Над столами поднялось несколько рук. Другие ели кашу, которую разносила пожилая, незнакомая Лиде подавальщица.
— Дружнее! — завопил президент Филиппов.
«Кто же его вырастил? — думала Лидочка. — Кого он приговаривал и расстреливал раньше? Наверное, был исполнителем в ЧК».
Дружное осуждение не получилось. Тем более что тут же случился казус, потому что дверь снова отворилась, и, оживленно беседуя, вошли Алмазов с Альбиной, а за ними сонный астроном Глазенап.
Лидочке так хотелось подсказать президенту: «Ну давайте, посылайте их на сбор листьев под дождем, я согласна идти с ними!» Но президент сделал замкнутое на замочек личико и отвернулся от вошедших, которые, ничего не подозревая, прошли к своим местам, раскланиваясь и здороваясь. Но тут не выдержал Ванюша.
— Почему же вы молчите, товарищ Филиппов?! — закричал он петушиным голосом. Голос сорвался, Ванюша закашлялся. — Почему же вы других товарищей под дождь в грязи копаться не выгоняете? Нет, вы не отворачивайтесь, вы не морщитесь. Чем они лучше нас?
Поднялся сразу шум, словно все ждали, чтобы начать кричать и стучать чашками, будто все хотели скандала и вот — получили!
— Я не позволю! — вопил махонький Филиппов. — Я не позволю подрывать авторитет моего поста! Меня утвердила общественность санатория, и я сам решаю, кого наказывать, а кого благодарить.
— Вы еще не ячейка! — завелась Марта Крафт. — Вас сюда не для репрессий прислали!
— Я президент!
— Вчера президент, а сегодня мы вас переизберем!
В зал вошел Борис Пастернак, ничего не понял в этом хаосе. Усаживаясь, отыскал глазами Лидочку, кивнул ей и поднял брови, спрашивая: что происходит?
Постепенно шум утих, правда, пришлось вмешаться самому Николаю Ивановичу Вавилову, который призвал не терять чувства юмора и как можно больше заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. Алмазов смотрел в тарелку.
Каша была с комками, но чай крепкий, к нему дали пончик. Лида почувствовала, что не наелась. Голова прошла. Марта говорила в ухо, что Филиппова давно уже надо гнать, но у него рука в Президиуме.
Потом Лидочка взяла свой стакан и пошла в буфетную — аппендикс между залом и кухней, где на столе мирно пыхтел большой трехведерный самовар. Она подождала, пока подавальщица наполнит заварочный чайник.
— Скажите, — спросила Лидочка, — а где вчерашняя женщина, которая нас обслуживала?
— Полина? — спросила подавальщица. — Так сегодня не ее смена. Она завтра будет.
— Вы ее сегодня видели? — спросила Лидочка.
— А вам чего?
— Она мне обещала мяты дать, — сказала Лидочка.
— Откуда у нее мята?
— Не знаю. — Лидочка подставила стакан под струю кипятка из самовара.
Позавтракав, отдыхающие расходились из столовой. Матя подошел к Лидочке и сказал:
— Не обращайте внимания. Если хотите, я с ним поговорю.
— Ничего, — сказала Лидочка, — я сама с ним поговорю.
— Я буду в библиотеке, — сказал Матя, — если вам будет скучно, приходите.
Лидочка вышла в гостиную. В большом алькове висела картина, изображавшая красивую девушку, склонившуюся к источнику. Ванюша, который шел за Лидочкой, сообщил ей тут же, что это возлюбленная князя Трубецкого, которую по приказу Петра Первого заковали в цепи в подвале дворца.
— При чем тут Петр Первый? — строго спросила Лидочка.
— Вот именно. — Ванюша был склонен заранее соглашаться с любой мудростью, которую подарят человечеству уста Лидочки. — Он ее туда отправил за измену старому князю с одним иностранцем.
Походкой Наполеона, спешащего к Аустерлицу, в гостиную ворвался президент Филиппов. Он повел тяжелым носом и вынюхал невольно замерших у роковой картины нарушителей.
— Вот вас мне и надо, — сообщил он. — Будем трудиться или хотим уклоняться?
Лидочка поглядела сверху на его высушенный, обтянутый пергаментом лобик и поняла, что с таким Наполеоном надо обращаться решительно, как то делал герцог Веллингтон.
— Никуда мы не пойдем, — сказала Лидочка.
— Отлично, — сразу согласился президент, будто именно такой ответ входил в его планы.
— Мы приехали отдыхать, — сказала Лидочка. — Мы приехали на отдых после ударной работы.
— Вот именно, — сказал Ванюша, — я могу показать мою книжку ударника.
— Не надо, — сказал президент, сверля Лидочку отчаянными голубыми глазами. — У меня самого их четыре. Продолжайте ваши тезисы, Иваницкая.
— Я все сказала.
— А я вас призываю не работать, а творчески отдыхать, — сообщил тогда президент. — Потому что каждый врач скажет, что уборка листьев на свежем воздухе — это физкультура и зарядка.
— Вот когда врач скажет, тогда я и пойду, — сказала Лидочка и намеревалась уйти из гостиной, но президент, приподнявшись на цыпочки от боевого энтузиазма, которым он был охвачен, умудрился встать на ее пути.
— А ну бери грабли и пошли! — прошипел президент. Видно, ему не хотелось, чтобы звуки скандала донеслись до библиотеки, высокая белая дверь в которую была приоткрыта.
— Не смейте так с нами разговаривать! — прошипела в ответ Лида, которой-то нечего было скрывать от читателей библиотеки. Но президент как бы задал тон, и Лидочка ему подчинилась.
— Послушайте, молодые люди, — говорил президент. — Мне про вас известно куда больше, чем вы подозреваете. У меня выписки из личных дел на всех лежат — присылают из Президиума. Я знаю, что ты, Иван Окрошко, в аспирантуре держишься на ниточке, хоть и внешне пролетарского происхождения, ввиду общей неграмотности. Так что ты сейчас надеваешь ватник и с песнями идешь в парк. И еще будешь мне благодарен до конца срока, что я не сигнализировал, как ты вредно отзывался о диктатуре пролетариата.
— Я никогда не отзывался, — напыжился Ванюша. Но он был уже сражен.
— А еще вопрос — кому поверят, а кому нет. У меня революционный стаж и верная служба, а у тебя? Еще надо проверить.
— А вы проверьте, — рискнул рабфаковец.
— Он идет, идет, — сказала Лидочка, которой стало жалко Ванюшу не потому, что он был раздавлен мелким мерзавцем президентом, а потому, что делалось это с садистским наслаждением в ее, Лидином, присутствии, а Ванюша, не смея достойно ответить, видно, сам не был уверен в чистоте своего пролетарского происхождения. — Иди, Ваня, — повторила она. — Я тебя догоню.
Ванюша еще колебался. Он сделал шаг, остановился.
— Ватники на первой вешалке висят, там для них специально сделано, — показал Филиппов, который понимал, что Лидочка уходить не хочет, — значит, впереди второй бой и грядущая его, Филиппова, победа.
Ванюша ушел, повесив голову. Президент расправил плечики, и Лида могла дать голову на отсечение, что за последние минуты он подрос.
Мимо прошел один из Вавиловых. Президент на секунду отвернулся от Лиды, потому что надо было стать во фрунт и поклониться власти, и спинка его, узкая и согнутая, стала жалкой и патетической, его хотелось пожалеть, погладить. Наверное, он собирает марки, подумала Лида, сидит вечерами над альбомом, горбится и боится, что за ним придут. У него не может не быть, как говорят англичане, скелета в шкафу — страшной тайны прошлого.
Особенность времени заключалась именно в том, понимала Лида, что в обществе было очень мало людей, не несших в себе страха. Причем каждый боялся не только за себя, за своих близких — он боялся самого себя. Некий президент Филиппов мог подойти к тебе и напомнить о существовании забытой тетушки, которая угодила в ссылку, либо о твоем юношеском романе с дочкой генерала, а то, что еще опаснее, о том, как ты на первом курсе или даже еще в школе подписал какое-то обращение в защиту Троцкого или его платформы. Ты уже и думать забыл о Троцком и о платформе, а твоя подпись, попав в соответствующее учреждение, уже зажила собственной жизнью, и вот уже допрашивают других, оставивших свои легкомысленные автографы на пожелтевшем листе бумаги. Кто таков? Не то Иванов, не то Ивашко… кто так неразборчиво подписался? Не он ли — ваш организатор и вдохновитель, не он ли держал связь со Львом Давидовичем, нашим врагом и известным шпионом? Как? Вы думаете, что это подписался Коля Ивашкин из параллельного класса? Замечательно. Давайте подумаем, где нам теперь отыскать этого мерзавца, который втравил вас в авантюру, лишившую вас образования, свободы и, может быть, жизни… И вот ты уже в паутине.
А так как подобные случаи происходили нередко и были всем известны, скелеты, выпадая из шкафов, пришибали своих бывших хозяев хуже кирпичей, и за исключением уж самых глупых или сиротских пролетариев каждый просыпался ночью в ужасе — в шкафу зашевелился проклятый скелет! И становилось страшно проговориться в гостях или на службе о каком-то родственнике или знакомом, потому что если ты давно не видел человека, то за эти месяцы он мог превратиться во врага.
К осени 1932 года всеобщий ужас перед скелетами, ужас перед приговором, который каждый носил в себе, еще не стал всеобщим. Пройдет года три, прежде чем страх подавит собой государство. Но и тогда власть демагога или доносчика была, как и положено в сходящем с ума обществе, преувеличена настолько, что он мог погубить соседа, сослуживца или человека, от него зависящего, одной строчкой или фразой, и чем подлее он был или чем больше боялся собственного скелета, тем страшнее становился для окружающих. Ибо такой человек был подобен тонущему, который, размахивая в ужасе руками, нащупывает головы тех, кто плывет рядом, и тащит их в глубину, только бы самому остаться на поверхности.
Лидочка подумала, что в будущем ей следует больше опасаться Ванюши, чем президента Филиппова, и попробовала организовать линию обороны.
— К счастью, — сказала она президенту, — у вас на меня черных карточек нету. И я свободна.
— Нет, не свободна, — ответил президент. — Не могу я вас, гражданка Иваницкая, отпустить. Потому что я приговорил вас к общественному наказанию в присутствии многих людей, в том числе профессоров и академиков. А скажите мне, голубушка, сколько из них ждут не дождутся моей гибели? Одни по нелюбви ко мне, другие из зависти, что я получаю дополнительное питание в столовой, третьи потому, что мечтают занять мое место. Лучше уж ты иди, потаскай листья полчасика, больше мне от тебя ничего не нужно.
— Значит, ничего на меня в своих папках не нашли? — спросила Лида.
— Не надо так грубо, Иваницкая. Найти можно на каждого. А если на тебя в той папке не было, значит, в другой есть, которая не у меня лежит, а у товарища Алмазова. Может быть, ты еще хуже обречена, чем тот перепуганный Окрошко.
Он был противен, он был циничен и нагл, и он был совершенно прав. Папка с делом Лиды Иваницкой лежала, конечно же, в ОГПУ. А если не лежала, то это было чудо, а кто верит в чудеса в наши дни?
— Какой же вы мерзавец, Филиппов, — тихо сказал Александрийский, появившийся из библиотеки и подошедший незамеченным. — А я вас полагал безобидным дураком.
Президент вовсе не растерялся. Он ответил разговорно, как бы продолжая беседу:
— А теперь безобидных дураков, Пал Андреевич, не осталось. Их всех скушали. Времена голодные пришли. Если хочешь жить, приходится крутиться.
— За чужой счет, — сказал Александрийский. Он был на полголовы выше и, даже несмотря на болезненность и худобу, куда массивнее президента.
— Не за свой же. — Президент шмыгнул носом, и Лидочка поняла, что он пытается скрыть робость. — Я ведь тоже старые времена предпочитаю. Чтобы мы с вами сейчас в шарады поиграли, аспиранток в темных углах пощупали и на лыжах с горки — ау-у! Я вам всегда лучшие лыжи подбирал.
— Ну тогда я думаю, что мы с вами отлично друг друга понимаем, — сказал Александрийский. — Вы тут же забудете об инциденте и более приставать к Лиде не будете. Я ей обязан и стараюсь всегда платить по счетам.
— Я рад бы, — печально сказал президент. — Да не могу. Я уж говорил гражданке Иваницкой — здесь доносчиков человек десять найдется, кто по злобе, а кто из страха… Придется ей поработать.
— Филиппов, не надо меня сердить!
— Ой, только вы меня не пугайте, — разозлился президент. — Вам хорошо, профессор, паек, машина, квартира, похороны по первому разряду на Новодевичьем. Вы можете и не крутиться — вас и так пощадят. А для меня это президентство — единственная зацепочка. Может, защитит, а может, и нет — если я не профессор, а научный сотрудник без степени во Всесоюзном центре по научной организации труда. Вы ведь даже и не знали, где я числюсь.
— Это где-то на Мясницкой, — сказал Александрийский, — дом три, если не ошибаюсь.
— Ну и память! — ахнул президент.
— И не только память, — сказал Александрийский. — Во мне еще остались какие-то силы — нет, не физические. Но меня поддерживает ненависть к таким, как вы, которые приспособились и научились лизать им задницы. Именно из-за вас, а не из-за Алмазова происходят все мерзости и преступления в нашей России. Вы готовы отнести на плаху собственную мать…
— Пал Андреевич!
— Не перебивайте меня!
— Я же за вас волнуюсь. А что, если кто услышит?
— Пускай слышит! К счастью, я настолько приблизился к настоящей смерти, что могу себе позволить пренебречь смертью, которую придумали ваши наниматели и друзья. Я стал свободен только потому, что завтра умру. И я познал истину — умрете и вы, Филиппов, и Алмазов, и Ягода, и Менжинский — и даже эта девочка Лида. Поэтому скорпионья возня, которую вы ведете, лишена смысла. И когда вас через три года расстреляют, то вы перед смертью еще успеете позавидовать мне, который ушел в могилу мирно и солидно, и даже с похоронами по первому разряду.
— Бог с вами, Пал Андреевич!
— Идем, Лидочка, он тебя больше не тронет.
Александрийский тронул Лиду за рукав.
— Посидим на веранде. Там крыша, и мы не промокнем.
— Давайте я все же немножко поубираю листья, — сказала Лидочка.
— Вы его боитесь?
— Мне неловко перед Окрошко. Он там один.
— Если он джентльмен, то уберет за вас.
— Идите погуляйте с профессором Александрийским. Это будет мое вам задание, — сказал, вдруг просветлев, президент. — Я заменяю уборку территории прогулкой с профессором.
— Ох, хитрец! — Александрийский приподнял трость, словно хотел ударить Филиппова, но тот быстро, не оглядываясь, пошел прочь, на кухню.
— Будет брать пробу с супа, — сказал Александрийский. — Каждый вечер приезжает его жена, и он выносит ей целую сумку продуктов. Научный организатор труда, глаза бы мои на него не смотрели!
Они стояли в прихожей. Справа был гардероб, где висели пальто и плащи отдыхающих, слева за дверью — раньше Лида не замечала — была вешалка, на которой было несколько ватников и прорезиненных плащей, — оказывается, там одевались наказанные.
Из бильярдной доносились редкие удары. Пока Александрийский одевался, Лида заглянула туда — это была очень светлая комната с громадным дореволюционным столом и даже специальными высокими скамеечками для зрителей. По стенам висели фотографии и акварели. Вокруг бильярда лениво бродили братья Вавиловы, отыскивая удобные для удара шары.
— Видите черный диван? — спросил Александрийский, подойдя сзади.
Под окном и на самом деле стоял диван, обыкновенный, черный, кожаный.
— На нем умер философ Соловьев, — сказал Александрийский. — Он был в друзьях с князем Трубецким, часто гостил здесь. И умер. Впрочем, откуда вам знать философа Соловьева?
— Мой папа о нем рассказывал, — сказала Лидочка.
— Папа? А кто он?
— Он был морским офицером.
— Он жив?
— Надеюсь, — сказала Лидочка, и Александрийский не стал спрашивать далее.
Они вышли в парк, обогнули дом и перешли под колонны перед фасадом. Там под портиком была скамья, куда не доставал мелкий дождь. Александрийский сразу сел — он быстро уставал. Лидочка не стала садиться, она прошла к краю веранды — хотела поглядеть, как там трудится аспирант Окрошко. Аспиранта она не увидела, но зато на дорожке, ведущей к холму с вышкой, увидела высокую обтекаемую фигуру Мати Шавло. Он шагал, медленно покачивая вперед и назад зонтом, словно подчеркивая им свои мысли.
Матя остановился, видно, намереваясь повернуть обратно к дому, но тут из-за угла дома появилась подавальщица Полина — Лиде было ее хорошо видно — и окликнула Матвея. Дул ветер, поскрипывали высокие лиственницы, росшие у кухни, шумел дождь — звуки беседы до Лиды не долетали, зато видно было, как Матя резко обернулся к женщине, которая остановилась шагах в десяти от него, и стал ее слушать, наклонив зонт в сторону, чтобы не мешал. Подавальщица говорила быстро, прижав руки к груди. Она была без зонта, во вчерашней шинели.
Полина сказала что-то неожиданное, удивившее Матю. Настолько, что он откинул зонтик назад, как ружье, на плечо, а сам сделал шаг вперед. Женщина выставила руку, как бы останавливая его движение. И заговорила вновь. Но он не хотел больше ее слушать. Это видно было по тому, как зонтик принял вертикальное положение, а сам Матя развернулся и пошел к дому. Женщина не пыталась его задерживать. Она стояла под дождем, прижав кулаки к груди.
Матя уходил от женщины все быстрее, вот-вот побежит. И буквально врезался в Алмазова, который шел в ту сторону, где гулял Матя, Алмазов был в кожаной куртке и кожаной фуражке — к такому наряду зонта не требовалось.
— Что вы там увидели? — спросил Александрийский.
— Ваш любимец Шавло беседовал с одной таинственной женщиной, — сказала Лидочка. — Она ищет сокровища Трубецких. Она предложила Матвею Ипполитовичу долю, если он ей поможет таскать сундуки.
— А он, конечно же, отказался, — сказал Александрийский.
— Судя по поведению, да. Но почему, профессор?
— Неужели, девушка, вам это не ясно? — удивился профессор. — Матя Шавло бескорыстен, и слухи о том, что он привез из Италии два вагона барахла, сильно преувеличены.
— Вы ему завидуете, профессор? — спросила Лида. — Нет, не отрицайте, по глазам вижу, что завидуете.
— Разумеется. Я меняю костюмы только четыре раза в день, а он — восемь.
Лидочка продолжала наблюдать за Матей. Сквозь стволы и переплетения почти голых ветвей ей было видно, как он перекинулся несколькими словами с Алмазовым. Матя махнул рукой назад — этот жест мог сопровождать рассказ о подавальщице, которая приставала к ученому. А может быть, разговор шел о другом.
— Что еще нового? — спросил Александрийский.
— Теперь они беседуют с Алмазовым.
— Не может быть, чтобы столько людей любило гулять под дождем.
Александрийский поднялся со скамейки и, опираясь на трость, подошел к Лиде. Алмазов и Матя все еще продолжали говорить. Потом Алмазов пошел обратно к дому. Получалось, что он специально выходил под дождь, чтобы перекинуться несколькими словами с Матей. Или Матя что-то сказал, заставившее Алмазова изменить свои планы?
— Подглядывать плохо, — сказал Александрийский. — Идите ко мне. Хотите, пойдем в дом? Здесь холодно и неуютно.
И в самом деле в парке было холодно и неуютно. Снова поднялся ветер, он трепал листья, все еще висевшие на мокрых черных ветках. Лист жести на крыше круглой беседки оторвался и неровно бил по дереву. Лидочка проводила Александрийского до дома, но тут увидела Ваню Окрошко.
— Я добегу до него, — сказала Лида.
— Она принесла кусок сухаря белому рабу, — сказал Александрийский.
— И среди рабов есть люди с черной кожей, но белым сердцем.
— Беги, благородный ребенок, но опасайся самой себя.
— Почему себя?
— А потому что в России слово «жалеть» синоним слову «любить». Пожалеешь — влюбишься.
— Еще чего не хватало! — искренне вырвалось у Лидочки. — Я тысячу лет замужем!
— Простите, не знал. Вы так молодо выглядите.
Сбежав с веранды, Лидочка увидела, что Матвей Шавло идет один, Алмазова он где-то потерял. Матвей заметил Лиду, но не сделал попытки к ней приблизиться и заговорить. Словно не заметил. Он был чем-то удручен или опечален, но Лидочке не было его жалко — каждый в наше время заводит себе друзей по вкусу.
В движениях людей, в запутанном и совсем не санаторном рисунке их действий, в напряжении их отношений Лидочка ощущала предчувствие беды, которая должна скоро обрушиться на этот тихий уголок.
«Я как черепаха — мне тысяча лет, — думала она, — я знаю, что будет наводнение, что идет ураган, а никто не хочет этого видеть. Вы все погибнете в его волнах… И ты, Матя Шавло, талантливый физик с усиками а-ля Гитлер, погибнешь раньше всех».
Сзади Александрийский окликнул Матю:
— Матвей Ипполитович, вы не спешите?
— Я совершенно свободен.
— Ваш собеседник вас отпустил?
— Если вы имеете в виду Алмазова, то они, по-моему, никого и никогда не отпускают на волю.
— Может, у вас найдется минутка, чтобы просветить меня по поводу излучения нейтронов?
Лидочка пошла дальше и уже не слышала, о чем они разговаривали.
Ванюша сгреб громадную кучу листьев и стоял, рассматривая ее, как муравей глядит на Эверест.
— Я готова вам помочь, — сказала Лидочка.
— Вы? Зачем вы пришли? Не надо было приходить.
Ванюша промок. Кепка была ему велика, а ватник висел на нем, как на вешалке. Он был карикатурен. Оказывается, если человека обрить, а потом дать обрасти щетиной, если его малость поморить голодом, затем натянуть на него грязный ватник и рваный треух или кепку, он становится непривлекательным и неумным. Как правило. В том сила ватника и лагерной стрижки, что любой лейтенант охраны искренне считает себя умнее, добрее и лучше, чем заключенный, имеющий гражданское звание академика или писателя-сказочника.
— Я не шучу, я на самом деле хотела вам помочь.
— Я все сделал. Уходите, пожалуйста.
— А если бы на мне тоже был такой ватник? — спросила Лидочка.
— В том-то и беда, — сказал аспирант, — что вы смогли остаться человеком, а я сдался. Я всегда им сдаюсь. Мне так хочется быть свободным, что я всегда им сдаюсь. Вы даже не представляете, что они со мной делают!
Он готов был заплакать и потому повернулся и быстро пошел прочь, в чащу, не разбирая дороги. Он волочил за собой грабли, и они подпрыгивали зубьями вверх.
Наверное, надо было вернуться — без зонтика совсем промокнешь. Но Лидочке так не хотелось в комнаты, что она решила чуть пройтись и тут же, как назло, натолкнулась на Алмазова. Лидочка понадеялась, что он ее не заметит, но он заметил, широко улыбнулся. Он был очень здоровым и хорошо скроенным человеком. И мог бы показаться приятным, но от улыбки его лицо становилось подлым.
— Иваницкая, — сказал он. — Я до сих пор испытываю неловкость от вчерашнего инцидента. И я постараюсь искупить свою вину. Знаете, что я предлагаю? Заходите к нам с Альбиной. У меня есть чудесные конфеты — вишня в коньяке. Не приходилось пробовать?
— Большое спасибо, — ответила Лидочка с легким придыханием. Так королева Виктория отвечала индийскому набобу на предложение подарить ей алмаз Кохинор.
— Замечательно, — сказал Алмазов. — Вы меня обнадежили. Теперь я буду в нетерпении ждать.
И неожиданно он схватил Лидочку за подбородок так крепко, что стало больно, и повернул ее голову к себе, чтобы заглянуть ей в глаза. А его глаза казались слепыми.
Лидочка рванулась, правда, несильно — уж очень растерялась, а Алмазов уже отпустил, как бы отбросил за ненадобностью ее лицо и сказал, делая первый шаг в сторону:
— Молодец, девочка. Мы будем дружить.
Лидочке хотелось крикнуть ему вслед что-нибудь обидное, но разве найдешь слова, когда тебя шлепнули и тут же ушли.
Без сомнения, если бы Александрийский увидел сейчас эту сцену, он бы съязвил что-нибудь о Лидочкиной жалости к мужчинам. Хорошо, что он не видел.
И гулять расхотелось — и дождь стал таким отвратительно мелким, холодным, словно ее посадили в яму, полную лягушек.
Лидочка вернулась в дом, разделась под стеклянным взором медведя, прошла сквозь лабиринт, образованный раскрытыми и оставленными сушиться зонтами, к бильярдной. Там все шла партия. На диване, на котором умер философ Соловьев, сидели три похожих друг на друга розовощеких научных сотрудника в толстовках, которые они, видно, специально взяли в Узкое, чтобы донашивать. Если они и знали о кончине философа, то не спешили последовать его примеру.
Лидочка прошла дальше, в библиотеку. Она была невелика, но высока, и с верхних полок застекленных шкафов никто никогда книг не брал. Рыхлая скучная библиотекарша лениво вязала в мягком кресле. За столиком сидел старичок, который вел пальцем по передовице в «Известиях», и молодая женщина с круглым лицом короткими пальцами листала модный журнал двухлетней давности и вздыхала, вглядываясь в рисунки.
Лида подошла к полке с подшивками московских журналов «Вокруг света» и «Всемирный следопыт». Эти журналы и им подобные, недостаточно идейные издания, были уж два года как закрыты, и их постепенно извлекали из библиотек и сжигали. Но до Узкого, видно, еще не добрались.
Лидочка взяла подшивку «Всемирного следопыта» за тридцатый год, отнесла ее к столику и, как только раскрыла, обнаружила, что отлично помнит все, что там было напечатано. Тут раздался гонг на обед, и Лидочка не стала испытывать судьбу — она уселась за стол одной из первых.
Ванюша вяло ел борщ, избегая встречаться с Лидой взглядом. Пастернака не было видно. За «академическим» столом сидел один старик Глазенап и крутил головой в поисках собеседника. Почувствовав такую нужду, президент Филиппов оставил свое место в торце «академического» стола и подсел к Глазенапу. Алмазов смотрел на Лидочку в упор, а Альбине был виден и понятен этот взгляд. Она дважды тронула рукав спутника белыми пальчиками, но тот не обращал на нее внимания.
«Мне еще не хватало такого поклонника», — подумала Лидочка и впервые здесь почувствовала, что страх, владевший прочими людьми, вторгся и в ее, казалось бы, защищенное от него сердце. До этого момента Лидочке казалось, что бояться может лишь тот, кому есть что терять. Ей же нечего было терять в 1932 году нашей эры… Но пока ты существуешь здесь, ты хочешь жить. Между твоей жизнью и смертью стоят Алмазов и другие люди, которые при исполнении служебных обязанностей надевают фуражку с голубым околышем. Ты можешь сейчас же встать из-за стола и уехать в Москву. И вернуться в свое тесное, населенное тараканами и людьми общежитие, а завтра дверь откроется без стука, и, растянув до ушей слишком красные губы, войдет чекист Ян Алмазов и пригласит тебя в кино.
Есть не хотелось. Здесь кормили куда лучше, чем в городе, куда лучше, чем в институтской столовке или диетической столовой на Мясницкой. Марта говорила, что подсобное хозяйство еще тикает, поставляет ученым то поросенка, то яички. Но жители Узкого сильно воруют — идет война между директором санатория и прислугой.
Не дождавшись третьего, Лида поднялась и пошла прочь. В дверях она встретила Марту, за которой топал Максим Исаевич.
— Лидуша, ты куда пропала? — спросила Марта.
Лида хотела было ответить, но мужская рука легла ей на плечо.
— Ты что не доела казенных котлет? — спросил Шавло. — Желания нет или мяса в них нет? Это я сам сочинил только сейчас и поспешил догнать тебя и сообщить.
— Это замечательные стихи, лучшие в мире стихи, — сказала Лидочка.
— Вы курите? — спросил Матя.
— Нет, но вы курите, курите, я не возражаю.
— Пошли в бильярдную?
В бильярдной было пусто. Они сели на черный диван, и Лиде было неловко перед покойным философом — как будто бы они подвинули его, беспомощного, к стенке.
— Вы знаете, — сказала Лидочка, — что на этом диване умер философ Соловьев?
— Который был другом хозяина дома, который с другими был тоже знакомый… вы любите детские стихи? Я люблю детские стихи.
— Вы очень веселый. Что случилось? — спросила Лида. В конце концов, это он ее сюда завлек, поэтому она имеет право задавать ему вопросы.
— Голова работает, работает, — сказал Матя, — а потом в ней — щелк — и есть идея! Мы с Александрийским разговаривали. Он меня замучил — зануда отечественной физики. Если бы он не был таким занудой, из него получился бы второй Резерфорд.
— Или маэстро Ферми?
— Нет, маэстро Ферми — любимец богов. Это выше, чем талант.
— Вы его уважаете?
— Я его обожаю. Я расставался с ним, как с недолюбленной девушкой.
— А почему вы уехали?
— Потому что кончился срок моей командировки и для меня оставался лишь один выход — вернуться домой.
— Или?..
Сигареты Мати испускали иностранный аромат. Приятно было нюхать их дым.
— Или изменить родине, — сказал Матя, — что для меня исключено. Да не улыбайтесь, это не от страха. Я вообще не такой трус, как вам кажется.
— А мне не кажется.
— Тем более. Передо мной стояла дилемма — либо остаться за границей, уехать в Америку, куда меня звали, либо же покорно вернуться сюда и снова стать одним из научных работников, имеющих право выезжать на научные конференции в Бухарест или Ригу… Пока кто-то из твоих коллег не сообщит, что ты во сне видел Троцкого…
— И вы выбрали такой путь?
В бильярдную вошел Алмазов, уселся на высокую скамеечку. Между ними был зеленый, очень пустой стол, Алмазов сидел на голову выше.
— А что ему оставалось? — спросил Алмазов, глядя на Лидочку. — Если у него в Москве старая мама и сестра, страдающая последствиями менингита.
Он тоже закурил, у него были папиросы «Казбек», и запах от них был неприятным.
Матя не обиделся на то, что Алмазов подслушивает и выдает его семейные тайны. Он вообще был добродушно настроен и, как большой, красивый, талантливый и даже избалованный жизнью человек, обижался куда труднее, чем люди несчастные и маленькие. В нем была снисходительность к чужим слабостям.
— Подслушивать плохо, Алмазов, — сказал Матя. — Я уединился с прекрасной дамой не для того, чтобы терпеть ваши угрозы.
— А куда вы от меня денетесь, — усмехнулся Алмазов.
— Не думайте, что вы всесильны, — сказал Матя, — вы даже больше слуга, чем я.
— Вы тоже слуга.
— Чей?
— Директора вашего института, например.
— Слуга Якова Ильича? Да вы с ума сошли! Для него такая мысль была бы оскорбительной.
— Вы слуга нашего государства, нашей партии и в конечном счете вы мой слуга, — сказал Алмазов, затягиваясь. Он был одет странно, но никто этой странности не замечал, — на нем был широкий модный пиджак, но брюки галифе и блестящие сапоги.
— Давайте не будем спорить, каждый все равно останется при своем мнении. Мне кажется, что скорее вы мой слуга, Ян Янович, — сказал Матя. — Я вам нужнее, чем вы мне.
— Вы нужны не мне, а нашей родине, — сказал Алмазов.
— Мы договорились обходиться с вами без громких слов.
— Куда от них денешься, Шавло. Кстати, доктор Шавло, сбрейте фашистские усы. Предупреждаю, это для вас плохо кончится.
— Потому и не сбриваю.
— Вы любите Гитлера?
— Не выношу. Но лучше Гитлер, чем некоторые другие.
— Не рискуйте, Шавло.
— Гитлер — борец за права рабочего класса. Вы не читали его работ, комиссар. Не сегодня-завтра мы найдем с ним общий язык!
— Немецкие рабочие во главе с товарищем Тельманом не покладая рук борются с призраком фашистской диктатуры. Фашизм не пройдет!
Лидочка вдруг поняла, что Алмазов не такой умный, как кажется сначала. Что она и другие люди награждают его умом, потому что видят в нем не человека, а представителя страшной организации, а значит, и частицу ума этой организации. И вот когда Алмазов говорит как часть организации, его надо слушать и бояться, но если он вдруг начинает говорить от себя, значит, говорит еще один человек, который боится. И значит, уже не очень умный.
— Все, — сказал Матя, разводя руками, — вы меня убедили, Ян Янович, я готов занять место в одном ряду с товарищем Тельманом и Розой Люксембург.
— Ее убили, — сказал Алмазов.
— Ай-ай-ай, — сказал Матя. — Вы?
— Нет, фашисты… — Алмазов улыбнулся по-мальчишески, взял себя в руки. — Ладно, вы меня поймали, Шавло. Но это случайность, которая только подтверждает общую закономерность. Все равно вы сдадитесь.
— Ни в коем случае. А на что вы претендуете?
Алмазов рассмеялся. Подмигнул Лиде и сказал:
— Вы уступите мне девушку.
— Никогда!
— Не зарекайтесь, Шавло.
— А меня кто-нибудь спросил? — вмешалась в разговор Лидочка.
— А тебя, голубушка, и не спрашивают. Ты комсомолка и должна подчиняться дисциплине.
— Я такая же комсомолка, как вы ветеран Бородинского сражения!
— Грубо, Иваницкая, — сказал Алмазов. — Но я вас прощаю.
— Даже если бы вы не были таким противным, — сказала Лидочка, отважная в тот момент отвагой кролика, который прижался к человеку и потому может скалиться на волка, — я бы все равно на вас не поглядела, потому что вы предатель.
— Я?
— Вот именно! Вчера вечером вы умудрились бросить меня на дороге вместе с больным человеком. Где же была ваша галантность?
— Лидочка, вы не правы, — вмешался Матя. — Вы были плохо одеты и не причесаны. Как же нашему другу было разглядеть за этим вашу красоту?
— Вы выходите за рамки! — громко сказал Алмазов и поднялся. Он быстро вышел, преувеличенно стуча сапогами, а Матя сказал ему вслед:
— У нашего оппонента не нашлось достойных аргументов в споре.
Он откинулся на спинку дивана, раскинул руки, так что правая рука лежала за спиной Лиды.
— Мы оба были не правы, — сказал он. — Мы дали увлечь себя эмоциям.
— Он тоже!
— Для него это не играет роли. Никто, кроме нас, не видел его лица и не слушал его оговорок. А если вы захотите напомнить… вам же хуже.
— Вы в самом деле обеспокоены? — спросила Лида.
— Да. Всерьез. — Матя посмотрел на приоткрытую дверь.
— Закрыть? — спросила Лида.
— Нет. Я думаю, он не подслушивает… Черт побери, я не хотел бы, чтобы мое дело сорвалось.
Лидочка не задавала вопросов, захочет — сам скажет. Не захочет — она переживет. Большая теплая ладонь Мати по-хозяйски улеглась на ее коленку. Тыльная сторона кисти была покрыта редкими темными волосами — как же она раньше не заметила этого?
Лидочка стала сталкивать пальцы Мати с коленки, пальцы сопротивлялись. Матя был доволен этой небольшой схваткой.
— Повышенная чувственность, — ворковал он, — свойственна творческим натурам. Не исключено, что это одно из выражений таланта.
Лидочке удалось справиться с пальцами Мати, и тот принялся рассматривать свои ногти.
— Пушкин с точки зрения обывателя — козел, — сказал физик.
— Матя!
— Обывателю куда интереснее узнать, завалил ли поэт жену Воронцова в приморской пещере, чем твердить с детства: «Мой дядя самых честных правил… когда простой продукт имеет».
— Вы не правы и знаете, что не правы!
— Вы сердитесь! Вам это идет. Ноздри раздуваются, глазки сверкают.
— Я не сержусь. Почему я должна сердиться на санаторного донжуана?
— Лидочка, вы ангел! Найти такие точные слова!
— К тому же далеко не все великие люди были… сладострастными.
Лидочка чуть было не сказала: «Ленин, например», но испугалась. А Матя ее почти понял.
— Дайте пример! Наполеон? Наполеон был слаб… физически слаб. Но в меру своих сил очень старался.
— А ваш Муссолини?
— К счастью, он не мой. Но совсем недавно один из его романов чуть не кончился трагедией. Одна французская актриса решила его соблазнить и в том отлично преуспела.
Почувствовав, что завладел вниманием собеседницы, Матя достал трубку, принялся ее набивать табаком. Лидочка вдруг поняла, что ждет, когда он зажжет трубку, ей нравился запах дорогого табака.
— Она сдуру начала афишировать эту связь, и ее пришлось выслать из Италии.
— Почему?
— Это же католическая страна, в конце концов!
— Но он же фашист! Ему все можно.
— Ему многого нельзя. Диктаторы, моя душечка, куда более ограничены в явных грехах, чем обыкновенные люди.
— И чем все это кончилось?
— Актриса стреляла во французского посла и ранила его. И попала в тюрьму.
— Ну в посла-то зачем?
— За то, что он хотел выгнать ее из Италии.
— Ваша история ничем не подтверждает идею о чувственности знаменитостей.
— Или возьмем, к примеру, Гитлера, — продолжал Матя. Он раскурил трубку, и Лидочка втянула ноздрями волнующий запах. Это был запах хорошей дореволюционной гостиницы — табачный дым, кожа, одеколон и кофе… — У Гитлера, конечно же, были любовницы. Мне рассказывал о его романах один приятель — немецкий чиновник от науки. Партиец.
— Коммунист?
— Нет, наци. Они тоже называют друг друга товарищами по партии.
В словах Мати была крамола, хотя, казалось бы, он не сказал ничего предосудительного.
— И он знал о любовницах этого фашиста?
— Вся Германия шепталась о его драме. Гитлер выписал из Австрии свою сестру, фрау Раубал.
— Почему из Австрии?
— Потому что он австриец, и вроде бы у него фамилия Шикльгрубер.
— Ну и что? — Лидочка чуть отодвинулась, потому что рука Мати вновь пришла в движение.
— Его сестра должна была помочь Гитлеру по хозяйству — все-таки холостяк, а у него дома бывают разные люди. Сестра привезла с собой дочку, которую звали Гели. Гели Раубал. То есть родную племянницу Гитлера, совсем еще девочку.
— А Гитлеру сколько лет?
— Ну уж точно больше сорока! В общем, Гитлер без памяти влюбился в племянницу.
— Не надо. Зачем об этом рассказывать?
— По той простой причине, что это — чистая правда.
— Я видела в «Вечёрке» рубрику «Зверский оскал империализма».
— Вы бы тоже могли стать моей племянницей. И я бы в вас влюбился. Не надо морщиться — я говорю вам: никакого секрета в том не было. И никто не считал, что это кровосмесительство или что еще… Гитлер открыто показывался с Гели, она даже поселилась в его большой квартире в Мюнхене. И Гитлер решил на ней жениться.
— Когда же это было?
— Недавно. Я уже жил в Риме. Года два назад Гитлер ревновал, просто с ума сходил. Гели хотела ездить в Вену — она брала уроки пения. А он ее не выпускал из постели.
— Матя!
— Из дому не выпускал. Он даже стал забывать о делах, влюбленность — беда для великого человека.
— Зачем вы так сказали? А вдруг кто-то услышит?
— Негодяи тоже бывают великими.
— Ничем таким ваш фашист себя не проявил! — Конечно же, Матя питает слабость к фашистам.
— Проявит! — уверенно ответил Матя. — Поглядите, как мастерски они устроили поджог Рейхстага и уничтожение коммунистов и социал-демократов.
— Можно подумать, что вы любуетесь ими.
— Бывает совершенство кобры, — ответил Матя. — Я не боюсь вас, Лидочка, вы вовсе не доносчица. У меня чутье. Хотите узнать, чем кончился роман Адольфа Гитлера?
— А он кончился?
— В один прекрасный день, осенью тридцать первого года, между Гитлером и его юной любовницей произошел скандал. А когда он вернулся домой вечером, то Гели лежала застреленной в своей комнате.
— Что? Кто ее застрелил?
— Следствие установило, что это было самоубийство. Она украла у Гитлера пистолет и выстрелила себе в сердце.
— Потому что они ссорились? Или она не хотела выходить за родного дядю?
— Она не оставила и записки — ничего.
— Вы думаете, что ее убил Гитлер?
— Мать увезла тело в Австрию. Там ее и похоронили. Гитлер, говорят, был вне себя от горя и гнева. Он добился у австрийского правительства визы, поехал в Вену и провел несколько дней почти не отходя от могилы своей племянницы-невесты.
— Это странно, правда?
— Мне говорили, что есть разные версии… Что на самом деле ее застрелил Гитлер в припадке гнева. Он не терпел сопротивления.
— А какие другие версии?
— Ее убил Гиммлер.
— Я не знаю, кто это такой. Я знаю в Германии Гитлера и Геринга, потому что этот толстый Геринг выступал на процессе Димитрова.
— Там есть и Гиммлер — он начальник его охраны. Он мог испугаться влияния, которое оказывала на Гитлера Гели.
— Она же молоденькая девушка.
— Вот буду в Германии — спрошу у Гитлера, — сказал Матя.
— Даже не шутите так!
— Говорят, что у него в кабинете и в спальне висят большие портреты племянницы. И когда он вспоминает о ней, то начинает плакать.
— Вы мне рассказываете о каком-то ягненке.
— Я вам говорю о том, что великие натуры — натуры чувственные.
И тут все-таки что-то потянуло Лидочку за язык.
— А Сталин? — спросила она, понизив голос.
— То же самое, — ответил Матя обыкновенно, словно она спросила об их соседе.
Лидочка невольно оглянулась на дверь. Матя чуть улыбнулся и, прервав паузу, произнес:
— В Италию они меня снова не выпустят. Это понятно. Но и сидеть в тихом уголке у Френкеля, который не понимает, куда несется сегодня атомная физика, я не желаю.
— Переходите в другой институт.
— Нет такого института.
— Что же делать?
— Получить свой институт. Только так. Получить свободу работы. Лидочка, девочка моя, меня ведь на самом деле в жизни интересует только работа. Настоящая работа, чтобы в руках горело, чтобы голова раскалывалась!
— Зачем? Работа ради работы?
— Ах, поймала! — Матя легонько притянул ее за плечо к себе и поцеловал в щеку, в завиток выбившихся пепельных волос. — Конечно, не ради головной боли, а ради того, что может дать работа, и только работа. А работа дает власть! Сегодня я ничто, и какой-нибудь Алмазов, ничтожество, может изгаляться надо мной, угрожать мне и даже… даже приводить свои угрозы в исполнение. Если я буду самостоятелен, если то, что я могу сделать, изобрести, придумать, исполнится, тот же Алмазов будет приползать по утрам ко мне в кабинет и спрашивать разрешения подмести пол…
— Ой-ой-ой!
— Ты еще ребенок, Лидия. Ты не понимаешь, насколько я прав. Я прав для любой ситуации, для любого государства и трижды прав для нашей Советской державы! Мы как были страной рабов, так и остались таковой. Только поменяли вывески. Наше рабство похуже рабства, которое затевал царь Иван Васильевич… В силу своей натуры я не могу быть рабом, я хочу быть господином. Умным, справедливым господином — но не ради того, чтобы повелевать людьми, а ради того, чтобы мной никто не смел повелевать. Я не хочу просыпаться ночью оттого, что кто-то поднимается по лестнице, и ждать — в мою квартиру или в твою. Не отмахивайся, ты не знаешь, а я только что из Италии, я жил в фашистском государстве и знаю, что может сделать страх. Завтра это случится в Германии, и с каждым днем эта спираль все круче закручивается у нас. Все тирании схожи.
— Вам надо было уехать в Америку, — сказала Лида.
— Глупости, вы же знаете, что у меня мать и сестра — они бы на них отыгрались. Я уеду в Америку только на моих условиях.
— Я хотела бы, чтобы вам так повезло.
— Не верите?
— Я уже научилась их бояться.
— Ничего, у меня все рассчитано.
— Вы приехали сюда отдыхать? — спросила Лида, чтобы переменить тему. Но Матя не поддался.
— Разве вы еще не догадались, что я приехал, потому что мне надо решить тысячу проблем? И для себя, и с Алмазовым, который тоже находится здесь в значительной степени из-за меня.
— Вы хотите, чтобы ГПУ дало вам свой институт?
— ГПУ не хуже любой организации в этой стране. По крайней мере они быстрее догадываются, что им нужно, чем Президиум Академии или пьяница Рыков.
— Если вы живете в Ленинграде, может, вам лучше поговорить с Кировым?
— Я не хочу оставаться в Ленинграде. Это великолепная, блестящая и обреченная на деградацию провинция.
— Ну и как идут ваши переговоры?
— Об этом тебе рано знать, ангел мой, — сказал Матя. — Главное, чтобы они поверили в мою исключительность и незаменимость. Чтобы они заплатили за мою голову как следует.
— Разве Алмазов годится на эту роль?
— А он у них один из лучших. Он даже почти кончил университет. Впрочем, дело не в образовании, а в понимании момента. У них идет отчаянная борьба за власть…
— Вы рискуете, гражданин Шавло!
— Да, я рискую. Но я знаю, ради чего, и у меня высокая карта!
— Может, смиритесь?
— Девочка моя, вы не жили до революции, вы не жили за границей. По наивности, внушенной вам комсомолом и партией, вы полагаете, что во всем мире крестьяне мрут с голоду, горожане покупают хлеб по карточкам, и за всем вплоть до булавки по милости кремлевских мечтателей надо маяться в очереди. Есть другой мир. И я хочу либо жить в нем, либо заставить их перенести сюда часть этого мира — для меня лично.
— А вы?
— А я взамен дам им новое оружие, о котором Гитлер и Муссолини только мечтают.
— Они возьмут, а потом вас выкинут.
— Так не бывает. — Матя был убежден в себе. — То, чем я занимаюсь, их пугает. Отношение ко мне почти религиозное. Я — колдун. И если я покажу им мой фокус, то стану страшным колдуном. Они не посмеют меня обидеть. Они просты и религиозны.
Рука Мати снова перекочевала на колено Лидочке. Рука была тяжелая, теплая, и коленке было приятно оттого, что такая рука обратила на нее благосклонное внимание. Но Лидочка понимала, что хорошие девочки не должны разрешать самоуверенному Мате класть руки куда ни попадя. Потом его не остановишь.
Пришлось руку вежливо убрать, Матя вздохнул, как вздыхают уставшие от скачки кони.
— Вы забываете, что я великий человек, — сказал он как будто шутя.
— Я ничего не забываю, — возразила Лидочка. — Я буду ждать, пока вы станете великим человеком. Пока что вы, как я понимаю, торгуете воздухом.
— Может быть, до сегодняшнего дня вы имели право меня упрекнуть в этом. Но не сегодня.
— А что произошло?
— Пока мы разговаривали с настырным Александрийским, я понял принцип, который позволит создать сверхоружие! Я сделал шаг, до которого не дошел старик Ферми!
— Он старик?
— Господи, вы меня не хотите понять! Ферми моложе меня, ему только-только исполнилось тридцать. Но он — гений.
— А вы? Разве вы не гений?
— Если бы я был ничтожеством или хотя бы середнячком, я бы на вас обиделся, Лида, я бы вас возненавидел. Но я так велик, что комариные укусы прекрасных девочек меня не раздражают. Каждому свое.
— Вы весело настроены.
— Да, потому что я люблю женщин. Умных женщин. Больше всех я люблю вас, Лидочка, и немолодую австриячку, которую зовут Лизой Мейтнер. Я ее очаровал, она мне доверилась.
— Вы в самом деле любите ее? — Еще не хватало ревновать этого петуха к какой-то австриячке.
— Лизе за пятьдесят. Два месяца назад я провел у нее три недели в Берлинском университете. Она рассказала мне о делении атомов урана. Она считает, что именно в уране можно вызвать цепную реакцию деления атомов. Об этом не думал никто. Что вам говорит понятие критической массы урана? Той, после которой начинается цепная реакция? Ничего? Так вот, кроме меня и Лизы Мейтнер, сегодня это ничего не говорит ни одному из физиков мира. Даже Бор или Ферми сделают большие глаза, когда вы об этом расскажете. А через пять, от силы через семь лет наши беседы с Лизой за чашкой кофе перевернут мир. И на перевернутом мире, как на стульчаке, буду сидеть я, собственной персоной, в новом костюме и лакированных ботинках. А в руках у меня будет бомба, которая может взорвать всю Москву. Смешно?
— Страшно.
— Бояться не надо, бояться будут другие.
— А если эту бомбу сделают?
— Ее обязательно сделают, — сказал Матя. — Не сегодня, так завтра. И все те гуманисты, которые сегодня вопят о сохранении мира, отлично будут трудиться над сверхбомбами или ядовитыми газами. Я лучше их, потому что не притворяюсь ягненком, а понимаю, что происходит вокруг. И, понимая, использую слабости диктаторов. На сеновал придешь, девица?
Лидочка не сразу сообразила, что Матя уже сменил тему, и переспросила его глупым вопросом:
— Что? Куда?
Потом засмеялась. Они оба смеялись, когда пошли прочь из бильярдной. Матя поцеловал Лидочке руку и сказал:
— Прости меня, мой друг желанный, мне надо будет немного почитать в постели — идеи, которые будоражат мой мозг, не дают мне спать спокойно.
Он пошел к себе в правый, северный корпус, где жили академики и профессора, — там у каждого была отдельная комната, а у академиков даже с отдельной уборной.
Лидочка была встревожена разговором с Матей. Матя не шутил и не хвастался. Он был человеком достаточно простым, открытым, он любил нравиться. Вот и Лидочке он хотел понравиться — и если он не мог играть с ней в лаун-теннис, плавать в бассейне, кататься на извозчике по набережной Неаполя, он говорил о своих научных успехах и будущей славе, во что сам верил. Но его решение продаться подороже не показалось Лиде убедительным и безопасным. Алмазов не делает подарков. Сила Алмазовых заключалась в том, что им не были нужны правила игры или порядочность. Если можно было — они брали бесплатно. Если не получалось, платили, но злопамятно помнили, что эти расходы при первой возможности надо возвратить.
Лидочка поднялась на второй этаж. Ей захотелось спать. Дома она никогда не спала после обеда, но свежий воздух и насыщенность жизни событиями склоняли ко сну.
В дверь своей комнаты она стучать не стала — не пришло в голову. Она толкнула дверь и вошла.
Несмотря на то что день был пасмурным и перед окном длинного пенала, в котором обитали Марта с Лидочкой, стояла колонна, преграждавшая путь свету, Лидочка во всех деталях увидела любовную сцену, которая разыгрывалась на койке Марты. Правда, потом Марта упорно утверждала, что дверь была закрыта на крючок и лишь дьявольская хитрость и коварство Лидочки, которая хотела скомпрометировать Марту в глазах общественности, и в частности ее мужа Миши Крафта, позволили этот крючок откинуть, не повредив. На самом же деле ни Максиму Исаевичу, ни Марте не пришло в голову закрывать дверь на несуществующий крючок, так как они не намеревались грешить. Максим Исаевич заглянул к Марте, чтобы дать ей последний номер журнала «Огонек», который обещал ей еще за завтраком. А уж потом, слово за слово… Ведь не секрет, что санатории и дома отдыха обладают странным и еще не до конца изученным порочным свойством снижать уровень сопротивляемости порядочных женщин перед поползновениями развратников мужского пола. Впрочем, Лидочка могла бы в том убедиться на своем опыте — ведь только что она сидела рядом с Матей Шавло и не возмущалась, когда тот клал руку ей на коленку.
Лидочка настолько не ожидала увидеть то, что увидела, что, войдя в комнату и поглядев на койку Марты, никак не могла понять, почему большие крепкие ноги Марты Крафт, затянутые в серые шелковые чулки, направлены к потолку, а между ними находится округлая спина в розовой рубашке и обнаженные ягодицы, которые подпрыгивают в такт тонким удивленным вскрикам Марты.
— Как? — вскрикивала Марта. — Как? Нет! Что? Где?
На глазах у Лидочки совместное движение полуодетых тел все ускорялось, и вопросы Марты становились все более громкими и настойчивыми.
Объяснение странному поведению Лидочки можно найти лишь в том, что ее собственный опыт в этой области был невелик и ограничивался лишь Андреем и ей никогда не приходилось видеть акт любви со стороны в исполнении иных людей. Надо сказать, что это представление Лидочке не понравилось и показалось некрасивым.
— Да! Да! Да! — торжествующе закричала Марта, и тут оцепенение спало с Лидочки, и, догадавшись, невольной свидетельницей какого таинства стала, она отступила к двери, правда, к сожалению для всех, уйти не успела. Марта, придя в себя, воскликнула:
— Ты что здесь делаешь?
Приземистый Максим Исаевич не стал даже оправдываться — он соскользнул с Марты и ловким движением отыскал на полу возле кровати свои брюки, сделал шаг к окну и быстро стал их натягивать.
— Ой, простите! — сказала Лидочка.
— Шпионка! Диверсантка! — вдруг закричала Марта, натягивая на себя покрывало. Ее черные глаза сверкали ненавистью, и Лидочка поняла, что ей лучше ретироваться.
Так и получилось, что Лидочка оказалась одна в коридоре в половине четвертого пополудни, когда весь санаторий погрузился в послеобеденный сон.
Она спустилась вниз, прошла в гостиную. В гостиной никого не было, а библиотека была закрыта. По стеклам окон текли струйки воды, ели подступали к окнам, чтобы было еще темнее и сумрачней.
«И зачем я согласилась поехать в санаторий в это мертвое время? Я же не увижу ни капельки солнца, я буду ходить по этим скрипучим лестницам и мрачным, недометенным залам, откуда даже привидения эмигрировали в Западную Европу, я буду избегать Матю, чтобы он меня не соблазнил, и Алмазова, чтобы не прижал в углу, за что ангельского вида Альбина ночью выцарапает мне глазки. А теперь еще осложнятся отношения с Мартой, которая на меня обижена за то, что я не стучусь, входя в дверь, не говоря уж о президенте Филиппове, который меня не выносит…»
Пребывая в таком печальном настроении, Лидочка прошла в альков гостиной, где под портретом молодой женщины, заморенной Петром Великим, стояли павловский диван и два кресла. Возле них торшер. Лидочка решила, что посидит здесь, и хотела зажечь торшер, чтобы не мучиться в полутьме, но торшер, конечно, не зажегся, и Лидочка уселась просто так. Никого ей не хотелось видеть. Ни с кем не хотелось разговаривать.
В тот момент она услышала нежный шепот:
— А я вас искала.
Темная тень скользнула из-за киноаппарата, который стоял перед диваном, и уселась на диван рядом с Лидой.
Лида сразу узнала Альбину, спутницу Алмазова, из-за которой вчера и разгорелся весь сыр-бор. Меньше всего ей хотелось общаться с этой ласковой кошечкой.
— Я как раз собиралась к себе пойти, — сказала Лидочка.
— Ой, не надо врать, — прошептала Альбиночка. — Я же за вами от бильярдной следила. Вы у себя в комнате были, а там Марта Ильинична с администратором из мюзик-холла, правда?
Альбина засмеялась почти беззвучно, но без желания кого-то обидеть. Ей казалось смешным, как Лида стала свидетелем такой сцены.
— Я все замечаю, — сочла нужным пояснить она. — Я даже не хочу, а вижу. Как будто меня кто-то за руку подводит к разным событиям. Вы не думайте, что это Ян Янович, он даже и не знает, как я все замечаю. А зачем ему знать?
Лидочка не стала возражать. «Пускай говорит, потерплю». Но намерение Лидочки отсидеться, пока Альбина кончит свой монолог, оказалось тщетным, потому что уже следующей своей фразой Альбина удивила Лиду.
— Вы, наверное, думаете, чего меня Ян Янович к вам прислал. А все совсем наоборот. Если он узнает, что я с вами разговаривала, он так рассердится, вы не представляете. Он меня может побить, честное слово…
Альбина сделала паузу, как бы желая, чтобы смысл ее слов получше дошел до Лидочки, а Лидочка успела подумать, что Альбина испугалась соперницы: она, видно, решила, что Лидочка готова заступить на ее место при бравом чекисте.
— Вы уже, наверное, догадались, что я вам скажу, только вы неправильно догадались.
Альбина говорила вполголоса, впрочем, говорить громко в той гостиной было бы неприлично — такая тишина царила в доме. Альбина, поудобнее устраиваясь на узком диване, подобрала под себя ноги, и диван заскрипел, будто был недоволен тем, что кто-то посмел забраться на него с ногами.
От Альбины пахло хорошими французскими духами — Лида любила хорошие духи, и ей было грустно, что теперь у нее нет таких духов и вряд ли в жизни ей удастся снова надушиться ими. И как ни странно, этот добрый терпкий запах примирял Лиду с присутствием этой чекистской шлюшки — как будто возможность вдыхать аромат была платой за необходимость слушать ее излияния. А может, и угрозы.
— Мне бы не хотелось, — сказала Альбина, — чтобы вы сблизились с Яном Яновичем. Я человек прямой, я сразу вам об этом говорю, без экивоков.
— А почему вам кажется, что мне этого хотелось?
— Нас редко кто спрашивает, — сказала Альбина и улыбнулась, в полутьме сверкнули ее белые ровные зубы. — Нас, красивых женщин, берут, и от нас зависит лишь умение отдаться тому, кто нам больше нравится. Только, к сожалению, даже этого нам не дают.
— Ваш Алмазов, — сказала Лидочка с прямотой дамы с хорошим дореволюционным воспитанием, — мне ничуть не симпатичен, и я не собираюсь с ним сближаться.
— Я вижу, что вы искренняя, — сказала Альбиночка, — но ваше решение так мало значит!
— Если оно так мало значит, зачем со мной разговаривать!
— Потому что я хочу, чтобы вы отсюда уехали. Тут же.
— Почему?
— Вы ему страшно понравились! Если вы останетесь здесь, Лида, вы обречены. Я клянусь вам.
— Вы ревнуете? — спросила Лида. Чтобы что-то спросить — нельзя же так: слушать и молчать.
— Господи, сколько вам лет?! — Альбина сморщила нос, нахмурилась, сразу стала старше — даже в полутьме видно. Наверное, со стороны они кажутся добрыми подружками, обсуждающими мелкие дела — какую шляпку купить или где достать муфту из кролика. Пустяки… делят чекиста Алмазова, а он Лидочке вовсе не нужен. Не нужен, но как не хочется признаваться в этом мямле с томными глазками. «Боишься потерять паек и защиту, надеешься, что он возьмет тебя в жены и станешь ты комиссаршей на конфискованном фарфоре». Эти мысли неслись где-то в подсознании и никак не отражались на лице Лидочки — она вела себя как ирокез на ответственных переговорах с бледнолицыми.
— Разве мой возраст так важен? — спросила Лидочка.
— Я думаю, вам не больше двадцати, — сказала Альбина. — А мне уже тридцать.
— И что из этого следует? — Лидочкиному тщеславию захотелось поглядеть на себя со стороны. Приятно быть сильнее и знать, что Альбина вымаливает у нее то, что Лидочке не нужно, то, с чем она готова расстаться, не имея. Но пускай помучается.
— Вы его любите? — спросила Лидочка.
— Господи, о чем вы говорите?
— Тогда зачем вы со мной разговариваете?
— Потому что вы еще ребенок, вы не понимаете, на что себя обрекаете, если попадете в когти этому стервятнику.
— А вы?
— Обо мне уже можно не думать, со мной все кончено. Он — моя последняя надежда, нет, не надежда — он моя последняя соломинка.
Лидочке хотелось ей сказать: «Не говорите красиво!» — но нельзя переступать определенные правила поведения. Хорошо бы кто-нибудь сейчас пришел, и тогда бы разговор кончился…
Альбина, как и следовало ожидать, достала из махонькой бисерной сумочки махонький шелковый платочек. Из сумочки вырвался такой заряд запаха французских духов, что Лидочка чуть не лопнула от зависти. Сейчас бы сказать ей: меняюсь — тебе Алмазов, мне духи.
Альбина промакивала глаза, чтобы не потекла тушь с ресниц.
— Я не могу, он для меня все…
— Я даю вам честное слово, — сказала Лидочка, — честное благородное слово, что у меня нет ровным счетом никаких видов на вашего Алмазова. Мне он даже противен. Я скорее умру, чем буду с ним близка.
— Вы честно говорите?
— Я же дала честное слово.
— Тогда вам надо будет скрыться из Москвы.
«Господи, она просто дурочка! Она забыла, где мы живем». Но Лидочка не могла оставить последнего слова за Альбиной.
— Приедет мой муж. Он обещал…
— Ты с ума сошла! — Только тут Лида увидела, как Альбина испугалась. — Умоляю, пускай он не приезжает!
Почему-то тут Альбина задрала широкую шелковую юбку, оказалось, что на ее панталонах был сделан карман — оттуда Альбина вытащила помятую на углах и сломанную пополам фотографию-визитку и протянула ее Лиде. Можно было лишь угадать, что на фотографии изображен какой-то мужчина и рядом с ним Альбина — они похожи друг на дружку, даже головы склонили одинаково, а у Альбины на шее те же бусы, что сегодня, и так же завиты кудри на висках. Значит, фотография снята не так давно.
Альбина обернулась — никого близко не было, — дом Трубецких застыл, сонно зажмурился в полумраке дождливого дня. Она спрятала визитку на место и оправила юбку.
— Поняли? — спросила Альбина шепотом. — Это мой муж. Вам понятно?
Лиде ничего не было понятно. И она задала глупейший из возможных вопросов.
— Он приедет, да? — спросила она.
Альбина смотрела на Лиду широко открытыми глазами, на нижних веках скопилась вода, которая никак не могла превратиться в слезы и скатиться вниз.
— Когда Георгия взяли, — сказала Альбина как во сне, ровно и невыразительно, — то он меня допрашивал… Ян. Он меня допрашивал и отпустил. Но потом приехал ко мне и сказал, что может нам помочь. Хоть дело очень сложное и помочь почти невозможно. Мой муж грузин, вы понимаете?
Лидочка ничего не ответила.
— Все это очень сложно. У них там все перепуталось. Мой Георгий — дальний родственник Ильи Чавчавадзе, это вам что-нибудь говорит? Тогда не важно, это и мне было не важно. Георгий из очень уважаемой фамилии — мы с ним бывали в Вани, там у них дом на берегу Куры, там очень красиво. Но Георгий мне говорил, что он обречен, — а я смеялась, понимаете, он театральный художник — он даже в партию не вступал… Ян сказал, что я одна могу помочь Георгию. Если я буду покорна. Вы меня поняли? Теперь я понимаю, что я тоже обречена. Даже если он спасет Георгия. Вы верите, что он спасет Георгия? Не говорите — я не верю. Он говорит, что время идет и он старается, но не все от него зависит, я играю в театре, и у меня была роль в кино — я сейчас все бросила. Он сказал, что все зависит от того, смогу ли я его полюбить. Он понимает, что я делаю это для Георгия, но, когда Георгий придет, он меня убьет. Вы не представляете, какой он у меня дикий. Но я же не могу… если есть один маленький-маленький шанс. Я должна сделать, чтобы Ян меня любил, если он меня любит, он сделает что-то — он ведь не совсем плохой, иногда бывает такой забавный… Так вы уедете, Лида?
Лида ответила не сразу. Она не думала над ответом, она думала: а что, если Алмазов начнет раздевать Альбину и найдет эту фотографию? Наверное, он рассердится, — но куда спрятать фотографию?..
— Вы думаете о другом, да?
— Я думаю… что если я сейчас уеду и постараюсь скрыться, то, может, будет еще хуже. Он вас заподозрит.
— Но я не знаю, что делать! Ну просто хоть вас убивай.
И Лидочка вдруг поняла, что Альбина сказала это совершенно серьезно, что она готова убить Лиду, потому что зашла так далеко в своих жертвах Георгию, что смерть Лиды мало что меняла в ее трагедии.
— Не надо меня убивать, — сказала Лида. — Я обещаю вам, что он ко мне не притронется. А если притронется, я уеду.
— Вы мне даете слово?
— Даю.
— Только не уходите. Я вам все рассказала, а теперь вы одна все знаете. А мне обязательно надо вам еще сказать, потому что я не могу все хранить в себе. Вы знаете… — Альбина говорила быстро, скороговоркой, глаза ее лихорадочно блестели. — Я должна вам рассказать, что он со мной делает. Георгий очень целомудренный человек, для него любовь — это слияние двух любящих сердец. Вы давно замужем?
Лидочке не хотелось слушать. Альбина была больным человеком — она уже две недели жила в постоянном обреченном ужасе, она поддерживала себя пустой надеждой на возвращение Георгия, хотя знала, как и все вокруг, наверное, знали, что Георгия она не вымолит и не заработает. А если случится чудо и Георгий останется жив, то он на самом деле либо убьет ее, либо, пожалев, бросит — он не сможет жить с ней, как, впрочем, и она… И мука Альбины усугублялась тем, что она вынуждена была сносить косые взгляды, насмешки и даже оскорбления близких, потому что все видели то, что лежало сверху, — ее жизнь при Алмазове, что вдвойне было предательством мужа.
С каждым днем Альбина все глубже увязала в двусмысленности своей жизни — отказаться от Алмазова и с этим от иллюзорной надежды спасти Георгия было невозможно. Значит, надо было сделать так, чтобы Алмазов полюбил ее, чтобы он ее ценил, чтобы ее тело казалось ему лучшим и самым желанным, чтобы ее поведение, ее послушание и всегдашняя улыбчивость ему нравились и радовали его взор. И тогда он, преисполненный благодарности и нежности к ней, освободит Георгия.
Все в Альбине было расколото надвое. Она ненавидела Алмазова — его пальцы ей были отвратительны, его улыбка страшна, а гнилой обломанный зуб — правый клык — вызывал тошноту. Все было ненавистно в Алмазове — но надо было терпеть, улыбаться ему, разрешать его рукам трогать живот, грудь и ягодицы, вести себя так, чтобы Алмазов не догадался об ее отвращении, наоборот — думал о радости, которую он ей доставляет своими ласками. Ни на секунду Альбиночка, которая всю жизнь до того существовала в атмосфере нежного мужского поклонения, шуток и загородных пикников, мелких театральных интриг и совсем уж пустяковых ссор с ревнивцем Георгием, ни на секунду не могла расслабиться, рискуя показать Алмазову, как на самом деле она к нему относится. Ни на секунду — это было самым страшным, самым трудным, самым невыносимым и вело, как ни странно, совсем уж к неожиданным последствиям. Во-первых — Альбина, опомнившись, сама не могла понять, как такое возможно, — она испытывала порой ненависть к Георгию, даже желала ему смерти. «Как ты смел сделать то, что ты сделал! Обидеть и рассердить товарища Сталина и товарища Алмазова! Как ты смел вести себя так, чтобы тебя арестовали и мне пришлось из-за этой твоей глупости пойти на такое унижение!» Это он, именно Георгий, виновник всех бед Альбиночки, и потому он ненавистен, да, ненавистен! Это настроение проходило, сменялось еще большей виной перед страдающим Георгием и пониманием того, что, как бы она ни любила мужа, на что бы ни шла ради его спасения, сами ее действия — смертный приговор их будущей жизни.
Но даже это было не самым страшным. Оказалось, что человек может пасть еще ниже, чем сам предполагает возможным. С самой первой ночи, проведенной с Алмазовым, с ночи, как и последующие их свидания, переполненной ужасом и отвращением, с Альбиной происходило нечто постыдное и необъяснимое — но происходило. Отчаянно, но лишь мысленно сопротивляясь каждому движению Яна, рукам, которые ее раздевали, тяжелому телу, которое придавливало ее к кровати, губам, которые слюнявили ее губы и щеки, зубам, которые делали так больно ее соскам, Альбина через пять-десять минут подчинялась ритму Алмазова, воистину становилась его любовницей и забывала на секунды об ужасе и отвращении, потому что проваливалась в пучину позорного безумного наслаждения, и руки ее помимо воли прижимали к себе рычавшего Алмазова, и ногти впивались ему в широкую спину, а тело раскрывалось навстречу ударам, которые он наносил ей, а губы искали рот Яна… Когда же обессиленный и потный Ян скатывался в сторону, Альбина прижимала к глазам кулачки и закусывала губу — только чтобы не заплакать, только не показать, какая громадная, удушающая волна ужаса и ненависти к себе накатила на нее… Но Алмазов ничего не замечал, он быстро, но ненадолго засыпал и во сне неразборчиво бормотал и скрипел зубами, а Альбина лежала рядом, на спине, так и не пошевельнувшись, — и мечтала о том часе, когда вернется Георгий, она встретит его, накормит, улыбнется ему, потом пройдет на кухню и выбросится с восьмого этажа: она уже примерилась — створка окна была узкой, но Альбина могла в нее протиснуться…
Не все, но какие-то невнятные обрывки этого внутреннего монолога Лидочка услышала, и поняла остальное, и сжалась в ужасе перед неизлечимой бедой этой милой, очаровательной, элегантной женщины, созданной для милой и элегантной жизни и обреченной теперь на ничтожество и смерть. И выхода не было, и Лидочка ничем не могла ей помочь.
А сейчас Альбина была занята лишь одной мыслью — не потерять страшного ненавистного любовника, потому что тогда никто не захочет помочь Георгию и ни с чем не соизмеримая жертва Альбины окажется лишней. Ты можешь с болезненным наслаждением думать о том, что выбросишься из окна, когда твоя жертва принесет свои плоды, когда рядом будет спасенный такой дорогой ценой Георгий. Но насколько пуста и никому не нужна смерть в одиночестве, в сознании того, что Георгий мерзнет на Соловках или даже стоит у стены в ожидании залпа.
Лидочка как могла утешала Альбину, хотя понимала, что пройдет несколько минут, и Альбина снова начнет терзаться подозрениями…
К счастью, Альбина разрыдалась — она дрожала, пряталась на Лидочкиной груди, словно та была ее мамой, которая утешит и спасет от безвыходности взрослой жизни.
— А я боялась, — бормотала она в промежутках между приступами рыданий, — я боялась, что вы такая… что вы хотите его отнять… а может, я думала, у вас кто-нибудь тоже там… и вы хотите, как я, спасти… А он меня заставляет еще следить, за Матвеем Ипполитовичем велел следить, с кем он разговаривает и о чем… а я совсем не умею следить и не понимаю. Они разговаривают с профессором Александрийским, они говорят про свои дела, а Ян Янович сердится, что я не понимаю… Ой, если он увидит, что у меня глаза распухли, что он со мной сделает…
Лидочке и жалко было Альбину, и хотелось уйти от нее, забыть, как уходят звери от больного собрата — ты не поможешь, но боишься заразиться.
Стало совсем темно, хотя еще не было шести. Лида думала, как сделать, чтобы Альбина ушла, — она так устала от этого разговора и чужого горя. Но никак не могла придумать повода, который заставил бы Альбину подняться.
— Я так боялась, — снова зашептала Альбина, — я так боюсь — у меня неделю назад уже месячные должны были начаться. А ничего нет. Как будто и не должно… Скажите, а может быть, это от нервов? Ведь бывает, что от нервов?
«Господи, — подумала Лида, — за что же Ты так жесток к этому созданию? Чем Альбина могла прогневить Тебя?»
— Конечно, — сказала Лидочка, — это очень похоже на нервы.
И тут в тишине послышались четкие женские — на каблуках — шаги.
Шаги завернули из прихожей в гостиную. Альбина вскочила.
И тут же щелкнул выключатель и зажегся свет.
В гостиной стояла Марта Ильинична, жмурилась, вертела головой, приглядывалась — увидела.
— Так я и думала, — заявила она. — Где ты могла быть? Свет нигде не горит, в бильярдной Вавилов с Филипповым шары катают… Извините, я помешала, у вас интимная беседа?
Альбина сказала:
— Ничего особенного, — и пошла из гостиной, отворачиваясь от Марты.
Марта смотрела ей вслед и, дождавшись, пока та вышла, спросила:
— Лида, ты что, забыла, кто эта тварь?
— Вы не все знаете.
— Я знаю то, что видят мои глаза. И единственное возможное оправдание для тебя, что она тебе нравится как девочка.
— Я не понимаю.
— Отлично понимаешь, котенок. Но я не об этом.
Марта уселась на диван рядом с Лидой.
— Ох, уморил он меня, — сообщила она.
Лида никак не могла вернуться к мелочам санаторной жизни после монолога Альбины. Она даже не сразу вспомнила, что была свидетельницей романа Марты, и та теперь намерена каким-то образом подвести итоги этой сцене.
— Мне надо идти, — сказала Лида.
— Погоди, успеешь, я только два слова.
Марта дотронулась до плеча Лидочки.
— Мое горе в том, — сказала она торжественно, — что я люблю одинаково страстно и мужчин, и женщин. Видимо, я существо высшего порядка.
Марта тихо рассмеялась и показала ровные желтоватые зубы.
— Максимка — мой старый приятель. Ты еще под стол пешком ходила, когда мы с ним подружились. Я это говорю на случай, если ты что-нибудь подумала.
— Я ничего не подумала!
— Нет, вижу, что подумала! Признавайся, подумала?
— Марта, клянусь вам, я даже ничего не видела!
— Как так не видела? — Этого Марта не смогла перенести. — Я думала, что всю подушку зубами изорву, а она — не видела!
— Ну видела и забыла.
— Вот и хорошо. У меня к тебе одна просьба — Мишка Крафт не должен ничего знать. У него слабое сердце и нет чувства юмора.
— Он ничего не узнает, — сказала Лида.
— Вот и отлично.
От бильярдной послышались голоса, в гостиную вошли какие-то мужчины, но Лидочке из-за колонн не было видно кто.
— Предупреждаю, — сказала Марта, поднимаясь с дивана, — если этот сексуальный маньяк будет к тебе лезть, отшей его немедленно! Иначе будешь иметь дело со мной.
— Вы о ком?
— Как о ком? О Максиме!
Марта пошла прочь, исчезла за колоннами, и оттуда послышался ее оживленный голос:
— Ну как бильярдные страсти? Надо играть на коньяк, товарищи. А коньяк отдавать дамам.
И Марта заразительно рассмеялась.
Глава 3
Вечер и ночь 23 октября 1932 года
Лиде не хотелось идти на ужин. Она надеялась, что, если спрячется в комнате, не зажигая света, о ней забудут.
За окном лил бесконечный дождь, но само стекло было сухим: в этом месте над входом нависал опиравшийся на колонны портал.
Два фонаря, висевшие на столбах перед домом, освещали начала дорожек, что спускались к среднему пруду. Между дорожками лежал широкий, покатый газон, а за ними стояли ряды вековых лип.
Парк будет таким же пустынным, когда вымрет все человечество — от чумы или от войны. И окажется, что все, еще вчера бывшее антуражем, не более как фоном, частично созданным человеком, а частично использованным, вдруг обернется истинным содержанием земного пейзажа, и окажется, что человек в нем вовсе не обязателен. Это было грустно, еще вчера Лидочка так бы и не подумала, а сегодня не только думала, но и понимала справедливость такого решения судьбы человечества, недостойного лучшей участи. И особенно нелепо было видеть сходство в судьбах двух столь непохожих женщин. Казалось бы, ничего не было общего в приключении, которое устроила себе Марта, завлекши в постель Максима Исаевича, и той тоске, с которой отдавалась вчера и будет отдаваться сегодня Алмазову милая Альбиночка. Сходство было не в соитии, но в отсутствии любви — завтра обстоятельства могут перемениться, и тогда Марта Ильинична будет обнимать Алмазова, наивно полагая, что тот, насладившись ее прелестями, выпустит на волю Мишу Крафта, а Альбиночка, не подозревая, какая чаша ее миновала, заманит к себе в комнату театрального администратора Максима Исаевича, то ли из маленькой актерской корысти, то ли просто от ощущения особой курортной свободы и безнаказанности…
В дверь постучали.
Лидочка не стала откликаться — ей никого не хотелось видеть и было страшно, если это окажется Алмазов. Лидочка вцепилась ногтями в широкий деревянный подоконник, спиной ощущая желание невидимого человека войти в комнату. Какая глупость, что здесь не положены крючки или замки, — это идет от больничных правил, сказала еще днем докторша Лариса Михайловна. Был случай, лет пять назад, когда жена одного академика умерла в комнате от удара; пока стучали, да бегали за слесарем, да ломали дверь — она и умерла. И тогда директор сказал: у нас лечебное учреждение, а не развратный курорт для скучающих баб. И замки, а также крючки сняли. Совет отдыхающих Санузии, оскорбленный тем, что его заподозрили в стремлении к разврату, взбунтовался и устроил митинг, который постановил отказаться от компота. Но Президиум Академии наук поддержал инициативу директора — хотя бы потому, что академики были стары, но у некоторых были молодые жены, приобретенные после революции. Эти жены ездили отдыхать в Узкое и подвергались соблазнам.
Еще раз постучали. Уйдет или нет? Нет, не ушли! Дверь заскрипела, и незнакомый тихий голос несмело произнес:
— Простите, я догадался, что вы здесь, я только на минуту.
Господи, какое облегчение испытала Лидочка оттого, что голос принадлежал не Алмазову.
— Входите, — сказала она, оборачиваясь, — я задумалась.
Мужчина приблизился, и по силуэту, по росту и толщине Лидочка догадалась, что рядом с ней стоит старый друг Марты, жертва отсутствия крючков Максим Исаевич.
— Вы сегодня присутствовали… — сказал он и сделал длительную паузу, за которую он успел извлечь из кармана и развернуть большой носовой платок.
— Присутствовала и забыла, — сказала Лидочка. — И вы забудьте.
— Я, как член партии, нахожусь в очень сложном и деликатном положении, — быстро заговорил Максим Исаевич, словно в нем открылись шлюзы и он спешил выложить заранее заготовленный и заученный наизусть текст. — Вы не представляете, сколько в театре у меня недругов и завистников. Если же кто-нибудь узнает, что я сблизился с женой сосланного элемента, разве я могу кому-нибудь доказать, что я абсолютно ни при чем — я был завлечен и совершенно не представлял, потому что был уверен, что и в самом деле меня пригласили занести номер журнала «Огонек», в котором напечатан очень увлекательный рассказ Пантелеймона Романова, но обстановка меня расположила… да… Да! Что было, то было!
— Уходите, — сказала Лидочка, жалевшая теперь, что так долго слушала этого напуганного человека. В его монологе Лидочке открылся еще один секрет — сколько же ей еще предстоит их узнать! — оказывается, наш Миша Крафт, который находится в ответственной командировке, на самом деле сослан. Но почему тогда Марта попала сюда, в святая святых Академии, уж наверное, об этом должны знать сотрудники товарища Алмазова. Неужели проворонили? Значит, в комнате две соломенных вдовы, и обе таятся…
Максим Исаевич продолжал бормотать, останавливаясь лишь затем, чтобы промокнуть платком потный лоб.
— Тогда я сама уйду, — сказала Лидочка. — Из-за вас мне нет покоя в собственной комнате!
— Нет, вы меня неправильно поняли! — крикнул ей вслед Максим Исаевич, когда она выполнила угрозу, но сам из комнаты не вышел, так и остался в темноте.
Лидочка пробежала несколько шагов. Дверь в кабинет доктора была приоткрыта. Лариса Михайловна сидела за столом и писала в большой амбарной книге. Наверное, составляла отчет об истраченных лекарствах или квартальную сводку об улучшении здоровья вверенных академиков, но Лидочка вообразила, что докторша пишет донос — сидит тут день за днем и пишет донос: «Палата номер три. Содержание палаты: доктор исторических наук Пупкин и младший научный сотрудник Рабинович. Вчера до трех часов ночи вели недозволенные рассуждения об обязательном провале первой пятилетки и невозможности построения Магнитогорского металлургического комбината в одной отдельно взятой стране».
Лидочка миновала кабинет докторши. Сзади скрипнула дверь. Лидочка обернулась — это из ее комнаты выглядывал Максим Исаевич.
Куда деваться?
Лидочка спустилась вниз по узкой служебной лесенке. Там пахло пищей. Отдаленно звенела посуда, слышались голоса. Белый короткий коридорчик заканчивался двумя дверями — Лидочка толкнула ту, что была прямо перед ней, — оказалось, это — клозет для уборщиц: там стояли щетки, метлы и ведра. Лидочка закрыла дверь и повернулась к другой двери. За ней обнаружился коридор: направо он вел на кухню, впереди была комната, где мыли посуду, а налево можно было пройти в буфетную и обеденный зал, откуда доносились голоса — ужин уже начался.
Лидочка стояла в нерешительности, придерживая приоткрытую дверь. Она ждала чего-то, как отбившаяся от стаи антилопа ожидает неминуемой гибели. Неизвестно лишь, откуда она грядет.
Наверху скрипнула ступенька. Кто-то осторожно спускался на первый этаж. Лиде было неприятно, что ее кто-то выслеживает. И даже страшно.
В коридоре было пусто. Лида шагнула туда и повернула налево.
Здесь было светло и многоголосо — страх исчез. Лидочка пересекла буфетную. Навстречу ей спешила толстая подавальщица с пустым подносом. За спиной стучали шаги — из моечной появилась Полина. Она прижимала к груди небольшую кастрюлю. В ту же секунду вновь отворилась дверь, ведущая на лестницу, и из нее вышел усатый мужчина в синих галифе и пиджаке — именно он и спускался вслед за Лидочкой по лестнице.
Увидев Полину, мужчина в галифе предупреждающе крикнул:
— Полина! Полина Покровская, я к тебе обращаюсь!
— А чего? — крикнула в ответ Полина, отступая назад в посудомоечную.
Мужчина пошел за ней.
— Я тебе вчера приказал — представить паспорт и трудовую книжку. Казалось бы — ясное задание?
— Я принесу, ей-богу, принесу, товарищ директор. У меня все документы у тетки на Басманной лежат, честное слово, принесу, ну завтра, а хотите, нынче в ночь поеду?
— Может, и поедешь, только пропадешь — не найти тебя. Лучше я тебя завтра утром отправлю, приставлю к тебе сторожа Силантьева и отправлю.
— Это почему же Силантьева?
— А знаешь почему, — директор понизил голос, будто секретничал, — потому что он мне письмо прислал, что ты не та, за кого себя выдаешь, и вовсе ты не Покровская, а Полина Луганская, любовница князя.
— Это ж вранье! Вы меня с детства знаете!
— Знаю-то знаю, а сомневаюсь, гражданка Покровская, и попрошу не отвлекать меня разговорами, до утра из комнаты не выходи, а утром телегу дам, Силантьев тебя отвезет.
— Товарищ директор…
— Не могу, Полина. И не проси.
По проходу быстро прошла девочка с черной косой — принесла новый поднос с тарелками. От подноса шел вкусный запах макарон с мясом. Директор проводил поднос взглядом и увидел ненужного свидетеля — Лидочку.
— А вы что здесь делаете, гражданка?
Лидочку оттолкнула толстая подавальщица, которая примчалась за новым подносом, она поменялась подносами с девочкой.
— Посторонись! — сказала она директору, тот смешался и отступил к лестнице.
— Чтобы ни-ни! — крикнул директор оттуда и исчез.
Лидочка хотела идти в зал, но Полина ее окликнула.
— Постойте, погодите, — позвала она. — Одну секунду!
Полина не выпускала из рук кастрюлю.
— Возьми, спрячь у себя! — Голос Полины был чрезвычайно настойчив. Она протянула кастрюлю Лиде.
— Ну что вы!
— Мне же некуда спрятать! Он кастрюлю у меня в руках видел — значит, ночью они обыск у меня в комнате устроят. Разве я не знаю — я их хорошо знаю!
— Но куда я это дену?
— Вы к себе в комнату пока поставьте, под кровать, никто до завтра не будет у вас искать. А завтра, если жива буду, — возьму. Ну скорей же! Христом Богом молю!
Полина говорила сердито, будто Лидочка была виновата в ее злоключениях. И Лидочка подчинилась. Почему подчинилась? Наверное, потому, что поверила, что жизнь Полины зависит от этой кастрюли.
Кастрюля была тяжелой, Лидочка чуть было не уронила ее.
— Да беги ты! — с раздражением к человеческой глупости воскликнула Полина. Глаза ее казались громадными, черными и даже страшными, Лида стала подниматься по лестнице — и все быстрее, раз только оглянулась — увидела, что Полина стоит и глядит настойчиво вслед…
Верхний коридор был пуст. Только дверь в кабинет докторши была приоткрыта. Лидочка проскочила ее, не оглядываясь, и уже побежала к своей комнате, как услышала сзади голос Ларисы Михайловны:
— Иваницкая, что с вами? Что вы несете?
«У тебя мгновение, чтобы придумать ответ».
— Ах, — Лидочка остановилась, оглянулась и ответила сразу, чтобы Лариса Михайловна не успела заглянуть в кастрюлю: — Я горячей воды налила, хочу голову помыть.
— Но сейчас же ужин!
— Вот именно! — Достаточно ли жизнерадостно звучит ее голос? — В душе никого нет, я спокойно вымоюсь.
— Только на улицу после этого — ни-ни! — крикнула добрая докторша.
Лидочка спряталась в своей комнате, закрыла дверь. Темнота в первое мгновение была спасительной, но тут же ей показалось, что Максим Исаевич так и не ушел — все еще прячется в комнате. Крепко прижав кастрюлю к животу, Лидочка нащупала на стене выключатель. Загорелся свет. Комната была пуста.
Лидочка быстро нагнулась и задвинула кастрюлю под кровать.
Лидочка высунула нос из двери — нет ли докторши? Пусто.
Она побежала к главной лестнице, которой заканчивался коридор с левой стороны. То была парадная лестница, с трюмо в рост человека между пролетами. Навстречу Лидочке поднимались незнакомые отдыхающие, по взгляду одной из женщин Лидочка догадалась, что ее прическа не в порядке. Она остановилась, поглядела в трюмо. Не прическа, а воронье гнездо. Лида поправила волосы, потом десять раз медленно вздохнула и тут подумала: «Ну и глупая я — чего же не посмотрела, что в кастрюле? Неужели сокровища князей Трубецких? А я их — под кровать!»
С этими мыслями Лидочка вбежала в столовую, в дверях она столкнулась с Борисом Пастернаком, он уступил ей дорогу. А вот Алмазов, что сидел за средним столом, резко обернулся — через плечо посмотрел кошачьим немигающим взглядом. Альбина сидела рядом, тихая, как мышка.
Лидочка пробежала к своему месту. Там стояла тарелка с макаронами — Марта взяла для нее и сберегла. И ждала.
— Ты что? — спросила Марта.
— Задержалась, — прошептала Лида. И, не одолев внезапного озорства, добавила: — Твой поклонник прибегал, испугался огласки.
— Мой… что? Ах, мерзавец! Заяц толстозадый! Практически изнасиловал меня, а теперь перепугался.
— Девушки, — со своего стола крикнул Матя. — Сегодня танцы до утра! Первый фокстрот за мной!
— Спокойно, спокойно, — прервал поднявшийся гомон президент Филиппов. — Для сведения граждан отдыхающих, которые не в курсе дела или не прочли объявления возле входа в бильярдную, довожу до сведения, что никаких танцев до утра не предусмотрено. Танцы проводятся в большой гостиной под патефон, пластинки привезены уважаемым профессором Глазенапом, за что мы его поблагодарим.
Кто-то по примеру президента похлопал в ладоши, а потом президент завершил свое выступление:
— Завершение танцев с ударом гонга в двадцать два часа ноль минут. Попрошу заявление доктора Шавло считать неудачной шуткой.
Матя развел руками — он сдавался.
Лидочка обвела взглядом людей, сидевших за столами, оживленных и радостно зашумевших, будто они в жизни еще не занимались таким любопытным и радостным делом, как танцы под патефон. Им нет дела до бед Альбины или Полины.
Ванюша Окрошко глядел на Лидочку исподлобья — видимо, унижение уже миновало, и теперь ему страшно хотелось узнать, останется ли Лида на танцы. А где Александрийский? Его не было — надо будет узнать, не заболел ли он.
Как Лидочка ни отводила глаза, все же попалась — встретилась с глазами Алмазова, поймал он ее — подмигнул, как подмигивает рыбак попавшейся золотой рыбке. Альбина смотрела в скатерть и водила по ней вилкой.
Наверное, Лидочка должна была беспокоиться о кастрюле, желать заглянуть в нее — а вдруг там золото или адская машина? Но думать о кастрюле не хотелось — что бы там ни было, все это от Лидочки бесконечно далеко. И не очень интересно. Мало ли что хочется хранить официантке в эмалированной кастрюле.
Быстро проглотив макароны и запив их чаем с лимоном, Лидочка вскочила из-за стола, сказав Марте, что вернется к танцам.
Александрийского она отыскала быстро. Он сидел с Пастернаком в комнате у докторши Ларисы Михайловны. Там горела настольная лампа под зеленым абажуром. Пастернак держал в руке лист бумаги, он читал, лишь иногда заглядывая в него. Лидочка не посмела зайти, но остановилась перед дверью так, что ее можно было увидеть.
Александрийский, сидевший лицом к двери, почувствовал ее присутствие, узнал Лидочку и поднял худую жилистую руку.
— Ворота с полукруглой аркой, — читал Пастернак, не спеша, нараспев, для себя, не заботясь о том, слушают его или нет, — впрочем, это была лишь видимость — конечно же, он слушал, как ему внимают
Лида понимала, что Пастернак говорит об Узком, об этих аллеях, увиденных точно и преображенных его талантом.
Пастернак оборвал чтение за мгновение до того, как послышался снисходительный голос, добродушный голос Алмазова:
— Развлекаемся?
Пастернак был неподвижен — словно превратился в камень. Александрийский поморщился.
— С какой стати, сударь, — сказал он, — вы мешаете людям? Вас не приглашали.
— А я и не мешал, — улыбнулся Алмазов. — Мы с Альбиночкой шли мимо, и нам так понравились стихи, вы не представляете. Вы поэт, да?
Или он ничего не знал, или издевался над ними. Так как никто Алмазову не ответил, тот продолжал, будто оправдываясь:
— Я только вчера приехал, а вы, товарищ поэт, наверное, раньше меня. Так что не познакомились. Ага, смотрю — и Лида с вами. Ну, полный набор молодых дарований. Тогда, товарищ поэт, вы продолжайте, знакомьте нас, практических работников, с изящными искусствами. Я тут заметил, что скоро зима, а вы будто о лете пишете…
Пастернак молча сложил вдвое лист, положил на колено, провел по сгибу ногтем.
— Я приглашаю вас к себе в номер, — сказал Александрийский. — Там тихо, туда не входят без приглашения.
— Правильно, — Алмазов буквально нарывался на скандал, — у вас нам будет лучше. Спокойнее.
Александрийский тяжело поднялся, опираясь на палку. Пастернак поддержал его, помог подняться.
— Вы не устали? — спросил он физика.
— Хорошая поэзия бодрит, — сказал Алмазов.
Комната Александрийского была на первом этаже, но надо было пройти длинным коридором в южный флигель. Лидочка шла сразу за Александрийским и Пастернаком, а сзади не спеша шествовал Алмазов. Словно ждал, когда можно будет продолжить сражение. Альбина отстала. Лидочка подумала, а вдруг Алмазов на самом деле — неуверенный в себе человек, он старается быть главным, страшным и в то же время обаятельным, но не умеет и от робости становится только страшным. Впрочем, Лидочка была не права и понимала это.
Они прошли длинным коридором по красной ковровой дорожке, у высоких окон стояли вазы с астрами и хризантемами. В доме еще числился садовник, оставшийся от Трубецких.
У Алмазова была возможность спасти лицо — подняться по лестнице на второй этаж флигеля. Но он свернул в узкий коридорчик, ведущий к комнатам того крыла. Александрийский открыл дверь и пропустил Пастернака внутрь. Альбина прошептала Алмазову: «Ян, пойдем на танцы?» Все услышали. Алмазов не ответил.
— Заходите, Лидочка, — сказал Александрийский.
Пастернак сделал шаг в сторону, пропуская Лидочку. Затем вошел сам. Тут же за ним последовал Алмазов. У Лидочки сжалось сердце… Сейчас!
— Я вас не приглашал. — Александрийский загородил дверь.
— Я имею право, — сказал чекист. — Такое же, как и все.
— Вы не у себя в учреждении, — сказал Александрийский. — Научитесь элементарной истине — есть места, куда вам вход запрещен.
— Ну зачем нам с вами ссориться. — Алмазов из последних сил старался сохранить мир. — Я же ничего не требую, я просто как любитель поэзии пришел послушать стихи. Послушаю и уйду.
— Так вы уйдете, в конце концов, или мне вас палкой гнать?! — закричал вдруг Александрийский.
— Что-о-о? — Тон Алмазова изменился — больше у него не было сил изображать из себя интеллигентного человека.
— А то, — быстро сказал Пастернак, который, как понимала Лидочка, не считал возможным оставить Александрийского один на один с чекистом, — что я в вашем присутствии не намерен читать. Поэтому прошу вас, не мешайте нам!
Пастернак стал совсем молодым, лицо густо потемнело, кулак, прижатый к косяку двери, чтобы не пропустить Алмазова, сжался.
— Ян, — взмолилась Альбина, — я тебя умоляю!
— Молчать, сука! — Алмазов откинул ее назад, Лидочка видела ее лишь сквозь открытую дверь — Альбина ахнула и исчезла, послышался удар, звон, наверное, Альбина столкнулась с какой-то вазой. — Или вы меня пропускаете в комнату, — сказал Алмазов низким, хриплым — из живота идущим — голосом, — или пеняйте на себя. Я на вас найду материал — буржуи недобитые! Вы к себе смеете не пускать — кого смеете не пускать… А я вас к себе пущу — пущу и не выпущу.
Альбина всхлипывала за дверью.
— А вы не пугайте, — сказал Александрийский так тихо, что Алмазов замолчал — иначе не услышишь ответа. — Я смертник. Меня нет — я все могу! И я намерен потратить последние дни моей жизни, чтобы жить именно так, как я хочу, словно не было вашей революции, пятилеток, вашей партии и вас, гражданин Гэпэу.
— А вот тут ты ошибаешься, Александрийский, — сказал Алмазов. — Я тебя к себе возьму, и ты перед смертью еще успеешь пожалеть, что меня обидел! Знаешь, что я заметил: старые и немощные, как ты, жить хотят куда сильнее молодых.
Лидочка ощутила, как от Алмазова тяжело несет водкой и луком. Она вынуждена была отступить внутрь комнаты.
Александрийский молчал.
— И ты, поэт вонючий, — сказал Алмазов, обращаясь к Пастернаку, — не знаю, кто ты такой и как сюда пролез, но ты будешь у двери моего кабинета на карачках свои стишки читать, понял?
— Нет, не понял! — Пастернак прижался спиной к косяку двери, голова его откинулась назад.
— Хватит, — сказал новый, неожиданно вторгшийся во взаимную ненависть сцепившихся голосов голос. За их спинами у лестницы стоял старший из братьев Вавиловых, Николай. — Хватит шума и криков в санатории. Я прошу вас, Ян Янович, немедленно уйти отсюда. Как я понимаю, вы приехали сюда отдыхать с дамой. Но так как вы не являетесь штатным работником Академии и у вашего ведомства есть свои санатории, то я должен предупредить, что ваше поведение заставит меня обратиться непосредственно к товарищу Менжинскому и сообщить, какие слова и действия вы позволяете в адрес наиболее уважаемых советских ученых. Не думаю, что товарищ Менжинский и товарищ Ягода будут вами довольны.
— Товарищ Вавилов! — За время этой длинной фразы Алмазов успел взять себя в руки. — Простите за невольный срыв — работа, нервы… Я ухожу.
Альбина промелькнула перед дверью, прижимая платок ко лбу. Алмазов пошел за ней. Обернулся и сказал Вавилову:
— Ваши ученые позволяют себе политические провокации.
— Вот мы и квиты, — сказал Вавилов, глядя ему вслед, потом произнес: — А вы, Борис Леонидович, не хотите порадовать нас своим новым опусом?
— Борис Леонидович как раз собирался прочесть нам оду Узкому, написанную недавно, — сказал дипломатично Александрийский.
— Любопытно, очень любопытно, — сказал академик. — Возьмите меня в компанию. Я — плохой танцор, да и боюсь, что президент Филиппов устроит бег в мешках или игру в шарады с разоблачением империалистов.
— Прошу вас, — сказал Александрийский. Пока рассаживались, Александрийский — губы синие, бледный — показал Лидочке жестом на коробку с лекарствами. Лидочка налила из графина воды, и Александрийский принял пилюли. Все ждали, пока ему станет лучше и он даст знак к продолжению чтения. Александрийский стал дышать медленнее.
Вавилов отошел к окну.
— Какой мерзавец, — сказал он тихо.
— Это не он, это они, — сказал Пастернак.
— Спасибо, что вы пришли ко мне, — сказал Александрийский. — Лидочка, закройте дверь. А вы, Борис Леонидович, не сочтите за труд!
Пастернак вновь прочел стихотворение, посвященное Узкому, Лидочка запомнила последнюю строфу:
Странно, мы все умрем, а это стихотворение будет жить отдельно от нас, и через сто лет читатель, не ведающий о давно разрушенном Узком, будет представлять себе иные аллеи и иные поляны.
Пастернак потом читал и другие свои стихи — может, написанные здесь, а может, и раньше, но слушатели уже не могли до конца подчиниться его голосу, тень Алмазова осталась в комнате, и даже сильный характером и влиянием Вавилов нет-нет, а бросал взгляд на дверь, словно за ней остался, подслушивая, Алмазов.
Пастернак назавтра собирался уезжать — если, конечно, грузовичок сможет выбраться по размытой дороге.
— Вы не останетесь еще?
— Нет, здесь плохой климат!
— Ну что вы! — наивно воскликнула Лида и осеклась со смущенной улыбкой.
— Но я рад, что вновь встретился с Павлом Андреевичем и с вами, Лида. Мне нечего подарить вам в знак восхищения… не примете ли это?
Он протянул Лидочке лист, на котором было написано «Липовая аллея».
— Может быть, — спросил академик Вавилов, — мне в настоящих обстоятельствах проводить вас до вашей комнаты?
— Не беспокойтесь, — сказал Пастернак. — Я сам провожу Лиду.
Вавилов остался у Александрийского, они принялись обсуждать какие-то университетские проблемы. Пастернак проводил Лидочку до комнаты. Он был рассеян, молчал, и Лидочка подумала, что он жалеет, что отдал ей автограф.
— Может, мне вернуть? — спросила она. — А то вы забудете слова?
— Слова? — вдруг он улыбнулся. — Слова этой песни мы знаем наизусть, — сказал он. — Простите, что я недостаточно галантен. Но уж очень негалантное время.
— Я вас прощаю. По крайней мере вы вспомнили о существовании такого слова.
У двери в девятнадцатую комнату Пастернак поцеловал Лидочке руку и сразу ушел, будто его существование в Узком уже завершилось и он мысленно пребывал совсем в другом месте.
Лидочка толкнула дверь, дверь открылась. Комната была пуста. В тишине было слышно, как за открытой форточкой скворчит дождик, а снизу из гостиной доносится патефонная музыка.
Она вдруг разозлилась на Пастернака. Какое он имел право оставить ее одну, когда ее преследует Алмазов? Поэты — эгоисты. Придя к такому выводу, Лидочка аккуратно положила автограф Пастернака на тумбочку — когда будет светло, она спрячет его получше, но сейчас не хотелось зажигать свет, доставать из-под кровати чемодан. А там кастрюля! Лидочка замерла — как же за суматохой последнего часа она могла забыть о тайне, которая ей доверена? Тайна ли?
Лидочка нагнулась и хотела достать кастрюлю. Бок кастрюли был прохладный и скользкий. А вдруг Полина вредительница и в кастрюле находятся документы или что-то плохое, из-за чего погибнет Лидочка? Чтобы превозмочь липкий страх, Лида сказала вслух:
— Шпионов не бывает! Это выдумка!
Но легче не стало — кастрюля уже не вызывала первоначального любопытства. Лида толкнула ее пальцами — кастрюля отъехала вглубь. «Тебе доверили вещь — плохую ли, хорошую, но доверили. И как только ты ее приняла, ты этим вступила в какие-то отношения с Полиной. И заглядывать в кастрюлю — нечестно».
И все же… что там может быть? Любопытство, заложенное в людях, чаще всего отвергает законы осторожности и доводы разума.
Остановись, сказала Лидочка самой себе, подавальщица Полина утаила от ужина пять порций макарон с мясом, которые хотела отнести себе в деревню, чтобы накормить своих детишек.
Это объяснение показалось ей убедительным и совсем не романтическим. И она даже намеревалась подняться с колен, как дверь за ее спиной распахнулась и женский шепот произнес:
— Она у Александрийского сидит, стихи читает, у нас есть время, вы скажите, чего хотели сказать!
— Я хотел любви, — отозвался мужской голос.
Затем последовал какой-то шум — видно, две темные фигуры в дверях, то есть Марта и неизвестный, принялись бороться. Марта не торопилась войти, а мужчина хотел закрыть за собой дверь. Что ему и удалось.
— Но почему? Почему? — требовала Марта. — У вас же комната отдельная.
— За ней следят, она под наблюдением, — ответил мужчина, и тут все еще стоявшая на четвереньках Лидочка узнала во владельце голоса самого президента Санузии товарища Филиппова. Она не сразу поверила своим ушам, потому что была уверена, что в роли соблазнителя должен выступать Максим Исаевич.
— Но если Лида вернется…
— Вы же сами сказали! — Президент громко дышал и шуршал шелковой юбкой Марты, а Марта вяло сопротивлялась.
— Нет! — вдруг заявила Марта. — Я не согласна.
Спорщики были уже в трех шагах от Лидочки, но видеть ее не могли, потому что голова ее была на уровне постели, а в комнате было совершенно темно.
— Ты бы помолчала, — сказал Филиппов, — лучше не сопротивляйся, потому что я о тебе такое знаю, что ты сама не знаешь.
— Как ты смеешь! — зашипела Марта. — Уходи!
Но страстное женское начало, управлявшее чувствами и поступками Марты, оказалось сильнее ее гражданского чувства — президент не прекратил домогательств, но в этой борьбе они продвигались медленно — кусочками шагов. Все это заняло минуту, может, две, но Лидочке, которая никак не могла решить, что для нее лучше — залезть под кровать или попытаться вырваться из комнаты, — эта сцена показалась длинной, как отчетный доклад на профсоюзном собрании.
— Она войдет! — шептала Марта.
— Она там с троцкистами сидит!
— Так не ласкают, мне больно, ой!
— Не сопротивляйся, и я покорю тебя поцелуями!
— Так уж и не сопротивляйся! А кто троцкисты?
— Александрийский и Шавло — всем известно. Если бы не товарищ Вавилов — мы бы с Алмазовым всю их шайку-лейку сегодня бы повязали… Да помоги ты расстегнуть резинку!
— Нет, сам! Но Лидочка же не виновата?
— А с ней особый разговор будет. Я уже на нее компромат собираю! Ну что резинки мешаются — я же чулки не могу снять!
— А не надо снимать — вы только резинки расстегните, и само снимется — ой, я же так сказала, а вы зачем сразу делаете!
Тут они уже совсем нависли над Лидочкой, и ей стало ужасно, что в следующую секунду они об нее споткнутся и упадут не на кровать, куда увлекала их судьба и желание, а на Лидочку.
Поэтому Лидочка, придумав наконец, что надо сказать, вскочила и сказала как можно спокойнее:
— Разрешите, пожалуйста, пройти.
В ответ раздался невероятной пронзительности визг Марты, который был прерван ладонью президента Филиппова.
Лидочка рванулась мимо них и, выбегая, столкнулась с докторшей Ларисой Михайловной, которая именно в эту секунду проходила мимо комнаты девятнадцать и, услышав нечеловеческий визг, мгновенно бросилась на помощь, потому что долг медика требовал от нее немедленных действий.
Вбегая в комнату, докторша автоматически включила свет. Тут в нее и врезалась Лидочка, но Лариса, подхватив ее, не упала и не потеряла способности наблюдать и делать выводы.
В следующее мгновение в дверь ворвался и Матя Шавло, шедший сюда в поисках Лидочки и кинувшийся на помощь.
И все они — Лариса Михайловна, Матя Шавло и Лидочка — стали свидетелями некрасивого и даже жалкого зрелища: нелепо запутавшиеся в руках и ногах партнеры стояли, обнявшись, у кровати.
— Уйдите прочь! — закричал президент, поворачиваясь к дверям и жмурясь от яркого света. В горячке он не понимал, что обнажен до пояса снизу.
Но как известно, медика человеческим телом не испугаешь, и Лариса Михайловна не смутилась и спросила:
— Кто кричал?
И тогда Марте не оставалось ничего иного, как закричать:
— Это он! Он хотел надо мной надругаться! Он напал на меня в моей комнате! Лида, подтверди!
Лида не могла ничего подтвердить, потому что ей стало смешно, смех ее передался Мате, он подхватил Лиду, чтобы она не упала. И тут начала смеяться даже серьезная докторша.
Стреноженный собственными брюками президент далеко не сразу смог спастись бегством, не смел он и проклинать виновников его несчастья, а только издавал угрожающие междометия, которые в тот момент никого не пугали.
А Лидочке настолько не хотелось в очередной раз объясняться с Мартой и выслушивать просьбы не выдавать ее маленьких тайн Мише Крафту, что она подчинилась настойчивой руке Мати, и они спустились вниз, где в гостиной горела только одна из ламп, а у патефона покорно дежурил старый астроном Глазенап. А все, кто мог, отплясывали фокстрот. Было очень душно и шумно. Матя сразу подхватил Лидочку — танцевать с ним было приятно: он чувствовал музыку и, главное, знал, как надо вести партнершу.
— Вы туда случайно зашли? — спросил он Лиду.
Та кивнула и еле удержалась, чтобы не сообщить, что это второе приключение ее соседки за день. А впереди еще четырнадцать таких дней.
— А что с ее мужем? — спросила Лидочка.
— А как его фамилия?
— Крафт. Миша Крафт.
— Кажется, есть такой органик. Но он уехал, или его сослали… не имею представления.
В дверях гостиной стояла Полина и смотрела на Матю.
Музыка прервалась. Лида хотела сказать Мате, что его ищут, но Полина пропала из глаз.
Из стопки, лежавшей рядом, Глазенап взял новую пластинку, поднес к глазам и долго шевелил губами. Кто-то крикнул из толпы:
— Румбу!
— Танго! — произнес Глазенап торжественно, словно сам собирался сыграть для присутствующих.
Началось танго, медленное и жгучее, и Лида почувствовала, как страсть овладевает Матей. Она Мате симпатизировала, но не настолько, чтобы обниматься с ним посреди зала, тем более что прошедший день сказал ей многое о странностях любви.
— Матя, — сказала она, — обернитесь к двери в столовую. Только не сразу и не привлекая внимания. Вы знаете эту женщину?
Матя послушно исполнил просьбу.
— Странно, — соврал он, — но она глазеет на меня, как знакомая.
— У вас плохая память на лица?
— Отличная. Только не ночью, — сказал Матя и засмеялся собственной шутке.
— Точно не знаете?
— Не помню, — сказал Матя, и Лидочка поверила бы ему, если бы не была днем свидетельницей его разговора с Полиной.
Попытка отвлечь Матю не удалась, и он принялся гладить Лидочкину спину. Он делал это очень профессионально, и если бы Лидочка была кошкой, то, наверное, с ума бы сошла от счастья. Но она не была кошкой и потому сказала:
— Сейчас замурлыкаю.
— За вами трудно ухаживать, — сказал Матя.
— Вы лучше расскажите мне что-нибудь очень интересное.
— Неужели сейчас?
— Как ваши дела с ужасной бомбой?
— Не скажу — я не разговариваю о делах с любимыми девушками.
— Вы правы, — согласилась Лида.
Танец кончился. Глазенап воздел горе толстые ручки и закричал, что лучше всех исполнили аргентинское танго доктор Шавло и его партнерша, за что им полагается приз.
Все захлопали в ладоши. А астроном добавил, когда шум стих, что приз будет вручен завтра за завтраком, потому что сейчас куда-то исчез товарищ президент Санузии.
Он зализывает моральные раны, хотела сказать Лидочка, но вместо этого сказала:
— Матя, можно я вас попрошу — стакан воды. Ужасно хочется пить.
Матя послушно потек в путь. Но Лида отправляла его в этот путь не случайно. В конце концов, должна же в этом скорбном и довольно неприятном мире существовать одна настоящая тайна без участия Алмазова. Она понимала, что так не бывает, но теплилась какая-то надежда, что тайна, объединяющая Полину и Матю, окажется скорее интересной, увлекательной, но вовсе не страшной. Когда потом Лидочка старалась для себя восстановить последовательность событий тех часов, ей было почти смешно — насколько человек склонен заблуждаться, если ему хочется заблуждаться.
Отправив Матю на кухню — куда же еще можно пойти за водой в этом доме, — Лидочка поглядела на Полину — та исчезла.
А к Лиде шагал несчастный Ваня Окрошко.
Лида отрицательно покачала головой, и Ваня послушно остановился.
Лида прошла несколько шагов за Матей и увидела его посреди буфетной. Он ждал.
Матя улыбнулся своим мыслям — Лидочке был виден его профиль: крупный нос, покатый широкий лоб, толстые губы, выпуклые глаза — лицо человека, который обожает много есть, любить женщин и работать — все с удовольствием. Матя уже начал полнеть, но он — крупный человек, как следует располнеет он только лет через десять.
Из прохода на кухню вышла Полина.
Полина передала Мате стакан с водой, но не ушла, а что-то стала ему говорить. Матя пожал плечами, он был недоволен, но Полина продолжала говорить. Матя отрицательно покачал головой и пошел к Лиде.
— Пейте, — сказал он, — вы о чем-то задумались?
— Спасибо. — Пить совсем не хотелось. — О чем вы разговаривали с подавальщицей?
— Вы подглядывали, моя фея?
Глазенап завел фокстрот, и они снова танцевали, но Матя был занят своими тревогами. В гостиной стало меньше людей — многие разошлись по комнатам.
— Она напомнила мне об одном эпизоде из моей жизни, — сказал Матя. — Я был тогда совсем мальчишкой и постарался потом изгнать из памяти все, что со мной произошло. У меня такое впечатление, будто это было не со мной.
Лида не стала спрашивать. Захочет — сам расскажет. Ему хотелось рассказать, но он не решался.
С каждой секундой настроение Мати портилось.
Он оставил Лиду посреди комнаты и пошел прочь, как будто забыл о том, что с ней танцует. Лида растерянно поставила пустой стакан на столик рядом с Глазенапом.
— Спасибо, — сказал старик.
Лида пошла из гостиной и догнала Матю в дверях.
Как раз в этот момент он обернулся.
— Лида, — сказал он, — не уходите, я не хотел вас обидеть.
Они стояли в прихожей — медведь с подносом в лапах скалился и косил стеклянным глазом.
— На самом деле, — сказал Матя, — я совершил дурной поступок. Но я тогда даже не догадывался, что это дурной поступок. Все так себя вели… это была гражданская война, и я был на одной стороне, а те люди были на другой… Простите, Лида, я говорю совершенно лишнее…
— Я ничего не слышала, — сказала Лида и повернулась, чтобы уйти.
— Нет, Лида, погодите, — сказал Матя. — В такие минуты нужен человек, которому ты веришь. Я знаю, что в наши дни уже нельзя верить никому, но если в обществе никто не верит никому, значит, оно погибает. Ведь верит же Ягода своей жене?
— Может быть, пойдем погуляем? — спросила Лида.
— Вы хотите сказать, что здесь у стен есть уши?
Лида пожала плечами.
— Не думаю, — сказал Матя, — хороший маленький микрофон — дело серьезное. Его еще надо из Германии привезти, валютные расходы оправдать. Нет, здесь их ставить не стали.
— Вы правы, — сказала Лида, — только не из-за валюты, а потому, что нет смысла выслеживать — когда надо будет, нас заберут!
— Наша с вами задача, Лидочка, чтобы в отличие от других нас с вами не взяли — ни сейчас, ни завтра. А тут, как назло, лезут с угрозами!
Матя очень расстроился — он был из тех людей, кто не умеет и не желает скрывать своих расстройств.
— Вы никому не расскажете? — спросил он.
— Нет, — сказала Лидочка.
Не было у него никаких оснований доверять ей, но Матя был игроком и к тому же верил в свою способность приручать людей.
— Я был мальчишкой, гимназистом. Шел девятнадцатый год. Я был в охране поезда. — Матя поднял руку, останавливая возражение Лиды. — Честно сказать, я рисковал куда меньше, чем мои сверстники в окопах. В двадцать лет я демобилизовался по ранению, окончил университет и забыл обо всем. В конце концов, я выполнил свой долг, мне не в чем раскаиваться. Вы верите?
— Я не знаю, — сказала Лидочка, потому что по всему виду Мати было видно, что у него в шкафу стоит скелет и Полина неосторожно, а может, сознательно этот шкаф приоткрыла.
— Это все пахнет пылью, — сказал Матя, словно угадал мысли Лиды.
Кто-то прошел к лестнице, музыка прекратилась, поднялись шумом голоса и потом сразу стихли — танцоры стали расходиться.
Все, что было связано с Полиной, вызывало в Лиде интерес настолько жгучий, что она ничего не могла с собой поделать, — Полина была окутана тайной.
— А кто она такая? — спросила Лида.
— Черт ее знает. Я ее не помню. И всего, что она говорит, не помню. Бред какой-то!
Матя говорил для себя, он не притворялся.
— Но что же ей надо?
— А зачем вам это знать? — В мгновение ока Матя подтянулся, как часовой, услышавший близкий выстрел, замедленность речи и движений исчезла. И если минуту назад он исключал Лиду из враждебного мира, то теперь он мгновенно лишил ее иммунитета.
— Мне ничего не надо, — сказала Лида, — и не я вас сюда пригласила на исповедь. Спокойной ночи, Матвей Ипполитович.
— Господи, Лида, вы не так меня поняли, — спохватился Матя. — Я вам все расскажу — эта чертова подозрительность! У меня нервы натянуты, как будто на каждом по пудовой гире висит. Эта женщина требовала, чтобы я признался в том, что участвовал в одном инциденте… а я не помню, не помню я, и все тут!
— Ага, вот вы где скрываетесь! — К ним из гостиной шел Алмазов.
Лидочка могла поклясться, что во время танцев его в гостиной не было. Он мог скрываться в буфетной и тогда слышал все, что говорилось Матей и подавальщицей… А мог спуститься по задней лестнице…
Матя пошел навстречу Алмазову, преграждая тому путь к Лидочке.
— Что вам от меня нужно, Ян Янович? — спросил он. — Я к вашим услугам.
— Ну и отлично, — сказал Алмазов. — Надеюсь, что вы не секретничали с Иваницкой?
— Мы говорили о любви и погоде.
— Отлично. И больше ни о чем?
И о том, что вы умеете появляться там, где вы не нужны, чуть было не сказала Лидочка. Но сдержалась.
— Спокойной ночи, — сказала Лида.
— Ну почему вы нас так рано покидаете? — сказал Алмазов, даже не стараясь казаться искренним. Он взял Матю под руку и повел в сторону, толкнул дверь в бильярдную — там было темно. Не отпуская руки физика, зажег там свет, затем обернулся и сказал Лидочке, широко улыбаясь: — Спать, спать, пошла спать!
Подходя к лестнице, Лидочка обернулась — Алмазов усаживал Матю на диван, на котором скончался философ Соловьев, — с дивана Алмазову было удобно смотреть на дверь. А то, что сам факт такого вечернего разговора мог кого-то удивить, Алмазова, видно, уже не беспокоило.
«Пожалуйста, — подумала Лидочка, поднимаясь по лестнице. — Мне надоели ваши тайны, я не хочу в них участвовать. Если бы Пастернак завтра позволил, я бы пошла с ним пешком по грязи до Калужского шоссе». Лидочка остановилась у своей двери. Как бы переехать в другую комнату? Она ведь никому не мешает, она только просит, чтобы ее соседка не меняла так часто и так шумно своих любовников. Это же какой-то Казанова в юбке!
Лидочка постучала. Не исключено, что после всего происшедшего Марта рыдает на своей девичьей койке.
Никто не ответил.
Лида вошла, свет зажигать пока не стала, а спросила:
— Марта, вы здесь?
Марты в номере не было. Но это еще ничего не значило — Марта могла появиться, и не одна. Лидочка попыталась увидеть в этом забавную сторону, но настроение не располагало к юмору.
Лидочка посмотрела на фосфоресцирующий циферблат часов. Одиннадцатый час. Почему же не бьет гонг? Он должен бить в десять. Потом она зажгла лампу. Тусклая лампа висела под самым потолком, и от этого комната становилась казенной и недружелюбной. Как палата в бедной больнице.
Переодевшись в халатик, Лидочка отправилась в умывальную — надо было помыть волосы, но, наверное, в душе опять нет горячей воды, завтра возьму на кухне — в кастрюле… ах уж эта кастрюля, скорей бы Полина приходила за своей.
Лидочка вошла в умывальную. Там лампа тоже светила тускло, но, отражаясь от кафеля стен, свет казался живее.
Как только Лидочка закрыла за собой дверь, дверца в душевую кабинку открылась, и оттуда выскользнула Полина.
— Ой, — сказала она, — я уж и не чаяла, что вы придете.
— Я сейчас отдам, — сказала Лидочка, стараясь не показать, как напугана неожиданным появлением Полины.
— Спасибо, что сберегли, — сказала Полина. — Ведь теперь мало кто захочет помочь.
— Подождите, я только умоюсь.
— А вы не торопитесь, — сказала Полина, — я хотела вас предупредить, что завтра ее возьму.
— Почему?
— Сегодня ночью они у меня обыск устроят — они меня так не отпустят. Я пришла вам сказать — если со мной что случится, оставьте себе.
— Спасибо, мне ничего не нужно.
— Это большая ценность.
— Возьмите кастрюлю, спрячьте где-нибудь в парке — парк громадный, в нем не то что кастрюлю, человека можно спрятать.
— Нельзя, — сказала Полина, — они увидят, как я в парк пойду. Они следят за мной.
— А сейчас?
— А сейчас как следить? С улицы не увидать, а если кто войдет, мы с тобой сразу увидим. Слушай, а как тебя звать?
— Полина, зачем вы притворяетесь крестьянкой? Это же не ваш язык, не ваши манеры.
— Какой был мой язык и мои манеры — забыто. Об этом и разговор…
Настроение Полины, до того деловое и связанное с сохранностью кастрюли, вдруг резко изменилось. Кастрюля ее перестала интересовать.
Полина отошла к окну, замазанному до половины белой краской, как в вокзальном туалете, и привстала на цыпочки, заглядывая в темноту.
— Сколько лет прошло, а он здесь, живой и сытый, — других уже давно постреляли, а он живет. Ты говоришь, почему у меня чужая речь, — а она моя. Я отвыкла от другой.
И она продолжала говорить, не оборачиваясь, словно обращаясь к кому-то снаружи.
— Вы меня осуждаете? Я кажусь вам недостаточно благородной? Допускаю. Но у меня нет иного выхода. Мне не выбраться из этой страны, я обложена, как дикий зверь, и мне не от кого ждать милости. Почему я должна быть милостивой к нему? Он пожалел меня, девчонку! Я не прошу чрезмерной платы за мое молчание. Нет, не прощение, прощение он может вымолить только у Господа. Но молчание могу подарить и я.
Полина отвернулась от окна. В тени надбровий ее глаза казались бездонными ямами.
— Я не знаю, о ком вы говорите, — сказала Лидочка.
— В девятнадцатом добровольческая армия отступала, нас эвакуировали из Киева — Петроградский Елизаветинский институт. Кем мы были? Курятник голодных, обносившихся, постоянно перепуганных, но уже привыкших к такой жизни цыплят, не забывших, что есть иная жизнь, и молящих Бога о возвращении в прошлое, чтобы не было хуже. Наше путешествие началось еще зимой восемнадцатого года, когда детям враждебных элементов не давали пайков. Тех, у кого были родственники, разобрали по домам, а сиротам на казенном коште, нищим эксплуататорам трудового народа, ничего не оставалось, как бежать из Петрограда. Кто-то из таких же, как и мы, бездомных преподавателей раздобыл два вагона, и наш институт добрался до Киева. Там пожили, то получая милостыню неизвестно от кого, то подрабатывая — старшие научились торговать собой, — а почему нет? Меня они не взяли — слишком была худая и некрасивая. Они не себе зарабатывали, они для всех зарабатывали — вы не представляете, какие мы бывали счастливые, потому что в том аду мы были вместе и заботились друг о дружке. Уже осень кончалась — красные опять в Киев пришли, — и нашей Марии Осиповне Загряжской, даме-директорше, стало ясно: надо бежать в Екатеринослав — на что она надеялась, я не знаю. Мы радовались, что будет тепло, говорили, вот поживем в Екатеринославе, нас там ждут, уже квартиры подготовлены и жизнь сытая, — а там дальше, к морю, в Новороссийск. Мы немного до Екатеринослава не доехали. Вы курите?
— Нет.
— Ладно, потерплю. Значит, я помню, как поезд остановился, ночь была. Я проснулась от ужаса — еще ничего, только голоса снаружи, кто-то проходит мимо нашего состава. Потом тихо. Понятно, что мы на станции стоим. Поезда подходят, кто-то нас обогнал. Другие девочки не просыпались. Наш поезд дернулся, поехал, я сначала думала — дальше, а оказывается, нас перегнали на какой-то десятый запасной путь. Но все равно почти все спали. Нельзя же всю жизнь бояться. А мне не спалось. Мне бы одеться, взять узелок и уйти — это я теперь понимаю: как чувствуешь опасность — сразу вставай и уходи, никогда не разбирайся где, кто, — бросай все и уходи. А тогда не сообразила, не знала, еще маленькая была, четырнадцать лет. Мне тоже тепло было, уютно — зачем вставать и уходить. Я на второй полке лежала, на животе, смотрела в окно. Увидела, как рядом с нами другой состав остановился — вот темно было, снег с дождем, 29 декабря 1919 года — как раз под Новый год. Я смотрела на поезд и не понимала, что в нем особенно праздничного, а потом поняла — окна. В нем все окна горели электрическим светом и были прикрыты шторами — как до революции, даже ярче. Спереди и сзади платформы с пушками, а в центре новые пульмановские вагоны. Из поезда стали выскакивать солдаты — без погон, большей частью в кожаных куртках. Я не догадалась, что это красные, — у них фуражки были кожаные, а звездочки маленькие — я не разобрала. Некоторые вдоль состава побежали, кто-то в нашу сторону. И тут я слышу, как по коридору быстро идут — это те, в куртках. Мне бы хоть тогда испугаться, а я и тогда не испугалась. Я же не знала, что мы встретились с поездом вождя Троцкого, а люди в коже были его охраной.
— При чем тут Троцкий? — спросила Лида тихо, оборачиваясь на дверь, потому что имя это было запретным, смертельно опасным.
— Ни при чем, — отмахнулась Полина. — Я его и не видала. Они к нам по делу пришли — проверяли состав, ведь на соседнем пути с самим командующим, — а вдруг мы диверсию устроим? Они к нам в купе заглянули, посветили фонариком и дальше пошли. А я тут совсем проснулась и чувствую, какая я голодная. Я и говорю Таньке — не помню уж ее фамилии, — она старше меня была: пойдем к господам военным, попросим чего поесть. Мы с ней уже так делали, и другие девочки тоже.
Надо было сиротками казаться… А что казаться, мы и были сиротками. Нас жалели и не трогали. Девочек не так часто трогали, как теперь говорят… Тебе скучно?
— Нет, говорите.
— Мы оделись, выскочили из вагона, а они там стояли, курили. И среди них ваш Матя стоял. Матвей Ипполитович.
— Шавло? Не может быть!
— Он самый.
— А что он там делал?
— Что и все — курил, анекдоты травил. Что молодежь делает ночью, если спать не велят?
— Ну почему вы так уверены, что это был именно он?
— А потому, что люди не меняются. Это только в романах жена мужа через двадцать лет узнать не может. А в жизни ты никого не забываешь. Да он и не изменился особенно — тогда ему лет двадцать было. Только без усиков. Мы к ним подошли и говорим, нет ли чего покушать. С ними Татьяна разговаривала — она постарше. Тогда твой Матя засмеялся и говорит, чтобы мы через полчаса к пакгаузу приходили — и показал куда. Они нам вынесут.
— И вы не испугались?
— Ты, видно, никогда голодная не была.
— Была.
— Тогда молчи. Если человек очень голодный, у него осторожность отказывает… Приходите, говорят, через полчаса, ваш поезд никуда не уйдет, мы уже Екатеринослав берем, сейчас у себя чего поесть сообразим и вам принесем. Через полчаса мы пришли, с нами Ирка третьей пошла. Мне бы не надо связываться с девицами, они же почти что взрослые, лет по шестнадцать, а я еще ребенком была, но, конечно, увязалась, потому что была голодная и не боялась. Мы пошли с ними в этот пакгауз, а там какие-то тюки были и стол, а на столе они поставили бутыль самогона, сало и хлеб — они без обмана. Мы вместе с ними ели, они только велели, чтобы мы не шумели, потому что у них начальник строгий, если что, он их выгонит или расстреляет, итальянская фамилия, я точно не помню — они Троцкого редко называли, он для них был вроде бога, где-то высоко, но они сказали, что, если мы будем кричать и его побеспокоим, они нас зарежут. Но чего резать, их много было, человек десять, а нас трое, они тоже молодые были, а когда выпили, то полезли нас насиловать, но не дико, а как будто был раньше уговор — моим подругам было легче, они уже не девочки, а мне всего четырнадцать, и мне очень больно было, но, когда я хотела кричать, твой физик — он стоял, своей очереди ждал, — он мне саблю показал и смеялся, а я плачу, прошу: дяденька, не надо, мне больно, а он смеялся, нервничал, очереди ждал… дождался! Они нам потом с собой сала дали, для девочек. Мы дальше Екатеринослава не пробрались тогда, я только следующим летом в Бердянск попала, когда там уже Врангель был. Оттуда на юг, в Батум, там у нас домик с братом остался.
— А Матвей Ипполитович? — спросила Лидочка.
— Что? Чего хочешь знать? Он мне как бы первая любовь, только без спросу.
Лидочка знала, что Полина не врет. Так все и было. И может, трудно теперь обвинять этих молодцов — они же не знали, что хорошо, а что плохо, они даже девочек накормили… «Что я говорю? Я могла бы очутиться там, на пыльных мешках, в пакгаузе, а любимый ученик Ферми грозил бы сабелькой — молчи!»
— А он вас узнал? — спросила Лида.
— Не знаю. Но я ему напомнила! Он говорит — не помню. А я думаю — все помнит!
— Вы ему сказали? Зачем?
— Потому что он мне нужен. Потому что он испугается за свою карьеру и поможет мне выбраться живой отсюда.
— А если он скажет, что ничего не было? Да и какое может быть наказание: девушка говорит, что он изнасиловал ее на фронте гражданской войны. А вам скажут — ничего особенного.
— Глупая ты, Лидия, — сказала Полина. — Я не знаю, чего ему здесь нужно, но не зря он вокруг гэпэушника вертится. А что, если завтра станет известно, что твой Шавло был охранником Троцкого? И не важно — насиловал, не насиловал, главное — Троцкий. И он это понимает.
В этот момент за спиной что-то скрипнуло. Лидочка даже не поняла что, но Полина метнулась — прыгнула к кабинке, — рванула дверь, крючок в сторону — а там, внутри, съежившись, сидела на стульчаке Альбина, глаза нараспашку.
Альбина не могла отвести испуганных глаз от Полины и, поднимаясь и натягивая штанишки, повторяла:
— Я нечаянно здесь, я нечаянно, я только вошла, а потом вы здесь говорите, а мне выйти было неудобно, вот я и терпела, извините, я здесь нечаянно.
И, беспрестанно говоря, Альбиночка запахнула халатик — шелковый китайский с драконами, такие за большие деньги привозили с КВЖД, и, уже не оглядываясь, побежала к двери.
— Зря я ее отпустила, — сказала Полина.
— А что было делать?
— Придушить, сразу придушить. Она все слышала. И про кастрюлю, и про Матвея Ипполитовича.
Полина еще не кончила говорить, а Лидочка уже была в коридоре — халатик Альбины сверкнул возле лестницы.
— Альбина, — позвала Лида, стараясь говорить внятно и тихо.
Альбина остановилась, словно ждала этого.
— Вы одна? — спросила она. — Тогда не страшно.
— Я прошу вас, — сказала Лида.
— Вы думаете, что я ему расскажу? — удивилась Альбина — брови полезли по гладкому лобику. — Ни в коем случае!
— Я вам так благодарна.
— Хотя мы с вами узнали такие ужасные вещи! — прошептала Альбина. — Об этом, наверное, должна знать милиция.
— Нет!
Следуя взгляду Альбины, Лида повернула голову — Полина стояла зловещей тенью у приоткрытой двери туалетной. Лидочка махнула ей рукой — уходи!
— Какая ужасная жизнь у людей, — прошептала Альбина. — А вы могли такое представить про Матвея Ипполитовича?
Дверь рядом приоткрылась — неизвестно кому принадлежащий голос изрек:
— Гонг был уже давно. Постарайтесь соблюдать тишину в общественных местах.
— Завтра все надо будет обсудить, — сказала Альбиночка. — Хорошо?
— Хорошо.
— Я только вам здесь доверяю. Как ужасно — кто-то покажется тебе приятным человеком, а он окажется насильником.
С этими словами Альбина убежала вниз по лестнице, а Лидочка еще некоторое время стояла неподвижно, потому что не могла разобраться в своих мыслях. Ей хотелось поверить Альбине, и она даже надеялась, что Альбина искренне говорила с ней. Ведь никто, кроме Лидочки, не знал, кто такая Альбина на самом деле и как она страдает от своего унизительного положения.
Расставшись с Альбиной, Лида вернулась в туалетную, но Полины не застала — жаль, могла бы немного и подождать. Тем более когда Альбина знает о кастрюле, спрятанной в комнате у Лиды. Если остается хоть маленькая опасность, что Альбина — вольно или невольно — проговорится Алмазову, то Лидочка окажется в опасности. Выбросить бы эту кастрюлю…
Лидочка дошла до конца коридора, заглянула на лестницу — Полины нигде нет. Пойти спать? Совершенно не хочется — ни в одном глазу. Снизу доносилась тихая музыка — неужели еще кто-то танцует? Лида начала было спускаться по лесенке вниз, к кухне, но тут музыка оборвалась. И Лида поняла, что никого не хочет видеть. Что она смертельно устала за этот день — если бы она знала, что хотя бы за час сможет добраться до трамвая, до какой-нибудь телеги, которая привезет ее в Москву, она бы не испугалась дождя и ветра — только бы отделаться от тягучей действительности, от ощущения, будто ты упала на дорожку из размокшей глины, набирая скорость, скользишь под уклон, стараясь уцепиться за мокрые травинки по сторонам. Но разве так остановишься — а внизу гладкая поверхность омута, черного в тени стволов, так и ждет, когда ты влетишь в пруд.
Лидочка вернулась к себе, по дороге заглянула в докторский кабинет. Дверь в него была приоткрыта, Лариса Михайловна, освещенная слабым светом настольной лампы, спала на кожаном диванчике, подтянув ноги. В Узком рано ложились и рано вставали. Лида поглядела на свои часы — половина одиннадцатого, — а кажется, словно далеко за полночь.
По парадной лестнице кто-то поднимался. Лида увидела, как в коридоре появился президент Филиппов, который нес, прижав к животу, патефон, за ним шла, осторожно ступая, Марта, несла пластинки в бумажных конвертах. Свободной рукой она то и дело взбивала волосы — видно, была пьяна.
— Лида, ты почему не спишь? — спросила она, увидев соседку. — Гонг уже звучал. Товарищ Филиппов тобой недоволен!
Филиппов зашагал быстрее, будто старался показать Лиде, что незнаком с Мартой.
— Вы идите, идите, — сказала Марта, — я принесу пластинки через три минуты!
И при этом она локтем отталкивала Лиду к двери в их комнату и делала страшные глаза — впрочем, ей и не стоило для этого особо напрягаться — глаза блестели воодушевленно, и вряд ли какие соображения, этические, моральные, либо устрашение могли бы остановить Марту, которая намеревалась — в том у Лиды не было никакого сомнения — подарить свое тело товарищу президенту Санузии, чего ей не удалось сделать днем. «Только бы не в нашей комнате, — мысленно заклинала Лидочка, — я так хочу лечь в постель». Она об этом искренне мечтала, совершенно забыв о том, что всего три минуты назад ей вовсе не хотелось заходить в комнату.
Остановившись в дверях, Марта прошептала:
— Я только отнесу ему пластинки, он такой беспомощный, все мужчины такие беспомощные.
Мысль о беспомощности мужчин страшно развеселила Марту. Лидочка, хоть и зажатая в дверях, видела через плечо Марты, как президент на цыпочках пробежал полосу света, падавшую в тускло освещенный коридор из докторского кабинета, и замедлил движение у лесенки, откуда был поворот в маленький коридорчик к комнате президента санатория.
— Ты дверь не запирай, — продолжала жарко шептать Марта, обдавая Лидочку запахом портвейна. Лида отворачивалась, но Марта этого не замечала. — Я через час вернусь, а может, позже, но ты спи, не обращай внимания, он очень страстный, ты же знаешь, какие страстные эти худенькие! — Мысль показалась Марте и вовсе забавной, и она начала смеяться высоким голосом. И Лида сказала:
— Вы идите к нему, а то всех разбудите.
— Кого еще всех?
Сказано это было тоном фаворитки, которая отныне не намерена считаться с удобствами прочих чинов двора.
— Там Лариса Михайловна, — сказала Лида, показав на полосу света из докторского кабинета.
— А мне что? Я имею право гулять где хочу! — сказала Марта, но уже не так уверенно. — Значит, не запирай, хорошо, птичка?
Лида не стала напоминать Марте, что дверь в комнату не запирается, так как Марта знала об этом лучше, чем Лида, хотя умудрялась об этом забывать.
Марта поцеловала Лидочку в щеку и оттолкнулась от нее, как пловец от стенки бассейна, чтобы лучше и быстрее доплыть до финиша. Она прошла по центру коридора, стараясь не сбиться с установленной мысленно прямой линии, и оттого ее бросало от стены к стене. Но Лида решила не смотреть, доберется ли Марта до объятий президента. Она вытерла щеку от Мартиной помады, закрыла дверь, зажгла тусклую лампу под потолком. Лида улеглась в постель, открыла книжку и тут же поняла, что читать не хочется. Она вскочила, босиком добежала до выключателя. В комнате стало так темно, что перед глазами вспыхнули белые круги. Нащупав постель, Лидочка улеглась и закрыла глаза. Но перед глазами плыли сцены и люди прошедшего дня, впрочем, они уже не пугали и не вызывали отвращения — если их всех понять, то они не такие плохие… кровать превратилась в темный вагон, колеса постукивали на стыках рельсов, по коридору шли какие-то люди, не видные, но слышные по шагам и разговору, Матя заглянул в купе и склонился к Лиде. «Не спишь? — спросил он. — Мне придется лечь с тобой, потому что иначе они подумают, что ты одна, и я не смогу тебя защитить от иудушки Троцкого». Лидочка испытывала радостное и благодарное чувство к Мате, который рисковал навлечь на себя гнев самого военкома, но остался. Матя обратился к ней лицом, Лидочка попыталась обнять его, но на Мате была такая скользкая кожаная куртка, что ее руки соскальзывали с его спины, и от этого возникало раздражение — он сейчас уйдет. Лидочке хотелось попросить Матю, чтобы он снял эту проклятую куртку, но она знала, что он охраняет товарища Троцкого и поэтому не имеет права снять куртку, но никому нельзя было сказать это слово: «Троцкий». Это страшное слово, и оно означает вовсе не человека, и некогда было придумать, что же оно значило. Лидочка боролась с проклятой курткой — ну как ее снимешь? Матя помогал ей, но без особой охоты, потому что он был на службе и ему нельзя было снимать куртку. Ну вот наконец-то пальцы Лиды дотронулись до плеч Мати — только бы кто-нибудь не вошел в дверь! И как будто сглазила! — вагон дернулся, дверь с грохотом поехала в сторону, и в дверях возник сам товарищ Троцкий в черной маске…
Лида проснулась, продолжая оставаться в страхе, и ей все еще казалось, что она в вагоне — только поезд стоит. Она осторожно двинула правой рукой, словно желая удостовериться, там ли Матя, или он успел убежать, — и почти одновременно облегчение оттого, что Матя убежал от гнева товарища Троцкого, сменилось внутренним пониманием, что все это был лишь сон, а на самом деле она лежит у себя в комнате в Узком и проснулась она от шума — от того, что кто-то вошел в комнату. Сейчас-то было тихо, совсем тихо, но она точно знала, что ее разбудил кто-то вошедший сюда. И этот человек не хочет, чтобы она его услышала.
Надо было подняться и выгнать этого человека… Или хотя бы закричать. Ведь она не в пакгаузе каком-нибудь, а в санатории ЦЭКУБУ, наполненном народом, как банка селедкой, — сейчас закричу, и все станет на свои места. Но она не кричала, потому что кричать неловко, только такие невоспитанные люди, как Марта Крафт, могут закричать посреди ночи и всех перепугать. Вместо этого надо спокойно встать с постели и посмотреть, кто там вошел к ней в комнату.
Убедив себя в этом — на это ушло, наверное, секунды две-три, — Лида поняла, что сделать этого никогда не сможет. Слишком страшно. Она продолжала лежать неподвижно, стараясь уловить в тишине дыхание пришельца и предвосхитить его опасное движение. Подушка была невысока, и, лежа на спине, Лидочка видела только потолок и верхнюю часть дальней стены, но даже по этим деталям она поняла, что дверь в комнату приоткрыта, — на потолок и стену падал отсвет коридорной лампы.
Наконец Лиде, как ей показалось, удалось в почти беззвучных, но многочисленных шепотах старого дома различить быстрое дыхание человека. Он стоял и ждал чего-то. Не решается броситься на нее?
Дальнейшее бездействие было совершенно невыносимо, потому что чужой беззвучно приближался на расстояние броска — и у него был нож! И Лидочка скорее инстинктивно, нежели по велению разума, приподняла голову, склонив вперед шею — сама оставаясь неподвижной, — и увидела светящуюся щель в двери, которая была перекрыта черной тенью человека. Он стоял у двери, он не смотрел на Лиду, он был далеко от нее и смотрел наружу — значит, он шел по коридору, почему-то захотел спрятаться — и спрятался в комнате Лидочки. Правда, это было самоутешением, — скорее всего он выглядывал в коридор, чтобы убедиться, что там никого нет, а затем обратить свои подлые лапы против беззащитной Лидочки.
Но раз человек был у двери и в один прыжок ему до Лиды не добраться, Лида решила спрятаться под кроватью — она не придумала ничего лучше. Да и не было в комнате другого места, чтобы спрятаться. Окно заперто, а путь к двери перекрыт насильником.
Для того чтобы спрятаться под кровать, надо с нее слезть. Лидочка осторожно села и спустила ноги на пол, а кровать отозвалась на это осторожное движение дружным визгом всех своих пружин. Таким громким и наглым, что Лидочка спрыгнула с кровати и кинулась к окну, а насильник издал приглушенный звук, открыл дверь и выскочил в коридор. Дверь закрылась, и стало совершенно темно. Слышно было, как по коридору простучали шаги насильника, но куда они простучали и что было потом, Лидочка не знала, потому что в ушах у нее кровь стучала громче шагов.
Лида не знала, сколько она простояла неподвижно, ожидая, когда насильник вернется, чтобы довершить свое гадкое дело, но тут до нее дошло, что это — далеко не лучшая линия поведения. Она поняла также, что у нее есть два выхода — либо бежать из комнаты, либо забаррикадировать дверь. Можно, конечно, было сходить к президенту и вытребовать назад Марту, но, вернее всего, этим она огорчила бы и президента, и Марту.
Так что Лида избрала второй путь и пошла к двери, чтобы ее забаррикадировать. Для этого она взяла тот стул, что стоял у окна, и одновременно стала подталкивать к двери тумбочку. Ведь если поставить стул на тумбочку, то, открывая дверь, насильник устроит такой шум, что снова убежит.
Толкая перед собой тумбочку и держа над головой стул, Лидочка почти дошла до двери, когда натолкнулась на неожиданное препятствие.
Нечто мягкое и податливое заполнило проход в комнату и не давало тумбочке продвинуться вперед.
Не догадываясь, что это могло быть, Лидочка поставила стул на пол, обошла тумбочку и протянула вперед руку. И рука ее натолкнулась на чуть теплое человеческое лицо.
Почему-то первая мысль — может, оттого, что мозг всегда норовит изгнать из себя самое страшное, — была такая: «Ну вот, такой пьяный, что заснул!» Рука скользнула по волосам — волосы были длинные, голова под давлением руки бессильно свалилась набок — Марта? Это Марта вернулась домой в таком виде?
Лидочка хотела зажечь свет, но мешали тумбочка и стул — проще было дотянуться до двери и толкнуть ее, чтобы разглядеть Марту. Лидочка уже догадалась, что в роли насильника выступал президент. Он дотащил свою подругу до комнаты, а потом сбежал. Внутренне улыбаясь оттого, что страшное пробуждение завершилось таким обычным анекдотом, Лидочка толкнула дверь, дверь отворилась. Лидочка хотела сказать: «Марта, пора спать».
И в тот же самый момент она поняла.
Во-первых, что на полу неловко сидит, как брошенная мягкая кукла, подавальщица Полина.
Во-вторых, Полина мертва. Глаза ее были приоткрыты, и видны полоски белков, да и сама голова склонена так, как не может склонить голову живой человек.
Глава 4
Утро 24 октября 1932 года
Потом уж Лидочка удивилась — почему она не закричала? В таких страшных ситуациях положено кричать, звать на помощь, бежать по коридору с распущенными волосами, фактически неглиже… Трудно поверить, но Лидочку остановили и заставили молчать вовсе не уроки, полученные от жизни, а мысленный взгляд на саму себя — она же была в одной ночной рубашке, босиком, взлохмаченная, — возможно, в подобном виде и положено бегать по ночным коридорам с криком: «Убили-и-и!» — но женщины хорошо воспитанные себе этого не позволяют.
Следовательно, надо было вернуться к кровати, нащупать висящий на ее спинке халатик, желательно сделать еще два шага к зеркалу и причесаться — и все это сделать в присутствии трупа женщины, с которой ты только что разговаривала. Нет, двигаться можно было только в одном направлении — в коридор, прочь из комнаты. Но в коридор идти было нельзя по той простой причине, что где-то там таился убийца, желавший в первую очередь убрать свидетеля — то есть Лидочку.
Раздираемая этими мыслями и страхами Лидочка стояла, замерев над телом Полины.
Так прошло, может быть, несколько минут, а может — несколько часов.
Время остановилось — в доме не было ни звука, за окнами не шумел ветер… Лидочка попала как бы в центр подводного сна — вокруг зеленая темная вода и ни звука.
Убийца не возвращался. Может быть, он стоит поблизости? Надо бежать из комнаты. Лидочка заставила себя сделать два быстрых шага к кровати, схватить халатик и сжать в кулаке. Это движение, удавшись, вселило в нее какую-то толику уверенности в себе — оказалось, ноги подчиняются, руки движутся, глаза смотрят… Теперь бы дойти до двери — вертикальная, шириной в ладонь полоса света щель притягивала Лиду, как бабочку фонарик. Так и не надевая халатика, она шагнула было к двери, но тут же нога натолкнулась на заголенную ногу Полины, еще хранящую остаток тепла. Не отдавая себе отчета, Лидочка подпрыгнула и отлетела назад. Сердце колотилось как сумасшедшее, воздуха не хватало. Лидочка постаралась считать, чтобы успокоить сердце, и досчитала до пятидесяти — ей был виден склоненный набок четкий профиль Полины. «Никто уже никогда не поцелует эти губы… Что я думаю, что я несу! Мне же надо бежать!»
Лидочка досчитала до пятидесяти. И снова двинулась к двери. На этот раз она осторожно перешагнула через Полину и замерла, схватившись за ручку двери.
В коридоре тихо…
Лида прижала лицо к щели. Направо коридор был пуст. Теперь надо приоткрыть дверь пошире, высунуть голову в коридор и поглядеть в другую сторону.
Лида потянула дверь на себя, и дверь неожиданно заскрипела. Лида снова замерла. Она подумала: «Вот я сейчас увижу, что коридор пустой. А дальше что? Куда я побегу? К кому?»
Алмазов? Ему по должности надо бы оказаться здесь первым. А может, это он оставил тело убитой Полины здесь, потому что Альбиночка все рассказала ему и теперь он хочет погубить Лиду? Может быть, позвать Матю? А что, если убийца и есть Матя? Полина пригрозила его разоблачить — он испугался…
Бежать к президенту и стаскивать его с Марты?
Нет… спасительным облегчением возникла самая простая и естественная мысль — дежурная докторша Лариса Михайловна!
Лидочка накинула халатик и со смешанным чувством страха и облегчения выскользнула в слабо освещенный дежурной лампочкой, над лестницей, коридор, который с другой стороны тонул в полной темноте, и именно оттуда за ней наверняка наблюдал убийца.
Но если он и наблюдал, то кинуться на нее не посмел — понимал, что у Лидочки будет время закричать и, может, даже убежать.
Ступням было холодно — оказалось, Лидочка забыла обуться.
До кабинета врачихи — четыре двери. Между дверями по три шага — казалось бы, всего девять. Но их надо пройти, а спину тебе сверлят глаза убийцы: путь до кабинета Ларисы Михайловны казался бесконечным.
Лидочка добежала до кабинета на цыпочках. Дверь была закрыта, Лидочка легонько ткнулась в нее — не открывается. Лидочка нажала сильнее — ручка послушно повернулась вниз, но дверь была заперта. Как же так! Лидочка даже рассердилась — ведь доктору положено оставаться рядом с больными. Куда могла уйти Лариса Михайловна?
Лидочка постучала костяшками пальцев. Изнутри никто не отозвался.
Тревога заставила через плечо поглядеть в черную даль коридора. Показалось, что там кто-то шевельнулся.
Лидочка в отчаянии трясла дверь. Конечно же, заперто!
Оставаться больше возле двери на виду у убийцы, который вот-вот решится и бросится на нее, было невозможно. В комнату она не вернется — хоть убейте! Значит, для нее оставался лишь путь по лесенке вниз, к кухне, к столовой. Почему-то Лидочка была уверена, что убийцы там нет, что он, когда бежал, испугавшись, из ее комнаты, не посмел повернуть к освещенному концу коридора, под лампочку над лесенкой, а укрылся в темноте. Может, потому, что сама Лидочка поступила бы именно так.
Но куда она денется, оказавшись внизу?
Лидочка не успела ничего придумать, как услышала, что в темном конце коридора скрипнула половица, будто кто-то тяжелый нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Этот скрип, как материальный физический толчок, спихнул Лидочку вниз по лесенке, в темноту, — на ощупь к двери в коридор, соединяющий кухню и буфетную, туда, где Полина вчера передала ей кастрюлю. Еще этой кастрюли не хватало! А может, Полина вернулась за кастрюлей, как обещала, а в дверях ее настиг убийца? Или уже была ранена, но надеялась, что Лида ей поможет?
В полной темноте, нащупав дверь в коридорчик, Лида замерла. И тут же услышала, как наверху, над самой головой, снова скрипнула половица, — кто-то преследовал ее! Вот другой звук — старая деревянная ступенька прогнулась под подошвой башмака, вот еще короткий скрип — человек осторожно спускался по лесенке, приближаясь к Лидочке и полагая, видно, что ей от него не сбежать!
Лида рванула на себя дверь — та не поддалась! Оказывается, она попала в ловушку. Уже было слышно сдавленное дыхание человека, который спускался по лесенке, — он тоже волновался, спешил, но старался унять быстрое дыхание и сердцебиение. Он настолько приблизился к Лиде, что ей было слышно, как толчками к нему в легкие прорывается воздух.
Ручка двери повернулась вниз, дверь послушно и почти беззвучно отворилась вперед, и Лидочка сразу же захлопнула ее за спиной. Буквально в тот же момент преследователь — видно, ускорив свое движение, — ткнулся в дверь — тяжело и гулко ударился в нее, но дверь удержала его, а Лидочка уже бежала налево, ее голые ступни стучали по гулкому пространству буфетной. В столовой она налетела на угол стола, и было очень больно. Пришлось на секунду остановиться, чтобы сообразить, где же дверь в гостиную. И тут она услышала, как хлопнула дверь сзади, — значит, преследователь открыл ее, и его тяжелые шаги, уже не скрываясь, забухали по полу.
Лидочка превозмогла кошачье, инстинктивное и опасное, желание спрятаться под большим столом, затаиться там; различив высокий прямоугольник белой двустворчатой двери, она ринулась к ней, и ей даже повезло — она толкнула нужную, правую половинку и оказалась в гостиной.
Преследователь топал за ней, тоже ударился об угол стола, и стол, тяжело царапая по паркету ножкой, проехал к двери; на пол упало и разбилось что-то стеклянное.
Ах, насколько лучше быть преследователем, особенно в темноте, в доме, полном лестниц, дверей, переходов и тупиков! Ведь ты смотришь перед собой, ты все время видишь свою жертву, ты соизмеряешь свои усилия и скорость с усилиями жертвы. Тебе не надо ломать голову над проблемой — прятаться или бежать? За тебя решает несчастный кролик. А каково жертве! Лидочка не могла даже обернуться, чтобы посмотреть, кто за ней гонится и быстро ли он ее настигает.
Как бы уже почувствовав прикосновение когтей убийцы к горлу, к волосам, Лидочка помчалась вперед, выскочила к темной парадной лестнице, пробежала по узкому коридорчику, что вел в южный жилой флигель. Она бежала без опасения наткнуться на что-нибудь и упасть, потому что слева от нее тянулся ряд широких окон, пропускавших внутрь видимость ночного света, который складывался из явлений, неспособных светить, но тем не менее вкупе создававших то ночное освещение, которое так способствует появлению привидений.
Сзади, но уже на большом расстоянии — кролик обретает способность определять расстояния до смертельной опасности — грохнула — вдребезги — фаянсовая ваза, такая большая, что Трубецкие ее не смогли вывезти, а крестьяне и реквизиторы — украсть. Грохот прокатился по всему дому, и в значительной степени из-за этого столкновения замедлилась резвость убийцы. Скорее всего это и спасло Лидочку.
Она достигла конца коридора и тут же поняла, куда она бежит!
Направо, теперь налево… в маленький коридорчик — и вот белая дверь. Добежав, Лидочка, чуть не падая, хотела постучать в нее, но дверь сама открылась ей навстречу.
В комнате горел свет — лампа на большом письменном столе. И хоть свет ее был закрыт от глаз круглым зеленым абажуром, Лидочка зажмурилась — так это было ярко.
Не успев погасить скорость бега, она уткнулась носом, ударилась ладонями, чуть не сшибла с ног Александрийского, который стоял недалеко от двери, открыв ее навстречу бегущим Лидочкиным шагам, будто был уверен, что Лидочка бежит именно к нему и нуждается в его помощи и защите.
Александрийский отступил на шаг под ударом Лидочки, но удержался и даже смог обнять ее за плечи, защищая и останавливая. За это мгновение Лидочка уже поняла, что ей надо делать, — она вырвалась из рук Александрийского и обернулась к открытой двери, ожидая, что там появится лицо убийцы. За дверью была лишь темнота. Лидочка захлопнула дверь.
— Скорее! — прохрипела она, потому что от напряжения не могла говорить иначе. — Заприте! Он там!
— Лидочка, — сказал Александрийский, он уже стоял рядом, отстраняя ее от двери, — успокойтесь, ничего не случилось, садитесь!
— Нет, заприте, заприте! Вы ничего не понимаете!
— Ничего не понимаю? Совершенно точно, — согласился Александрийский, по-вольтеровски улыбаясь. — Но польщен таким поздним, а вернее, ранним визитом.
Лидочка замерла. Прислушалась.
Никто в дверь не ломился.
— Что случилось? — спросил Александрийский. — На вас лица нет. — Тут он увидел, что Лидочка босая. — Сейчас же идите на ковер! Вы же простудитесь!
— Вы ничего не понимаете!
— Всему следует искать самые элементарные объяснения. Я бы сказал, что некто очень страшный попытался войти к вам в комнату и посягнул на вашу девичью честь.
Александрийский продолжал улыбаться, и Лидочке стало противно, что по ее виду можно подумать такое. «Он, наверное, думает, что я сама кого-то пригласила, а потом испугалась. Он же старый, ему все кажется смешным…»
— Вы ничего не понимаете! — сказала еще раз Лидочка и перешла на ковер — на ковре ступням было теплее.
— Куда уж мне, — сказал Александрийский. — Я бы пожертвовал вам мои шлепанцы, но они, к сожалению, на мне.
— Он ее убил! — сказала Лидочка. — Понимаете, он ее убил, а потом хотел убить меня, потому что я видела.
— Что видела? — спросил Александрийский.
— Марта ушла, я одна была, я думала, что это Марта вернулась, а это она лежит, вернее, сидит на полу…
Рассказывая, Лидочка понимала, что Александрийский ей верит или почти верит, но, даже веря ей, слушает это как историю, приключившуюся с молоденькой девчушкой, у которой действительность и ночное воображение настолько перепутаны, что она и сама не знает, где же проходит грань между ними.
— Вы уверены? — сказал он, когда Лидочка в нескольких сбивчивых фразах рассказала о том, как нашла Полину и как потом за ней гнался убийца. — Вы уверены, что эта женщина была мертва? И тем более убита?
— Но я же ее трогала!
— Вы трогали ее в темноте? Не зажигая света?
— Я видела — у нее глаза были открыты…
— И вы ни разу не видели вашего преследователя?
— Я слышала. Этого достаточно. Я ничего не придумываю! Да он же вазу в коридоре свалил!
— Это не вы?
— Это он, честное слово — он.
— Этот грохот и заставил меня подняться, — сказал Александрийский. — Я сидел работал — не спалось. — Он показал на бумаги, разложенные на столе под лампой. — И тут услышал страшный грохот… потом появились вы! И знаете… — Улыбка, не исчезнув с лица, вдруг стала смущенной, может быть, неверное тусклое освещение в комнате было тому виной. — Такая тишина и пустота, словно уже наступил конец света. Я его ждал чуть позже… И вдруг — грохот, топот, и влетаете вы, как летучих конников отряд. И жизнь вернулась, но не успел я обрадоваться этому, как обнаруживается, что и вы — черный посланец, дурной гонец, таким еще не так давно отрубали головы… Не сердитесь, милая Лида, сейчас я отправлюсь вместе с вами, мы поднимемся и обнаружим, что никакой Полины в вашей комнате нет, что вам все померещилось.
— Вы так говорите, будто я ребенок, а людей не убивают.
— Людей у нас убивают. И слишком много, и, боюсь, будут убивать еще больше. Но не так, Лида, а по правилам убийства. Книга убийств именуется у нас Уголовным кодексом, а сами основания для убийств — статьями.
Александрийский запахнул халат и сказал:
— Вам придется взять мои ботинки. У меня небольшая ступня. Я бы пожаловал вам шлепанцы, но для меня надевание ботинок — операция сложная и длительная: я с трудом нагибаюсь. А шлепанцы уже на ногах.
Лидочка послушно надела ботинки. Они были удобно разношены, хоть и велики. Время двигалось медленно — профессор все никак не мог завязать пояс. Лидочка смотрела на его длинные, тонкие, распухшие в суставах пальцы — как они неуверенно двигались. И она поняла, что профессор был старым и больным человеком.
— Пойдем, покажите мне сцену преступления, как говорит моя старая подруга Агата Кристи, не знакомы?
— Нет, я не слышала о такой подруге. — Зачем он говорит о каких-то подругах?
— Разумеется, мы должны были первым делом позвонить в Скотленд-Ярд, — продолжал Александрийский, направляясь наконец к двери. Халат у него был темно-вишневый, бархатный, чуть вытертый на локтях, с отложным бархатным воротником — дореволюционное создание, похожий был у Лидочкиного папы. — Но у меня в комнате нет телефона, а в Москве нет Скотленд-Ярда. Впрочем, если вы правы, мы позвоним в МУР из докторского кабинета, и с рассветом примчатся бравые милиционеры. Сколько сейчас времени?
Лидочка поглядела на свое запястье — часов не было, часы остались в комнате. Александрийский заметил это движение и сказал:
— Двадцать минут седьмого.
— Как? Уже утро? — Внутренние Лидочкины часы уверяли ее, что вокруг глубокая ночь.
— Утро больших приключений.
— Павел Андреевич, вы мне совсем не верите?
— Нет, не совсем. Вы ничего не изобрели.
— Но ошиблась?
— Возможно.
Александрийский открыл дверь, пропуская Лидочку вперед. Она услышала, как нервно и мелко он дышит. Как же он будет подниматься на второй этаж?
Лидочка замешкалась — ей не хотелось вновь оказываться в коридоре, но тут она услышала голоса — в коридоре разговаривали, — слов не разберешь, но по тону слышно было, что разговор идет относительно спокойный, без крика. И все страхи сразу испарились — Лида смело пошла вперед. Александрийский последовал за ней.
В коридоре горел свет, на ковровой красной дорожке были рассыпаны большие и маленькие осколки большой китайской вазы, что недавно стояла на высокой подставке возле зеркала. В центре этой груды черепков возвышалась дополнительным холмиком груда окурков. Почему-то Лидочка в первую очередь увидела эту гору окурков и поразилась тому, сколько их накопилось в китайской вазе и сколько лет никому не приходило в голову заглянуть внутрь.
Только после этого Лидочка увидела людей, собравшихся вокруг останков вазы. Это были президент Филиппов в ночной пижаме, совсем одетая, будто и не ложилась, Марта Крафт, а также докторша Лариса Михайловна и какая-то неизвестная Лидочке личность произвольного возраста и серого цвета, очевидно, из отдыхающих, потому что была в халате.
— Вот и она! — воскликнула Марта при виде Лидочки.
— Это вы сделали? — спросил президент. В обычной жизни его волосы были тщательно уложены поперек лысины, а сейчас он забыл о приличиях, и на голове образовалось неаккуратное воронье гнездо.
— Я в первый раз это вижу, — сказала Лидочка.
— Тогда объясните мне, почему вы здесь оказались в такое время и в таком виде?
Еще за секунду до этого Лидочка намеревалась сообщить президенту как официальному лицу про труп в ее комнате и про то, как ее преследовал убийца. Но тон президента и воронье гнездо на его голове сделали такое признание нелепым и наивным. Президент Филиппов был недостоин таких откровенных признаний. К тому же он не выносил Лидочку и не скрывал этого, так что любое признание он тут же обратил бы ей во вред.
— По той же причине, по которой вы очутились здесь в такое время и в таком виде, — сказала Лидочка. Она не хотела, чтобы ее слова звучали наглым вызовом, но именно так и вышло. Глаза президента сузились от возмущения, он приоткрыл рот, вновь закрыл его — и Александрийский, и Марта поняли, что сейчас могут последовать совершенно ненужные разоблачения, но не успели перебить Филиппова, как тот закричал так, что было, наверное, слышно в Москве.
— Это вы позвольте! — кричал Филиппов. — Это вы поглядите, в каком вы виде, и сравните с Мартой Ильиничной, которая вполне прилично одета, так что я попрошу без намеков на наши отношения: а вот вы в шесть утра выходите из мужской комнаты черт знает в чем, и совершенно не стесняетесь, и даже бьете государственные изобразительные ценности — вы не представляете, сколько это сокровище стоит, по нему Эрмитаж плакал, а мы не отдали, я вас отсюда за разврат выгоню, ясно?
— Филиппов! — умоляла его Марта, повиснув на нем, чтобы отделить его от Лидочки, к которой президент направился с целью изгнать ее из обители академиков. — Филиппов, подожди, не трогай Лиду, она совершенно ни при чем. Если она была у Александрийского, то она не разбивала вазу, а если разбивала вазу, то она не была у Александрийского.
— Не была? Не была? А это что?
Указующий перст президента уперся в пол. Все посмотрели туда и увидели, что Лидочка обута в мужские ботинки.
— Это ваши ботинки, профессор?! — с пафосом воскликнул президент Санузии, и профессор, не задумавшись, сразу признался:
— Мои. — И, сообразив, что такое признание может повредить Лидочке, продолжил: — Но заверяю вас, товарищ Филиппов, что ваши подозрения совершенно неуместны. Мое состояние, что подтвердит находящийся здесь доктор, к сожалению, совершенно исключает любое физическое напряжение. Так что присутствие Лидии в моей комнате объяснялось вполне невинными платоническими причинами.
— В шесть утра! Ха-ха-ха, я смеюсь, — сказал президент.
— Как лечащий врач, я должна сказать, — вмешалась в разговор Лариса Михайловна, — что профессор Александрийский болен ишемической болезнью и имеет аневризму сердца, так что любое физическое напряжение опасно для его жизни.
Лариса Михайловна очень волновалась, щеки ее пошли красными пятнами, она выражалась канцелярским языком, который ей казался более убедительным в разговоре с таким человеком, как президент Филиппов, и, как ни странно, именно этот стиль возымел действие, президент спохватился и сказал:
— Я вам, Пал Андреевич, не ставлю в вину и к вам отношусь со всем уважением. Но наши с вами девушки…
— Наши коллеги, — терпеливо поправил его профессор.
— Вот именно, они не вызывают доверия.
— Филиппов! — воскликнула Марта Ильинична.
— Не о тебе, не о тебе, — отмахнулся президент.
И тут наступила пауза, потому что оказалось, что больше подозреваемых нет.
Президент, почувствовав, что следствие зашло в тупик, спросил у Александрийского:
— А она у вас давно?
— Почему вы спрашиваете? — удивился Александрийский.
— А потому что если недавно, то она могла свалить вазу, а потом к вам убежать.
— Вы ошибаетесь, — сказал Александрийский твердо, но, конечно же, не убедил этим Филиппова.
— Тогда все по палатам, — приказал президент. — Я тушу свет. Все по палатам!
— Я провожу Лидочку, — сказал профессор.
— Она сама дойдет.
— А я провожу, — сказал профессор, не улыбаясь, — потому что мне надо будет забрать мои ботинки, которые я ей одолжил.
Все снова посмотрели на ботинки, которые свидетельствовали о Лидочкином моральном падении. Потом докторша взглянула на профессора, и взгляд ее был так красноречив, что Лидочка не сдержала улыбки.
— Вы с нами дойдете до комнаты Лидочки, — сказал Александрийский, который тоже прочел немой вопль во взгляде врачихи. — Вы поможете мне подняться по лестнице, а я потом соглашусь смерить давление.
— Честное слово? — Покрытое пушком доброе лицо докторши покрылось счастливым румянцем.
«Какой умница!» — сообразила Лидочка. Теперь докторша волей-неволей попадет в комнату и сама увидит Полину.
— Спокойной ночи, — сказал президент, подтягивая резинку пижамных штанов, — отдыхайте, товарищи. Я пошел к себе.
— И правильно сделаете, — капризно сказала Марта, разочарованная в кавалере. Она первой поспешила к лестнице, и Лидочка сказала ей:
— Не спеши, подожди нас.
— Ладно, — согласилась Марта, но Лидочка все равно беспокоилась, как бы Марта не убежала в комнату, и не спускала с нее глаз. Лариса Михайловна и Лидочка поднимались медленно, помогая идти Александрийскому.
Александрийский опирался на руку Лидочки, и той было неловко от того, какая у нее молодая и гладкая рука и как сильно в ней бьется кровь, тогда как пальцы профессора столь холодны и сухи, а сердце сокращается часто и мелко.
Наверху лестницы Лариса оставила их — побежала к себе в кабинет.
Александрийский прислонился к стене.
— Вам плохо? — спросила Лидочка.
— Сейчас, — сказал Александрийский. — Я иду.
Лариса Михайловна прибежала из своего кабинета и протянула ему стаканчик с мутной жидкостью. Александрийский послушно выпил.
— А вы где были полчаса назад? — спросила Лидочка у Ларисы Михайловны.
— Я навещала профессора Глазенапа, — сказала Лариса, — у него был ночью приступ почечных колик. А вы меня искали? Вам что-то надо было?
Лариса Михайловна всегда чувствовала себя виноватой, словно боялась потерять место.
— Пошли, — сказал Александрийский. — Поглядим, нет ли у вас в комнате привидений.
Они остановились у двери.
Лидочка поняла, что первой войти должна она. Ведь она одна видела Полину мертвой.
Она потянула на себя дверь. Дверь открылась. Александрийский положил легкую руку ей на плечо.
Лидочка нащупала выключатель — он был справа от двери. Она старалась не смотреть под ноги. Выключатель послушно щелкнул. Лида продолжала стоять, зажмурившись.
— Ну что ты, — сказала за спиной Марта, — заходи же!
Лидочка не могла заставить себя шагнуть, потому что натолкнулась бы на тело Полины, но глаза приоткрыла.
Комната была пуста.
Лидочка смотрела туда, где должна была лежать Полина, она шарила глазами по стене, по полу в поисках крови, следов борьбы — каких-нибудь следов того, что здесь только что лежало тело мертвой женщины.
— Я так больше не могу. Это анекдот какой-то, — сказала Марта и, отстранив Лидочку, вошла в комнату. — Ты что, привидение увидела?
— Да, — сказала Лидочка.
— Ну что ж, — сказал Александрийский, — надевайте ваши туфли, отдавайте мои ботинки, встретимся за завтраком.
— Да, да, одну минутку, — сказала Лида. Она с трудом заставила себя миновать то место, где лежало — но ведь лежало же! — тело Полины.
Ночные туфли без задников стояли рядышком у измятой кровати. Вторая кровать была застелена, и Марта первым делом сорвала с нее одеяло, как бы стараясь показать присутствующим, что только что покинула ложе и намерена немедленно улечься вновь.
Лидочка сняла ботинки профессора и повернулась к нему, протягивая их.
— Честное слово… — сказала она.
— Поспите немного, — сказал профессор, — вы так устали. А перед завтраком зайдите ко мне, хорошо?
— И перед завтраком тоже! — сказала Марта. — Ну уж, профессор!
И она захихикала. Только тут Лидочка сообразила, что Марта пьяна. Исчезновение Полины каким-то образом способствовало постепенному возвращению Лиды в нормальный мир привычных ощущений и логических связей.
Профессор держал в руке ботинки.
Лариса Михайловна сказала от двери:
— Я провожу Павла Андреевича, вы не беспокойтесь, это мой долг. А вам пора спать.
Дверь закрылась. Марта задрала юбку и стащила ее через голову.
— Как я устала от всего! Ноги не держат. — Сквозь ткань юбки ее голос звучал глухо, а ноги в черных шелковых чулках были крепкими и обтекаемыми.
Лида подошла к двери. Она смотрела на то место, где была Полина. Может, в самом деле она была живой и лишь казалось, что она мертвая? А потом она встала и ушла… Конечно же, так и было! И хоть оставалась неловкость от того, что Лида потревожила Александрийского, но лучше так, чем снова увидеть мертвую женщину. И как только она мысленно произнесла слова «мертвая женщина», Лидочке вспомнилось собственное прикосновение к ее виску, ощущение теплой воды — ведь это была кровь? — Лидочка постаралась вспомнить, что же она сделала потом: палец — она взглянула на него — был чист. Значит, она вытерла его? Но ведь она его не вытирала! Лидочка взглянула вниз — по серой ткани халатика протянулась короткая, почти черная полоса — кровь уже высохла, но это была кровь, и никогда не убедишь себя в ошибке. Лида была уже уверена, что Полину она видела, что Полина была убита, что у нее была рана на виске. И был преследователь — убийца, который хотел догнать и убить Лиду. Все было…
Марта кинула юбку на стул, стала снимать чулки, пальцы плохо слушались ее и соскальзывали с застежек.
— Как плохо быть женщиной, — громко сказала Марта. — Мы никогда не научимся расстегивать чулки. Для этого надо родиться мужчиной, не так ли, уважаемая леди Иваницкая?
Не дождавшись ответа, Марта выругалась — что совсем уж не вязалось с ее респектабельным обликом — и, не снимая пояса и правого чулка, который не смогла отстегнуть, она упала на кровать и стала спазматически дергаться, вытаскивая из-под себя одеяло. Не вытащила и заснула — начала дышать ровнее, глубже, потом захрапела.
А Лидочка все стояла посреди комнаты, не решаясь вернуться в постель. Она нащупала ногами туфли, надела их, прошла к окну, надеясь, что уже начинается рассвет, — скорее бы кончилась эта ночь! Но никаких признаков рассвета за окном не намечалось, будто ночь только-только вступила в силу. Сквозь приоткрытую форточку доносился занудный звук дождя. Мокрый воздух вползал в комнату.
Марта похрапывала. Если ей сказать про Полину, она только рассмеется. На тумбочке у кровати Лидочка нащупала свои часы. Фосфоресцирующие стрелки показывали почти семь часов. Как хорошо, что Марта похрапывает в комнате, — это как гарантия, что никакой убийца сюда не сунется. А если сунется, то Марта закричит так, что примчатся машины с Лубянки.
И хоть спать не хотелось, выйти в коридор нельзя — безопасный мир кончается за дверью.
Не снимая халата, Лидочка легла на кровать. Она ждала, когда пройдет час, — когда начнет просыпаться Санузия. С утра вступят в действие совсем другие законы жизни — не такие кошмарные, как ночью.
Кто мог убить Полину? Конечно же, были случайные люди и случайные ситуации, но если их отбросить, то останутся те, кому мешала Полина и ее тайна. Конечно же, первым кандидатом на роль убийцы оказывался Матя. Да, сказала себе Лидочка, как это ни жутко, как ни противоестественно — милый, добродушный Матя имел все основания убить эту несчастную женщину. Ведь она знала о нем страшную тайну — его участие в насилии. А что, если это раскроется? Что скажут об этом маэстро Ферми или Резерфорд? Ведь Матю больше никогда не пустят за границу. Для Мати это непереносимая травма. Конечно же, он по натуре не убийца, но, если его сильно испугать, он способен на неожиданные и глупые поступки. Впрочем, как можно называть убийство глупым поступком? Матя — убийца! Несовместимо. Сказать бы об этом его маме, у него, наверное, чистенькая, с белым воротничком мама — учительница, которая допрашивает сына, стоит ли в Пизе падающая башня и целы ли фрески Фра Анджелико в Вероне? Она сама была в Италии студенткой-бестужевкой, еще до первой революции, и ей кажется, что жизнь там находится под угрозой всемирной пролетарской революции, и потому она очень жалеет итальянские фрески, на которых итальянские пролетарии обязательно выцарапают гвоздями неприличные слова… Лида, Лида, куда тебя заносит воображение? При чем тут мама Мати Шавло? Ее сын — возможный убийца. А вдруг это Матя преследовал Лиду по коридорам дома Трубецких и разбил китайскую вазу эпохи Тан? Вот это уже совсем немыслимо и бездарно — даже думать о таком противно. Убийцами бывают биндюжники, слесари и бродяги, но не может же быть убийцей доктор наук, физик с мировым именем!
Лидочка замерла, даже думать перестала — по коридору кто-то прошел, шаги были частыми, мелкими, быстрыми, хлопнула дверь в туалетную комнату. Там — далеко, как на соседней планете, — зашумела вода. Лидочка поглядела на часы. Время двигалось так медленно… Четверть восьмого… Но убить мог и другой. Допустим, Алмазов. Конечно же, Алмазов. Алмазов наверняка убивал уже людей. И Альбина рассказала ему про Полину, про то, что услышала в туалетной. И Алмазов понял, что Полина представляет опасность для Мати. Ведь Матя ему нужен? Матя сам говорил, что нужен. Значит, надо было убрать несчастную подавальщицу… А потом бегать по коридорам за Лидой? Чушь какая-то! Алмазову ничего не стоит послать послушного президента Филиппова — тот под любым дождем в любую распутицу доберется, как тот раб с ядом анчара, до отделения ГПУ и приведет оттуда молчаливых сдержанных сотрудников. Зачем Алмазову самому этим заниматься?.. Алмазов мог поручить Альбине проколоть сердце Полины длинной булавкой. Им такие булавки дают в ГПУ — с алмазными шариками на концах, — и Лида явственно увидела, как сверкает алмазный шарик на кончике булавки и Альбина, облеченная в белый балахон, на цыпочках бежит по коридору, догоняя Полину, что несет, прижав к груди, голубую кастрюлю, крышка которой легко подпрыгивает, выпуская изнутри клубы пара и даже издавая время от времени короткие свистки. Именно эта кастрюля и служит, как понимает бессильная вмешаться в события Лидочка, центром всей интриги — обладание ею и стало проклятием дома Трубецких. Вот Полина оглядывается и видит преследовательницу — лицо Альбины искажает страшная гримаса, и она показывает издали Полине длинную иглу, как бы предупреждая, каким образом Полина будет убита.
— О нет! — С таким криком Полина кидает кастрюлю и убегает по коридору, крышка с кастрюли падает и катится отдельно, но внутри кастрюли — такое клокотание пара, что невозможно разобрать, в чем же ее тайна. Вместо того чтобы схватить, как от нее ожидалось, кастрюлю и прекратить преследование подавальщицы, Альбина выставляет вперед иглу и стремительно приближается к Полине. Лидочка пытается предупредить Полину, которая не смотрит на преследовательницу, что ей грозит смертельная опасность, но изо рта не вырывается ни звука, будто рот набит пастилой… От страха и отчаяния Лидочка открыла глаза и поняла, что нечаянно заснула и сцена преследования Полины Альбиночкой — не более как кошмар. В комнате стало чуть светлее. Лидочка приподнялась на локте и увидела, что окно из черного стало светло-серым. И слабый свет проникал в комнату, освещая вздернутый к потолку профиль Марты — куда более жесткий и старый, чем наяву, когда Марта следит за выражением своего лица. Как бы почувствовав взгляд Лиды, Марта повернулась на бок и потянула на себя одеяло.
На часах было около восьми. Слышно было, как медленно и обыкновенно просыпается дом, как доносятся откуда-то человеческий разговор, шаги, звук падающей воды и переставленного стула. Почему так страшно? И сразу Лидочка вспомнила ночные беды и даже хотела привстать, поглядеть, не вернулась ли мертвая Полина, но поняла, что это тоже психоз, продолжение кошмара, — с возвращением дня Полины уже не может быть. И никаких убийц… от этой счастливой мысли Лидочка свернулась клубочком и заснула глубоко, без снов, как будто намеревалась спать весь день.
И тут же ударил гонг!
Страшно и тревожно, словно вызывал не на завтрак, а на Страшный суд.
— Заткнись! — закричала спросонья взбешенная Марта. — Заткните ему глотку.
Гонг ударил снова — из какого же металла он сделан, если звук его проникает сквозь стены и двери, забирается под одеяло и подушки?
Глава 5
24 октября 1932 года
Лидочка закрыла уши. Кровать Марты заскрипела.
— Я знаю, — сказала Марта с отвращением. — Это Филиппов. Он садист. Я в этом убедилась вчера — ты не представляешь, какой он садист!
Марта потрясла Лидочку за плечо, чтобы та просыпалась, — Марте не хотелось страдать в одиночку.
— Какой? — сонно спросила Лидочка.
— А такой, что оставил меня с носом. Импотент — это самое высшее выражение садизма!
Лидочка не могла не улыбнуться.
— Ну и рожа, — продолжала Марта, и Лидочка догадалась, что она глядится в зеркало на стене. — Еще вчера я была соблазнительной молоденькой графиней — а сегодня кто? Сегодня я кухарка, которая так и не научилась управлять государством.
Кухарка… что же связанное с кухаркой? Конечно же, кастрюля. Что с кастрюлей? Может, Полина ночью приходила именно за кастрюлей? Но как поглядишь, если Марта возвышается над тобой и глаз с тебя не спускает?
Лидочке бы удалось изгнать из головы мысль о Полине, если, надевая халатик, чтобы бежать в туалетную, она не увидела бы на нем след крови — полоску, оставленную вчера. Даже затошнило. Захотелось тут же улечься обратно в постель и, дождавшись, пока Марта уйдет, быстро собрать свои вещи и бежать отсюда.
Но Марта не собиралась уходить без Лидочки.
— Скорее, скорее, ты не представляешь, какой он поднимет скандал! Он будет требовать нашего изгнания — так уже было, — и пропадут наши денежки за путевки, не говоря уж о письме в местком. За безнравственное поведение. Самое уморительное, что я, кроме него, ни с кем безнравственным поведением не занималась. Где справедливость, граждане судьи?
Стараясь не глядеть на полоску крови на халате, Лидочка надела его, потом опустилась на колени и полезла под свою кровать, чтобы поглядеть, стоит ли там злополучная кастрюля. Но ничего увидеть толком не успела, потому что Марта требовательно заявила:
— Не будь дурой, Иваницкая! Твои туфли стоят у моих ног. Только последний идиот будет искать их под кроватью.
Так что пришлось обуваться под строгим взглядом Марты.
В умывальной, куда они пришли последними, Марта все торопила Лиду, и Лида поняла, что любовница самого президента настолько трепещет его гнева и изгнания, что не смеет войти в столовую одна, без Лиды. И когда они шли в столовую, Марта подгоняла Лиду, как надсмотрщик — дядю Тома, Марта дала ей понять, что теперь, добившись своего — сладкого тела Марты Ильиничны, — Филиппов постарается выжить ее из санатория, опасаясь, что она проговорится кому-нибудь об их близости и уменьшит его шансы в будущем удержать место. Оказывается, выборная должность президента республики курировалась ГПУ, точнее, отделом товарища Алмазова, потому что в Узкое порой привозили иностранные делегации и отдельных выдающихся представителей зарубежной научной и литературной мысли — так что президент Санузии не мог быть случайным человеком.
Лидочка шла в столовую, не думая о Полине и о ночных делах. Ею овладела странная тупость, ей было все равно, куда она идет и почему, и ее даже удивило обычное утреннее веселье в столовой, смех и громкие голоса молодежи на «камчатке», ее изумило то, что ничего не подозревающий Пастернак мирно беседовал с какой-то толстой дамой в пенсне, что Александрийский, хоть и был бледнее обычного, спокойно уплетал рисовую кашу, и никому не было дела до нее и Полины… А где подозреваемые? Лида поглядела на место Мати — его там не было, но тут же обнаружилось, что это открытие и гроша ломаного не стоило, потому что именно в тот момент Матя, проходя мимо Алмазова, наклонился, что-то сказав.
Президент Филиппов постучал ложкой по пустой кастрюле и воскликнул:
— Второй удар гонга уже был!
— Был! — поддержали его нестройно за столами.
— Отдыхающие из девятнадцатой комнаты за два дня умудрились во второй раз безнадежно и преступно опоздать к завтраку. И если в первый раз мы ограничились выговором, то сейчас, я думаю, мы не имеем права либеральничать!
Филиппов был маленький, худенький, толстовка на нем казалась мятой и несвежей.
Лида взяла за руку замершую, как кролик перед коброй, Марту и уверенно потянула к столу.
— Вы меня слышите? — постарался рычать президент.
— Слышу, слышу, — ответила Лидочка, усаживаясь на свое место.
— Мы устроим общественный суд! — кричал президент.
— Общественный суд! Ура! — «Камчатка» буйствовала, ликовала; предстояло зрелище. В такую погоду перспектива драматического зрелища всегда радует.
Пастернак поморщился. Николай Вавилов наклонился к брату, заговорил не улыбаясь. Матя уткнулся в тарелку. Алмазов презрительно смотрел на президента, а Альбиночка смотрела на Алмазова.
— Только не бойтесь, — прошептал, склонившись к самому уху, Максим Исаевич, — мы что-нибудь придумаем.
— А что они могут сделать? — запищала Марта.
— Суд — это суд, — сказал Максим Исаевич и громко вздохнул.
Александрийский сидел к Лидочке в профиль. Шум за столом стих. Вошел, опираясь на палку, старый Глазенап. Лидочка испугалась, что идиот Филиппов и его привлечет к суду, но Филиппов промолчал. Он уселся на свое место, луч света, отразившись от стоявшей перед ним начищенной кастрюли с кашей, попал ему в глаз, и глаз сверкнул, как у дракона. Кастрюля… Надо будет вернуться в комнату до Марты и посмотреть в конце концов, что в той кастрюле!
— А когда будет суд? — спросила Лидочка у Максима Исаевича.
— Спроси меня чего-нибудь полегче, — сказал тот, потом добавил: — Филиппов сначала посоветуется со своим активом.
— И с начальством, — добавила Марта. Она была зла. — Никогда не подозревала, что человек может быть так неблагодарен!
— А он тебе должен быть благодарен? — спросил Максим Исаевич, прищурившись. Щечки его порозовели.
— Разумеется, — сказала Марта и добавила, чтобы у собеседника не оставалось сомнений: — За мою бессмертную красоту.
Лидочка ждала, когда появится подавальщица. Сегодня смена Полины. Если все, что было ночью, — бред фантазии, то Полина сейчас войдет.
С двумя чайниками кофе с молоком вошла незнакомая старуха в белом нечистом халате. У старухи было много золотых зубов — она, видно, гордилась ими и все время улыбалась.
Когда старуха поставила чайник на стол неподалеку от Лидочки, та спросила:
— А где Полина?
— А кто ее знает, эту барыню, — рассердилась вдруг старуха. — Я что, нанималась вам чаи разносить, да? Мое место на кухне, посуду мыть, мне не платят, чтобы я чайники носила!
Лидочка поковыряла ложкой в каше. Налила себе кофе. Кофе был суррогатный, жидкий, невкусный и уже остыл. Она ждала только, когда поднимется из-за стола Александрийский. Он не спешил. Придется подождать его в гостиной.
Выходя из дверей, она оглянулась — сразу несколько человек смотрели ей вслед — Матя, Алмазов, Александрийский, президент. Каждый взгляд Лидочка ощутила отдельно, как различные прикосновения.
Лидочка подошла к картине, изображавшей несчастную жертву крепостнических повадок Трубецких. Девица смотрела печально, словно догадывалась о грядущей судьбе. Или о ней знал художник. «Может, успею сбегать наверх, к себе в комнату, погляжу наконец в эту кастрюлю!»
Но как только Лидочка пошла к выходу из гостиной, в дверях столовой появился Александрийский. Он шел быстрее обычного.
— Как хорошо, что вы догадались подождать, — сказал он.
— Я специально вышла.
— Вы готовы отправиться на прогулку?
— Конечно.
— Тогда пойдемте, не тратя времени даром, пока все еще за столом.
Лидочка помогла Александрийскому одеться, потом оделась сама. Из столовой вышел Пастернак. Он спешил. Увидев Лидочку, он сказал:
— Простите, я хотел проститься с вами. Я сейчас уезжаю.
— Как жалко, — искренне сказала Лидочка.
— Я хотел вам сказать, что 20 ноября у меня должен быть вечер в Доме железнодорожников. Если вам интересно, приходите.
— Большое спасибо, — сказала Лидочка.
— Тогда я с вами прощаюсь. Через десять минут уходит грузовик, они за продуктами поедут и меня захватят.
— Я была рада с вами познакомиться, — сказала Лидочка. Она почувствовала, что Пастернаку не хочется с ней расставаться. Он будто ждал еще — последних, нужных слов, но слов не получилось.
— Лида, — сказал Александрийский отцовским голосом, — нам пора.
— Простите, — сказал Пастернак, — до встречи.
Лидочка посмотрела, как Пастернак через две ступеньки легко взбежал на второй этаж. Она открыла дверь, пропуская Александрийского вперед. У него была узкая согбенная спина. Александрийский еще в дверях стал раскрывать большой черный зонт. В лицо колотил промокший ледяной ветер. Зонтик никак не раскрывался, его рвало из рук профессора.
— Давайте я сама, — сказала Лидочка. Она вышла на улицу, раскрыла зонт и быстро повернула его горбом против ветра. — Мы куда идем? — спросила Лида.
Стало холодно, ее москвошвеевское полушерстяное пальто пропускало ветер и через несколько минут пропустило бы и воду. Вокруг был влажный сумрак, и парк вдали скрывался, расплывался в водяном мареве. За последние два дня деревья совсем облетели — лишь кое-где дергались под ветром последние желтые листья. Две белки перебежали дорожку перед Лидой и стремглав кинулись вверх по толстому кленовому стволу.
— Сорвут заготовки! — крикнул Александрийский.
— Кто сорвет? — не поняла Лидочка. — Кулаки?
— Погода плохая, — серьезно ответил Александрийский. — Белки не смогут положить в закрома собранный урожай.
— Мне их жалко, — сказала Лидочка.
— Вы не правы. Сначала надо выяснить их классовый состав. А потом уж жалеть. Под видом белки может скрываться классовый враг, вы подумали?
— Я подумала, что вам лучше помолчать на такой погоде, — сказала Лидочка. Она остановилась и под защитой зонта, который с трудом удерживал профессор, вытащила провалившийся под пальто шарф, отчего грудь Александрийского была совершенно открыта. Затем Лидочка перехватила зонт, который профессор с трудом удерживал, потому что ветер стучал и ломился в него, как будто пришел с обыском.
Они вышли за ворота усадьбы — широкая дорога вела вниз, мимо кладбища к прудам и основному въезду, другая, от ворот направо, — к каким-то хозяйственным строениям.
На развилке стояла массивная старая церковь, дверь в которую была полуоткрыта, и внутри было темно, а на полу были видны рваные листки бумаги.
Александрийский взял Лидочку под руку и повел направо. Пришлось идти по скользкому глинистому валику между наполненными водой колеями. Лидочка перепрыгнула через колею и пошла по обочине, держа перед профессором зонт. Сама она уже успела промокнуть.
Профессор не оценил этой жертвы.
— Мы идем в гости к Полине, — сказал он. — Жаль, что вы проспали, но я надеюсь, что мы успеем туда первыми. И все тайны разрешатся сами собой.
— А вы знаете, где она живет?
— Я узнал сегодня утром.
— Как?
— Не важно.
— Значит, вы мне поверили?
— Разумеется, я вам поверил! Ведь кто-то уронил китайскую вазу. Но мне хотелось бы услышать ваше мнение — кому нужна была ее смерть?
Фраза была позаимствована из рассказа Конан Дойля, но, видно, у Александрийского не было в памяти других пособий в сыскном деле.
Лидочка подумала, что теперь глупо скрывать от профессора то, что ей было известно о Полине. Ведь почти наверняка причиной ее смерти стал разговор в умывальной. И Лидочка пересказала исповедь Полины о насильнике Мате.
Александрийский был настолько увлечен рассказом, что остановился, спрятал, наклонившись, голову под зонт и непроизвольно перебивал Лидочку восклицаниями: «Нет, ты только подумай!», «Вот наглец!», «Вы говорите, поезд Троцкого?». А когда Лидочка закончила рассказ появлением нечаянного свидетеля — Альбины, профессор, охваченный детективным азартом, сжал худые кулаки и громко произнес:
— В лучших традициях Агаты Кристи! Вы знакомы с Агатой?
— Нет.
— Это английская писательница. Уже сегодня — мировая величина… Значит, ее укокошил Матвей?
— Может, она живая?
— Мало шансов. Потому что у нас уже двое подозреваемых.
— Алмазов тоже?
— Он узнал обо всем от своей любовницы.
— Альбина дала слово!
— И вы поверили этой шавке? — Александрийский решительно двинулся вперед.
Лидочка удивилась — за время их недолгого знакомства профессор не позволял себе грубых слов.
— За что вы так ее не любите? — Лидочка почувствовала себя защитницей Альбины. Но ее тайну она раскрыть не могла. — Ведь Альбину могли толкнуть на это обстоятельства.
— Не бывает обстоятельств, заставляющих стать бесчестным.
Лидочка сомневалась в правоте Александрийского, но возражать не стала.
— Хотя я не вижу мотива у Алмазова. Такие, как он, даже имея основания, не убивают сами, а вызывают сотрудников. Пожалуй, вы правы — Полина испугала Матю. У Шавло есть дела с Алмазовым?
— Вы тоже так думаете?
— Матвей сейчас на распутье. У него Фаустов комплекс — он ждет выгодного покупателя.
— А участие в насилии скомпрометирует его?
— При чем тут насилие? Кого испугаешь насилием? Напрягите свой хорошенький мозг, мадемуазель!
— Я вас не понимаю.
— Поезд Троцкого! Вы понимаете, какое это преступление? Он служил в охране Троцкого!
Тут профессор Александрийский поскользнулся и чуть было не въехал галошей в глубокую колею. Лидочка еле успела подхватить его, но выронила при этом зонтик. Так что пришлось прервать разговор.
Когда наконец профессор вновь твердо стоял на дороге, а зонт прикрывал его от дождя, Лидочка смогла разобрать, что справа тянутся низкие, вросшие в землю одноэтажные строения с множеством окон. В некоторых горел слабый свет — даже днем в такую погоду там было совсем темно.
— Здесь жили слуги, — сказал профессор. — А теперь живет обслуживающий персонал. Вы чувствуете разницу?
— Конечно, — сказала Лидочка. — Персонал — это звучит гордо!
— Вы умненькая девочка, — сказал Александрийский. — Вы вызываете во мне злость тем, как вы молоды, хороши и недоступны. Злость потому, что моя жизнь уже промчалась, а ваша еще только начинается. Вы комсомолка?
— Нет, — сказала Лидочка. — Я стара для этого.
— И не были комсомолкой?
— Нет, я недавно приехала и не успела поступить.
— Откуда, простите?
— Издалека, — сказала Лидочка. — Нам здесь поворачивать?
— Да, — сказал Александрийский рассеянно.
Тропинка привела к двери в торце длинного одноэтажного флигеля. Александрийский долго вытирал ноги о сделанный из пружин коврик у двери, Лидочка сложила зонтик. Александрийский толкнул дверь и вошел. Перед ним протянулся длинный низкий узкий коридор, над которым висели, еле освещая его, две лампы. По обе стороны тянулись одинаковые темно-зеленые обшарпанные двери.
— Это людская, — сказал Александрийский. — Закройте за собой дверь, чтобы не дуло. Нам нужна шестая комната.
Ближайшая к ним дверь отворилась, и в ней показалась девочка лет десяти в коротком тусклом платье, с толстой косой, лежавшей на плече. Девочка уныло теребила косу, глядя на Лидочку.
— Здравствуй, — сказал Александрийский. — Где тетя Катя живет?
— Тама. — Девочка неопределенно ткнула пальцем вдоль коридора.
Как будто по мановению этого пальчика дальше по коридору открылась дверь, оттуда высунулась женская голова в папильотках и позвала:
— Паша, иди сюда, я жду.
Александрийский весь подобрался, стал даже выше ростом, и палка, на которую он только что опирался, превратилась в легкую изящную трость. Он уверенно и легко пошел к женщине, Лидочка за ним.
Подойдя ближе, Лидочка узнала в этой полной, простоволосой бабе в халате, поверх которого была натянута фуфайка, респектабельную администраторшу, которая регистрировала их по приезде.
— С кем это ты? — спросила администраторша, глядя на Лидочку. Потом вспомнила и сказала: — А, помню, Иваницкая, от Института лугов и пастбищ. Заходить будете?
— Нет, — сказал Александрийский.
— А зачем ты ее привел?
— Ее это тоже касается.
— Тебе лучше знать, — сказала равнодушно администраторша.
— Больше никто ключей не спрашивал?
— А спросят?
— Могут спросить. Тогда ты нас не видела.
— А я вас и так не видела, — сообщила администраторша. — В твоем возрасте опасны молодые девочки.
— Я бы рад, — сардонически улыбнулся Александрийский. — Но не могу. И не ревнуй, мы еще с тобой повоюем.
— С тобой повоюешь, — сказала женщина и, не закрывая двери, исчезла в своей комнате. Девочка стояла сзади Лидочки, она сунула конец косы в рот и обсасывала его.
— Вы давно знакомы? — спросила Лида.
— Лет десять назад Катя была красавицей. Она и сегодня хороша собой, но десять лет назад…
— Десять лет назад и ты, Паша, был еще орлом, — сказала женщина, вынося им ключ и протягивая Александрийскому. — Не то что теперь — руины, извини за грубое слово. Как, есть надежда, что выздоровеешь, или помирать придется?
— Ты жестокая женщина, Катя, — сказал Александрийский жалким голосом. Этого Лидочка не ожидала, даже обернулась к нему, словно хотела убедиться, что он мог так сказать.
— Значит, не выздоровеешь, — сказала Катя. — Но проскрипишь еще пару лет. А жаль. Да ты ко мне все равно бы не вернулся…
— Не знаю, — сказал Александрийский.
— Направо поворачивай, будто запираешь, понял?
— Ладно, — сказал Александрийский.
— А то заходи, чаю попьем.
— Спасибо. Какой номер?
— Через одну на моей стороне. А она не вернется?
— Думаю, что не вернется.
— А то неловко получится.
— Я бы не стал тебя подводить.
— С тебя станется. Ты же, Паша, всегда только о себе думал.
— О науке.
— Это так у тебя называлось — думать о науке. А наука для тебя что? Это ты сам и есть наука.
— Наука сегодня куда больше и сильнее меня — я только ее раб.
— А, что с тобой спорить! Иди смотри.
— Так ты точно не знаешь, кто она такая на самом деле?
— Я ж тебе Христом Богом клянусь — Полина она и есть Полина. Ее Денис еще с дореволюции знал.
— Здесь?
— А где же?
— А Денис сейчас где?
— В Москве. Ты пойдешь или так и будешь стоять?
Александрийский пошел к двери в комнату Полины, Лидочка за ним. Катя осталась у своей двери. Лидочка услышала за спиной ее голос:
— А молодые тебе опасны, Паша. Помрешь ты с ней.
Александрийский, не оборачиваясь, отмахнулся. Сзади хлопнула дверь.
Профессор согнулся, вставляя в замочную скважину ключ.
— Как будто закрываете, — напомнила Лидочка.
— Помню, — сказал профессор.
Дверь отворилась. Профессор повернулся к Лидочке, хотел пригласить ее войти, но тут увидел девочку с косой.
— А ты что здесь делаешь?
— Гляжу, — сказала девочка.
— А глядеть тебе нельзя, — сказал Александрийский.
— Почему?
— Потому что я тебе глаза выколю, — сказал профессор. — А не будешь смотреть, конфету дам, так что выбирай, что тебе интересней.
— Мне смотреть интересней, — сказала девочка.
— Иного ответа я от тебя не ожидал. Держи рубль.
Профессор достал из кармана брюк рубль. Девочка взяла его и продолжала стоять.
— А теперь — брысь отсюда.
Девочка раздумывала.
Открылась дверь в комнату Кати, и та крикнула:
— А ну, иди сюда, уши оторву!
Девочка демонстративно вздохнула и побрела прочь.
— И это могла быть моя дочь, — сказал Александрийский. — Надо будет спросить, чья она… — Он тоже вздохнул и добавил: — Я первым туда войду.
В комнате было сыро, холодно и совсем темно — маленькое окно, расположенное низко к земле, пропускало слишком мало света. Александрийский стал шарить рукой по стене возле косяка двери в поисках выключателя. Но Лидочка сообразила, что в комнате нет электричества, — на столе стояла трехлинейка. Рядом с ней она разглядела коробку спичек.
— Погодите, — сказала она Александрийскому. — Я зажгу.
Она зажгла лампу, подкрутила фитиль. В комнате стало чуть светлее, ожили, зашевелились тени.
— Какое-то средневековье, — сказал Александрийский. — Почему не провели электричество?
— Потому, — ответила Лида, осматриваясь.
Комната была обставлена скудно. Продавленный диван был застлан серым солдатским одеялом, покосившийся платяной шкаф с открытой дверцей был печально и скучно пуст, лишь черная юбка висела на распялке. У дверей стояли высокие шнурованные башмаки.
— Лидочка, будьте любезны, загляните под диван, — сказал Александрийский. — У нее должен быть какой-нибудь чемодан или саквояж.
Под диваном было мало места для чемодана — всего сантиметров десять-пятнадцать, но Лидочка не стала спорить. Прижав щеку к полу, она заглянула под диван — там было темно, что-то зашуршало, когда Лидочка сунула руку. Лидочка отдернула руку и вскочила.
— А там мыши, не бойся, — сказала Катя, которая вошла в комнату.
— Я не боюсь, — сказала Лидочка, переводя испуганное дыхание. — Там нет чемодана.
— У нее баул был, — сказала Катя. Она уже причесалась, от этого лицо ее изменилось — стало миловиднее. Девочка, получившая рубль, снова появилась в дверях, но войти не посмела. Из-за нее выглядывал парень лет пяти. Он сопел.
— Баул был, черного цвета, старый, — повторила Катя. — Она как с ним приехала, так он у нее в шкафу и стоял. — Катя показала на открытый шкаф.
— А одежды у нее много было?
— А у кого, кроме твоих любовниц, много одежи бывает? — спросила Катя, глядя на Лидочку.
Александрийский отмахнулся от Кати и пошел вокруг комнаты, жмурясь, потому что света было мало.
— Она давно здесь поселилась? — спросил Александрийский.
Лидочка поежилась — как же Полина жила в таком мокром холоде? Впрочем, другие живут, и с детьми.
— А ей повезло, — сказала Катя. — Когда она к нам приехала, в этой комнате как раз Марфута померла, судомойка у нас была, из старых, Марфутой звали, она и померла. Вон, видишь, от нее икона осталась. И наш директор отдал комнату Полине. Конечно, на комнату другие были желающие, но он отдал. — Катя шмыгнула носом. — У нас третий день не топят — печь общая, железная, на весь флигель, а с дровами опоздание, дорогу развезло, никак не проедут. А мы мерзни. Надо тебе в Академии поговорить, Паша.
— Чего же ты раньше не сказала? — спросил Александрийский. — Ведь здесь дети.
— А я как тебя увидела, всю ночь проревела, как дура, думала, лучше бы помер — одна тень от человека осталась.
— Ладно, ты мне рассказывай про Полину.
— У нас на кухне и в столовой работать некому — трех человек выслали, а Марфута померла.
— Как так «выслали»? — спросила Лидочка.
— А к нам милиционер приходил, — сказала девочка хрипло.
— Как выслали? У нас уж третий раз проверяют — чуть кто напишет, так и проверяют: если имение Трубецких, то здесь агенты буржуазии спрятаны. А ты посмотри, как я живу, это что, я — агент, да?
Катя взмахнула полными руками, платок, которым она была покрыта — концы завязаны крест-накрест на животе, — откинулся — руки были полные, красивые. И тут же, как птица крылья, — под живот. Холодно.
— Проклятие князей Трубецких, — сказал профессор.
— У нас всегда не хватает кому обслуживать — нам и присылают черт знает кого, за комнату люди соглашаются, весь коридор засрали.
— А к нам милиция приезжала, — сказал мальчик. Катя стукнула его по затылку. Мальчик заныл. Катя сказала:
— Ты его не жалей, он мой, не обижу.
— И когда Полина появилась здесь? — спросил Александрийский.
— Скоро месяц как приехала. Голодная, мы сначала тоже думали, что беженка с Украины, с голода, а потом ее Трофим узнал. Тогда она молоденькой была, девчонка совсем. А он узнал. Я-то тут не жила, ты знаешь, я московская.
— Я знаю, — сказал Александрийский.
Лидочка увидела, что из-под лампы торчит уголок бумаги. Она вытащила сложенный вчетверо листок. На нем крупно и неровно написано несколько строк. Там, где Полина вспоминала и лизала грифель, буквы были яркими, а к концу слова карандаш становился тусклым, еле видным.
«Передайте директору, что я срочно уехала,
— энергичным, почти мужским почерком, крупными буквами было написано там, —
не успела попрощаться. По семейным обстоятельствам. Жалованье пускай возьмет себе. Я потом напишу, где буду,
Полина Покровская».
Лидочка прочла записку вслух.
— Так и напишет, — сказала Катя, — написала им одна такая. Видно, почуяла, что пахнет жареным. Надо еще посмотреть, может, что из вещей пропало. И так разворовали — вы даже не представляете, какие люди пошли! Скоро одни стены останутся. Вы знаете, что еще три года назад тарелок было на всех по три, а то и по четыре на отдыхающего, а теперь уже еле-еле по одной. Чайники, кастрюли — все воруют, а она на кухне была.
— Катя, хватит, — сказал Александрийский. — Ты же чужую роль сейчас играешь.
— Какую роль? — откровенно удивилась администраторша.
— Простолюдинки с классовым чутьем, — сказал Александрийский и не сдержал вольтеровской улыбки — все лицо собралось в лучи морщин, а глаза блестят.
— Как знаю, так и говорю, — обиделась Катя. — Ты ведь тоже не такой простой. А в партию вступил.
— Ладно, не будем об этом. — Профессор поморщился. Теперь улыбалась Катя — словно они были дуэлянтами, обменявшимися уколами.
Лидочка подошла к окошку. В тусклом свете дня она увидела на подоконнике смазанное темное пятно. Она провела по нему пальцем. Пятно было еще влажным. Грязь.
— Павел Андреевич, — позвала она.
Тот не услышал.
В коридоре послышались шаги и голоса.
Лидочка быстро провела рукой по раме — окно было одностворчатое, открывалось наружу. Обе щеколды были открыты. Лидочка опустила нижнюю, потом, продолжая движение, стерла грязь с узкого подоконника. Почему она так сделала? Она узнала голос. Голос в дверях принадлежал Алмазову.
— Кого я вижу! — воскликнул он. Он скрипел кожей куртки, сапогами, карманами. Нечто невероятно скрипучее! — Что вас привело сюда, друзья мои?
Он изображал из себя персонажа какого-то спектакля, заставшего жену с любовником.
Вторжение Алмазова не прошло безболезненно — разумеется, он не смотрел под ноги и потому отшвырнул, сам того не желая, мальчика. Тот тут же ударился в громкий рев, девочка с косой заверещала: «Вы чего маленьких бьете!» Катя стала поднимать сына, утирать ему нос и спрашивала при том:
— Ты ушибся? Да потерпи ты! Что, не видишь, у дяди револьвер!
— Помолчите! — приказал Алмазов потревоженному муравейнику. Он поморщился, пережидая вопли. И повторил, теперь уже без актерства: — Я вас спрашиваю, гражданин Александрийский, вы что здесь делаете?
Только тут Лидочка увидела ранее скрытого крупной широкой фигурой Алмазова президента Филиппова, который выглядывал из-за плеч чекиста.
— Ничего, — сказал Александрийский.
— Как так ничего?
— Мы гуляли, — кивком Александрийский показал на Лидочку, — потом мне захотелось навестить мою старую приятельницу Катю…
Александрийский показал на Катю — она все еще сидела на корточках и утешала ревущего сына, а девочка тоже сидела на корточках, но по другую сторону мальчика, как будто училась утешать детей.
— Да катитесь вы отсюда! — закричал вдруг Алмазов. — У меня от вас голова раскалывается.
Катя молча подхватила под мышку мальчика и, обогнув Алмазова, исчезла. За ней убежала девочка. И сразу стало тихо.
— А теперь, — сказал Алмазов, — я вас попрошу.
— Катя сказала нам, — продолжал Александрийский, — что ее соседка не вернулась со вчерашнего дня. И дверь была открыта. Она сама не смела заглянуть сюда и как раз собиралась пойти к директору… — С этими словами профессор протянул Алмазову письмо Полины. — Все обычно имеет самые простые объяснения.
— А мы их проверяем, — сказал Алмазов, со скрипом склоняясь к горящей лампе, чтобы прочесть при ее свете записку. Он читал, шевеля губами, и только сейчас Лида подумала: а ведь он плохо учился. Плохо учился, но мечтал убежать в индейцы или стать бомбистом, как сам господин Савинков.
— Куда она уехала? — спросил Алмазов.
— Это ваша работа, — сказал Александрийский.
— Хорошо, — сказал Алмазов, пряча записку в карман френча. И очевидно, разговор остался бы без последствий, если бы не неосторожные слова профессора.
— Кстати, — спросил он уже от дверей, — а вы почему здесь оказались?
— Что? — Алмазов красиво приподнял бровь. Лидочка подумала, что он отрепетировал этот маленький жест у зеркала. Стоит по утрам перед зеркалом — то поднимет бровь, то опустит…
В одно слово Алмазов смог вложить такую угрозу, что Александрийский опустил глаза, а остальные замерли, будто ждали, что сейчас карающая десница пролетарского гнева обрушится на профессора.
Но почему-то Алмазов предпочел не выказывать гнева, а сказал после тягучей паузы:
— Мы получили сигнал.
Он не стал уточнять, какой сигнал и откуда. Функцией ГПУ было всезнание, и потому сигналы поступали в ГПУ как выражение этого всезнания, ибо, если бы сигнала и не поступило, Алмазов все равно должен был все знать.
— Посторонних прошу удалиться, — сказал Алмазов.
— Помогите мне, — произнес Александрийский, и Лида поняла, что встреча с Алмазовым далась ему нелегко, — профессор утомлялся скорее, когда волновался.
Лидочка вывела профессора в коридор. Там стояла Катя.
— Ты слышала? — спросил профессор.
— Слышала, что вы ко мне по старой памяти зашли, я вам и сказала, что Полина с вечера не вернулась.
— Ну, прощай, моя хорошая, — сказал Александрийский. — Главное, не бойся никого.
— Я человек маленький, — сказала Катя. Она вдруг потянулась к профессору, обняла его и поцеловала в губы.
— Задушишь, — сказал профессор. Оторвался от нее, и вовремя, потому что из комнаты Полины высунулся президент и крикнул:
— Кто здесь сигнализировал?!
Катя ушла к Алмазову, а ее дети остались в коридоре у двери, им было страшно за мать — они, как звереныши, чувствовали, какая опасность исходила от Алмазова.
Снаружи по-прежнему моросило, но ветер вроде бы перестал, Лидочка раскрыла зонт.
— Мы будем дальше гулять или вернемся домой?
— Я устал, — сказал профессор.
Обратно они шли медленно, несколько раз останавливались передохнуть, возле церкви профессор долго копался непослушными пальцами, расстегивал пальто, достал жестяную коробку с пилюлями.
Лидочка помогла ему застегнуть пальто, что было нелегко, если держишь в руке зонт.
Теперь они были далеко от всех.
— Мне получше, — сказал профессор. — Не так болит проклятое.
— Не ругайте собственное сердце, — сказала Лидочка.
— Ты права, мне не в чем его упрекнуть. Оно меня грело, потому что пылало.
— Как у Данко?
— Я не люблю этого писателя, — сказал профессор. — Что же ты думаешь теперь?
— А вы что думаете? — спросила Лидочка. Ей захотелось чуть подольше не расставаться с тайной, известной лишь ей одной, — тайной открытого окна.
— Я не стал бы делать окончательных выводов, — сказал Александрийский. — Я даже не стал бы настаивать на том, что Полина умерла. Но очевидно, поздно вечером или ночью она собрала свой баул и пошла в Санузию, пошла к вам! Эх, если бы кто-то мне ответил на два вопроса!
— Какие?
— Первый: зачем ей ночью к вам идти? Может быть, вы что-то скрываете от меня?
Лидочка скрывала от профессора историю с кастрюлей. Потому что не считала себя вправе распоряжаться чужой тайной, которую ее попросили сохранить.
И еще — открытое окно.
Тут Лидочка вспомнила об окне и рассказала профессору о грязном следе на подоконнике.
— Это запутывает и без того сложную картину, — сказал Александрийский.
— А мне кажется, упрощает, — сказала Лидочка. — Ведь, вернее всего, Полина не хотела уходить коридором, где люди, дети… и вылезла через окно.
— Глупо, — проворчал Александрийский. — Глупо, доктор Ватсон, любой Шерлок Холмс выгнал бы тебя с работы.
У ворот им встретились братья Вавиловы, они были в широких пальто и одинаковых темно-серых шляпах. И зонты у них были одинаковые. Лидочка подумала, что или они вдвоем были за границей, или один из них привез брату шляпу и зонтик.
— Ты думаешь? — сварливо спросил Александрийский. — Или глазеешь на Вавиловых?
— Я не знаю, — сказала Лидочка.
— Человек пролез в окно с улицы!
— Почему?
— Потому что у него подошвы были грязные. Ведь в комнате нет луж!
— А кто это был?
— Кто угодно. Убийца, грабитель или даже сама Полина — если было поздно, а она хотела взять вещи. После разговора с тобой.
Они вошли в дом. Лидочка помогла профессору раздеться.
— Конечно, — сказал он, входя в пустую бильярдную и усаживаясь на узкую скамеечку подальше от входа, — конечно же, я принимаю последнюю версию. Разговор с тобой, а потом встреча с любовницей этого гэпэушника привели Полину к убеждению, что надо бежать. Было очень поздно, она испугалась разбудить кого-нибудь во флигеле, влезла в окно, взяла свой баул, но тут спохватилась, что забыла что-то вам сказать. Или что-то взять у вас. Что это могло быть? Ну, подумайте!
— Не знаю. — Лидочке показалось, что ее голос звучит неубедительно. Сейчас он догадается, что Лидочка врет.
— Вы можете и не знать, — согласился профессор. В бильярдную заглянул аспирант Окрошко с таким же юным другом.
— Простите, — сказал он, покраснев при виде Лидочки. — Мы думали, что вы не играете.
— Входите и играйте, молодые люди, — заявил профессор. А Лидочке негромко сообщил: — Я пойду к себе и немного полежу. Можете меня не провожать. Вы устали.
— Я вовсе не устала, — сказала Лидочка. Она проводила профессора до его коридорчика.
— Главное, — сказал профессор решительно, останавливаясь перед своей дверью и принимая задумчивый вид, — главное — отыскать, где она спрятала баул. Вот вам задание, Лидия.
— Какой баул? — не сразу сообразила Лидочка.
— Баул Полины. Если она была убита, то ее баул должен остаться здесь.
— Но если она убита, лучше, наверное, найти ее труп, — сказала Лидочка.
— Заблуждение, — сказал профессор. — Ее труп уже лежит на дне пруда или закопан в лесу. А вот баул… баул преступник не стал топить.
Профессор был убежден в том, что он — Шерлок Холмс. Лидочка не стала с ним спорить, хотя была убеждена, что если ты собрался закапывать или топить труп, то добавить к этому грузу и баул — вовсе не трудно.
— Все-таки как вы думаете, — не выдержала Лидочка, — что случилось с Полиной?
— Это загадка, которую мы разрешим по ходу расследования, — сказал Александрийский.
Он открыл дверь к себе в номер и поднял руку, прощаясь.
— Попрошу вас навестить меня перед обедом. Надеюсь, к этому времени у вас будут для меня новости, — сказал он. — Мы разделим с вами функции. Вы будете моими ногами и глазами, я — вашим мозгом.
Лидочка не посмела оспорить это решение, хотя предпочла бы не знать ничего о Полине, убийствах и всей этой Санузии.
Желание заглянуть наконец в кастрюлю и разгадать таким образом тайну возможной смерти Полины Покровской измучило Лидочку, пока она возвращалась с профессором в санаторий. Она с трудом вытерпела последние наставления Александрийского и побежала наверх, надеясь, что Марты, и уж тем более Марты с очередным поклонником, в комнате не окажется.
Лидочке повезло. Ее мечта сбылась — никто не встретился на дороге, никто не остановил и не окликнул ее, комната была пуста, а кровать Марты аккуратно застелена.
Прежде чем закрыть за собой дверь, Лидочка поглядела в обе стороны коридора — коридор был пуст.
Лидочка затворила дверь, быстро опустилась на колени возле своей кровати, заглянула под нее… там ничего не было. Лидочка даже легла на прикроватный коврик, чтобы поглубже засунуть под кровать руку, и дотянулась пальцами до плинтуса: пусто. Лидочка уселась перед кроватью и стала думать.
Кастрюлю мог обнаружить любой, кто догадался бы залезть под кровать. Но ведь надо было догадаться! Значит, кто-то обыскивал комнату? Или Полина сама успела открыться кому-то перед смертью? Нет, открыться она не могла, да и Лидочка ни с кем о тайнике не разговаривала.
Что теперь делать?
Коврик был жестким, пол — холодным. Надо было бежать… бежать из этого санатория!.. Жаль, что Пастернак уже уехал, придется одной брести по размокшей дороге… Нет, по дороге опасно, по той дороге и пустится погоня. Лучше уходить через деревню Узкое… Только нельзя терять времени. Сначала она спустится к Александрийскому и скажет ему про обыск. А чем Александрийский поможет? Он и сам боится Алмазова…
Что же было в кастрюле? Что-то достаточно серьезное для Полины и ее врагов…
Тут Лидочка поймала себя на мысли, что она теряет драгоценное время, сидя на коврике и не производя никаких полезных действий.
Впрочем, бежать некуда. Алмазов знает, что ты от него никуда не денешься. Он догонит тебя, если захочет, в лесу, на Калужском шоссе и даже в Институте лугов и пастбищ.
Но я же ни в чем не виновата! Я только приняла на сохранение кастрюлю неизвестно с чем. Неизвестно? А если там была мина для уничтожения товарища Алмазова? Вы же знали, что должна делать в таких случаях советская гражданка. Советская гражданка должна немедленно информировать представителя общественности в лице президента Филиппова… А вы этого не сделали. Вы предпочли пойти на укрывательство врага.
Лидочка продолжала сидеть на полу, обхватив руками коленки, словно была погружена в гипнотический транс. Словно ее на расстоянии загипнотизировал Алмазов…
Лидочка с трудом поднялась. Пришлось уцепиться за спинку кровати. Надо спуститься к Александрийскому. Если уж ты выбрала себе союзника, держись за него, каким бы беспомощным он ни оказался. Сила женщины в том, что она умеет выбрать мужчину, а потом за него держится. Хочет он того или нет.
Этот афоризм так понравился Лидочке, что она вышла в коридор, улыбаясь. Хотя коленки все еще дрожали.
Сделав несколько шагов, Лидочка остановилась, чтобы перевести дух. «Мадам, — сказала она себе, — вы меня удивляете. У вас никуда не годятся нервы. Если бы вас хотели арестовать, давно бы арестовали. Если вы на свободе, значит, они пока не хотят арестовывать. Можно не спешить».
Такое простое объяснение отсутствия Алмазова вдруг утешило Лидочку, она даже остановилась и наконец-то глубоко вздохнула. Хотя объяснение и не обещало хорошего конца, оно давало передышку, по крайней мере обещание передышки.
Может быть, не следует идти сейчас к Александрийскому, ведь за ней следят?.. Но они все равно знают, что Лидочка ходила к Полине вместе с профессором. Кто поднимет руку на такого старого и немощного, к тому же всемирно известного ученого? Им достаточно Лидочки. Да и не знает профессор ничего о кастрюле. Лидочке захотелось закричать так, чтобы они услыхали: «Александрийский не подозревает о кастрюле!»
Лидочка шла, чуть дотрагиваясь до стены кончиками пальцев, чтобы не упасть, если откажут коленки, — не верила она коленкам.
«За мной следят, — напоминала она себе, — а интересно откуда?» Дойдя до лестницы, Лидочка резко оглянулась, ожидая, что из-за угла высунется голова преследователя.
Пусто. Только из докторского кабинета доносятся голоса.
Тогда Лидочка быстро сбежала вниз по лестнице. Снова обернулась. Никого. Преследователи оказались хитрее, чем она рассчитывала.
Не спуская глаз с верха лестницы, Лидочка сделала несколько шагов в сторону гостиной и со всего маха врезалась в рыжую горбунью с мучным в веснушках лицом. Горбунья была в длинном синем халате и держала в одной руке ведро, в другой — серый мешочек.
— Извините, — сказала Лидочка.
— Ты мне и нужна, — сказала женщина. — Я горничная у тебя, помнишь?
— Нет, извините.
Что нужно еще этой женщине? На вид рыжей горничной было лет тридцать, халат ее сверху был расстегнут, и видна была белая шея и верх груди — тоже в веснушках.
— А я тебе и говорю, — сказала горничная. — Из-за тебя я работы терять не намерена. Мне она говорит, давай, говорит, ты по номерам смотри, у нас уже тарелок не осталось, а про вилки и говорить нельзя, последнюю, говорит, сорока в клюве носила. — Женщина рассмеялась, открыв широкий лягушачий рот, полный зеленоватых зубов.
Лидочка инстинктивно сделала движение, чтобы обойти горничную, потому что в словах и действиях ее была угроза. Лидочке эта женщина была неприятна.
— Простите, — взмолилась Лидочка. — Я вас не понимаю.
— Еще как понимаешь, гражданочка, — сказала горничная, — как если тебе положить некуда, если варить не в чем, то пойди и купи что хочешь, а нет, так и не покупай, а зачем воровать, я доложу директору — ты втрое заплатишь.
— Да пустите вы меня! — Это был какой-то бред — горничная не пропускала Лидочку, покачивалась перед ней — широкое плоское тело перекрывало узкий проход. Лидочка уже решила, что горничная ненормальна, и хотела бежать назад, но та вдруг протянула ей серый мешочек:
— Ты мне три рубля дай, я никому не скажу — мне чужого не надо, мне даже стыдно понимать, как можно чужое брать.
Лидочка послушно взяла мешочек. Мешочек был тяжелым, в нем были какие-то небольшие размером, но увесистые вещицы, словно каменные шахматные фигурки.
— Это что? — спросила Лидочка.
— Не знаешь? — Горничная, будто издеваясь над Лидой, рванула на себя, перехватила мешочек. — Нет, ты три рубля дай, а не то я командиру гэпэушному скажу — он мне спасибо скажет, зачем вы кастрюли воруете.
— Кастрюли?
— Я и говорю — кастрюли. Мне Раиса велела — ты, говорит, по комнатам посмотри, как убираться будешь, отдыхающие наши тоже люди — хорошую кастрюлю не купишь ни за какие деньги, а если у кого найдешь, принеси, я уж сама с ними поговорю. А я у тебя нашла и думаю: ты ведь богатая, а мне каждая копейка на счету…
— Какая кастрюля? — прервала женщину Лидочка.
— Ясно какая, какая под кроватью у тебя стояла. Ты мне трешку дай, я скажу, что кастрюлю на улице нашла, мне чужого не надо, что было в кастрюле — вот оно, бери.
Женщина стояла, протянув руку с мешочком, и вдруг Лидочка ощутила неуверенное и боязливое состояние горничной, которая сейчас рисковала ради трешки.
— У меня нет с собой трех рублей, — сказала Лидочка. — А в комнате есть, если хотите, поднимемся наверх, я вам передам, вы не думайте, я не хотела воровать кастрюлю, мне нужно было куда-то вещи положить…
— Я понимаю, почему не понять, — с готовностью согласилась горничная. — Я подождать могу, мне много три рубля, ты мне рубль дай, и я довольна буду.
— Нет, почему же, я согласна, я понимаю. Но если можно, пойдемте наверх, я вам отдам.
— Мне сейчас не надо, я же верю! — почти кричала горничная. — Ты мешочек возьми, мне чужого не нужно… — Горничная отступала, мешочек тяжело оттягивал руку Лидочке.
Горничная убежала — только тяжело заскрипели половицы.
«Господи, — сказала себе Лидочка. — Наверное, Алмазов выслеживает меня, это провокация… Но отказаться было нельзя — в этом мешочке тайна Полины…»
Лидочка быстро взбежала по лестнице и нырнула к себе в комнату.
Марта все не возвращалась. Стало чуть светлее, можно было не зажигать света. Лидочка уселась к себе на кровать и высыпала содержимое мешочка на покрывало.
Она не думала заранее, что там будет — золотой ли клад, драгоценные камни либо патроны. Но все равно была удивлена, когда увидала на покрывале несколько страшно старых, словно выкопанных из земли предметов, грубых, покрытых либо копотью, либо черной краской. Лишь одна вещь была почище иных — грубая по рисунку, трехслойная агатовая камея. Фон ее был голубоватым, а белая женская голова анфас была сделана по канонам восточной красоты: пышные дугообразные брови, рыбками глаза, широкий овал лица, на голове средневековый, византийского типа венец, внизу надпись непонятными значками, вернее всего, грузинскими или армянскими. Камея размером с куриное яйцо была окружена замазанной черной масляной краской узкой рамкой, такой же краской была покрыта и цепочка. Несмотря на грубость, на неприятный цвет рамки и цепочки, камея являла собой нечто настоящее, не поддельное. «Хорошо бы показать ее Андрею, — подумала Лидочка, — он понимает в таких вещах… Откуда эти вещи у Полины?»
Что они значат? Лидочка подняла черный, покрытый подобием сажи, массивный перстень с печаткой-грифоном. Потом она надела на шею камею, шагнула к зеркалу. В тусклом зеркале камея отражалась плохо — темный овал в черной оправе на серой блузке не лучшая одежда для бала.
Тут в дверь ударили — не постучали, а ударили, словно не хотели дать возможности ответить «нельзя!». Лидочка правой рукой прикрыла медальон, а всем телом — к кровати, хотела спрятать остальные вещи.
Ворвался Матя.
— Вот вы где! — сказал он укоризненно. — Я вас обыскался. Где вы пропадали?
Он был взлохмачен, раздражен, будто обижен на Лидочку. Закрыл за собой дверь и, не глядя на разложенные на кровати вещи, прошел к окну, выглянул в парк, словно там таились преследователи. Лидочка стащила через голову медальон.
— Почему я вам понадобилась?
— Вся эта история мне безумно не нравится, но мне совершенно не с кем посоветоваться.
— Кроме меня?
— Не кривляйтесь, Лида. Мне на самом деле не с кем поговорить, кроме вас.
Он сел на стул, вытянул длинные ноги в измазанных желтой грязью капиталистических горных ботинках.
— У меня такое ощущение, будто меня обложили с собаками.
Лидочка присела на кровать и стала не спеша, чтобы не привлекать внимания Мати, убирать в мешочек вещи — перстень, маленький кубок, звено толстой цепи, печать, черепки…
— Первое и самое главное: где Полина?
Лидочка чуть не ответила ему: «А я была уверена, что вы ее убили!» Что было бы глупо и, наверное, очень опасно, если Матя и на самом деле убил подавальщицу.
— А что случилось?
— А то, что она меня сегодня ночью шантажировала — перепугала смертельно, я готов был убить ее или выполнить все ее требования.
И тут только до Лиды дошла простейшая истина — если Матя не убийца, то он и не подозревает, что Лида знакома с Полиной. И тогда он должен удивиться, если Лида признается в знакомстве. А если он уверен, что Лида знакома с Полиной, тогда придется признать, что милый интеллигентный доктор наук, любимый ученик Ферми — просто-напросто злодей. И она, Лида, как последняя дура, сидит с ним вдвоем в комнате вместо того, чтобы бежать к Алмазову и требовать помощи.
— Извините меня, Матя, — сказала Лидочка, понимая, что опоздала с этим вопросом, — но я не знаю, кто такая Полина.
— Вы?
Лидочка продолжала складывать тяжелые игрушки в мешочек, а ступнями постаралась покрепче встать на пол, чтобы рвануться к двери, если Матя сделает опасное движение.
— Да… — сказал наконец Матя грустно, как будто он был разочарован вопросом Лиды. Но не стал с ней спорить. — Полина, Полина — это подавальщица в нашей столовой, да?
Как будто он требовал подтверждения у Лиды.
Нет, так просто Мате не отделаться!
— Какая подавальщица?
— Высокая, худая такая, ну вы же ее знаете! — Матя не выдержал.
— Конечно, знаю, — согласилась Лидочка. — Высокая, худая, нос такой с горбинкой. Совсем не похожа на подавальщицу.
— Совсем не похожа.
«Неужели это он гнался за мной по коридору ночью и разбил ценную вазу эпохи Тан?»
— Эта подавальщица, — сказал Матя, — обвинила меня в очень опасном… проступке.
«Проступке»? Ничего себе формулировка! Он насилует девочек и через много лет называет это проступком. Если у Лидочки были какие-то сомнения в виновности Мати, они отпали. Человек, не совершавший насилия, всегда относится к нему отрицательно и полагает его преступлением. А тот, кто виноват, — скорее назовет его проступком.
Матя вытащил длинную пачку сигарет.
— Здесь курят? — спросил он.
— Марта курит, — сказала Лидочка.
Она встала и подвинула к Мате пепельницу. Для этого ей пришлось наклониться к нему, и, наклоняясь, она замерла от неожиданно навалившегося ужаса… Выпрямилась, снова села на кровать. Матя ничего не заметил. Он закурил, по комнате распространился приятный заграничный запах.
— Вы знаете, я буду с вами совершенно откровенен, — сказал Матя. — В самом деле, я был мальчишкой, я совершил, я виноват, но прошло столько лет.
— Вы были за красных или за белых? — спросила Лида.
— Конечно же, я был в Красной Армии! — воскликнул Матя.
— Тогда вам нечего бояться. Красная Армия своим все уже простила.
— Это было в пьяном угаре, — сказал Матя. — Несколько девиц и мы, молодые красноармейцы. Можно придумать много ярлыков — дебош, пьянка, распутство.
— Это был единственный дебош, в котором вы участвовали?
— Не шутите, — сказал Матя, глубоко затягиваясь. — Мне не было двадцати лет. Я был совсем другим человеком. Я был мальчишкой.
Ему нравилось называть себя мальчишкой.
— А она-то при чем? — Лидочка думала, куда бы спрятать мешочек.
— Она утверждает, что мы… мы на нее напали.
— А вы на нее напали?
— Не говорите глупостей, Лидия! — Голос доктора наук звучал строго, как на уроке.
— Если вы на нее не нападали, чего вы переживаете?
— Она потребовала, чтобы я на ней женился!
— Чего? — Лидочке вдруг стало смешно. Неужели Матю можно заставить что-нибудь делать против его воли? До того момента Лидочке казалось, что Матя великий мастер устраивать жизнь к собственному удовольствию.
— Ей нужна другая фамилия, московская прописка.
Лидочка поднялась и отнесла мешочек к чемодану, что стоял на стуле возле зеркала. Она открыла чемодан и, не таясь, спрятала мешочек под белье — она была уверена, что Матя ничего не заметит.
Неожиданно Лидочка поняла, что за последние несколько минут их отношения изменились. Независимо от того, был ли Матя убийцей, или, как полагает профессор, он к такому не способен. Вчера Матя притягивал к себе Лидочку — он был иностранцем, знаменитым физиком, который знал нечто таинственное и почти страшное про атомное ядро, словно сошел со страницы фантастического романа с гениальным злодеем на обложке, который запустил прямо на читателя сверкающий луч из своего аппарата. Сейчас перед ней сидел растерянный и слабый мужчина, которому некуда было пойти пожаловаться на тетю, которая его обижает. Лидочка сразу почувствовала себя старше его.
— Неужели она просто так подошла к вам и сказала: «Я знаю, что вы себя плохо вели много лет назад. Теперь женитесь на мне!» Так не бывает.
— Оказывается, бывает.
— Алмазов и без жалобы не даст вас в обиду.
— Алмазов не рискнет пойти со мной на соглашение, если она ему расскажет.
— Почему?
— Потому что я должен быть чистым. Он же будет продавать меня своему начальству. А товар должен быть не порченым. Не думайте, что я циничен, я просто напуган. Все может рухнуть — в лучшем случае я буду преподавать физику в начальной школе Тобольска.
— Они построят для вас специальный институт за колючей проволокой, — сказала Лидия, полагая, что шутит.
Но Матя не воспринял ее слова как шутку. Он вскочил и сжал кулаки. Он готов был ударить Лиду. Лида быстро сказала:
— А что было потом?
— Потом? — Кулаки Мати, очень маленькие по сравнению с длинным торсом, разжались. — Она ушла… я не спал всю ночь. Сегодня утром я пошел к ней — она оставила мне адрес. Она живет во флигеле — вон там. Я пошел туда и увидел, что из флигеля выходят Алмазов с президентом. Что они там делали?
— Не знаю, — сказала Лидочка. — Я ушла от Полины раньше.
— Что? Вы там тоже были?
— Я провожала туда Павла Андреевича.
— А что надо было Александрийскому?
— Там была записка. Записка от Полины, что она уехала. Она взяла все свои вещи и уехала.
— Вы в этом уверены? — Радость Мати показалась Лидочке искренней.
Лидочке хотелось сказать о том, как она нашла Полину ночью, но этого она сказать не могла. Если ночью за ней гонялся Матя Шавло, он и без ее подсказок все знает.
— Куда она уехала? — спросил Матя.
Он подобрал ноги, и Лидочка с женским раздражением увидела, что на ковровой дорожке остались желтые следы грязи. Где он отыскал такую грязь? Мог бы и вытереть ноги.
— Она не пишет куда.
— Может, она поняла, что со мной у нее ничего не выйдет? — сказал Матя. — Правда?
Лидочка подумала, что Мате страшно хочется, чтобы все обошлось, — он даже согласен немножко потерпеть, пускай зубик или пальчик поболит, только чтобы знать, что завтра он проснется, а все уже прошло!
— И отправилась к Алмазову?
Ну кто ее тянул за язык! Зачем испортила настроение Мате? Но Матя уже справился с собой.
— Если она отправилась к Алмазову, — сказал он, — тогда мне пора подавать заявление о переводе в районную школу. А жаль… За страну обидно…
— Вы смешной человек, — сказала Лидочка, — начали с себя, а кончаете страной. Обычно люди делают наоборот — сначала говорят о пользе стране, а потом оказывается, им нужно новое пальто.
— У вас мужской ум, Лида.
— Это плохо?
— Для женщины — ужасно.
— А чем плохо для Страны Советов, если она лишится вашей бомбы? Ведь я еще вчера поняла, что вы хотите подарить ей бомбу в обмен на всякие блага для вас.
— Иначе бы они меня не поняли, — сказал Матя. — Каждый меряет окружающих по себе. Если бы я начал объяснять свои желания соображениями высокой политики, они бы решили, что я жулик.
— Следовательно, вам надо было сделать вид, что вы жулик, чтобы они поняли, что вы радеете за Советский Союз.
— Грубо, но правильно.
— А может быть, страна обойдется без ваших благодеяний?
— Вы — злая девочка.
Матя закинул ногу на ногу, и комочек желтой грязи упал на ковровую дорожку.
— Ладно, я не сержусь, — сказала Лидочка. — Я понимаю, что вам нелегко. Такой груз на плечах.
— Вы стараетесь издеваться и подкалывать меня по очень простой причине, — сказал Матя, — потому что вы не имеете представления о субъекте разговора.
— О бомбе?
— О новом принципе энергии. И в этом нет ничего обидного, хотя бы потому, что большая часть физиков тоже не имеет об этом представления, а те, кто имеет, посмеиваются, думая, что читают фантастический роман. А читают они не фантастический роман, а грустное будущее всего человечества. Вам интересно?
— Да.
— Я не буду занимать вашу прекрасную головку расчетами и выкладками. Я скажу только, что сегодня уже известен радиоактивный элемент под названием «уран», куда более энергический испускатель энергии, чем сам радий. О радии-то вы, надеюсь, читали?
— А об уране не слышала, я всегда думала, что это — планета.
— И планета тоже. Писатели придумали сверхбомбу уже много лет назад, и некоторые даже связывали ее мощь именно с распадением атомов, от чего высвобождается колоссальная энергия!
— А физики в это не верили?
— Физики, конечно же, не верили. Потому что у них не было желания проверять всяческие бредни.
— А вы говорили, что не бредни.
— Физики тоже бывают разные. Резерфорд до сих пор от ядерной реакции отмахивается, как черт от ладана. Мы в Римской школе обогнали Лондон на целую эпоху. Ферми убежден, что реальное создание бомбы вопрос десяти… ну, пятнадцати лет. А я убежден, что бомба будет готова через пять лет. Конечно, если вложить в это дело много миллионов и привлечь крупные умы.
— Разве недостаточно существующих бомб?
— Вы надеетесь, что люди увидят, сколько у них всякого гадкого оружия, и скажут: давайте в будущем сражаться только дубинками? Сейчас любое крупное государство готово тратить половину доходов на разработку нового оружия. И победит тот, у кого это оружие будет более мощным.
— Матя, миленький, с кем вы собираетесь воевать?
— Глупейший вопрос. Воевать всегда найдется с кем. Я не сомневаюсь, что завтра в Германии к власти придет Гитлер. Вот и реальный враг.
— А вы могли бы сделать такую бомбу?
— Лидочка, вы мыслите категориями вчерашнего дня. Никто сегодня в одиночестве не сможет сделать радиоактивную бомбу. Этим должны заниматься тысячи людей, тысячи — одновременно в разных институтах и на многих заводах. Только тогда эта проблема будет решена. Сегодня мир стоит на пороге отчаянной гонки. Ставка в ней — жизнь всей нации. Я могу дать голову на отсечение, что первым в гонку кинется Адольф Гитлер. Как только он захватит власть в Германии, он обратит все силы на создание бомбы.
— Почему?
— Он убежден, германскому народу необходимо жизненное пространство за счет славян. Путь к победе будет лежать только через атомную бомбу, понимаете? И если я ее не сделаю, то ее сделает Гейзенберг.
— Кто?
— Немецкий физик.
— Почему же он будет делать бомбу для фашистов?
— Потому что Гитлер обещает Гейзенбергу жизнь. И Гейзенберг сделает ему атомную бомбу!
— Вы вещаете, как пифия.
— Я вижу будущее. Потому что я ученый. Потому что я величайший провидец нашего века. И потому что я очень испуганный человек. Вы знаете, что случится, если бомбу сделает Гитлер, а у нас ее не будет?
— Он на нас нападет?
— Он с наслаждением разбомбит наши города, он убьет вас и меня, он превратит нашу страну в пустыню.
— А Запад?
— Запад будет потирать руки от удовольствия. Потом он спохватится, начнет делать собственную бомбу, но опоздает. Когда Гитлер победит нас, он обратит свои тевтонские легионы против прогнивших романских народов. И им придет конец!
Произнося последнюю фразу, Матя поднял к потолку руку, словно сектантский проповедник. Но он не был страшен, трогателен — да, но не страшен.
Рука Мати устало упала на колено.
— В ваших глазах скепсис, — сказал он, — вы очень далеки от этой проблемы, и вам кажется, что все обойдется. Так думали обыватели в семнадцатом году — обойдется, обойдется, обойдется! Вечная трагедия русского народа…
— Папа всегда говорил, что не бывает тайного оружия или возможности покончить с врагом одним ударом, он говорил, что война двадцатого века — это война экономистов.
— Когда же он это говорил?
— Еще до революции.
Матя поднялся.
— Мне надо идти, — сказал он. — Все повисло на шелковой ниточке. Алмазов — человек авантюрного склада. Он склонен со мной сотрудничать. Но для него мое предложение далеко не самое главное в жизни. Он согласится меня поддержать, только если ему это выгодно, если он сам не рискует головой. Еще вчера он дал слово свести меня с Ягодой — это ключевой человек.
— А почему не с военными? — спросила Лидочка.
— Потому что реально страной правит служба безопасности. Если я поставлю на кого-то из командармов, я могу потерять голову вместе с командармом.
— Вы говорите страшные вещи.
— Когда-нибудь вам надо было открыть глаза, Лидочка. И мне очень хотелось бы надеяться, что эта наша беседа — не последняя.
— Какое им дело до вашей биографии?
— Все просто. Алмазов чувствует, что игра пошла большая, но трусит. Это естественно. Он же физику учил в реальном училище, а это не много. Там слово «атом» не проходили. Ему надо мобилизовать заграничную агентуру, чтобы она подтвердила, что игра стоит свеч, а заграничная агентура — это другой департамент. Начинается большая игра, и в этой игре я должен быть чист. Алмазов не станет рисковать с человеком, о котором могут сказать, что он насильник, убийца.
— Убийца?
— А я не знаю, что случилось с Полиной! Я не знаю — нет ли среди нас соперника Алмазова, который хочет сорвать переговоры! Может, даже фашистского шпиона!
— Это кто же?
— Если бы я знал, я бы его отдал Алмазову. Потому что шутки шутками, но речь идет о судьбе мира. Ты можешь любить большевиков или их ненавидеть. Но ты не можешь быть равнодушной к народу — к детям, старикам, женщинам. Я пошел на сделку с дьяволом ради спасения невинных!
Матя отставил ногу и закинул назад голову. Он видел себя героем. А Лидочка казалась ему достойной его внимания особой.
Они стояли совсем близко — Лидочка чувствовала икрами кровать, Матя прижался спиной к платяному шкафу — между ними оставалось от силы сантиметров двадцать.
Матя положил руки на плечи Лидочке — она ожидала этого жеста. Теперь главное было собрать все силы, чтобы в решающий момент рвануться в сторону.
— Я клянусь тебе, — сказал Матя… он перевел дух, сглотнул слюну, — я клянусь тебе, что у меня чистые намерения и чистые руки… Судьба мира… — Он горько усмехнулся, глаза Мати были совсем близко от Лидочкиных глаз. «Он меня сейчас поцелует… это еще не так страшно, это даже приятно, но главное — ускользнуть потом…» — Судьба мира зависит от того… — Теплые узкие ладони Мати начали спускаться с плеч по спине и притом притягивать Лидочку к Мате. Положение становилось угрожающим. «Как хорошо, если ты не убийца», — подумала Лидочка. — Судьба мира зависит от того, удовлетворит ли комиссара Алмазова мой моральный облик. Ты представляешь? — Лидочка успела отклонить лицо, и поцелуй пришелся в щеку. — Именно сейчас, — шептал Матя, — именно в этот трагический момент…
— Ну уж — моральный облик, — сказала Лидочка. — Вы же боитесь, что Алмазов узнает, что вы были в поезде Троцкого.
И она осеклась. Потому что не могла этого знать и не могла узнать этого ни от кого, кроме Полины!
Объятия Мати, такие нежные, на мгновение ослабли — Лидочка рванулась в сторону двери.
— Я никому не скажу! — пискнула она, потому что Матя, бормоча невнятно, будто гудя, рванулся к ней, и в этом движении была настоящая опасность — ему не понадобилось и секунды, чтобы перейти от ласк к угрозе. Лидочка дотянулась до двери и потянула ее на себя, но ручка застряла, не поддавалась — только в самые страшные моменты сна ручка в двери, обычная ручка, заедает — словно сообщник Мати держит ее с той стороны.
А Матя дотянулся до Лиды, схватил сзади за шею и стал тянуть на себя, чтобы она не открыла дверь, а Лида держалась за дверь, точно за соломинку, чтобы ее не поглотило море, — оказалось, что у нее цепкие руки: Матя был вдвое ее выше и вдесятеро сильнее, но еще несколько секунд Лидочка держалась за ручку двери, но воздух кончился — в глазах пошли круги… она отпустила дверь…
Марта, которая нажимала на ручку с той стороны двери и потому не могла войти сама, но и не давала выйти Лидочке, широко распахнула дверь, и фигуры Мати и Лидочки показались ей сомкнутыми в пароксизме любви. И она крикнула:
— Простите, простите, я не хотела! Продолжайте, товарищи!
И она захлопнула дверь снова.
Но, к счастью, Матя не сошел с ума, он отбросил Лидочку — она упала на кровать Марты, — кинулся к двери, раскрыл ее — и побежал прочь по коридору.
— Прости! — повторяла Марта, вбегая в комнату. — Я тебе все испортила.
Лидочка часто дышала, пыталась массировать себе горло, сил не было, она даже не могла подняться с чужой постели. Марта склонилась над ней.
— Тебе воды дать? Он такой грубый, да? Мне с самого начала он показался очень грубым.
Лидочка начала кашлять, и Марта, схватив стакан, помчалась за водой. Она торопилась так, что половину воды по дороге разлила.
— А он тебе нравится как мужчина? — спросила она от двери, вернувшись с водой. — Мне он сначала понравился, но я от него отказалась, как только увидела, что ты заинтересована.
К счастью, Марта не умела долго думать о чужих проблемах — у нее хватало своих.
— Если бы ты могла себе представить, кто мне сегодня нравится, ты бы лопнула от зависти, — сказала она.
Лидочка подошла к зеркалу, причесалась. Надо было идти к Александрийскому, он уже, наверное, ждет. Интересно, что он думает о радиационной бомбе?
— …А я его спросила, как же она? — говорила между тем Марта, и Лидочка поняла, что упустила начало фразы. — А он сказал, чтобы я не беспокоилась. Но я еще тысячу раз подумаю, прежде чем скажу ему «да». Я же тоже человек, я понимаю, что для нее это может быть трагедия, — она согласилась на все ради артистической карьеры. И тут он встречает меня. Я понимаю, что это решение далось ему нелегко — при его положении, нет, я еще тысячу раз подумаю. Потому что если Крафт узнает — а ты же знаешь этих доброжелателей, — то он меня убьет. И будет прав. Но так трудно приказать сердцу… ты что скажешь?
— Как будто мое мнение что-нибудь изменит.
— Изменит, я клянусь тебе, что буду следовать ему!
Марта оттеснила Лидочку от зеркала и, достав из шкатулки щипчики, принялась выщипывать брови.
— Ты имела в виду Алмазова?
— А разве я тебе не сказала?
— Мне все равно, с кем ты спишь, — только делай это так, чтобы мне не мешать.
Лидочка направилась к двери.
— Ты мне ничего не сказала! — крикнула вслед Марта. — Я же нахожусь в душевной травме.
Лидочка сбежала по лестнице, миновала гостиную, в бильярдной сидела Альбиночка, совершенно одна. На диване, на котором умер философ Соловьев, она сидела, поджав под себя доги и прижимая к груди довольно большую дамскую сумку.
Остановившимися глазами Альбина смотрела в окно на струи дождя.
— Альбина, — сказала от двери Лидочка, — я же просила вас ничего не говорить!
— Что? Кому? — Глаза у Альбины были слишком велики, и от этого она казалась каким-то ночным животным. Лидочка видела картинку, изображающую лемура лори. Только у лемура была короткая шерсть, а голова Альбины увенчана копной пышных кудрей.
— Про Полину!
— Какая Полина? Не кричите, пожалуйста.
— Вчера вы слышали наш разговор с Полиной. В туалетной.
— Я не хотела! Честное слово, я не хотела, а он стал меня допрашивать. Вы не представляете, как он любит допрашивать, он меня все время допрашивает.
— Он спросил?
— Он стал меня допрашивать, почему я так долго была в туалетной, с кем я встречалась, с кем говорила. Лидочка, дорогая, не сердитесь — у меня, кроме вас, никого нет, даже слово сказать, а вы меня презираете? Я ничего про кастрюлю не сказала, только про Шавло, только про Шавло!
— Может быть, Полину из-за ваших слов убили, — сказала Лидочка, которая, как обнаружилось в тот день, еще не научилась быть снисходительной и терпимой.
— Ой! — Альбина подняла руки с зажатой в них сумкой так неловко, что сумка перевернулась, и из нее выпал черный блестящий револьвер. Словно удар грома, он стукнулся о пол и поехал по паркету под бильярд.
Альбина в ужасе замерла, как зайчонок перед питоном.
Первым движением Лидочки было поднять револьвер и вернуть Альбине. Но для этого ей надо было обогнуть бильярдный стол или проползти под ним. Лидочка понимала, что Альбина сейчас ничего сделать не в состоянии. Она за пределами страха.
Но Лида не успела исполнить свое намерение. Она спиной почувствовала опасность.
Ухватившись пальцами за край бильярдного стола, она обернулась. В двери стоял Алмазов. Он был холоден и деловит.
— Я тебя ищу, — сказал он Альбине, не замечая Лидочку.
— Я сейчас. — Альбина открыла глаза.
— Тебе помочь? Ты плохо себя чувствуешь? — спросил Алмазов тоном человека, спешащего, но знающего, что некий набор слов по правилам игры следует произнести.
— Нет, все хорошо. — Альбина, будто проснувшись, поднесла тонкие руки к вискам, вонзила длинные с ярко-красными ногтями пальцы в волосы и сильно потянула их назад так, что глаза стали китайскими, а лицо усохло. Потом она выдернула пальцы, запутавшиеся в волосах, — чуть не вырвав с корнем пряди, проснулась и лихорадочно, как в бреду, сказала Лиде: — Я так на вас надеюсь!
— Что? — спросил сразу Алмазов. — Что это означает?
— Я все сделаю, — сказала Лида, будто не слышала Алмазова.
Стуча каблучками, Альбина пробежала через бильярдную и послушно замерла собачонкой у ног Алмазова.
— Пошли? — сказала она.
Алмазов крепко взял Альбину под руку и вывел из бильярдной. Лидочка выглянула за ними вслед. Они не оборачивались — широкий, кривоногий, крепкий Алмазов и тростиночка Альбина, еле достающая ему до плеча. Они быстро и деловито шли вверх по лестнице. Ванюша Окрошко с другом сбегали с лестницы им навстречу и остановились у медведя с подносом.
— Одну партию, — сказал Ванюша.
Лиду охватила паника.
— Подождите! — крикнула она молодым людям, шагнула назад в бильярдную и захлопнула за собой дверь. Тут же полезла под бильярд. Револьвер, тяжелый, черный, блестящий, спокойно дожидался Лиду. Она схватила его, вылезла, держа за рукоять, — а куда теперь его спрятать?
Дверь осторожно приоткрылась. Заглянул Ванюша.
— Что-нибудь случилось? Надо помочь?
Лидочка стояла, заложив руки с револьвером за спину.
— Я же попросила подождать, — сказала она. — У меня разорвался чулок.
Ванюшин взгляд метнулся вниз — к чулкам.
— Ваня! — прикрикнула на него Лидочка. — Закройте дверь!
Дверь закрылась. Оставить револьвер здесь? Спрятать под диван? Чтобы через десять минут пришла какая-нибудь рыжая горничная? Нет, надо его вынести! Лидочка решительно расстегнула пуговки блузки и сунула револьвер себе под мышку. Прижала локтем — и решительно пошла к двери.
Ванюша и его друг ждали. По их взглядам Лидочка поняла, что забыла застегнуть блузку.
— Идите играйте, — приказала Лидочка молодым людям. Те послушно направились к дверям бильярдной, не смея оглянуться, хотя по спинам было видно, как им хочется это сделать.
А Лидочка побежала к Александрийскому, боясь больше всего, что револьвер такой тяжелый и скользкий, сейчас он выстрелит, сбежится народ, и ее арестуют за стрельбу из револьвера в уполномоченного ОГПУ, что без сомнения и совершенно справедливо будет приравнено к террору.
Однако револьвер вел себя этично, он так и не выстрелил до самой комнаты Александрийского.
Александрийский же, истерзанный нетерпением, встретил Лиду не в своей комнате, а в коридоре, где сидел, накрыв острые колени пледом, в кресле, поставленном на месте погибшей китайской вазы. Клетчатая кепка нависла над его тонким горбатым носом, и оттого профессор был похож на постаревшего Шерлока Холмса, о чем он и сам подозревал, иначе зачем ему было сосать черный карандаш, словно курительную трубку.
— Ватсон! — воскликнул он скрипучим голосом, увидев семенящую по коридору Лидочку. — Что с вами? Кто вас терзал?
Лидочка потянулась застегнуть блузку, но револьвер угрожающе соскользнул вниз, и Лидочке пришлось бесстыже сунуть правую руку за пазуху и вытащить пистолет. Рука ее дрожала не так от страха, как от неловкости ситуации, а профессор закрылся ладонью от направленного на него ствола и воскликнул:
— Господи, еще этого не хватало!
— Простите, — вымолвила наконец Лидочка. — Я не хотела.
— Если не хотела, то не цельтесь в меня! Обычно в меня целятся те, кто хочет попасть.
Лида сделала шаг вперед, уронила револьвер на колени Александрийскому, с облегчением отошла назад и стала застегивать пуговки на блузке.
Александрийский взялся было за револьвер, хотел поднять, но вместо этого совершил странное и сложное движение ногами, задрал край пледа, сунул револьвер туда и придал острому морщинистому лицу игриво-идиотский вид старого сатира.
— Как вам гулялось, мадемуазель? — спросил он.
Лидочка глядела на эту процедуру обалдевшим взором, но тут ее ласково тронули за талию, и мужской голос произнес:
— Простите.
Оказывается, сзади приблизился престарелый астроном Глазенап. Он покачал сиреневым венчиком кудрей, окружавшим смуглую лысину, и сказал:
— Павел, я могу дать голову на отсечение, что знаю твою тайну.
— Тайну?
— Я знаю, что ты спрятал под плед, когда меня увидел.
— Что? — Вопрос дался Александрийскому с трудом.
— Я не могу сказать этого при девушке, — рассмеялся Глазенап, обернулся и с удивлением уперся выцветшими глазами, утонувшими в черепашьей коже глазками, в ее почти обнаженную грудь. — Нет, не могу, — повторил он и засеменил дальше к лестнице. Остановился, не дойдя трех шагов до лестницы, и зашелся в хохоте.
— Опасно! — закричал он. — Опасно так стоять перед Павлом Александрийским, милая девушка! У него там под пледом… там, там — вы не поверите — револьвер!
Лидочка даже ахнула. Пронзительный голос Глазенапа разносился по всему дому.
— Что ты несешь! — крикнул Александрийский.
— Я в переносном смысле, — захохотал Глазенап и, согнувшись от хохота, стал подниматься по лестнице. — Я в переносном смысле, чтобы не испугать девушку. Ах ты, старый греховодник!
— Так меня пугать нельзя, — сказал Александрийский. — Я умру раньше, чем собирался… — Он прикрыл глаза и медленно дышал, Лидочка поглядела в окно. День, хоть и приблизился к половине, был таким же серым и полутемным. Лидочка представила себе, какой толщины тучи нависли над Москвой, — может, уже никогда не будет солнца?
— Я должен признаться, — сказал Александрийский тихо, — что я ждал вас с докладом о происходящих событиях. Но не в таком виде.
Он хрипло засмеялся.
— У меня важные новости, — сказала Лидочка.
— Подозреваю. И очень заинтригован. Давайте заглянем ко мне в комнату, с меня хватит одного Глазенапа.
Профессор медленно поднялся, Лидочка помогла ему.
— Такая погода на меня плохо действует, — сказал он, словно прося прощения за немощь. — Раньше я не подозревал, что погода может на меня влиять. Погода была сама по себе, а я сам по себе.
В комнате Александрийский попросил Лидочку закрыть дверь на щеколду, потом прошел с револьвером в руках к горящей настольной лампе и, надев очки, начал разглядывать оружие.
— Это револьвер Алмазова, — сказала Лидочка. — Я думаю, что это его револьвер.
— Я и без вас знаю. Глядите.
Лидочка подошла к профессору и заглянула через плечо. Сбоку к револьверу была приделана серебряная табличка с гравированной надписью: «Отважному борцу за чистоту Революции Я. Алмазову — Ф. Дзержинский, 12.12.1922 г.».
— Зачем вы отняли у чекиста именное оружие? — спросил Александрийский.
— Это Альбина, — сказала Лидочка.
— Тогда садись и рассказывай.
Пока Лидочка рассказывала, Александрийский чертил на большом листе бумаги каракули, словно генеалогическое древо.
Он почти не перебивал, и Лидочке снова показалось, что старику приятно участвовать в столь драматических событиях, потому что участие в них наполняет его жизнь и даже продлевает ее.
— Итак, — сказал он, все выслушав и продолжая рисовать, — у нас с вами есть револьвер системы «наган», который, по моему разумению, не имеет никакого отношения к событиям. Не имеет?
— А если Полину убил Алмазов?
— Думаю все же, что он ее не убивал. Если ее вообще кто-нибудь убивал. Зачем, скажите, Алмазову было бросаться с обыском к ней домой?
Тут же Лидочка вспомнила о содержимом кастрюли. Может, пришло время рассказать о ней профессору? Но профессор перебил ход ее мыслей.
— В любом случае револьвер надо будет вернуть владельцу, — сказал Александрийский.
— Кому?
— Алмазову.
— Но мне его дала Альбина.
— Лидочка, что вы говорите! Вы представляете, какими несчастьями не только для Альбины, но и для всех, кто окружает Алмазова, обернется пропажа нагана? А если Альбина намерена пустить его в дело? Нет, нет, мы обязаны возвратить наган владельцу, иначе небо свалится на землю — перепуганный чекист подобен стаду диких буйволов. Интересно, что делают с чекистами, которые теряют револьверы Дзержинского? Наверное, их распинают на Лубянке.
— Но как возвратить? Я же не могу подойти к нему и сказать: вы тут одну штучку потеряли.
— Оригинально. Я представляю картинку! Нет, вы должны спрятать наган и сообщить Альбине, где он лежит. Но перед этим обязательно взять с Альбины слово, что она не пристрелит чекиста. История учит — вы ей передайте это, пожалуйста, — что еще никто ничего не добился, стреляя в негодяев. Они неистребимы, как головы горгоны, — их можно убить только вместе с системой, которая их породила. Но боюсь, что это дело для наших внуков…
Александрийский перестал рисовать и взял наган в руки. Склонив набок голову, он любовался табличкой с выгравированной надписью.
— Ни в коем случае не передавайте наган Альбине из рук в руки… Добро бы обыкновенная пушка, а то — реликвия великой эпохи! Если в ближайшие годы вашего Алмазова не пустят в расход, этот наган станет экспонатом Музея революции.
Александрийский подошел к платяному шкафу и положил наган на него.
— Мы с Конан Дойлем считаем, что улики должны лежать на виду — тогда их никто не видит, — сказал он.
— А мы не возьмем его с собой?
— Сначала надо отыскать безопасное место.
— Я хотела вам сказать, что ко мне приходил Матя… Матвей Ипполитович.
— А этому что было нужно? — Александрийский сразу подобрался, словно кот, увидевший птичку.
— Он искал Полину.
— Как так искал?
— Он сказал, что не видел ее с ночи.
— А зачем она ему понадобилась? — Александрийский агрессивно наступал на Лиду, словно она была в чем-то виновата.
— Она его шантажировала, она требовала, чтобы он на ней женился, дал свою фамилию, помог устроиться…
— Бред и неправда. Она бы не посмела. Он ее убил, а теперь ищет оправданий.
— А если он ее не убивал? Он сказал, что ходил к ней во флигель, но увидел там Алмазова.
— А чем она его запугивала?
— Что расскажет тот случай… когда он участвовал в насилии. В насилии над ней и другими девочками.
— Этим нашего Матю не испугать, — отмахнулся Александрийский. — Такой грех молодости только красит его в глазах Алмазова.
— Я ему то же самое сказала.
— Надо было промолчать. С убийцами следует вести себя осторожнее.
— Вы правы. Он оказался очень нервным.
— Что еще?
— Я сказала, что знаю о поезде Троцкого!
— Вот! Именно! — Александрийский обрадовался так, словно уже разоблачил убийцу. — В самое больное место! Я же говорил, что ему плевать на насилия и убийства, но Троцкий! Троцкий, предатель партии и марксизма, наш главный соперник и враг, — тут уж не до супербомбы — от такого Мати мы побежим как от зачумленного! Ясно, он боялся именно этого. И Полину ухлопал из-за этого. И вас задушит из-за этого… Что молчите? Он вас душил? Ну, признавайтесь, он забыл о вашей несказанной красоте и начал откручивать вам головку или сразу в сердце ножик? А? Почему молчите?
— Марта вошла в комнату, и он не успел меня задушить.
— Вот именно! — Профессор зашелся в вольтеровском смехе.
— Павел Андреевич, — Лидочке было вовсе не смешно, — вы забываете, что он мог меня в самом деле убить!
— Вы живы! Остальное — лирика, сентиментальная литература. Главное — Шавло фактически признался в убийстве Полины. Как только Алмазов узнает, что Шавло так замаран, он побежит от него как черт от ладана!
— Но ведь речь идет о сверхбомбе, о спасении нашего Союза от фашизма!
— Сверхбомба — дело завтрашнее, дело непонятное и рискованное. А Шавло — сегодняшняя угроза. Ты увидишь, как Алмазов от него отвернется. Вот и замечательно. Это и требовалось доказать.
Раздался отдаленный удар гонга.
— Обед, — со значением сказал профессор. — Теперь можем со спокойным сердцем и за супчик!
Следующий удар раздался куда ближе — президент Филиппов шел по коридору и бил восточной колотушкой в старинный и тоже восточный гонг.
— Пойдем, пойдем, — сказал Александрийский. — Пока мы живы, есть надежда. Где моя трость? По дороге мы с тобой должны отыскать укрытие для нагана.
— Мы его не будем брать с собой?
— Ни в коем случае! Любая случайность может быть губительна. Мы не знаем — а вдруг в коридорах уже обыскивают прохожих.
Лидочка поежилась — раньше, когда она таскала револьвер под мышкой или лазила за ним под бильярд, в том был элемент игры, а в игре всегда можно сказать: я с вами больше не играю — и пойти домой. А слова Александрийского как бы подводили итог — никто больше с тобой играть не намерен.
Профессор почувствовал, какое впечатление оказали его слова на молодую спутницу, дотронулся до рукава блузки и сказал:
— Считайте, что я пошутил. Но не забывайте об осторожности. Разрешите, я вас возьму под руку? Учтите, что у нас с вами платонический роман — в иной вид романа никто не поверит.
— А жаль, — искренне сказала Лидочка.
— Это лучший комплимент, который я получал за последние месяцы, — сказал профессор. — Вперед!
В столовой Альбины не было. Алмазов, мрачный, как туча, сидел в одиночестве, и никто не смел к нему приблизиться.
— Внимательно следи за всеми подозреваемыми. Два глаза хорошо, четыре лучше, — успел сказать Александрийский, прежде чем они разошлись к своим местам. — После обеда встречаемся у медведя!..
— Иваницкая! — сказал Филиппов убитым голосом. — Я буду вынужден!
Прежде чем сесть на свое место, Лидочка подошла к президенту и, наклонившись к его уху, прошептала:
— Вы мне надоели!
— Как? — сказал президент вслух. Но Лидочка уже шла к себе.
— Что ты сказала этому козлу? — спросила Марта.
— Что он козел…
— Лидуша, ты молодец, я тебя все больше уважаю. Но смотри — он тебе обязательно отомстит. Он жутко мстительный.
Матя сидел за столом.
Лидочка не сразу его увидела — он сидел не на своем месте, почему-то он оказался рядом с Максимом Исаевичем, он оживленно с ним беседовал. Лидочка сразу перестала слышать, о чем щебечет Марта, она уловила тот момент, когда Матя поймал взгляд Алмазова и в ответ на его кивок склонил голову. Лидочка посмотрела на Александрийского, тот подмигнул ей — он тоже видел немой разговор Алмазова и Мати.
— Сегодня на второе рыбные котлеты. Обожаю рыбные котлеты, — сообщила Марта. — Мы до революции жили в Таганроге, тогда еще не было карточек, ты не представляешь, сколько там было разной рыбы. И куда это все подевалось?
Алмазов поднялся и, не доев котлету, пошел к выходу. Президент сорвался со своего места и поспешил следом, но был от двери возвращен на место. На Лидочку он не глядел. Матя продолжал сидеть. Принесли котлеты. Котлеты были вялыми, они разваливались под нажимом вилки.
— Ты совсем не ешь, — сказала Марта, мгновенно смолотившая свою порцию.
— Возьми, — сказала Лидочка. — Я котлеты не трогала.
Матя поднялся и пошел к двери.
Лидочка поглядела на Александрийского. Тот отрицательно покачал головой. Он был прав — если Лидочка сейчас выбежит в пустую гостиную, она неизбежно привлечет к себе внимание Алмазова и Мати.
Чем бы заняться? Лидочка подвинула к себе компот. Он был совсем не сладкий и чуть теплый. Первые из обедавших стали подниматься и потянулись к выходу.
— Они здесь воруют просто ужасно, — сказала Марта. — Еще два года назад здесь был такой компот, что ложка стояла, ты представляешь?
Поднялся Александрийский. Глазенап увидел его, стал быстро говорить и сам смеялся. Александрийский вежливо и тонко улыбался. Потом пошел к двери. Ему снова пришлось задержаться — его окликнул незнакомый Лидочке человек, сидевший за столом академиков. Видно, недавно появился.
Александрийский разговаривал с ним. Лидочка поднялась и вышла в гостиную. Ни Мати, ни Алмазова там не было.
Возле вешалки она увидела растоптанный комочек желтой глины. В такой глине были измазаны башмаки Мати. Лидочка подняла кусочек. Он был почти сухой.
— Что обнаружил доктор Ватсон? — спросил, подходя, Александрийский.
— Я хотела бы узнать, — сказала Лида, — где наш подозреваемый наступил в эту глину?
— Здесь нет никакой тайны. С таким же успехом эта глина могла попасть сюда с моих галош, — сказал Александрийский. — Куча этой глины лежит по дороге к тригонометрическому знаку. Когда мы ходили туда вчера вечером, я наступил в эту грязь. И наверное, не я один.
— Да, не один, — согласилась Лидочка. — Матя тоже. Но сегодня.
— К сожалению, мы не можем строить наши умозаключения на случайных уликах, — сказал профессор. — Вы нашли наших недругов?
— Нет.
— Я тоже не нашел. И что будем делать дальше?
— Может, пойдем погуляем? Дождик вроде перестал.
— Великолепная идея, — сказал Александрийский. — И полезно, и приятно.
— А вы мне расскажете об атомной бомбе — мне кажется, что вы с Матей совсем по-разному ее понимаете.
— Вы совершенно правы.
Глава 6
Вечер и ночь 24 октября 1932 года
Они медленно шли по полого поднимавшейся дорожке, которая вела мимо теплиц, заброшенных недавно на волне коллективизации огородов, к тригонометрическому знаку.
Александрийский отдал зонт Лидочке — дождь перестал, но, когда налетал резкий порыв ветра, он собирал капли, скопившиеся на ветках, и кидал в лицо, как заряд настоящего ливня.
Александрийский тяжело опирался на трость, ему было нелегко говорить на ходу, поэтому они часто останавливались передохнуть.
Тонкий нос профессора покраснел, он шмыгал, порой доставал из кармана пальто носовой платок и промокал им нос. Лидочка подумала, что в детстве ему строго внушали, что хорошие мальчики не сморкаются на людях. И ей хотелось сказать: «Павел Андреевич, сморкайтесь, после революции это разрешили», но, конечно, она не посмела так сказать.
— К сожалению, ситуация с созданием сверхбомбы — назовем ее бомбой атомной, это название не хуже любого другого, — на самом деле серьезна. Наверное, вы, Лидочка, решили, что Матя набивает себе цену и морочит голову нашей секретной полиции.
— Нет, я думала, что Матя не дурак и вряд ли его продержали бы три года в Италии, если бы он был обманщиком.
— Матя — редкий тип ученого, который двумя ногами стоит на земле. Каждый из нас не без греха, но наши грехи компенсируются нашими чудачествами, нашей одержимостью, скажем, нашими патологическими извращениями. Мы все, талантливые люди — посмею отнести себя к таковым, — ненормальны, потому что сама талантливость ненормальна. А вот Матя нормален. Я его знаю уже много лет — одно время он был моим студентом. Крайне способен, почти талантлив. Из таких выходят неплохие директора институтов и ученые секретари, но никогда — гении… Матя умеет думать. Он овладел логикой. К тому же у него замечательный нюх на перспективное, на все новое, что может принести ему выгоду… Впрочем, я несправедлив. Я недоволен им и потому стараюсь его принизить… Пошли дальше — до крайней лиственницы. И там отдохнем. Вам не холодно?
— Нет.
— У Мати еще одна удивительная способность — он смотрит на все со стороны. Он никогда не становится участником, он всегда — наблюдатель. А в этом есть преимущества — ты сохраняешь способность к трезвой оценке происходящего. Знаете, я думаю, что ни Ферми, ни Гейзенберг, ни Бор — никто из них не догадывается о том, к чему пришел Матвей. Он увидел в их движении к цели закономерности, которые они сами, в азарте труда и открытий, не замечали. И поверьте, сейчас открытия в ядерной физике сыплются как из рога изобилия. Матвей связал две несовместимые для остальных проблемы — мировой политический кризис, войну, до которой мы докатимся через несколько лет, и возможности ядерной физики. Более того, я подозреваю, что своими выводами он ни с кем не стал делиться. Он унес конфетку в уголок, стал ее жевать и рассуждать: а где дадут целый торт?.. Вот и наша лиственница… Как красив Божий мир и как жалко мне его покидать! Нет, не надо сочувствовать или спорить — это неизбежно. Медицина не умеет чинить порванные сердца. Лет через сто хирурги научатся брать из бедра хорошую чистую артерию и вшивать в сердце — но это фантазии, которые меня уже не касаются…
— Я читала у Беляева, как одной женщине пересадили голову.
— Это лучшая повесть Беляева, — сказал Александрийский. — Может, потому, что она первая, — она полна удивления перед величием еще не сбывшейся науки. Но, если вы заметили, фантастика в нашей стране кончилась, ее заменила коллективизация и индустриализация. Нам не нужно мечтать и воображать — за нас это делают в Цэка.
Александрийский проводил глазами белку, которая бежала через прогалину, держа в зубах большой орех.
— К сожалению, Матвей катастрофически прав. Мы провели с ним несколько часов в спорах — он старался привлечь меня к себе в союзники, ему нужны более солидные имена, чем его имя… И знаете что? Он меня убедил. Я совершенно и бесповоротно верю в возможность создания сверхбомбы на основе реакции деления ядер урана. Никаких чисто физических возражений этому я не обнаружил. Боюсь, что не обнаружат и другие ученые. И при организационных способностях, силе убеждения и напористости Матвея работы над бомбой могут начаться в ближайшее время. Если не заговорит Полина.
— А вы думаете, что Алмазов ищет ее именно поэтому?
— Алмазову нужна Полина. Ему нужно самому допросить ее. Нужно понять, что она знает о Мате и чем это грозит не только Мате, но и проекту века и лично товарищу Алмазову. И ему также важно понять, что выгоднее — уничтожить Полину, позволить это сделать перепуганному за свое будущее Мате или оставить ее как угрозу. Ох, какая интрига!
— Ничего интересного! Это же люди. Вы не знаете Полину, а я ее немножко знаю.
— И вам ее жалко?
— Конечно, жалко. Я же почти не верю, что она жива.
— Ей лучше было сидеть дома и не провоцировать события. Каждый из нас — раб собственной судьбы. Судьба Полины — ничтожная песчинка по сравнению с судьбами, на право распоряжаться которыми замахнулись наши друзья Матя и Алмазов.
Они медленно пошли дальше. Впереди холмом, заваленным гнилыми листьями и заросшим жухлой травой, поднимался старый погреб.
— Почему вы все время говорите о том, что Матю надо остановить? Ведь завтра бомбу начнут изобретать французы и англичане, которые нас ненавидят, завтра она попадет к фашистам. Гейзенберг сделает ее для Гитлера.
— Слышу аргументацию Матвея. Это он сказал?
— Он сказал.
— Не бойтесь Гейзенберга. Бойтесь тех, кто ближе. Бойтесь Мати.
— Бомба — надежная защита от фашизма!
— Опять Матвей! Да пойми ты, прекраснодушное дитя, что эта бомба — не просто бомба. Энергия, которая высвобождается при разделении атома урана, так велика, что одной бомбы будет достаточно, чтобы снести с лица земли Париж.
— Или Москву?
— Подумай же, что случится, когда у Алмазова и его друзей — у Сталина, Молотова, Кирова, Тухачевского, — у этих убийц окажется в руках абсолютное оружие! Неужели ты думаешь, что они постесняются его употребить в дело? Неужели ты думаешь, что они не сбросят его на Париж, сберегая собор Парижской Богоматери? Неужели ты не видишь, как отряды чекистов входят в Лондон? Неужели ты не понимаешь, что страшные преступления, которые уже совершила или еще совершит сталинская банда, будут удесятерены? Они же с помощью тщеславного Мати завоюют весь мир, экспроприируют весь швейцарский сыр и шоколад, чтобы самим его сожрать!
— А Матя?
— Матя? Если он доживет до торжества мирового коммунизма с атомной бомбой, то, возможно, будет стоять на трибуне среди победителей. Но вернее всего, на каком-то этапе его отстранят или уничтожат. А впрочем — что я знаю? Я вижу только смерть и всадников апокалипсиса, я вижу бандитов Муссолини и Сталина, которые рвут карту мира… О, если бы у меня были силы убить Матю, чтобы спасти людей, я бы пошел на это, несмотря на то что моей грешной душе так скоро предстоит держать ответ.
— Вы так ненавидите большевиков? — Голос Лиды был тих и несмел.
— Я понимаю, какую страшную ересь ты сейчас услышала, и я благодарен тебе за то, что ты не помчалась к Алмазову с требованием арестовать меня. Ты молчишь? Ты еще не решила? Это несложно — я беззащитен.
— Вы ничего обо мне не знаете, — сказала Лида.
— Это значит, что ты меня пощадишь?
— Вы не любите большевиков?
— Я боюсь их, я боюсь того, что они сделали с моей страной, и еще больше боюсь того, что они сделают со всем миром. И умираю от страха, когда думаю о том, что они сделают, объединив усилия с Матей и теми послушными учеными, которые ради куска хлеба, страха иудейска ради, ради славы, ради карьеры прибегут к ним на помощь, чтобы делать бомбу… и если они останутся живы, то даже забудут покаяться.
Они подошли к погребу. Между ним и дорожкой ярким пятном желтела расплывшаяся куча глины. Видно, ее завезли для хозяйственных надобностей еще летом, а потом почему-то забыли о ней — гигантским оладьем она покрыла черную землю, траву, облегла молодой клен.
— Вот видишь, — сказал Александрийский. — Я же говорил тебе, что уже видел эту глину.
— А Матя не только видел, — сказала Лидочка, — но и ходил по ней.
— Если тебе интересно, — Александрийский думал о бомбе, — я покажу тебе принцип, по которому можно построить атомную бомбу. Один воин еще не войско, и даже три воина не войско, — но с какого числа воинов начинается войско?
— Подождите одну минутку, — сказала Лидочка, — я все же загляну в погреб.
— Только не промочи ног, — сказал Александрийский. Он оперся о трость обеими руками и стал смотреть на лес.
Лидочка осторожно обошла по краю пятно глины, потянула на себя прикрытую, почти развалившуюся дверь в погреб. Та заскрипела и с трудом поддалась. Вниз вело несколько ступенек — свет почти не проникал внутрь, и потому непонятно было, глубок ли погреб.
— Ты меня слышишь? — спросил сверху Александрийский.
— Слышу, — откликнулась Лидочка. Она увидела на ступеньках желтые следы — человек, который совсем недавно спустился в погреб, не заметил, что наступил в глину. Вернее всего, потому, что было темно. Следы были большие, но нечеткие, и нельзя было сказать, кому они принадлежат. Зачем же человеку было спускаться в погреб?
— Когда собирается войско атомов, у них возникает желание кинуться на врага, — донесся голос Александрийского и исчез, заглушенный звоном в ушах. Лидочка еще не видела ничего, но с внутренним предчувствием, точным и неотвратимым, она уже знала, что найдет сейчас на полу погреба, и страшилась сделать еще шаг вниз, но и не могла вернуться к Александрийскому, пока не убедилась в том, что права.
Придерживаясь рукой за отвратительно холодную и влажную стену, Лидочка спустилась вниз. Нога ее попала в воду — ботик сразу промок.
Тело Полины — Лидочке пришлось присесть, чтобы дотронуться до него, — показалось сделанным из скользкой ледяной глины. Лида сначала дотронулась, обожглась скользким холодом, только потом различила в полутьме белое, с открытыми большими глазами лицо…
Видно, она все же на несколько секунд или минуту потеряла сознание, потому что снаружи донесся трубный глас Александрийского:
— Что с тобой, Лидия?
— Я иду, — сказала Лида, — я иду, — повторила она, потому что других слов не помнила.
Она упала на руки Александрийскому. Тот не ожидал этого и не смог ее удержать, и потому Лидочка уселась на землю, к счастью, не на желтую глину.
— Она там, — сказала Лидочка.
Александрийский был безжалостен. Подняв Лидочку на ноги, он потребовал, чтобы она закинула голову и считала до ста и не думала о том, что увидела в погребе.
А Лидочка и не думала об этом. Как ни странно, страх миновал почти сразу после того, как она вылезла на свежий воздух. Конечно, больше всего на свете Лидочке хотелось забраться в постельку, закрыть глаза и быстро-быстро заснуть. Но она понимала, что Александрийский этого не позволит. Александрийский был сердит на себя, потому что не поверил в важность улики, которую можно было назвать «тайна желтого следа», и потому потерял лицо — в погреб пришлось лезть Ватсону, и именно Ватсон совершил открытие, когда Шерлок Холмс рассуждал о делении атомов.
Но сам Александрийский в погреб, конечно же, не полез, зато, пока Лидочка приходила в себя, он разрабатывал схему дальнейших действий. Больше таких ошибок не должно быть!
— Вам лучше? — спросил он.
— Мне хорошо, — попыталась ответить с иронией Лидочка. Иронию Александрийский не уловил.
— Если Полину убил Матвей, — сказал Александрийский, — то остается надежда на то, что, каким бы соблазнительным ни казалось сотрудничество с ним для Алмазова, он не решится пригреть элементарного убийцу. Нам остается главное: поймать Матвея на месте преступления.
— На каком?
— Когда он будет прятать труп. Поезд Троцкого отходит на задний план.
— Но он же спрятал Полину!
— Ничего подобного! Здесь он ее не оставит. Он дождется темноты и унесет тело к пруду… или в лес.
— Откуда вы все знаете?
— Если бы вы задумались, пришли бы к тому же выводу. Убийца — человек в этом деле неопытный. Иначе бы не волок жертву по коридору, не прятался бы, испугавшись чего-то, к вам в комнату, не убегал бы, бросив труп, не гонялся бы за вами по коридорам… Масса всевозможных «не»! Я утверждаю, что ночью, пока мы все были внизу, убийца вернулся к вам в комнату, утащил труп через кухню сюда…
— Почему тогда он не отнес его до пруда?
— Он не посмел надолго уйти из дома. А вдруг вы поднимете шум и начнут проверять комнату за комнатой? А его нет. Он и поспешил домой.
— А письмо? — спросила Лидочка.
— Какое письмо?
— Письмо Полины, в котором она сообщает, что уезжает.
— Может быть, она и в самом деле собиралась уехать, но Матя ее догнал…
Лидочка понимала, что Шерлок Холмс не прав — Полина не стала бы уезжать, оставив кастрюлю у Лидочки.
— Нет! — Лидочка замерла. Она решила задачку! — Я поняла! Это Матя! Он надеялся, что, если Полина уехала, ее не станут искать. И написал записку! Он сам написал, а не Полина. Она была уже мертвая!
— Что натолкнуло вас на такую версию? — вежливо спросил Александрийский. В вопросе не хватало только обращения «коллега».
— Грязный след на подоконнике. Не Полина же залезала к себе в окно! Матя залез, написал записку. С точки зрения преступника это правильный шаг. Я об этом уже где-то читала!
— Но ведь записка подписана Полиной!
— Трудно мне с вами, Шерлоками Холмсами, — заявила Лидочка. — А вам приходилось видеть письма, написанные Полиной? Да просто никому не пришло в голову выяснять: ее это почерк или чужой. Даже Алмазову. Но только Мате надо, чтобы Полина благополучно уехала и все о ней забыли.
— И тут он узнает, что забыли не все. Что вы разговаривали с Полиной перед ее смертью, а Альбина этот разговор подслушала и передала Алмазову.
— Да, вся его выдумка с отъездом Полины оказалась зряшной.
— Теперь осталось только доказать, что убийца — Матя, и все станет на свои места. Тогда мы с вами можем подавать документы в МУР на должность сыщиков, — сказал Александрийский.
Они остановились перед дверью в дом.
— Нет, — сказала Лидочка, — нас не примут по классовому признаку.
— У меня трудовое происхождение, — возразил Александрийский. — Мой дедушка был священником, а папа — всего-навсего профессором Дерптского университета.
«Странно, мы даже шутим, как будто забыли, что рядом лежит несчастная мертвая женщина, что среди нас ходит ее убийца, который готов убить снова. Только что я буквально умирала от ужаса, меня мутило, я дрожала, а сейчас я уже улыбаюсь в ответ на вольтеровскую усмешку профессора».
— А что мы будем делать дальше? — спросила Лидочка. — Мы забыли договориться.
— Ждать темноты, — сказал Александрийский. — Раньше он не посмеет перетаскивать тело.
— Вы уверены?
— Он ни за что не оставит Полину в погребе, — сказал Александрийский. — И вы бы тоже не стали так рисковать: погреб буквально в шаге от кухни, туда прибегают играть детишки из деревни, туда могут заглянуть влюбленные — да мало ли что? Нет… Матвей не посмеет его там оставить. Особенно теперь, когда он понимает: труп Полины — приговор ему и его чертовой бомбе.
— А когда станет темно?
— Когда станет темно и тихо, убийца выйдет из дома, вытащит из погреба труп и понесет его вниз, к прудам. Или, если решит, что пруды слишком очевидное место для того, чтобы прятать трупы, потащит его дальше, закопает в лесу… я не знаю, чем все кончится. Но я знаю, чем начнется. Значит, с наступлением темноты мы должны наблюдать за погребом. И увидим убийцу. А сейчас мне надо отдохнуть. Вы совершенно забыли, что я старый больной человек.
— Да, забыла, — сказала Лидочка. — Вы не производите впечатления старого и больного человека, мистер Шерлок Холмс.
— Спасибо, Ватсон, вы умеете польстить старому мастеру…
Они вошли в дом.
Астроном Глазенап с помощью библиотекарши развернул длинный бумажный плакат, на котором красными буквами было написано:
«Свободу узникам кровавой Речи Посполитой!»
По их виду было понятно, что они не представляют, что делать с плакатом далее.
— Что здесь происходит? — спросил Александрийский. — Вы ждете Пилсудского?
— Ах, вы все забываете, Павел Андреевич, — сказала библиотекарша. — Сегодня же политический маскарад под лозунгом «Свободу пролетариату!».
— Я в погребе ноги промочила, — по секрету сообщила Лидочка профессору.
— Вы с ума сошли! В такую погоду! И мне не сказали.
— А чем бы вы мне помогли?
— Отнес бы вас на руках, — сказал профессор. — А ну быстро наверх!
— Когда встречаемся?
— Как только последний луч солнца погаснет на шпиле Кельнского собора, — сказал Александрийский. — И постарайтесь не оставаться одна. Убийца опасен!
Лидочка помогла ему раздеться и повесила пальто на вешалку. Потом сняла свое пальто. Прибежал взволнованный президент Филиппов. Почему-то он был в немецкой каске-пикельхельме времен Первой мировой войны.
— Иваницкая, вам задание! — сказал он, увидев Лидочку. — В вашей комнате материал для маскарадной одежды. Марта Крафт вам все объяснит.
— Что? — не поняла Лидочка.
— Сколько раз надо повторять! Вам следует срочно облачаться. По разнарядке вы будете исполнять роль игуменьи. Костюм примите у Марты Крафт, в вашей палате.
— Еще чего не хватало! — воскликнула Лидочка.
— «Отче наш» знаете? — сказал президент. — Ваша цель — прислуживать мировому империализму. А вам, Пал Андреевич, будет сидячая роль.
— Какая же, позвольте полюбопытствовать?
— Роль Британской империи в виде паука.
— Я польщен, — сказал Александрийский и прикрикнул на Лидочку: — Сколько раз вам говорить — бегите домой, переоденьтесь!
Лидочка взбежала наверх. Подходя к своей двери, замедлила шаг. Вдруг ею овладело странное тревожное предчувствие. Ну, сейчас-то чего бояться, сказала себе Лидочка. Страшное осталось снаружи. А здесь горит свет, из кабинета докторши доносятся женские оживленные голоса — может быть, медсестры тоже готовятся к маскараду? И что-то иррациональное удерживало Лидочку от того, чтобы потянуть за ручку двери. Что-то там, за дверью, поджидало ее и хотело напасть…
Ну хоть бы кто-нибудь прошел по коридору — она бы попросила открыть дверь — в шутку, смеясь…
Из кабинета выглянула Лариса Михайловна. Она весело спросила:
— Вам помочь?
— Нет, спасибо, — благодарно откликнулась Лидочка.
Она повернула ручку и толкнула дверь.
Было темно — шторы и занавески в комнате опущены. Свет проникал внутрь только из коридора. Лидочка стояла в дверях, скованная страхом, не смея сделать шага вперед… и вдруг из темноты на нее надвинулся скелет. Он шел, кривляясь, дергаясь, и Лидочка поняла, что сейчас умрет от страха… Тут сзади раздался пронзительный вопль!
Вопль был настолько страшен, что Лидочка, несмотря на охвативший ее ужас, обернулась и увидела, что в дверном проеме медленно оседает потерявшая сознание Лариса Михайловна, которая так не вовремя заглянула в комнату.
Лидочка сделала было движение на помощь докторше, но вспомнила, что скелет не дремлет… посмотрела на него и скелета не обнаружила — вместо него над ней возвышалось странное и не очень страшное существо, которое состояло из полных ног в черных шелковых чулках и черных же резинках, отделанных кружевом, из розовых панталон, обнаженного живота приятного телесного цвета, черного кружевного лифа, но вместо шеи и головы там наверху дергалась и колыхалась некая черная с белыми пятнами масса. Лидочка только через минуту сообразила, что смотрит на прекрасное тело Марты Крафт, которая старается снять через голову черный балахон с нарисованным на нем скелетом — маскарадный костюм «Голод в Индии», который она только что примеряла, чем и ввергла в ужас Лидочку и Ларису Михайловну.
Докторша скоро пришла в себя — даже нашатыря не понадобилось — и была очень смущена своей женской слабостью, а Марта, которая чувствовала себя неловко, хотя ни в чем на этот раз не была виновата, утешала ее и просила прощения у Лидочки. Лидочка отмахнулась.
— По крайней мере ты сегодня одна, и это уже достижение.
— Знаешь, — согласилась Марта, — как ты права! Все мужчины хотят от меня лишь одного, и никто не думает о том, что я тоже страдающая единица, человек, наконец!.. Как ты думаешь, я правильно сделаю, если сейчас брошу все силы на подготовку диссертации?
— Наука этого не переживет, — буркнула Лидочка.
Марта принялась смеяться, потом снова примерила костюм «Голод в Индии» и стала допрашивать Лидочку, идет ли ей образ скелета. Она так и говорила «образ скелета».
Лидочка разулась, поставила влажные ботики к еще горячей печке, потом достала из чемодана сухие теплые носки и, надев шлепанцы, отправилась к Ларисе Михайловне попросить чего-нибудь от головной боли и начинающейся простуды. Той было неловко за обморок, она достала большую коробку лекарств, и они с Лидочкой потеряли несколько минут, выбирая лекарства получше.
— Вы у нас в первый раз? — спросила Лариса. — Сегодня день самый интересный — у нас для каждой смены маскарад устраивают. Но раньше из кладовой княжеские сундуки доставали — там карнавальные костюмы еще с ихних времен остались. Тогда мы все одевались коломбинами, царевнами и рыцарями. А сейчас товарищ Филиппов очень боится товарища из Гэпэу и потому выбрал все политическое. Дурак он, правда?
— Дурак, — с готовностью согласилась Лидочка.
— А мне он велел быть угнетенным пролетариатом Запада и надевать старый мешок. Только он меня в этом мешке и видел! Интересно, откуда он этот скелет раздобыл! Неужели тоже в сундуках? Сколько лет я здесь, а не видела.
Голова все равно болела — начиналась простуда. Именно простуды Лидочке и не хватало. За окном стемнело — снова пошел дождь. Было лишь начало пятого, а уже сумерки, как глубокой зимой. По коридору мимо кабинета прошли молодые люди, одетые в красноармейскую форму.
Санузия жила счастливо и легкомысленно. И если у людей, что приехали сюда на заслуженный либо добытый по блату отдых, были важные и грустные проблемы в Москве, то, приехав сюда, они согласны были забросить их за шкаф и две недели прожить бездумно, потому что лес, отделявший Санузию от Москвы, был надежной границей — академики жили в заповеднике. Они вернутся, и их будут вычищать, увольнять, допрашивать, разоблачать, изгонять или награждать. Но это будет потом, потом, потом… Нелепо и несправедливо, что из всех людей, собравшихся здесь танцевать, кушать борщ и дышать воздухом, лишь ей, Лиде, почему-то приходится таить в себе тяжкое и смертельное знание о мертвой женщине, которая лежит в холодном погребе, и знать, что среди зверят в заповеднике таится волк-убийца, а ставкой в игре, идущей за кулисами дома, стала сверхбомба, способная стереть с лица земли Париж… Снизу поднимался праздничный, пока еще сдержанный, предновогодний, предмайский, праздничный шумок, заставляющий людей двигаться чуть быстрее, говорить чуть громче и смеяться чуть живее, чем обычно.
Лидочка вернулась к комнате, открыла дверь. Уже вот-вот стемнеет, и надо будет идти снова в холодный промокший парк и следить за убийцей. Как бы ни был плох этот человек, но можно представить себе ужас убийцы, которому предстоит выйти под дождь, забраться в погреб и, рискуя попасться случайному прохожему на глаза, волочить по грязи труп женщины…
— Господи, — сказала вслух Лидочка, понимая при том, что убийцу представляет в виде Мати и жалеет Матю, который так любит красивую жизнь, свою работу, славу и ее — Лидочку…
Лидочка протянула руку к выключателю, но не успела зажечь свет.
— Нет! Не смей! — раздался мужской голос. Дверцы платяного шкафа распахнулись, и темная фигура, выскочив оттуда, бросилась на Лиду. А Лида, смертельно уставшая от этого дня, поняла, что она уже не в силах бороться за свою жизнь — она даже согласна, чтобы ее убили, только чтобы не мучиться и не ждать…
Мужчина подхватил падающую Лидочку и прижал к себе. Но он не стал убивать ее.
Лида пискнула, представляя себе, как сейчас вонзится в нее кинжал или холодные, уже знакомые пальцы сожмут ее беззащитное горло. Мужчина прижал ее к стене и зашептал знакомым шепотом.
— Один поцелуй! — молил шепот. — Только один поцелуй, и я смогу жить спокойно.
— Да погодите вы!
— Нет, я не могу больше годить! Ты должна мне сказать «да»!
— Нет, не должна. — Лида продолжала бороться с конечностями агрессора, но делала это довольно вяло, потому что уже поняла, что это не ее убийца и вообще у него иные интересы.
— Марта, — мужчина страстно дыхнул на Лидочку луком и принялся целовать ее шею, — ты должна… ты же обещала…
— Это не я, — попыталась возразить Лидочка, но ее не слышали.
Ищущие губы поклонника наконец-то достигли рта Лидочки, поклонник был невменяем от страсти.
В этот момент дверь распахнулась, загорелся свет, и краем глаза Лидочка увидела в дверях остолбеневшую от удивления Марту Крафт.
Хватка поклонника ослабла, и Лидочка, освобождаясь, поняла, что ее пытался лобзать юный аспирант Ванюша Окрошко. Тот тоже понял свою ошибку и малиново покраснел.
— Откуда он взялся? — спросила Лида. — Проходу от твоих поклонников нету!
— Как ты посмела! — Марта неожиданно обрушила гнев на Лидочку. — Он же еще совсем ребенок. Как ты смела завлечь его?
— Это я завлекла?
— Разумеется, не я. Меня не было в комнате.
— Так это он меня лобзал? — спросила Лида. — Или я его?
— Нет! — закричал молодой человек. — Это я не вас целовал, я целовал Марту Ильиничну.
— Вот видишь, — сказала Лидочка мрачно, — можешь продолжать.
— Ой, — сказала Марта, — а я думала, что ты его у меня хочешь отнять!
— Он твой, — сказала Лида, — только скажи ему, чтобы в будущем он не прятался по шкафам — у меня там платье висит и блузки. Он мне все луком провоняет.
— Это неправда! — закричал Ванюша. — Марта Ильинична, скажите, что это неправда.
— Нет, — сказала Марта, — ты этого не могла подстроить. Ты не успела бы подстроить!..
Марта была совершенно серьезна — она решала задачу с двумя неизвестными. Весь мир был чреват изменой, никому нельзя было доверять.
— Где мой маскарадный костюм? — спросила Лидочка.
— Нет, вы скажите ей, — настаивал молодой человек, — вы скажите, что я не ел лука! Здесь лука отродясь не давали.
— Я не знаю никакого маскарадного костюма, — сказала Марта. — Совершенно не представляю, что ты имеешь в виду.
— Я ничего не имею в виду, — сказала Лидочка. — Мне все это надоело. Филиппов сказал мне, что одеяние монахини у нас в комнате.
— Вы забыли, Марта Ильинична, — возрадовался вдруг молодой поклонник. — Я вам лично помогал нести этот костюм. Вам так понравился материал. Помните, вы сказали, что хотели бы быть такой монахиней.
— А идите вы к чертовой бабушке! — закричала вдруг Марта, схватила со своей кровати черную одежду и кинула Лиде. — Все меня в чем-то подозревают, все у меня что-то вымогают. А ну иди отсюда, луку, видите ли, он наелся и лезет с поцелуями… — И, видя изумление аспиранта, добавила: — К моей лучшей подруге.
За аспирантом закрылась дверь. Лидочка, не обращая внимания на притихшую Марту, натянула длинную, черную, до пола, одежду и, подойдя к зеркалу, сама себе в ней понравилась.
Марта сидела на постели и зашивала саван «Голода», скелет лежал у нее на коленях и шевелил ногами. Зрелище было патологическое. Но Марта не замечала. Она была полна своих тайных и невеселых мыслей.
— Не сердись, — сказала Марта неожиданно. — Ты, наверное, думаешь, что у меня бешенство матки?
— Я ничего не думаю.
— Просто мне так отвратительно жить на свете, — сказала Марта, — что для меня эти дни в Узком — спасение. Без них я бы задохнулась в коммуналке… Если тебе нужен этот мальчик — возьми его себе. Честное слово, мне не жалко.
— Нет, спасибо, — сказала Лидочка. Надо было стянуть через голову монашеское одеяние, но не было сил этого сделать, Она разулась, сделала два шага, упала на кровать и еле смогла спросить Марту: — Ты никуда не уйдешь?
— Нет, я буду скелет по себе подгонять.
И Лидочка с великим облегчением, словно неделю не дотрагивалась до подушки, заснула.
Проснулась Лида, как ей показалось, через две минуты, хотя поняла, что спала куда дольше. За окном было черно, в комнате уютно и мирно. Марта сидела на своей постели, аспирант на стуле, лицом к ней. Он помогал ей, держал одеяние, а Марта его зашивала.
Лидочка поглядела на часы. Было уже около шести. Она проспала больше часа.
— Меня никто не спрашивал?
— Алмазовская Альбина забегала, но я не стала тебя будить.
Как только Марта произнесла это имя, сразу вернулась грозная действительность. Альбине нужен револьвер, чтобы застрелить негодяя Алмазова. А может быть, чтобы вернуть?! «Почему я решила, что Альбина спит и видит, чтобы стрелять в своего благодетеля? Да посмей она, завтра же погибнет и ее муж, и она сама. Может быть, Алмазов дал ей револьвер, чтобы защищаться?»
— А Александрийский не приходил?
— Ему на второй этаж подниматься нельзя, — сказала Марта. — Трудно.
Лидочка поднялась и удивилась, не узнав себя в монашеском одеянии.
— А когда начнется маскарад?
— На ужин велено идти одетыми. Будет массовое действо. Фигуры вчерашнего дня и победивший пролетарий. Товарищ Алмазов обещал быть в одежде победившего пролетария. То есть до пояса обнаженный и в цепях.
— А цепи в подвале?
— И еще какие цепи! — сказал Ванюша.
Длинное платье Лидочки было рассчитано на женщину более высокую и потому волочилось сзади по полу. Когда она спешила нижним коридором к комнате Александрийского, то мельком увидела свое отражение в высоком трюмо — черная летучая стройная фигура, казалось, пришла сюда из прошлого. Ну что ж, маскарад так маскарад — нам хочется плясать и веселиться на костях поверженного империализма.
Лидочка постучала в дверь. Никто не откликнулся. Значит, Александрийский ушел без нее? Это же опасно!
Из-под двери был виден белый уголок. Лида подняла его. Это была записка от Александрийского.
Без обращения и без подписи — Александрийский был осторожен.
«Я буду в парке до 19.00. Потом вы меня смените».
Записка была более чем исчерпывающей. Теперь важнее всего отыскать Альбину — можно представить, в каком она сейчас состоянии. Но идти к Алмазову Лидочка, конечно же, не посмела, она надеялась, что Альбиночка сама ее ищет.
Лидочка вернулась в прихожую — приготовления к празднику продвинулись уже далеко: стены в прихожей и гостиной были увешаны плакатами и лозунгами, некоторые из них были старыми и разорванными — они остались от прежних маскарадов. На рояле лежал большой бутафорский топор, а три доктора наук, возглавляемые Максимом Исаевичем, волокли по коридору из кухни колоду для разрубания мяса — Лидочка догадалась, что на ней мы будем рубить головы тиранам или, наоборот, революционерам. Об этом Лидочка спросила у восточного типа джентльмена с эспаньолкой, которого ранее видела лишь мельком. Джентльмен был облачен в красные штаны, и потому не исключалось, что топор принадлежит ему. Джентльмен признался, что он палач, и сказал, что выполнит любое пожелание прекрасной монахини и отрубит что угодно кому угодно. Лида была тронута его душевной щедростью и подумала, что Алмазов нуждается в таких бодрячках, но палачу говорить об этом не стала.
В столовой Альбины тоже не было — там аспиранты вешали бумажные гирлянды и флажки с шаржами на отрицательных персонажей истории.
Стоило Лидочке подняться до половины лестницы, направляясь к себе, как она столкнулась нос к носу с Матей, который, глубоко задумавшийся, осунувшийся и бледный — даже жалко смотреть на него, — спускался навстречу. Он был одет обычно, но на шее, на веревке, висела борода из соломы. Матя не сразу заметил Лиду, и та в надежде, что разминется с ним без слов, припустила наверх.
— Лида, — вслед ей сказал Матя, — не изображайте из себя пионерку, которая машет красным галстуком и бежит по рельсам, чтобы остановить поезд.
— Простите, — сказала Лидочка. — Я задумалась.
— Вы никуда не годная лгунья.
Они стояли, разделенные пролетом лестницы, не делая попыток сблизиться. По лестнице то и дело проходили и пробегали участники маскарада, одержимые желанием все сдвинуть с мест и перетащить из комнаты в комнату.
— А вам будет легче, если я скажу правду? Я не хотела вас видеть.
— Так-то лучше. Извините меня, Лида.
— Это ничего не изменит.
— Жаль. Вы мне, честное слово, очень нравитесь. И я не хотел причинить вам боль или обиду. Нечаянно получилось.
— У вас все нечаянно получается?
— Принимаю ваш сарказм… Да, я бываю несдержан. Но поверьте, что мною руководят не злые умыслы… — Матя криво усмехнулся, и черные усики спрятались под нос. — Может, со временем вы меня поймете и простите.
— Может быть, — сказала Лидочка. Ей положено было видеть ужасный лик убийцы, а ей было жалко Матю, который хотел всем сделать лучше. — Дорога в ад выстлана…
— Вы начитанный ребенок, — сказал Матя.
— Я не ребенок.
— Но и не монахиня. Это тоже ложь.
— У нас маскарад, — сказала Лидочка.
— У нас уже пятнадцать лет маскарад. Вы видели палача в красных штанах комиссара?
— Да.
— Известный в Москве стоматолог и доносчик. Будьте с ним осторожнее.
— Я уж не знаю, с кем быть осторожнее.
— А меня можете не бояться… — Матя пошел было вниз по лестнице. Лидочка стояла, смотрела ему вслед. Потом он обернулся и произнес слова, которые Лидочка от него ожидала: — Я бы тоже хотел вас не бояться. Все, что было между нами, пускай таким и останется…
— Не только между нами? — спросила Лидочка.
— У вас змеиный язычок, — сказал Матя беззлобно. — Но вы правы.
— Вот вы где, — сказал Алмазов, выходя из-за спины Лидочки и дружески хлопнув ее чуть пониже спины жестом друга, которому все дозволено. — Я хотел, Шавло, перекинуться с вами парой слов. У вас найдется для меня минутка?
— Хоть две, — сказал Матя.
— На это я и не надеюсь. — Алмазов рассмеялся. — А давайте не тратить времени, а то моя роль на маскараде требует, чтобы я занялся туалетом. Как насчет вашей комнаты?
— Отлично, — сказал Матя.
— Тогда поднимайтесь.
Алмазов быстро сбежал с лестницы и полуобнял Матю. Он был на голову ниже Мати, но куда шире в плечах и сильнее. Рядом с ним Матя казался большой рыбой — самым широким местом в его обтекаемой фигуре были бедра. Так они и ушли по коридору к Матиному номеру — Матя жил в том же флигеле, что и Александрийский.
А Лидочка получила возможность добежать до комнаты Алмазова, она знала, что тот живет на втором этаже, где и остальные академики. Марта рассказывала ей, что там в каждой палате есть свой умывальник и даже уборная.
Когда Лидочка вбежала в небольшой вестибюль, куда выходили несколько одинаковых белых дверей, она остановилась в нерешительности — какая дверь Алмазовых? Ей было страшно, что вот-вот вернется Алмазов, увидит ее здесь, как безбилетницу в ложе Большого театра. Ноги ее стремились убежать, но она понимала, что увидеть Альбину — очень важно, особенно для самой Альбины.
Одна из дверей открылась, и вышел астроном Глазенап в одежде римского патриция и маленьких старых очках на крупном, обвисшем от старости носу.
— Простите, — сказала Лидочка с облегчением, астроном будто был ниспослан ей свыше, — вы не скажете, в какой комнате живет Алмазов?
— Алмазов? — Глазенап сделал умственное усилие. — Алмазов? А чем он занимается? Биофизикой?
— Нет, — сказала Лидочка, и что-то в ее голосе заставило Глазенапа вспомнить.
— Ах да, — сказал он. — Только я не рекомендую вам, нет, не рекомендую, вы еще молодая девушка, вы еще можете остаться честной!
— Мне нужна женщина, которая живет с ним.
— Не надо, — повторил Глазенап, — она обречена, в глазах написано, что обречена.
— Мне очень важно, скажите, пожалуйста!
— Нет, не скажу. — Глазенап топнул ножкой. — И вы мне потом скажете спасибо, что я вас оградил от такой опасности!
— Господи! — взмолилась Лидочка. Дверь в соседнюю комнату открылась, и оттуда зайчонком выглянула Альбина, встрепанная, дрожащая.
— Альбина!
— Я предупреждал, — сказал Глазенап, закидывая край тоги на руку и торжественно убывая.
— Заходите, заходите, — лихорадочно зашептала Альбина. — Я думала, что с вами что-то случилось, я думала, что вас не увижу, честное слово, это такой ужас, вы не представляете!
Она отчаянно тянула Лиду, но та вырвала руку.
— Я не пойду к вам, он может вернуться.
— Ах да, конечно, вам же нельзя. — Альбина будто проснулась — она была не в себе. — Вы мне принесли, да?
— Нет, я не посмела носить его с собой, — сказала Лидочка.
Они стояли в дверях, сблизив головы, и громко шептались. Как будто их объединяли какие-то невинные девичьи секреты. Видно, так и подумал старший из братьев Вавиловых, выходивший из своей комнаты в одежде крестьянина-бедняка: в онучах, лаптях, ватных полосатых штанах и поддевке.
— Спускайтесь, — сказал он им, улыбаясь, — скоро гонг — праздничный ужин.
Лидочка взглянула на часы. Половина седьмого.
— А где он? — зашептала вновь Альбина, как только Вавилов отошел.
— Я его спрятала.
— Он мне нужен.
— Я его положу в условленное место, и вы его возьмете.
— Мне он сейчас нужен.
— Я смогу это сделать только после ужина.
— Честное слово? А может, вы не хотите мне его дать? Вы боитесь, что я выстрелю?
— Да, я боюсь.
— Но я выстрелю в себя, вы не бойтесь, я выстрелю в себя.
— Еще чего не хватало!
— Потому что он меня обманывает, я все поняла, он меня обманывает… Знаете что?.. Ближе, ближе… Мой дорогой муж, мое сокровище, мое солнышко, мой ненаглядный — он его убил, его уже нет, я знаю, он его убил и теперь смеется надо мной. Но я убью себя, и он не сможет смеяться надо мной. И ему станет стыдно.
— Альбина, успокойтесь. Может, ваш муж жив.
— Нет, я знаю, я знаю! Я по глазам его знаю — он врет, а глаза его врать не могут. Они смеются. Я убью себя, и он перестанет смеяться.
— Подумайте — у него же нет совести, ему будет все равно. Лучше, если вы будете жить…
— Ему станет стыдно, я знаю, ему станет стыдно. На одну секунду, на одну минуту — пускай хоть на минуту… вам не понять… Лида, я вижу, что вы не хотите возвратить револьвер. Только посмейте! Я вас уничтожу!
— Я не хочу, чтобы вы умирали.
— Я уже мертвая. А вы должны мне вернуть револьвер после ужина. Сразу после ужина вы подойдете и скажете мне, где вы его спрятали. Если вы не подойдете, то я скажу Яну, что револьвер у вас. И он вас посадит в тюрьму. Я вас не буду жалеть, потому что меня никто не жалеет.
Альбина закашлялась.
— Все! — крикнула она. — И не стучите, и не зовите! — Она нырнула внутрь комнаты, и слышно было, как повернулся ключ в замке.
— Альбина!
Никакого ответа.
Лида поняла, что и в самом деле глупо стоять перед этой дверью.
Она пошла обратно. И вовремя — у лестницы ей встретился Алмазов.
— Что вы в наших краях делаете? — спросил он весело. Он весь лучился радостью — что-то ему удалось добыть.
— Я заходила к Глазенапу, — сказала Лида. — Мне надо было взять у него венок.
— Какой венок?
— Для римского патриция — он у него сломался.
— А где венок?
Алмазов полуобнял Лидочку за плечи и потянул к себе.
— У Глазенапа никто не открывает. Вы его не видели?
— Умница, — еще шире засмеялся Алмазов. — Глазенап внизу. В ночной рубашке, а член торчит наружу.
Лида выскользнула из его объятий и побежала к себе. Алмазов смеялся вслед.
И, только добежав до своей комнаты и вломившись в нее, что сделать было нелегко, потому что Марта с Ванечкой сунули в ручку двери ножку стула, которую Лидочка в отчаянии сломала, Лидочка поняла, что она спасена. И ей было плевать на то, что Ванечка натягивает на себя одеяло, а Марта кричит придушенно:
— Ну сколько можно! Там же сказано — у нас не принимают.
— Я на вас не смотрю, — сказала Лидочка, проходя к своей кровати и садясь на нее. — И Миша Крафт ничего не узнает.
— Вот это лишнее, — сказала Марта. — Ванечка, отодвинься от меня, крошка, у меня пропало настроение.
Они стали возиться под одеялом, разбираясь в своих перепутанных руках и ногах. Лидочка взяла свои ботики, ботики были теплыми изнутри, но не высохли — да и когда им?
Пока Лидочка натягивала ботики, раздался первый гонг, Марта засуетилась, она намерена была перещеголять всех костюмом. Ванечка уже надел маску зайчика и покорно застегивал ей крючки на сером балахоне.
— Ванечка! — Лида не стала дожидаться, пока Марта закончит приготовления к маскараду. Она взяла монашеский клобук и побежала вниз. Самое трудное взять с вешалки пальто и незаметно выйти — там же сейчас столпотворение. По дороге на Лидочку напал приступ чиха — даже из глаз текли слезы.
Многие внизу были в масках — так что Лидочка не угадывала отдыхающих, — Лидочка подумала, что сейчас самое удобное время для настоящего детективного убийства — некто, одетый монашкой, падает к ногам палача в красных штанах. Это только в России трупы плавают в холодной воде заброшенных погребов, а в культурном мире они умеют плавать красиво.
Голова разламывалась, и мысль о том, что сейчас придется идти на улицу и мокнуть под дождем, была ужасна. А где Матя? Расталкивая участников маскарада, Лидочка протолкалась в гостиную — она даже не знала, в каком костюме был Матя. В костюме кулака? Или попа? Ни в прихожей, ни в бильярдной, ни в гостиной кулаков не нашлось. Были опричники, городовые, короли, капиталисты, но ни одного кулака. Сколько времени прошло с тех пор, как она встретила Алмазова, возвращавшегося после разговора с Матей? Полчаса? А вдруг Матя ушел перетаскивать труп? Ведь сейчас очень удобное время — все здесь. Даже повара и подавальщицы — все, кто мог, столпились в гостиной. Снаружи только дождь.
Лидочка посмотрела на часы — семь часов пятнадцать минут. Каково там профессору! Ужас ее положения заключался в том, что Лидочка не могла взять свое пальто — ее было видно толпившимся по соседству. Гонг ударил вторично. В дверях появился президент. Он держал гонг над головой. Вот он взмахнул булавой и ударил в третий раз.
— Представление начинается! — кричал он. — Все в гостиную! Действие первое: казнь французского короля Людовика.
Максим Исаевич спросил:
— Лидочка, вы такая бледная. Может, вам принести лекарство?
По лестнице спускалась Альбина, крестьянская девочка. Она цепко держала под руку Алмазова. Алмазов был до пояса обнажен, через мускулистое плечо свисала цепь — он являл собой образ скованного пролетария.
Появление пролетария было встречено криками и аплодисментами.
Максим Исаевич одним из последних побежал в гостиную. На мгновение прихожая была пуста.
— В столовую, в столовую! — кричал президент. — Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй. Праздничный ужин по поводу маскарада в честь пятнадцатой годовщины революции по старому стилю начинается!
Сегодня же двадцать пятое октября, вспомнила Лидочка.
Она нырнула в гущу пальто и долго не могла отыскать своего — оно оказалось завешано другими пальто и плащами.
Была половина восьмого, когда Лидочка наконец выбежала из дома и поспешила к погребу.
На полдороге к нему горел одинокий фонарь.
Темнота сгустилась, и оттого деревья стояли тесней и даже воздух был гуще, как будто идешь сквозь застывший холодец.
Поднялся ветер, деревья, просыпаясь, зашевелились, начали покачиваться и шуршать мокрыми ветвями, сучьями и поскрипывать стволами, отделываясь от последних листьев. Здесь совершенно не было места живым людям — словно в заколдованном лесу, куда выдают пропуска только нечистой силе.
Лидочка добежала до развилки — правая дорожка вела вниз, к прудам, другая — к тригонометрическому знаку. Слева возвышался холм погреба.
— Павел Андреевич! — позвала Лида негромко, и звук голоса тут же угас, словно не мог пробиться сквозь дождь и сплетение мокрых ветвей. — Павел Андреевич!
Профессора не было. Лидочке показалось, что, если он укрывается где-то близко, она бы это почувствовала. Но все ее чувства говорили, что лес вокруг пуст. Может, ему стало плохо? Справа, чуть ниже по склону, была густая купа кустов, и Лидочка поспешила туда, скользя по гнилой листве и грязи. Она спешила и раз даже упала, правда, на коленки и почти не ушиблась. В кустах никого не было — и даже человечьим духом не пахло. Отсюда вход в подвал был виден четко — очень черное пятно на черном склоне холма, налево убегала прямая и блестящая под фонарем дорожка к дому. Она была пуста. Окна дома ярко светились, свет лучами лился между колонн и заливал мокрую веранду. Но ни звука, ни движения из дома не доносилось.
Вдруг Лидочку посетила тревога — нет, не страх, а опасение, что с Александрийским могло случиться что-нибудь плохое. А что, если убийца увидел его и напал — ведь Александрийский не может оказать сопротивление даже кошке. А что тогда?
Лидочка вышла из укрытия кустов и полезла вверх по склону, к дорожке. Ноги скользили, приходилось все время поддерживать подол монашеского одеяния: он давно уже намок и стал грязным и тяжелым.
Перед входом в погреб Лидочка остановилась. Ей понадобилось немало времени — впрочем, как мерить время, которое умеет то остановиться, то кинуться вперед? — прежде чем она заставила себя нагнуться и ступить вниз.
— Павел Андреевич, — позвала она. Звук глухо метнулся в стесненном мокром пространстве погреба. Никто не ответил, да и кто мог ответить?
Лидочка спустилась вниз — девять ступенек, она запомнила с прошлого раза. На десятой нога коснулась воды. Ну почему у нее нет фонарика? Фонарик — вот величайшее изобретение!
Но если ты спустилась сюда, то, хочешь не хочешь, придется нагнуться и шарить в ледяной воде. Страшно не было — было отвратительно от безысходности. Ну почему именно ей надо этим заниматься? Чем она прогневила Бога?
Внутренне сопротивляясь тому, что делала, Лидочка шагнула вперед, вода хлынула через верх ботиков — теперь уж простуды не миновать. И, как будто испугавшись этого, организм Лидочки сжался в судороге, и она начала чихать — это были болезненные спазмы, она задыхалась, она потеряла ориентировку — где верх, где стена, где вода, — она сделала несколько шагов вперед и уткнулась в дальнюю стену погреба. И тогда уже поняла, что на полу, в воде, нет никакого тела. Ни тела Полины, ни тем более тела профессора. Правда, на секунду ее уверенность в этом поколебалась — руки наткнулись на тугой кожаный тюк… И тут же Лида вспомнила, что у Полины был баул, который никто после ее исчезновения не видел.
А дальше сразу стало легче — правда, она шарила по погребу по щиколотки в ледяной воде, руки ее были мокрыми по локоть, но от сознания того, что погреб пуст, наступило облегчение.
Из погреба Лидочка вылезла с трудом, так тяжел был подол монашеского одеяния. Несмотря на жгучий холод и ветер, она понимала, что домой возвращаться ей пока нельзя: она же не знает, что с Александрийским. Она могла предполагать, что он дождался, когда убийца вышел из дома и вытащил из подвала свою жертву. И понес ее куда-то. Значит, профессор последовал за убийцей. Как бы тот ни был силен, с такой ношей на плече он двигался медленно, и профессор мог следовать за ним. Если убийца кинул труп Полины в пруд, то он уже, вернее всего, возвратился в дом. А за ним профессор. А если он понес тело далеко в лес, чтобы закопать его? Могло же так быть! И тогда профессор со своей тростью бредет за убийцей, уже не чая вернуться домой… А что, если убийца, услышав, как треснул сучок под неосторожной ногой Александрийского, обернулся и увидел согбенную тень преследователя? Вот он бросает на землю тело несчастной Полины, вытаскивает из кармана нож, а то просто тянет вперед сильные длинные руки и, сверкая глазами — глазами Мати? — сверкая глазами, приближается к профессору, и тот бессилен убежать или сопротивляться!
Преодолев новый приступ кашля и ощущая, как горит голова и как безумно холодно закоченевшим ногам, Лидочка беспомощно оглянулась, не зная, куда ей идти дальше…
Куда он мог пойти? Она бы пошла вниз — всегда легче идти вниз, если тащишь тяжелую ношу. И наверное, лучше идти по дорожке, чем напролом через кусты, — ведь шансов встретить кого-нибудь в это время совсем немного.
Рассуждая так, Лидочка подняла тяжелый подол и крутила его, выжимая воду. Черная вода тяжело лилась на желтую глину. Лидочка отошла в сторону — теперь и она была мечена этой проклятой глиной. Далеко сзади стукнула форточка — Лида догадалась, что это форточка, потому что за этим звуком в парк сразу вырвались многочисленные перепутанные голоса, зазвучала музыка. Как странно — граница, проходящая между кошмаром страшного погреба, ледяной воды, шуршащих кустов, убийства, смерти… и маскарадом в честь пятнадцатой по старому стилю годовщины Октября, столь зыбка и тонка, что Лидочке стоит сделать всего тридцать-сорок шагов, толкнуть дверь, войти в тепло протопленную прихожую, повесить мокрое пальто на вешалку… Но нельзя сделать этих шагов, а надо идти дальше от дома, в непроницаемую тьму октябрьской ночи, где — а это вовсе не выдуманная опасность — ее поджидает в засаде готовый на все, загнанный в угол убийца. А идти надо, потому что иначе себе до конца дней не простишь, если Павел Андреевич лежит сейчас где-то там, внизу, и ему нужна твоя помощь…
Выжав, как могла, подол, Лидочка подобрала его. Подол тяжело оттягивал руку. Лидочка вышла на дорожку, ведущую к пруду. Один фонарь остался далеко сзади — он почти не давал света, но рождал длинные, разбегающиеся тени деревьев и, покачиваясь на столбе под ветром, заставлял эти тени шевелиться, словно они были тенями толпы людей, преследующих Лидочку.
Второй фонарь качался на столбе внизу у пруда. Были и другие столбы — но фонари на них были разбиты, или в них перегорели лампочки.
Лидочка шла все быстрее и быстрее и добралась до пруда. Там, под фонарем, видная издали и беззащитная, она вынуждена была остановиться, потому что на нее напал новый приступ кашля.
И тут, как раз под фонарем, она увидела раздавленную и растащенную поскользнувшимся каблуком желтую глиняную плюху. Взглядом проследив желтую полосу до валика земли, намытого ручейком, пересекающим дорожку, Лида заметила, что валик перерезан дважды: убийца здесь волочил жертву — пятки Полины скребли землю…
И Лида поняла, что убийца — рядом.
Стоя под фонарем у берега пруда, она понимала, насколько она беззащитна. В этом монашеском многопудовом одеянии ей и не убежать — любой догонит, и задушит, и кинет в пруд. Ведь только в первый раз трудно убить человека, а потом это становится таким же обыкновенным занятием, как приготовление яичницы. А почему яичницы? Какая такая яичница — она пахнет яйцами… это очень неприятный запах… Лидочке стало противно от запаха яичницы, хотя умом она понимала, что никакого запаха нет, — лес пахнул гнилью, холодом, водой… «Это у меня поднимается температура, — подумала Лидочка. — Мне надо спешить на танцы. Лучше всего танцевать, потому что, когда танцуешь, можешь прижаться к партнеру, и он тебя обязательно согреет. Господь создал мужчин только для того, чтобы они вытирали женщин махровыми полотенцами и высушивали их своим телом… Что я думаю! Остановись», — сказала себе Лидочка. Фонарь качался почти над головой, и собственная тень Лидочки совершала вокруг нее какие-то нелепые скачки.
Лидочка поняла, что никого она здесь не найдет, кроме собственной смерти. Но она заставила себя пойти дальше, она добрела до плотины между верхним и средним прудами. Верхний пруд был большим, идиллическим, со всех сторон он был окружен деревьями, которые росли на пологих откосах, и питался водой из ручья, который стекал по густо заросшему оврагу. Средний пруд, отделенный от него насыпной плотиной, по которой проходила дорожка, ведущая в лес, находился на более пологой и открытой местности усадьбы Трубецких. На том пруду сохранилась старая купальня, устроенная так, чтобы посторонние не могли увидеть за деревянными стенками господ, которые решили искупаться. Нижний пруд упирался в дорогу, ведущую от Калужского шоссе, и соединялся с другой системой небольших прудов, уже за забором усадьбы.
Сейчас, ночью, с плотины между верхним и средним прудами трудно было различить истинные размеры прудов, а нижний и вовсе был лишь сверканием искорок от далекого-далекого фонаря у въезда в парк.
Лидочка пошла по плотине, потому что это был самый удобный и прямой путь от погреба в лес. Она говорила себе, что далеко не пойдет — да и куда идти, — вот еще десять шагов… нет, еще пятьдесят… перейдет плотину, посмотрит, что там, — и повернет обратно. Было очень тихо — ветер стих, и сразу стало спокойно. Тишина была совершенная — куда более совершенная, чем полное беззвучие, потому что ее деликатно подчеркивал шепот дождевых капель. Вода была спокойной и ровной, но из-за дождевых капелек ничего не отражала. Чем ближе Лидочка подходила к дальнему концу плотины, тем явственнее доносился до нее новый непонятный звук — пустой и журчащий. И, только оказавшись на той стороне пруда, у скамейки, словно забытой в этом дальнем углу парка, она вспомнила, что это за звук, потому что была здесь днем: звук происходил от водяной струи, которая переливалась через край колодца, сооруженного посреди пруда и представлявшего не сразу понятное для непривычного человека зрелище. Поскольку трудно сообразить, почему в глади пруда, в трех или четырех метрах от берега, обнаруживается круглое метровое отверстие — отверстие в воде. На самом же деле это было простое приспособление для того, чтобы лишняя вода переливалась из верхнего пруда в средний.
Сообразив, что означает звук, и вспомнив о назначении колодца, Лидочка пересекла плотину, чтобы заглянуть в средний пруд — где же выходит там эта труба? Но ее не было видно. Значит, слив был ниже уровня воды в среднем пруду. Разница в уровне воды в прудах была не меньше пяти метров, значит, колодец среди пруда был глубже пяти метров. Лидочке почему-то захотелось убедиться в этом, она довольно долго искала на берегу камешек, чтобы кинуть в колодец, который привлекал ее невероятностью своего образа — круглая дыра в воде! А в воде не бывает дыр! Она кинула камешек, чтобы по звуку определить, какой глубины колодец, но звук падения до нее не донесся. Тогда Лидочка захотела заглянуть в колодец, но для этого надо было пройти метра четыре по воде. Или найти доску, чтобы перекинуть с берега… «Что я тут делаю? Чего мне дался этот колодец? — спохватилась вдруг Лида. — Разве я сошла с ума? Что мне от того, глубокий он или мелкий?» Но, задавая себе эти вопросы, Лида на них не отвечала — мы же не отвечаем себе на свои вопросы, если знаем ответ! И Лидочка знала — хоть и не формулировала для себя причину такого интереса к колодцу в пруду, — ее тянуло к нему, потому что она для себя решила задачу: где спрятать труп Полины. Она бы сбросила его в колодец — он был фантастичен, он был нелогичен, он был как пасть морского чудовища, которое требует человеческой жертвы. Как-то Лидочка читала о древнем многометровом колодце в Чичен-Ице. Конечно же, древние майя или ацтеки кидали туда невинных девушек — боги могли создать его только для жертвоприношений.
Впрочем, в этом была и хитрость, понятная только Мате и Лидочке: ведь иной человек, устроенный просто, никогда не догадается искать в колодце — с его точки зрения, убийца должен кинуть труп в пруд, а не устраивать себе трудности, подобно Тому Сойеру, когда он освобождал из тюрьмы старого друга негра Джима. Потому Лидочка была убеждена, что, если в поисках трупа даже спустят воду из всех прудов, в колодец никто не заглянет! Снимаем шляпу перед физиками! Она рассуждала так, словно уже нашла труп Полины…
Кашель миновал — теперь можно бы возвращаться. Но профессора она так и не отыскала. Хотя, вернее всего, он уже дома, пьет чай, забыв о Мате.
В лесу хрустнул сучок — Лидочка быстро обернулась. Там, на дальнем берегу, зашевелились кусты.
Лидочка замерла.
Это дикая собака, сказала она себе, а может, барсук. Это не человек. Человек — это слишком страшно.
Она кинула взгляд на дом Трубецких — до него тысяча километров — и в гору. Квадратики его светящихся окошек были недостижимы, как лунные кратеры. Лидочка стала медленно отступать — она была на открытом пространстве, а тот, другой, затаился в кустах и потому имел преимущество: он увидит, куда она бежит, и догонит ее без труда… если бы еще не эта чертова одежда! — пудовая, настолько насыщенная водой и облепленная грязью, что втащить ее в гору можно только трактором. Лидочка наклонилась и подобрала подол — руку оттягивало его тяжестью.
«Я гуляю, — колдовала Лидочка, — я медленно и с достоинством гуляю», — почему-то ей хотелось, чтобы преследователь понял, что она гуляет именно с достоинством. Она шла по плотине и проклинала себя за то, что так очевидно обратила внимание на колодец.
Если бы не это, Матя бы ее не тронул, он бы пожалел ее, ведь он не садист — его заставили обстоятельства… Лидочка сошла с плотины и побрела к дому, делая вид, что не спешит. Ей очень хотелось разжалобить Матю, и она как бы репетировала слова, что произнесет, когда он ее догонит.
— Я никому не скажу, — бормотала Лидочка, бредя вверх по дорожке, — честное слово, никому не скажу… Только ты меня не трогай, я еще так мало жила…
По замерзшему заколдованному парку голых черных деревьев, часто и мелко переступая ногами, семенила простоволосая монашка, сжимая в кулаке черный грязный подол. Монашка причитала — то ли молилась, то ли пела и часто, по-птичьи оглядывалась, будто ждала погони… Но погони не было видно — кому нужна промокшая монашенка.
Лидочка миновала погреб, не заметив этого, — ей казалось, что она, задыхаясь, несется по дорожкам и дорожки эти невероятно длинны и запутанны… Но уже был близок дом Трубецких и спасение.
Посреди дорожки стоял мужчина.
Фонарь подсвечивал его сзади, создавая силуэт памятника, какой-то средневековой фигуры — Лютера или гражданина Кале, принесшего ключ завоевателю. Виной тому был и длинный плащ, почти до земли, расширяющийся и каменный в ночном безветрии.
Лидочка замерла.
«Вот и все. Мне уже даже не страшно. Страшно, когда ждешь опасности, а потом становится все равно…»
— Лида, — негромко окликнул ее командор. — Это вы, Лида?
Памятники не окликают девушек и не сомневаются.
— Это я, — сказала Лида почти неслышно и пошла к нему, все еще не узнавая человека, но уже вспоминая его голос.
Человек откинул остроконечный капюшон плаща. Мелкие капли дождя искорками под светом фонаря принялись колотить человека по редким волосам. Лида разглядела усы, крупный нос и черные провалы глазниц.
— Пан Теодор? — сказала она. — А что вы здесь делаете?
— Глупейший вопрос, — ответил пан Теодор, склоняясь для поцелуя к протянутой руке Лидочки. Усы были мокрыми и холодными, а губы теплыми. — У нас мало времени, — сказал пан Теодор. — Давайте спустимся к беседке.
Пан Теодор, называвший себя хранителем времени, шагал впереди. Его черный блестящий плащ пришел в движение и раздулся подобно колоколу. Зачем же он в такую погоду ходит без шляпы? Неужели он не чувствует холода и дождя?
В первые мгновения встречи Лидочка была слишком взволнована, чтобы задавать вопросы. Потом, когда она, задыхаясь от усталости, часто перебирая ослабевшими ногами, волочила пудовое платье, тоже не находила сил, чтобы спросить. И только когда пан Теодор вошел в беседку и остановился, обернувшись к ней и ожидая, что она к нему присоединится, Лидочка попыталась задать главный вопрос. Но голос подвел ее. Получился невнятный хрип.
Теодор рассматривал ее, ничему не удивляясь. Беседка была открытой, отделенной от зарослей лишь подгнившими перилами, крыша протекала, вода, просачиваясь сквозь нее, собиралась в крупные капли, которые звонко и ритмично молотили по доскам пола.
— Что с Андрюшей? — спросила наконец Лидочка.
— Он передает тебе привет, — сказал пан Теодор. — Он здоров.
— Я хочу к нему! Мне все это надоело.
— Там, где он находится, женщинам лучше не появляться.
— Там опасно? Андрею грозит опасность?
— Там трудно.
— Скажите, где он. Я поеду к нему.
— Нет.
— Я вас ненавижу.
— Мы с тобой иногда должны подчиняться обстоятельствам.
— Так пройдет вся жизнь. Я не могу больше ждать!
— Если окажется, что он не сможет к тебе вскорости возвратиться, — сказал Теодор, — ты отправишься в будущее. Но сегодня я еще не могу сказать тебе наверняка…
— Он в лагере? Его арестовали?
— Может быть, ему придется оказаться и в лагере.
— За что? За что мы должны все это терпеть?
— У вас есть свобода выбора. А у них… — пан Теодор широким жестом показал на освещенные окна дома Трубецких, — выбора нет никакого. Они лишь подчиняются и погибают.
— Или убивают других, — ответила Лидочка.
— Чтобы в свою очередь погибнуть.
— Андрюша там мерзнет. — Лидочка вдруг смирилась с запретом, наложенным на ее мечты Теодором. Она поняла, что не переубедит и не разжалобит его. Теодор выполнял свой долг.
Жестом старого человека пан Теодор расстегнул плащ, вытащил большой светлый платок, вытер плешивую голову и пригладил кустистые черные брови.
— Я приехал сюда не из-за Андрея, — признался он. — Про Андрея я мог бы рассказать и в Москве. Ты не чувствуешь неладного?
— Здесь все неладно. Мне страшно.
— Вот видишь! — Пан Теодор был доволен, как врач, поставивший роковой, но точный диагноз. — Ты интуитивна. Не далее как вчера я встречался с другими хранителями времени. Мы пришли к общему мнению, что ближайшее десятилетие грозит России и всей Европе неисчислимыми бедствиями.
Лидочка смотрела на старика, не понимая. Какие бедствия для Европы, когда здесь убили Полину и пропал Александрийский?
— Напряжение временного поля превысило все известные нам величины, — сообщил пан Теодор скучным голосом.
— Вы знаете, что убили Полину? — спросила Лидочка. Она отчаянно всматривалась в лицо Теодора, надеясь увидеть в нем признание того, что он знает больше, чем хочет показать.
Но пан Теодор даже не удивился.
— Полина? Да, она погибла. Ее убили.
Он не смеет признаться, что ему тоже холодно, подумала Лида. Он же очень старый человек. Он приехал сюда из Москвы, а от Калужского шоссе, вернее всего, шел пешком по грязи. Но он исполняет свой долг.
— Вы пришли не ко мне? — догадалась Лидочка.
— Нет. Но я боялся, что ты можешь угодить в альтернативный мир.
— Этого не случилось?
— Нет, в альтернативном мире другие жертвы и другие преступники.
— Мне лучше не спрашивать? Вы все равно не ответите?
— Я спешу. Когда-нибудь я расскажу тебе обо всем. Ты помнишь о том, что история имеет варианты? Существует магистральная линия развития любой цивилизации, и, пока она движется по этому пути, ее выживание и прогресс весьма вероятны. Но порой этот поезд ошибается на стрелке и попадает в тупиковый путь. И тогда мир может погибнуть.
— А как вы догадываетесь, какой из путей настоящий?
— Это вычисляется. И даже заранее. По нарастанию напряжения временного поля. Мы ни разу не ошибались. Не ошиблись и сегодня.
— А где гарантия того, что мы сейчас не на ошибочном пути?
— С чего ты решила?
— Вокруг меня погибали и погибают миллионы людей. А вдруг в другом мире, на другом пути они останутся живы?
— Не судите о мире по своему шестку, — сказал Теодор. — И ты, и я — маковые росинки. Речь идет только о судьбе Земли в целом. И Земля, несмотря на все страдания, должна выжить.
— Зачем нам все это знать?
— Вселенная во всех ее вариантах и отклонениях остается тем не менее единым организмом, масштабов и смысла которого нам не дано осознать. Поэтому нам, хранителям времени, остается лишь прослеживать основные ложные ветви и следить за тем, чтобы никто из наших людей не сгинул в тупиковом мире…
— Но это для нас с вами он ложный! А для них настоящий.
— Разумеется, — сразу согласился пан Теодор.
— Вы не знаете будущего?
— Нельзя увидеть то, что еще не случилось.
— Тем более вам не дано заранее определить, какой путь полезен, а какой вреден. Иначе получается суд, который заранее знает, что подсудимый виноват, и заранее вынес приговор.
— Есть объективные признаки ложного пути.
— Вы меня не убедили.
— Что ж. — Дождевая капля повисла на кончике носа пана Теодора. Он смахнул ее. — Надо кому-то верить. Нельзя прожить, никому не веря.
Лида вздрогнула от неожиданного всплеска воды в пруду. Теодор даже не посмотрел в ту сторону. Плащ его совсем промок, рука, сжимавшая край плаща, была мокрой и костяной, неживой.
— А почему появляется… альтернатива? — спросила Лидочка.
— Далеко не каждое событие рождает альтернативу, — ответил Теодор. — История гасит случайные очаги. У нее есть свои бактериофаги, которые убивают опасные девиации. Но порой ничто не может остановить раздвоения.
— И вы это чувствуете?
— Я думаю, что и ты чувствуешь.
— Значит, это Матвей, — уверенно произнесла Лидочка. — Матвей изобретает сверхбомбу.
— Мне пора уходить, — сказал Теодор. — Будь осторожна. Завтра станет ясно… И не простудись. Ты совсем больная.
— Вы сами простужены.
— Это будет тысячный в моей жизни насморк.
— Когда я вас увижу?
— Через день, через год, через сто лет… — Улыбаясь, Теодор сверкнул очень белыми зубами.
Он не шутил. И Лидочка с содроганием ощутила холодное прикосновение вечности.
Теодор ушел.
Незаметно, бесшумно. Лидочка растерянно обернулась — черная блестящая фигура командора замерла в десяти шагах, почти скрытая мокрыми ветками лещины.
Теодор достал из глубокого кармана небольшой плоский серебряный предмет. Лидочка знала, что это портсигар, прибор, позволяющий передвигаться во времени и проникать в альтернативные миры.
Черная средневековая фигура растворилась в воздухе, на месте ее на секунду вспыхнуло слабое зеленое сияние. И все исчезло.
Значит, в альтернативном мире у Советского Союза будет бомба?
Лидочка ввалилась в прихожую. При виде ее чучело медведя оскалилось еще больше — ему еще никогда не приходилось видеть более грязной и несчастной женщины.
Лидочка действовала как во сне, хотя со стороны могло показаться, что она ведет себя разумно.
Она сняла пальто и после нескольких попыток повесила его на крюк вешалки. К счастью, в прихожей никого не было — публика веселилась в столовой и гостиной.
Лидочке не пришло в голову поглядеть на часы, иначе бы она поняла, что сейчас лишь начало девятого и маскарад только начинается. О маскараде Лидочка начисто забыла — она помнила только, что ей надо зайти к Александрийскому, чтобы проверить, жив ли он.
В прихожую вбежала Альбина. Она увидела Лидочку.
— Ну что же вы! — закричала она с порога. — Я места себе не нахожу.
— Все в порядке, — ответила Лидочка. — Я знаю, где она лежит.
— Я о револьвере, — прошептала Альбина. — Я жду весь вечер.
— Какой револьвер? — Лидочке не хотелось обижать Альбину, но у нее раскалывалась голова, и музыка, доносившаяся из гостиной, вкупе с драматическим шепотом Альбины ее страшно раздражали.
— Немедленно отдайте мне револьвер! — почти закричала Альбина. — Иначе я скажу вы знаете кому!
Лидочка обрела способность думать, но у нее не было никакого револьвера, и отдать Альбине она ничего не могла. Надо было отделаться от Альбины и скорее идти к Александрийскому.
— А я скажу, что не видела никакого револьвера, — сказала она.
— А я скажу… — Альбина замолкла и сжалась — она спиной почувствовала, что вошел повелитель.
Обнаженный Алмазов был весел — он поигрывал концом цепи и был похож скорее на пирата, чем на пролетария, намеренного освободить свой класс.
— Альбина, нам выступать, — сказал он, мальчишески улыбаясь, и тут увидел Лидочку. Лишь Альбина, находившаяся в истерическом состоянии, могла не заметить, как выглядит Лидочка. Алмазов такой невнимательности позволить себе не мог.
— Что с вами? — спросил он сразу — вся маскарадность в мгновение ока слетела с него.
— Я пошла погулять… — Лидочка шмыгнула носом и закашлялась. — Я… поскользнулась и упала… а я ужасно выгляжу?
Алмазов смотрел на ее ботики, измазанные желтой глиной.
— Вам надо тут же переодеться, — сказал он. — Обязательно. У вас есть лекарства? А то боюсь, что наш доктор тоже отплясывает за свободу пролетариата.
Алмазов подошел ближе — от него сильно пахло водкой. Сказал, наклонившись:
— Нашли время бегать по улицам и падать в лужи… нашли время.
Но тут же он засмеялся, подхватил Альбину под руку и потащил, не оборачиваясь, в гостиную, откуда доносилось пение «Марсельезы».
Удостоверившись, что Альбина с Алмазовым ушли, и не дожидаясь, пока появится кто-нибудь еще, Лида поспешила к Александрийскому.
Лидочка была почти убеждена, что профессор, узнав, куда направляется Матя, возвратился к себе. Но с каждым шагом ее уверенность падала и вместо нее рос страх, что профессор не откликнется на стук и ей придется снова идти под холодный ночной дождь — искать Александрийского в лесу. И не к кому обратиться за помощью. Пастернак уехал еще утром.
Лидочка коротко постучала в дверь, ее знобило, как будто она стояла на зимнем ветру. Дверь отворилась сразу — видно, Александрийский ждал визитов.
— Лидия! Что с вами! Куда вы делись! Я схожу с ума! — Старик был взволнован — у него даже кончики губ опустились и зло дрожали. — Почему вы не вышли? Что вас задержало?
— Господи, — сказала Лидочка, — какое счастье! С вами ничего не случилось!
— Что могло со мной случиться, кроме простуды?
Выглядел старик ужасно — вокруг глаз темные тени, щеки ввалились, руки дрожат, — словно за то время, пока они не виделись, профессор постарел на десять лет. Сейчас он был похож не на Вольтера, а на древнего пророка из Библии.
— Можно я сяду? — спросила Лида. Если бы он не разрешил, она бы все равно села — на пол.
Александрийский только тут понял, что ей плохо.
— Конечно, — сказал он, словно выпустил злой дух и сразу подобрел. — Конечно. Вы вся дрожите. Вы промокли. Лида, скажите, что произошло?
— Какое счастье, — сказала Лидочка. Она не могла сдержать слез. Сидела мокрая и грязная на стуле и поливала слезами ковер. — Какое счастье! — бормотала она между приступами кашля и потоками слез. — Я уже думала, что он вас убил… он вас убил, а потом за мной бежал, до самого дома…
— Погодите, погодите, вы можете рассказать внятно?
— Еще бы… Я пошла за вами, а вас нет. Я пошла за ним, я думала, что вас убили. А вы где были?
— Вы мою записку нашли?
— Нашла.
— Я ждал вас до девятнадцати часов. Как было уговорено. Было уговорено?
— Но они все разговаривают… маскарад…
— Я ждал вас до девятнадцати пятнадцати. И рад бы ждать далее, но, к сожалению, у меня не было на это сил. И я не мог понять, что с вами произошло… — Александрийский подошел к ней и навис, как аист над лягушкой. Но не клюнул, а погладил по мокрой голове. — С ума сойти! — сказал он. — Зачем вы купались?
— А Матя? Убийца?
— Он не вышел, — сказал профессор. — Наверное, он выйдет позже, когда все в доме заснут.
— Значит, вы его не видели?
— Я повторяю — я вернулся и стал искать вас, и я был, к сожалению, бессилен что-либо сделать, только ждать и злиться на вас.
— А я все знаю, — сказала Лидочка, глупо улыбаясь. Ей стало тепло, даже жарко, и ей было приятно сознавать, что доктор Ватсон опять оказался проницательнее самого Шерлока Холмса. — Я все знаю, мистер Холмс. Я пришла — вас нет, я полезла в погреб, а Полина исчезла… нет Полины.
— Во сколько это было?
— Потом. Потом… я пошла за ним до пруда…
— Вы видели убийцу?
— Я не хочу его видеть… я вообще никого не хочу видеть. Я буквально провалилась — видите, как я одета? Я монахиня, честное слово, только из эксплуататорских классов — вы можете представить, что я из эксплуататорских классов?
— Лидочка, сейчас вы пойдете к себе, ляжете и будете спать. И все пройдет. Вы мне только скажите — вы видели убийцу?
— Он спрятался, он смотрел на меня из кустов, а потом бежал за мной до самого дома, вы представляете?
— Нет, — сказал профессор, — я не представляю. Я думаю, что, если бы он хотел, он бы вас догнал.
— А я убежала…
— Хорошо, хорошо. Но главное, вы видели, куда он перепрятал труп?
— Я догадалась — только не смогла туда залезть.
— Куда?
— В ко-ло-дец! Хитро, да?
— Какой колодец? Ну какой еще колодец? Здесь нет колодцев!
Лидочка почти не видела профессора — слезы лились из глаз.
— В пруду, — сказала она, — есть волшебный колодец, там дьявол прячет своих агнцев, смешно?
Как сквозь сон Лидочка видела и слышала, что профессор нажал на звонок, лежавший на столике у его кровати. Он держал его, не отпуская, а Лидочка плакала. А потом прибежала женщина в белом халате — и она стала что-то делать, и было щекотно…
Ночью Лидочка просыпалась несколько раз — почему-то она спала не в своей кровати, а в белой маленькой комнате, где был столик, на столике стояла лампа, женщина в белом приходила и уходила, Лидочка все хотела к себе в комнату, но ее не пускали…
Глава 7
25 октября 1932 года
Лидочка проснулась, причем ее будили, и один голос требовал, чтобы Лидочка скорее проснулась и куда-то шла, а другой Лидочку защищал и хотел, чтобы она спала и дальше, потому что она жестоко простужена и не исключено, что у нее воспаление легких. Лидочка с сочувствием слушала второй голос и внутренне с ним соглашалась. Ей очень хотелось пить, но она не смела попросить воды, потому что обладатель паршивого голоса только и ждет, что она проснется. И тогда выскочит из-за кустов.
— Она в первую очередь больная, а уж потом вы решайте свои проблемы, — сказал приятный голос, и Лидочка догадалась, что он принадлежит краснощекой докторше Ларисе Михайловне. Лидочка чуть приоткрыла глаз — дышать носом она не могла, и потому она лежала очень некрасивая, с приоткрытым ртом, и дышала как старуха. «Ага, так я и думала — над кроватью стоял президент Филиппов. Конечно же, от него ничего хорошего не дождешься…»
Лидочке казалось, что она приоткрыла глаз незаметно, но Филиппов заметил и закричал — словно поймал вора:
— Все! Она проснулась!
Раз попалась, можно попросить воды. Все равно уж не спрячешься.
Глаза открылись с трудом, будто к ресницам были привязаны гирьки.
— Пить, — сказала Лида.
— Сейчас, моя девочка, — сказала Лариса Михайловна. Она подвела ладонь под затылок Лиде и приподняла ее голову.
Лида нащупала губами носик поилки, вода была сладкая и теплая.
— Вы ждали, что я проснусь? — спросила Лидочка, стараясь в вопросе передать благодарность докторше.
— Лежи, отдыхай, — сказала Лариса Михайловна.
— Здесь не больница, а санаторий, — сообщил президент. — Если больная, то мы сдадим ее в больницу. Правильно?
Последний вопрос относился к вошедшему в маленький санаторный бокс Яну Алмазову. Алмазов был строг, печален, одет в военную форму с ромбами в петлицах.
— Ну как, наша авантюристка пришла в себя? — сказал он. — Вот и замечательно. Сейчас мы с вами оденемся, Иваницкая, и вы нам поможете. Вы ведь нам поможете?
— Товарищ командир, — сказала Лариса Михайловна. — Больную нельзя поднимать с кровати. Ей нужен полный покой. У нее воспаление легких.
— Это только предположение, а я думаю, что у нас насморк, — сказал президент, и Лидочке показалось, что он при этих словах помахал хвостом.
— Сначала мы решим все наши дела, — сказал Алмазов, — в больницу всегда успеем.
— Я протестую! — сказала Лариса.
— А мы ваш протест запишем куда следует, — сказал Алмазов, — запишем, а потом спросим, почему это вдруг доктор из нашей любимой Санузии так шумно протестовала? Может быть, они с Иваницкой были знакомы? Или дружили даже? Ну!
Последнее слово прозвучало резко, и Лида хотела заткнуть уши, потому что такой Алмазов был беспощаден. Но почему он так сердился на нее, она совершенно не представляла. Его крики мешали сосредоточиться и вспомнить, что случилось. Кажется, был маскарад?
— Вы были освобожденный пролетарий, — сообщила Лидочка Алмазову.
— Давайте не будем валять дурочку, — сказал Алмазов. — Ты совершенно в своем уме. Будешь одеваться или мне тебя одеть?
Лидочка посмотрела на докторшу и поняла, что та не хочет встречаться с ней взглядом. Значит, ей тоже страшно! Лидочке стало жалко добрую Ларису Михайловну.
— Мне надо в уборную, — сказала Лида.
— Обойдешься ночным горшком! — воскликнул президент.
— Как так? — удивилась Лидочка. — Здесь?
— А мы поглядим! — Из президента буквально сочилась радость от того, что он мог унизить Лидочку.
— А ну отставить! — сказал Алмазов брезгливо. — Пускай одевается и идет, куда ей надо.
— А если она уничтожит улику?
— Ей же хуже, — сказал Алмазов.
— А такой худенький, — сказала Лидочка вслух, с сочувствием. Президент догадался, что она говорит о нем, и выругался, а Лариса Михайловна сказала:
— Постыдились бы женщин.
Президент хотел ругаться и дальше, но Алмазов сказал:
— Доктор права, не надо переходить границ.
— Выйдите, пожалуйста, — сказала Лидочка, — мне же надо одеться.
— Еще чего не хватало! — даже обиделся президент. Можно было подумать, что он играет в игру, а Лидочка все время норовит нарушить правила.
— Правильно, — сказал Алмазов. — Давайте выйдем, Филиппов.
— Ей не во что одеваться, — сказала Лариса Михайловна. — Все было мокрое и еще не просохло.
— Дайте ей свои туфли — у вас вроде нога побольше. Чтобы через три минуты она была полностью одета.
— Но ей же нельзя!
— Я это слышал, Лариса Михайловна. Но поймите — мы на работе, мы не в бирюльки играем. К сожалению, нам известно, что гражданка Иваницкая, надеюсь, не по своей воле, оказалась втянута в грязные интриги наших врагов. Так что шутки в сторону, Лариса Михайловна. Или вы нам помогаете и этим помогаете Лидочке, к которой я отношусь с симпатией. Или мы с вами будем вынуждены говорить иначе.
Лариса Михайловна поддерживала Лидочку, ведя ее по коридору к умывальной, а остальные шли сзади и громко разговаривали.
— Вы слишком либеральны, — сказал президент. — С ними так нельзя, товарищ комиссар.
— Дурак, — ответил Алмазов. — Зато она сама оделась, а теперь как ей доказать, что она больная?
Лидочка понимала, что этот разговор ведется специально, чтобы она его слышала и трепетала. А ей было все равно. Даже интересно — что же они подозревают? Будь она здоровой, испугалась бы куда больше, а сейчас она боролась с кашлем и головной болью и в конце концов не выдержала и, повиснув на руке Ларисы Михайловны, зашлась в приступе.
Краем глаза Лида увидела, как приоткрылась дверь в девятнадцатую палату и оттуда выглянула Марта. Лицо у нее было жалкое и испуганное, а из-за ее плеча выглядывал Максим Исаевич. Дверь захлопнулась…
Пока Лидочка была в умывальной, где докторша помогала ей привести себя в порядок, чекисты молча стояли снаружи.
— Что с ним? — спросила Лида шепотом.
— Ума не приложу! — слишком громко ответила докторша.
— Все в порядке? — спросил Алмазов с издевкой, когда женщины вышли из туалетной. — Полегчало? Тогда я предложу вам совершить маленькое путешествие.
— Я ее одну не отпущу, — сказала Лариса Михайловна.
— Ради бога, — сказал Алмазов. — Мы же не садисты. Если ваш медицинский долг велит вам сопровождать ваших пациентов куда ни попадя — сопровождайте. Только чтобы потом не плакать.
Филиппов рассмеялся высоким голосом.
— Скажите ему, чтобы перестал вилять хвостом, — сказала Лидочка.
Президент осекся — с надеждой посмотрел на Алмазова.
— Я прослежу за этим. — Алмазов засмеялся. — Да не обращай внимания, — сказал Филиппову, — не обращай. У тебя тоже будут маленькие радости.
Путешествие по лестнице, а потом по нижнему коридору было долгим. Лида шла и гадала — куда ее ведут. Оказалось — к Александрийскому.
— Может, вы вернетесь? — предложила Лида Ларисе Михайловне.
— Ничего подобного, — ответила та. — Вы у меня единственный пациент.
Она тоже догадалась, куда они идут.
Дверь к Александрийскому была раскрыта. В дверях стоял рабфаковец Ваня. Везет же Марте с любовниками, подумала Лидочка. А на вид — фанатик физики.
— Как он? — спросил Алмазов.
— Терпимо, — сказал Ванечка.
Александрийский сидел в кресле, закутанный в плед и схожий с очень старой вороной, — никакого Вольтера в нем не осталось.
Он неуверенно повернул голову в сторону Лидочки.
— И вас привели, — сказал он.
— А чего вы ожидали, Павел Андреевич? — удивился Алмазов, входя в комнату. — Мы же не дети, мы занимаемся серьезными делами.
Он оглядел комнату.
— Уютно, — сказал он, — мебель княжеская. Мне такую пожалели. Придется поговорить в Президиуме — о кураторах надо заботиться.
Алмазов умел менять тон и улыбку столь стремительно, что за ним не уследишь, — он всегда опережал тебя.
— Проходите, Иваницкая, — сказал он, — садитесь на стул. Как вы себя сейчас чувствуете, профессор? Присутствие доктора не требуется?
— Обойдусь, — сказал профессор и спросил у Лидочки: — Как вы себя чувствуете? Вам надо лежать.
— Кому лежать, а кому стоять, где лежать и стоять, с кем лежать и стоять — решаем здесь мы!
— Решает Господь Бог, — сказал Александрийский.
— Все его функции на Земле взяло в руки наше ведомство, — сказал Алмазов совершенно серьезно. — Итак, все посторонние, покиньте помещение. Лариса Михайловна и Филиппов — вы останетесь в коридоре и следите друг за другом — чтобы не подслушивать! — Алмазов опять рассмеялся. — Ванечка, побудьте на улице, у окна, чтобы никто не приблизился.
— Слушаюсь, — сказал Ванечка. — Одеваться?
— Оденься, может, потом придется погулять по парку.
Когда комната опустела, Алмазов подошел к двери и плотно ее закрыл.
— Ну вот, — сказал он, — теперь остались только свои. Замечательно… — Он широко взмахнул руками, как бы ввинчивая себя в кресло, впрыгнул в него. Он был игрив. — Я собрал вас, господа, для пренеприятного известия — к нам едет ревизор. Ревизор — это я, поросятушки-ребятушки. А вы будете говорить мне правду. Первое, что мне нужно: узнать, как в вашем дуэте распределяются роли и кто, кроме вас, здесь работает.
Лидочка начала чихать — ее зябко трясло. Алмазов терпеливо ждал.
Потом сказал только:
— Ну, сука!
— Вы не имеете права!
— Помолчите, профессор, вы мне уже надоели — вы слишком типичный. Честно говоря, мне жалко Иваницкую. Она хороша собой, она молода, я был бы рад взять ее себе, но боюсь, что не рискну. — И уже обращаясь к Лидочке: — Мне надоела ваша подружка Альбина — она обливает меня слезами и соплями, ну сколько можно! Пришлось даже показать ей сегодня приговор ее супругу — по крайней мере она не выйдет из комнаты.
— Ой! — сказала Лидочка. — Как вы смели так сделать!
— Не жалейте ее, она слабый человечек, и у нее не было выхода. Она была обречена с самого начала. Выход, который я ей предложил, — наилучший. Я освободил ее от мужа, от чувства вины перед ним. Она боялась, что я сдержу свое слово и освобожу ее мужа, больше всего остального. Потому что ее муж по правилам игры, в которую она играла, должен задушить ее как изменницу. А она очень хотела жить. Теперь же она порыдает еще недельку и найдет себе нового мужчину и новую жизнь. Я к ней замечательно отношусь и надеюсь, что именно так и случится. Если, правда… — Тут Алмазов сделал довольно долгую паузу и совершенно неожиданно закончил фразу так: — Если вы, конечно, не потопите ее, как члена вашей контрреволюционной группы.
— Как так? — не понял Александрийский.
— Иваницкая, — обратился Алмазов к Лидочке, — скажи, деточка, как к тебе попал мой револьвер? Мой револьвер?
Лидочка ждала такого удара. Несмотря на болезненное состояние, она поняла, что именно в револьвере и заключается главнейшая угроза. Это вооруженный заговор, это кража оружия… Лида в панике обернулась к профессору. Неужели они сделали тут обыск или запугали профессора?
— Не смотрите, не смотрите, — усмехнулся Алмазов. — Подсказки не будет. Где револьвер?
— Какой револьвер? — сказала Лидочка, стараясь выглядеть невинно оскорбленной.
— Послушайте, граждане, — сказал Алмазов. — То, что сейчас происходит, — часть неофициальная, так сказать, дивертисмент. По сравнению с тем, в чем я вас подозреваю и буду обвинять, — это пустяк. Но я хотел бы, чтобы вы поняли всю важность этого пустяка для вас лично. Для вас обоих. Альбиночка рассказала мне, что вы, находясь у меня в комнате, куда были ею приглашены, увидели кобуру, которую я легкомысленно, скажем, как последний дурак, оставил висеть на стуле. Несмотря на просьбы и мольбы Альбиночки, которая боялась, что подозрение падет на нее, вы взяли револьвер, а я, виноват, не спохватился до сегодняшней ночи. Должен отдать вам должное — вы не производите впечатления преступницы, хотя отлично знаю, что это совсем не аргумент в юриспруденции.
Алмазов замолчал и задумчиво почесал ровный пробор, словно исчерпал известные ему слова и теперь вынужден искать новые.
«Господи, маленькая мерзавочка! — думала Лида. — Зачем же ей было обвинять меня — единственного человека, которому она сама верила… а верила ли? Я же вчера ее перепугала, потому что не вернула пистолет. И она поняла, что ей предстоит допрос — и Алмазов, конечно же, доберется до правды… и тогда она придумала почти правду, в надежде, что он поверит… и чего я сержусь на это существо? За что? Что она могла поделать?..»
— Вы не хотите мне отвечать, — вздохнул Алмазов. — И не надо. Считайте, что все обошлось, я вам поверил и сам решил нести ответственность за потерю именного оружия. Ради ваших прекрасных глаз я готов пойти на плаху. Верьте… а я вам расскажу другое. И может быть, вы умеете складывать два и два — и когда сложите, сообразите, что вам делать дальше. Только не вздыхайте и не делайте вида, что вам плохо. Вы меня внимательно слушаете?
Алмазов говорил с легким южным акцентом — нет, не одесским, а скорее ставропольским или ростовским. Конечно же, он не из Москвы, думала Лидочка, он приехал, чтобы завоевывать мир, — он Растиньяк, он покровительствует актерам или актрисам. Лидочка поглядела на профессора, тот сидел, прикрыв веками глаза, и был недвижен, даже не дышал, но пальцы, лежавшие на пледе, порой оживали и вздрагивали.
— Я буду предельно откровенен. Я приехал сюда для переговоров деликатного свойства с доктором Шавло, Матвеем Ипполитовичем. Суть этого разговора — обороноспособность нашей социалистической родины. Матвей Ипполитович был готов приложить свои усилия для того, чтобы Советский Союз вышел вперед в развитии особенной бомбы. Я думаю, вам, Павел Андреевич, нет нужды это объяснять.
— Такую бомбу сделать нельзя, — сказал Александрийский, не открывая глаз. — Это вздор, авантюра… вы лучше бы посоветовались с серьезными учеными.
— Так, значит, Шавло беседовал с вами об этом?
— А разве я спорю с этим заявлением? Он говорил, и я осмеял его.
— Я спрошу об этом его самого.
— Спросите.
Алмазов ходил по комнате — у него были замечательно начищенные сапоги, сверкающие сапоги, — и вдруг Лидочка поняла, что сапоги ему чистит Альбина. Ночью он спит — большой, мускулистый, крепкий, громко храпящий… а она чистит сапоги.
— В отличие от вас у меня такое мнение, — сказал Алмазов, — что любое оружие, которое может принести нам пользу, нужно испытать. Любое! И мы знаем о том, что среди ученых еще есть некоторые сторонники реставрации монархии и скрытые реакционеры. А также прямые враги!
Алмазов остановился посреди комнаты. Лидочке показалось, что он любуется своим отражением в сапогах. Он несколько раз качнулся с носков на пятки и обратно.
— В разгар переговоров товарищ Шавло, честный ученый и коммунист, исчез. Вот так…
Алмазов хотел, чтобы его голос прозвучал тревожно, но он был плохим актером.
— А что за спектакль вы устроили? — спросил профессор. — Зачем вы вытащили из постели больную женщину?
— Потому что вы с ней подозреваетесь в похищении или убийстве Шавло.
— Этого еще не хватало!
— Все следы ведут к вам, — сказал Алмазов. — Я уж не говорю о похищении револьвера.
Лидочка кинула взгляд на профессора. Может быть, он вернет Алмазову этот проклятый револьвер? И тут же спохватилась, даже отвернулась к стене, чтобы Алмазов случайно не прочел ее мысль: признаться в обладании револьвером для профессора было все равно что признаться в заговоре, Алмазову только этого и надо — револьвер утащила диверсантка Иваницкая, а нашелся он у вредителя Александрийского. Обоих к стенке!
— Вчера вечером Матвей Ипполитович сам сказал мне, что вы его преследуете клеветническими обвинениями, — продолжал Алмазов, не дождавшись признания.
— Какими?
— Вот это вы мне и скажете!
С трудом, опираясь на ручку кресла, Александрийский поднялся.
— А с чего вы решили, милостивый государь, — спросил он, — что доктор Шавло убит? Да еще нами?
— Потому что никто, кроме вас, в этом не заинтересован.
— Ваш Шавло уже добежал до Москвы, — сказал Александрийский.
— Почему вы думаете, что Шавло убежал? — Алмазов был искренне удивлен.
— Потому что он убил Полину, — сказал Александрийский.
Лидочка не думала, что профессор способен на такое. Ведь это донос! Неужели его желание обезвредить Матю столь велико, что он предпочел забыть о чести? И тут она поняла: ведь Матя и чекист заодно! Обвиняя Матю, он выбивал почву из-под ног обвинения.
— Какую еще Полину? — поморщился Алмазов. — Она же уехала. Я сам читал ее записку.
— И проверили ее почерк?
— Зачем?
— Это почерк Шавло, — сказала Лидочка. Хоть фигуры в этой комнате играли непривычные для классического детектива роли, все же шло раскрытие преступления — как у Конан Дойля.
— Зачем Шавло убивать какую-то официантку?
— Вы знаете зачем. Она его шантажировала.
— Доказательства! — У Алмазова дрогнули уши.
— Пускай он сам все это расскажет, — вздохнул Александрийский. — Я искренне сожалею, что мне пришлось принять в этом участие.
— Я знаю, где он спрятал тело Полины, — сказала Лида.
— Это уже становится интересным. Где же?
— Сначала он спрятал ее в моей комнате.
— Не сходите с ума.
— Потом в погребе… снаружи по дороге к тригонометрическому знаку.
— Что вы несете?!
— Я ее там нашла.
— Как?
— Потому что у него ботинки были в желтой глине.
— Как у вас?
— У меня? Когда?
— Вы вчера пришли вся промокшая на маскарад, а ноги в желтой глине.
— Да. Я лазила в погреб, там был труп Полины. Потом он его унес.
— Куда?
— В пруд.
— В пруд? Мне что, бригаду водолазов надо вызывать, чтобы проверить ваши глупости?
— А я вам покажу труп!
— Лида! — крикнул Александрийский.
— Да, я покажу, куда он ее спрятал. А потом у него не выдержали нервы, и он убежал.
— А револьвер?
— Не брала я ваш револьвер! Неужели вы верите, что я пришла к вам в комнату и угрожала Альбине? Вы сами в это верите?
— Я верю во что угодно. Пошли!
— Сейчас?
— А почему мы должны терять время? Немедленно.
Алмазов шагнул к двери, толчком открыл ее — президент отпрыгнул в сторону, Лариса Михайловна стояла поодаль.
— Быстро, — приказал Алмазов президенту. — Любое теплое пальто! Я там видел на одной гражданке бурки — она в библиотеке сидит. На полчаса. От моего имени; а она пускай почитает газеты, очень полезно.
Президента как ветром сдуло.
— Вы намерены идти на улицу? — спросила Лариса Михайловна.
— А вы тоже бегите одевайтесь, вы нам можете понадобиться. Быстро. Ну вот, — Алмазов улыбнулся, — бегать они уже научились — все-таки пятнадцать лет дрессировки.
— Почти все дрессировщики плохо кончают, — сказал профессор.
— Помолчите, пророк! — отмахнулся Алмазов. — А вы, Иваницкая, расскажите, как вы узнали о смерти Полины.
Прежде чем Лида успела уложиться со своим рассказом, прибежал президент с лисьей шубой и бурками — такой шубы Лида раньше даже не видела. Затем вернулась Лариса Михайловна. Чтобы не привлекать внимания, Алмазов велел президенту открыть заднюю дверь. Но их все равно увидели, к окнам приклеились десятки лиц. Среди них наверняка и владелица шубы. Бедненькая, что у нее в душе творится!
Вся группа остановилась возле погреба. С утра дождь перестал, хотя было по-прежнему пасмурно и дул ветер. Блин желтой глины был гладок. Все следы затянуло.
Алмазов сам залезал в погреб, потом гонял президента за переносным фонарем. Лидочка впервые увидела погреб при свете. В грязной стоячей воде утонул широкий, разношенный туфель Полины. Алмазов велел Ванечке нести туфель с собой, и тот нес его брезгливо, обернув каблук в сомнительной свежести носовой платок. Потом Ванечка вытащил баул, наполовину наполненный мокрой одеждой. Лидочку знобило, но было терпимо, только хотелось отдохнуть.
Процессия спустилась к пруду.
— Вот здесь он ее нес, — сказала Лидочка. Алмазову не надо было показывать на желтое пятно на дорожке.
— И где же труп? — спросил Алмазов, когда они дошли до берега пруда. Здесь он задавал вопросы, и все беспрекословно подчинялись. Даже Александрийский, который шел, опираясь на руку Ларисы Михайловны. Когда останавливались, она мерила ему пульс и один раз дала пилюлю.
— Да перестаньте с ним нянчиться! — вырвалось у Алмазова. — Он здоровей нас с вами.
— К сожалению, даже вы никогда не сможете убедить меня или другого честного врача в состоянии сердца Павла Андреевича, — сказала отважная Лариса Михайловна. Алмазов сардонически усмехнулся.
На плотине Алмазов вышел вперед. Как пес, почуявший дичь, он махнул рукой, приказывая остальным отстать.
— Здесь, — сказал он вдруг, отыскав глазами Лидочку. Он как бы назначил ее помощником по следствию. Лидочка молча кивнула.
— Значит, он приволок ее сюда… — Алмазов велел всем оставаться на месте и сам вышел на плотину, глядя по сторонам. — Вот он присел — еще одна царапина на земле — еще желтое пятно… — Алмазов пошел быстрее, как по следу, потом остановился… Он уже был совсем близок к колодцу, в который со всех сторон круговым водопадиком стекала вода.
Две утки, что остались зимовать на пруду, подплыли к Алмазову, уверенные, что он принес им гостинец.
— Здесь, — сказал Алмазов, показав на пруд. — Надо пройти сетью. Филиппов — на полусогнутых, быстро! За сетью!
— Почему здесь? — спросила Лида.
С ней Алмазов был согласен разговаривать.
— Видишь, какие глубокие следы, их даже размыть не смогло. Он сюда ее тащил, вон трава как смята — это же элементарно.
— Нет, — сказал Ванечка-рабфаковец, — тут мелко.
— Зачем же ему было тащить труп сюда, — сказала Лида, — если у ближнего берега глубже?
— Справедливо, — сказал Алмазов.
— Мне бежать или погодить? — спросил Филиппов.
— Погоди.
Алмазов метался по берегу, как собака, потерявшая след. Он понимал, что решение близко, что надо сделать еще усилие…
— Стоп! — закричал он радостно. Так, наверное, кричал Ньютон в яблоневом саду. — Ну и дурачье! Ведь никогда бы не нашли! Филиппов, нужны две доски покрепче. Две, понял?
— А там есть, — сказала Лидочка, — вон плавают.
— Отставить две доски! Одну доску и крючья — крепкие крючья.
— С какой целью, товарищ Алмазов?
— С целью вытащить труп из этого колодца. И учти, что труп может лежать довольно глубоко. Если крючьев не найдешь, будь готов, что тебя опустят в колодец на веревке. Понял?
Президент съежился, представив себе, что будет, если его опустят в колодец. И побежал.
— И он послушно в путь потек, — осклабился Алмазов, — и утром возвратился с ядом.
Президента не было долго — минут пятнадцать. Все замерзли, кроме Лидочки, у которой была замечательная лисья шубка. Алмазов не спеша осматривал местность, порой нагибался, искал в мокрых листьях…
— Дурак, — сказал он вдруг. — Дурак, если решил ее убить. Мы бы ему все простили… за бомбу. Любую биографию бы ему сделали. Вы мне верите, профессор?
— Верю, — сказал Александрийский. — Но и для вас есть пределы, за которые вы не станете заходить. Зачем вам рисковать ради абстрактной бомбы собственной жизнью?
— Что меня могло остановить? Поезд Троцкого? Он бы еще глубже сидел на крючке.
— До поры до времени, — туманно ответил профессор. Издали Лидочка увидела женскую фигурку, что приближалась от купальни. По беличьей шубке и шляпке с узкими полями Лидочка узнала Альбину. Альбина вроде бы гуляла, никуда не спешила. Лидочка несколько раз поглядывала в ее направлении, прежде чем Альбина вышла на плотину.
— А что вы делаете? — спросила она растерянно. Будто бы они собирали землянику и она знала, что они собирали землянику, но из вежливости спросила, не малину ли они собирают.
— Сейчас труп будем вытаскивать, — сказал Алмазов. — А ты зачем выбралась из дома?
— Погулять, — сказала она. — Мне надо гулять, я совсем скисла без свежего воздуха.
Лидочка не сердилась на Альбину — она чувствовала вину перед ней.
— А вот Лидия отрицает похищение моего личного оружия, — сказал Алмазов.
— Отрицает? — удивилась Альбина. — Значит, она права.
— Ты мне ваньку не валяй, — рассердился Алмазов, — а то сейчас в пруду искупаешься.
— Смешно, — сказала Альбина, но не засмеялась. Алмазов хотел еще что-то сказать, но тут увидел бегущего с горы президента, а с ним двоих мужчин — шофера и директора санатория — с крюком и с веревками. И об Альбине забыли.
Когда для совершения действия, требующего участия двух-трех человек, собирается полдюжины, они неизбежно начинают мешать друг другу, возникает лишняя суматоха, поднимается крик, и работа исполняется куда медленнее, чем хотелось бы ее руководителю.
Пока стоял крик, все махали руками и поочередно проваливались в тину. Александрийский отошел в сторону и поманил Лидочку.
— Вы плохо себя чувствуете? — спросила Лида, увидев, насколько бледен профессор. Видно, ее возглас долетел до докторши — та мгновенно оказалась рядом.
— Я вам помогу дойти до санатория, — сказала Лариса Михайловна. — Это безумие — с вашей болезнью здесь находиться.
— Не беспокойтесь, я себя отлично чувствую, — ответил профессор сварливым голосом. И отвернулся от доброй Ларисы Михайловны.
Подчиняясь мановению руки, Лидочка приблизилась к Александрийскому.
— Мне так страшно, — сказала Лидочка.
— Не это сейчас главное, — отмахнулся профессор. — Главное — ни за что, никогда, даже во сне не признавайтесь, что вы прикасались к револьверу Алмазова.
— Я понимаю.
— Дело не во мне, не в справедливости, не в законе — даже если вы останетесь живы, он найдет способ отправить вас на всю жизнь за решетку. Единственная надежда — полное незнание!
— Дайте его мне, и я незаметно подкину его Алмазову.
— Глупости!
— Я потеряю его в парке.
— Вы! Его! Не видели! Никогда в жизни! — Последние слова прозвучали так громко, что Лидочка обернулась, опасаясь, что Алмазов услышал. Но тот был занят.
Суматоха завершилась тем, что с берега к колодцу были положены доски и в колодец спустили веревку с толстым, взятым из весовой крюком на конце. Нагнувшийся над люком директор водил веревкой, стараясь зацепить то, что лежало глубоко в колодце. Это ему не удавалось, и его сменил Ванюша из рабфака. Вскоре раздался его торжествующий крик, веревка натянулась — все стали тянуть ее.
Президент Филиппов завопил:
— Идет, идет, приближается!
Лидочка зажмурилась — она подумала, что не вынесет нового лицезрения несчастной Полины.
Крики стихли. Затем послышались удивленные возгласы.
— Это еще кто? — спросил Филиппов.
— Не узнал, что ли? — сказал Алмазов.
— Да разве узнаешь…
Лидочка открыла глаза.
Президент и Ванюша уже вытащили и волокли по воде к берегу тело Матвея Шавло, доктора физических наук, любимого ученика Энрико Ферми, снабженное широкой соломенной маскарадной бородой, а потому не сразу узнанное.
Его волокли к берегу, и все молчали, потому что первым должен был заговорить Алмазов. Но Алмазов тоже молчал.
«Нет! — чуть не закричала Лидочка. — Этого не может быть! Там должна быть Полина, и мне ее не жалко. А Матю мне жалко!»
Доска от многих подошв стала осклизлой, шаталась и сбросила на полпути людей — с шумом, плеском и ругательствами они свалились по колени, а то и глубже в тину, труп медленно поплыл в глубину, и Алмазов завопил, чтобы его не упустили. Лидочка не стала смотреть, как ловят Матю, — она все равно еще не верила в то, что видит Матю, а не какую-то куклу, нарочно загримированную под Матю.
Альбина стояла неподалеку, но смотрела в другую сторону, на средний пруд, на купальню, будто гуляла по пустому парку.
Лиде был виден и Александрийский. Он глядел на то, что происходило у колодца. И вдруг пошатнулся. Ладонь его поднялась, легла на сердце — будто его ударили в сердце.
Лидочка обернулась — что он увидел?
Матя лежал на берегу — только ноги в воде.
А на доске, что соединяла колодец с берегом, остался человек — это был санаторский шофер. Он стоял на коленях, наклонившись вперед и погрузив в пруд руку. Почти по плечо, даже не засучив рукава.
— Эй, начальник! — крикнул он. — Гляди, что я нашел!
Он выпрямился, все еще стоя на коленях, и показал Алмазову, что поднял со дна пруда, — что-то черное, блестящее… револьвер!
Алмазов сделал два шага к воде, протянул руку и принял револьвер. Потом отыскал глазами Альбину, стоявшую неподалеку и равнодушно глядевшую на тело Мати Шавло.
— Вытри, — сказал он ей. — У тебя платок есть?
Альбина подошла к револьверу, приняла его из руки Алмазова.
— Можно я вытру? — спросил президент. — У меня платок чистый.
— Она это лучше сделает, — сказал Алмазов.
Лидочка поняла, что он не хочет, чтобы президент или кто еще из посторонних увидел, что это его револьвер.
Сам же Алмазов присел на корточки, повернул голову Мати, и Лидочка увидела за ухом в щетине коротких волос черную дырку. Туда ударила пуля, она разбила кость и убила человека. А потом его притащили сюда и кинули в колодец…
Все, что она наблюдала с того момента, как из колодца вытащили мертвого Матю, было кошмаром, которому нельзя верить, ни в коем случае нельзя, потому что сейчас Матя поднимется и скажет: «Ну как, славно я пошутил? У нас в Риме и получше шутки выделывали», — и засмеется.
Лидочка старалась поймать взгляд Александрийского, но тот был погружен в свои мысли. Он неотрывно смотрел на длинное и какое-то очень плоское тело Мати, ступнями оставшееся в воде, так что из воды торчали лишь наглые и уверенные в себе носки иностранных ботинок на каучуковой подошве, как автомобильная шина. Легче было смотреть на ботинки — а на лицо смотреть было невозможно. Потому что лицо было совершенно мертвым. И оно не имело отношения к Мате, а было лицом трупа Матвея Ипполитовича Шавло.
Вытащив из кармана Мати бумажник, Алмазов отошел повыше, к скамейке.
— А вы садитесь, — сказал он неожиданно. Его слова относились к профессору и Лидочке. — Вы у меня больные, немощные, в ногах правды нет. Садитесь, садитесь…
И что удивительно — Александрийский и Лидочка, как бы находившиеся по иную сторону стекла, нежели остальные, пошли к лавочке, и Лидочка была рада, что сможет сесть, — ее только беспокоило, что лавочка мокрая, а лисья шуба чужая, но ведь, если Алмазов приказывает, это как бы приказ правительства. И нельзя ослушаться.
Дождавшись, пока они уселись, Алмазов встал чуть в стороне от скамейки, так что теперь он образовывал собой вершину правильного треугольника — двумя другими вершинами были скамейка с обвиняемыми и тело Мати.
Остальные были публикой, зрителями, и потому они образовали небольшую стенку напротив Алмазова. Алмазов оглядел стенку, и она ему не понравилась.
— Ванечка, — сказал он, — отведи пока мужиков к купальне. И там с ними останься. Тебя, Филиппов, это тоже касается.
После ухода лишних свидетелей в зрительном зале остались лишь Лариса Михайловна и несколько в стороне — Альбина, которая осторожно и тщательно протирала своим широким шерстяным шарфом мокрый грязный наган с дарственной табличкой Дзержинского.
— А теперь можно поговорить по существу, — сказал Алмазов, начиная процесс. — Вы будете сознаваться или будете упорствовать?
Ответа не последовало.
— Положение изменилось. — Теперь Алмазов нахмурился. Он сознавал серьезность момента. — Час назад я излагал вам, граждане, мои теоретические соображения. Теперь же перед нами есть вещественное доказательство — труп молодого ученого, который стремился быть полезным для нашей страны. Ученого, убитого вами. Вам понятно?
Так как вопрос был обращен к Лидочке, она не удержалась от ответа.
— Как же так, — сказала она, — здесь же Полина должна быть.
— Как видите, вам не удалось запутать следствие и сбить его с правильного пути, придумав какую-то мифическую Полину. А вместо Полины, как я и предвидел с самого начала, — перед нами Матвей Шавло. Что вы на это скажете?
— Честное слово, я ничего не понимаю, — сказала Лидочка.
— А вы?
— Я тоже не понимаю, — сказал профессор.
— Хотите, я расскажу вам, как было совершено преступление? — спросил Алмазов. Никто ему не ответил. Тогда он продолжал: — Я не знаю точно, когда было замыслено это страшное преступление. — Алмазов словно репетировал свой выход в роли общественного обвинителя. — Но мы можем отсчитывать его мгновения с того момента, когда, зная о слабости и душевном состоянии находящейся здесь Альбины, гражданка Иваницкая проникла ко мне в комнату и смогла похитить оружие для выполнения террористического акта.
Лариса Михайловна непроизвольно сделала шаг к револьверу, как бы желая убедиться, что ей говорят правду.
Алмазов остановил ее коротким рубящим жестом и продолжал:
— Когда все было подготовлено, Иваницкая, пользуясь своей красотой, выманила товарища Шавло в темный парк, к погребу, и там, выстрелив из пистолета, совершила кровавое злодеяние. Затем она спрятала тело в погребе, и, как только подошел ее наставник и учитель, заматеревший в подобных злодеяниях враг нашего народа Александрийский, они отнесли тело Шавло к этому колодцу, полагая, что никто и никогда не сможет их заподозрить и отыскать труп.
— А зачем? — спросил Александрийский, который был совершенно спокоен. — Зачем нам это делать?
— В этом разберется суд, — сказал Алмазов. — Я же могу только высказать мое предположение. — Он подошел к скамейке, на которой сидели обвиняемые, и навис над ними, по своей привычке раскачиваясь: носки-каблуки, носки-каблуки, носки-каблуки… — Мое предположение заключается в том, что рука убийц направлялась из-за рубежа фашистским центром. Цель ваша ясна — обезоружить государство рабочих и крестьян в сложной международной обстановке.
Странно, подумала Лидочка, он говорит не человеческим, а каким-то особенным окологазетным языком. Он, наверное, этого не чувствует. Он просто не умеет выражать по-русски определенного рода мысли.
— А как мы его несли? — спросил Александрийский.
— Кого?
— Как мы несли Шавло до пруда?
— Ручками, — ответил Алмазов, — своими холеными ручками.
— Но мне же нельзя даже ста граммов поднять, — сказал профессор.
— Это все мимикрия врага — сам небось поднимаешь гири, тренируешься!
— Я могу свидетельствовать, — вмешалась Лариса Михайловна, — я, как врач, утверждаю…
— Помолчи, врач! — В последнее слово Алмазов вложил все свое отношение к Ларисе Михайловне. — Там будет экспертиза работать. Судебная. Ее не купишь.
Алмазова что-то смущало, его самого, видно, не удовлетворяла построенная им стройная схема. И от этого он раздражался.
— К тому же, — сказал он, — мне пришлось наблюдать вчера Иваницкую, когда она вернулась с улицы после совершения террористического акта. Вы бы посмотрели — в глине по пояс, мокрая, как драная кошка, — страшно смотреть. Разве так с прогулки возвращаются?
— Это физически невозможно, — убежденно повторил профессор. — В Мате килограммов сто.
— Доволокла бы, — сказал Алмазов. — И на следствии она в этом сознается. — Алмазов вдруг улыбнулся: — А не исключено, что у вас были сообщники. Как вы посмотрите, если вам помогала местная докторша, Лариса Михайловна Будникова?
Лариса Михайловна начала отступать.
— Вы шутите, вы шутите, да? — повторяла она тупо — она была так напугана, что попыталась бежать, но остановилась, добежав до края плотины, и медленно, как на плаху, пошла обратно.
Алмазов не стал ждать, пока Лариса Михайловна вернется.
— Вопросы есть? — спросил он.
— Глупо, — сказал Александрийский. — Все это глупо, неправда и придумано вами.
— А у меня есть свидетели, — сказал Алмазов. — Вы забыли. У меня не только миллион улик, у меня не только ваши завтрашние признания, у меня есть Альбиночка. Альбиночка, скажи дяде, ты видела, как Лидочка Иваницкая выкрала мой револьвер? Ну, скажи, киска.
— Да, — сказала Альбина, глаза ее, несчастные и слишком большие, казались почти черными. — Я скажу…
Дальнейшее произошло так быстро и обыкновенно, что никто даже не двинулся с места.
Она подняла руку с револьвером, который так и не успела толком вытереть, и начала стрелять из него в Алмазова. Она сделала это так неожиданно, не предупредив никого, не сказав каких-то нужных слов, которые положено говорить убийце. Только Алмазов за какую-то долю секунды догадался, что сейчас произойдет, и догадался, что его убьют, потому что он жалобно попросил:
— Не надо!
Он не приказывал, он просил: «Не надо». И тут же начал падать. Так что Альбина успела выстрелить только три или четыре раза, а потом он уже лежал — голова к голове с Матей Шавло.
Издали, от купальни, мчались Ванюша-рабфаковец и другие мужчины. Впереди всех — президент.
Президент хотел добежать до Альбины, но, прежде чем он добежал, Альбина успела сказать то, чего никто, кроме профессора и Лидочки, не услышал.
— До свидания, — сказала она, — ты хорошая, Лидочка, мне очень жаль. Но я тебе немножко помогу… Ты же знаешь, что они убили моего Георгия.
Она не ждала ответа, она была погружена в себя, в свои последние секунды, когда надо сделать так, чтобы наладить порядок в том мире, в котором тебя уже никогда не будет.
— Ты хорошая, — сказала она и подняла револьвер. Президент остановился. Альбина повысила голос, и люди, что подбегали к ним, тоже услышали, что она говорила: — Это ошибка! Матвея Шавло тоже убила я! Матвея Шавло мы убили вместе с Алмазовым! И притащили его сюда. Вы меня слышите? Алмазов хотел стать фашистом, но Шавло сказал, что донесет, честное слово!
Ванюша, добежавший первым, кинулся было к Альбине, как лев в прыжке, но Альбина выстрелила в него, промахнулась и неловко, обернув пистолет против своего лица, выстрелила себе в глаз и успела еще выбросить пистолет и схватиться, падая, за глаз… и сквозь пальцы хлынула черная кровь…
Хоть дорога до Москвы была совершенно непроезжей, несколько машин примчались в Узкое уже через два часа. Правда, Лидочка этого вторжения не видела. Она лежала в боксе, и температура у нее была тридцать девять и пять. В тот день Лариса Михайловна не разрешила следователям с ней говорить, и главный следователь Шехтель оказался настолько разумен или гуманен, что Лидочку допрашивал лишь на третий день, а за это время уже успела устояться версия случившегося, и об этой версии Лидочка знала — на то была Лариса, негодяй Филиппов, перепуганный больше всех, и, уж конечно, Марта, для которой события в Санузии стали замечательным, на всю жизнь, приключением и которая, что самое радостное и удивительное, сумела уложить в постель самого следователя Шехтеля, а тот оказался изумительным, неутомимым и очень грубым мужчиной.
Следователь Шехтель и его группа пришли к выводу, что ответственный сотрудник ОГПУ Ян Янович Алмазов превысил свои полномочия и использовал служебное положение в корыстных целях, для чего привез с собой в санаторий Академии наук жену врага народа, расстрелянного месяц назад Георгия Лордкипанидзе. Не сговорившись со своим сообщником Шавло Матвеем Ипполитовичем, связанным с некоторыми кругами в фашистской Италии, Я.Я. Алмазов убил его, втянув в это дело Альбину Смирнову-Лордкипанидзе, и пытался затем обвинить в этом преступлении заслуженного деятеля науки, профессора, члена-корреспондента Академии наук СССР тов. Александрийского П.А., а также научно-технического сотрудника Института лугов и пастбищ Иваницкую Л.К. Однако в случившемся после этого конфликте Я.Я. Алмазов был убит его невольной сообщницей А. Смирновой, которая после этого покончила с собой. Все лица, в той или иной степени замешанные в этих событиях, были приглашены дать подписку о неразглашении обстоятельств дела, относящегося к категории государственных преступлений. Принимая во внимание то, что все участники этого дела, как преступники, так и пострадавшие, погибли насильственным путем, признано целесообразным дело закрыть и обстоятельства его не предавать огласке.
Дождь прекратился буквально на следующий день, но Лидочка вновь начала воспринимать красоты природы только дня через четыре, когда впервые спустилась в столовую и президент Филиппов при виде ее закричал:
— Третье опоздание, третье опоздание! Вы что, гонга не слышите, отдыхающая Иваницкая! От имени совета нашей республики я объявляю вам строгий выговор.
Все стали аплодировать и кричать:
— Браво, президент, браво!
И Ванюша, которого оцарапало пулей Альбины и на ухо которого был налеплен пластырь, тоже аплодировал.
На Лидочку многие смотрели с интересом, потому что, конечно, знали, что она каким-то образом связана с таинственными и не очень понятными событиями, приведшими к нескольким смертям в санатории. Но говорить об этом было не принято. Единственное, что напоминало о событии, — решение президента Филиппова до конца той смены отменить запланированные танцы и игры.
А еще через два дня дорога подсохла настолько, что из Академии за Александрийским, которому надо было снова ложиться в больницу, прислали автомобиль, и Павел Андреевич предложил Лидочке, если ей не жаль покинуть Узкое на два дня раньше срока, поехать в Москву вместе с ним.
Поездка была медленной — пожилой шофер ехал осторожно.
До этого Лидочка с Павлом Андреевичем, разумеется, разговаривали, но не выходили на дождь и старались, чтобы их не видели вместе: санаторий кишел чекистами.
— Павел Андреевич, — сказала Лидочка, — нам скоро расставаться. А я так ничего и не знаю.
Александрийский начал крутить ручку, и перед ними поднялось большое стекло, которое отделило их от шофера.
— Люди, которые ездят в таких машинах, имеют секреты от шоферов, — сказал он.
Он обернулся к Лидочке. В машине было полутемно. Александрийский снял шляпу и снова стал похож на Вольтера.
— Вас что-то интересовало, Лидочка?
— Я ничего не поняла.
— Неужели было что-то непонятное в этой истории?
— Было.
— Тогда спрашивайте.
— В колодце должна была быть Полина. Ее притащил туда Шавло.
— Вы так думаете?
— Павел Андреевич, умоляю!
— Я полагаю, что она и сейчас там лежит, — сказал профессор.
— Вы с ума сошли! Я же видела… ну, что я говорю… ну там же Матя!
— И Полина. Ее не нашли, потому что ее там никто не искал.
— Ну объясните!
— Полина лежала снизу, под Матей. Его зацепили крюком и вытащили… А кому придет в голову снова лезть в колодец и искать там второй труп? Да и всем там было не до поисков трупа.
— А вы знали, что там лежит Полина?
— Разумеется.
— И что теперь будет?
— Я думаю, что ее достанут и похоронят. Уезжая, я оставил директору письмо, в котором предложил еще раз осмотреть колодец.
— Они сочтут это шуткой.
— Надеюсь, что не сочтут…
Машина свернула на Калужское шоссе. По небу плыли быстрые сизые облака, у палисадников сидели на лавках женщины и торговали яблоками и картошкой.
— Но кто тогда мог убить и притащить туда Матю? Неужели в самом деле Алмазов?
— Я, — сказал Александрийский.
— Вы? Вы его убили? Вы способны убить человека?
— Любой способен убить человека, если для этого не требуется подходить к нему вплотную и душить его.
— Но вы же не могли его тащить! Вам же нельзя!
— А я и не тащил его, — сказал Александрийский. Он провел ладонью по стеклу, словно проверяя, надежно ли оно прилегает к спинке сиденья. — Мне вредно. — Он улыбнулся.
— Вы не шутите?
— Я стоял у погреба и ждал вас. Было уже около семи, я совсем замерз и начал даже на вас сердиться. Куда вы пропали? Там маскарад, а вдруг эта мерзкая девчонка совсем обо мне забыла? И тут я увидел, как дверь из кухни отворилась и оттуда вышел Матя Шавло. Он быстро дошел до погреба и нырнул внутрь. Тут я, конечно же, забыл о холоде — моя версия оказалась правильной. Этот человек — убийца. Моей первой реакцией было удовлетворение. Ага, попался, голубчик! Теперь Алмазов не посмеет с тобой якшаться. Стоит только мне сообщить куда следует, Алмазов откажется тебя знать…
Вскоре Матя выволок из погреба тело Полины и поволок к пруду, не скрываясь, потому что он спешил, и производил столько шума, что услышать меня никак не мог. И чем я дальше следовал за ним, тем более меня охватывали сомнения. Почему я так уверен в том, что большевики с отвращением выкинут убийцу из своих рядов? Да они схватятся за него обеими руками! Им он куда важнее грязный, гадкий, вонючий — такой он послушнее у них в руках. И вдруг я понял, что, разоблачая Матю, я только помогаю ему и большевикам. Но что делать? Промолчать — и дать возможность Мате и Алмазову делать свои карьеры? Получать Ленинские премии?
Александрийский перевел дух и продолжал:
— Тем временем Матя дотащил труп Полины до пруда и остановился. Я смотрел и думал — ну, что он сейчас будет делать? Привяжет к телу груз — и в воду? Но вокруг не было ни одного камня или железки — Матя рыскал взором по лесу, — я как бы стал его сообщником и понимал, как велико его отчаяние. Ведь если труп бросить в пруд, он всплывет, а этого Матя боялся… И тут он увидел этот колодец. И сообразил то, о чем догадались потом и вы. Он потащил труп по плотине, а я, почти не скрываясь, последовал за ним, потому что к тому мгновению я пришел к выводу, что буду вынужден убить Матвея Ипполитовича Шавло, талантливого физика и крепкого молодого человека, потому что иначе я не могу его остановить и избавить от страшных последствий всех людей на Земле. Если у большевиков будет ядерная бомба, они покорят весь мир! К тому же я не видел другого способа наказать человека, убившего беззащитную женщину… убившего ее дважды — первый раз изнасиловав ее, когда она была девочкой, а второй раз — сегодня. — Александрийский сглотнул слюну и замолчал. Лидочка тоже молчала. — Он отыскал какую-то доску и сам, провалившись чуть ли не по пояс в воду, страшно ругаясь — я никогда не подозревал, что Матвей Ипполитович может так ругаться, — страшно ругаясь, дотащил тело Полины до колодца и, встав на край колодца, стал перетаскивать труп через край, чтобы кинуть внутрь.
И вот тогда, слушая эти ругательства и видя нелепую фигуру этого чужого мне человека, который, надрываясь и пыхтя, склонился над колодцем, я понял, что у меня есть выход. И единственный выход. Я достал револьвер, который взял с собой, потому что намеревался вернуть его вам для передачи Альбине, и в тот момент, когда тело Полины ухнуло в колодец, а Матя, стоя на краю колодца, склонился, как бы стараясь разглядеть результаты своего труда, я выстрелил в него — когда-то я хорошо стрелял. Он так и не узнал, что он умер. Он, видно, чувствовал облегчение, что отделался от Полины, и с этим счастливым чувством умер…
Внутренним взором Лидочка увидела эту сцену — она же была там сразу после смерти Мати. А вдруг Матя умер не сразу — он мучился, умирая в этом страшном колодце, лежа на холодном трупе Полины…
— Вы меня ненавидите? — спросил Александрийский.
— Нет, — сказала Лидочка. — Я не могу осуждать ни вас, ни Альбину…
— Ни самого Матю?
— Я никогда не думала, что так устану за эти дни отдыха.
— Ну ладно, не надо говорить, если не хочется, — согласился профессор. — Можно я доскажу вам, чем все кончилось? Или не хотите?
— Доскажите.
— Он без звука упал — и исчез в колодце. Я даже не надеялся, что получится так ловко. Вы не представляете, как все было фантастично! Только что передо мной пыхтел, шумел, двигался большой человек — и вдруг тихо-тихо… И будто никого не было. Я кинул в колодец револьвер, но он не долетел и упал в воду. Я не мог идти в воду и достать его — тогда было бы трупом больше. Так что мне оставалось лишь молиться, чтобы револьвер засосало в тину.
— Но его нашли.
— Нам повезло — если бы не Альбина, мы бы уже были в тюрьме. Но вы не переживайте. Я бы всю вину взял на себя. Вам ничего не грозило.
— Наивно! — сказала Лидочка. — Неужели вы думаете, что Алмазов отпустил бы меня? Он бы и Ларису Михайловну посадил, и уж наверняка — Альбину.
— Странная женщина, — сказал Александрийский. — Зачем она в него стреляла? Зачем ей было нас спасать?
— Кто-то должен спасать, а кто-то губить.
— Почти Экклезиаст? Будем видеть в ней провидение, которое избавило нас от гибели.
— Он убил ее мужа, — сказала Лидочка. — Сначала сказал, что она должна… отслужить и купить его жизнь… а потом убил мужа. И она знала об этом. Она мстила ему.
— Ужасно, — сказал профессор, — значит, Алмазов получил по заслугам?
Машина набирала скорость. Близилась Москва — уже появились встречные автомобили.
Если сейчас не сказать, то не скажешь никогда. Лидочка открыла уже рот, чтобы объяснить профессору то, чего он не хотел понимать. Что каждый из нас может брать на себя право распоряжаться лишь собственной судьбой. Взяв на себя право судить и убивать, милейший профессор заодно приговорил к смерти и Альбину, которой Алмазов не простил бы пропажи револьвера, и Лидочку, которая была в этом обвинена, и, вернее всего, докторшу Ларису Михайловну, которая осмелилась защитить профессора и Лидочку. А может быть, и всех обитателей Санузии, включая астронома Глазенапа и академика Николая Вавилова… впрочем, нет, академиков у нас все же не убивают, Вавилову ничего не грозит.
Но Лидочка не успела ничего сказать. Александрийский постучал в стекло. Шофер остановил машину. Александрийский опустил стекло, достал деньги и велел шоферу купить букет астр, что стоял в банке рядом с женщиной, сидевшей на скамейке у своего палисадника. Шофер открыл заднюю дверцу, передавая букет.
— Это вам, — сказал Александрийский. — Я надеюсь, что вы навестите меня в больнице, куда я отправляюсь без особых надежд на выздоровление.
Букет пахнул дождем и горечью осеннего сада. Александрийский дал ей свою визитную карточку с золотым обрезом.
Лидочка сошла на Октябрьской площади — отсюда ей на «семерке» было недалеко до дома.
Лидочка подождала, пока машина уедет, потом подошла к урне, она хотела выкинуть букет.
Пьяный человек в заячьем треухе, слипшемся от дождя, сказал:
— А букет-то разве виноватый? Лучше мне отдай. Пропью.
Он весело засмеялся. Лидочка отдала ему букет. Тут подошел трамвай.
Лидочка не навестила Александрийского в больнице. Но знала, что он жив, — к Новому году в «Правде» она прочла о награждении ряда выдающихся ученых. В том числе и П.А. Александрийского — недавно учрежденным орденом Ленина.
Черные фигурки и осколки так и остались лежать в мешочке. Правда, медальон с изображением восточной красавицы Лидочка раза два надевала. Однажды он зацепился за шпильку, и кусочек черной краски на рамочке отлетел. Под краской оказалось золото. Лидочка соскребла краску с рамки — вся рамка была золотой. Золотыми оказались и черные фигурки — значит, кто-то когда-то не хотел, чтобы догадались об истинной цене этих вещей. Лидочка тоже не хотела знать об их цене. Она спрятала их в мешочек и больше не надевала медальон. У нее оставалось странное чувство, что она — не более как временный хранитель этих вещей и за ними придет их настоящий хозяин.
Как-то на улице она встретила Марту. Та сказала, что президента Филиппова арестовали, а Лариса Михайловна по-прежнему работает в Узком. Больше ничего Марта не успела рассказать, потому что спешила на свидание.
Часть вторая
Как это могло быть
Глава 1
Вечер 24 октября 1932 года
Предчувствие того, что в ближайшие часы произойдет отделение ветви от основного ствола истории, превратилось в абсолютную уверенность как по внутреннему убеждению, так и по сигналу, полученному Теодором Сверху. Как всегда, сигнал принес гонец. Теодор его не знал, не встречал раньше: в последние десятилетия так бывало все чаще — старые хранители времени умирали, погибали, пропадали без вести — как ни гони по реке времени, все равно его не обмануть, ты все равно стареешь, и когда-то твое тело или разум совершают ошибку. И ты умираешь, так и не узнав до конца — кем был, кому служил и ради чего был столь отличен от прочих людей. Твое всемогущество, вернее, то, что полагает всемогуществом простой смертный, оборачивается лишь одиночеством. Но все люди одиноки перед ликом смерти. Почему хранителю быть иным? Среди хранителей существует мнение — не следует называть его уверенностью, — что хранитель не умирает, а переходит лишь в иное качество служения Высшей цели. А были и такие, что полагали Высшую цель — богом.
Теодор, зная уже, что в тупиковую ветку уходить придется именно ему, с сожалением ликвидировал свое имущество, а самое ценное перенес в тайник, о существовании которого, кроме него, знал лишь гонец, попрощавшись, будто собрался в недолгую командировку, с квартирной хозяйкой в Мытищах, где снимал комнату на даче, и убедившись, что не оставил никаких следов в 1932 году, он поспешил в Узкое, потому что боялся упустить момент, с которого начнется разбегание рельсов. Этот момент мог быть внешне незначительным, даже случайным, он мог лишь предшествовать основным событиям — те были на поверхности, но не они давали импульс расхождению.
Пан Теодор не был всеведущ и не мог проникнуть ни телесно, ни взором в пределы стен дома Трубецких, да и не знал всех действующих лиц драмы. Впрочем, гонец рассказал об Алмазове, Шавло и Александрийском. Потому, оставаясь в парке, таясь в кустарнике, чтобы его не увидели из окон, пан Теодор более всего наблюдал за комнатами Алмазова с Альбиной и Александрийского — благо их окна выходили на одну сторону. Зеленая точка индикатора, укрепленная на ремне наручных часов, давно уже тревожно мигала и разгоралась. Вот-вот вспыхнет сигнал разбегания — тонкий ослепительный луч.
Момент разбегания случился, когда Лидочка отобрала револьвер у Альбины, но Теодор не видел этой сцены и не мог догадаться о ней, лишь почувствовал острый укол в запястье и зажмурился от ослепительности мгновенного луча.
Случилось!
Пана Теодора настигло неприятное чувство разочарования в своих возможностях — раз он не узнал, что послужило толчком к возникновению альтернативы, он может упустить следующие мгновения и не придавать им должного значения.
Лучик пульсировал, и его пришлось прикрыть комочком особой пасты — теперь уж в нем не было нужды, — сама интенсивность света показывала, что разведение линий произошло кардинальное, и оно не сможет компенсироваться само по себе.
Нет нужды рассказывать о том, как пан Теодор провел последующие часы, как безнадежно и противно промок и промерз и как, собирая по частичкам наблюдения за Санузией, он смог реконструировать ход событий и узнал о причине смерти Полины и о судьбе револьвера Алмазова. Он даже стал свидетелем того, как Матя спустился в подвал, вытащил тело Полины и, задыхаясь от страха и напряжения, поволок его к пруду.
К этому моменту Теодор отлично знал, что центром событий, приведших к раздвоению действительности, был физик Матвей Шавло — именно к нему тянулись силовые нити перемен. Очевидно, его судьба в ближайшие часы будет определять возникновение и развитие альтернативной ветви.
Медленно пробираясь кустами следом за натужно дышавшим Матей, Теодор поражался — он никогда не уставал поражаться непредсказуемости человеческих поступков. Казалось бы, антураж привилегированного санатория для ученых меньше всего располагал к шекспировским страстям, но вот они кипят на глазах пана Теодора, и не будет ничего удивительного, если за теми толстыми стволами лип скрываются макбетовские ведьмы.
Незаметно следуя за Матей, Теодор ломал себе голову: что тот намерен сделать с трупом Полины? Очевидно, он тащит его к пруду — утопить? Или закопать за прудом, в лесу?
Пан Теодор так увлекся собственными догадками и наблюдениями за Матей, что чуть было не попался на глаза Александрийскому, который следовал за своим коллегой и которого Теодор вначале не узнал, лишь отметив про себя, что драма подходит к финалу — к взрыву, который и должен определить перемену курса истории.
Зная, что первое мгновение уже позади, Теодор не догадывался, да и не мог догадаться, что вначале различие между расходящимися ветками заключалось лишь в том, что Александрийский, торопясь догнать Матю, неладно наступил на мокрый сук, поскользнулся и упал на колено — ничего страшного не произошло — лишь сбилось дыхание да заболела лодыжка, так что Александрийский стал чуть заметно прихрамывать.
Однако эти мелочи и помогли совершиться очевидному скачку.
Когда Матя дотащил труп Полины до верхнего пруда, он некоторое время стоял у самого берега, переводя дыхание и соображая, видно, как ему лучше поступить дальше. Его внимание привлекло журчание воды, стекавшей через край колодца. Он посмотрел в сторону, затем, оставив труп на берегу, прошел несколько шагов по берегу, чтобы убедиться, что слух и зрение не ошиблись — в воде зияет круглое отверстие — колодец.
«Итак, — отметил про себя Теодор, — мы принимаем решение».
Матя снова подхватил труп Полины и поволок его вокруг пруда, к тому месту, где от берега до колодца было ближе всего. На той, дальней от Теодора стороне пруда было совсем темно — последний фонарь стоял у купальни. Так что Теодор скорее догадывался о дальнейшем, нежели наблюдал его.
Матя некоторое время ходил по берегу — в поисках доски или бревна, но далеко отойти от тела своей жертвы не осмеливался. Наконец на откосе он нашел то, что искал, и снес доску к воде. Доски едва хватило от берега до колодца, и потому она неверно вздрогнула, когда Матя подхватил тело Полины и вступил на этот мостик.
Увлекшись наблюдением за Матей, пан Теодор на несколько секунд упустил из виду Александрийского. За это время старик, с неожиданной для его состояния резвостью, преодолел расстояние до доски, и его черный силуэт возник близко от Мати.
Матя свалил труп в колодец, как грузчик сваливает на землю тяжелый мешок. Через секунду или две из глубины колодца донесся всплеск — Матя выпрямился и расправил плечи, словно человек, отделавшийся от тяжкой ноши и готовый теперь хорошо отдохнуть.
И вот тогда Александрийский сказал:
— Вы преступник, Шавло!
Теодор не знал, разумеется, сказал ли что-нибудь Александрийский Мате в том, основном стволе истории, где в этот же момент происходит такая же встреча. И неизвестно было Теодору, чем эта сцена завершится здесь и чем — по ту сторону Времени.
Если бы Теодор был способен преодолеть взором эту пропасть, он бы узнал, что в основном времени Александрийский выстрелил без предупреждения, потому что был чуть спокойнее, там у него не болела лодыжка.
— Что? Кто там? — Матя не сразу узнал Александрийского. Но сразу увидел в его руке наган — возможно, отблеск далекого фонаря высветил гладкость ствола.
— Это вы… А, профессор! Вы меня напугали!
— Вы не имеете права жить, Шавло, — сказал Александрийский. — И не только потому, что вы убили эту женщину, а потому, что ради своего блага вы готовы убить многих людей…
Вернее всего, Александрийский намеревался сказать что-то еще, но Матя не дал ему продолжать — он кинулся к нему, и Александрийский выстрелил. Вспышка ослепила Теодора, он на мгновение зажмурился и так и не узнал, как же получились, что Александрийский промахнулся с такого расстояния, а Матя ринулся к нему, но промахнулся ногой мимо бревна, ухнул в воду по пояс и застрял там, разгребая воду резкими широкими движениями рук и не продвигаясь к берегу.
— Стойте! Стойте! — закричал на него Александрийский, забыв, наверное, что в револьвере еще есть патроны, — он начал отступать и вспомнил о нагане, лишь когда Матя уже выбрался на мелкое место, совсем по-звериному, ловко и быстро встал на четвереньки и, не разогнувшись, бросился к Александрийскому. И тогда Александрийский выстрелил вновь и снова неудачно.
А Матя — наконец-то глаза Теодора привыкли вновь к темноте — дотянулся до ног старика и рванул его на себя с такой силой и злобой, что Александрийский со всего маха упал на спину, и Теодор услышал, как гулко и опасно его затылок ударился о что-то твердое.
Александрийский дышал — Теодор слышал его рваное дыхание.
Матя поднялся на ноги, сделал шаг вперед — словно уже некуда было спешить; Теодор ждал, что он наклонится подобрать наган, но вместо этого он занес назад ногу в тяжелом красивом башмаке и со всего размаха ударил носком Александрийского в висок. Тот ахнул и дернулся.
Матя снова занес ногу, и пан Теодор сделал усилие, чтобы не вмешаться, не кинуться к Мате.
Матя еще раз ударил Александрийского, и дыхание профессора прервалось. Матя начал ругаться. Он ругался негромко, но очень зло, будто только сейчас понял, какой опасности избежал и как ненавидит чуть не убившего его, Матю, человека.
На темной сцене у пруда появилось еще одно действующее лицо — Алмазов.
— Вы что здесь делаете, Шавло? — спросил он, сбегая по берегу легко, как настоящий атлет.
Матя потянулся за наганом и стал шарить рукой по траве в поисках оружия.
По тому, как он это делал, Алмазов, конечно же, догадался о намерениях физика и потому побежал еще быстрее — так, что, не останавливаясь, врезался в наклонившегося Матю, и от этого мгновенного прикосновения Матя со стоном упал на бок.
Далее Алмазов действовал не спеша.
Он запахнул куртку, надетую на голое тело маскарадного пролетария, затем отыскал наган, вытер его о штаны и присел на корточки возле Александрийского. Матя медленно поднялся и сел.
— За что вы его застрелили? — спросил Алмазов.
— Это он! — громко сказал Матя, и лицо его скривилось, как у мальчика, готового заплакать. — Это он хотел меня убить!
— Почему? — спросил Алмазов.
— Не знаю! Честное слово, не знаю!
— Врешь, — сказал Алмазов.
Александрийский захрипел, шевельнулся, будто намеревался подняться. Матя не выдержал и кинулся на него. Он пытался было снова ударить его, но Алмазов, хоть и был куда ниже Мати ростом, легко остановил его, больно ударив рукоятью револьвера по вытянутой руке. Матя схватился за руку и заныл. Он не переносил боли.
Алмазов внимательно оглядывался — он ничего не трогал, не двигался с места. Глаза уже привыкли к густому сумраку. Он увидел, что Матя промок, словно купался в пруду. Он увидел доску, конец которой, поднимаясь из воды, лежал на краю колодца… Алмазов сделал повелительное движение рукой, требуя, чтобы Матя отошел в сторону, и тот подчинился, и Алмазов, не опасаясь нападения сзади, присел на корточки возле Александрийского.
— Вы меня слышите? — спросил он. — Что случилось?
— Это он! — почти закричал Матя.
— Заткнись!
— Шавло убил Полину, — произнес Александрийский спокойно и ровно, словно сидящий в кресле здоровый человек. — Она в пруду.
Александрийский глубоко вздохнул. И замолк.
— Не верьте ему, он сошел с ума! — Но Шавло уже не смел снова кинуться к профессору. Из него будто выпустили воздух.
Безмолвие профессора встревожило Алмазова. Он протянул руку, поднес ладонь к лицу профессора. Воздух был недвижим. Алмазов приподнял веко.
— Ты его убил, — сказал он.
— Я же говорил! — невпопад ответил Шавло.
— Беги за врачом, — приказал Алмазов.
— Нет! Не хочу!
— Ну что ж, я тогда вызову людей другим способом, — сказал Алмазов, поднимая руку с револьвером, и тут он ощутил пальцем знакомую наградную серебряную планку. Ему не надо было разглядывать револьвер — он уже знал, что это его наган.
— Пожалуйста, не надо, — просил Шавло.
Алмазов не слышал его. Он старался сложить простые мысли — и все они сводились к тому, что некто только что стрелял здесь из его, алмазовского ревнагана, из украденного у него ревнагана, и, если эта история всплывет, Алмазову ее припомнят. Может быть, не сегодня. И если даже не сегодня, то замечательная, гениальная схема с Шавло лопнет.
— Ладно, — сказал Алмазов, продолжая размышлять, кто и каким образом мог забраться к нему в номер и выкрасть оружие. — Рассказывай все как есть. Ничего не скрывая. В этом твой единственный шанс.
— Он… — Матя показал на Александрийского. — Он мертв?
— Ты его убил, — сказал Алмазов.
— Нет! Он сам!
— Какую Полину ты убил?
— Я не знаю никакой Полины!
— Так мы с тобой ни до чего не договоримся, — вздохнул Алмазов. — И учти, профессор, времени у нас в обрез. В любую секунду сюда могут прийти.
— Но вы скажете, что он сам? Ему стало плохо с сердцем?
— У него проломлен висок, — сказал Алмазов. — Ты его застрелил, а потом бил по голове.
— Я не стрелял!
— Ты типичный фашист!
— Я коммунист!
— Или ты рассказываешь, или я вызываю людей.
— Я гулял… он подстерег меня! У него был пистолет…
— Мое терпение лопнуло, — сказал Алмазов.
И тут он догадался. Его озарило.
— Она в колодце? — спросил он и тут же повторил с утвердительной интонацией: — Она в колодце. Ты думал, что ее никогда не найдут. А профессор тебя увидел. И ты его застрелил. А потом добивал — уронил револьвер и добивал! Откуда у тебя револьвер?
— Ну честное слово, не знаю! Он был у Александрийского!
Алмазов пошел по дорожке от пруда. Он прошел совсем близко от беседки. Шавло бежал за ним, ему было трудно бежать, он задыхался — видно, наступила нервная реакция.
— А как же наши планы? — Вдруг Шавло нашел спасительный аргумент. — Мы же с вами хотели работать вместе.
— Недоумок, — огрызнулся Алмазов, нарочно не останавливаясь и не замедляя шага, потому что понимал, как Мате тяжело оправдываться на бегу. — На что мне нужен физик, который убил женщину, а потом своего учителя. Я тебе передачи носить не намерен.
Матя Шавло не улавливал радости в голосе чекиста. И он бы умер сейчас от изумления, если бы смог заглянуть в озаренную светлой догадкой душу Алмазова. Алмазов менее всего намеревался теперь прикрывать проект, ради которого он оказался в Узком. Первый испуг провала, отягощенный догадкой о пропаже револьвера, уже миновал и сменился трезвым пониманием того, что вместо спесивого и самовлюбленного сотрудника он, Алмазов, после этой ночи получает в свое распоряжение раба, который никуда отныне не денется и проживет остаток своих дней в постоянном ужасе перед разоблачением.
— Шавло, — неожиданно сказал Алмазов, подходя к мокрой скамейке. — Садись.
— Как так? — Шавло остановился и оглянулся назад, словно боялся, что их сейчас догонит Александрийский.
— Не бойся, он не встанет. — Алмазов не сдержал улыбки, и Шавло, к своему потрясению, увидел, как отражают свет выбежавшей из-за облака луны его ровные зубы. — Говори спокойно, рассказывай все как было. И мы с тобой вместе решим, что лучше сделать. Ну садись, в ногах правды нет. Небось дрожат коленочки?
Они сели на скамейку.
Теодор стоял в двадцати шагах сзади. Он был недвижен. Ему хотелось вернуться к пруду и проверить, на самом ли деле Александрийский мертв. Но он не мог себе этого позволить — он не жил в этом времени. К тому же он верил опыту чекиста: если Алмазов сказал, что профессор умер, значит, умер.
Матя рассказывал Алмазову, как Полина нашла его и шантажировала, как он был вынужден ее убить, спасая великий проект. «Это была единственная жертва. Клянусь, единственная жертва». И он не думал о себе…
Алмазов поддакивал, не переспрашивал, и Теодор уже догадался, что его волнует совсем иное. Он предположил, что Алмазов рассуждает, как избавиться от тела Полины и как объяснить смерть Александрийского. На самом же деле тот думал о своем револьвере — как он попал в руки к Александрийскому.
— Хватит, — сказал Алмазов, резко поднимаясь. — Вы остаетесь здесь. Никуда без моего разрешения — никуда. И если кто-то попытается пройти к пруду, вы не должны пускать. Надеюсь, это вам можно доверить?
Теодор отметил про себя, что Алмазов возвратился к нормальному обращению — перестал тыкать Мате, словно барин дворнику.
— Я побуду, — сказал Матя. — Конечно же. Только вы недолго.
— Как управлюсь.
Алмазов ушел наверх, к дому.
Теодор остался в кустах, из носа лило, и нельзя было высморкаться — Шавло закричит при любом подозрительном звуке или движении. Он жалеет теперь, что не выпросил у Алмазова револьвер, подумал пан Теодор. Но Алмазов не доверил бы ему оружие.
Шавло не мог сидеть. Он пошел к пруду, но через несколько шагов остановился и вернулся к беседке. Потом повернулся к кустам, в которых стоял Теодор, и замер. Он почувствовал неладное, почувствовал присутствие человека.
— Кто там? — спросил Матя. — Кто там, не прячься, я тебя вижу.
Теодор стоял неподвижно. Матя сделал неуверенный шаг к кустам, в темноту, но Теодор знал, что он не осмелится пройти дальше.
Так они и ждали. Матя замерз, и на него волнами накатывала дрожь — он отошел подальше от зарослей и принялся подпрыгивать под фонарем.
Теодор понял, что в его распоряжении несколько свободных минут. И он может позволить себе истратить их ради удовлетворения своего любопытства. Он заглянет — благо для него это возможно — в основной поток времени и увидит, в чем же различие, что там произошло. А потом возвратится сюда. Достав портсигар и перенесясь с его помощью в мир, в котором осталась Лидочка, Теодор увидел, как от пруда бредет к дому Александрийский. Живой. И понял, что Матя убит… Потом он встретил Лиду, поговорил с ней. И поспешил обратно. И вовремя.
Черный силуэт Алмазова показался на фоне дома. Алмазов бегом спускался по дорожке.
— Я уже заждался, — сказал Матя.
— Идите в дом! — приказал Алмазов. — Вы ничего не знаете, ничего не видели. Быстро!
— А как же?..
— Я уже распорядился.
— Может, нужна моя помощь? — Голос у Мати был глухой, заискивающий.
— Идите к едреной матери! Чтобы я вас до завтра не видел!
Матя пошел в гору. Он горбился, и ноги плохо слушались его, как будто он был пьян.
Алмазов поглядел ему вслед.
Потом, когда Матя растворился в темноте и отдаленно хлопнула дверь в дом, Алмазов с отчаянием ударил по столбику беседки так, что беседка пошатнулась. И изощренно, длинно выматерился.
Теодор был в недоумении. Он понимал, что положение Алмазова было затруднительным, но вряд ли можно считать его отчаянным, трагическим. В сущности, Алмазову не было дела до Александрийского, которого можно отвезти в Москву и там сдать в морг как скончавшегося от сердечного приступа, вряд ли Алмазова могла беспокоить смерть Полины, от которой было совсем несложно избавиться. Матя теперь привязан к нему. Для Алмазова события сложились очень выгодно. Но Алмазов в отчаянии… Почему? Чего-то Теодор не знал.
Так и не догадавшись о причине отчаяния Алмазова, Теодор дождался, когда через час к пруду спустились люди в темных плащах и кепках, по-военному похожие друг на друга. Он наблюдал за тем, как унесли тело Александрийского и, приглушенно переговариваясь, погрузили его в черный фургон, который подогнали к воротам. Пока все это происходило, другие люди вытащили из колодца и перенесли к тому же фургону тело Полины. Обыскав его, Алмазов разрешил кинуть его внутрь фургона. И лишь после того, как фургон уехал, Теодор тоже покинул Узкое, убежденный, что последующие события не будут иметь отношения к санаторию.
Алмазов злился из-за того, что догадался, кто похитил его наган. Это могла сделать только Альбина, в отчаянии от коварства чекиста, так долго скрывавшего смерть ее мужа. Это была ее месть, и наган предназначался для него, Алмазова!
Его вовсе не смущала нелепость такого предположения. Зачем его невольной любовнице передавать оружие немощному старику, когда куда проще совершить казнь самой? Главное: наган был украден и использован с преступными целями…
Как только фургон с трупами уехал, Алмазов кинулся к себе в комнату, возле которой он заранее поставил сотрудника, приказав внутрь не заглядывать, но и не выпускать никого. Сотрудник шепотом доложил, что происшествий не было, и был отпущен.
Убедившись, что он один, Алмазов толкнул дверь — она была закрыта изнутри на щеколду. Он даже не стал стучать. Он отступил на шаг и, вложив в рывок всю свою злость, буквально прыгнул на дверь — легко ее вышиб.
Но он не услышал шума от падения двери на толстый ковер, потому что его взгляд сразу же уперся в стройные ноги Альбины в черных шелковых чулках.
Видно, Альбина подвинула под люстру стол и завязала веревку на крюк, на котором крепилась люстра. А потом оттолкнула стол — он был легкий и неслышно опрокинулся на ковер.
Алмазов стоял в дверях — даже не закроешь, дверь лежит у ног. Тошнота подступила к глотке, он не мог заставить себя дотронуться до женщины, которая так нагло обманула и обокрала его, несмотря на то что он относился к ней с глубоким искренним чувством.
Алмазов был разгневан, потому что никому, выходит, нельзя на всем свете довериться, нельзя даже чуть-чуть, на щелку, приоткрыть душу и впустить туда чужого человека. И если бы она оказалась живой, в тот момент он добил бы ее собственными руками, переломал бы шейные позвонки, сжав горло сильными пальцами.
Приступ злобы быстро прошел. Алмазов был человеком действия и понимал уже, что каждая лишняя минута для него смертельно опасна: стоит какому-нибудь из местных мухоморов выйти по нужде, как Алмазову обеспечен смертный приговор — тут уж не важно, за убийство ли жены врага народа или за половую связь с этой женщиной.
Алмазов поднял дверь и приставил ее к дверному проему, чтобы застраховать себя от случайного взгляда из коридора. Затем он поставил на ножки стол, залез на него. Стол пошатывался — он не был рассчитан на такой вес. Алмазов поддержал одной рукой легкое, еще теплое тело Альбины. Стол выдержал. Другой рукой он, напрягшись, сорвал с крюка веревку.
Затем Алмазов сел со своей ношей на стол, опустил ноги, спрыгнул на ковер и отнес тело к дивану — шума не было.
Он положил Альбину на диван и снял с шеи петлю. Теперь он уже не испытывал к ней ненависти. Важнее было избавиться от совсем уж лишнего трупа.
Лицо Альбины было спокойно и не похоже на лицо удавленницы, оно даже сохранило свою красоту. Алмазов провел рукой по щеке и прошептал:
— Дура ты, дура.
Неожиданно веки Альбины дрогнули — чуть-чуть. Алмазов боялся верить собственным глазам — а вдруг он ошибся, — это было бы слишком большим везением! Он взял кисть ее руки, стараясь уловить пульс, и уловил его — слабый и частый.
— Идиотка, — говорил он ей потом на допросах. Он никому, разумеется, не доверил эти допросы. Могли всплыть интимные подробности их отношений, смертельно опасные для карьеры Алмазова. — Идиотка! Даже повеситься толком не смогла!
Альбина смотрела на него виноватыми, полными слез глазами, она и в самом деле раскаивалась в одном — что неправильно повесилась, — а теперь ей уже не дадут повеситься. Веревка была слишком толстой для такой легкой женщины, она прошла под подбородком и за ушами…
Алмазова она разочаровала. Так и не сказала ему, кому передала наган, и не назвала сообщников. Впрочем, Алмазов и не настаивал — дело прошлое. Теперь есть куда более важные дела!
Он мог и, наверное, в интересах дела должен был пристрелить Альбину.
Он объяснил ей эту необходимость.
— Как знаешь, — сказала Альбина.
На первых допросах он ее бил, потому что когда-то она ему сказала, что страшно боится боли, и, когда в постели, овладевая ею, он делал ей больно, она вскрикивала и умоляла ее пожалеть.
Теперь она словно не чувствовала боли. Только следы остались — на лице и на груди. Алмазов не всегда мог сдержаться.
В конце концов расстрела он ей не подписал. Всего пять лет как жене врага народа. Он не считал себя изувером и сам платил за свои ошибки.
Глава 2
Март 1939 года
Ни Алмазов, ни Шавло не читали Фрейда, этого матерого идеалиста и фактического прислужника реакционных кругов Запада, которого вообще мало кто знал в Советском Союзе. Но в постоянной двойственности их отношений, в сплачивающей их ненависти было нечто от фрейдистских мотивов. Оба мечтали о дне, когда увидятся в последний раз, но представляли себе этот день по-разному, хотя с обязательным унижением, а то и уничтожением соперника и союзника. Алмазов и Шавло были не только связаны общим делом, на карту которого они поставили свои жизни, но и самой тайной зарождения этого дела. Они были чем-то схожи с опостылевшими друг другу супругами, которые тем не менее оборачивают общий фронт против соседей или иных врагов: ведь им столько раз приходилось сообща отстаивать казавшееся окружающим бредовым и пустым дело, искать союзников, переубеждать скептиков и плести интриги против недоброжелателей. Положение усугубилось еще более, когда пал их покровитель, всесильный нарком НКВД Генрих Ягода, — он был уничтожен, а с ним пошли под расстрел почти все высшие чины наркомата, отменные палачи и опытные следователи, дерзкие шпионы и ловкие администраторы — Сталин убрал целое поколение чекистов, взлелеянное еще Дзержинским и неспособное, как оказалось, к беспредельному террору, который был поручен ими же взращенному третьему эшелону бессовестных, бессмысленных, садистских убийц. Тогда, два года назад, ни Шавло, ни Алмазов не были уверены, что проведут на свободе еще одну ночь, их взаимная ненависть еще более усугубилась от опасности, которая могла, как молния, избрать одного из них, а могла поразить обоих.
У обоих в те страшные дни возник соблазн — утопить напарника, спасая бомбу. Но оба знали, что слишком велик риск оказаться с напарником на одном эшафоте.
О телеграмме Сталина и Жданова, которую те направили 25 сентября 1936 года из Сочи, где вместе отдыхали, в Москву членам Политбюро («считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение тов. Ежова на пост наркомвнудел, т. к. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока…»), Алмазов узнал лишь через четыре дня — к счастью, был в Москве. Именно 29-го Политбюро приняло постановление «Об отношении к контрреволюционным троцкистско-зиновьевским элементам». Алмазов в тот же день сумел пробиться к Ежову, который формально еще не вступил в должность, — для всей страны Ягода еще был могуществен, как древнегерманские боги Валгаллы. Ход, придуманный Алмазовым, был прост и в случае успеха гарантировал покровительство новой власти. Он пришел к Ежову, который, принимая дела и раскидывая пасьянс — кому на уничтожение, а кому на пьедестал, — и не думал до пленума заниматься конкретными объектами ГУЛАГа, с жалобой на Ягоду и его заместителей, которые срывают создание сверхоружия, средства возродить идею мировой революции. Ежов не стал тратить время на Алмазова, велел ему возвращаться в Полярный институт и работать, пока не вызовут. Алмазов, внешне хладнокровно, оставил на столе у Ежова список срочно необходимых материалов и людей, который еще несколько дней назад вез к Ягоде, и покорно удалился. А через два месяца Ежов, уже приняв дела, вызвал Алмазова с Шавло и уделил им около двух часов. Ежов понял, что перетряска столь громадного и влетевшего в копеечку учреждения, как Полярный институт, ему невыгодна. Средства и людей вкладывал Ягода, однако Ежов знал, что тот не только вредил, но и умел схватиться за хорошую идею. Была и другая причина заботы Ежова: о бомбе знал Сталин — он сам подписывал приказы о начале строительства и сам передал Госбезопасности заботу о бомбе.
Два месяца, прошедшие между рискованным визитом Алмазова к Ежову — лишь игроки напоминают о себе при смене власти — и вызовом Алмазова с Шавло в Москву, были самыми длинными месяцами в жизни обоих руководителей проекта. Все связи в НКВД были нарушены, руководители исчезали один за другим, успевая перед смертью покаяться на партийном собрании и крикнуть «Да здравствует товарищ Сталин!» перед молчаливой тройкой, осуждавшей на смерть. Об Испытлаге и городке в тундре все как будто забыли. Страна кипела от ненависти к троцкистам, зиновьевцам, каменевцам, бухаринцам, диверсантам, врагам, вредителям, а работы в институте шли, как прежде, но дело не двигалось, потому что человек, ожидающий результатов онкологических анализов, редко начинает строить себе новый дом.
Среди заключенных ползли слухи о том, что новый нарком, русский, с таким приятным лицом, настоящий большевик, наведет порядок, освободит невиновных, и страна вздохнет свободно — хватит вводить в заблуждение товарища Сталина! Зэки уже были по ту сторону пропасти между свободой и неправедностью и не знали еще, как повезло им, что были они схвачены и приговорены раньше, потому что в ином случае их ждали бы не десятилетние сроки, а расстрелы. Именно с расстрелов и начал новый нарком, и, пока число истраченных патронов не перевалило за миллион, он не мог остановиться.
Надеялись на перемены к лучшему и многочисленные ученые, заточенные в шараге — Полярном институте, где они, кто год, кто два, а кто и четыре, не будучи арестованы и обвинены в чем-либо, трудились в тюрьме, хотя и были только «временно мобилизованы для выполнения государственного задания особой важности».
Наконец Алмазова и Шавло вызвали в Москву.
Они не знали причины вызова и не знали, вернутся ли они сюда. Обоим нечего было терять — они оставляли за собой лишь бомбу, — осенью 1932 года они решили посвятить ей свою жизнь, поставили все, что было, на один номер. С тех пор у них не было иного выбора: либо они делали атомную бомбу, либо погибали. Впрочем, если у Шавло оставались в таком случае призрачные шансы продолжить дело под присмотром других чекистов, то Алмазов без бомбы был обречен на уничтожение как близкий человек Ягоды.
В самолете и во время посадок для дозаправки они держались рядом, в стороне от охраны, и старались придумать аргументы для наркома в пользу логической необходимости для страны иметь такую бомбу. Будто их выверенные и убедительные речи могли достичь ушей вождя.
Они не знали, что вождь сам вспомнил о бомбе. Еще неделю назад в разговоре с новым наркомом совсем о другом.
— Ну как у нас дела в Полярном институте? — спросил он. — Что-то там тянут с испытаниями. Надо поторопить товарищей.
Больше о бомбе тогда не говорилось, но Ежов мысленно поблагодарил Алмазова за недавний визит, потому что смог удивить Сталина своей информированностью о Полярном проекте, чего вождь никак не ожидал.
Ежов заставил их просидеть около часа в приемной, которая кипела деятельностью — словно Ежов руководил революцией, — мимо пробегали, пролетали фельдъегери, адъютанты, незаметные люди в штатском и вельможи в полувоенных френчах. Среди них почти не было знакомых Алмазова, хоть он и провел половину своей жизни — в революции — в ЧК и знал там сотни людей. А если и попадался знакомый, он предпочитал не узнавать Алмазова, потому что не знал, зачем тот вызван к наркому.
Ежов оказался хрупким, голубоглазым, моложавым человеком. Он не поднялся из-за огромного стола, и Шавло догадался, что Ежов не любит стоять рядом с высокими людьми.
Ежов был вежлив. Не на допросах он всегда был вежлив.
Алмазов хотел было доложить об обстановке на объекте, но Ежов не стал его слушать. Тихим монотонным голосом он объяснил посетителям, что они сорвали дело, порученное им партией, дело, в которое народ вложил громадные силы, а страна — средства. Бомба, завершение работ над которой было обещано уже в этом году, наверняка не готова, и надо разобраться, вредительство это или просто головотяпство.
Маленький голубоглазый нарком сделал паузу, и Шавло хотел было начать оправдываться — широко открытые задумчивые глаза Ежова как будто просили его: ну оправдывайся, объясни, не обижай меня. Но, почувствовав это желание, Ежов тут же продолжил речь, и слова застряли у Мати в глотке. Ежов без бумажки — у него была отличная память — сообщил, сколько миллионов рублей стоили четыре года работы, сколько тысяч человек строили и погибали там, сколько оборудования и сырья потребовалось… и все без отдачи?
А Алмазов молчал. Он лучше Мати знал о нраве и манерах Ежова. Он надеялся, что эта речь сама по себе положительный признак. Если бы Ежов захотел их арестовать, он избрал бы более эффективный способ, чем чтение длинного обвинительного заключения. Но понимание этого лишь усиливало его ненависть к Шавло, который и на самом деле — в этом Алмазов был полностью солидарен с наркомом — тянет резину, убеждая в трудностях там, где их, наверное, и нет. И не исключено — и Алмазов в последние месяцы все более подозревал Шавло, — вся история с бомбой — выдумка, чтобы спастись от суда, и никакой бомбы не будет.
Неожиданно Ежов оборвал монолог и обратился к Шавло:
— Скажите мне, почему срываются работы? Вы не видите в этом саботажа руководства НКВД? Может быть, вы полагаете, что комбриг госбезопасности Алмазов занимается вредительской деятельностью? Говорите. Здесь, как вы знаете, вам ничего не грозит… кроме меня.
И вдруг Ежов весело, по-мальчишески улыбнулся.
«Этот идиот сейчас меня продаст, чтобы спасти свою бомбу, — думал Алмазов. — Он не понимает, что если я пойду на дно, то только с ним. И когда Ежов обратится с таким же вопросом ко мне, на первом же допросе я расскажу о тебе все, фашистский выкормыш!»
— Все, что вы сказали, товарищ нарком, — вальяжно загудел Матя, словно и не был смертельно перепуган всем этим спектаклем, — лишь доказывает, насколько серьезно и успешно идут наши работы.
Он замолчал, и Ежов в удивлении уставился на него, потеряв инициативу в разговоре и не совсем понимая, что же хотел сказать этот усатый фат в потертом костюме.
— Мы не намерены пускать партии и правительству пыль в глаза, изобретая еще одну обыкновенную большую бомбу. Вы понимаете?
Ежов послушно кивнул.
— Мы делаем бомбу, в сравнении с которой все бомбы мира не более чем детская игрушка, мы делаем бомбу, которая разнесла к чертовой матери Содом и Гоморру. Мы намерены с ее помощью перевернуть всю историю Земли. И все укоры, которые вы здесь обратили в наш адрес, лишь подтверждают мою правоту.
— Как? — спросил нарком.
— Потому что времена одиноких Давидов с их камешками прошли. Великое дело требует великих усилий.
Это была лучшая речь Матвея Шавло — цитаты из нее достойны были бы украсить его нобелевскую речь.
Матя глубоко вздохнул, и Ежов после недолгой паузы обратился к Алмазову.
— А вы что скажете, Ян Янович? — спросил он.
— Я тут был у вас два месяца назад, — сказал Алмазов. — И оставил список крайне необходимых для строительства материалов и специалистов. Мы, к сожалению, срываем все сроки, установленные партией и правительством, и надежда — только на вас. Простите, но я должен сказать, что прежнее руководство НКВД не смогло осознать масштабы стоящих перед нами задач и мы существовали на голодном пайке.
— И это вы называете голодным пайком?
Ежов ловким и уверенным движением кадровика раскрыл зеленую папку, и Алмазов увидел собственный запрос, оставленный два месяца назад. В списке некоторые строчки были вычеркнуты, другие обведены, на полях стояли галочки и вопросительные знаки.
Увидев этот список, Алмазов понял, что спасен. Если нарком намерен обсуждать с тобой вопросы снабжения, значит, он оставляет твою голову на месте.
Они провели у Ежова еще полчаса, отстаивая свои требования и просьбы, кое-что Ежов был готов решить, кое-что велел согласовать с Вревским. Шавло надеялся провести хоть денек в Москве. Но когда они вышли от Ежова, к нему подошел печального вида майор госбезопасности и сказал:
— Вас ждет машина.
— Зачем? — мгновенно испугался Шавло.
— Чтобы ехать на аэродром.
— Но я хотел встретиться с некоторыми людьми, заглянуть в Ленинку, наконец!
— Людей мы вам пришлем, — сказал майор, будто подслушивал разговор у наркома или заранее знал о его содержании, — а если надо, перевезем и библиотеку Ленина.
«Они не могут оставить меня в Москве. Не хотят рисковать. Ну ладно — жив, почти свободен, и проект не закрыт!» Это уже достижение, ради которого можно и не сходить в Ленинскую библиотеку, куда он, кстати, и не собирался.
Тридцать шестой год закончился быстро — Ежов и на самом деле выполнил многие из обещаний, да и сама реальность Советского Союза помогала Мате — по договоренности с новым замом Ежова Вревским при сортировке арестованных списки физиков и химиков направляли в Полярный институт, и там их проглядывали Шавло и начальники лабораторий. Если встречалось знакомое или известное имя, то человека можно было вытащить на Ножовку, поселить в шараге, чтобы не сгинул. Шавло считал, что делает благородное дело и эти люди должны быть обязаны ему, но странно — никто этой точки зрения не разделял хотя бы потому, что среди ученых института царило убеждение, что все они были арестованы, независимо от статьи, по наводке Матвея Шавло, которому нужны были мозги и руки, чтобы на чужом горбу въехать в рай. Те же, кто так не думал, зная о действительных, часто не имеющих никакого отношения к институту обстоятельствах своего ареста, предпочитали молчать. Шавло догадывался, что его не любят, и знал почему, но тем не менее умело поддерживал в шараге видимость институтских отношений, вплоть до терминологии — там были и заведующие лабораториями, и старшие научные сотрудники, а членкоры и академики получали прибавку к пайке. Этого Матя добился у Алмазова, и тот, посопротивлявшись, оценил тонкость идеи Шавло. Отныне академики получали в месяц дополнительно к норме полкило сахара, десять пачек папирос и еще кое-какую мелочь. Была и система премий — высшей считалась плитка шоколада «Красный Октябрь». Ученые подшучивали над лагерной пародией на Советскую страну, но принимали условия игры как продолжение вольной жизни.
Тридцать седьмой год прошел тревожно — новички рассказывали о творившемся в стране ужасе, об арестах и терроре, о процессах. Шавло уже не мог перетаскивать к себе ученых — Алмазов постановил, что нормы снабжения увеличиваться не будут — хватит тебе института с шестьюстами сотрудниками. Не считая народа на предприятиях, испытательном полигоне и в раскиданных вокруг Ножовки лагпунктах.
Ежов был недоволен ходом дел — Сталин не раз вспоминал о бомбе и поторапливал «железного» наркома. Тот устраивал разносы Алмазову, Алмазов кричал на Шавло, Матя срывался, обвиняя физиков и инженеров в саботаже. Жили на нервах. И тем не менее сложение многих сотен лучших умов мира под плеткой и в направлении указанной плеткой цели, как бы непроизводительно эти умы ни использовались, давало свой результат. Мате и тем из физиков, кто понимал, к чему они стремятся, было ясно: они далеко обогнали коллег в Европе и Америке, потому что нигде работа над бомбой еще не стала практическим проектом.
Летом тридцать восьмого года убежденность в реальности создания бомбы под кодовым именем «Мария» настолько окрепла, что было решено ускорить завершение испытательного стенда, а также развернуть работу над второй бомбой, которую, разумеется, будут звать «Иваном».
Ежов легко выделил из средств НКВД нужные суммы, не согласовывая это с Наркомфином, потому что к тому времени понял, что хозяин, которому он был столь рабски предан, готовится его убить. Сталин шел к этому обычным для себя и понятным для любого сообразительного человека путем — сначала человека, на которого в скором будущем повесят всех собак и уничтожат как виновника всех поражений, начинали теснить в должности… В августе 1938 года первым заместителем к Ежову был назначен Лаврентий Берия, его старый недруг и ненавистник, которого Ежов неоднократно старался сковырнуть, еще когда тот был в Тбилиси, но в этом не преуспел — Берию любил Сталин. Берию Сталин прочил на место Ежова — и ужас перед новой чисткой уже застилал взоры ежовского окружения.
В сентябре Ежов вызвал Алмазова к себе и заявил, что снимает его за саботаж. Алмазов, до которого также долетали дуновения нового холодного ветра, сыграл ва-банк, что его уже не раз спасало. Он сказал, что не оспаривает решения наркома, но проект без него остановится. Шавло не будет и не сможет работать. Дальнейшее зависело от того, насколько разумен Шавло, продаст ли он Алмазова ради сохранения места или поддержит.
Ежов был пьян. Чуть пошатываясь, он протопал на высоких каблучках к двери, открыл ее и крикнул секретарю:
— Телеграмму в Испытлаг. Полярный институт. Матвею Шавло. Переходите подчинение Вревскому. Алмазов арестован как враг народа. Подтвердите. Нарком Ежов.
Алмазов стоял за спиной Ежова, и именно тогда он понял, что Ежов уже не уверен в себе. Еще в прошлом году он не стал бы разыгрывать при подчиненных такой спектакль.
Мате в кабинет телеграмму принес шифровальщик из управления. Телеграмма была секретная, правительственная, шифровальщика сопровождал майор.
Матя думал недолго. Некое подсознательное, животное чувство подсказывало ему, что все это — испытание. К тому же Алмазов был величиной известной и чаще всего управляемой. Новый шеф мог подмять Шавло и уничтожить проект. Матя и Алмазов вместе уже шесть лет. И Матя написал на бланке, который положил на стол майор:
«Снятие Алмазова срывает работы на строительстве. Прошу освободить меня от должности и направить на любой участок, где я могу принести пользу Родине.
Директор Полярного института Шавло».
Алмазов ждал в приемной Ежова, когда принесли телеграмму от Шавло. Ежов вызвал к себе Алмазова и, не показав ему телеграмму, закричал:
— Мать твою! Если к Октябрьским не испытаете — оба пойдете под расстрел. Хватит!
Алмазов улетел обратно на Ножовку.
Ежов имел беседу со Сталиным. Тот был предупредителен и добродушен, что было опасным сигналом.
Ежов докладывал о подготовке процесса в Магнитогорске, накопилось много текущих дел; Сталин был терпелив и снисходительно подмахивал бумаги, почти не читая и подчеркивая этим доверие к наркому, которому осталось так мало жить.
— Что касается нашей «Маши», — сказал Ежов и улыбнулся, ожидая ответной улыбки хозяина, — то она обещала разрешиться от бремени к Новому году.
Сталин не улыбнулся в ответ.
— Что-то давно твоя блядь свой живот носит, — сказал он. — Мне это надоело. За эти деньги мы можем построить каналы с Севера в Среднюю Азию, напоить хлопковые поля, принести радость людям. Вместо этого вы играете в детские игры. Маша-Даша-Паша! Новый год? Сколько лет они там возятся?
— Иосиф Виссарионович, — произнес чужие слова Ежов, — мы делаем не просто новую бомбу, как кажется некоторым. И даже не тысячу бомб. Мы делаем современные Содом и Гоморру — абсолютное оружие, обладание которым сделает нас хозяевами мира. Извините, Иосиф Виссарионович, но я ответственно заявляю, что постоянно знакомлюсь со всеми материалами и с ходом работ. Ничего подобного мир еще не знал.
— Содом и Гоморра, говоришь? А еще коммунист, — упрекнул Сталин Ежова. Он размял разорванную папиросу и набил трубку приятно пахнущим табаком. — А вот мы пошлем твоего заместителя товарища Берию проверить объект и получим его экспертное мнение, вы не возражаете, Николай Иванович?
— На настоящем этапе, — сказал Ежов, собрав всю решительность, какая в нем оставалась, — я бы очень просил вас, Иосиф Виссарионович, сохранить проект в абсолютной тайне. Каждый лишний человек, даже такой проверенный коммунист, как Лаврентий Павлович, — дополнительная опасность. Мы не можем рисковать. — И прежде чем Сталин успел возразить и даже высмеять наркома, тот положил перед ним тонкую папку. — Здесь донесения наших разведчиков и результаты анализа научных публикаций Германии и Америки. Они еще не начали воплощать атомную бомбу в жизнь, но теоретически перегнали нас.
Сталин открыл папку, пролистал, закрыл и, положив на нее руку, спросил:
— Сколько времени понадобится Гитлеру, чтобы сделать бомбу?
— Надеюсь, не меньше двух лет, — сказал Ежов. — Так считаем мы в Ножовке.
Он как бы снижал свое значение, присоединяя себя к физикам, жившим за колючей проволокой, но в то же время такой ответ звучал как ответ человека, вникшего в дело.
— А американцам?
— Им это пока не приходит в голову, — сказал Ежов. — Они могли бы все сделать быстро. Но мы догадались, а они нет.
— Значит, у нас есть еще фора?
— Сами посмотрите и убедитесь, Иосиф Виссарионович.
Когда Ежов ушел, Сталин внимательно прочел все документы, подколотые в папке. Они были изложены подчеркнуто элементарно. Но если они не фальшивки, то доказывают, что бомба по крайней мере не очередной бред авантюристов, расхищающих народные деньги, и в самом деле мы обогнали их, мы сообразили кинуть на этот проект людей и деньги, и если это настоящий туз… Сталин снова принялся читать донесения о работах в Германии, Италии и Америке. Ежов прав — идея витает в воздухе. И возможно, он ее недооценил. Он сам будет контролировать проект Полярного института. И оставит Ежова… впрочем, надо подумать. Ежов уже сделал свое дело, ему пора переходить на должность козла отпущения… А может, рано? А может быть, есть резон в словах «железного» наркома? Дадим ему еще полгода. Но не больше.
Алмазов не благодарил Шавло за то, что тот его спас. Хотя Мате хотелось услышать благодарность.
— Ты чего улыбаешься? — спросил Алмазов, вернувшись из Москвы и зайдя в кабинет Шавло. — Думаешь, ты благородный? Да ты просто понимал, что я тебя утащу за собой.
— Это еще бабушка надвое сказала, — ответил Шавло.
— Я один на тот свет не пойду, — сказал Алмазов. — Давай чай пить.
В кабинете Шавло на третьем этаже института была двойственность, рожденная либо какими-то идиотскими инструкциями, либо фантазиями снабженца. Внутри кабинет был обшит панелями, как райкомовский, в нем стоял буквой «Т» стол, правда, стулья вокруг были разномастные и шатучие, что всегда оскорбляло взор Шавло, но добиться в ХОЗУ других стульев он не мог и даже подозревал, что Алмазов избрал именно такой путь его унизить. Дверь изнутри была обита черным дерматином и пришпилена ровными рядами блестящих кнопок. Но снаружи, со стороны предбанника, где сидел весь «аппарат» Шавло, она была нагло, нищенски фанерной.
Не провели для Мати и звонка, так что ему приходилось по сто раз на дню выходить в предбанник, чтобы отдать указания или впустить посетителя.
Ночевал Матя в комнатке за кабинетом. Там умещался старый диван, сейф, два стула и школьный столик, где Матя иногда ночами работал, если не спалось. По крайней мере он спал один, не так, как академики — в камерах человек на двадцать, лабораториями или отделами. Внутри общайтесь сколько хотите, с другими отделами — никогда. Даже гулять физиков выпускали по отделам — на плоскую бетонную крышу шараги.
Шавло поднялся и вышел в предбанник. Там умещались три стола. Стол его референта — Сельвинского, который вел и внутреннюю бухгалтерию проекта, связанную с расходами, — их контролировал сам Шавло, чтобы не бегать за каждой мелочью к Алмазову или в бухгалтерию Испытлага. Сельвинский, дальний родственник известного поэта, сидел в лагере по бытовой статье, и по праздникам его заставляли выступать с пением стихов своего родственника, а слушатели — чекисты, вольные и несекретные сотрудники — так и не знали, кто же сидит у них в лагере — сам Сельвинский или его однофамилец. Справа — стол машинистки и стенографистки Раисы, женщины мрачной, угрюмой звериной красоты, которая никогда не отказывала в любви чекистам и некоторым из сотрудников. Она всегда была готова угодить Мате и не раз оставалась с ним на диванчике в директорском закутке. Матя, хоть его к ней и влекло, от нее утомлялся и понимал, что не может удовлетворить эту усатую скуластую самку с громадными черными раскаленными глазами и жадными бедрами.
За третьим столом сидела секретарша Мати — Альбина Лордкипанидзе.
Когда она отбыла свои пять лет, Алмазов, не выпускавший ее из вида, неравнодушный к ней и в то же время непростивший, как и непрощенный, сделал так, что ее оставили на поселении, хоть и расконвоировали. А так как кадры для Шавло подбирали чекисты и он мог иметь свое мнение о распределении по лабораториям физиков или инженеров по цехам, то в один прекрасный день весной 1938 года он увидел в своем предбаннике Альбину — он давно просил секретаршу, вот и получил.
Альбина изменилась — она подурнела, волосы потеряли блеск, а кожа — упругость. Нежность обернулась со временем ее врагом — трепетный лесной цветок не может стоять в вазе — он быстро и некрасиво вянет.
В лагере — она потом сама сказала Мате — она не мучилась на общих работах, а работала в пошивочной мастерской. Значит, просто погасла.
Когда приходил Алмазов — а Алмазов появлялся в институте порой по нескольку раз на день и предпочитал сам наведываться к Мате, нежели вызывать того к себе в управление, — Альбина делала вид, что его не замечает, а Алмазов всегда был вежлив, и особенно если приходил с утра, бодро, даже прищелкнув каблуками сапог, здоровался со всеми, и ему отвечал, приглядываясь и не сразу узнавая, подслеповатый Сельвинский, пела «Доброе утро» Раиса, а Альбина молчала. Алмазов улыбался и проходил к директору, как будто ему достаточно было и того, что Альбина его слышит.
Матя никак не мог понять, почему он держит Альбину здесь — то ли мстит ей таким образом, то ли, наоборот, бережет: на воле она будет арестована вновь и тогда может рассказать лишнее. А может быть, чувства Алмазова сложнее, чем кажутся. Сам же Матя был с Альбиной вежлив, корректен, ничем и никогда не преступил грани официальных отношений — впрочем, она была женщиной не в его вкусе. А если бы была? Нет, от нее исходит тихая опасность, как от бациллы чумы, притаившейся в брошенной на дороге детской игрушке. Образ ему понравился, и он представлял себе эту куклу… или медвежонка, способного погубить прохожего.
Срыв у Алмазова произошел в середине марта 1939 года, после того, как не удалось провести испытания ни к Октябрьским, ни к Новому году. Ежов дал слово, что он сам расстреляет Алмазова и Шавло, если они не выполнят обещаний ко дню Красной Армии, но Алмазов, под давлением Мати и понимая, что тот прав, чуть не на коленях умолил пьяного и страшного в гневе маленького наркома подождать, пока кончится полярная ночь, — в мороз и в ночь испытания проводить бессмысленно — невозможно вести контроль и съемку. Кому нужны испытания ради того, чтобы показать миру еще одно полярное сияние?
Ежов не знал, подействуют ли эти аргументы на Сталина, но Сталин легко и сразу согласился еще чуть-чуть отсрочить испытания, чтобы вести их днем. Теперь Ежов регулярно доставлял Сталину материалы о состоянии атомных исследований в других странах, и Сталин понимал, что нас еще не догнали. Более того — разрыв еще больше увеличивается, если верить чекистам и нашим физикам: мы на пороге первого взрыва, они же пишут статьи в журналах и дают нам добавочную информацию.
Ежов, которому уже был подписан смертный приговор, цеплялся за проект, как за соломинку, не подозревал, что Сталин вырвет ее на следующий же день после испытаний — будут они удачны или нет. Народ устал от ежовского террора — Сталин в последние недели сам называл происходящее в стране ежовским террором и даже обсуждал конфиденциально с Берией перемены во внутренней политике — когда надвигается большая война, надо дать передышку, а то люди начинают связывать аресты и казни с именем самого вождя. И это недопустимо.
Со дня на день на строительство должен был приехать его новый куратор Вревский — это не сулило ничего доброго. Замкнутый, дотошный, с бульдожьей хваткой, Вревский был во всем противоположностью Алмазову. Вревский полагал Алмазова цыганским жульем, а Алмазов называл про себя Вревского крохобором и пауком. Они не выносили друг друга, хоть виделись лишь раза три в Москве.
14 марта Алмазов плохо выспался — он пил вечером со своими сотрудниками, чего раньше себе не позволял, но надо было с кем-то пить. Ночью ему снилось, что он снова с Альбиной и она так же ласкова и послушна, котеночек, любимый котеночек… От этого утром было еще гаже. Когда пришел к себе в управление, выяснилось, что за ночь случились всякого рода происшествия, и все, конечно же, неприятные, покончил с собой, выбросившись с седьмого этажа, математик, профессор, причем нужный для проекта. На семнадцатом объекте взорвался газ — трое зэков погибли; газ был на вес золота, баллоны везли через всю страну. Завтра приезжает Вревский — мог бы еще несколько дней подождать, — и тут позвонил Шавло и сказал, что 1 апреля испытания не получаются, надо потянуть резину еще дней десять.
Алмазов ничего не ответил. Он бросил трубку и поехал в институт.
Дороги с весной совсем раскисли — сплошная грязь, а через две недели, как начнется апрель, станут еще хуже. Даже перед институтом не могли настелить. Алмазов закатил скандал хозяйственнику, который, на свое несчастье, попался ему на глаза у шараги, а тот ответил, что досок на тротуары не осталось, все стройматериалы ушли на строительство полигона. Это была ложь, наглое вранье, но Алмазову некогда было распутывать махинации прорабов и хозполковников.
Он ворвался в кабинет Шавло, не поздоровавшись даже с Альбиной и остальными в предбаннике — плевал он на них.
— Ты что! — закричал он высоким голосом, не закрыв за собой дверь в кабинет Мати. — Хватит! Теперь на твое место я могу поставить любого аспиранта, и он кончит лучше тебя.
— Ставь, — сказал Матя. Он, выйдя из-за стола и стоя перед Алмазовым, казался тому нарочито наглым и вызывающим.
Матя тоже жил на нервах, а в санчасти даже валерианки не было. И он тоже стал кричать на Алмазова. Дверь в кабинет оставалась открытой, и те, кто был в предбаннике, слышали скандал до последнего слова.
— Я знаю, на чьи деньги ты здесь сидишь! — кричал Алмазов. — Фашист проклятый!
— Лучше быть фашистом, чем якшаться с такими убийцами, как ты!
— Убийцами? — Алмазов был поражен. — Кто посмел назвать меня убийцей? Ты, который хладнокровно отправил на тот свет невинную женщину и убил старика? Ты, по которому плачет каторга? Да ты что, забыл, гад, кто тебя спас от вышки?
— Я даже не буду отвечать на твои пустые вымыслы, — сказал Матя, увидев открытую дверь и ощущая тишину за ней — люди боялись дышать. — У тебя расшатались нервы.
— Нет, не нервы. И ты знаешь, что не нервы. И у меня есть свидетель — у меня всегда есть свидетель.
— Так, значит, ты поэтому ее ко мне подселил! — не выдержал Матя. — Ты садист.
— Испугался, голубчик?
— В таком состоянии я с тобой разговаривать не буду!
— Нет будешь, иначе я тебя пристрелю.
— При свидетелях не пристрелишь, струсишь.
— Моя мечта — разрядить в тебя всю обойму. И меня оправдает любой суд.
— Посмотрим, кто нужнее там. Таких, как ты, вешают на каждом суку. А я один.
— Да ты… да я тебя!
— Катись ты к чертовой бабушке! — И Матя, который стоял близко к Алмазову, увидев движение того за пистолетом, к кобуре — комбриг никогда не расставался с оружием, — заломил ему руку за спину, и Алмазов был вынужден наклониться. Он замер перед рывком. И тогда Матя в самом деле испугался.
— Ян, — заговорил он быстрым шепотом, — опомнись. Это нервы. Мы не можем поодиночке — приди в себя, я прошу тебя.
— Отпусти, — так же тихо, шепотом ответил Алмазов.
Матя отпустил его.
Хотя не спускал глаз с кобуры.
Алмазов потер кисть руки.
— Первое апреля, — сказал он, — и ни днем позже.
Это было сказано тоже тихо.
Потом он вышел из кабинета, но не прошел сразу всю приемную, а остановился и внимательными черными глазами осмотрел каждого, словно никогда раньше не видел и удивлен существованием этих людей.
Матя сделал несколько шагов вслед за Алмазовым и заметил, как тот приходует его сотрудников, и понял, что, если Алмазов уберет их, спрячет, переведет в какой-нибудь лагерь, это будет с его, алмазовской, точки зрения правильно. Матя отказывал себе в праве на ту же точку зрения и старался не думать, что слова, услышанные Сельвинским и женщинами, опаснее для него, чем для Алмазова.
Когда за Алмазовым, хлопнув по-фанерному, закрылась дверь в коридор, Матя хотел выйти и сказать, чтобы все шли по домам, прятались, уезжали, но сразу не вышел, потому что понимал — им негде скрыться.
Не закрывая двери в приемную, он вернулся к себе за стол, но не успел сесть, как вошла Раиса.
Она была бледна, и глаза ее лихорадочно блестели. Она была напугана.
— Матвей Ипполитович, — сказала она неестественно низким голосом, — у меня зуб разболелся. Честное слово — просто невозможно. Разрешите, я в медчасть?
Она смотрела на него в упор и умоляла — отпусти, дай шанс! Не зная еще, как она хочет этот шанс использовать, Матя сказал:
— Беги, конечно. Беги.
Слышно было, как в предбаннике она чем-то звенит, открыв ящик своего стола. Потом скрипнула вешалка — и слышен стук ее сапог. Все. Убежала. А остальные?
Матя вышел в предбанник. Альбина и Сельвинский смотрели на него.
— Шли бы вы по домам, — сказал он. Они послушно поднялись и стали собираться. Матя смотрел на них и повторял мысленно: «Честное слово, я не виноват, честное слово. Но вот за Раису поручиться не могу».
Они не успели уйти — обоих взяли в коридоре. Раису взяли тоже. Она, бедная, не успела застраховаться, доказать свою лояльность. Алмазов распорядился об аресте, как только вернулся к себе в управление. И заботился при том он не столько о себе, сколько о Мате, Матя был нужен, пока не взорвется бомба.
Матя вскоре узнал, что Сельвинского расстреляли в ту же ночь «при попытке к бегству». С Раисой оказалось сложнее — она была штатным осведомителем и в этой роли сидела в предбаннике у Мати. Она и была самой опасной. К счастью для Алмазова, лейтенант, которому она была подчинена, сам испугался и принес ее письменные показания Алмазову. Алмазов велел отвезти ее в Устьвымлаг и внедрить там. Но по дороге машина провалилась под лед и утонула в реке. Об этом Матя тоже узнал — слухами лагеря полнятся.
А вот что случилось с Альбиной — он так и не узнал. И не стал спрашивать Алмазова. Хотя надеялся, что тот ее не убил, ведь Альбина безопасна… хотя есть ли в нашем мире безопасный человек? Впрочем, Матя ее не боялся, как не боялся и погибших своих сотрудников, потому что знал: пока он нужен Ежову и Сталину, он будет жить, а когда его надо будет убрать, то не все ли равно, в чем его обвинить — в убийстве женщины и старика или в шпионаже в пользу Троцкого?
На следующее утро Алмазов встречал нового замнаркомвнудел Вревского. Вревский был из выдвиженцев наркома, раньше сидел в провинции, и, когда Ежов подбирал себе помощников, Вревского вызвали в Москву. Вот и вся история, если не считать того, что за полгода Вревский вознесся от замзавотделом до замнаркома, — но в те времена подобные взлеты и куда более быстрые падения стали обыденными.
Алмазов поехал на станцию на своей машине, хотя от станции до штабного корпуса было всего метров триста.
Когда шесть лет назад Алмазов в поисках площадки впервые попал на Ножовку, здесь был никелевый рудник, к которому вела узкоколейка. В первый же год к объекту подтянули две нитки широкой колеи. Три поколения строителей — тысяч девять — отдали души на стройке. Но задание партии выполнили. С тех пор сменяющееся начальство приезжало с ревизиями и инспекциями в штабных вагонах и выходило на настоящий перрон настоящей станции «Полярная». Начальство менялось, а Алмазов, который отсиживался здесь, все еще оставался в живых: порой он понимал, что, усаживая в вагон очередного начальника, он провожает его на Голгофу. Вревский был новый, Вревский был близок к Ежову. Но Ежов еле держится, надеясь на удачное испытание. Тогда, он думает, его пощадят. Так же думает и Вревский.
На перроне стояла охрана — сытые парни в романовских полушубках.
Алмазов поспешил к двери вагона, которую осторожно открыл охранник.
Вревский был простоват на вид, краснолиц, брови и ресницы желтые, почти белесые, тонкие в ниточку губы и тяжелые скулы — пришло новое поколение чекистов, от станка, из навоза, из исполнителей и палачей. Интересно, умеет ли он читать или только подписывается под приговорами, с недоброжелательством подумал Алмазов, который не знал досье Вревского — до революции следователя.
Они были с Вревским одного роста. Вревский сильно пожал руку — короткие толстые пальцы, жесткая ладонь.
Вревский пошел к машине. За ним поспешили адъютанты, помощники, охрана.
— Вы позаботитесь о моих людях? — спросил Вревский.
— Разумеется, — сказал Алмазов.
Вревский был в кожаном пальто с меховым воротником и пыжиковой ушанке, на ногах пилотские унты. Когда подошли к машине, он стал всматриваться в даль, в сторону объекта, но ничего не мог увидеть — хоть полярная ночь завершилась, в девять утра лагерь был окутан серой мглой.
— Поедем ко мне? — спросил Алмазов. У него в кабинете был накрыт завтрак. — Позавтракаем?
— Я завтракал, — ответил Вревский, — так что предпочел бы сразу на полигон.
— Хорошо. Тогда поехали. — Алмазов был сама покорность. Про себя он отметил, что Вревский говорит интеллигентно, что не вязалось с его внешностью.
— Мне нужен ваш профессор, — сказал Вревский.
— Я сам все объясню.
— Не говорите глупостей, комиссар, — оборвал его Вревский. — Что вы понимаете в физике?
— Я понимаю в людях, — обиделся Алмазов.
— Давайте не будем тратить времени даром. Где Шавло?
Вызвать Матю было сложно — пришлось бы останавливать машину, звать адъютанта, который с гостями ехал во второй машине, посылать его в заводоуправление… Алмазов решил, что проще заглянуть к Шавло и взять с собой. О чем он и сообщил Вревскому.
— Действуйте, — ответил тот, глядя в окно машины. Хотя ничего особенного, кроме проплывающих мимо светящихся тусклыми желтыми окнами зданий, он не видел.
Свернули к заводоуправлению. Снега в том году выпало мало, дорога была разбита, и машину швыряло, как на волнах.
— Театр начинается с вешалки, — процитировал кого-то Вревский. Алмазов не понял.
— Простите?
— У хорошего хозяина и дороги хорошие, — пояснил Вревский.
— Живем на голодном пайке, — сказал Алмазов. — Каждый человек на счету. Хочу просить вас о помощи.
— Никто не имеет столько, сколько вы, — упрекнул Вревский. — Одних рабочих по списочному составу семьдесят две тысячи.
— Вас ввели в заблуждение, — сказал Алмазов. — Это легенда. Если наберется двадцать тысяч работоспособных, можно сказать спасибо.
— А что вы с ними делаете? Кислотой травите?
Тут Алмазов впервые увидел, как улыбается Вревский. Словно не умеет, но учится. Губы разъезжаются в стороны, исчезая совсем, — вместо рта получается шрам через все лицо.
— У нас особо трудные условия, — сказал Алмазов. — Очень высока смертность.
— Небось питание и одежду получаете на семьдесят тысяч?
— Очевидно, вы еще недостаточно знакомы с системой ГУЛАГа, — возразил Алмазов. — А мы, к сожалению, в нее каким-то боком входим. Хотя бы по части обеспечения людьми и материальной частью.
— Так везде, — сказал Вревский. — Растаскивают, что государство отрывает от честных тружеников для того, чтобы преступники могли безбедно существовать.
Поднялись в кабинет Шавло. Алмазов мог голову дать на отсечение, что Шавло видел, как они подъехали, но не вышел их встретить. Маленькая месть. Ну ничего, он за нее заплатит. Алмазов за эти годы научился управляться с причудами физика.
Шавло их встретил в коридоре, у открытой двери к себе.
В предбаннике на три стола был лишь один обитатель — средних лет мужчина с тупым лицом, который неуверенно тыкал указательным пальцем в клавиши «ремингтона». Он с опозданием вскочил и щелкнул каблуками при виде двух начальников, вошедших из коридора.
— Что у тебя там за образ? — спросил Алмазов, пройдя в кабинет, словно не имел отношения к опустошению приемной.
— Вашей милостью, — ответил Шавло, отметив про себя, что Алмазов тыкает ему при посторонних, а это свидетельствует о царственном гневе.
— Ах да, — отмахнулся Алмазов.
— Вы не представили меня, — сказал Вревский.
Алмазов поднял брови в знак удивления. Ему отказал инстинкт самосохранения. Виной тому — наглость профессора.
— Вревский Иона Александрович, — сказал замнаркома, протягивая короткопалую руку. — Наслышан о ваших успехах.
Шавло пожал руку замнаркома. Тот оглянулся, куда бы сесть, — в кабинете Шавло стояли лишь жесткие шатучие стулья (еще один знак презрения Алмазова). Впрочем, никто из начальства раньше не навещал профессора в шаражке.
— Чем же прогневил вас наш сотрудник? — спросил Вревский, снимая кожаное, подбитое хорьком пальто и протягивая его Алмазову.
— Арестовал моих секретарш и помощника. Теперь на несколько дней работа встала.
— Не понравились? — Вревский обернулся к Алмазову.
— Не поправились, — ответил тот. — Были сигналы. И достаточно убедительные. Товарищ Шавло у нас бывает доверчив и наивен, как и другие крупные ученые. Он забывает, что мы работаем в окружении врагов.
— Верните сотрудников, — приказал Вревский.
— Я постараюсь, — сказал Алмазов, глядя на Шавло и улыбаясь одними губами.
Вревский внимательно рассматривал Матю. Тот ему понравился. Он не угодничал перед Алмазовым и не боялся его, хотя и прожил бок о бок много месяцев и зависел от него полностью. А Вревский перед отъездом ознакомился с делом Алмазова и понял, что не хотел бы зависеть от этого человека. Понял Вревский и беду, что обрушилась на Матю. Видно, с секретаршами его связывали не только деловые отношения. Здесь, где так мало чистых женщин, Алмазов, вернее всего, наказал его. Но в этом случае Вревский бессилен. И не станет он претендовать на нарушение монополии Алмазова. Суум квикве, каждому свое, как говорили в университете.
Алмазов выстукивал ногтями по крышке письменного стола, гневался. «Зря он гневается, — подумал Вревский. — Это признак слабости. И если с бомбой получится, а судя по всему, это не просто утопия, Алмазову хорошо бы усвоить, что Шавло перестанет быть его рабом. Но исключено, что мы стоим сейчас в обществе великого человека, героя труда, любимца самого товарища Сталина. Ты слишком близко к Шавло, Алмазов. А я могу видеть перспективу».
— Простите, что мы так не к месту ворвались к вам. Но я назначен куратором вашего проекта и попросил бы вас провести для меня небольшую экскурсию по строительству.
Вот так. С нужной долей твердости, даже приказа. Но интеллигентно.
Шавло с приязнью смотрел на замнаркома. Простое крестьянское скуластое лицо. Резкие морщины, волосы бобриком. Светлые, пшеничные волосы, и не поймешь, тронуты ли они сединой или нет. Сколько ему лет? Наверное, под пятьдесят. На груди орден Красного Знамени. В конце концов, даже по теории вероятности в НКВД должны быть и порядочные люди. Особенно после того, как вместе с Ягодой полетели самые одиозные палаческие головы. Возможно, Вревский и есть новое поколение чекистов.
— Я приглашу начальников участков? — спросил Шавло, не оборачиваясь к Алмазову, будто того и не было. «Мальчик ты, мальчик, — подумал Вревский. — Он же тебя выпорет за попытку бунта на корабле. Но это уже не мое дело. Я — высшая благородная инстанция. Я прихожу на выручку слабым и несчастным, как товарищ Чапаев на боевом коне».
— Нет, не беспокойтесь, Матвей Ипполитович. Мне достаточно вашего с Ян Яновичем общества.
— Мы можем пригласить специалистов, теоретиков, экспериментаторов. — Шавло вел себя как школьник, к которому в гости пришли товарищи, и он спешит показать им всех своих солдатиков. — У нас тут три академика есть.
— Вы для меня — три академика. — Вревский растянул в улыбке щель рта. — И по дороге вы расскажете мне, почему бомба до сих пор не взорвана.
Алмазов почернел от злобы, но пока сдерживался, хватало ума понять, что его гнев может быть истолкован против него.
— Ян Янович, чего же вы стоите? — спросил Вревский.
Вревского, юриста по образованию, человека далекого от естественных наук и техники, вовсе не удивили масштабы обогатительных комплексов и лабораторий, даже подземные ангары, в которых будут рождаться последующие бомбы. Вревский не удивился размаху строительства хотя бы потому, что за последние годы нагляделся строительных площадок похлеще этой. Он сам курировал Магнитострой, бывал в Кузбассе, под Кривым Рогом, на Хибинах — куда только не кинет судьба бойца-чекиста! Но что поразило Вревского — так это испытательный стенд.
Неизвестно, кто придумал этот термин. В конце концов, термин был не хуже любого другого. Ведь бомбу следовало испытать. Не исключено, что все обещания Шавло и его сумасшедших академиков, как омолаживающая простокваша академика Богомольца, — чистая липа. Фукнет эта бомба — и дело с концом. Тогда утрем сопли, и полетят новые головы.
Конечно, и Алмазов, и его начальники предпочли бы сначала провести испытания на небольших макетах, два на два метра. Но оказалось, если верить физикам, с атомной бомбой это не проходит. Меньше чем определенная масса атомной взрывчатки ее не устроит. В руководстве НКВД на этот счет возникали большие сомнения, но ученые стояли на своем. И все проверки и перепроверки приводили к тому же прискорбному результату: для того чтобы узнать, рванет ли атомная бомба, надо сделать атомную бомбу и ее взорвать. Ни больше ни меньше.
И сделать это надо было как можно скорее. Пока Гитлер отложил работы за пределами теоретических изысканий, потому что ведущие физики-евреи удрали от него в Америку, а оставшиеся либо слабы, либо уверяют, что сделать такую бомбу дороже, чем завоевать Польшу. Так что Гитлер предпочтет завоевать Польшу — его ресурсы малы, усилия на пределе возможного. Он не может кинуть на изготовление бомбы сто тысяч человек и арестовать для этого тысячу лучших умов государства.
Но остается Америка. К ней переметнулись еврейские умы. Они ненавидят фашизм. А некоторые — коммунизм. В Америке есть мозги и есть такие деньги, о которых стране коммунизма не приходится и мечтать. И еще — у них уже есть приборы и заводы, на которых можно изготовить за месяц то, на что нам потребуются годы. Но этих лет у нас нет. Значит, надо получать оттуда. Над чем и трудится наша разведка. Хотя и ее возможности не бесконечны. Нам помогают настоящие коммунисты, патриоты, но агенты, человеческий материал, который приходится использовать, требует валюты и продажен. А активность нашей разведки ведет к провалам. Уже было несколько прискорбных провалов, и каждый заканчивался либо арестом наших людей в Германии или Америке, либо, если они убегали, — казнью дома. Людей не было, но заданий никто не отменял. Приходилось подскребывать по донышкам.
Есть сведения, что в Германии и в Америке уже встревожены, уже стараются сложить вместе кусочки странных узоров и понять, что такое изготавливают коммунисты, — мир империализма всегда настороже, всегда опасается коммунистов, своего неотвратимого противника.
Вревский, привыкший даже сам с собой рассуждать элементарно, понимал, что неудача с бомбой станет его последней неудачей. Эта бомба досталась ему как проклятие по наследству от погибших чекистов. Если все получится, лавры будут пожинать военные и лично товарищ Сталин. Если бомба провалится или спохватившиеся империалисты нас догонят и перегонят, товарищ Вревский получит пулю в затылок.
Машины остановились на высоком пологом холме, словно специально расположенном природой так, чтобы был виден с одной стороны комплекс заводов и лагерей, а с другой — испытательный стенд.
Если бы Вревский не был предупрежден и со свойственной ему обстоятельностью не изучил заранее фотографии, он бы изумился зрелищу. Но и сейчас чувство, овладевшее им, было близко к изумлению.
В километре от холма, а может, и ближе начинался город. Это был немецкий город, аккуратный и благополучный. Ближе к холму раскинулись какие-то склады и сараи, дальше начинались жилые кварталы — узкие кривые улицы, церковь, ратуша на небольшой площади… При внимательном изучении обнаруживалось, что город недостроен. Справа от него высились сооружения, которые не вязались с мирной европейской жизнью, — авиационный ангар, танкодром с боевой техникой, а рядом — карусели и парашютная вышка.
— Хотите поглядеть поближе? — спросил Алмазов.
— Давайте, — согласился Вревский.
Дальше пришлось идти пешком по целине — дорога была разбита. Порой по ней проползали, утопая в холодной грязи, тягачи, тянулись повозки, запряженные битюгами.
Уже на подъезде к городской окраине они догнали телегу, в которую были впряжены десятка два заключенных, — как бурлаки с картины художника Репина, они, напрягаясь, тянули груз бутового камня, рядом шли вохровцы, покрикивали на заключенных. Вревский отвернулся. Он понимал, что необходимость толкает Алмазова на столь варварские методы. Но видеть это было невыносимо. Ведь наступил тридцать девятый год, более двадцати лет минуло со дня Октябрьской революции.
— Мы беспощадны к изменникам Родины, — сказал Алмазов, словно читая неприятные мысли Вревского.
— Ладно уж, — отмахнулся Вревский. Ледяной ветер, бивший в лицо, проникал сквозь кожу и подкладку. — Ладно уж, разве я не понимаю, что вам никто не дает техники и даже гужевого транспорта, а требовать у нас все мастера.
— Точно, — сказал Алмазов.
— А вы, полагаю, научились уже не видеть? — спросил Вревский у Шавло.
— Я все вижу. — Матя встретил взгляд замнаркома.
— Это вредно, — сказал Вревский. — Это сокращает жизнь.
Внутри города все было устроено разнообразно. Некоторые улицы были замощены всерьез булыжником и торцами, другие остались грязными, жижа чуть не по колено. Город был невелик: улицы коротки, часть домов — декорации, но со стороны он выглядел убедительно. И нет смысла теперь спрашивать, кто придумал сделать такой испытательный стенд. Ясно, что идея в свое время понравилась Ягоде и не была потом отвергнута Ежовым.
Заключенные, которых охрана при виде начальства загоняла в тупики, подворотни и подъезды фальшивого города, выглядывали как могли, смотрели на генералов НКВД в сопровождении самого Шавло — многие знали, что он директор Полярного института, но ходили слухи, что он и сам зэк, как нередко бывало. Но вот зачем этот город — мало кто догадывался. Многие верили в нелепый слух, будто этот город возводится, чтобы снимать кино из жизни германского пролетариата, который борется с фашизмом. Но другие, понимавшие нелепость киноверсии, были близки к истине, полагая, что здесь готовятся испытать новое оружие… Иначе зачем здесь такая шарашка и профессора под конвоем.
В то время, когда группа гостей и чекистов обходила городок, оказавшийся меньше, чем казалось при взгляде с холма, за ней наблюдали другие люди, которые как раз в это время вышли подышать воздухом в «обезьянник», так в шараге называли огороженную колючей проволокой прогулочную площадку на крыше массивного семиэтажного здания Полярного института. Туда были собраны со всех лагерей, а то и привезены с воли люди, которым в любой цивилизованной стране были бы гарантированы университетские кафедры или лучшие лаборатории. Только, конечно, не в Германии: среди них было немало евреев.
Шавло добыл для прогулок в «обезьяннике» двадцать тулупов. Хорошие были тулупы, настоящие, длинные. Так что гулять выходили партиями по двадцать человек.
В тот день Юрий Борисович Румер, великий математик и физик, дождался из Москвы новых целых очков — исполнилась мечта, которую он пронес через Мариинские лагеря. Румер стал выпрашивать подзорную трубу у членкора Некрасовского, который сам сделал ее в лаборатории, угробив на это списанный микроскоп. Но тот уже обещал ее Рухадзе, тому самому, которого так звал к себе Резерфорд. Рухадзе был великодушен, и Румер первым стал смотреть на полигон.
— Наш водит начальство, — неуважительно сказал Румер. Его длинные черные волосы выбивались из-под ушанки. — Идет торговля великими идеями.
— Нашими идеями! — крикнул Козлов, ненавидевший Матю, ибо не без оснований полагал, что его арестовали и посадили сюда исключительно потому, что Мате позарез нужны были высокого класса разработчики. Взяли его через два дня после свадьбы.
— Разговорчики! — прикрикнул тягач, стоявший у входа в «обезьянник».
— Рожи все новые. Значит, старых — тю-тю, — сказал Некрасовский.
— Может, по случаю прихода к власти масла выдадут. Желтого такого. Слышал? Его из коров делают, — сказал Козлов.
На крышу поднялся Баттини. Он по доброй воле приехал из Италии, чтобы помочь строить справедливое общество. Матя ею вытащил из смертельного Курдалага — полгода не слезал с Алмазова, твердил, что без этого итальянца бомбы не будет. Баттини шел с тягачом, или дядей. Обычно дяди — сопровождающие и следящие за каждым шагом офицеры НКВД — ходили за учеными в шараге лишь на испытаниях или когда работа требовала общения с вольными. Но за некоторыми, например за Баттини, дядя ходил всегда.
— Господа, — сказал Баттини, который за шесть лет скитаний но лагерям потерял глаз, зато неплохо выучил русский язык. — Есть секретные известия. Установлен окончательный срок: девушка Мария должна лишиться невинности четвертого или пятого апреля текущего года.
— Молчать! — закричал дядя. По тишине, наступившей на крыше, он понял, что его итальяшка выдал какую-то секретную информацию, за что он, лейтенант Пустовойт, может пострадать.
Матя Шавло показал Вревскому направо — там виднелся прямой проход между строящимися домами — наружу, в поле, к длинным фермам и теплицам, пока еще не застекленным, да и мало было надежды на то, что стекло успеют сюда завезти.
Вревский почему-то поднял голову и увидел, что молодой изможденный зэк в разорванном и кое-как зашитом ватнике и в ушанке с оторванным ухом, словно у драчливого пса, ввязавшегося в драку, замер, глядя на него с лесов. К спине зэка была прикреплена доска с грузом кирпичей. Веревочные лямки были завязаны на груди.
Лицо зэка было знакомо.
Ничего в том не было удивительного. И до революции, и в революцию, и после нее Вревский встречал тысячи людей, и сотни имели основания смотреть на него злобно.
Вревский обладал отличной зрительной памятью. Но зэк был грязен, голоден, обморожен. И узнать его было очень трудно — надо было услышать его голос.
Вревский не стал останавливаться, хотя сердце его кольнула тревога. Надо бы сказать адъютанту, чтобы выяснил, кто этот зэк. Вревский даже приостановился, чтобы отдать распоряжение, и посмотрел назад и наверх. Но зэка уже не было. Ушел.
— И как ваше впечатление? — спросил Алмазов.
— Сейчас вернемся, и вы мне все расскажете, — сказал Вревский.
Они вышли к «парашютной» вышке, на вершине которой и уляжется «Маша». Это произойдет за день до испытаний.
Там Шавло объяснил, каким образом будет взорвана бомба. Потом все сели в поджидавшие аэросани.
Андрей Берестов смотрел на то, как Вревский садится в сани, с верхнего яруса лесов, теперь уже невидимый бывшему следователю. Наверное, ему повезло, что Вревский его не узнал. Узнавши, не оставил бы в живых. Вряд ли ему нужны свидетели его дореволюционной следовательской деятельности. Генералы НКВД должны быть выходцами из народа. И хоть в секретном деле Вревского лежала его подлинная биография, никто, кроме тех, кто держал его на поводке, не подозревал, что этот каменный большевик начинал в Симферополе как царский следователь. И если на пути Вревского попадался кто-то из старой жизни, он был обречен.
Чекисты расстались с Шавло у ворот в колючей проволоке. За ними был пустырь, за пустырем шарага. Вревский полагал, что Алмазов отвезет профессора обратно. Ведь тот оказался здесь не по своей воле. Но Алмазов молчал. Шавло тоже был удивлен, но просить не стал. Уже совсем стемнело, и прожектора и фонари разбрасывали вокруг неровный, неверный и нервный свет.
От небольшой группы чекистов, что стояли у ворот и ждали начальство, по знаку Алмазова отделился командир в романовском полушубке.
— Проводишь, — приказал Алмазов.
Шавло поежился. На нем было иностранное поношенное демисезонное пальто. Видно, купил когда-то в своей Италии и не думал, что оно окажется последним. Впрочем — Вревский мотнул головой, изгоняя неприятную мысль, — почему же последнее? Мы еще войдем в этот самый Рим и возьмем у них все, что понадобится победившему пролетариату. Вревский уже привык мыслить штампами — так безопаснее.
Шавло не стал прощаться.
Это была маленькая демонстрация. Он быстро пошел через неровное снежное поле, по которому мела поземка. Чекист потопал сзади.
Вревский посмотрел на Алмазова. Тот пожал плечами и сказал:
— Черт с ним, все они такие. Сколько волка ни корми…
…Шагая по снегу, проваливаясь в покрытые тонким ледком лужи на разбитой дороге, Шавло проклинал Алмазова и всю эту чертову власть, которая так обманула его, проклинал себя, который ей так легко доверился, а может, слишком испугался. Ну ничего, не сегодня-завтра он взорвет бомбу. И тогда Алмазов — именно Алмазов из всех людей на свете — окажется его наградой. Он так и скажет: «Я не хочу никакой награды, я хочу голову Алмазова…»
Матя посмотрел вперед — над ним нависал, хоть было до него еще далеко, главный корпус института. Семь этажей, а наверху «обезьянник», по которому иногда гуляет с коллегами и он, показывая этим, что мало чем от них отличается, и самое интересное — многие этому верят. За зданием установлен сильный прожектор, вечером или полярной ночью он то и дело елозит лучом по небу, создавая светящийся, мутный фон, на котором четко выделяется квадрат дома и точки — человечки в «обезьяннике». Они наверняка видели, что Шавло водил по полигону чинов из НКВД. У физиков есть неплохая оптика — там же Некрасовский, оптический гений. Значит, они сейчас видят, как их руководитель, дрожа от холода, топает по снегу под конвоем. Пускай. Может быть, напишут воспоминания. И кто-нибудь зачитает их при вручении Матвею Шавло Нобелевской премии.
— Смотри, — сказал Румер, возвращая Некрасовскому подзорную трубу, — наш Матя идет аки посуху.
— Недостаточно услужил, — ответил Козлов. — Научится себя вести, в следующий раз привезут домой в «ЗИСе».
Кто-то засмеялся.
Тягач, стоявший у решетки, крикнул, чтобы собирались, шли вниз, следующая смена ждет прогулки.
Алмазов отвез высокого гостя к себе. Пока они осматривали испытательный стенд, в столовой его каменного дома, стоявшего поодаль от объекта, в пределах бывшего районного центра, был накрыт обед. Обед готовили в двух вариантах — на всю здешнюю верхушку НКВД и на двоих — Алмазова и гостя. Еще по дороге Алмазов выяснил у Вревского, какой обед он предпочитает. Вревский сказал — скромный. Тут же вперед был послан нарочный: чтобы верхушка разувалась и отдыхала. Сегодня пусть пьют по своим квартирам.
Мебель в доме у Алмазова была хоть и не единая по стилю, но мягкая, большей частью старинная, конфискат. Мебели было много, мог бы поделиться и с Шавло. «Впрочем, — поправил себя склонный к справедливости Вревский, — мы не были у Шавло дома». Он не знал, что Матя спал в закутке за своим кабинетом. Но по сравнению с «дортуарами» ученых это был дворец, потому что он давал уединение и туда можно было привести женщину.
Сервиз у Алмазова был красивый, с синими узорами, мейсенский. Вревский в этом разбирался. Он похвалил сервиз. Алмазову было приятно, словно сервиз не был конфискатом, а достался ему по наследству от дядюшки.
Они выпили по первой, за знакомство, потом, хоть и были вдвоем, — за товарища Сталина. Затем еще один тост обязательный, за отважного наркома НКВД товарища Ежова. Алмазов наливал Вревскому, но не спешил. В хороших правилах было наливать гостю столько же, сколько и себе. Если ты спешишь подлить гостю, значит, хочешь его споить, а если не в очередь долил себе, значит, жаден и склонен к пьянству. Чекисты пили правильно, не спеша, хорошо закусывали. Вревский, разумеется, не обезоружился перед малознакомым и не очень приятным Алмазовым, но помягчел. У них общая цель — угодить Родине.
— Вы для образца взяли какой-нибудь немецкий город? — спросил Вревский. — Для полигона?
— Вы имеете в виду испытательный стенд? Моя идея. Уникальному оружию — уникальный полигон.
На самом деле идея сделать полигон в виде немецкого города принадлежала Мате, и ему бы не получить на нее одобрения, если бы она не понравилась предыдущему, уже расстрелянному наркому Ягоде.
— Так когда же испытания? В Москве ждут.
— Я знаю. Сам уже извелся. Я же здесь без отпусков, фактически в добровольной ссылке. Вы кушайте, Иона Александрович.
— Вы мне сообщите срок испытаний? Вы же переносите его третий раз. Это может для вас плохо кончиться.
— Вы видите, как нам трудно!
— Хватит мне мозги полоскать! Говорите прямо — когда? Вам Родина дала все — и людей, и средства. А вы саботируете!
— Мы уложимся в срок.
— 1 апреля?
— В первых числах апреля. Мы уточним.
— Советую уточнить окончательно. Думаю, что сам Николай Иванович приедет на испытания.
— Я рад, что наш нарком найдет для этого время, — сказал Алмазов после паузы. Новость была опасной. В случае неудачи потерявший над собой контроль Ежов может расправиться с виноватыми и невиновными на месте.
Выпили еще. Алмазов сходил на кухню, сам взял там у сержанта-повара отбивные и принес в комнату. Вревскому не хотелось есть.
— Слушайте, Ян, нам крайне нужна сейчас бомба, — настойчиво произнес он. — После того как мы ликвидировали преступную шпионскую группу в армии, среди наших врагов поднялись крики о том, что наша армия сильно ослаблена.
— Какая чепуха! Мы же избавились от них именно для того, чтобы укрепить РККА! — театрально возмутился Алмазов.
— Налей, — попросил Вревский. Последнее время он стал много пить. Он боялся, что его арестуют и убьют. Что вот такой черноглазый, рано и красиво седеющий на висках Алмазов будет бить его ногами. А ведь будет бить!
Кто же тот молодой зэк, который так смотрел на него? И тут Вревский вспомнил: Андрей Берестов. Конечно же, дело об убийстве Сергея Серафимовича Берестова в пятнадцатом году в Ялте. Так и не раскрытое. «Смотри-ка, как ты только ни скрывался от меня, как ни бегал, а кончил в Испытлаге! Смешно. Нет, ты мне, голубчик, не опасен. В делах управления кадров НКВД лежит моя биография, в которой сказано все, что надо. Так что Андрей Берестов мне не страшен, хотя когда они решат меня убрать, то мою работу царским следователем мне поставят лыком в строку. Формально именно за это меня и будут судить… И отыщут этого Берестова, и сделают его свидетелем или участником заговора, который я возглавлял…» Вревский уже выстроил собственный процесс и уже вынес себе приговор. И ненавидел всех — и карлика Ежова, и усатого таракана Сталина, и, конечно, этого чистильщика сапог Алмазова, и Берестова, из которого выбьют показания против Вревского.
— Иона Александрович, вы меня слышите? — Голос Алмазова пробился сквозь пласт мыслей, замешенных на водке.
— Слышу, куда я денусь?
— Вы мне говорили о международной обстановке. — В голосе Алмазова звучали собачьи нотки.
— В Испании у нас не все получается. Там тоже обнаружилось много вредителей. Сейчас отзываем и ликвидируем. Тем более что Франко пользуется открытой поддержкой международного фашизма и империализма. И фашизм, и невмешательство — все против нас.
Алмазов покорно кивал — пай-мальчик. Никогда раньше не слыхал!
— Нам нужна короткая победоносная боевая кампания, которая показала бы всему миру нашу силу, силу РККА, силу рабоче-крестьянского строя.
— А есть уже идеи? — спросил Алмазов.
Отбивные остыли. Алмазов был зверски голоден, но не смел есть мясо, раз Вревский к нему не прикоснулся.
— Важен масштаб конфликта и его международный эффект.
— Может, на Дальнем Востоке? — спросил Алмазов.
— Оттяпать у японцев какую-нибудь сопку и протрубить на весь мир? Мелко мыслишь, Алмазов. Лучше мне налей. Мы хотим ударить больнее.
— Германия?
— Ты учти, Алмазов, — сказал спокойнее Вревский, — мы — мирный бронепоезд, стоим на запасном пути. И экономика у нас мирная. Так что влезать в долгую позиционную войну не имеем права перед нашим народом. Один удар, второй удар… так, чтобы пролетариат Запада, видя силу наших войск, поднялся против империализма. А ведь ждет нас пролетариат… ждут наши братья.
Алмазов кивнул.
— Чего киваешь? Не согласен?
— Наоборот. Именно для этой цели мы жертвуем своим трудом и здоровьем.
Шеф военной разведки адмирал Канарис и Шелленберг приятельствовали настолько, насколько это было допустимо на вершине власти в Берлине. В тот четверг они сговорились покататься верхом в Трептов-парке, но погода выдалась отвратительная, налетел косой дождь со снегом, что редко бывает в мартовском Берлине; впрочем, в ту весну все перепуталось, и, как заметил адмирал, даже забывчивые старожилы такого не помнили.
Чтобы не отказываться от намеченного свидания — ведь верховая езда была лишь предлогом для встречи, хоть и подчеркивала склонность руководителей военной и эсэсовской разведок друг к другу и противостояние их партийным провинциальным неучам, — они решили съездить на ленч в ресторанчик на берегу Зеддинзее.
Так как господа не готовились к ленчу заранее, они позволили себе явиться в ресторан в костюмах для верховой езды, тем более что «Ментона» была местом уединенным, спокойным, лишних там не бывало.
— Одна из причин, почему Мюллер не выносит вас, Вальтер, — сказал Канарис, осторожно пробуя белое вино, — это его собственный комплекс неполноценности.
— Ему не пришлось учиться в школе, — улыбнулся Шелленберг.
Канарис подумал, как тот чертовски молод, элегантен и притом незаметен, как внимательно он умеет слушать. «Я, старая боевая лошадь, готов и хочу попасться на эту удочку, даже зная отлично, что он продаст меня Гейдриху, сегодня же вечером изложив во всех подробностях нашу беседу, ведь он боится, не установил ли Гейдрих подслушивающего микрофона под этим столиком».
— Я бы тоже предпочел сейчас ехать верхом, — сказал Канарис. — В лошадь трудно воткнуть микрофон.
— Случилось что-нибудь серьезное? — спросил молодой шеф внешней разведки СС.
— Каждый день случается что-нибудь серьезное.
Канарис отпил из высокого бокала. Вино было хорошее, французское. Преимущества мира с Францией заключались в том, что такое хорошее вино доставалось лишь достойным людям. Если оно станет трофеем, его будут пить фельдфебели.
— Гейдриха решено осчастливить Богемией, — сказал Шелленберг. — Но он не оставит своего поста здесь.
Он чувствовал, что Канарис намерен сообщить нечто важное, но, не имея привычки делать подарки, прикидывает, что может получить взамен.
— Я намерен направить записку Гиммлеру, — сказал Шелленберг. — Я убежден, что ваши источники резко занижают военный потенциал Советов. В частности, вы с презрением пишете об их новых танках. Это хорошие танки.
— Может быть, — слишком легко согласился Канарис. — Я как раз думал о Советах. Что особенного сообщают ваши агенты?
— Особенного? Я бы сказал, там царит затишье.
— Политическое?
— Да. Готовятся перемены в Государственной безопасности.
— Я и без вас, Вальтер, знаю, что Ежов дышит на ладан, а Сталин готов кинуть его на съедение волкам Берии. Но не странно ли, что он все еще держится? А подобные доклады и предсказания мы получаем с начала тридцать восьмого года.
— Сталин непредсказуем. Он — политический гений.
— Осторожнее, Вальтер. Политический гений в современном мире только один. Второму нет места.
Шелленберг по-юношески смешался — тонкая кожа щек зарделась.
— Я не имел в виду фюрера, — сказал он. — Это несоизмеримые величины.
— Разумеется. Тогда скажите мне, коллега, что вы слышали о русском Институте полярных исследований? Или, короче, Полярном институте?
— В первый раз слышу, — сказал Шелленберг.
— Один из моих агентов, — сказал Канарис, — был заключенным в лагере, на Полярном Урале. В исключительных случаях мы идем на это — малый срок, уголовное преступление, ничего политического.
— Вы счастливый человек, адмирал, — сказал Шелленберг. — Я был бы счастлив иметь агентов, готовых идти в сталинский концлагерь.
— Он возвратился.
— И что же? — насторожился Шелленберг. — Ежов открыл еще три лагеря? Или расстреляли еще сто тысяч кулаков?
— Всего один лагерь. И называется он Полярный институт.
— В Ленинграде есть Арктический институт или что-то в этом роде.
— Институт, о котором я говорю, существует уже пять или шесть лет. Представьте себе, Вальтер, в тундре, поблизости от Ледовитого океана, воздвигнуты здания научных корпусов, складов, туда подведена железная дорога.
— Одноколейная линия проходит вдоль всего Урала.
— Не перебивайте меня, Шелленберг. Дело, о котором я говорю, настолько важно, что вам стоит выслушать меня без улыбок.
Принесли мясо. Пришлось замолчать. Шелленберг был встревожен. И не столько тем, что в тундре у Советов оказался какой-то завод или склад — не первый и не последний. И чем дальше они запрятаны в тундру, тем меньшее влияние они смогут оказать на будущий конфликт. Шелленберга больше интересовали склады и заводы у западной границы России. Хотя он не был настолько наивен, чтобы игнорировать неизвестное и тайное строительство в зоне вечной мерзлоты.
— Вы давно знаете об этом? — спросил Шелленберг. И в вопросе уже содержался упрек военной разведке, которая, как всегда, утаивала важную информацию от партии.
— Я потерял не одного агента, стараясь добраться до этого института.
— Значит, вы знали давно.
— Я не знал. Я имел основания подозревать. Уже два года меня смущает это строительство.
— Если бы вы поделились со мной раньше, мы бы объединили усилия и давно туда добрались.
— Вы сами проговорились, коллега, что у вас нет агентов, готовых отправиться в большевистский лагерь.
— Это была фигура речи.
— Отлично сказано! Вы были выдающимся учеником в гимназии!
— Вы не ответили на мой вопрос.
— Только не раздражайтесь. Вы отлично понимаете, Вальтер, что с моей добычей я уже могу идти к фюреру и пожинать плоды моих трудов. Но я обращаюсь к вам, так как полагаю, что в таком важном деле нам следует объединить усилия. Именно нам с вами. Без Гейдриха и даже без Гиммлера.
— Это исключено.
— Я знаю, что исключено. И тем не менее дослушайте меня до конца. Вы, надеюсь, отдаете мне должное и почитаете меня умным человеком.
— И очень хитрым, — вежливо улыбнулся Шелленберг.
— А жаль, я боюсь за хитрых людей, — ответил Канарис. — Обычно они кончают тем, что умудряются перехитрить самих себя. Ешьте, остынет.
Минуту или две они ели в молчании.
— Не беспокойтесь, — сказал Канарис, заметив, что Шелленберг присматривается к официанту, меняющему тарелки. — Вы здесь давно не были. Я выкупил ресторан для своего ведомства. Здесь не бывает ненужных людей. Именно поэтому он открыт в такое неподходящее время года и тем более в такую отвратительную погоду. — Канарис повернулся к окну, их отделяли от ненастья тяжелые шторы.
— Что же необыкновенного в Полярном институте?
— Итак, повторим, — сказал Канарис. Он дотронулся наманикюренным ногтем до четкого пробора. — На Полярном Урале среди вечной мерзлоты строятся семиэтажные корпуса института, туда проводится широкая колея, туда стянуты заключенные нескольких больших лагерей. Там… — Канарис перевел дух и тихо спросил: — Хотите посмотреть фотографии?
Шелленберг кивнул.
Фотографии были маленькие, стопка умещалась в кармане адмиральского кителя.
— Миниатюрная камера, — сказал Канарис. Словно просил прощения.
На первых фотографиях можно было различить большие дома — словно стоявшие не в тундре, а в средней полосе России. Бесконечные склады, вагоны на путях…
— Вы уверены, что все это снято именно там?
— В голой тундре! Рядом с Ледовитым океаном. Но это еще не все!
Шелленберг посмотрел на следующую фотографию и произнес, отодвигая ее к Канарису:
— Это что, рождественская открытка?
— Снято рядом с институтом.
— Что?
— Я не шучу. Ради одной этой фотографии стоило посадить в сталинские лагеря половину моих агентов. Вы понимаете, что это означает?
— Откровенно говоря, я растерян.
— Трудно поверить в то, что не укладывается в привычные рамки. Но я даю слово старого офицера — в Советской России, в снежной тундре, построен не только промышленный комплекс, но и самый настоящий немецкий городок. Да, да! С кирхой, с ратушей…
— Не может быть! Этим домам по пятьсот лет!
— Проняло? — Канарис наслаждался растерянностью коллеги. Он щелкнул пальцами и приказал официанту: — Кофе!
— Зачем это там построено? — спросил Шелленберг.
— Задайте мне вопрос полегче, Вальтер. Но я могу сделать одно реальное предположение: этот городок построен, потому что Сталин готовится к войне с Германией.
— Почему? — Голова Шелленберга работала не столь быстро и ясно, как хотелось. Он знал за собой этот недостаток — тупость в критические моменты. Поэтому он, хороший ученик, не раз проваливался на экзаменах.
— Зачем иначе идти на колоссальные расходы и строить именно немецкий город?
Шелленберг молчал. Он не знал ответа на этот билет.
— Затем, чтобы взорвать его к чертовой бабушке! Именно немецкий город, именно взорвать! — выкрикнул Канарис.
— Нет, — сопротивлялся Шелленберг. — Это слишком дорогое удовольствие для русских…
— Это мы, немцы, можем рассуждать об экономии. А Сталин не знает такого слова. Если ему надо построить в тундре город, он просто приказывает. Если для того, чтобы построить город, надо убить двадцать тысяч человек, заморить голодом еще миллион, он сделает это не моргнув глазом. Для него нет ограничений. И если русские разрабатывают сейчас новое секретное оружие, чтобы уничтожить Германию, Сталину может доставить наслаждение провести испытания именно на немецком городке.
— Эти дома из фанеры? — спросил Шелленберг.
— Мой агент принимал участие в строительстве городка. Там все натуральное. Знаете, как его называют заключенные?
— Разумеется, нет.
— Его называют Берлином. Смешно?
— У меня возникла одна идея, — сказал Шелленберг. — Вы же сами сказали, что Сталин непредсказуем. Допустим, что он решил создать там зимний туристический центр…
— И строить его в строжайшей секретности? Чушь!
— Тогда для нас самое важное, — сдался Шелленберг, — узнать, что это за оружие.
— Великолепно! И у меня есть некоторые соображения по этой части. Для чего мне надо подключить к работе вашу русскую агентуру из управления А-6.
— Я должен буду доложить об этом шефу.
— Нет, Вальтер, вы не будете об этом докладывать, — твердо возразил Канарис.
Принесли кофе, ликер и любимое печенье сладкоежки Шелленберга. И тот испытал благодарность к адмиралу.
— Почему я не буду докладывать? — спросил Шелленберг.
— Потому что когда мы с вами будем готовы, то выйдем с совместным докладом к фюреру. Если вы доложите об этом Гейдриху или даже Гиммлеру, вы получите выговор за то, что так отстали от военной разведки. И докладывать Гитлеру будет кто угодно, но не вы, вы же потеряете на этой истории и пост, и карьеру, и доброе имя. — Канарис протянул холеные пальцы через стол и дотронулся до руки Шелленберга. — Вальтер, я искренне симпатизирую вам. И не хочу вашей гибели. Если в ближайшие месяц-два ваши агенты не смогут найти сведений, к которым не нашли хода мои люди, вы погибли. Если мы с вами делаем все сообща, вы сможете занять место Гейдриха, а он пускай остается протектором Богемии и Моравии. И Бог ему в помощь.
Канарис не спеша допил кофе и поставил чашечку на стол.
— Что же должны узнать мои агенты? — спросил Шелленберг.
— За последние годы Сталин арестовал тысячи и тысячи ученых. Но, как вы знаете, Вальтер, далеко не все они гниют в лагерях. Большинство продолжают работать за решеткой. И это коммунистам выгодно — они имеют рабов, благодарных им за то, что живы.
— Не говорите об этом Гиммлеру, — улыбнулся Шелленберг. — Он умрет от зависти.
— Мы далеко отстаем в масштабах и цинизме… Хотя, допускаю, догоним. Если ввяжемся в большую европейскую войну.
— Фюрер не допустит этого. Он величайший мастер ходить по острию ножа.
— А когда он поскользнется, то угодит на лезвие яйцами, это очень больно.
Шелленберг отвернулся, скрывая улыбку. В своих шутках Канарис заходит слишком далеко. И не хочет понимать, что дозволенное адмиралу не дозволено молодому подчиненному Гейдриха.
— Вся логика нашей империи, — продолжал Канарис серьезным голосом, — толкает нас к войне. Вы знаете Чехова?
— Это русский писатель?
— Правильно. Мюллер никогда о нем не слышал. Чехов писал где-то, что если в первом действии драмы на стене висит ружье, то в четвертом акте оно должно выстрелить. Мы живем в стране, где ружье слишком давно висит на стене. Мы вооружены куда сильнее, чем нужно для аншлюса. Фюрер воображает себя мессией. Он, безусловно, втянет нас в войну.
— Не с кем, — осторожно возразил Шелленберг.
— А Польша? А Греция? А Югославия? Гитлер презирает эти народы. И полагает себя безнаказанным. И потому он пойдет на Восток. Сталин тоже знает об этом. Он страшится измены в своем лагере, но еще больше страшится нас.
Канарис был циничен, он был циничен даже по отношению к фюреру, и это претило Шелленбергу, который понимал, что рано или поздно цинизм Канариса, его показная беспартийность приведут его к измене. И тогда надо будет держаться от него подальше.
— Мы отошли от основной темы, — мягко, но со скрытым упреком сказал Шелленберг.
— Вы правы, коллега, — ответил Канарис. — Все слишком завязано в один клубок. Так вот, помимо ученых-физиков, которые арестованы, так сказать, естественным путем, за пересказанную сплетню или плохое социальное происхождение, по моим сведениям, есть большая группа физиков и близких по специальности ученых и инженеров, которые были изъяты из своих институтов за последние пять лет без всякого суда. Кто они, что о них известно, кто из них вернулся… это должны узнать ваши люди.
— Вряд ли это возможно.
— Возможно. У этих профессоров и инженеров остались семьи. Я допускаю, что они каким-то образом поддерживают отношения.
— Почему именно физики?
— К сожалению, я не могу сейчас прочесть вам, мой юный друг, лекцию об атомной физике, но я обязательно пришлю вам папку, Вальтер, а вы обещаете мне прочесть ее сегодня же ночью. Это изумительно интересное чтение. Некоторые физики подозревают, что мы имеем дело с оружием будущего, с ужасным оружием, мой друг.
— Почему его нет у нас?
— Потому что у Сталина нашлись головы, которые догадались об этом, и нашлись лишние сто тысяч рабочих рук, чтобы все это сделать. Я хотел бы ошибиться, но боюсь, что я прав.
— Что еще должны сделать мои агенты?
— Проверить, как действуют урановые рудники в России и не закупала ли Россия уран, пусть через подставных лиц, на мировом рынке.
— Почему именно уран?
— И третье, не менее важное: поднимите всю вашу агентуру в Америке, чтобы выведать, чем занимаются физики, сбежавшие из рейха. И их еврейские друзья.
— Почему именно они?
— Эти люди имеют все основания бояться и не любить нас. Значит, быть нашими врагами.
— Это потребует времени, мой друг.
— Времени у нас нет, Вальтер.
18 марта Вальтер Шелленберг доложил Гиммлеру о том, что, по сведениям его агентуры в России, русские разрабатывают новое оружие, вернее всего — основанное на разложении атомов. Гиммлер сначала не понял, что это за оружие, и решил, будто речь идет о новых отравляющих газах. И потому приказал Шелленбергу представить письменный доклад, который рейхсфюрер СС изучит на досуге. Теперь наступило время сделать решительный ход. Шелленберг не любил осложнений и с отвращением воспринимал неудовольствие начальства. Он всю жизнь старался быть хорошим, но незаметным учеником.
— По моим сведениям, — сказал он, глядя на ковер, которым был устлан пол в кабинете шефа, и прослеживая медленным взглядом сложный персидский завиток, — военная разведка тоже вышла на эти данные.
— Не исключаю, — буркнул Гиммлер, видно, думая уже о другом. — В конце концов, они должны иногда работать.
— Адмирал настолько встревожен, что послезавтра идет на прием к фюреру…
Шелленберг не поднимал глаз, потому что знал — Гиммлер уже уперся в него сверкающими стеклышками пенсне, и встретить его взгляд означало выдать свою хитрость — Шелленберг не выдерживал взгляда рейхсфюрера.
— Когда его принимает фюрер? — спросил Гиммлер.
— Послезавтра, — ответил Шелленберг.
— Мы должны доложить раньше, — быстро сказал Гиммлер.
— Завтра воскресенье, господин рейхсфюрер, — напомнил Шелленберг. — Фюрер намерен провести его в Оберзальцберге.
— Так какого черта вы тянули с докладом, Шелленберг! Вы что, не могли ко мне прийти на день раньше? Или хотя бы предупредить меня. — Гиммлер быстро поднялся с кресла и, обойдя стол, навис над Шелленбергом. Тот вскочил, всем своим видом изображая раскаяние. — Вы думаете, я не знаю, что все это значит? — Гиммлер побледнел от гнева. — Я все знаю! Вы спелись с Канарисом! На лошадях катаетесь? В лесу? Чтобы никто не подслушал, как вы планируете измену рейху?.. Молчать!
Гиммлер поднял трубку белого телефона — прямая связь с рейхсканцелярией. Но фюрер уже уехал — дорога была плохая, кортеж не мог двигаться достаточно быстро, поэтому Гитлер решил покинуть Берлин чуть пораньше, о чем Шелленберг был осведомлен.
Гиммлер бросил трубку.
— Что вы скажете в свое оправдание? — спросил он, словно Шелленберг должен был высказать последнее желание перед неминуемой казнью. Но Шелленберг по тону шефа уже понял, что гнев стихает.
— В тот момент, как я проанализировал информацию, я тут же отправился к вам.
— И долго анализировали?
— Честно говоря, — вздохнул Шелленберг, — я недостаточно разбираюсь в физике. И если бы не поспешность адмирала Канариса, я бы, может, и сегодня к вам не пришел.
— Вот именно! В этом и есть ограниченность моих сотрудников. Вместо того чтобы обратиться к тем, кто компетентен в данном вопросе, они предпочитают глядеть по сторонам, и в результате плоды пожинают посторонние. Вы меня поняли, Вальтер?
«Они все называют меня Вальтером не потому, что подчеркивают этим нашу близость или равенство, а наоборот, чтобы показать, что я в их глазах мальчишка».
Так как было очевидно, что Шелленберг все понял и раскаивается, Гиммлер отпустил его, сказав, что постарается получить аудиенцию у фюрера по крайней мере вместе с Канарисом, если уж не удастся сделать это раньше.
Что и требовалось доказать.
Адольф Гитлер подошел к карте мира, висевшей на стене его кабинета в рейхсканцелярии.
Кейтель, обогнав его, ткнул указкой в точку, о которой шла речь в докладе Канариса.
Эта точка лежала в столь безбожном отдалении от всех прочих мест и городов Земли, что угроза, исходившая от нее, казалась абстрактной и ненастоящей.
Фюрер смотрел на карту. Остальные молчали.
Во время всего доклада и популярных разъяснений Канариса о сущности ядерного распада Гитлер казался невозмутимым и ничем не показал своего отношения к событиям. Потом спросил, а что делается по этому вопросу в Германии. Срочно вызванный в рейхсканцелярию Шахт сообщил, что ничего, за исключением теоретических исследований. Канарис уточнил, что это объясняется массовым отъездом физиков из рейха, поскольку большинство из них евреи.
— Понятно, — сказал тогда Гитлер.
— Они оседают во Франции или в Америке.
— Больше в Америке. Это еврейская империя, — сообщил фюрер.
Никто не оспорил этого заявления.
— И в Америке наверняка уже делают такую же бомбу, — сказал Гитлер. Он не спрашивал, он утверждал.
— Мы мобилизовали всю нашу агентуру, — сказал Гиммлер. — Записка о том, кто и где работает над этой проблемой, уже практически готова. Но насколько мы знаем, практических результатов и даже общей государственной программы у американцев пока нет.
— Завтра они узнают о русских, послезавтра примутся за дело, а через три дня всех обгонят. Когда мы можем начать нашу программу?
Фюрер обернулся с этим вопросом к Гиммлеру.
— Мы уже созвали ученых в Берлин. Завтра я встречаюсь с Гейзенбергом. Это мировая величина.
— Правильно, — согласился Гитлер. — Покажите мне еще раз на карте…
Он долго разглядывал точку на карте. Все молчали.
— Любопытно, — сказал он, прослеживая взглядом линию, соединяющую Берлин и Полярный Урал. — Сколько потребуется нашему самолету, чтобы долететь туда и возвратиться обратно? Ты меня слышишь, Герман?
— Это непростой перелет, — ответил Геринг. Он был в новом серо-голубом мундире рейхсмаршала авиации. Воротник был немного туговат, и оттого шея стала красной и щеки тоже потемнели. — Скорее всего это самоубийственный перелет.
— Почему?
— У меня нет самолета, который мог бы долететь до Урала и вернуться.
— А у русских есть! У литовцев, у ничтожных литовцев есть! Все летают чуть ли не вокруг Земли — лишь рейхсмаршал Геринг таких машин не имеет. Тогда вызовите мне из Америки Линдберга — он мне нравится. Славный парень и настоящий ариец. Пусть прилетает со своим самолетом.
— Какую цель вы ставите нам, мой фюрер? — спросил Геринг, будто и не было первоначального отказа.
— Самую простую — долететь до места, сфотографировать с воздуха и благополучно возвратиться! — Фюрер говорил тоном учителя, давно уже разочаровавшегося в своих учениках.
— Это бессмысленно, мой фюрер, — отважно бросился в бой Геринг. — Для того чтобы сфотографировать этот объект, мы должны будем рассчитать полет таким образом, чтобы машина оказалась над объектом днем. А днем не только фотограф видит свою цель, но и цель видит фотографа.
— Пускай его увидят, — сказал Гитлер. — Мне важно, чтобы он вернулся.
— Я сегодня же поговорю с генералом Мильхом, — задумчиво произнес Геринг. — Мне кажется, я нащупал одну идею…
— Я даю тебе время до завтра, Герман, — сказал фюрер. — И учти, что это будет не последний такой полет. — Гитлер обернулся к руководителям разведки: — Вам же я приказываю считать этот проект русских опасностью номер один. Не возражай, Генрих. — Эти слова и жест предназначались для желавшего что-то сказать Гиммлера. — Моя интуиция говорит о том, что именно там, у полюса, и зарождается великое столкновение космических сил. Лед и пламя! Мы должны хранить холод!
Фюрер отпустил всех. Он был озабочен проблемой, представлявшей в его глазах куда большее значение для судеб мира, чем возможная и даже желанная война с большевизмом.
Уже давно было известно о возникновении при манипуляциях с радиоактивными веществами опасного излучения. Оно могло быть смертельным, оно могло быть мгновенным и длительным, как эманации радия, оно могло стать дополнительным фактором бомбы.
Матя не раз напоминал Алмазову, что необходима отдельная биологическая лаборатория, но по каким-то неведомым Мате причинам Алмазов сопротивлялся, утверждая, что этим занимаются в специальном институте. «Наше дело рвануть — а про всякие лучи они понимают лучше нас».
Ничего не добившись от Алмазова, да и не будучи достаточно настойчив, Шавло все же уговорил Александрова выделить для исследований хотя бы двух человек из его лаборатории. У Александрова же не хватало людей, а те, что были, часто болели, потому что Алмазов не соглашался завозить сюда овощи и давать витамины. Академикам — ладно, но просто сотрудникам института, которых несколько сотен, — никогда! «Голодные злее будут». Так что, хоть в шараге и было получше, чем в лагере, люди болели и умирали.
Алмазов, не желая тратить время на радиационную защиту, поступал по глубокому убеждению, что невидимого не существует. Это было частью его стихийного, а затем укрепившегося на полях Гражданской войны атеизма. И уверения Шавло в существовании невидимой опасности он воспринимал как очередную хитрость директора института, желавшего за государственный счет улучшать кормежку своих людей и увеличивать штаты. Даже ссылка на рентгеновские лучи, которые просвечивают человека насквозь, на Алмазова не производила должного впечатления. «Так ты завтра и фотоаппарат объявишь вредным», — сказал он.
Где-то что-то он докладывал, где-то в других институтах НКВД кто-то занимался проблемами радиации, но здесь, в Полярном институте, Шавло с трудом добился согласия своего же подчиненного на дополнительные опыты. Впрочем, Матя подозревал, что и Александров, и Франк отлично осознают опасность радиации, но не хотят рисковать ни собой, ни товарищами. В конце концов Александров сдался и выторговал под этот проект новые валенки к Новому году для всех сотрудников, а также получил и электрика, который был нужен, чтобы по описаниям и привезенным из Германии расчетам сделать счетчик Гейгера — такой, чтобы его можно было носить с собой.
Шавло заглянул в радиационную группу в середине марта. Группа размещалась в подвале, в сырости и холоде — Александров к себе наверх ее не допустил. В узком длинном подвале работала стационарная модель счетчика, на свинцовом столе лежала связанная крыса, на белых циферблатах дрожали стрелки. Сами разработчики стояли за свинцовым экраном, в котором были прорезаны окошки, — через них с помощью своеобразного ухвата связанных крыс отправляли на испытательный стол. В клетках вдоль стены бегали, сидели, лежали, подыхая, другие крысы и морские свинки. На клетках были бирки — степень облучения и дата облучения.
Мате достаточно было увидеть животных, попавших под сильное излучение, чтобы у него засосало под ложечкой от плохого предчувствия.
На следующий день он обманом, чуть ли не силой затащил сюда Алмазова. На Алмазова лаборатория и морские свинки не произвели должного впечатления. Но все же он спросил осунувшегося и побледневшего за последние месяцы Сашу Гуревича:
— Чем можно прикрыться от ваших лучей?
— Рекомендуем свинцовый костюм, — ответил Гуревич.
Хазин, который фотографировал крысу сквозь окошко в свинцовой стенке, обернулся и добавил:
— Нам бы тоже не помешало. По костюму. Хотя спирт тоже помогает.
— Вылечивает? — серьезно спросил Алмазов.
— Забываешься, — ответил легкомысленный Хазин.
Когда они уходили, Алмазов сказал:
— Если морские свинки не нужны, их можно пустить на корм.
Он не сказал — кому, понимай как знаешь, но у Гуревича вырвалось:
— Вы с ума сошли.
Алмазов отметил про себя, что Хазин фотографирует и у него есть аппарат со штативом. Он всегда отмечал и запоминал нужные вещи и полезных или вредных людей. Надо будет во время испытаний взять Хазина с собой — лишний фотограф не помешает.
Об этом он сказал Мате, когда они выбрались из подвала под мартовское — над самым горизонтом — негреющее солнце.
— Разреши, переведу их на особое питание? — спросил Матя.
— Но только двоих, не больше. Хотя они могли бы и своими жертвами питаться.
Алмазов засмеялся.
Дополнительное питание не помогло.
Саша Гуревич умер через три дня — неожиданно отказало сердце. Но Александров сказал Мате, что Саша был все равно обречен: они с Хазиным получили слишком большие дозы радиации. И вообще надо эти опыты прекратить, потому что радиация из подвала проникает на другие этажи. И Матя согласился, тем более что до испытания оставались считаные дни, переносной счетчик Гейгера все равно не успели сделать, да и результаты испытаний оставались тайной будущего — пока «Машка» не взорвется, никто не скажет, какое она дает излучение.
Матя думал, что вопросы радиации придется отложить на будущее, но оказалось, что визит в подвал имел последствия, инициатором которых оказались Алмазов и те неведомые Мате силы в медицинском институте НКВД, которые тоже занимались радиацией как возможным оружием будущей войны. Их опыты были настолько засекречены, что и сам Алмазов лишь перехватил как-то слухи, что испытания там проводят на людях.
Позвонил заместитель Алмазова полковник Акакий Баскаев, крайне вежливый осетин, настолько заросший рыжими волосами, что Мате казалось, что он так и не смог произойти от орангутана.
— Товарищ Шавло, завтра в тринадцать совещание по медицинским вопросам. Пожалуйста, не забудьте.
Совещание проходило в кабинете Алмазова.
Приехали два чина с петлицами капитанов госбезопасности. С ними штатские жуликоватого вида, какой бывает у лекторов по марксизму-ленинизму. Алмазов сказал, представляя штатских:
— Эти товарищи из нашего медицинского института. Ученые-гигиенисты. Я правильно говорю?
— Правильно, — ответил за гигиенистов один из капитанов.
— А других наших товарищей не представляю, — сказал Алмазов.
Те щелкнули каблуками, признавая таким образом право Мати на существование.
Жулик, что был потолще и лысый, развернул план полигона. Оказывается, он был введен в курс дела. Матя с удивлением поглядел на Алмазова — тот кивнул, подтверждая этим свое решение.
Лысый жулик прикрепил план к стене заранее заготовленными в пухлом кулачке кнопками, а второй жулик, курчавый, начал читать диспозицию, показывая указкой, где решено расположить клетки с дикими животными и домашним скотом, какие будут привезены растения и даже микроорганизмы. Мате стало скучно, он отвлекся, но тут услышал слово «слон».
— Вот именно, слон, — повторил жулик, встретившись с удивленным взглядом Мати. — У нас достигнута договоренность с Свердловским зоопарком, который как раз намерен проводить списание ряда животных по возрасту и болезням. Мы поговорили с товарищами. Они согласились. Сейчас мы готовим зверей к доставке.
— Какого черта вам понадобился слон? — удивился Алмазов.
— В соответствии с научным заданием, — смело парировал лысый жулик. — Нам было приказано охватить испытаниями максимально возможный круг живых существ.
— А это даже интересно, — сказал Матя.
— Ты не понимаешь, — огрызнулся Алмазов. — Ведь слона сюда волочить надо, ему нужны охрана, люди, жратва, тонны бананов, мы где это все достанем?
— Ну уж это преувеличение! — обиделся за слона один из капитанов. — Слоны картошку едят, морковь и капусту. Нормально питаются.
— Обойдемся без слона, — отрезал Алмазов.
— Но мы везем и других животных.
— Других везите, — отмахнулся Алмазов, — каких хотите везите, но чтобы без слонов.
Матя подумал, что наверняка они притащат тигра, жалко тигра, убьют ведь.
А жулик тем временем продолжал твердить о трудностях с обогревом воды, из-за чего не удалось выполнить задание по рыбам и земноводным.
— Хорошо! — рявкнул Баскаев. — Закругляйтесь. Как насчет человеческого материала?
Матя насторожился.
— Здесь уполномочен я, — сказал один из капитанов — человек без лица, не запомнишь, даже прожив год в одной комнате. — Принято решение о привлечении к опыту семидесяти человек разного возраста и обоего пола, преимущественно мужского.
— Женского зачем? — спросил Баскаев.
— У них другие реакции, — сказал толстый жулик. — Совсем другая физиология. Очень полезно для сравнения.
— И как их будете размещать? — спросил Алмазов.
— Мы предполагаем воспользоваться вашим советом, — сказал капитан, преданно глядя на Алмазова. — Мы создаем из материала временные семейные единицы, чтобы расселить их по основным строениям города.
«Господи, — понял Матя, — они собираются убивать людей! Этого еще не хватало!»
— Погодите, погодите! — Матя отложил карандаш. — Зачем вам люди?
— А кто, вы думаете, в городах живет? — Баскаев был явно готов к такому вопросу. — Мыши, да?
— Мыши и морские свинки предусмотрены, — поспешил вставить курчавый жулик. — О них мы доложим ниже.
— Спасибо, уже доложили, — сказал Матя. Он поднялся. — Я протестую против включения живых людей в число подопытных животных.
Оба капитана и жулики смотрели на Матю обалдело. Словно он оскорбил их дурными словами.
— Товарищ Шавло, — произнес Алмазов. — Вы, видимо, забыли, что мы здесь собрались не шутки шутить. Идет речь о создании особого оружия, необходимого социалистической родине. Вы забыли об этом?
Матя отвернулся. Он уже был свидетелем эмоциональных спектаклей Алмазова. Они исполнялись не для него и не для Баскаева, которые знали Алмазова как облупленного, их должны были с содроганием выслушивать случайные зрители. И нести слухи о железном характере комиссара во все концы страны.
— Мне все равно, какое у нас оружие! — тоже закричал Шавло. — Не вы этих людей рожали, и не вам их убивать! Я не намерен участвовать в преступлении.
— Значит, вы намекаете на то, что я преступник? — спросил Алмазов.
— Не намекает, он так говорит, — подсказал Баскаев.
— Я только говорю, что не позволю ставить под угрозу жизнь людей, тем более женщин.
— А ну-ка, капитан, — произнес Алмазов, указуя пальцем на одного из командиров, — откройте глаза нашему профессору на то, кому он сочувствует и кого он называет людьми и даже женщинами. Давайте читайте!
Капитан тут же вытащил из портфеля аккуратно сложенные листы бумаги, и Матя с фатальным ужасом понял, что вся эта сцена с первого до последнего слова была предугадана Алмазовым и сыграна им. Вплоть до жеста капитана, доставшего списки.
— Подряд читать? — спросил капитан.
— Да, покажите нам, кому мы должны сочувствовать.
— Арский Наум Соломонович, — прочел капитан. — Приговорен к высшей мере наказания за участие в террористическом акте против детского дома в городе Туле, в результате которого погибло шестеро детей и около двадцати было искалечено…
— Сволочь! — с чувством сказал Баскаев и сжал покрытые рыжей шерстью кулаки.
— Аюталибов Хасан, — продолжал монотонно и медленно, будто недавно научился читать, капитан, — приговорен к высшей мере наказания за шпионско-диверсионную деятельность. Подослан из-за рубежа татарской террористической организацией.
— Дальше.
— Берестов Андрей Сергеевич, боевик партии эсеров, профессиональный убийца и немецкий шпион, приговорен к высшей мере наказания за участие в покушении на товарища Куйбышева.
— Читать дальше? — спросил Алмазов.
Шавло молчал. Он понимал, что ничего не докажет этим ублюдкам, лишь даст Алмазову возможность лишний раз покуражиться над ним. Нет, не сейчас он отомстит ему, но, когда придет его час, месть будет безжалостна.
— Не надо читать, — сказал Баскаев. — Товарищ профессор осознал свою ошибку. Он больше не возражает.
Шавло видел испуганные глаза одного из жуликов. Тот часто моргал и, видно, мечтал об одном — скорее убраться из этого кабинета.
— Товарищ Шавло, — услышал Матя голос Алмазова. — Я даю вам слово коммуниста и работника органов, что все без исключения люди, которые будут участвовать в нашем эксперименте в пределах города, были ознакомлены со степенью риска, которому они подвергаются. Им было сказано, что они могут выбрать между приведением в исполнение приговора и разумным риском… на войне как на войне.
— Это точно, — подтвердил Баскаев.
Шавло молча собрал со стола свои бумажки и пошел к выходу.
Никто его не останавливал. Он спиной чувствовал тяжелые взгляды чекистов и понимал, что его подвели нервы. Надо было держать себя в руках. В конце концов, он ничем не помог этим несчастным. И не мог помочь. И конечно же, Алмазов прав: по крайней мере теперь у них будет какой-то шанс. И он, Матя, позаботится о том, чтобы, если кто-то из них выживет, он был помилован. Надо будет сказать об этом самому наркому Ежову. Вот именно.
И уверенность в том, что он обязательно вступится за осужденных перед наркомом и кого-то спасет, его успокоила. А к вечеру ему удалось забыть о заседании и переключиться на более важные и горячие дела.
Глава 3
4 апреля 1939 года
Когда рейхсмаршал ВВС Герман Геринг дал обещание фюреру немедленно послать к Заполярному Уралу разведывательный самолет, он не кидал слов на ветер. Он вспомнил о «Ханне». «Ханна» было кодовым словом для аэроплана «Хейнкель-115», секретно изготовленного для выполнения особых миссий Люфтваффе.
Активная деятельность русских на побережье Ледовитого океана долго не вызывала особого интереса в Германии, так как этот район не мог влиять на расстановку сил в будущей войне. Русские осваивали эту ледяную пустыню, потому что нуждались в пути снабжения Дальнего Севера и Восточной Сибири. Железных и автомобильных дорог эта империя не удосужилась там построить, и на всем гигантском пространстве, превосходящем Европу, лишь одна железнодорожная нитка, созданная царем для вторжения в Северный Китай, прочерчивала Сибирь, прижимаясь к ее южным пределам.
Разумеется, отсутствие приоритетных интересов не означало полного пренебрежения к тому, что там происходит. Известно было, что за внешней частью айсберга — полярными станциями и посылкой учителей к эскимосам и лопарям — скрывалась империя концлагерей, таинственная и гигантская. Люди, проводившие годы в страшном рабстве в тайге и тундре, рубили там лес, копали золото и никель — кормили сырьем русскую военную машину. Но оттуда было почти невозможно убежать и добраться до цивилизованных мест, поэтому представления немецкой разведки о системе и функциях лагерей Севера были отрывочны и не всегда точны.
Интерес к русской Арктике увеличивался по мере неуклонного приближения к войне, которая не могла не вспыхнуть между столь близкими по сути и столь враждебными декларативно тоталитарными системами. Нет больших врагов, нежели соседи или различающиеся немногим племена и религии. Католики резали гугенотов куда яростней, чем сарацин.
Россия стояла на пути господства арийской Германии над всем миром и выполнения фюрером исторической миссии спасения мира от космического огня и очищения льдом человеческой расы — расы сверхлюдей, которая возвратит себе утерянное некогда господство над миром. Он обязан был, как учил великий Горбигер — неистовый седобородый философ-воитель, — очистить Землю от тех, кто произошел от непредвиденных грязных мутаций конца третичного периода, кто умело подражает людям, даже может совокупляться с человеком, порождая новых мутантов, — они страшнее животных и дальше от человека, чем животные, так как чужды естественному порядку Вселенной.
Ради великой цели предстояли великие жертвы, но в конце ждала великая слава. И к ней надо было идти хитростью, накапливая силы, и напролом, когда силы уже накоплены.
Гитлер надеялся в ближайшие годы избежать войны с Англией и Америкой, ибо часть их населения, особенно в Англии, относилась к лучшим образцам арийской расы, и обрушить первый удар на Восток с двумя целями — сокрушить еврейский коммунизм, ограничить и по мере сил привести к ничтожеству грязных славян, а затем пробить путь в Тибет, в Индию, где ждала истинная мудрость древних магов. Но все это могло случиться только после того, как Третий рейх станет достаточно сильным, чтобы сокрушить Сталина, скорпиона, почти наверняка не лишенного доли еврейской крови, как то было и с их первым вождем — Лениным и всеми уничтоженными скорпионом вождями первого поколения. Гитлер понимал Сталина, видел даже порой аналогии в их политике и учитывал, так как считал себя, в отличие от Сталина, человеком гуманным и мудрым, его ошибки и слабости, чтобы их не повторять. В свое время французская революция погубила себя тем, что якобинцы перебили друг друга. То же пытается сделать Сталин. Гитлер уже помог ему, использовав патологическую подозрительность и трусость предводителя русской коммунистической банды, сожрать собственных генералов и маршалов. Но это лишь первый ход в игре.
Сейчас, после успеха в Мюнхене, после аншлюса Австрии и присоединения Чехословакии и Мемеля, наступает пора решительных мер.
Весной 1939 года Гитлер уже знал, что следующим шагом на его пути станет еврейско-славянская Польша, ненавистная еще с Первой мировой, унизившая Германию, отобрав с помощью Франции ее исконные восточные земли. Польша нужна не сама по себе. Польша — это лишь плацдарм для покорения России. Хотя надо будет любой ценой добиться на этом этапе благожелательного нейтралитета Сталина. И Гитлер верил в то, что ему снова удастся обвести вокруг пальца этого кавказского бандита, неспособного подняться над сегодняшней выгодой и сегодняшними страхами. Он же рожден восточным базаром — ему надо показать пачку денег, и тогда все вино — ваше.
Так Гитлер сказал как-то близкой ему женщине, Еве Браун, хотя и не имел обыкновения обсуждать с ней политические проблемы. Но тогда понравилась собственная мысль, и надо было выразить ее вслух, чтобы понять, как она звучит. Ева в тот момент вязала, она была во всем покорна фюреру, она бросила сцену и кино, как только Гитлер приблизил ее к себе, и эта тихая, светлая улыбка, с которой она неизменно встречала своего повелителя, это спокойное стремление к домашнему уюту и видимое равнодушие к светской жизни, с одной стороны, радовали Гитлера, с другой — раздражали. Он не мог себя понять, оттого сердился. На самом деле он продолжал любить Гели Раубал, упрямую, страстную, может, даже неверную ему племянницу, которая закатывала скандалы фюреру, шедшему тогда к власти, если он не пускал ее в Вену, где она брала уроки оперного пения. Он сделал Гели предложение. Он готов был на все, чтобы подчинить ее себе хотя бы с помощью супружеских законов, непокорную и отчаянную Гели. Она была еще юной девушкой, он — сорокалетним и уже могущественным лидером национал-социалистов. Она покончила с собой после того, как Гитлер перед свадьбой категорически запретил ей возвратиться к своим музыкальным занятиям в Вене. Она посмела покончить с собой без его разрешения для того, чтобы сломить его, наказать, унизить перед всем миром! Но не подчинилась. Гитлер даже не смог быть на ее похоронах — его кузина, мать Гели, увезла тело в Австрию, а Гитлера, как радикального политика, в Австрию тогда не пускали. И в тридцать восьмом году, присоединив Австрию к империи, он специально распорядился о примерном наказании всех тех полицейских и правительственных чиновников, которые санкционировали, подписывали и исполняли запрет на его поездку.
Гитлер отдавал себе отчет в том, что Ева красива, что Ева покорна, что она — образец нордической женщины. И ему, хоть и был он уже всесилен в империи, льстили робкие и восторженные взгляды, которые кидали на Еву дипломаты или офицеры на торжественных приемах и выходах. Но если он всегда боялся измены Гели Раубал, в верности Евы он был, разумеется, уверен, и это отнимало у любви пряность и трепет авантюры, ибо Гитлер все равно оставался авантюристом и игроком. Гели заставила его проиграть — Ева была слишком легким выигрышем.
— Ему надо показать пачку денег — и все вино наше, — сказал Гитлер о Сталине, — потому что он рожден восточным базаром.
— О да, — ответила Ева, подняв на Гитлера преданный взгляд. В тот момент она думала о том, как плохо и стыдно перед собой и мамой жить в грехе, даже если твой возлюбленный — великий человек. Почему же он ни разу не сделал ей предложение? Почему он не хочет должным образом оформить существующие между ними отношения, почему он не хочет, чтобы у них были дети? Почему? Ведь он же делал предложение этой истеричке Гели Раубал. Ева об этом знала.
Гитлер отошел к окну. Мягкие склоны гор уже освобождались от снега. Небо было синим, весенним и чистым, как бывает только в горах.
Конечно же, Сталин, как тертый бандит, чует, что главная опасность для него таится именно в Гитлере. Конечно, он суетится, уничтожая соратников, объявляя их фашистскими шпионами. Конечно, под Сталиным, под его сапогами лежит гигантская империя, где бесплатно с рассвета до ночи трудятся миллионы запуганных рабов… Интересно, а почему он всегда ходит в сапогах? Наверное, это комплекс человека, изгнанного из духовного училища и не прошедшего в молодости очищающего горнила войны. Этот Сталин фактически не воевал, на него не падали снаряды, и в него не целился враг. Тогда понятно, почему он всегда ходит только в сапогах и военной форме. Ну что ж, мы заставим тебя использовать форму по назначению — в России отвратительные дороги, когда ты будешь бежать в Сибирь, тебе пригодятся твои сапоги…
— Сталину пригодятся сапоги, когда он будет бежать в Сибирь, — произнес Гитлер вслух, и Ева, оторвавшись от вязания, сказала:
— Конечно, Адольф.
Что же он строит там, в полярной ночи? Почему именно немецкий город? Неужели это на самом деле репетиция удара по рейху? А не стоят ли за этим городом другие, куда более страшные и могущественные силы — силы космического пламени, найденные еврейскими магами и колдунами? А может быть, город создан для ритуального сожжения в расчете на то, чтобы перенести заразу этого огня на настоящую Германию?
Гитлер обеспокоился. Как человек, предпочитавший верить в то, что исполняет волю магов и пользуется их тайной и молчаливой поддержкой, он допускал, разумеется, и существование вражеской магии, правда, до тех пор, пока это отвечало его интересам.
Гитлер прошел к телефону и приказал немедленно соединить его с рейхсмаршалом авиации.
Геринга отыскали в Берлине, он был у себя в управлении лесничеств, эту второстепенную должность он исполнял, пожалуй, увлеченней, чем прямые обязанности.
— Герман, — спросил Гитлер. — Я хочу знать, что делается для разведки объекта, о котором мы говорили вчера.
— Я надеюсь, что мы сможем принять меры в ближайшие дни.
Несмотря на то что это была специальная правительственная линия связи, собеседники предпочитали не говорить открыто.
— Не в ближайшие дни, а сегодня, вчера!
Геринг засмеялся, и Гитлер отвел от уха трубку, чтобы не слышать этого смеха. Герман родился летчиком и солдатом, он хороший товарищ, верный, надежный член партии, но никогда не станет умным человеком.
— Я нашел машину, — сказал Геринг. — Мною вызваны для беседы надежные пилоты.
— Привлеки к делу Канариса и Шелленберга, — сказал Гитлер. — Они в курсе дела, каждый сможет тебе чем-то помочь, если они проникнутся духом крайней важности этой миссии для судьбы рейха. Ты понял меня?
— Да, мой фюрер. — Геринг не смеялся. — Я сделаю все от меня зависящее.
— Где находится твой самолет?
— В Лапландии, — ответил Геринг.
После короткой паузы Гитлер вспомнил о «Ханне» и рассердился на себя настолько, что, холодно попрощавшись с Герингом, повесил трубку.
О «Ханне» должен был вспомнить он сам, а не Герман! Ведь создание ее было предпринято по идее фюрера, когда стало понятно, что в ближайшие годы или месяцы придется воевать на Крайнем Севере. Для того чтобы отрезать Россию от возможных союзников, следовало захватить Скандинавию и установить контроль над Северным морем, что требовало создания хорошо поставленной воздушной полярной разведки.
Год назад заводы Хейнкеля, разрабатывавшие модель скоростного торпедоносца дальнего действия «Хейнкель-115», двухмоторного гидроплана, поднимавшего до десяти тонн и имевшего скорость более 350 километров в час, получили задание на базе этого гидроплана разработать самолет-разведчик, который в дополнение к существующим качествам мог бы погрузить резервный запас горючего для дальнего перелета, садиться и взлетать как с суши, так и с любого озера или реки, а также подниматься до высоты в 6–7 километров. Первый из этих гидропланов, снабженный всем, что могло понадобиться для полетов в сложных полярных условиях, был назван «Ханной».
Тогда же встала проблема — а откуда же он будет совершать полеты над Норвегией, Баренцевым и Карским морями, Исландией и Гренландией? Базирование «Ханны» в Любеке было невыгодно. Для того чтобы добраться до целей, гидроплану пришлось бы пересекать Балтийское море, Скандинавию или Финляндию, что почти наверняка лишало полеты секретности.
Помогла стратегия Сталина, который полагал, что для безопасности его страны необходимо как можно дальше отодвинуть ее границы от жизненных центров, не понимая, что этим он удлиняет коммуникации, и без того безобразные в России. Сталин начал требовать у вполне лояльной к нему Финляндии ее южные, самые плодородные и густонаселенные провинции — так называемый Карельский перешеек. Якобы для обеспечения безопасности Ленинграда от той же Финляндии. С каждым днем ноты и ультиматумы Москвы в адрес Финляндии становились все агрессивнее — и финляндские руководители понимали, что самой Финляндии не выдержать напора России, она не продержится и недели. Потому начались переговоры между финским правительством и правительствами других европейских стран — Финляндия просила помощи у Швеции, Англии, в то же время неофициальная военная миссия посетила Берлин. В финской армии были сторонники мира с Германией, хотя высшее командование во главе с Маннергеймом относилось к такому союзу сдержанно, не столько из-за недоброжелательства к фашистскому правительству или к Германии, как потому, что надеялось избежать войны и рассчитывало на поддержку Лиги Наций, Великобритании и Швеции.
Но все же после тайных переговоров между финскими и немецкими генералами было достигнуто соглашение о том, чтобы переправить на север Лапландии самолет-разведчик «Ханна», который мог принести пользу обоим государствам: и Германия, и Финляндия были крайне заинтересованы знать, что же происходит в полярных областях России.
Осенью «Ханна» успела совершить три пробных полета, но с наступлением полярной зимы ее полеты потеряли смысл. Озеро, на котором она стояла, замерзло, и, хоть «Ханна» была амфибией и могла, поджав поплавки к брюху, выпустить шасси, морозы, дурная погода и невозможность фотографировать ночью делали ее бесполезной. Может, поэтому Гитлер за зиму забыл о гидроплане.
Гитлер сел за письменный стол и стал рисовать гидроплан, реющий над горами. В том, что «Ханна» есть и готова к полету, он увидел благоприятный перст судьбы.
Отношения Германии с Финляндией были настолько нестабильными и антигерманские настроения среди финнов, несмотря на русскую угрозу, так очевидны, что пребывание «Ханны» в Лапландии было одним из самых тщательно охраняемых секретов финских ВВС. Разумеется, и разговора о том, чтобы к отлету гидроплана из Берлина прибыли высокие чины, быть не могло. Канарис, Шелленберг и генерал авиации Мильх попрощались с пилотами в особняке управления А-6, которым руководил Шелленберг, — скромном двухэтажном доме на окраине Берлина.
«Хейнкель-115» не мог взять на борт всех людей, которых желали бы послать руководители разведки: приспособленный специально для полетов в высоких широтах и даже выкрашенный в белый цвет, чтобы легче сливаться со льдом, лишенный опознавательных знаков, гидроплан был переоборудован таким образом, что все свободное пространство было занято запасными баками с бензином. Конструкторы остроумно расположили запасные баки в громадных, похожих на гусиные лапы поплавках и заменили ими торпедные аппараты. Масляный бак буквально вползал в тесную кабину — более трех человек «Ханна» вряд ли разместила бы и обогрела в дальнем перелете. Зато при крейсерской скорости более трехсот километров «Ханна» могла пролететь без посадки до десяти тысяч километров.
В особняк управления А-6 были вызваны трое: первый пилот, ас Испании, кавалер Испанского креста подполковник Юрген Хорманн, оберфельдфебель штурман-наблюдатель Карл Фишер, отобранный авиационной разведкой как опытный воздушный фотограф, имевший опыт работы за линией фронта в конце Первой мировой войны, и второй пилот, сотрудник ведомства Канариса, именовавший себя по старой памяти капитаном, Иван Васильев, самый старший в экипаже по возрасту, ставший летчиком еще в 1912 году в русской армии, уже тогда завербованный немецкой разведкой, ибо, будучи на полетах в Бремене, проигрался в карты и не нашел ничего лучшего, как совершить глупейшую, даже наивную попытку ограбить небольшую ювелирную лавку, и был пойман через час после преступления. К этому греху, не столько страшному, как позорному для поручика, прибавился и другой, когда он совершил неудачный побег из полицейского участка. Спутники Васильева по гастролям и даже его механик так никогда и не узнали, где он провел три дня, сам поручик объяснил свое исчезновение романтическим приключением, а попреки товарищей, которых он заставил поволноваться за свою судьбу, он с ходу отмел. За эти три дня германским абвером поручику была вручена сумма, равная карточному долгу, не более того.
Во время Первой мировой войны пилот Васильев неоднократно впутывался в различные неприятные истории, но никто не мог притом поставить под сомнение его пилотский талант и отчаянную отвагу. Васильев часть войны провел в Севастополе, потом служил в Трапезунде, в Гражданскую летал мало — у него была прострелена левая рука, и он недостаточно владел пальцами — или утверждал, что недостаточно владеет. Но тем не менее он прошел весь путь с Белой армией и был пилотом последнего белого самолета, покинувшего Севастополь трагической осенью 1920 года. Канарис ценил этого агента, но понимал, что Васильева надо держать под контролем, не давать ему много пить и не допустить, чтобы он разбогател. Канарису нужен был трезвый и немного голодный Васильев. Трижды Васильев переходил границу и путешествовал по Советской России, выполнив некоторые важные поручения абвера, но и провалив другие, не менее важные задания. Он был котом, который гуляет сам по себе, теперь, к пятидесяти годам, довольно ободранным котом, но полным фанаберии и убежденным в том, что его славная богатая жизнь только начинается.
Вот этого человека Канарис и предложил Герингу третьим членом экипажа. Во-первых, он был русским и, более того, в отличие от профессионалов-эмигрантов настоящим русским, знавшим жизнь в России и даже побывавшим в Сибири, в зоне, и бежавшим оттуда. Во-вторых, Васильев был верен Канарису, потому что никому, кроме Канариса, не был на этом свете нужен. И Канарис был верен Васильеву. Наконец, Васильев не выносил коммунистов от мала до велика, и эта ненависть была немаловажным фактором для Канариса. Он был согласен на союз с самим дьяволом. Но только против мирового коммунизма.
Шелленберг пытался возражать против выбора Канариса, но ни у него, ни у Гейдриха не было достойной кандидатуры. Васильев был профессиональным разведчиком и притом профессиональным пилотом. Даже в последние годы он не желал уйти на покой, а трудился в небольшой авиакомпании, которая занималась перевозками грузов и почты.
Шелленбергу было интересно посмотреть, как составится экипаж, важнейшее в подборе группы разведчиков — их взаимная лояльность. А здесь попались такие разные люди!
И в самом деле, при первой встрече, когда участников полета оставили в пустой гостиной, а начальство незаметно наблюдало за ними, они держались настороженно и почти враждебно, тем более что не знали, в чем же заключается таинственное и срочное задание, ради которого их сюда привезли, вытащив среди ночи из постелей.
Юрген Хорманн, тридцать три года, сорок боевых вылетов, шесть испанских и два русских самолета на боевом счету, красавец, коротко подстриженный, темноволосый, голубоглазый ариец, известный многим девицам рейха по фотографии в «Патруле» и «Иллюстрирте», был выбран, разумеется, не за красоту и боевые заслуги, а потому, что до Испании участвовал в обеспечении немецких полярных экспедиций и не раз — в поисковых работах. В частности, именно ему удалось отыскать двух спутников адмирала Нобиле.
Хорманн всем своим видом показывал незаинтересованность в старших спутниках и первые полчаса просидел на стуле, закинув сапог на сапог и с преувеличенным интересом читая последний номер географического журнала, который взял со стола.
Карл Фишер, приземистый увалень в роговых очках, вовсе не похожий на человека, который значительную часть жизни провел в путешествиях, чуть церемонно представился остальным и принялся выпытывать у Хорманна, что он знает о причинах такой спешки. Хорманн ничего ответить не смог и не захотел. Тогда Васильев, поджарый и загорелый, с морщинистым мятым лицом и редкими, некогда буйными волосами, отыскал в буфете бутылку и несколько чистых бокалов — он знал, где искать и что искать, ибо лучше своих спутников представлял себе стандартный набор, имеющийся по разнарядке абвера в каждом из конспиративных особняков.
Васильев разлил коньяк в три рюмки, спутники вежливо поблагодарили его, но не присоединились, и Васильев в одиночестве выпил первую, и вторую, и третью рюмки. Он отлично понимал, что немцы, сидящие в гостиной, не так опасаются друг друга, как его — явно иностранца, — никуда не денешься от акцента, хоть уже скоро двадцать лет живешь в Берлине.
Так что наблюдение за экипажем мало что дало руководителям разведки, и по истечении получаса пустого ожидания, так ничего и не выяснив, Канарис и Шелленберг вошли в гостиную в сопровождении полковника из разведки Люфтваффе.
Представляться не пришлось — хоть и нечасто, но портреты и фотографии шефов разведки появлялись в прессе, к тому же каждому из пилотов так или иначе приходилось сталкиваться с обоими.
По предварительной договоренности говорил Канарис.
Решено было ничего, или почти ничего, от экипажа не скрывать, они должны знать, что следует искать и что это может означать. Канарис рассказал, что, по сведениям, полученным от агентуры, русские построили в тундре полигон, изображающий немецкий город. Он показал нечеткие, тайно сделанные фотографии и этим вызвал охотничий интерес у всех троих пилотов. Вернее всего, объяснил Канарис, русские намерены испытать на этом городке радиационную бомбу, надеемся, что у них из этого ничего не выйдет. Но всегда надо исходить из худшего — допускать, что враг силен. Неизвестно сейчас, в самом ли деле речь идет о бомбе или чем-то ином, неизвестен срок испытания бомбы, а в том районе у абвера нет своих людей. Фюрер весьма встревожен таким развитием событий и обращается к пилотам с просьбой сделать все от них зависящее и более того, чтобы проникнуть в тайну русских.
— А если это не бомба, а кино снимают? — спросил, ухмыльнувшись, Васильев со своим режущим немецкий слух откровенным российским акцентом. — От русских можно ждать всего, может, готовится эпопея «Взятие Берлина», на главную роль приглашен еврейский артист Чаплин, который будет играть Сталина.
Канарис вежливо выслушал реплику русского. Юрген Хорманн поморщился, будто укололо в зубе, а Карл Фишер позволил себе чуть наклонить голову, признавая этим как опытный разведчик, что любое объяснение, пусть даже самое дикое, может оказаться правильным, если ты имеешь дело с русскими.
— Если там будут снимать кино, вы должны выяснить, где расположена съемочная аппаратура и где живут великие русские актеры, — вмешался в разговор ироничный Шелленберг.
Беседа с заинтригованными теперь участниками полета продолжалась часа два, после чего шефы уехали, а их сменили разведчики групп обеспечения полета, которые должны были работать с каждым из пилотов в отдельности. Предусмотреть следовало все — от документов для Васильева, которому придется, если самолет удастся посадить неподалеку от города, отправиться туда, взяв на себя самую опасную часть миссии, до русских карт тех краев, достаточно неточных, но все же лучших, нежели немецкие, так как разведочные полеты в Арктике только начинались.
Приезжал профессор физики, который объяснял, какой может быть атомная бомба и по какому принципу она может действовать, — Юрген завел с ним занудный спор на тему, почему мы позволили этим недоумкам из России сделать бомбу, а сами плетемся в хвосте в ожидании, когда нас разбомбят. Юрген оказался порядочным занудой и человеком тоскливым и капризным. Зато Карл Фишер уже на второй день сблизился с Васильевым, потому что не питал к нему нордического презрения, которым был преисполнен Юрген, и знал из опыта старых дел, что лучше попасть в переделку с человеком, который считает тебя своим товарищем, чем ломать фасон и потонуть у самого берега, потому что тебе кто-то забыл протянуть руку. Нельзя сказать, что Васильев ему нравился, — Карл чувствовал в нем подонка того типа, который обычно скрывается за эвфемизмом «авантюрист». Но ведь через неделю они расстанутся, и дай Бог — навсегда.
В последний день перед отлетом полковник из разведки Люфтваффе, который обеспечивал полет, передал им тяжелый свинцовый ящик — от физиков. Если удастся, в ящик надо было набрать земли, как можно ближе к зоне испытаний.
— Ничего потяжелее не нашлось? — спросил Васильев, приподняв ящик за угол.
— Физики говорят, что атомные лучи могут быть очень опасными, — сказал полковник. — А свинец их останавливает.
— Черт знает чего придумали! — буркнул Васильев, но Юрген принял ящик и наставительно произнес:
— Мы выполняем задание партии и лично фюрера. И не имеем права рисковать собой более, чем необходимо.
— Ты будешь рисковать в кабине самолета, а я по горло в воде, — оставил за собой последнее слово Васильев.
26 марта 1939 года три человека сошли с пассажирского самолета, который прилетел в Хельсинки. Обычный рейс, обычные пассажиры. Их встречал незаметный чиновник из консульства и проводил к машине, которая отвезла их в посольство.
В посольстве их ждали. В течение последних нескольких дней сквозь посольство протекала постоянная, хоть и тонкая струйка малых и больших чинов из Берлина, некоторые из них продолжали путь машиной на север, в Лапландию, к затерянной в низких приполярных лесах военной базе финских ВВС, где на небольшом аэродроме в ангаре стояли два истребителя, снаружи — учебный биплан двадцатых годов, а на озере, тщательно замаскированная, таилась «Ханна». За два дня до появления там пилотов ее начали лихорадочно готовить к полету, заправляя горючим и проверяя все системы, в первую очередь гидравлическую и электрическую, потому что гидроплан простоял всю зиму на морозе. Для этой цели и были привезены сюда три механика и специалист по электрике с заводов Хейнкеля. Затем привезли и конструктора, который должен был сам еще раз осмотреть самолет и дать свое заключение. Конструктор страшно промерз в этой Лапландии и схватил ангину с осложнениями, от которой чуть не умер в больнице лапландского городка, куда его отвезли с аэродрома уже после отлета амфибии.
Для того чтобы сгладить возможные трения с финнами, при подготовке присутствовал полковник Илонен, один из влиятельных сторонников союза с Германией в финляндской армии, отчаянно сражавшийся с питомцем и патриотом российской царской армии генералом Маннергеймом, который, в частности, противился чрезвычайным и немедленным закупкам истребителей в Германии или в иной стране, потому что для него война представлялась исключительно наземным делом.
Пилоты приехали на базу к вечеру 28 марта и на следующий день принялись осваивать самолет, конструкция которого была внове всем участникам полета. На освоение самолета им была дана лишь неделя, причем приказано было стараться «Ханну» в воздух не поднимать, за исключением крайней необходимости, — финны не должны были ее видеть, и, главное, ее не должны были заметить советские агенты. Но освоить самолет без тренировочных полетов немыслимо, и поэтому, с согласия Илонена и полковника разведки Люфтваффе, они совершили два полета, проверяя машину при посадке и взлете, поднялись до ее потолка и испытали, как работают два ее мотора при различных режимах. И Юрген, и Васильев, будучи профессионалами, понимали, что «Ханна» слишком капризная и недоведенная модель, чтобы спокойно доверять ей свою жизнь. Она была ублюдком, так как основная модификация разрабатывалась как торпедоносец, а использоваться она должна была как амфибия, полярный разведчик дальнего действия, для чего и была перекроена.
Как сказал Юрген:
— Если бы мне кто-то показал, где у этой проститутки центр тяжести, я отдал бы ему свой Испанский крест.
Присутствовавший при этом выпаде уже заболевший ангиной конструктор амфибии прохрипел, что он сделал все возможное, чтобы выполнить указание рейхсмаршала, и добился главного — «Ханна» может улететь за пять тысяч километров и вернуться назад. К тому же в мире нет другого самолета с такой короткой полосой разбега.
С ним никто не стал спорить — конструктор был существом подневольным и любил это лишний раз продемонстрировать всему человечеству.
3 апреля они провели совещание с двумя финскими летчиками, которым приходилось летать в Арктике, о маршруте полета. База советских ВВС была в Мурманске — морская авиация. Самолеты с этой базы нередко пролетали над северной Финляндией, и именно от них столь тщательно прятали «Ханну». Ни в коем случае нельзя попадаться им на глаза — хоть у «Ханны» хорошие скоростные данные, все же она перегружена, уступает русским истребителям в скорости, и неизвестно еще, сможет ли уйти от них, поднявшись вверх.
Поэтому из Лапландии «Ханна» должна была идти к северу, к Земле Франца-Иосифа, и лишь оттуда, с высоких широт, повернуть к Новой Земле, зайдя, таким образом, к цели с севера, откуда русские менее всего ожидают опасности. Что касается русских истребителей в пределах самого Полярного института и его лагерей, то никаких данных у немецкой разведки на этот счет не оказалось. Канарис предполагал, что у Полярного института есть лишь посадочная полоса, используемая для целей НКВД, но военную авиацию госбезопасность в пределы своего хозяйства не допустит. Скорее надо обратить внимание на возможное барражирование берегов бомбардировщиками полярной авиации с аэродрома в Архангельске. Но от них можно всегда уйти. Кстати, в районе Новой Земли не попасть бы на глаза русским полярникам. Их станции держат связь с Москвой.
Так как лед на озере стал совсем хрупким и подтаял у берегов, финские саперы взорвали во льду канал, по которому «Ханна» разбегалась.
В воде «Ханна» казалась куда более массивной и крупной птицей, чем на берегу, — здесь ее двадцатиметровая длина и такой же размах крыльев были куда очевиднее.
Вылет «Ханны» был назначен на вечер 4 апреля с таким расчетом, чтобы наиболее опасные места самолет миновал ночью. Это не обещало экипажу легкой жизни, но по крайней мере избавляло от опасности встретиться с истребителями севернее Мурманска.
Еще было совсем светло — серебряный северный воздух гудел первыми комарами, которые готовились заняться истреблением таежной живности, под деревьями в тени елок еще лежали основательные пятна снега, лишь на южных склонах и лужайках он растаял.
Они выстроились на берегу, на стапеле, полковник из Люфтваффе и конструктор с замотанным шарфом горлом пожали им на прощание руки и пожелали счастливого возвращения. Полковник из Люфтваффе сказал, что рейхсмаршал только что звонил из Берлина и передал экипажу пожелания успеха в его опасной и благородной миссии. Затем они спустились в надувную резиновую лодку, которая останется на борту.
Поднявшись в люк «Ханны», они втащили лодку за собой — люк был большим, но все равно лодку пришлось поставить боком, а она была тяжелой.
Затем Юрген прошел вперед в узкий прозрачный нос амфибии, где умещалось лишь кресло пилота. Карл Фишер уместился спиной к нему, пониже, за маленьким штурманским столиком, Васильев пока что улегся, подогнув ноги, на масляном баке, потому что его смена будет следующей. Юрген передал на берег, что к отлету готов, и с берега ответили, что последняя радиограмма принята, с тех пор и до возвращения — абсолютное радиомолчание. Лишь в случае угрозы неминуемой гибели Карл Фишер должен был дать радиограмму шифром, который знал только он.
«Ханна» медленно начала разбег, держась точно середины канала во льду, чтобы не поцарапать и не повредить дюралевые поплавки. Васильев подтянул под себя ноги в теплых унтах, вжался спиной в холодную стенку кабины и чуть приподнялся, чтобы смотреть вперед через плечо Юргена. Тот уверенно взял штурвал на себя, и «Ханна» тяжело, будто нехотя, оторвалась от воды в тот последний момент, когда казалось, что они врежутся в дальний берег озера, и пошла вверх. Юрген повернул штурвал влево, и «Ханна» начала клониться на крыло, выходя на курс. Вершины елей еще были совсем близко, но Васильев уже знал, что Юрген — пилот Божьей милостью, и если кому-то суждено доставить их живыми на Полярный Урал, так это подполковнику Юргену Хорманну.
Пока строили испытательный стенд, зэки упражнялись в выдумывании ему названия. В конце концов укрепилось — Берлин. Даже охрана не называла иначе.
Утром на разводе выкрикивали: «Вторая бригада — на Берлин!»
И никто не удивлялся. Правда, наверху это слово не употреблялось.
Вокруг строительства ходило много легенд и слухов. Одни полагали, что это полигон, на котором будут тренироваться наши десантники — воздушная пехота. И когда победим фашистов, то десантники пойдут на помощь германскому пролетариату и лично товарищу Тельману. Были такие, кто думал, что скоро Гитлера возьмут в плен и привезут сюда — в ссылку, чтобы жил в привычной обстановке. А может быть, этот Берлин готовят как столицу автономной республики немцев Поволжья — надо же на освоение Севера кинуть настоящих тружеников. В общем, никто всей правды не знал, а так как между лагерями и шарагой, где сидели физики, никакой связи не было, то настоящей догадки и не могло возникнуть.
Дома в городе строились по-разному, не без обмана. По спецификациям, которые получало лагерное начальство, строения в Берлине должны были отвечать международным строительным стандартам. Снабжены подвалами, фундаментами, гидроизоляцией и так далее. Но на вечной мерзлоте ты не очень-то сделаешь подвал или гидроизоляцию. Правда, лагерным строителям было полегче, чем настоящим, — никто не требовал отапливать город, в нем даже не было для этого коммуникаций. А раз так, то дома не будут нагреваться, растапливать вечную мерзлоту и проваливаться в болото.
По северным масштабам объем работ был громадным, никогда здесь такого не видали. Следовательно, и воровство расцвело вокруг Берлина громадное. Замешаны в том были настолько высокие чины, что Шавло с Алмазовым бороться с ними были бессильны с того момента, когда шесть лет назад началось грандиозное перемещение лагерей в эти края, строительство дорог и даже заводов — кирпичных, цементных, лесообрабатывающих фабрик, зданий института и подчиненных ему структур, — с тех пор и развернулось не менее грандиозное воровство. Никогда еще в истории Советского государства не возникало столь масштабной панорамы. За последние пять лет в связи со здешними хищениями и злоупотреблениями прошло четыре больших уголовных процесса, но все они глохли на уровне начальников управлений. Никто не знал, сколько должна стоить бомба, следовательно, она стоила вдесятеро больше, чем необходимо.
Андрей провел в Испытлаге полтора года, сначала каменщиком, чему он выучился в Воркуте, а потом штукатуром. Он не только покрывал дома штукатуркой, но и украшал их по трафаретам немецкими барельефами и завитушками, другие же делали витражи для кирхи и лепнину для ратуши. Неизвестно почему, но руководство НКВД требовало приближения к идеалу. Никто бы, даже сам Ежов, не смог объяснить, почему дома с барельефами лучше разрушать, чем просто дома, но решение об испытаниях в «обстановке, максимально приближенной к действительности», было принято пять лет назад, утверждено Совнаркомом, подписано Кагановичем, Молотовым и Сталиным, так что никто не задавал лишних вопросов. К тому же многим участникам строительства было выгоднее, чтобы город получился подороже, посложнее, пошикарнее: чем шикарнее составляющие, тем дороже раскраденное. Так что ХОЗУ НКВД, будь на то воля партии и товарища Ежова, закупило бы или конфисковало в Эрмитаже картины Дюрера и Рембрандта, чтобы украсить ими «берлинскую» ратушу. А потом отыскало бы в ГУЛАГе копиистов, чтобы заменить в Эрмитаже настоящего Дюрера на копии.
Зима была трудная. Начальство торопилось, из Москвы прилетали ревизии, со жратвой было хуже некуда.
Весной некоторые лагеря убрали в другие места — объем работ уменьшился; все заводы давно дымили, остался неоконченным лишь Берлин.
Архитектором по Берлину был Гриша Блюмфельд — он и в самом деле до ареста занимался немецким градостроительством и имел неосторожность опубликовать книгу «Средневековые города Германии: логика стиля» как раз перед одним из процессов, по которому проходил его двоюродный брат. Существование Гриши оказалось следствию на руку — он был явным доказательством причастности к делу немецкой разведки. Не лишенный чувства черного юмора следователь во всех документах прибавил Грише приставку «фон», так он и получил свои десять и пять по рогам под фамилией фон Блюмфельд, как он сам говорил: «Узнала бы об этом моя покойная матушка Сара Ефимовна!» Грише было за шестьдесят, он был человеком веселым, даже порой надоедливо веселым, словно служил по ведомству веселых людей под номером один. Он так привык всех веселить, что не мог остановиться, даже когда знал, что получит за это в морду.
В остальном он был славным и безобидным человеком, но германское зодчество знал больше по картинкам и описаниям, и, хоть ему доставляли всякие планы и фотографии, во внутреннем устройстве своих домов он не был уверен. Для этого на стройке были прорабы, народ жуликоватый и озорной. Если бы не надзор Алмазова, получились бы дома пустыми коробками, а так в них хоть были узкие лестницы, стекла, крыши — неуютно, но не дует.
К середине марта работы были в основном закончены. После этого работали на строительстве вокзала, где стоял паровоз с вагонами, ангара, в который закатили большой самолет, и парка культуры с зоосадом. Самолет был краснокрылый двухмоторный, из полярной авиации, говорили, что на нем летчик Леваневский летал в Америку, не долетел, возвратился, за что был тут же расстрелян, а самолет его отдали в жертву полигону.
Что в Берлине на самом деле полигон, Андрей удостоверился, когда в товарных вагонах навалом привезли сотни три человеческих чучел в натуральную величину, на фанерных скелетах с подставкой сзади, подобных мишеням на стрельбищах, в которых положено стрелять, как во врагов советской власти, но в настоящих шинелях и касках.
Мишени расставили между танками, привезенными к городу на платформах, а потом дошедшими своим ходом до места, а также за ангаром и в распадке за последними избами. Среди строителей и дорожников сразу пошли шутки, будто это не мишени, а участники нового массового процесса, поэтому их привезли расстреливать. Уже за первый день часть чучел раздели — шинель вещь ценная. Потом был большой шмон, но все равно нашлись не все шинели. Пришлось брать со склада новые и ставить у чучел охрану.
Андрей Берестов стоял на краю городской площади, у бокового входа в ратушу, разглядывал пять чучел, прислоненных затылками к стене, с густо забеленными рожами, ждал, когда просохнут, чтобы перерисовать в Гитлера и его свору. Тут его и отыскал учетчик Райзман, уткнул в Андрея укороченный на фалангу, отмороженный указательный палец и велел идти в штаб стройки, который занимал барак за авиационным ангаром.
В бараке было пустыннее, чем раньше, — чертежники уже собирали свое барахло, копировщиц увезли еще вчера, техники и счетоводы проверяли, все ли взято из ящиков столов. Прораб шестого участка Геза Ковач, из венгров-интернационалистов, которого знал сам Ленин, сидя на опустевшем столе, пил с лейтенантом Паукером разбавленный спирт. Шли относительно приятные дни после завершения объекта, когда спешка и нервотрепка переместились в другие бараки и штабы.
Андрей спросил Гезу, зачем и кто его вызывал. Лейтенант Паукер, которому Андрей еще зимой вырезал трубку из карликовой березы, налил полстакана, и Андрей выпил и сказал спасибо, но Геза засмеялся и заметил, что такому молодому парню пить плохо. Паукер приказал:
— Теперь иди.
И показал на дверь, обитую клеенкой; там сидел капитан Сталинский. Молодой капитан, чуть постарше Андрея, карьера которого складывалась сказочно, потому что он был детдомовским и получил фамилию случайно, но крайне удачно. «Сталинский детдомовец» — такого не оставишь на второй год в училище, такого не погонишь пересдавать зачет. Вроде бы ясно, что не Сталин, но имеет отношение.
Саша Сталинский отрастил усы, и никто не посмел возразить, хоть усы получились слишком сталинские.
Сталинский был особистом в мире особистов, особо доверенным кадровиком и обычно не имел дела с зэками.
Андрей постучал, вошел. Конурка у Сталинского была невелика — но места для стола, сейфа и двух стульев хватало. Саша поводил усами, как таракан, но, кроме усов, ничего похожего на Сталина не имел — курносая угорская рожа.
Но Андрей, хоть и был встревожен — зэк всегда встревожен необычным поведением начальства, потому что начальство создано и придумано для неприятностей, — все-таки обратил внимание не на Сашу, а на женщину, которая сидела перед ним по другую сторону стола. Женщина была молода, волосы пышные, золотые, наверное, крашеные, но с сединой. Лицо у нее было нежное, как со старой рождественской картинки, глаза голубые, блестящие, всегда готовые превращаться в озера слез. По лицу — морщинки, тонкие оттого, что очень тонка голубоватая кожа, морщинки у губ, у глаз, под глазами, на лбу — морщинки.
Женщина поглядела на Андрея со страхом, хотя ей, на вид вольной, здесь таких было немало, нечего бояться обычного зэка.
— Постой, — сказал Саша Сталинский, — сейчас я кончу оформлять.
Андрей встал у стены, стал разглядывать большой график производительности труда, что висел под портретом товарища Ежова — «железного» наркома НКВД.
Женщина смотрела на руку Саши, смотрела, как он пишет. Словно надеялась на какой-то благоприятный исход этого процесса. Будто ее сейчас отпустят на волю. А Саша, кончив писать, расписавшись сам, промокнул написанное старым пресс-папье, брюхо которого было сплошь синим от долгой работы, потом отложил пресс-папье и сказал:
— А теперь познакомьтесь с вашим супругом.
Женщина покорно повернула голову к Андрею, словно была к этому готова.
Саша не смеялся, но был доволен.
— А ты, Берестов, не изображай радости и удовольствия. Если бы не указание начальства, никогда бы тебе такую шалаву не отдал.
Сталинский развернул бумагу так, чтобы Андрей мог прочесть написанное. Мог, да не успел.
— Здесь распишись, — сказал Саша.
— Дайте прочесть, — сказал Андрей.
— Берестов, ты мне надоел. Или ты подписываешь, или идешь в карцер. Я тебе гарантирую скорую гибель от холода и голода. Как пить дать.
— Ну почему нельзя? Даже следователь давал.
— Я тебе не следователь, а оперативник. Ты у меня в разработке. А это твоя жена. Альбина Берестова, будьте знакомы.
— У меня есть жена.
— У тебя была жена, Берестов. А теперь у тебя только номер. А номер на братской могиле мы не ставим. Подписывай, не томи. Твоего мнения не требуется. Только — что ознакомился.
Андрей к этому времени уже успел прочесть сверху — типографское «Постановление», дальше мелко, неразборчивым почерком Саши Сталинского. А, да черт с ним! Ознакомился, не ознакомился — апеллировать некуда.
Когда расписывался, увидел, что там уже есть подпись этой молодой женщины. Она подписалась странно: «Альбина Смирнова-Лордкипанидзе».
— Эй, Винокур! — крикнул Саша Сталинский.
Заглянул сержант.
— Следующие пришли?
— Готовы.
— Тогда этих в красный уголок.
Сержант показал жестом, что надо уходить, и они вышли. В предбаннике ни Гезы, ни Паукера не было. Зато стояли три мужика из соседнего барака — Андрей их всех знал в лицо. Они молчали. Так же, как и Берестов, не ждали добра.
А когда Андрей вошел в красный уголок, оказалось, что там уже собралось человек двадцать — большей частью зэки, некоторых Андрей встречал. И несколько женщин, тоже почти все из заключенных. Андрея стали спрашивать — не знает ли чего? Оказывается, все уже прошли через кабинетик Саши Сталинского и всех заставили расписаться на неизвестном постановлении.
Альбина потянула Андрея за рукав — в угол, к зарешеченному окну.
— Простите, — сказала она высоким, ломким, очень ясным голосом, — но я знаю, что он там писал.
— Скажите. — Андрей ответил также вполголоса, подчинившись ее настороженности.
— Это постановление о переселении, о высылке. Там сказано, по какому адресу мы будем проживать.
— Это чепуха какая-то.
— Нет, не чепуха. Гражданин Сталинский спрашивал меня, читала ли я книгу «Ледяной дом».
— Лажечникова?
— Кажется, Лажечникова. Он сказал, что какая-то царица сделала дом изо льда, и туда поселили после свадьбы шута и шутиху, и они провели брачную ночь во льду.
— Правильно, — сказал Андрей. — Но какое это имеет отношение к нам?
— Мы все будем жить в ледяном доме.
Андрей пожал плечами. У него возникло подозрение, что женщина не совсем нормальна, она и говорила странно — глядела в упор, а глаза были полны слез.
В соседнюю комнату, когда-то чертежную, прошли три доктора. Вольные, из больницы института, с ними на подхвате профессор Коган и академик Лобанов — они зэки, но их держат при больнице санитарами, когда что случается с начальством, их вызывают на консультации. Академики довольны, насколько может быть доволен человек в клетке.
Когана Андрей знал — у него было воспаление легких в прошлом году. Он лежал в больничном бараке, и Коган его почему-то выделил из других больных. Даже снисходил до разговоров с молодым человеком. Они разговаривали, когда у Когана было свободное время — пол вымыт, лекарства розданы, белье принесено, — он приходил к Андрею, приносил табуретку, садился и рассказывал о своем институте, потому что полагал, что Андрею интересно слушать о том, что относится к молодости Когана.
Проходя мимо, Коган узнал Андрея, подмигнул ему.
Один из зэков, мелкое существо с испуганными мышиными глазками, сказал:
— Эпидемию подозревают. Уже многие пострадали в Устьваглаге.
— Какая эпидемия? — отозвался кто-то от окна. Вроде бы равнодушно, но готовый впитывать информацию. Все замолкли — все повернулись к существу; Андрею было ясно, что существо врет, сейчас вот, на глазах придумывает, но он тоже затаил дыхание.
Но существо не успело придумать даже названия болезни, как Коган вышел из комнаты со списком в руках, очки сползли на нос. Он запрокидывал голову, чтобы разобрать текст, хотя проще было бы поправить очки.
— Аникушин, — выкликнул он. — Берестов!
Существо всполошилось, стало перебирать ногами, словно сопротивляясь толчкам в спину. Но притом все же продвигалось к двери, бросая взгляды назад. «Братцы, — молили безмолвно глаза существа, — за что?»
Андрей поглядел на Альбину.
Она кивнула, будто хотела сказать: не робейте, я вас подожду.
Андрей давно, третий год, не видел ни одной красивой женщины. Забыл о том, что красивые женщины — реальность. Даже Лидочка переместилась в мир грез.
«Интересно, почему у нее фамилия Лордкипанидзе? Грузинка? Менее всего она похожа на грузинку. Значит, замужем? Или была замужем?»
Андрей вошел в кабинет следом за Аникушиным.
Два доктора сидели за голым столом. Перед ними были раскрытые общие тетради. Академик Лобанов сидел на табурете в стороне от стола и держал на коленях лист картона. Еще один врач стоял со стетоскопом в руке и ждал Андрея. Такого количества врачей сразу ему в жизни видеть не приходилось.
— Ну что ж, батенька, — произнес академик Лобанов, прежде чем остальные доктора, хоть и вольные, но куда менее авторитетные, сумели раскрыть свои тетрадки, — будем вас обследовать. Попрошу снять верхнюю одежду.
— Всю?
— Тебе сказали, раздевайся! — рявкнул один из врачей, по всему судя, чекист. — Вас тут полсотни, с каждым, что ли, рассусоливать?
— Батенька, — сказал Лобанов, он произносил это слово естественно, у другого оно прозвучало бы притворством, — не вмешивайтесь и помолчите. Вы записывайте, что вам положено.
Андрей разделся. И начался врачебный осмотр, достаточно внимательный, с вопросами о том, чем болел в детстве и что беспокоит сейчас, даже с анализом крови, который делал Коган, в то время как остальные занимались Аникушиным.
— Что все это означает? — шепотом спросил Андрей, когда Коган, порезав ему палец, выдавливал из него кровь в стеклянную трубку.
— Обследование, — ответил Коган, запрокинув голову, чтобы видеть Андрея. — Вас пересылают.
— Может, знаете куда?
— Мне не говорят.
— Хорошего не ждать? — Андрей задал этот вопрос, потому что чуть-чуть надеялся на отрицательный ответ.
— Не знаю, Берестов, — сказал Коган, — но разве можно ждать хорошего от этих властей, если они вдруг решили исследовать ваше здоровье? Неужели совесть заговорила?
Андрей не смог сдержать улыбки.
— А раз нет, значит, им очень хочется, чтобы ваше здоровье стало хуже, потому что нет смысла сравнивать два хороших здоровья, — прошептал Коган.
Женщин осматривали после мужчин, но никого не отпускали и даже не кормили. Осмотр тянулся часов до четырех, а потом всех погнали в красный уголок, там набралось человек шестьдесят. Президиум сидел за красным столом. Было похоже на проведение собрания к годовщине Октября.
В президиуме были один из докторов, он снял халат и оказался майором, Саша Сталинский и лично комиссар Алмазов. Его Андрей видел раза три и все издали. Присутствие Алмазова придавало празднику истинность.
Когда все расселись, Саша Сталинский дал Алмазову слово, а сам налил из графина воды в граненый стакан и поставил на трибунку-загончик, по правую руку от докладчика.
Алмазов был в новом френче, хорошо сшитом, видно, из Москвы. В нем была легкая звериная элегантность.
— Граждане заключенные, — сказал он дружески, словно обращался к товарищам. — Мы собрались с вами, потому что всем нам небезразлично, как развиваться и хорошеть нашей любимой родине.
Алмазов мотнул головой, черный волнистый локон сорвался на лоб. Глаза блестели.
— Мы отобрали здесь людей, которые проявили себя за время заключения как сознательные трудящиеся элементы и имеют право на снисхождение от советской власти, несмотря на всю тяжесть совершенных вами преступлений.
Тут Алмазов прервал речь и опечалился. Видно, как понял Андрей, он играл престарелого отца, расстроенного шалостями сына. Ждать добра от этой речи было бы наивно.
— Нашими учеными проводится, как вы уже догадались, — продолжал Алмазов, — грандиозный эксперимент. Здесь, в некогда безлюдной и холодной тундре, мы с вами воздвигли испытательный полигон, который не по зубам империалистическим государствам. Однако эксперимент не может быть завершен, пока в нем не примут участие отважные советские люди. И для этой цели были отобраны вы, товарищи!
И последнее слово должно было прозвучать как торжественный и всепрощающий звон колокола. Но не прозвучало. Собранные в комнате были тертыми калачами и понимали, что старое мирное обращение — попытка заманить в ловушку. Вот-вот щелкнет засов…
— Не вижу воодушевления, — сказал Алмазов с укоризной. — Неужели в вас не осталось ничего человеческого? Неужели успехи нашей родины не вызывают в вас душевного порыва?
Вопрос был настолько требовательным, что кто-то в зале не выдержал и крикнул:
— Есть порыв!
— Вот и отлично, — обрадовался Алмазов. — Тогда переходим к делу. Сегодня же отобранные и прошедшие медкомиссию граждане переводятся на временное проживание в экспериментальный город, прозванный вами, как нам известно, Берлином.
Это было настолько неожиданно, что пауза затянулась надолго. Это доставило Алмазову некоторое удовольствие.
— Закрыть рты! — приказал он. — Ничего страшного не случилось. По условиям эксперимента в городе, который мы с вами построили, будут обитать люди. Обыкновенно. В квартирах и в комнатах. Вы получите питание сухим пайком, а также теплые вещи. Ваша задача — провести в этих условиях месяц. Ясно?
— А если мороз? — спросил Аникушин, высунулся раньше времени.
— Разговорчики! — рассердился Саша Сталинский.
— Пускай говорят, — ласково остановил его Алмазов. — Людям интересно, а у нас нет тайн от советских людей. Я же вас не на курорт зову, не отпускаю пока на волю. Я говорю вам — придется, может, и померзнуть, придется и подрожать. Умели гадить советской власти, умейте и потерпеть.
Что-то он нервничает, подумал Андрей. Суетится. И вообще-то говоря, начальнику строительства незачем приходить к полусотне зэков, чтобы отправить их в карцер, даже если этот карцер строили многие тысячи заключенных для очередной дьявольской выдумки НКВД.
— А что нам за это будет? — спросил с акцентом бывший эстонский коммунист Айно Рятамаа, по прозвищу Булыжник. Лицо у него — серое, корявое, обрамленное почти белыми редкими волосами — и на самом деле вызывало в воображении именно булыжник.
— А вы же знаете, как у нас бывает, — сказал Алмазов. — Если эксперимент пройдет нормально, все получат ордена и сроки скостят. А что? На Беломорканале многие ордена Ленина получили. И зачет. Кончилось — и вышли. И честно трудятся.
— А если не выйдет? — Булыжник спрашивал медленно и тихо. Но внятно.
— А если не выйдет, — ответил Алмазов, — то вернетесь в зону и будете вкалывать дальше. Все!
Это Алмазов крикнул, потому что вдруг, как в классе, потянулись руки — люди хотели задавать вопросы, но остерегались Сашу Сталинского.
Алмазов налил в стакан воды, жадно выпил, отошел к покрытому красным сукном столу президиума, а Саша Сталинский стал объяснять — довольно вежливо, видно, и в самом деле они были начальству нужны, — когда возвращаться в бараки, что можно брать с собой, как будут распределять… Алмазов смотрел куда-то поверх правого плеча Андрея. Андрею хотелось обернуться и проследить его взгляд, но он не решился — заметит. Хотя непонятно, чего он боялся. Просто боялся — в присутствии высокого начальства, вольного распоряжаться его жизнью и смертью, лучше не привлекать к себе внимания.
Саша быстро закончил инструкции — все пошли к дверям. Алмазов остался на трибуне. Тогда уже, поднимаясь, Андрей увидел, куда смотрит всесильный чекист, — на красивую Альбину, так недавно и непонятно объявленную женой Андрея.
Андрей хотел подойти к ней — спросить, понимает ли она, что происходит, но Альбина его не видела — она тоже смотрела на Алмазова: то ли с ненавистью, то ли со страхом… Считается, что в глазах можно прочесть чувства, владеющие человеком. Но это не так: прочесть можно лишь все лицо — наклон бровей, морщины у губ, линии лба — только все вместе и делает маску страдания или ненависти. А когда лицо неподвижно, по глазам ничего не прочтешь. Одно было ясно: Альбина и Алмазов знакомы, и в этом ничего странного нет — на строительстве было немного женщин и совсем мало красивых женщин. Алмазов мог использовать эту Альбину, а потом, за ненадобностью, сдать сюда. Ведь если бы он этого не желал, он бы тут же ее отсюда увел.
Алмазов наклонил голову — то ли прощаясь, то ли задумавшись.
Андрей последним из зэков покинул красный уголок и остановился в коридоре. Потом быстро вышел Алмазов. Заключенные раздались, чтобы пропустить его, вжались в стены.
Убедившись, что Алмазов ушел, Андрей заглянул в красный уголок.
Альбина стояла у стены. Глаза ее были полны слез.
— Вам помочь? — глупо спросил Андрей.
— Чем же вы мне поможете? — удивилась Альбина.
Она пошла рядом с ним к выходу. Пальцы ее были сплетены, и она ломала их, похрустывая суставами, — в этом было что-то театральное.
— А вы актриса? — спросил Андрей.
— Уже нет, — ответила Альбина.
На выходе ждала охрана — всех разделили по баракам и погнали в зону — сказали, что можно забрать свои вещи. И молчать, ни одной сволочи — ни одного слова, куда идете и зачем, ясно? Если просочится информация — виновные вплоть до расстрела, ясно?
Но конечно же, информация просочилась — в бараках было полно людей. Все уже вернулись со стройки. Собирались на этап — лагпункты эвакуировались. Люди расставались — встретятся ли? И что такое за эксперимент, когда люди должны жить, словно в ледяном дворце, в этом игрушечном городе? Кто-то в бараке предположил, что на городе будут опробованы особые лучи смерти или бациллы, а еще кто-то сказал, что его будут бомбить, недаром привезли фанерные мишени. Андрею не хотелось об этом думать — это было слишком правдоподобно.
Андрей боялся, что его и Рятамаа, жившего в том же бараке, уведут в ложный город сейчас, на ночь глядя, но Айно сказал, что охрана не глупая, чтобы ночью по морозу туда ходить, охрана сначала будет спать.
Так и случилось.
На рассвете весь барак ушел на этап, Андрей даже успел попрощаться с теми, с кем сблизился за эти месяцы, а они с Рятамаа не спеша собрались, и только к девяти за ними пришли.
Конечно же, Андрея, как и любого нормального человека на его месте, мучил страх перед неизвестностью, потому что в лагерях человеческая жизнь слишком мало стоит и поддерживается она только тогда, когда люди существуют все вместе. Но в то же время мысль о скорой встрече с Альбиной все время вмешивалась в пессимистические рассуждения и отвлекала, внося в жизнь странную, забытую уже остроту, загадку и потому — надежду.
Это был необычный развод.
Они выстроились длинной неровной шеренгой на залитой утренним весенним солнцем и порезанной острыми тенями центральной площади Берлина. Все были с вещами. Незнакомый смуглый капитан выкрикивал фамилии, фамилий оказалось пятьдесят шесть — пятьдесят мужских, шесть женских. Потом вперед вышел другой мужчина, в штатском. Он говорил легко, словно читал знакомую инструкцию:
— Сейчас вас разведут по квартирам. Там есть минимальные жилые условия. Теплые вещи. Огня не разжигать — это будет караться. Отведенные квартиры и места проживания не покидать. Это будет караться. Попыток к бегству быть не должно — вокруг, как вы знаете лучше меня, тундра. Ночью в ней холодно, и там еще лежит снег — человек виден на расстоянии многих километров. Впрочем, не мне вам это объяснять. Однако передвижения по самому городу в пределах, скажем, квартала или улицы допустимы в дневное время. Ходить друг к другу в гости не дозволяется после наступления темноты.
После этого каждому была объявлена его комната. За день, пока Андрей не был в городе, на домах появились номера, сделанные черной краской. Так что отведенная им с Альбиной квартира оказалась на втором этаже дома, одной стороной выходившего на площадь, второй — в узкую улицу. Туда же выходило окно. Над ними была еще комната, куда угодил Айно. Один. Он сказал, что придет в гости. Он был удивлен тем, что Андрей обзавелся семьей. И не знал, можно ли пошутить или это совсем не смешно. Но Альбина ему понравилась, от этого он смущался и хуже говорил по-русски.
Впрочем, Андрей тоже не смог бы сказать, рад он шутке судьбы или предпочел бы сейчас быть на этапе вместе со всеми своими товарищами. И он, и Альбина, и Айно были фишками в игре, непонятной и потому недоброй. Они были подопытными мышами в лабиринте, построенном их собственными лапками. Почему-то одному из лаборантов пришло в голову спарить двух мышат и поглядеть, как они будут тонуть рядом. И разумеется, он не стал делиться с мышами своими соображениями по поводу того, когда и в какой луже их утопят.
Андрей в этом доме еще не был. Дом был четырехэтажный, но верхний этаж оказался всего лишь декорацией. Туда и лестница не вела. Может быть, в первоначальном проекте Берлина дому положено было быть нормальным, по при воровстве, царившем на стройке, конечно же, большинство домов были лишь оболочками, о чем знал Алмазов, знал Шавло, но не должны были знать Френкель или Вревский.
Внизу располагался магазин — там были устроены прилавки и даже поставлена обычная металлическая касса с ручкой. Касса работала, только в нее не вставили ленту. Полки магазина были пусты. В нем было светло — солнце, низко поднявшись над горизонтом, косо всаживало лучи в большие витрины. Так же светло или, может быть, светлее было на втором этаже в квартире Андрея и Альбины. Квартира состояла из прихожей, где была круглая вешалка, и комнаты. Ни кухни, ни умывальника, ни туалета в квартире не оказалось. В комнате, в которой теперь Андрею положено было жить, стояли широкий топчан и табурет. И все. Хорошо еще, что окно было застекленным.
Альбина не вошла в комнату следом за Андреем, а осталась в дверях.
— Плохо, что воды нет, — сказал Андрей, обозревая скудное хозяйство.
— Здесь все понарошку, — сказала Альбина, — значит, и мы понарошку.
Айно громко протопал по лестнице. Зашел к ним.
— Воды нет, — прогромыхал он, возвышаясь над Альбиной. Альбина съежилась, как перед паровозом.
— Ничего здесь нет, — сказал Андрей.
— Надо поглядеть внизу, — сказал эстонец. — Там есть чулан, в нем могут быть вещи.
Андрей подошел к окну. Оно выходило на заснеженную узкую улицу — близко было окно другого дома, и там Андрей увидел незнакомого зэка, которого, видимо, туда вселили. Зэк показал Андрею кулак. Он был весел.
— Не беспокойтесь обо мне, — сказала Альбина, — мне все равно.
Она села на край топчана.
На ней были сильно потертая беличья шубка и небольшая круглая шляпка. Андрей понял, что она очень давно, может быть, несколько лет, не имеет ничего, кроме этой шубки и шляпки. Но эти остатки цивильной одежды говорили о том, что она вольная, а потому ее не должны были отдавать Андрею и селить в этом игрушечном городе. Ноги она подобрала под себя — Андрей раньше не догадывался посмотреть ей на ноги. Ноги были в тяжелых ботинках.
Андрей не стал больше разглядывать Альбину — она чувствовала его взгляд, и он ее смущал. Андрей спустился вниз по лестнице. Перила у нее забыли сделать или уже украли. Айно шуровал в чулане за магазином, куда свалили и забыли убрать доски, бочку из-под краски и иной строительный мусор.
— Эй! — сказал он радостно. — Смотри, что я нашел!
Он держал измазанное засохшей краской ведро.
Видя, что Андрей не понял его торжества, Айно поставил ведро на пол, расстегнул ватные штаны и опорожнился в ведро. Притом он оглядывался на Андрея, словно открыл новую планету, и однообразно спрашивал:
— Ладно? Хорошо? Ладно?
Не вовремя заглянул Аникушин, суетливый, шмыгающий носом, будто только что отплакал. Он увидел, чем занимается Айно, и сразу стал расстегивать ширинку, чтобы помочиться, обещал приходить к ним для этого каждый день, а потом вспомнил, зачем пришел: на главную площадь привезли полевую кухню — заботятся о нас партия и правительство.
На площади стояла очередь жителей города. У кого не было — тому выдавали миску, кружку и ложку. У Андрея все, конечно, было — не первый год в лагерях, но он взял ложку, попалась стальная, можно заточить. Суп был густой, перловый, горячий. Люди разбрелись по площади, сидели кто как, а то стояли, ели не спеша, будто с них уже сняли оковы и собрались они здесь, чтобы подышать свежим воздухом, как бы на пикник. К Альбине подошла одна из женщин, они мирно разговаривали.
Солнце светило сквозь перистые облака, но само было не видно, словно еще стеснялось светить и греть по-человечески. Длинная вереница птиц пролетела на север над площадью. Птицы с удивлением глядели вниз.
Супа давали добавку, и каждый брал, чтобы нажраться от пуза. А с сытостью, настоящей сытостью, которой многие и не помнили, в людях стали возникать другие интересы. Кто-то вслух позавидовал тем, кому по разнарядке достались бабы. Аникушин подбежал к Андрею, слюнил пальцы, будто отсчитывал деньги, и говорил почему-то с кавказским акцентом: «Одолжи бабу, а, одолжи бабу, а то все равно отберем!» Вокруг хохотали. Андрей вдруг испугался, что ночью могут попытаться сделать Альбине «трамвай» — скопом изнасиловать. И он поглядел на Айно, понимая, что в таком случае все зависело от могучего Булыжника, чью сторону он займет. Еще минуту назад Андрей и не боялся за Альбину — это же не пересылка, они же жители эфемерного города. А тут почувствовал ответственность за ее безопасность.
Айно смотрел на Альбину, Андрею не нравился этот белесый неподвижный взгляд, а рядом стоял гаденыш Аникушин и мелко облизывался — розовый кончик языка живым существом выскакивал между губ, пробегал по ним, прятался и тут же высовывался снова.
Андрей пошел к Альбине, которая ела, усевшись на деревянный ящик, осторожно зачерпывая суп из миски, стоявшей на коленях. Она или не слышала слов Аникушина, или не обратила на них внимания. Андрей встал так, чтобы прикрыть Альбину спиной от гогочущих мужиков — далеко не все были уголовниками, наоборот, в Испытлаге в последний год большинство было по пятьдесят восьмой статье, и их в Берлине тоже было немало, — но мужики подзаводили друг друга, они грубо шутили, а Андрей хлебал суп, стоя перед Альбиной, и, оказывается, любовался ею, проникался все больше нежностью к ее беззащитной красоте, понимая уже, что принял без особенного сопротивления правила наверняка смертельной игры, навязанной ему, потому что в нее вмешался неожиданный, все разрушающий фактор, позволяющий забыть о дурном исходе, наслаждаясь моментом, подобно тому, как может наслаждаться сигаретой перед казнью приговоренный к смерти.
Разрядила обстановку та женщина, что недавно разговаривала с Альбиной. Она решительно пошла к группе особо крикливых зэков, подняла миску с супом, будто намеревалась выплеснуть его им в рожи, и закричала:
— Я вам устрою «трамвай»! Вы у меня на тот свет быстро поскачете. Колчаки проклятые!
Смуглый капитан госбезопасности, который в сопровождении двух вохровцев приехал с полевой кухней, прервал взрыв хохота, вызванный словами женщины:
— Нарушение условий эксперимента, который здесь ставится, будет караться высшей мерой. На месте! Мною лично! И учтите, гады, что этот полигон круглые сутки под наблюдением. Каждый квадратный метр! — Он сделал длинную паузу, словно искал нужный завершающий аккорд, и наконец в полной тишине произнес: — Женщины распределены согласно научным спискам, так что не обсуждаются.
Капитан велел охране раздать сухой паек — по полбуханки хлеба и куску колотого сахара.
После этого они не стали задерживаться на площади. На прощание капитан велел особо не шляться. Зэки не знали, находятся ли они на самом деле под наблюдением, но от начальства можно ждать всего.
Айно молчал и шел сзади. Андрей сказал Альбине:
— Вы не бойтесь. Ничего не случится.
— Разумеется, — сказала Альбина. — Ничего не случится.
Она была заторможенная и равнодушная. Но перед тем как войти в темный зев дверного проема, она остановилась и пропустила вперед Андрея. Значит, чего-то все же боялась — темноты ли, зверей, насильников?
Когда они поднялись наверх, Альбина сказала Андрею:
— Давайте свою пайку, я спрячу.
Он передал пол буханки и кусок сахара.
Айно сделал движение, словно тоже хотел войти в долю, но Альбина не стала брать его хлеб, а сказала рассудительно:
— Вы на другом этаже живете, может, ночью захотите поесть…
— Не захочу! — Андрей впервые увидел, как Айно улыбается.
— Нет, — твердо ответила Альбина. — Нельзя. Если ночью к нам придут… за мной, то обязательно хлеб отнимут.
— Вы что говорите! — закричал Андрей.
Но Айно сказал совсем спокойно:
— Я думаю, что не придут. Они все верят, что за ними в глазок наблюдают.
«Правильно, мы же все равно в камере», — внутренне согласился Андрей и был благодарен Айно за то, что тот произнес успокоительные слова.
А тот, так и не отдав хлеба, потопал к себе наверх, на третий этаж.
Альбина стала вслух рассуждать, куда спрятать хлеб и сахар, потому что могут прийти воры. Она даже сбегала вниз, нашла там кусок оберточной бумаги, сделала сверток и сначала спрятала в углу под досками, потом ей это место не понравилось, и она попыталась засунуть пакет под топчан, но зазор оказался слишком мал.
Андрей не вмешивался, он стоял у окна и смотрел на Альбину, и ему нетрудно было вообразить, что ее суета — признак обыденной жизни в несуществующем, но реальном городе, не имеющем никакого отношения ни к тундре, ни к Испытлагу, ни к Советской стране. Что они на самом деле живут где-то в Европе и сейчас Альбина занимается уборкой, конечно же, уборкой, а потом они поужинают и лягут спать… И, дойдя в мыслях до этого момента, Андрей вдруг увидел икры Альбины — она как раз встала на колени, вертя головой в поисках иной ухоронки. Андрей не видел ни тяжелых башмаков, ни потертой шубки — так щеголю восемнадцатого века достаточно было увидеть на мгновение кусочек дамской лодыжки, чтобы воспылать страстным желанием.
— Нет, — сказала Альбина, — ничего не выйдет. Нам нужен шкаф.
Оказывается, она тоже мысленно ушла из лагерного прозябания в видимость какой-то иной жизни.
— Мы его обязательно купим, — сказал Андрей, подходя к Альбине и протягивая руку, чтобы помочь ей подняться.
И, неосторожно улыбнувшись своим же словам, он разрушил очарование игры, в которую готова была погрузиться Альбина. Может, он притом слишком сильно сжал ее тонкие мягкие пальцы и, помогая подняться, более, чем необходимо, потянул ее к себе.
Альбина стояла теперь лицом к Андрею, прижимая одной рукой к боку пакет с их пайкой и стараясь освободить пальцы другой руки из пожатия Андрея.
Андрей отпустил ее, но Альбина уже успела увидеть в его глазах желание и потому вдруг кинула пакет на топчан, словно отказываясь дальше играть, и зло спросила:
— Ну кто вас просил все испортить? Кто просил?
— Я ничего не сделал, — сказал Андрей. Ему хотелось превратить все в шутку. — Не надо ссориться. Мы же с вами супруги. Супруги Берестовы, так записано.
— Это не означает, что вам можно, — сказала Альбина.
Господи, ну как глупо, рассердился на себя Андрей. Да и она хороша — нельзя же все понимать буквально.
Пакет раскрылся — половинки буханки и куски сахара рассыпались по топчану.
— Знаете что, — сказал Андрей, — давайте погуляем.
— Что? — Альбина испугалась этого слова. Будто оно скрывало какой-то опасный для нее смысл.
— Погуляем по городу, а то потом станет темно. Вы давно гуляли?
— Я давно не гуляла, — сказала Альбина серьезно.
— Вот и пойдем. Вы не замерзнете?
— Нет. Но я боюсь гулять с вами вдвоем.
— Клянусь, что я ничего не имел в виду.
— Глупости, — сказала Альбина, — вы не знаете, как опасно быть женщиной. Давайте позовем Айно. Он сильнее вас.
Андрей не обиделся, а вышел на лестничную площадку и окликнул Айно. Тот сразу услышал, будто ждал у двери.
— Мы пойдем гулять, — сказал Андрей.
Айно не понял его. Он, видно, так давно не гулял, что не понимал, как можно просто ходить. И Андрей, чтобы не объяснять лишнего, сказал:
— Пойдем поглядим вокруг, может, найдем какие-нибудь нужные вещи.
— Правильно, — сказал Айно. — Только мы не можем оставить Альбину здесь.
— Она пойдет с нами.
— Тогда я возьму железную палку, я видел ее внизу.
Альбина тем временем еще раз перепрятала хлеб и при том все время думала: а там, на воле, был ли Андрей Берестов женат? Но так и не спросила и никогда не узнала, что он был мужем Лидочки Иваницкой и тем был косвенно связан с семилетней давности событиями в Узком, после которых она уже не жила, а ждала, чем же кончится эта жизнь, хотя при том в ней не было силы и решительности ее прекратить, — всю свою любовь и ненависть она истратила, пока боролась за жизнь мужа. А может, она и не знала фамилии Лидочки — Лида, Лидочка, красивая девушка…
Шавло устроил для наблюдателей бункер неподалеку от института. Не очень удобный, тесный, но, очевидно, безопасный. Алмазов велел принести туда мебель и даже постелить на доски большой ковер — он ждал приезда самого наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова. В бункере были установлены четыре перископа, а в бруствере проделана щель, закрытая бронированным стеклом.
Алмазов ездил встречать наркома, Шавло с собой не брал — зачем ему ездить, показывать себя чужим людям? Когда Алмазов вернулся, он сказал Мате, что товарищ Ежов не хочет наблюдать за испытаниями из подвала: товарищ нарком — не крыса. Он будет стоять в поле.
— Это опасно, — сказал Шавло. — Мы лишимся наркома НКВД.
— Без глупых шуток, — обрезал Алмазов. Разговор происходил в кабинете Шавло — почему-то Алмазов полагал, что он безопаснее, чем его собственный. Впрочем, Шавло мог проследить логику рассуждений чекиста. Подслушивающие микрофоны в кабинете научного руководителя устанавливали под контролем Алмазова, а вот кто контролирует микрофоны в кабинете самого начальника проекта, Алмазову было не положено знать.
— Товарищ Ежов не представляет себе, какой может быть сила взрыва, — продолжал Шавло. — Лифшиц подсчитал теоретическую возможность цепной реакции.
— Ты мне говорил, — отмахнулся Алмазов. — Если она начнется, нам будет поздно рассуждать.
— Тогда я остаюсь в бункере, — сказал Шавло. — Мне еще надо довести наше дело до конца. Наркомы приходят и уходят, а наша великая родина, руководимая ленинской партией большевиков, остается.
Фраза была вызовом, фраза была крамолой. Алмазов молча проглотил вызов. Алмазов промолчал еще и потому, что признавал правоту Мати, который требовал обставить испытания как настоящие, — чтобы их наблюдали, осознавали и регистрировали десятки, сотни специалистов. Но Френкель с Ежовым категорически запретили допускать этих профессоров. Это была личная тайна Ежова, который, хоть и ставил на бомбу, понять ее значения, конечно, не мог.
— Мне его в бункер не загнать, — сказал Алмазов. — Николай Иванович страдает клаустрофобией. Я не шучу.
— Чего же вы раньше молчали! — рассердился Шавло. — Сами ковры укладывали!
— Я не знал, — сказал Алмазов. — Не было обстоятельств. Сейчас мне подсказал Вревский.
Ситуация вырывалась из-под контроля.
— Я попробую его сам уговорить, — сказал Шавло.
— Глупо.
— У нас нет другого выхода. Он намерен меня принять?
— Он сказал, что приглашает тебя обедать.
— Большая честь. Попробуем, — сказал Шавло.
Обед был устроен в салоне поезда наркома. Продукты тоже привезли с собой. Алмазов в один из недавних моментов искренности (в конце концов, кто ему ближе всех на свете? Как ни странно — Матя Шавло) проговорился, что Ежов чувствует себя неуверенно, Сталин несколько раз оспаривал его решения, Берия ведет себя нагло. Ежов пытался свалить этого мингрела, но Сталин не позволил. Ежов чует опасность. Ему нужна бомба — это его надежда, иначе Сталин кинет его, как кость собакам.
Шавло раньше не видел «железного» наркома. Газетные портреты и короткие кадры кинохроники не в счет. Там Ежов казался красивым моложавым мужчиной в специально для него изготовленной форме генерального комиссара госбезопасности — большие звезды в петлицах. Такие же, как у маршалов в армии. Но иначе расположенные. Маршалов в армии было пять, троих убили, но произвели новых — Тимошенко и Кулика. А маршал госбезопасности в мире один. Он всемогущ. Он — второй человек в государстве… пока первый того желает.
Ежов боялся замкнутого пространства. Ему сразу же представлялось, что он уже попал в тесную камеру смертника и никогда не выйдет отсюда. Он даже в поезде, несмотря на возражения охраны, не закрывал занавески. Он любил яркий свет. И шум. Он сам играл на баяне. И тогда сразу становилось ясно, какой он махонький и субтильный. Потому что баян был почти с него размером.
Ему бы играть на свирели, но Сталину хотелось, чтобы на пиршествах он играл на баяне.
В стране было сто двадцать колхозов имени «железного» наркома, три города, восемнадцать других населенных пунктов, заводы, фабрики, детские сады и ясли, пионерские дружины и пограничные заставы. Страна любила и боялась своего Марата.
Когда Шавло следом за Алмазовым вошел в салон, Ежов уже сидел за столом. Он не поднялся из-за стола, полускрытый бутылками и горами салата и семги, он не хотел оказаться маленьким рядом с Шавло, которому бы никогда этого не простил. У Ежова были красивые каштановые волнистые волосы, аккуратно подстриженные и зачесанные назад, левая бровь всегда приподнята, губы капризно изогнуты — женские губы.
— За стол, товарищи, за стол! — закричал он высоким звонким голосом, когда Алмазов и Шавло вошли в салон. — Мы умираем с голоду.
— Разрешите представить вам, товарищ нарком, — сказал Алмазов, — научный руководитель, так сказать, душа нашего проекта, профессор Шавло, Матвей Ипполитович.
— Слышал, слышал, все о нем знаю. Садись, Матвей, — вот сюда, справа от меня, а ты, Алмазов, — по левую руку. Вревского вы знаете, Френкеля тоже.
Шавло в самом деле знал обоих. Френкель ведал ГУЛАГом, он раза три был на строительстве — у него было рубленое, энергичное плакатное лицо, но все портили близорукие глаза под толстыми стеклами маленьких очков. Вревский замещал Ежова по каким-то общим вопросам — он тоже здесь уже бывал.
— Наливай! — сказал Ежов. — Давно мне надо было бы с вами познакомиться, но уж очень далеко вы забрались, товарищи физики. Не стесняйтесь, наливайте, Френкель, командуй!
Ежов и Шавло разглядывали друг друга исподтишка. И друг другу не понравились. Но они встретились здесь не для того, чтобы дружить, а потому, что были нужны друг другу. Жизненно нужны. Бомба Мати — последняя ставка наркома. Ежов — главная ставка Мати. Он кормит, поит и готовит к выходу в свет атомную бомбу, которую социалистическая держава должна сделать раньше, чем империалистический Запад, и этим выиграть соревнование двух систем.
Принесли суп — солянку. Густую, с осетриной и солеными огурцами. Матя ел с наслаждением — уже забыл вкус таких яств. Под солянку хорошо пилось. Но контроля над собой никто не терял.
— Откуда будем вести наблюдение над испытаниями? — спросил Френкель.
— Для безопасности наблюдателей, — сказал Алмазов, — нами подготовлен бункер со всеми удобствами.
— Яма? Блиндаж? — спросил Ежов.
Начинается, понял Шавло.
— Блиндаж.
— Не полезу, — сказал Ежов.
— Товарищ нарком, — сказал Шавло, — мы пока не знаем силы взрыва. Поэтому мы приняли меры безопасности.
— Прими меры на земле, — сказал Ежов. — И выпьем за успехи нашей советской родины. И за товарища Сталина, организатора наших успехов.
Выпили.
— В таком случае, — сказал Шавло, раздражаясь от тупости этого вельможи, грозившей опасностью и самому Мате, которому придется находиться с ним рядом, — нам придется наблюдать за взрывом на большом расстоянии. Мы многого не увидим.
— А из ямы увидим? — И Ежов весело засмеялся.
— А в бункере есть перископы.
— Ничего, возьмем бинокли и посмотрим.
Они ничего не понимают. Хотя почему они должны понимать, если они мыслят категориями гражданской войны: бомба — это комья земли и воронка в аршин диаметром.
Шавло попытался сказать что-то о катаклизме, который вызван учеными к жизни, но Ежов, выпив под отбивную еще рюмки три, пустился в монолог и стал недоступен для доводов разума.
— Я вам должен раскрыть ситуацию во внешних отношениях, — говорил он быстро, невнятно, обегая взглядом лица слушателей, но не в силах остановиться ни на одном из них. — Именно сегодня, когда германские фашисты совершили аншлюс в Австрии и агрессию в Чехословакии, когда борется, изнемогая, Испанская республика, а итальянские чернорубашечники угнетают Эфиопию, мы должны быть готовы ответить агрессорам ударом на удар. Для чего нам нужна наша бомба? Отвечаю: чтобы враги мира трепетали перед нашей Красной Армией. Вам понятно?
Головы покачивались, как у болванчиков, все были согласны… Ежов требовал, чтобы пили еще, и Вревский проверял, чтобы все пили до дна.
— Ты мне, Шавло, не понравился, — сказал вдруг нарком. — Ты человек ненадежный и даже продажный, не наш человек… Молчи, не возражай. Я с тобой откровенно, а ты молчи. Потому что товарищей не выбирают. Сделаешь бомбу, рванешь на весь мир — будет у тебя лучший друг, Коля Ежов. Мне для друга ничего не жалко.
Он поднялся и, опрокинув графин с водкой, потянул нежную узкую руку к Шавло, и тот тоже встал и осторожно пожал тонкие пальцы. Пальцы были влажными и холодными.
Ежов снова сел, откинулся в кресле — для него за столом стояло кожаное мягкое кресло. Шавло подумал, что кресло еще в революцию вытащено из какой-нибудь помещичьей усадьбы, а потом этот салон-вагон переходил по наследству от Брусилова к Троцкому, к Фрунзе, к Ежову.
— Плохо наше дело, — продолжал Ежов, — Всюду враги. Вы даже не представляете, до какой степени они внедрились повсюду. Как сорняки. Ну как сорняки. Их полешь, они лезут, их полешь, они лезут…
Ежов велел принести баян, но удержать его в руках не смог, уронил на пол и, встав с кресла, подошел к Шавло.
— Встань! — приказал он ему. — Встань, сука!
— Встань, — прошептал Френкель.
Шавло увидел, как неверными пальцами нарком пытается расстегнуть кобуру.
Матя поднялся и отступил на шаг.
— Скажи честно, только честно — есть твоя бомба? Ну!
— Вы завтра увидите, товарищ нарком.
— Нет, не завтра! Ты не виляй, не виляй. Где бомба?
— Завтра утром будет испытание.
— Нет, тут я тебя и поймал! Испытание будет сейчас! Понял?
— Но ничего не готово.
— Ты до завтра ее Гитлеру продашь — я вас всех знаю! Френкель!
— Я здесь.
— Мы идем на испытание! Мы ее рванем. А этого… падлу я пущу в расход.
Вревский сделал осторожный шаг за спину наркому, и с великим облегчением протрезвевший Шавло увидел, что его рука поднялась, чтобы не позволить наркому вынуть пистолет из кобуры.
— Хорошо, товарищ нарком, — согласился Френкель. — Вы тогда отдыхайте, а мы все подготовим. Хорошо.
— А Шавло? Где этот сукин сын? Вот кого не выношу — это евреев! Чтобы сегодня привести в исполнение. Пошли бомбу рвать…
Приступ активности и мелкого буйства тут же миновал. Ежов остановился у угла стола, оперся о него ладонью и мирно спросил у Мати:
— Ты знаешь, как меня называет народ?
— Железным наркомом, — сказал Шавло без колебаний.
— Ежовые рукавицы, вот я кто — понял?
Шавло промолчал.
— А я вынужден стоять перед тобой, продажной сволочью, и просить: сделай бомбу, сделай бомбу, сделай бомбу… А почему? А потому, что у нас с тобой нет выхода. Мы с тобой оба этой бомбой, как веревками, повязаны. Она нас или вытянет, или с собой утянет — на куски и швах! Понимаешь?
— Понимаю, — сказал Шавло.
— Я тебя очень прошу, Матвей, — сказал нарком, глядя на Матю снизу вверх прекрасными голубыми, наполненными слезами глазами, — сделай мне бомбу. А иначе меня убьют. Этот сука Берия убьет. Он уже Хозяину с утра до вечера на меня наговаривает. Ты меня понимаешь, Матвей?
Ежов взял со стола графин и отпил из горлышка. Все напряженно молчали.
Ежов уронил графин на пол. Тот покатился в угол салона.
Ежов тяжело упал на колени и пополз к Мате, стараясь обхватить его ноги. Матя отступал.
— Ты меня спасешь? Я тебя озолочу, я тебя не забуду!
Язык плохо повиновался наркому, Матя отступал, но отступать было некуда. Ежов, шустро передвигаясь на коленях, загонял его в угол, где стоял Френкель, Матя наклонился, стараясь поднять Ежова с пола, но тот отталкивал его руки и кричал:
— Нет, ты скажи, ты, сука, скажи, спасешь или нет?
— Соглашайся! — шипел в ухо Френкель.
— Я сделаю все, товарищ нарком.
Ежов остановился, вцепившись в брюки Мати, Френкель обежал наркома сзади и стал что-то шептать ему на ухо, как будто разговаривал с капризничавшим мальчишкой.
— Я согласен, Николай Иванович, — говорил Матя, но Ежов не слышал уже ответа — Френкель подхватил его, внезапно, по-детски заснувшего, и быстро понес к двери — на Ежове были сапоги на высоких каблучках.
— А как же… что же будет? — спросил Шавло, еще не осознавая ужаса происшедшего, но склоняясь перед неизбежностью беды.
Ответил Вревский.
— К утру он должен все забыть, — сказал он, щурясь на стакан водки, который твердо держал в руке.
— А если не забудет? — глупо спросил Матя.
— Тогда я постараюсь, чтобы вы перед смертью не мучились, товарищ профессор, — сказал Вревский и склонился к столу, разыскивая среди тарелок подходящую закуску.
Паузу, нарушаемую лишь стуком вилки Вревского по тарелке, нарушил Алмазов.
— Мы еще не решили вопрос, — сказал он обыденно, за что Шавло был ему благодарен, — откуда мы будем наблюдать испытания, если нарком категорически против бункера.
— Ты же знаешь, — сказал вернувшийся Френкель, подхватывая деловой тон Алмазова. — Нарком не выносит замкнутых пространств. Он как птица — чем шире простор, тем он счастливее.
Шавло искал улыбки, намека на нее, но начальник ГУЛАГа не улыбался.
— Даже если мы перенесем наблюдательный пункт в другое место, мы не успеем его оборудовать. Значит ли это, что мы переносим испытания?
— Нет, не значит, — отрезал Френкель. — Испытания состоятся завтра. Каждый день на счету.
— Хорошо, — сказал Шавло, раздражаясь, — мы установим пункт в тундре, километрах в десяти от точки взрыва. Вы увидите сам взрыв, но его воздействия на объекты не увидите.
— Зачем десять километров? Подвинь поближе.
— Ближе опасно.
Френкель подошел к окну, отодвинул штору. Из окна был виден главный корпус института.
— А сколько будет от этого дома до взрыва? — спросил Френкель.
— Четыре километра, — сказал Шавло.
— Вот с той крыши мы и посмотрим, — сказал Френкель. Как отрезал.
— Это все равно опасно.
— Вдоль края крыши положите бруствер из мешков с песком, — приказал Френкель Алмазову. Шавло его больше не интересовал.
— Отличная мысль! — Алмазов предпочел не спорить.
А Шавло подумал, что Френкель, наверное, прав, — с седьмого этажа смотреть куда поучительнее.
— А как же мои сотрудники? — Шавло только сейчас вспомнил, что они могут увидеть то, чего видеть им пока не полагалось.
— Об этом я позабочусь, — сказал Алмазов. — Сегодня ночью их всех перебросят на резервный пункт.
До того пункта было километров тридцать, бараки там пустовали.
— Там холодно, — сказал Шавло.
— Не беспокойся, альтруист, — усмехнулся Алмазов, — там уже протопили. Я знаю, что твои академики нам еще пригодятся.
— Вы свободны, — сказал Френкель. Он пожал руку Алмазову, кивнул Шавло, очевидно, как не имеющему чина.
«Ты будешь лизать мне сапоги», — подумал Шавло, не в силах справиться с неприязнью к всесильному начальнику ГУЛАГа.
Солнце уже перешло зенит, и, когда его закрывали облака, становилось пасмурно и хмуро.
Сначала они пошли к площади. Они не разговаривали. И потому Андрей размышлял о сути этого города. Разумеется, хоть не хочется думать об этом, Берлин — это полигон. Для какого-то особенного оружия, с созданием которого связаны молчаливые корпуса института, отделенные и от зоны, и от складов тремя рядами колючей проволоки — ярко освещенной полосой, по которой даже в самую лютую пургу проходят один за другим наряды с собаками. Там светились окна, но Андрею ни разу не пришлось приблизиться настолько, чтобы понять, что же происходит за ними.
Сбивало с толку многообразие Берлина. Если это — отравляющий газ, то незачем было столь тщательно заниматься архитектурой. Но если это какие-то снаряды или бомбы, зачем загонять сюда людей, селить в домах — что за выдумки со зверями?
Хотя Андрей и сказал Айно, что они пойдут искать полезные вещи, на самом деле его более всего интересовала стоявшая сразу за домами высокая, схожая с парашютной, только куда более массивная, ажурная вышка, на площадках которой всегда были люди, и именно туда — об этом Андрей знал от зэков — притащили какой-то ящик, «размером с вагон», по словам соседа по бараку. И установили наверху. А может, это смертоносные лучи, подобно лучам из «Гиперболоида инженера Гарина»?
Они были не одни — многие из жителей вышли на улицы, не сиделось в домах, холодных, как зимние подвалы.
Люди рылись в кучах мусора, оставленного на первых этажах домов и на задворках. Видно, эта плодотворная идея поразила не только мозг Андрея, но оказалась соблазнительной для других граждан — ведь зэк жив тем, что удастся перехватить.
Мостовая, кое-как сложенная из бетонных плит, высохла на солнце, а по площади шагала, будто так и надо, настоящая ворона, отважная, тундровая, полярная. Народ был веселый, потому что можно было полегоньку мародерствовать без вертухаевского глаза: не только подбирать, что кинуто, но и добывать, что плохо прибито, хоть и не ясно, зачем это нужно зэку — деревянный поручень от перил, железный фонарь без начинки, вывеска с немецким сапогом и немецким словом, этот сапог обозначающим.
Нужнее была, например, техническая вата или войлок — отыскался целый чулан, забитый этим добром. Айно с Андреем решили взять на обратном пути.
Пустой и недавно покрашенный город, торцовая мостовая на центральной площади и, главное, пространство, заполненное свежим чистым воздухом и подсвеченное лучами забытого за полярную ночь солнца, никак не сочетались с городскими жителями — косматыми, небритыми, в рваных телогрейках или бушлатах, в опорках и разбитых башмаках. Это было даже анекдотично в своей неправильности. И видно, именно это зрелище натолкнуло Альбину на мысль, которой она поделилась со спутниками, когда они пересекали площадь, — длинные полосы фиолетовой тени и оранжевого солнечного света.
— Ян когда-то говорил мне, — сказала она, — что до революции в тюрьме осужденным на смерть давали вкусный обед, даже икру. И вино.
Странно, когда человек, которого ты не считаешь умным, говорит нечто, столь совпадающее с твоими собственными мыслями. Андрей не успел ответить, ему хотелось возразить, а возразить было нечем. Тут он услышал голос Айно:
— Для нас у них нашелся только перловый суп…
— И хлеб, по полбуханки. Это много, — добавила Альбина.
— Вина не будет, — сказал Айно.
Они говорили, не нуждаясь в Андрее, а он должен был бы показать, что лучше них понимает смысл происходящего.
— Нет, все не так просто, — сказал Андрей. — Зачем Алмазову, самому начальнику Испытлага, приезжать на наши проводы?
— Чтобы увидеть, как я испугаюсь, — сказала Альбина просто.
— Вы?
— Ян меня не любит, но он никак не решался меня убить.
— Убить? — глупо спросил Андрей, не в состоянии совместить в сознании всесильного чекиста и эту почти оборванную женщину.
— Смерть — это очень просто, — сказала Альбина, — а убить очень трудно. И себя, и другого. К этому надо привыкнуть. Он умеет приказать, чтобы убивали другие, а сам он боится убивать. Он трус. Ян — трус.
Яном она называла Алмазова. Ян Янович Алмазов. Конечно же… Она была его любовницей? Или отвергла его любовь?
Айно и Андрей молчали. Они миновали площадь и, завернув за ратушу, вышли на поле, уставленное чучелами в человеческий рост.
Некоторые из чучел упали, утром дул сильный ветер.
Они шли между рядами чучел: с лица — солдаты в немецких касках. У некоторых были нарисованы углем лица. Эти чучела были страшными.
Все меньше встречалось жителей города. Почти все несли с собой доски, бруски или ветошь — каждый думал о морозе ночью и о том, как разжечь костер, несмотря на запреты. Даже если человеку строго-настрого запретили о себе заботиться, он все равно постарается обойти запрет.
За полем манекенов был железнодорожный тупик — здесь кончались рельсы берлинской железной дороги.
В тупике стояли старый паровоз и три вагона с раскрытыми дверями. В паровозе они увидели зэка, незнакомого — бородатого, рыжего, в надвинутой на глаза рваной ушанке. Он жал на рукоятки в кабине и гудел, словно мчался на паровозе. Андрею он помахал, как машут из вагонов стоящим у насыпи грибникам. Андрей обогнул паровоз.
— Осторожнее! — крикнул кто-то без злобы.
Оказалось, что за железнодорожным тупиком была ферма — низкий длинный хлев, перед ним загончики, огражденные брусьями, в загончиках топтали холодную грязь свиньи. Возле стоял толстый мужчина в высоких резиновых сапогах и ватнике.
— Сюда нельзя, — сообщил он. — Я уж сегодня ваших отпугивал.
Оказалось, что в руке у него наган, висит дулом вниз, вдоль бедра.
— Мы не нарушаем, — сказал Андрей, — нам твои свиньи, сам понимаешь, не нужны.
— Свиньи всем нужны. У нас на той неделе хряка увели, ей-богу! Хряк был с быка — а увели. Думали, что ваши, а оказывается, комендатура, на лафете вывезли, не поверишь! Осади назад!
Андрей отступил в сторону, в смешанную со снегом грязь.
— Я на вид добрый, — сказал свинарь. — А так я злой. Если что со свинками случится, я буду в ответе. Сидоренко, напарник мой, при котором хряка увели, он где? Он на общих работах, понимаешь?
— Понимаю.
— Я себя берегу и имущество. Это имущество опытное, понимаешь? Ну и пошли, не оборачивайтесь.
Они пошли дальше, спиной неприятно чувствуя свинаря. Но скоро зашли за штабели леса, видно, оставшегося от строительства и еще не разворованного. Свиноферма исчезла из глаз. Странное место — свиноферма в Берлине.
Но еще большее удивление им пришлось испытать буквально через несколько шагов.
Они попали в зоопарк.
Зоопарк был оформлен как немецкий зверинец, с аркой над входом и немецкими буквами надписью «ZOO». А потом шла двойная шеренга небольших клеток.
— А кассы нет, — сказала Альбина.
— Какой кассы нет? — не понял Айно.
— А где мы купим билет?
Звери встретили посетителей внимательными взглядами, тихим рычанием, иные спешили к решетке, словно соскучились по людям.
Справа в клетке был бурый медведь — он встал на задние лапы у решетки и скреб себя по груди когтями, выпрашивал подачку, слева — пара волков, те остались лежать, только смотрели немигающими желтыми глазами.
Потом была клетка с орлом, клетка с рысью, которая, свесив лапы, спала на диагонально поставленном суку, но неожиданнее и удивительнее всего был тигр; тигр быстро ходил вдоль решетки — пять шагов, поворот, пять шагов в другую сторону — снова поворот… Альбина вдруг испугалась, схватила Андрея за руку. Напротив тигра, вздрагивая каждый раз, когда тот разворачивался, в такой же тесной клетке стояла зебра. Ей, наверное, было холодно.
Короткие ряды клеток завершались обиталищами обыкновенных зверей: с одной стороны — пара лисиц, с другой — песцы. Дорожка уперлась в амбар с высокими раскрытыми дверями. В дверях стоял махонького роста бровастый бородач в казенной лагерной ушанке, но вполне приличном пальто с каракулевым воротником.
— Добрый день, добрый день! — закричал он, словно давно ждал гостей. — Заходите. И я вам должен сказать, что наши дела никуда не годятся.
Он протянул руку и представился сначала Альбине:
— Профессор Семирадский. Свердловский университет.
— Альбина Лордкипанидзе… Только я боюсь, профессор, — догадалась об ошибке Альбина, — что вы ждете кого-то другого. А мы просто так пришли.
— Просто так? — Рука профессора, протянутая к Андрею, замерла в воздухе. — Вы не комиссия?
— Мы не комиссия, — печально произнес Айно, расстраиваясь от того, как горько воспринял эту весть профессор.
— Тогда зачем вы здесь? Ведь поймите же — это народное достояние! Ценнейшее достояние. Я не позволю такого изуверства! Я дойду лично до товарища Ежова…
Профессор начал филиппику на высоких тонах, но голос его с каждым словом становился тише и неувереннее. Он замолчал и, повернувшись, словно забыв об остальных, пошел внутрь амбара.
Они последовали за профессором, потому что он хоть и не приглашал внутрь, но и не запретил войти.
В амбаре было почти темно, только в одном месте сквозь щель в деревянной стене пробивался красный горизонтальный луч солнца…
Слон не стоял, как принято, а лежал на куче ветоши и тряпок, но он увидел, что пришли люди, и, возможно, как и профессор, надеялся на приход какой-то комиссии — он приподнял голову и шевельнул хоботом, упорно глядя на Андрея маленькими слезящимися глазами.
— Вы его не спасете, если не принять немедленных мер, — сказал профессор, словно обращался именно к комиссии по спасению слона. — Но его спасут ведро портвейна, горсть аспирина и, главное, теплое помещение. Ему нельзя лежать — поймите же, если слон лег, то дело плохо! Неужели так трудно понять очевидные вещи?
— Мы заключенные, — сказал Айно. — Мы не можем помочь. Мы никогда не видели портвейна.
— Я понимаю вашу шутку, — откликнулся профессор, — но я не могу находиться рядом с животными, которых так мучают! Здесь же нет отопления, этой ночью был мороз, наверное, градусов в десять. А чем я могу накрыть простуженного слона?
Слон все понимал, он тяжело вздохнул и попытался что-то выговорить хоботом, но только ухнул и захрипел.
— Потерпи немного. — Альбина высвободила пальцы из рук Андрея и подошла к слону. Андрей хотел было остановить ее, но понял, что это будет неправильно.
Альбина присела перед слоном на корточки, а мужчины стояли неподвижно и слушали, как она говорит слону:
— Ты потерпи, еще немного осталось. Ян нас всех убьет, наверное, завтра, зачем ему тратить на нас горячий суп, правда? Ты еще одну ночь потерпи, бедный мой. — Она прижалась щекой к округлой выпуклости слоновьего лба и что-то еще шептала слону, а тот пошевелил грязной, морщинистой задней ногой, стараясь, видно, подняться, но ничего не вышло.
Потом они пошли наружу. У дверей Айно вдруг вспомнил, остановился, стал копаться в кармане брюк.
— Подождите, — сказал он.
Эстонец вытащил из кармана кусок сахара и подул на него, чтобы сдуть пыль и крошки. Потом протянул его Альбине, которая шла последней, и сказал:
— Если хочешь, то можешь отдать. Это полезно.
Альбина протянула руку и взяла этот кусок, как будто жемчужину, и Андрей увидел, как она смотрит на Айно. И ему стало горько, и грустно, и даже стыдно, хотя он и не мог бы принести сюда сахар, потому что его кусок сама Альбина спрятала за топчан. Взгляд Альбины был несправедлив по отношению к Андрею.
— Ну что вы! — закричал профессор. — Это уж лишнее!
Но возглас его был подобен возгласу матери, которая возмущается слишком ценным, на ее взгляд, подарком для ее ребенка, а в самом деле она благодарна сверх меры.
Альбина вернулась к слону и протянула ему кусок сахара на открытой ладошке. Слон, двинув в сторону хобот, осторожно вытянул треугольную нижнюю губу, и Альбина положила кусок сахара на губу. И странно — слон не хрупал, он начал сосать сахар.
Они вышли из амбара, и профессор сказал:
— Не уходите. Одну секунду.
Он снова скрылся в амбаре, и слышно было, как он там возится.
— Приходите к нам пить чай, — сказала Альбина эстонцу. — У нас с Андрюшей еще много сахара.
И это слово — Андрюша, — произнесенное обыкновенно и мягко, сразу примирило Андрея с Альбиной.
— Конечно, приходите, — сказал Андрей.
Профессор Семирадский вытащил из амбара латаный мешок.
— Здесь бурак и картошка, мне выделяют для животных.
— Ну что вы, — сказал Андрей, — мы не голодные.
— А потом станете голодные, — сказал профессор. — Нам с животными хватит, не беспокойтесь. К тому же ваша дама справедливо заметила, что нас вряд ли здесь долго продержат живыми.
Профессор проводил их до арки, ведущей в зоопарк. Звери узнавали его и подходили к решеткам.
Профессор, оказывается, заведовал кафедрой зоологии на биофаке университета, его арестовали три недели назад и даже не допрашивали, а привезли в зоопарк, где уже были подготовлены к отправке животные. Вместе с профессором было два служителя, но один по пути пытался убежать, и его застрелили, а второй болеет, лежит в фургончике рядом с амбаром — там они с профессором и живут.
Они постояли у выхода, как будто надо было продолжать знакомство, потому что они были приятны друг другу. Андрей сказал:
— Если сможете, то заходите к нам — хоть сегодня вечером, мы живем в синем доме за ратушной площадью.
Профессор отмахнулся:
— Как-нибудь в другой раз. На кого я оставлю зверей? А потом, может быть, они все же пришлют ветеринара и лекарства? Ведь вы допускаете такую мысль?
— Конечно, — сказал за всех Айно.
— И лучше не показывать мешок, — предупредил профессор, — здесь везде есть охранники, только они не всегда очевидны.
Они пошли дальше, а когда Андрей обернулся, он увидел, что маленький профессор все еще стоит в арке под надписью «ZOO».
Тундра была разбита гусеницами и колесами, снега здесь и в помине не осталось — черная открытая земля лучше прогревалась солнцем, и мерзлота ушла глубже. Потому дальше была глубокая грязь, перемешанная с кирпичами, щепками, железками, — то ли подкладывали под колеса забуксовавших машин, то ли этот сор попал сюда случайно.
Разбиты были все подходы к вышке, которая оказалась вблизи куда выше, чем издали. Она была ажурная, сужалась кверху и стояла на массивной бетонной подушке. Наверх вели лестницы, а в центре ходил открытый лифт, который останавливался на площадке, видно, немалой, судя по фигуркам людей, суетившихся вокруг металлического ящика метра в полтора в диаметре и больше четырех метров длиной. От ящика тянулись провода к другим приборам, стоявшим там же, или разбегались прочь, к столбам, вокруг башни и уходили вдаль.
Именно этот ящик, в котором не было ничего зловещего, стенки которого мирно поблескивали под последними лучами солнца, а люди, не опасаясь, приспосабливали, готовили его для какой-то цели, и был судьбой не только тех, кто его сейчас окружал, но и всех обитателей Берлина, и академиков в шараге, и заключенных в лагерях…
Андрей хотел бы подойти поближе, в пустой надежде разглядеть и понять, что же это за штука, в которой, как в ящике Пандоры, таятся неведомые беды, но дальше, до колючей проволоки, окружавшей башню и строения, к ней принадлежавшие, шла открытая местность.
Альбина сказала, что замерзла и хочет домой.
И они пошли обратно в Берлин, заглянув по пути в подвал за войлоком.
До дома им дойти не удалось. На опустевшей уже городской площади у въезда в их переулок стояла «эмка».
— Это он, — сказала Альбина и отстранилась от Андрея, она боялась, что взгляд из автомашины увидит их рядом и накажет Андрея.
Андрей с Айно послушно разошлись в стороны, и она пошла быстрее, оставив их сзади, словно ей грозила опасность, которой она не хотела подвергать своих спутников.
В тишине заката громко хлопнула дверца «эмки», комиссар Алмазов в длинном кожаном пальто и кожаной фуражке легко выскочил на мостовую и пошел навстречу Альбине, не замечая Андрея и Айно.
— Ты меня заморозила, — сказал он весело. — Сколько можно гулять?
Андрей остановился. Айно тоже. Но все равно они слышали каждое слово того разговора.
— Я не думала, что вы приедете, Ян Янович, — сказала Альбина.
— Я хотел попрощаться с тобой, — сказал начальник Испытлага. — Я завтра уезжаю надолго.
— Зачем вы так говорите? — спросила Альбина. — Вы никуда не уезжаете. А уезжаю я. Правда?
— Что за чепуха? — Алмазов, будучи человеком среднего роста, тем не менее почти на голову возвышался над Альбиной и казался особо громоздким в широком черном кожаном пальто. Он словно хотел что-то еще ответить, может, оправдаться, но не выдержал взгляда Альбины и повернулся к Андрею с Айно, которые остановились в десяти шагах. Нагруженные добычей спутники Альбины выглядели почти комично.
— Даже тут ты себе нашла мужской гарем, — сказал он. — Не теряешь времени даром. — Андрей понял, что Алмазов тяжело пьян.
— А я думала, что мне назначили временного мужа и соседа по вашему выбору, — сказала Альбина. — Я не верю в случайности там, где есть вы.
— Я приехал, чтобы спросить, нет ли у тебя каких-нибудь просьб или жалоб. Я выполню. Обещаю. Можешь называть меня Яном.
— Скажи, Ян, — не стала спорить Альбина, — а ты помнишь, как рассказывал мне, что до революции приговоренным к смерти давали вино и вкусные вещи?
— Дура! — сказал Алмазов. — Не путай икру и перловый суп. Никто не собирается вас вешать. И мне интересно было бы узнать, кто распространяет здесь эти сплетни.
— Я замерзла, — сказала Альбина. — Можно я пойду в дом?
Алмазов ответил не сразу. Он смотрел на Альбину с той очевидной горячей ненавистью, которая может вылиться в любой нелепый поступок, злобный или добрый. Алмазов стоял, смотрел на Альбину, Альбина смотрела вроде бы на него, но мимо него, и пауза была слишком долгой, надо было завершить ее.
— У тебя будет просьба? Любая? Я ее выполню.
Андрею слышны были невысказанные, но звучавшие в мозгу Алмазова слова: «Ну попроси, умоляй, проси, проси… я же все сделаю!»
— Да, — сказала Альбина, — у меня есть просьба.
Такого исхода Андрей не ждал. Но просьба оказалась тем более неожиданной.
— Там есть слон, — сказала Альбина. — Его привезли сюда, а он ни в чем не виноват, ведь он не английский шпион и не троцкист, правда?
— Да говори же, мать твою! — Алмазов был взбешен, понимая уже, что просьба не касается самой Альбины.
— Слону очень холодно. Он болеет. Ему нужны лекарства. И профессор сказал, что нужно ведро портвейна.
Алмазов открыл дверь «эмки» и залез внутрь.
— Но ведь ты обещал, — сказала Альбина, склоняясь к дверце автомашины.
— Завтра, завтра днем все сделаем. Твоему слону будет тепло. Я тебе обещаю.
Хлопнула дверца, и «эмка», набирая скорость, выехала на площадь, повернула направо, к дороге, ведшей к домам управления. Андрей видел, что из окон домов на «эмку» смотрели зэки. Дверь дома напротив приоткрылась, выглянул Аникушин и спросил:
— Чего он приезжал?
Альбина пожала плечами и пошла в дом.
— Идите отдыхайте, — велел Аникушину Айно.
Вечером, когда стало темно, во многих домах зажглись костры, чтобы согреться и поесть, если у кого что было. Костры устраивали так, чтобы снаружи не было видно, но дым начал просачиваться из окон и подъездов. Почему-то никто не прибежал, не хватал, не кричал. Словно город уже не существовал.
Об этом сказал профессор Семирадский, который все же не выдержал одиночества и пришел в гости. Он принес еще картошки, и Айно отнес бурак и несколько картофелин соседям.
— Когда на город нападала чума, то вокруг ставили карантин, и никто не смел приблизиться к заразе, — сказал профессор.
Они сидели на ящиках и мешках с цементом, на первом этаже, за прилавком магазина. Там и был разожжен костер. Дым выходил через дверь на улицу, смешиваясь с опустившимся на Берлин туманом. Было тепло и уютно. Профессор принес с собой флягу спирта — ему ее выдали для дезинфекции в зоопарке.
Альбина пекла на костре картошку и свеклу. И еще у них был хлеб и кипяток с сахаром — получилась видимость хорошей, дружеской вечеринки. К ним, к Андрею с Альбиной, пришли гости, они их принимают. А потом пойдут спать.
Они говорили, конечно же, о судьбе города и их собственной судьбе и не могли придумать ничего хорошего, но сытость, спирт, огонь костра-камина заставляли пренебрегать реальностью завтрашней смерти, пока горела подаренная палачом сигарета.
На войлоке сидеть было мягко. Альбина устроилась рядом с Андреем — она как бы признавала его власть, профессор сидел напротив, а Айно стоял сзади профессора, чтобы лучше видеть Альбину. Андрей понимал, что Айно смотрит на Альбину, но не мог ничего с этим поделать, только думал, какое у Айно некрасивое, даже уродливое лицо.
Снаружи раздались шум и крики.
Айно поднялся и пошел к двери, сказав на ходу:
— Надо, чтобы без криков, а то придет вохра, и всем будет плохо.
— Не надо, — испугалась Альбина. — А вдруг у них ножи?
— Спасибо, я не боюсь, — сказал Айно.
— Я пойду с тобой? — спросил Андрей.
— Этого делать нельзя, — отрезал Айно и шагнул за дверь. И они остались втроем, слушая, как в крики вмешался низкий голос Айно, и постепенно крики стали тише и перешли в громкий разговор.
Андрей не вслушивался, но сказал, словно хотел похвалить Айно, а на самом деле ревнуя:
— У нас в бараке Айно звали Булыжником. Правда похож?
Ни профессор, ни Альбина ничего не ответили на слова Андрея, и ему стало стыдно, что он их произнес.
Вернулся Айно и сказал, что Аникушин украл у соседа кусок пайки.
— Уже сытый, а все равно еще хочет, — сказал Айно.
Он снова занял позицию напротив Альбины, и лицо, подсвеченное снизу неверным, слабым светом маленького костра, было не только грубым, но казалось Андрею зловещим.
— Зачем приезжал Алмазов? — спросил Андрей.
— Чтобы я его просила о жизни, — ответила Альбина.
— Значит, вы думаете, что они твердо решили нас завтра убить? — спросил Семирадский.
— Он бы мне отказал в жизни, — сказала Альбина, глядя в костер и не слыша профессора. — Он хотел, чтобы я попросила, а он бы все равно оставил меня здесь… я так думаю.
— Ну, ничего страшного, — сказал неожиданно Айно. — Ты все равно попросила. За слона.
— Что за слона? — спросил Семирадский. — Вам обещали?
— Да. Завтра, — сказала Альбина. — Тогда я и поняла, что нас убьют завтра в первой половине дня.
— Почему?
— Потому что Ян всегда держит слово. Но особенным образом, с обманом. Если он дал слово, что поможет слону днем, значит, будут объективные обстоятельства, которые не дадут помочь. И он будет чист перед своей совестью. А мы все будем мертвые.
— Надеюсь, что вы преувеличиваете, — сказал Семирадский. — Я надеюсь.
Он не видел Алмазова, вернее всего, не знал о его существовании и недавнем приезде, и потому его слов никто не принял всерьез.
— И еще он хотел попрощаться, — сказала Альбина. — Мы же давно знакомы.
После этих слов наступило долгое молчание, и, видно, не выдержав паузы, профессор произнес:
— А вы слышали о художнике Семирадском?
— Разумеется, — сказал Андрей. — Он писал библейские сюжеты.
— Он был очень чувственный, — добавила Альбина.
— Это мой дядя, — сказал обрадованно профессор, словно встретил потерянных родственников.
Потом Альбина поднялась и сказала, что хочет посмотреть на звезды.
— Это можно сделать не выходя из дома, — сказал Андрей.
— Я провожу вас, — сказал Айно.
— Только умоляю, не отходите от дома, — сказал профессор.
— Мы постоим у дверей и вернемся, — сказала Альбина.
И Андрею было нечего больше сказать. Он должен был сообразить и предложить себя в спутники Альбине, а не запрещать. Что ты можешь запретить женщине, которая знает, что завтра умрет?
— Я полагаю, — сказал профессор, протягивая Андрею кружку с разведенным спиртом, — что на вышке они поставили прибор, который определяет воздушную цель. Они будут производить налет на город на аэропланах, а с вышки их будут засекать.
— И сбивать? — спросил Андрей с мрачным сарказмом.
— Наверняка у них где-то укрыты батареи зенитных пушек, — сказал Семирадский.
Было очень тихо, чуть потрескивали головешки в костре, с улицы доносились невнятные звуки разговора.
— Я читал в газете, совсем недавно, — сказал профессор, — что в Англии проводятся опыты по этой части. Это очень важно в будущей войне.
— Для этого незачем строить город, — сказал Андрей. Голос профессора его раздражал. Ему хотелось услышать, о чем говорят Айно и Альбина.
— Да, — согласился профессор, — города не строят для того, чтобы разрушать…
— На вышке лежит бомба, — сказал Андрей. — Особая бомба. Я не знаю другого объяснения.
Андрей замолчал, охваченный тяжелой тоской. Он угодил в тупик и потерял следы Теодора. А самому уже не выбраться, не успеть.
— Я пойду, — сказал профессор. — Уже поздно.
— Я провожу вас до угла, — сказал Андрей.
Айно и Альбина стояли недалеко от подъезда, приблизившись друг к другу. Альбина сделала шаг в сторону, а может быть, Андрею все это показалось в темноте. Айно и Альбина попрощались с профессором, и Андрей проводил его до угла.
Когда они вышли на площадь, издалека донесся гулкий звук, какой получается у плохого трубача, ему ответил короткий рев.
— Они меня зовут, — сказал профессор. — Прощайте. Вы не представляете, как мне их жалко.
Когда Андрей возвращался к дому, Альбина и Айно продолжали стоять у стены.
— Не замерзли? — спросил Андрей.
— Да, конечно, — спохватилась Альбина. — Пора домой.
Костер погас, остались красные угли, они чуть грели.
— Я пойду? — спросил Айно. Как будто даже не у него, а у Альбины. Альбина промолчала.
— Спокойной ночи, — сказал Андрей. — Счастливых сновидений. Дай Бог, нас до утра не взорвут.
Айно тяжело пошел по лестнице наверх.
Альбина стояла спиной к окну. Андрею слышно было, как Айно шагает по своей комнате. Перекрытия были тонкие, наверное, в одну доску — никто же не должен был в этом доме жить.
— Рано в кровать, рано вставать, завтра на парте не будешь зевать, — сказал Андрей и поперхнулся.
Бодрость его слов была лживой. Но в голове шумело от спирта, а рядом была принадлежавшая ему женщина.
— Разумеется, — тихо ответила Альбина. — Рано вставать.
Но не сделала попытки лечь.
— Так как вы формально моя супруга, — сказал Андрей, — то ложе у нас общее. Вы уж простите.
— Да, конечно, — согласилась Альбина.
Андрею было неловко. Очевидно, требовались решительные поступки уверенного в себе мужчины, а не эти пустые слова.
Он подошел к Альбине, она отступила к топчану, накрытому клочьями войлока.
— Может, хотите еще спирта? — спросил Андрей. — Там в кружке должно остаться.
— Нет, я не люблю спиртные напитки, — старомодно ответила Альбина.
Андрей протянул руку и взял ее пальцы. Пальцы были холодными, чуть влажными и покорными. Это прикосновение наэлектризовало тело Андрея, и он потянул к себе Альбину за пальцы, затем перехватил ее за плечи. Альбина была беспомощна и вынуждена была прижаться к нему всем телом.
— Альбина, Аля, — заговорил Андрей. — Простите, пожалуйста, простите, но все может случиться… завтра нас больше не будет… И мы с вами, понимаете, мы обязаны… это наша судьба.
— Андрей, — сказала Альбина шепотом, — не надо, нас же слышно — каждое слово…
Андрей замер от этих слов и услышал, как мерно шагает сверху Айно.
— Он не услышит, не бойтесь, — сказал Андрей шепотом. Он поцеловал Альбину в шею, в щеку, в глаз…
— Пожалуйста, — просила Альбина, — это вам вовсе не нужно, у вас есть девушка или жена, у вас есть девушка?
— Мы сейчас только вдвоем, — отвечал Андрей и понимал, что, какие бы слова сейчас ни сказала Альбина, его тело их опровергнет. — Вам тоже надо, — шептал Андрей. Он отступал, притягивая Альбину к себе, — вам тоже, это же последний раз!
Он упал на топчан спиной — мягко, как падал в волейболе, — с таким расчетом, чтобы Альбина упала на него, — и это ему удалось — ее мягкая шубка накрыла его, как теплая палатка, и он стал целовать щеки, губы, глаза Альбины, крепко сжав ладонями ее виски.
— Это неправильно, это не так. — Слова Альбины вырывались из ее губ между поцелуями. — Это нам приказали, мы не любим друг друга, это их приказ… неужели вы не понимаете, что он хотел меня убить еще до смерти, — он отдал меня, чтобы унизить в последний день!
Андрей слышал эти слова, но не понимал их — он же был назначен хозяином этого нежного и даже в лагере, в грязи, не ставшего грязным существа… Андрей повернулся так, чтобы Альбина оказалась под ним.
— Вы меня хотите изнасиловать? — спросила Альбина, отвернув голову и сжимая ноги, чтобы Андрей не мог овладеть ею.
Шаги сверху прекратились, будто Айно слышал. Потом возобновились.
«Странно, — подумал Андрей, — почему я слышу эти шаги, ведь я ничего не должен слышать. Я же люблю эту женщину, и, кроме нас, никого не осталось на свете».
— Но я вам нравлюсь, правда? — шептал он, стараясь раздвинуть ноги Альбины.
— Да, конечно, вы очень милый… Погодите, мне надо уйти, на минутку, мне надо вниз, понимаете? Мне надо в туалет.
— О господи! — вырвалось у Андрея. Он был цивилизованным человеком, он не мог игнорировать просьбу женщины, но в этом было нечто, уничтожающее страсть.
Он с трудом заставил себя отодвинуться и сказал:
— Я жду, скорее.
Альбина не ответила. Она отходила к двери, оправляя платье под расстегнутой шубкой.
Андрей сел на войлоке. Его колотило. Но не от холода.
— Скорее же, — сказал он.
— Простите, Андрей, — сказала Альбина. — Вы такой молоденький, вы еще совсем мальчик.
Она повернулась и исчезла в черном проеме двери. Андрей не сразу понял, что ее последние слова — прощание. Но тут он услышал — шаги наверху снова замерли. Айно слушает.
Из темноты, с лестницы донесся тихий голос Альбины:
— Айно ждет меня, простите, Андрей, но я должна пойти к нему… Я так хочу…
— Что?
Каблуки башмаков Альбины быстро затопали по лестнице, и слышно было, как Айно пошел к двери. Как он встретил Альбину. Их голоса зазвучали неразборчиво, как во сне.
Андрей вскочил. Он побежал к двери. Остановился в поисках какого-то оружия. Он должен был испугать этого Айно, заставить его отдать чужую жену…
Уже дотронувшись до косяка двери, он понял, что никуда не побежит. Никого не будет бить и не будет битым… Возбуждение, владевшее им, проходило быстро, может, потому, что стало очень холодно, а может, и оттого, что само это возбуждение было истеричным и преходящим, сродни возбуждению кобеля.
«Черт знает что… что со мной? Я хотел навязать женщине себя, свое вожделение, как насильник. За что? Ей так плохо — ей хуже всех — она же слабая, она же бессильна…» Голоса наверху прервались. Прекратились и шаги. Он долго прислушивался: ночь была прозрачна и полна звуков — то голоса с улицы, то удара по металлу, то далекого рева мотора, то шума пролетающего в стороне самолета… Но сверху лишь изредка доносились обрывки невнятного шепота.
И чем дальше, тем глупее казалось собственное кобелиное поведение.
Хотя, впрочем, было и грустно. Потому что если завтра придет смерть, то лучше, если она придет после этого… а почему лучше?
Может, именно этой ночью легче будет убежать? В тундру, на верную смерть? Он подошел к окну. И как раз в тот момент под окном не спеша проходил патруль. Город Берлин все же охранялся.
Неожиданно сверху донесся слабый стон, шевеление — заскрипели доски… «Черт, — мысленно выругался Андрей, — теперь спать не дадут». Но без злобы. Он закутался в войлок, даже уши заткнул, чтобы не слышать все более неосторожных звуков сверху… и заснул.
Так прошла его ночь в городе Берлине.
Глава 4
5 апреля 1939 года
На следующий день Матя проснулся рано. За окном каморки, забранным решеткой, синело утро. Порой, когда Матя просыпался, ему чудилось вначале, что он на воле, может, даже в Риме, но потом он вспоминал, как далеко отсюда до Рима, и приходилось долго уговаривать себя, что его трудное счастье ведет к вершинам, немыслимым даже для Ферми или Эйнштейна. Он должен вытерпеть этот период — период куколки, период скованности хитиновым покровом, главное — знать, что в один прекрасный день у тебя будет возможность расправить крылья.
Проснулся он в ужасе — сердце билось мелко и ненадежно. Ужас происходил оттого, что Мате почудилось: к двери подходит Вревский, чтобы отвести Матю на расстрел, потому что Ежов запомнил свое унижение.
По мере того как просыпался мозг, Матя мысленно улыбнулся собственным пустым страхам — сейчас, сегодня его никто не посмеет тронуть. Только сама бомба имеет право и власть над Матей. И она обязана его помиловать и наградить. Это его кипящий котел, из которого он выйдет добрым молодцем.
Матя взглянул на часы — семь. Наверное, его коллеги, которых уже перегнали в запасные бараки, не спали всю ночь в пустых интеллигентских вздохах и еврейских стенаниях — ах, куда нас везут? Никуда вас не везут, никому вы сегодня не нужны. Но завтра и вам будет воздано по заслугам — темницы рухнут, и свобода вас встретит радостно у входа, но меч вам в руки не дадут. Рифма получилась удачной, Матя сел, стукнул босыми пятками по холодному полу. Топили плохо. Институт, а топят как в бараке.
Матя босиком подошел к окну — со второго этажа в утренней мгле было видно скопище бараков и складов, но город отсюда не был виден. В тот день, 5 апреля 1939 года, сказал себе Матя, в Советском Союзе была испытана созданная Матвеем Шавло ядерная бомба, которая изменила баланс сил в мире и принесла ее автору заслуженную Нобелевскую премию…
Матвей босиком пробежал через кабинет в предбанник, где дремал на стуле его ночной тягач лейтенант Приходько, наглый рыжий детина, полагавший, что Матя ничем не лучше прочих зэков.
При стуке двери Приходько открыл очи, но не встал со стула.
— Пускай сюда принесут завтрак, — произнес Шавло начальственно. Пусть лейтенант потрудится. Обычно Шавло спускался в общую столовую на первом этаже и завтракал вместе с бухгалтерами, врачами и служащими лагерного управления. Но сегодня ему хотелось как можно дольше оставаться одному. Без этих рож и наглых, ищущих, угрожающих бандитских глаз.
Он представил, как лейтенанту, который заступил на пост в ноль часов и, конечно же, не позавтракал, противно прислуживать Мате. Но не пожалел его, потому что и его ненавидел.
Если бы он мог представить себе шесть лет назад, что он, победив, окажется в страшной тюрьме и, приобретя великую власть, станет бессильным и бесправным узником, ненавидимым другими узниками, если бы он, по-детски гордый итальянскими гетрами и пиджаками, мог представить, что такое ненависть к тем, кого выбрал себе в хозяева, он бы утопился в пруду санатория «Узкое».
Когда лейтенант Приходько принес чайник с жидким чаем, хлеб и миску с кашей — здесь все питались плохо, кроме руководителей НКВД, — Матя сказал ему:
— Можете сходить в столовую, лейтенант, выпейте чаю.
Матя нарочно придал голосу покровительственные и добрые интонации. Он знал ответ заранее и насладился им.
— Я на посту, гражданин директор, — сказал тягач и сжал без того тонкие губы. Тяжелые скулы покраснели.
— Тогда составьте мне компанию, — сказал Шавло.
— Спасибо, не хочется, — почти крикнул лейтенант и захлопнул дверь.
Мате стало немного лучше. «Ты сам выбрал себе такую жизнь, лакей!» — мысленно крикнул он вслед лейтенанту. И налил чаю в стакан, который держал в своей комнате. Потому что в столовой давали только алюминиевые кружки.
Представляя, каким будет взрыв, Матя допускал возможность цепной реакции, но она никак не могла выйти за порог критической массы урана-235.
Семь часов, но сегодня работ нет, только усилено оцепление — три зоны охраны, — ни одна птица не подлетит к объекту ближе чем на сто километров. «Интересно, а Эйнштейн уже знает, что при делении ядер вылетают нейтроны, или это только мое открытие?» Впрочем, об этом на реакторе еще в прошлом году догадался Игорь Черенков, но потом увлекся своим свечением, Матя разрешил ему тратить ночи на эксперименты, покрывал его, не ожидая благодарности, — ученые самые неблагодарные люди на свете. Изя Померанчук, мальчишка, обнаглел настолько, что решил устроить голодовку, потому что, видите ли, не знает, за что он заточен в институте. Теоретически такие, как он, не приспособленные к жизни в условиях сталинских пятилеток, имеют куда больше шансов выжить именно здесь, на чистом воздухе. У Скобельцына снова воспаление легких. Алмазов, разумеется, и не почесался. Для него Скобельцын — лишь мрачный мужик, не желающий телогрейку даже в лаборатории и не замечающий, принципиально не замечающий комиссара. А его голова и его руки, а главное — умение работать с камерой Вильсона очень нужны… тебе же, Алмазов, черт побери!
Были бы работы открытыми, шло бы все как и прежде, он бы написал сейчас в Данию Нильсу Бору или Сцилларду в Соединенные Штаты и получил бы лекарство — еще так недавно Матя был хоть и младшим по возрасту и положению, но равным членом этого всемирного содружества, ныне разделенного политикой и враждой. Но ведь не мы первыми начали! Ган и фон Вейцзекер уже побывали на урановых рудниках в Богемии — Алмазов добыл донесение наших разведчиков. К нему теперь стекалась значительная часть оперативной информации, касающейся работ по делению атомов урана. И лишь он оказался способен оценить своевременность работ Шавло — у нас пять лет форы, несмотря на нашу отсталость, расхлябанность, неразбериху, несмотря на господство чиновников и палачей — мы впереди всех! Остальные стоят на перепутье — лучшие умы понимают: в физике происходит нечто невероятное, еще настолько неосознанное, что публикации продолжают идти в открытых журналах. Ни один политик, ни один военный не разрешил бы этого, если бы он или хотя бы сами экспериментаторы поняли, у истоков какой лавины они стоят.
Матя открыл последний номер «Натурвиссен-шафтен» — только что из Берлина. «О распознавании и поведении щелочноземельных металлов, образующихся при облучении урана нейтронами». И авторы: Отто Ган и Фриц Штрассман. Видит бог — они еще не понимают, что открыли! Это же Нобелевская премия… та самая, которую уже трижды заслужил Матвей Шавло! Скобельцын с Франком получали барий уже три года назад, нет, три с половиной года. А догадались ли они, какая энергия выделяется при его распаде? Господи, это так просто, откройте Эйнштейна, там все написано — 200 миллионов электроновольт! Неужели гениальная Лиза Мейтнер не догадалась, что получилось у Гана рядом с барием? Ну считайте же, считайте! Вычли из 92 урана 56 — бария. Получается тридцать шесть. Что такое тридцать шесть? Криптон! Да поглядите на фотографии, сделанные Вильсоном, — там же очевидный криптон!.. Неужели они так тупы? Нет, не тупы, они умны и умнее Мати. Надо знать свое место. Матя сильнее их лишь собственной волей к жизни и умением развить витающую в воздухе идею, он сильнее особенностью нашей Родины, силой НКВД и ГУЛАГа — кто и где смог бы выдрать из семей, из институтов, из жизни сотни умнейших физических и химических голов гигантской страны и собрать их, запутанных и недокормленных, на краю света? Только товарищ Ягода, а после мученической кончины его — товарищ Ежов. И если товарищ Ежов завтра по пьянке попадет под машину или его расстреляют в подвале и Матя не успеет его спасти — придет кто-нибудь другой: Алмазов, Френкель, Вревский или Берия. И пока у нас в стране есть диктатор — остаются шансы победить все остальное человечество. Используем ли мы эти шансы — не знаю. Но мой собственный шанс в том, чтобы испытание было впечатляющим, грозным, чтобы оно убедило НКВД, убедило Сталина в том, что в его государстве есть великий человек, гений Матвей Шавло. И чтобы Сталин понял, что он полностью зависит от милости этого гения. Заносчиво? Нагло? Ничего подобного, Сталин — мафиозо, Сталин — глава клана бандитов, в Италии Матя начитался об этих людях. Сталин понимает силу и ценит ее в других, если она не угрожает сталинскому благополучию. А Матя ему не угрожает. Матя хочет быть свободным и богатым. Он хочет получить Нобелевскую премию из рук шведского короля. Во славу нашей социалистической родины!
Чай остыл. Матя отставил стакан.
Сегодня все решится.
В коридоре застучали каблуки — Алмазов ставит ногу сначала на каблук, потом на носок — получается особый постук.
— Проснулся?
— Доброе утро. Хочешь чаю?
— Чаю? В такой день? Лейтенант — бутылку коньяку из моей машины! Живо!
— Слушаюсь, товарищ комиссар госбезопасности!
— Нарком как себя чувствует?
— Трепещешь, профессор?
— Не смейся.
— Какой там смех. Вчера, когда он… — Алмазов оглянулся на дверь. — Я чуть не обосрался. Даже если он что и помнит — то предпочтет забыть. А мы с тобой?
— Нас там не было.
— Молодец, быть тебе академиком. Что нового открыли наши буржуазные коллеги?
— Тебе же все переводят.
— Хочу услышать из твоих уст.
— Вот-вот поднимется большая паника.
— Я тоже так думаю. — Алмазов сидел нога на ногу, сапоги блестят и пахнут ваксой — в маленькой комнате этот запах неприятен. — Но они опоздали. Опоздали?
— У них нет института.
Лейтенант шагнул в комнату — в одной руке бутылка коньяку.
— Закуску прикажете?
— Обойдемся. Уходи и закрой за собой дверь.
Алмазов разлил коньяк — в стакан и кружку.
— Я не буду, — сказал Матя. — Голова сегодня должна быть чистой.
— Вот и прочисти.
Алмазов выпил до дна — он много пил в последние месяцы, он трусил. Матя только пригубил. Он хотел видеть все — как идущий на первое, чистое свидание.
Когда они спустились к машине Алмазова, Матя сказал:
— Напомни мне, чтобы всем раздали черные очки. Это важно.
Андрей спал плохо — войлок сползал с него, открытые части тела, хоть он и не раздевался, мерзли, ему казалось, что он гибнет в степи или спасается от волков.
Но проспал он долго — так измотался за предыдущий день. Когда проснулся — уже было светло.
Оттого что слишком много снов и видений мучили его ночью, он не сразу смог вычленить себя из сна, из очередной погони, и потому топотом преследователя показались сначала тяжелые, хоть и осторожные шаги Айно на лестнице за прикрытой дверью, шепот, тихий голос, короткий смех Альбины… Предательница!
Андрей вскочил, отбросил войлок, и это движение было услышано Айно. Тот сразу заглянул в комнату и спросил:
— Будете пить чай, господин Берестов?
Андрей не ответил. Отвернулся к окну.
— Альбина, налей Андрюше чаю в кружку, — сказал Айно.
Андрей встал, готовый отказаться от жалкой подачки. «Почему они, проведя ночь в похотливых объятиях, имеют право вторгаться в его комнату? Я же не просил чаю!»
Оказалось, последние слова он произнес вслух.
— Я не буду обижаться, — сказал Айно. — И ты не обижайся. Мы не знаем, сколько будем жить. Наверное, надо жить хорошо?
Андрей посмотрел на Айно. Тот стоял в дверях, заполняя собой весь дверной проем, громадный, неуклюжий, белобрысый и краснорожий. Он протягивал Андрею кружку с дымящимся кипятком. В другой руке держал кусок хлеба.
Еще не простив Айно и тем более измены Альбины, Андрей сказал, как ему показалось, — с достоинством и холодно:
— Поставь на топчан. Мне надо вниз.
И тут Альбина засмеялась. «Вниз» прозвучало как желание снизойти с горы к трепещущему человечеству, а не к грязному ведру, стоящему у прилавка недостроенного магазина.
Андрей понял причину смеха, покраснел и прошел быстро на лестницу и вниз, толкнув Айно так, что тот чуть не выплеснул кипяток.
Все это было глупо, наивно и стыдно, но признаться в том Андрей не мог. Когда он возвратился наверх, там никого не было — Айно с Альбиной ушли к себе… он мысленно повторил — «они ушли к себе», и это было как бы примирением с той махонькой трагедией, что произошла в его жизни. И хорошо сделали, что ушли, — не надо ни с кем разговаривать.
Небольшой костер, который Айно развел за прилавком, уже был затушен и затоптан, Андрей растер подошвой последние угольки. Сейчас день, сейчас никто не заметит дыма.
Кружка с кипятком и кусок хлеба были на краю топчана — Андрей уселся и с наслаждением выпил горячую воду не спеша, все меньшими глотками, и хлеб откусывал так, чтобы его хватило до конца кружки.
И чем дольше он пил, тем смиреннее и разумнее относился к окружающему миру. С половины кружки к нему вернулось чувство юмора, и он смог представить, каким казался со стороны: грозный мальчик, топающий ножкой, — кто посмел отобрать у меня мою женщину? Ведь ее выдали мне на ночное пользование по личному указанию товарища комиссара! Андрюша, ангел мой, кто тебе сказал, что Альбина тут же бросится в твои объятия? Потому что ты моложе Айно? Потому что ты интеллигентный? Потому что ты русский, а он чухна немытая? А что ты знаешь об Айно, кого ты видел в нем, черт побери?
Они сидят наверху и тихо переговариваются. Они чувствуют себя виноватыми перед ним. Иначе они были бы здесь и разговаривали с ним. Они ждут, что он скажет. Смешно. А интересно, сколько этой Альбине лет? Не меньше тридцати. Как только он про себя произнес это местоимение «этой», он отдалил себя от недавно желанной добычи. «Сверхплановая пайка, мне дали пайку… Интересно, а почему они создали из нас семьи, — кто и почему-то думал об этом? Чтобы все было как положено? Как в настоящую войну?»
— Эй! — крикнул Андрей, зная, что наверху они слышат. — Я схожу в город, посмотрю, что там творится, хорошо?
В ответ раздались частые шаги Айно — вот он в дверях, быстро прибежал, будто ждал зова.
— Хочешь, пойду с тобой?
— Два человека всегда заметнее, — сказал Андрей. — Надо посмотреть большой подвал. Он есть под кирхой, это я точно помню — его бетонировали.
— Если его еще не залило водой. Я пойду с тобой.
— Я боюсь оставаться одна, — сказала Альбина.
Она подошла незаметно, встала рядом с Айно, на полшага сзади, и, просунув вперед узкую ладонь, взяла его за пальцы. Она не доставала ему до плеча. Айно чуть качнулся к ней, но не более.
Андрей не решил, что им ответить, как услышал с улицы приближающийся механический мегафонный голос:
— Граждане заключенные, всем оставаться в своих домах. Внимание гражданам заключенным! Все, кто без разрешения покинет свои дома до двенадцати ноль-ноль, будут подвергнуты наказанию.
Он ринулся к окну. По площади медленно ехала танкетка. В открытом люке стоял командир с мегафоном и повторял:
— Внимание, немедленно возвратиться к дому!
— Это еще что за черт? — сказал Андрей.
— Я кому сказал, сука! — завопил командир.
От ратуши через площадь бежал зэк, вроде бы Аникушин.
Танкетка по приказу командира развернулась и под его мат, усиленный мегафоном, помчалась, подпрыгивая на неровностях мостовой, к Аникушину и принялась гонять его по площади. Аникушин почему-то заткнул уши ладонями и носился зигзагами.
Наконец ему удалось заскочить в ратушу, и танкетка поехала дальше.
— Внимание! — монотонно повторял командир. — Всем оставаться в своих домах до двенадцати часов. Тогда будет привезен горячий обед.
Голос его удалялся по улице, и, когда танкетка выехала на разбитую дорогу, ведущую к железнодорожным тупикам, командир замолчал.
— Почему надо быть в доме? — спросил Айно.
— И именно до двенадцати? А что будет в двенадцать? — спросила Альбина. Лицо у нее было помятое, у глаз и губ морщинки, под глазами угадывались мешки — всего этого вчера Андрей не видел. И волосы были темными у корней и светлыми в полураспустившихся завитках.
— Они могут врать про двенадцать, — сказал Андрей. — Поэтому я предлагаю перебраться в подвал под кирхой.
— Сейчас? — спросила Альбина. — Сейчас нельзя. Они приедут и нас накажут.
— Вот и надо это сделать раньше, чем они вернутся нас наказывать, — сказал Андрей. — Пошли.
— Так идти нельзя, — сказал Айно. — Надо взять теплые вещи. А может быть, там вода?
— Вряд ли, — сказал Андрей. — В кирхе никто не живет.
— Альбина, — сказал Айно. — Ты подожди здесь. Мы посмотрим, как там. Я приду за тобой.
Андрей не стал спорить, хотя не видел никакой нужды для Альбины оставаться здесь и ждать. Но Альбина преданно поглядела на Айно, словно он обещал ей освобождение из лагеря и путевку в крымскую здравницу.
— Конечно, — сказала она, и Айно осторожно освободил руку от ее слабых длинных пальцев. — Я буду ждать.
— На всякий случай, — сказал Андрей, чувствуя неловкость оттого, что будто вмешивается в чужую семейную жизнь, — не подходите к окну — побудьте на первом этаже.
— Правильно, — сказал Айно.
Альбина спустилась за ними, но не пошла к двери, а осталась за прилавком.
Айно с Андреем вышли на улицу. Погода была хуже, чем вчера. Никого на улице не было — видно, жители Берлина всерьез восприняли запрет. Но когда они вышли на площадь и стали ее пересекать, Андрей заметил, как на них смотрят из окон.
С середины площади в просвет между домами Андрей увидел вершину вышки, на верхней площадке которой лежала та штука. Рядом с ней стояли только двое часовых. Больше никого.
В кирхе было холодно, сыро и гулко. Внутри никто не обрабатывал стены, даже опалубку кое-где оставили. Спешили. Айно, как каменщик, лучше знал, куда идти. В дальнем углу алтаря, за кучей неубранного строительного мусора, он показал на плиту, которая не была закреплена. Вдвоем с Андреем они отвалили ее — образовался квадратный, почти метровый черный люк в темноту. Андрей взял кусок кирпича и кинул вниз. Плеснуло. И тут же последовал удар. Айно сказал:
— Там есть вода. Но мало.
— Мы покидаем туда доски и эту рухлядь, — сказал Андрей. — А как спускаться?
— Я знаю, — сказал Айно, и вдруг Андрей увидел на его широком розовом лице смущенную улыбку, как у начинающего фокусника.
Айно подошел к люку и присел, опустив ноги вниз. Потом оттолкнулся широкими ладонями.
— Ты куда?
Но Айно уже прыгнул вниз — исчез. Только плеск воды, невнятный шум.
Андрей наклонился — внизу, метрах в трех, можно было угадать темную фигуру Айно. Тот возился, шаря вокруг.
— Ты спятил, — убежденно заявил Андрей. — У меня же нет веревки тебя вытаскивать.
— Не надо веревки, — сказал Айно.
Он запрокинул голову, и его глаза блеснули.
— Держи, — сказал он. И Андрей увидел, как из темноты показались концы двух палок и легли на край люка. Андрей настолько не ожидал увидеть лестницу, что и не угадал ее в этих палках.
Через минуту Айно поднялся по лестнице вверх. Он все продолжал улыбаться. Фокус удался.
— Ты откуда знал? — спросил Андрей, протягивая руку, чтобы Айно выбрался.
— Про лестницу? Я сам ее кинул. С одним моим эстонским другом, которого тут нет. Мы думали спрятаться там, когда строительство кончат, и ждать, пока уйдут.
— А потом выбраться? Ну, молодцы! Чего же ты раньше не сказал?
— Не хотел, — просто ответил Айно.
— А ты уже убегал? — догадался спросить Андрей.
— Я пять раз убегал, — признался Айно. — Там есть вода, больше, чем было раньше. А у меня есть зажигалка.
— Я знаю, — сказал Андрей, — ты же сделал мне чай.
— Правильно, — похвалил его Айно. Здесь он был главнее.
— Чего же мы не взяли Альбину? — спросил Андрей.
— А если другие люди догадались раньше? Урки? С оружием. Я хочу, чтобы Альбина была живая. У нее была плохая жизнь. Ее мужа убили. Всех убили. Я пойду за ней, а ты кидай туда доски и плиты.
Айно огляделся хозяином.
— Немного досок мы туда клали, — признался он. — Пойди посмотри.
Он показал на люк. И пошел наружу.
Андрей проводил его до дверей. Снаружи дул ветер, пошел редкий косой снег, издали, надвигаясь, жужжал самолет, летел к городу.
— Лучше закрыть дверь, — сказал Айно. Они с Андреем потянули тяжелую дверь, оставив только узкую щель на одного человека.
Андрей смотрел вслед Айно. Тот уверенно, но осторожно, как битый-перебитый лесной житель, прижимаясь к домам, огибал площадь.
Андрей вернулся к люку и решил сначала слазить вниз и исследовать подвал. У него тоже была зажигалка.
Он спустился вниз. Воды было немного, только в углублениях, свет, хоть и ничтожно слабый, проникал сквозь люк. У Андрея были крепкие сапоги — они не промокали. Он пошел вглубь, рассуждая, кому понадобилось сооружать под кирхой такой подвал? Он искал цель, а ее не было — просто подвал был на проекте кирхи, который привезли из Архитектурного музея.
За ночь на плоской бетонной крыше института был устроен бруствер из мешков с песком. Туда же перетащили кресла и стулья. И перископы. Френкель пришел сразу вслед за Матей и потребовал, чтобы в бруствере сделали бойницы. Матя возражал. Алмазов занял нейтральную позицию, затем появился и сам Ежов — темные провалы под глазами, небрит, зол, сразу велел убрать бруствер. «Мы не крысы!» Но затем пошел на компромисс — бруствер, но бойницы. А когда свита сделала для него в мешках ложбину, удобную, по росту, он примерился, успокоился, стал ходить по крыше. На груди у него висел цейссовский бинокль. Время от времени нарком приставлял его к глазам и смотрел на город Берлин.
Матя рассматривал городок в перископ — ему нужно было увеличение, которое давал прибор. Над ратушей реял красный нацистский флаг, издали точь-в-точь отечественный. Матя решил не привлекать внимания начальства — может получиться ненужный скандал.
— Что там за флаг? — громко спросил Ежов.
Ветер, морозный поутру, дул в сторону Мати, и тому пришлось услышать и подивиться — будто мысль Мати передалась наркому!
— Какой флаг? На ратуше?
— Красный!
— Это издали красный. Вблизи фашистский, — откликнулся Матя. — Он тоже красный, а свастику отсюда не видно.
Ежову стало холодно, он отвернулся от городка, щелкнул пальцами, кто-то из свиты подбежал с металлическим стаканчиком. Ежов никому не предложил разделить с ним удовольствие.
Матя ощущал, как пуст институт, — пуст, безмолвен, впервые за эти годы. А ведь это именно те муравьи, что начиняли его, придумали этот взрыв.
Матя перевел перископ на вышку.
Видно было, что на вышке двое или трое связистов проверяют провода, что ведут сюда, на пункт управления. За ночь пришлось тянуть связь сюда, Матя-то в три лег, а Алмазов вроде и не ложился.
Осталось полчаса. Сейчас связисты кончат проверять на вышке, спустятся вниз и пойдут по городу, проверяя кабель. Они, как и все прочие десятки тысяч людей, большей частью голодных, холодных и несчастных, что находятся сейчас в радиусе двадцати километров от полигона, не подозревают, что случится здесь через полчаса. Еще неделю назад Матя наивно предложил Алмазову выдать всем заключенным и вольным черные очки и приказать в девять утра отвернуться и смотреть в другую сторону. «Добреньким прикидываешься, — усмехнулся на его слова Алмазов. Без злобы, понимая. — Мне тоже хочется быть добреньким. Но, во-первых, я не могу ставить под угрозу государственную тайну, которая нам очень дорого обошлась. Во-вторых, где я достану двадцать пять тысяч пар черных очков? Ты это знаешь не хуже меня». Алмазов нашел разумный выход: под страхом жестокого наказания никто не выходит из домов и бараков до двенадцати. Охрана отвечает за это шкурой.
— А сама охрана? — спросил Матя. — На вышках, в зоне?
— Заткнись, — сказал Алмазов. — Обойдется.
Алмазов не верил, что взрыв может ослепить за километры.
Матя проследил взглядом за тем, как связисты не спеша спускаются с вышки. Они сматывали за собой провод телефона. Видно, поддерживали связь с пунктом управления. Матя посмотрел в ту сторону. В двадцати шагах, расстелив на крыше плащ-палатку, сидели два телефониста и командир — все из НКВД.
— Ну, скоро там? — спросил Ежов, не глядя на Матю.
— Осталось двадцать минут, — ответил Матя.
— Поторопитесь. Даю вам десять минут, — приказал Ежов. — А то мы здесь все вымерзнем.
— Нельзя. — Матя подошел поближе к наркому, чтобы не кричать.
— Почему?
— Там связисты — они проверяют линию. Когда они кончат, выйдут из зоны, мы дадим сигнал.
— Можно было вчера проверить.
— Вчера тоже проверяли.
Ежов топнул ножкой. Ножка была в пилотских унтах. Ежову не было холодно. Просто у него было плохое настроение.
— Где кнопка? — спросил он высоким гневным голосом, в его горле что-то клокотало, как у петушка, который вот-вот запоет.
— Какая кнопка? — не понял Матя.
— Которая взрывает.
— Здесь. — Матя показал на взрывную машинку, что стояла сзади под охраной двух чекистов.
— Тогда я сам взорву все к чертовой матери! — сказал Ежов и направился к машинке.
Матя не поверил тому, что нарком может это сделать. Но Алмазов был сообразительнее.
— Николай Иванович, подождите! — Он успел встать между машинкой и Ежовым. Ежов уткнулся в него — он не доставал Алмазову и до плеча. — Еще не готовы кинооператор и фотографы.
— Черт с ними! — Ежов попытался отодвинуть Алмазова с дороги.
— Самолет, который будет вести съемки с воздуха, — почти закричал Матя, — прилетит точно в срок!
Он хотел было напомнить о связистах, которые погибнут, но понял, что этим Ежова не остановить. О других людях, оставшихся и оставленных в обреченном городе, о которых он знал или догадывался, он предпочитал не вспоминать хотя бы потому, что имел основания полагать, что среди них была Альбина.
— Хрен с ним, с самолетом! — Нарком был в тяжелом похмелье. Он плохо соображал, что делает и говорит.
Но Вревский, наклонив к наркому коротко остриженную голову, сказал негромко, но услышали все:
— Нам нужны эти фильмы, товарищ нарком. Мы их должны показать товарищу Сталину. Что мы ему покажем?
— Мы скажем… — Запал Ежова угасал. И тут же гнев начал подниматься вновь, на этот раз он был направлен против операторов.
— Так где они, мать их? Где твои фотографы?
Подошел Френкель — он уже сообразил. Он протянул наркому серебряную стопку. Тот, не заметив, что делает, вбросил в рот содержимое.
— Их сейчас приведут, — сказал Алмазов. — У нас все рассчитано. Главное сейчас — чтобы лишние ушли отсюда. Вы же понимаете, товарищ нарком.
— Кто лишние?
— По списку, подписанному вами, здесь остается десять человек. — Френкель достал список из кармана кожаного с меховым воротником пальто.
— Пускай уходят. — Ежов поскучнел, и Алмазов отошел от него.
Матя посмотрел на часы. До взрыва оставалось еще десять минут.
Через чердачную надстройку на крышу вышли оба фотографа и кинооператор, все трое тащили за собой штативы. И Матя пошел к ним, чтобы показать, где устанавливать камеры, — там, где кончались мешки, на открытом месте. Камерам бруствер только бы помешал.
Матя раздал фотографам и кинооператору черные очки и велел надеть их через пять минут. Оператор примерил и сказал:
— В них работать неудобно.
— Ну, как знаете, — сказал Шавло. Еще не хватало уговаривать идиотов. Хазин, который кое о чем догадывался, очки надел. Заранее. «Еврей, — подумал Матя. — Они всегда осторожные, чуют и остаются живыми там, где русские погибают».
Матя подошел к перископу.
Алмазов стоял у надстройки и смотрел, как один за другим туда уходят охранники и офицеры из свиты наркома. Сам нарком отошел к понижению в бруствере, сделанному для него, и стоял мрачный, руки в карманах. Френкель на шаг сзади. Вревский подошел к перископу — он следил за тем, что делал Матя, и повторял его движения.
Матя обошел всех и раздал черные очки.
Их надели Алмазов и Вревский.
Френкель держал очки в руке. Но ждал, пока их наденет нарком.
— Связь есть! — крикнул лейтенант от телефона. — Сигнал проходит.
— Тогда мотайте отсюда и ждите на шестом этаже. К окнам не подходить, — приказал Алмазов.
Чувствуя опасность, оба связиста поспешили к выходу.
Три минуты до взрыва.
Издалека послышался шум мотора — самолет показался с севера, он шел на высоте километра. Все было правильно.
Матя взглянул в перископ. Городок был пуст и напряжен — он ждал гибели. И Матя должен был его убить. Хотя на ручку машинки нажмет Алмазов. Так договорено.
По ратушной площади шел человечек — Мате не хотелось на него смотреть — почему он там ходит?
— Ну давайте! — закричал Ежов. — Чего вы там! Самолет уже над объектом!
Это только казалось — самолету оставалось больше километра.
— Начать съемку! — приказал Матя.
— И нам тоже? — спросил фотограф Хазин.
— Вот именно!
Алмазов пошел к машинке. Присел рядом с ней. Поглядел на часы.
— Как в аптеке! — крикнул он Мате. Алмазов волновался. Хазин поднял аппарат и сделал снимок. Матя надел черные очки, и все стало туманным и лишь угадываемым.
— Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, — говорил он, все замедляя счет. Ему показалось, что, если считать медленнее, тот идиот уйдет с площади и останется жив.
— Скорее! — закричал нарком. — А то я сейчас сам рвану! Давай!
И Алмазов, подчиняясь Ежову, нажал на рукоять.
И в первое мгновение ничего не произошло.
Первое мгновение было субъективно таким долгим, что Матя успел за него прожить часы горечи и унижения, провала дела всех этих лет… Он даже хотел крикнуть Алмазову, что связь оборвалась и надо ее снова проверять, как в черных очках, в центре, перед самыми глазами начала расцветать и расти огненная, ослепительная даже сквозь черные очки искра. Искра превращалась, клубясь и молча раздуваясь, в огромный пылающий шар, который, словно внутри его крутились черти, двигался, жил, рос, грозя заполнить весь мир и сожрать их, столь неразумно оставшихся на этой крыше.
Наверное, надо было бежать, но бежать было некогда — в каждую последующую секунду вмещалась вечность, и каждая секунда относилась уже к новому миру, которого раньше не было и который сейчас был рожден гением Матвея Шавло.
Шар, ставший таким громадным, что края его дотянулись до крыши, обдав всех горячим дыханием внутренностей Солнца, вдруг потянулся вверх в надежде оторваться от земли и где-то в небе раскрыться необозримым цветком. Но земля не отпускала его, и потому шар уже стал похож на гриб на прямой ножке. Какой гриб? Табачник? Но у того нет прямой ножки! Наверное, это сморчок, но живой сморчок. И когда шар поднялся уже так, что на него надо было смотреть запрокинув голову и в нем уже исчезла черная стрекоза — самолет-наблюдатель, — до Мати донесся утробный и невероятный звук взрыва, такой, что пришлось зажать уши и присесть — на секунду, но спрятаться, и, когда ужас этого звука миновал, Матя понял, что взрыв уже свершился, он уже в прошлом и он, Матя, жив. Цепная реакция не началась, лишь уран-235 выделил нужную нам энергию. И ничего больше. Значит, у нас есть оружие!
Матя, охваченный бесконечной и светлой радостью свершения, оглянулся, чтобы сказать это Алмазову, потому что Алмазов единственный здесь мог оценить и разделить восторг, но Алмазов лежал ничком, зажав уши. Матя посмотрел в другую сторону — Ежов и Френкель сидели на корточках за раскинутым наполовину бруствером, слившись в один мешок. А вот Вревский стоял в черных очках — смотрел в перископ, все как положено. Волна горячего ветра, опрокидывая перископы, обрушилась на крышу, но быстро умчалась.
А что дальше?
Кинооператор поднимал упавший штатив. Сволочь! Он сорвал съемку!
Матя кинулся к нему.
— Я сам! — крикнул он. — Долой, сволочь!
И он начал крутить ручку съемочной камеры — к счастью, он знал, как это делать, и модель была знакомая — «кодак». Кинооператор не возражал. Черные очки упали, он тер глаза кулаками и невнятно ныл.
Матя поймал объективом уплывающий к звездам шар взрыва и снимал его, а потом повел объектив камеры вниз, чтобы увидеть, что осталось от города и полигона.
Черных очков не было — черные очки он потерял. Но теперь это уже не играло роли.
И он увидел город сквозь визир киноаппарата.
Города почти не было.
Вокруг воронки — широкой и мелкой — были раскиданы кирпичи и камни и лишь кое-где острые зубы первых этажей… И снег — такой белый десять минут назад — исчез, куда ни кинь взгляд. Земля была бурой до самого горизонта, а солнце исчезло в тумане.
Андрей натолкнулся на холодную влажную стену — он мог бы зажечь зажигалку, но решил поберечь бензин — его в ней осталось немного. Он пошел вдоль стены, перебирая руками, чтобы понять, насколько велик подвал, но через несколько шагов остановился, поняв, что в том нет никакого смысла. Велик ли подвал или не очень — были бы крепкими его своды или перекрытия.
Он стоял, и его постепенно охватывало все большее нетерпение — где же Айно с Альбиной? Может, они попались на глаза патрулю?
И в то же время Андрей чувствовал, как внутри его начали щелкать часы, ускоряя отсчет секунд, словно он знал наверняка, что именно сейчас случится то ужасное, ради чего их принесли в жертву.
Это понимание и нетерпение, рожденное им, заставили Андрея оторваться от исследования подвала и поспешить к лестнице. Он поднялся по ней — кирха была пустой и гулкой, каждый шаг отдавался до потолка: значит, пол не очень толстый.
Андрей побежал к дверям кирхи.
Он не вышел, но, прижавшись к косяку, выглянул наружу.
И увидел, как через площадь, не напрямик, а прижимаясь к стенам домов, быстро идут Айно с Альбиной. Айно тащит еще и мешок — наверное, с остатками вчерашнего пира. Вот почему они задержались. И тут же Андрей услышал, как стрекочет, приближаясь, аэроплан. Почему-то в тишине Берлина этот звук показался особенно зловещим. Самого самолета пока еще не было видно, но страх перед ним заполнял воздух.
— Скорее! — закричал Андрей. — Скорее сюда! Бегите!
Айно услышал и подчинился настойчивому зову — он потянул Альбину за руку, и они побежали.
Андрей успел заметить, как в дверях одного из домов появился человек, неизвестный Андрею, он смотрел вслед Айно с Альбиной и потом перевел взгляд на кирху. Он также принимал решение. Решение было в пользу кирхи — он решил там спрятаться… Человек пошел через площадь, но неуверенно, оглядываясь, и Андрей всей шкурой понял, что человек не успеет.
Треск самолетного мотора все приближался. Айно втащил Альбину в кирху.
— Скорее! — крикнул Андрей. — Вниз! Они сейчас рванут!
Они побежали через кирху к ходу в подвал.
Андрей понял, что времени не осталось совсем, и он не стал спускаться по лестнице, а толкнул первой Альбину, она замешкалась, Андрей закричал на нее:
— Ну! Скорее же!
Айно кинул в черную дыру мешок и этим подсказал Андрею — что надо делать. Тот прыгнул вслед за мешком, стараясь рассчитать свой прыжок по глубине подвала, он сделал это, чтобы не занимать лестницу и дать возможность спуститься остальным, — он не рассчитал, упал в воду, стало страшно холодно, он попытался отползти в сторону, но видел при том квадрат люка и видел, как спускается Альбина, протянув руку кверху, как бы приглашая Айно. Андрей пытался подняться, но никак не мог — может, он сломал ногу?
Альбина уже достигла пола и замешкалась, почувствовав под ногами воду, — чисто инстинктивно, сама того не замечая, а Айно стоял наверху и ждал, пока она ступит на твердый пол, потому что боялся, что если он тоже наступит на лестницу, то лестница сломается и он упадет на Альбину.
И в этот момент раздался взрыв бомбы.
Андрей не знал, что это взрыв бомбы, — просто вдруг стало светло, и свет этот разгорался, проникая в глубь подвала, заставляя Андрея бессознательно отползать от него.
Но в то же время свет этот не мог ослепить — стены кирхи, частично рухнувшие от взрывной волны, и пол храма защищали их от лучей атомного света.
Андрей видел также, как медленно, будто в замедленном кино, ползет к нему Альбина, но до нее было далеко — ведь все действие заняло лишь секунду или две. И за эту же секунду погиб Айно. Андрей понял, почувствовал, почти увидел, как летевшие кирпичи стены сшибли его с ног и он мешком, бессильно, рухнул вниз в подвал.
А вокруг нарастал грохот, и он был тем сильнее, чем более тускнел свет. И вот уже не видна Альбина, и не виден Айно, и подвал темен, только не смолкают грохот и гудение в воздухе, насыщенном пылью и напоенном озоном.
Когда все утихло, все осталось в прошлом, Андрей смог подняться — глаза привыкли к темноте. Кирху или разрушило, или с нее снесло крышу, и потому, когда пыль осела, свет просочился в подвал через квадратный лаз. Андрею была видна Альбина, которая лежала в ледяной воде без чувств или мертвая, хотя почему бы ей быть мертвой? А вот Айно был мертв. Это было видно издали: половина головы была размозжена. Он опоздал прыгнуть на одну секунду.
Андрей присел на корточки рядом с Альбиной и попытался перевернуть, поднять ее, посадить. Альбина застонала — тихо и жалобно.
— Что с вами? — спросил Андрей. — Вам больно?
— Да, — ответила Альбина.
— Где?
— Мне везде больно… — И вдруг она встрепенулась и попыталась, упираясь руками в пол, подняться. — Где Айно? Что вы сделали с Айно? Вы убили Айно?
С неожиданной силой она вырвалась из рук Андрея и, оглянувшись, увидела тело Айно. Она наклонилась к нему и попыталась нежно приподнять его голову. Голова была тяжела и непослушна ее рукам.
— Помогите же! — крикнула она Андрею. — Айно плохо! Неужели вы не понимаете?
Андрей подошел и присел рядом.
— Я думаю, что он погиб, — сказал Андрей. Правой стороны лица не было — Андрей поднял безвольную кисть руки и постарался нащупать пульс. Альбина вытащила из кармана носовой платок и старалась, окуная его в воду у ног, промыть рану.
Андрей сказал:
— Альбина, не надо, это не поможет.
— Он очень сильный, — сказала Альбина, — он такой выносливый.
И в голосе ее было столько убежденности, что Андрей расстегнул ватник и рубашку Айно и приложил ухо к его груди в надежде услышать стук сердца.
Но Айно был мертв.
Альбина не хотела верить в это. Они перетащили Айно на сухое место, Альбина положила его голову себе на колени, она не требовала врача или помощи, она просто ждала, когда Айно оживет.
Не с кем было посоветоваться, что делать дальше.
Андрей понимал, что, вернее всего, после взрыва город будут обследовать — может, не сразу со всеми подробностями, но начнут сразу. Поэтому когда они услышали голоса людей, шумные, громкие, гулкие, возможно, пьяные, то они затаились в своей норе, правда, никто к ним не сунул носа.
Когда голоса умолкли, Андрей осторожно поднялся наверх и сразу оказался на улице: хоть часть стен кирхи сохранилась — они были косо срезаны и поднимались из груд кирпичей, которыми был засыпан бывший зал, не было крыши, и вместо неба, как декорация в романтическом спектакле, нависала живая подвижная лиловая туча, из которой начал сыпаться дождь. Андрей выглянул наружу и убедился в том, что Берлина более не существует, только груды камней — и так до горизонта. И нет вагонов, ангара, и главное — нет вышки. Все же это оказалась бомба! И такая, какой ранее не существовало, — это была бомба конца света.
Андрей спустился вниз. Альбина не спросила его, что он там видел.
Андрей стал размышлять — можно, конечно, вернуться в лагерь. Но ведь, вернее всего, он списан, и теперь будут искать не его, а только его труп, чтобы разрезать его и посмотреть, как подействовала на ткани взрывная волна или что-то подобное. Если же увидят его живым, то почему бы им, уже принесшим его раз в жертву Молоху, не разрезать его все равно? Чтобы выяснить, почему он не подох?
С другой стороны, именно сейчас у него может быть махонький шанс выбраться отсюда. Ведь взрывом снесло все ограждения и препоны на километры вокруг. Зоны не существует. И можно уйти в тундру. Оставаясь здесь — не спасешься.
Надо дождаться темноты и попытаться уйти.
Об этом Андрей сказал Альбине.
— А я? — спросила она.
— Вы погибнете в тундре. Даже у меня практически нет шансов.
— Вы хотите сказать, что я буду обузой?
— Вы будете мертвой. После первой же ночи в тундре.
— Нет, — сказала Альбина трезво и спокойно.
Она осторожно приподняла изуродованную голову Айно и положила ее на пол — как будто осознала наконец, что он умер.
— Я же была вольной, — сказала она. — И была секретаршей самого Шавло. Руководителя проекта. И мы с ним ездили по разным точкам.
— И что же?
— Я думаю, что сейчас, после этого взрыва, никаких ограждений не осталось, — как бы повторила она мысль Андрея. — Значит, мы можем дойти до шестого лагпункта.
— Это что такое?
— Это было место, где хотели сначала делать полигон, но оно не понравилось — там холмы и река. Там построили бараки — теперь они пустые. И я знаю туда дорогу. Если хотите, мы пойдем вместе.
Андрей не мог не улыбнуться — он отказывался брать ее с собой, а она его берет. И даже предлагает путь, обещающий ничтожные шансы на спасение.
— И это далеко? — спросил Андрей.
— Километров пятнадцать. Если идти быстро, то за темноту дойдем. Только вы поможете мне похоронить Айно.
— Конечно, — сказал Андрей. — А у вас ботинки не промокают?
— Не все ли равно? Теперь я хочу уйти, уйти далеко и жить.
— Почему? — не нашел иного вопроса Андрей.
— Потому что они отняли у меня все — и мужа, и жизнь, и свободу, и честь. А теперь, когда я думала, что в мире появился для меня Айно, они убили его. И вот теперь я не умру, вы увидите, что я не умру, прежде чем не убью Алмазова и Шавло. Хорошо?
— Хорошо, — сказал Андрей.
Альбина говорила очень тихо — она была маленькой и очень хрупкой богиней мести.
До темноты в тот день никто не появлялся в городе, и они, не рискнув разжечь огонь, поели сырой картошки — в мешке у них оставалось еще шесть картофелин и три или четыре больших бурака.
— Когда мы пойдем, — предложил Андрей, — давайте заглянем в зоопарк. Если хоть что-то уцелело, мы возьмем там овощей.
Пол в кирхе не был бетонирован, но все равно мерзлота подступала так близко, что им не удалось выдолбить могилу для Айно, — они завалили его, положив в углубление, войлоком и досками.
И стали ждать, пока стемнеет.
«Ханна» вышла к Новой Земле как раз в тот момент, когда из-за горизонта слева по курсу показалось солнце, — мгновенно разогнало туман, в котором до того лишь угадывались покрытые снегом, выпускающие к морю языки ледников высокие горы. Подсвеченные солнцем, горы обрели мрачные, но многообразные оттенки камня и снега. Под гидропланом была открытая вода — Карское море в том году рано очистилось ото льда. «Ханна» шла на высоте трех километров со средней скоростью триста километров в час, и, несмотря на то что они находились в полете менее двенадцати часов, все уже смертельно устали — нестандартное пилотское кресло, уменьшенное из-за того, что в «Ханне» была предусмотрена дополнительная теплоизоляция, оказалось неудобным, спина в нем страшно уставала, и потому Юрген и Васильев менялись куда чаще, чем предполагалось, — каждые два часа. Прозрачная пилотская кабина была узкой. Поэтому, когда одетые в толстые свитера и парки пилоты менялись, стараясь притом не отпустить управление, «Ханна» начинала опасно раскачиваться, и Карл Фишер кричал на пилотов, чтобы не сбивали машину с курса.
Масло загустело, и качать маслонасос тоже приходилось по очереди — это оказалось нелегкой работой.
Заняв пилотское кресло после очередной смены, Васильев посмотрел вниз — на темной поверхности моря показались большие льдины, спереди стали сгущаться облака. Бывшие сначала не более как белесой пеленой, они утолщались и уже закрывали поднимающееся солнце.
— Нам их не перевалить, — сказал Васильев.
Юрген, который только что прикорнул на масляном баке, подложив под себя спальный мешок, что-то промычал в ответ, а Карл поднялся, пригляделся и сказал:
— Это циклон.
Будто сделал открытие в метеорологии.
Васильев ввел «Ханну» в слой открытого воздуха между двумя массивами облаков, этот просвет вскоре исчез, и самолет окутала серая мгла. Васильев повел машину вправо, ему показалось, что с той стороны облачность пореже, машина не всегда хорошо слушалась рулей, тем более что Васильев всю жизнь управлял лишь легкими машинами и обращался с «Ханной» резче, чем ей это нравилось. Он взглянул на указатель искусственного горизонта и понял, что поворот мог оказаться последним. Карл Фишер тихо выругался, а Юрген поднялся, будто и не засыпал, и спросил:
— Тебя сменить?
— Справлюсь, спи! — рассердился Васильев. Он был не прав: как командир экипажа, Юрген должен был принимать сейчас решения. Но он был достаточно разумен, чтобы не отнимать у Васильева штурвал.
Через десять минут полета оказалось, что они удаляются от цели, но конца сплошной облачности не видно. Забортная температура быстро снижалась — стрелка на указателе ползла влево. Капли дождя били по плексигласу кабины и создавали странное ощущение осенней дачной веранды и уюта оттого, что дождь стучит и льет, но он не в силах забраться в человеческое жилище. Васильев посмотрел по сторонам — на кромках крыльев и на стеклах начал быстро нарастать лед, «Ханна» вздрогнула, напоминая людям, что никакого дачного уюта она им не обещает. Началась вибрация. Юрген держал себя в руках и не требовал передать управление, за что Васильев был ему благодарен. Левый мотор затрещал и, как нервное сердце, начал давать перебои — значит, лед уже добрался до лопастей винта.
— Я пойду вниз! — крикнул Васильев и, не ожидая ответа, повел штурвал от себя.
Из облачности вышли всего метрах в ста от воды — потом уж Карл сказал:
— А я думал, что ты нас вгонишь прямо в море.
«Ханна» шла над отдельными льдинами, между которыми были широкие разводья. Было сумрачно, дул ветер, который сносил машину с курса, и Карл углубился в расчеты, хотя, как сам признался, они не могли быть верными без видимого солнца до тех пор, пока «Ханна» не выйдет к материку, — Новая Земля осталась на северо-востоке.
Из-за циклона они сбились с курса и вышли к берегу в устье какой-то речушки, не указанной на неточной русской карте, которая была на борту. Сменивший наконец Васильева Юрген вел машину на юг, полагая, что общее направление правильно, а строительство в тундре настолько обширно, что они его вряд ли пропустят. К тому же Юргена беспокоила мысль, что над Полярным институтом может быть авиационное прикрытие и потому лучше всего выйти к нему как можно раньше, пока неладная погода, пока идет дождь, в такую погоду успеешь скрыться в облаках.
В зависимости от результатов полета и возможности подобраться к объекту у Хорманна было два варианта. Первый: после того как они определяют место и фотографируют Полярный институт, «Ханна» опускается на одном из тундровых озер, желательно свободном ото льда, затем Васильев покидает машину и старается за ночь добраться до зоны. Если же это покажется невозможным или увиденное потребует иного решения, «Ханна» немедленно ложится на обратный курс.
Поэтому Хорманн стремился к тому, чтобы его самолет не только не заметили, но и даже не заподозрили такую возможность. Задумавшись, Юрген чуть всех не погубил — возвышенность, не указанная ни на каких картах, появилась буквально перед носом «Ханны». Пилот успел рефлекторно рвануть машину вверх, и она с трудом перевалила через пологую гору — подобные опасные встречи, понимал Хорманн, будут все чаще по мере углубления в материк, так что придется набирать высоту и попытаться перевалить облачность. Но как тогда не пропустить цель?
К счастью, по мере того как «Ханна» удалялась от моря, облака словно редели и истончались. Циклон, к счастью, был невелик, и впереди открывалась залитая солнцем тундра, над которой стремительно бежали кучевые облака, будто облегченные после вылитого ими дождя.
— Впереди самолет! — крикнул Васильев.
Юрген тоже увидел его — черную точку в разноцветном небе — и стал забирать левее, моля Бога, чтобы это был не русский истребитель, и тут же раздался крик Карла Фишера:
— Да подвиньтесь вы, черт возьми, разве не видите?
Увлеченные наблюдением за самолетом Юрген и Васильев упустили момент, когда внизу, сначала раскиданные редко и связанные темными полосками разбитых дорожек, затем все чаще и теснее, стали подниматься строения — бараки, склады, рудники, снова бараки и склады.
Перегнувшись через плечо Юргена и мешая тому управлять машиной, Карл начал фотографировать объекты на земле.
— Не трать пленку на пустяки! — сказал ему на ухо Васильев.
— Я не знаю, что здесь пустяки! И не мне решать это.
— Может, откроем дверь? — спросил Васильев.
— Нет, слишком велика скорость — меня выбросит из машины, — ответил Фишер.
Васильев замолчал — он сплоховал, он жил еще старыми скоростями, когда можно было сидеть в открытой кабине и ветер лишь обдувал тебе лицо.
— Вот он! — крикнул Юрген. И они тоже увидели.
Далеко впереди, почти на горизонте, поднимался куб большого, даже по масштабам любого города, громоздкого многоэтажного здания, окруженного зданиями меньшими, раскиданными на огромной площади.
Правее и дальше этого здания была видна колокольня старой кирхи — именно там и начинался загадочный немецкий город.
Юрген набирал высоту, он хотел иметь преимущество перед русским самолетом, который держал курс на кирху и не обращал внимания на «Ханну», возможно, полагая ее своим аэропланом.
К тому же Юрген хотел при первом заходе дать возможность Фишеру снять широкую панораму, а лишь потом, если обстоятельства позволят, развернувшись, опуститься ниже.
Немецкий городок приближался, и было видно, что русский самолет уже достиг его… И в этот момент они увидели вспышку.
Вспышка возникла прямо по курсу, ослепительная настолько, что Васильев, бывший, в отличие от Юргена, без темных очков, мгновенно ослеп и отпрянул с криком, закрыв лицо руками, но Фишер продолжал снимать — кадр за кадром, хотя эти несколько кадров оказались потом просто белыми — аппарат не смог ничего увидеть в этом сиянии. Зато когда сияние превратилось в раскаленный шар и он, темнея и поглотив в своем движении русский самолет, рванулся кверху, Фишер смог сделать несколько вполне удачных снимков.
Юрген, полуослепленный взрывом, чутьем опытного летчика или, может быть, просто всей шкурой понял, что он должен как можно скорее увести «Ханну» от этого места. Не обращая внимания на опасность, он положил ее на крыло так, что Васильев, к которому все еще не вернулось зрение, свалился, матерясь, к ногам Фишера.
«Ханна» не успела завершить разворот, как ее настигла волна воздуха, рожденная атомной бомбой. Пролетев три километра, что отделяли взрыв от «Ханны», она ударила в самолет и буквально отшвырнула его, чудом не перевернув; впрочем, это чудо было совершено железными руками Юргена, который ни на секунду не потерял присутствия духа и вел себя так, словно его самолет попал под неожиданный удар урагана. Юрген сумел выправить щепочку, которую понесла к океану волна взрыва, и, преодолевая возникшие вокруг невероятные вихри, повел машину вниз, твердо намереваясь посадить ее на воду длинного озера, всего километрах в пятнадцати от Полярного института. Озеро, видно, из-за того, что в него впадала река, которая уже вскрылась, было почти свободно ото льда — вряд ли удастся найти лучшее место для посадки, ибо лед на других озерах, вернее всего, ненадежен.
Недалеко от озера был виден длинный барак с открытой дверью и выбитыми окошками — еще сверху Юрген понял, что там никто не живет.
Васильев, который обрел наконец возможность видеть, оценил посадку Юргена, хотя «Ханна» не избежала все же столкновения с тонкой льдиной. Льдина повредила один из поплавков, из которого начал вытекать бензин. Но главное — они были живы. И самолет почти цел.
Как только «Ханна» остановилась, легонько уткнувшись поплавками в мель, Фишер открыл люк гидроплана. Он обернулся к взрыву и снял кружение гигантских облаков и превращение атомного гриба в тучу, которая родила дождь и понесла его на восток…
— Это был ад, — сказал убежденно Юрген, опустив голову в шлеме на штурвал. Он был без сил.
— Пожалуй, мой друг, мы выполнили задание, и нам есть с чем вернуться за Рыцарскими крестами, — сказал Васильев.
— Тебе не достанется, мой друг, — сказал Фишер, не переставая снимать атомное бедствие. — Ты иностранец, притом плохих кровей.
— Вот иностранцы, таких же, как я, плохих кровей, сделали бомбу, до которой не додумались самые арийцы из арийцев. Допускаю, — к Васильеву вернулась способность к иронии, порой спасавшая, но чаще губившая его, — что среди них были евреи.
Видно, нарком НКВД успел зажмуриться, но все равно его ослепило. Хуже было с Френкелем — тот так и не надел очки, не посмел сделать это раньше Ежова. Он сидел на холодном бетоне крыши, раскачивался и стонал.
Один из фотографов тоже временно ослеп, но другой, Хазин — еврейское счастье! — в тот момент менял пленку, отвернувшись от взрыва, — нашел время, идиот! Зато сейчас он оголтело щелкал аппаратом, стараясь заснять и шар на истончающейся ножке, и общий вид погибшего города.
Все эти детали события Матя увидел сразу, но осознал лишь потом, когда миновало наслаждение свершением. Он победил! Он победил в тот момент, когда на вышке вспыхнула ослепительная искра. И он единственный в мире владеет в полной мере не только секретом нового абсолютного оружия, но и пониманием того, что это означает для человечества, которое никогда уже не станет таким же, как прежде. 5 апреля 1939 года был произведен первый в мире взрыв атомной бомбы…
А это означает, что на Земле наступает эра всеобщего мира, потому что после того, как человечество убедится в том, что абсолютное оружие, а значит, и гибель всего живого на Земле — печальная возможность, оно будет вынуждено отказаться от войн, ибо за любым ударом последует удар ответный. «Впрочем, какого черта я лезу в будущее? Сегодня я победитель, а завтра они попытаются меня судить и отнять у меня славу… Теперь они все мне опасны — и Алмазов, и Френкель, и Вревский, и, уж конечно, сам Ежов».
— Доктора, черт побери! — стонал Ежов, и только сейчас Шавло услышал этот голос, может быть, потому, что стихли последние раскаты вселенской грозы. — Я ослеп! Доктора!
«Не надо было выдрючиваться», — мысленно сказал Шавло.
Вревский, снявший очки, и Алмазов, все еще в очках, уже склонились к наркому. Френкель сидел, тер глаза и стонал.
— Где врач? — строго спросил Вревский у Мати.
— В поселке, в больнице, — сказал Матя. Он, разумеется, промолчал, что Алмазов вычеркнул медиков из списка людей, которым положено было участвовать в наблюдении взрыва. Потом их, конечно, запустят в город, если там осталось что-то живое. «Дураки, мы все дураки — не догадались, что взрыв будет столь силен и очевиден — на многие десятки верст».
— Почему в поселке? — Вревский был грозен. — Это преступление! — Подстраховываясь на всякий случай, он уже искал виновных.
На счастье, Ежов начал видеть — временная слепота прошла.
— Прекратить! — крикнул он, все еще щурясь. — Успеется врач, успеется. Вревский, чем кричать — проводи Френкеля вниз.
И сам Ежов, уже владея собой, подбежал к брустверу. Он смотрел на город. Шавло последовал за ним. Алмазов крикнул кинооператору, пришедшему в себя:
— Ты снимай! Возьми камеру свою и снимай. Если будет в съемке брак, лично расстреляю.
— Мог бы силком на меня очки надеть, — укоризненно сказал Ежов. Он поднял бинокль и стал обозревать в него картину разрушений. Он вел бинокль по панораме бывшего городка и неожиданно присвистнул совсем по-мальчишески.
Матя смотрел на город — кое-где поднимались струйки дыма и горели костры, но это продлится недолго — в домах было мало древесины. Пылал ангар — горел самолет, и густой черный дым поднимался дальше.
Атомное облако превратилось в тучу, которая низко висела над полигоном.
Ежов опустил бинокль.
— Все-таки глазам больно, — сказал он. Затем он обернулся к Алмазову и Мате. — Ну что ж, славно мы рванули, — сказал он, широко улыбаясь. И Матя понял, что и до Ежова уже дошло осознание величия того, что они видели.
— Сколько, интересно, фугасных бомб рвануло? — спросил Ежов.
— Это мы попытаемся подсчитать, — сказал Шавло.
— Почему такая неуверенность, товарищ Шавло?
— Потому что часть приборов вышла из строя — взрыв оказался даже сильнее, чем мы рассчитывали.
— Не меньше тысячи бомб, — сказал Алмазов.
— Ну тогда пойдем посмотрим, — сказал Ежов. Он уже был бодр и почти весел.
— Вы хотите туда? — Этого Шавло не ожидал.
— Разумеется. Надо же посмотреть, какие же мы с тобой изобретатели, если сами не посмотрим, чего натворили.
— Там может быть опасно, — сказал Матя и поглядел на Алмазова.
— Только попрошу без этих интеллигентских штучек, — начал сердиться нарком. — Что там такого угрожающего? Пожара испугался?
— Там могут быть опасные излучения.
— Могут или есть?
— Вернее всего, есть.
— Какие? Насколько опасны?
— Мы еще не точно знаем. Но излучения были замечены при опытах.
— Эх, дурак ты, дурак, — рассмеялся Ежов. Матя заметил, что нарком перешел с ним на «ты» именно с момента взрыва. И совсем не ясно, хорошо это или никуда не годится?
— И все же я на вашем месте, товарищ нарком… — начал Алмазов, который, как кошка, чуял беду.
Но тут, как назло, возвратился Вревский.
Он пронес свое кряжистое крепкое тело сквозь дверь надстройки. Он широко ухмылялся, и по скулам ходили каменные желваки, как на кинопортрете революционера.
— Товарищ нарком! — воскликнул он и сделал решительный широкий шаг в сторону. За ним образовался капитан госбезопасности с подносом, уставленным гранеными стаканами с водкой. — Прибыло лекарство от всех болезней — по рюмочке во славу советской науки и победы над мировым империализмом!
Вревский кривлялся, но знал меру — он хотел угодить в нужный момент.
А Ежов, который склонялся было к осторожности, при виде стаканов воспылал духом.
— Вот и правильно. — Он потер ручки и зацокал высокими каблуками, приближаясь к подносу. — Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
— Преодолеть пространство и простор! — громко подпел Вревский.
Ежов, как бы танцуя, подошел к капитану, взял стакан с подноса, ни на кого не глядя, в несколько судорожных глотков выпил его, поставил аккуратно на поднос, понюхал свой рукав и только после этого приказал:
— Ребятня, разбирай бокалы!
Все послушно приблизились к подносу, который лежал, не шелохнувшись, на ладонях у капитана. На этот раз Ежов пил медленнее, цедил, потом упрекнул Вревского, что тот забыл о закуске.
Стакан, выпитый сразу после взрыва, оглушил Матю. И остальных тоже.
И сразу их действия приняли иной характер.
Ежов, выхватив поднос у капитана, потащил его, пошатываясь, к прекратившим снимать фотографам и кинооператору, те тоже выпили, Ежов кинул поднос с крыши. Тот отдаленно зазвенел.
— А теперь ты не боишься, товарищ Шавло? — спросил Ежов, глядя на Матю совершенно трезвыми голубыми безумными глазами.
— Так точно, товарищ нарком, — ответил Матя. — Такое бывает раз в жизни.
Его вело, в голове стало пусто и гулко. Они спустились вереницей на первый этаж. От стены отделился сержант в темных очках.
— Сними очки, не позорь чекистов! — прикрикнул на него Ежов.
Сержант снял очки и первым вышел наружу.
Там стоял «ЗИС» наркома.
Сержант сел за руль, остальная компания, обалдевшая от психического шока и сокрушенная водкой, залезла в машину.
Ехать было недалеко. Через три километра пришлось остановиться — дальше дорога была перепахана взрывом.
Вылезли.
— Где выпить? — спросил Ежов.
Вревский сказал сержанту:
— Быстро — до института — взять водку, стаканы и через минуту обратно.
Машина развернулась, и тут, когда они остались одни, Матя ощутил страх — машина как-то ограждала их от неизвестности — от черных зубцов и груд кирпича…
— А мы пока пойдем, — сказал Ежов. — Фотографы идут?
— Через пять минут будут, — сказал Матя. — Они же пешком.
— Правильно, — согласился Ежов.
Ему было интересно, даже забыл о боли в глазах.
— Смотри, перепахало как!
От центра полигона вдоль дороги, разбегаясь, шли прямые борозды, Матя не знал, отчего они возникли. Одна из борозд пересекла дорогу, и пришлось остановиться. Матя был рад, что дальше они не поедут. Он был не настолько пьян, чтобы презреть опасность.
Над тундрой выл ветер, правда, не ледяной, а как будто лишенный теплоты либо холода. Туча, все еще ненормальная цветом, нависала над ними, и начался редкий дождик. Матя подумал, как он хорошо сделал, что не забыл надеть ушанку. Он засунул руки в карманы.
— Пошли! — весело приказал Ежов.
— Зачем? — вырвалось у Мати.
— Так отсюда ничего не видно! Что мы, под дождиком плясать пришли, мать твою! Пошли, пошли…
Ежов почти игриво потащил за рукав высокого Матю, и тому ничего не оставалось, как идти к убитому городу. Алмазов шел сзади и вроде бы тоже чувствовал себя не в своей тарелке.
Дорога вскоре исчезла — она была перепахана рытвинами и бороздами, вызванными пертурбациями воздуха, смерчами, а также глыбами земли, отброшенными далеко от центра взрыва. Ежов замедлил шаги и наконец остановился у груды кирпича, в которой Матя с трудом узнал стоявшую здесь только что трансформаторную будку, — и то лишь увидев обрывки проводов и раскиданные по земле части самих трансформаторов.
— Ну где же они? — сказал Ежов. — Так и замерзнуть можно.
Вроде бы он протрезвел на холоде, но ему не хотелось оставаться трезвым. Матя лихорадочно, как на экзамене под взором профессора, старался придумать предлог, чтобы не идти в город. Он готов был влить в наркома ведро водки, он готов был и сам напиться и упасть — только бы возвратиться в безопасность института.
Сзади донеслось урчание «эмки», которая, подпрыгивая, лезла через борозды и ямы. Но и ей пришлось остановиться шагах в двадцати. Пока дверца открывалась, Матя направился было к машине — все прочь от города, но Ежов остановил его:
— Ты куда? Принесут.
И на самом деле принесли. Сержант разливал по стаканам, капитан держал поднос.
Выпили все, снова без закуски. Ежов велел выпить и сержанту с капитаном. И велел дальше идти вместе. Мате было уже все равно — секретность или не секретность. Какое ему дело — он свое взорвал! Теперь надо идти домой и спать.
— Спать хочется, — сообщил он Ежову. Голос плохо слушался его.
— Отоспишься на том свете, — сказал Ежов трезво и зло. — А если сомневаешься, я тебе помогу.
«Сколько он выпил? Во мне уже два стакана. А в нем — три. И держится. А меня ведет, голова живет отдельно, и мысли из нее вываливаются через дырявую шею».
— Пошли, — сказал Ежов. — Наш долг — обследовать. Где фотографы?
Те как раз подошли. Они запыхались, они были взволнованы, глаза блестели от возбуждения и водки. Матя встретил взгляд Хазина, тот боялся идти, он знал о радиации.
Дальше шли, растянувшись в цепочку. Первым шагал маленький Ежов — шуба его была распахнута, фуражка намокла и потемнела от дождя, лицо блестело от воды и пота.
— Нам нет преград! — пел он «Марш энтузиастов». — Ни в море, ни на суше! Нам не страшны ни льды, ни облака…
Он погрозил пальцем нависшему облаку, и Матя сжался, потому что ощутил, как это облако вываливает на землю запас радиоактивных отходов взрыва.
Они вышли на полигон со стороны догоравшего ангара, из которого торчал потемневший нос бомбардировщика.
Ежов пошел вокруг, не боясь огня. Он был смел пьяной отвагой. Все расхрабрились, всем было море по колено, только Матя все более сжимался от страха.
Далее они вышли на площадку, где рядами лежали полуобгоревшие трупы, и ряды их были столь правильны, что Ежов поразился зрелищу и крикнул:
— Это что? Это кто расстреливал?
Алмазов нашелся первым.
— Товарищ нарком, это чучела. Деревянные чучела. Мы испытывали силу ударной волны.
Теперь уже всем стало ясно, что лежат и в самом деле чучела с обгоревшими головами.
— А я уж испугался, — сказал Ежов и мелодично рассмеялся. — Помянем Буратино?
Помянули Буратино. Сержант с капитаном несли стаканы, поднос и мешок с бутылками.
Ежов хотел повернуть к башне, теперь исчезнувшей, к центру взрыва, до нее оставалось метров триста. И Матя понял, что дальше он не пойдет. Хоть убейте — но не пойдет.
— Хватит! — крикнул он спешившему вперед наркому. — Дальше опасно!
— А иди ты! — отмахнулся Ежов.
— В самом деле опасно! — кричал Матя. — Я прошу вас, пожалуйста, не ходите!
Алмазов остановился. Он понимал. Он не знал пределов и масштабов опасности, но понимал, что Матя ее не выдумывает.
Остановился и Ежов. Но момент сомнения в нем был краток. Он закричал весело:
— Капитан, расстреляйте этого паникера!
Капитан ГБ, к которому относился этот приказ, продолжал держать поднос со стаканами, но сержант, до которого смысл приказа дошел быстрее, принял поднос из рук капитана и отступил назад, чтобы не мешать тому расстрелять паникера.
Капитан расстегнул кобуру, он не спешил, и Матя успел смертельно испугаться. Алмазов шагнул к нему, будто прикрывая от опасности.
— Ну ладно, — сказал Ежов, — пошли дальше, чего уставились.
Он не успел сделать и пяти шагов, как остановился. На этот раз над трупом женщины. Женщина лежала лицом вниз, одежда на ней частично сгорела, и тело было красным от ожога.
— Тоже манекен? — спросил Ежов.
— Здесь были осужденные, — тихо напомнил Алмазов.
— Если и были — убрать!
Может, это Альбина, тупо подумал Матя. У него не было никаких оснований подозревать это, но он все равно испугался настолько, что ему стало дурно. Он даже не мог сказать, какого цвета были волосы женщины, они сгорели.
Матя оперся обеими ладонями об остаток кирпичной стены, и его начало рвать — как никогда в жизни не рвало, — весь ужас перед городом, перед бомбой, перед Ежовым соединился в этих спазмах.
Он слышал в промежутках между спазмами, как что-то кричал и смеялся Ежов, другие голоса, но слышал плохо — в ушах звенело, а когда он наконец смог открыть глаза, остальные уже ушли вперед, оставили его в начале улицы, возле обгоревшего женского трупа.
Как только Матя смог, он побрел прочь от башни. Ему казалось, что он бежит, на самом деле он часто, но мелко передвигал ноги, как совсем старый старик. Он спешил убежать от смертельных развалин.
Он пробежал мимо пустых машин и потом перешел на шаг — сил не было бежать. Надо было укрыться в институте, а потом все равно, только спрятаться…
И все дальнейшие события путешествия наркома НКВД товарища Ежова по местам взрыва ядерного устройства он узнал лишь на следующий день от Алмазова, который был вынужден пройти рядом с наркомом большую часть пути. Но радиационную опасность они с Матей не обсуждали.
Сначала Ежов и его спутники прошли улицу развалин, оказались на площади перед бывшей ратушей — от нее осталась груда камня, а у кирхи только снесло колокольню и крышу. Они заходили внутрь кирхи. Там заметили какое-то движение. Думали, что человек, стали стрелять, но оказалась собака, ее убили. Впрочем, больше живых существ в городке не видели. Ближе к вышке даже земля спеклась, как будто керамическая посуда. Она звенела под ногами, и кирпичи стали стеклянными. Даже руин зданий там не осталось — лишь спекшиеся и оплывшие обломки кирпичей. Даже танки, стоявшие рядом с вышкой, оплыли, как кисельные… А на месте вышки была воронка — неглубокая и уже наполнившаяся водой.
И это место было настолько страшным и окончательно мертвым, что даже Ежова проняло. Народный комиссар первым пошел прочь, он уже не пел и отказался от стакана водки, предложенного верным капитаном.
Он не спросил, где Шавло, — словно забыл о нем.
Потом случился печальный казус — обвалилась стена, стоявшая посреди города, и погребла под собой вставшего слишком близко фотографа Хазина. Его сразу вытащили, чтобы не потерять отснятые пленки, но Хазин был мертв.
Рассказывая о возвращении из города, Алмазов не упомянул — то ли забыл, то ли не счел нужным — о последних словах Ежова, сказанных уже в машине.
— Ну как? — спросил тот. — Сможем мы порадовать Хозяина?
— Если не подвели оператор и фотограф, — сказал Алмазов.
— Ты этим займешься.
— Постараюсь.
— Должен понять, кого он теряет, — сказал Ежов сонно. И тут же заснул. И так крепко, что сержанту пришлось на руках отнести его в штабной вагон.
Алмазов понял, что Ежов все время думал об угрозе Берии — и напился он не столько от радости свершения, как от неуверенности, спасет ли его эта бомба от расправы Хозяина.
А Матя отошел часа через два — тоже отоспавшись в своем институтском кабинете на черном коленкоровом диване.
— Что-то голова болит, — сказал Алмазов в конце разговора, перешедшего на деловые рельсы. Ведь институт продолжал жить, хоть и был взбудоражен взрывом — как ни старались, скрыть его от заключенных и вольных ученых было невозможно. Многие видели атомный гриб и уж обязательно слышали голос бомбы. А со следующего дня на полигон вывезли группы контроля и специалистов — прочнистов, медиков, физиков, оружейников… И было приказано принять меры по защите от радиации — они шли в ватных масках, а то и противогазах, в плотной одежде.
Нарком Ежов уехал в тот же день, не попрощавшись с Шавло. И велел передать, чтобы Шавло был готов к вызову в Москву. А в ближайшие дни Шавло пришлось беседовать со своими коллегами — он не мог более держать их в неведении, раз уж владел только секретом Полишинеля.
Совещания оказались бурными — Матя даже не ожидал такой реакции коллег. Правда, он и не ждал поздравлений и шумной радости — даже после обещания Алмазова выпустить в ближайшее время всех теоретиков. Никто не поверил этому обещанию. Как сказал Скобельцын, любые бандиты обязательно заметают следы — живые свидетели не нужны.
— Нет, — говорил Шавло, стараясь казаться откровенным. — Наступило наше время. Мы с вами выпустили джинна из бутылки, и только мы можем его укротить.
Мало кто поверил Шавло — он был давно и слишком многими нелюбим.
На удивление мало в институте оказалось и настоящих патриотов, проникшихся гордостью за успех социалистической страны. Они, конечно, были, но в их искренности можно было сомневаться. И еще меньше оказалось поверивших в тезис Мати о миротворческой функции атомной бомбы.
— Для этого ты должен отвезти все расчеты в Европу или в Америку. Если я тебе пригожусь для этого, я готов в любой момент, выдай только буханку хлеба и новые сапоги, — мрачно пошутил Капица. Шутка была опасной даже здесь, в комнате, где сидели полтора десятка физиков.
— К сожалению, — откликнулся Александров, — теперь у Сталина есть по крайней мере два-три года форы, прежде чем весь мир сообразит, что без бомбы не проживешь. А за это время он сможет такого наворотить… — Александров присвистнул, все смотрели на Матю, и, как ему показалось, с ненавистью. Он ушел, хлопнув дверью, потому что решил, что они ему просто завидуют. И это всегда было и будет. Правда, в одном он был с ними согласен — теперь, после первого успеха, их шансы выйти отсюда живыми сильно уменьшились.
Матя ждал головной боли, тошноты — он знал о некоторых симптомах радиационного облучения, но пока Бог миловал. Алмазов жаловался на мигрень, но Матя успокаивал его — вернее всего, Ян переутомился. Ян не сказал Мате, что у него начали выпадать волосы, он даже поначалу не связал это со взрывом, а врач в госпитале сказал, что это нервное.
На двенадцатый день пришла наконец шифровка из Москвы — отбыть самолетом для отчета на Политбюро. Вызывали Матю и Алмазова. Последнему приказано было забрать все проявленные пленки, фотографии и образцы.
Глава 5
Апрель 1939 года
Сидеть и мерзнуть в подвале не было сил. Но и выходить днем было слишком опасно. Хоть и шел дождь, было сумрачно и пасмурно, все равно их заметят, как только они выйдут в тундру. С другой стороны, с каждым часом, с каждой минутой растет опасность того, что на полигон приедут всякого рода специалисты и начнут подводить итоги.
Когда еще через час Андрей выглянул из подвала, он увидел, что дождь усилился и смешан со снегом.
Он подумал, какие сейчас придумывают предлоги эти специалисты и охранники, которым надо вернуться на полигон, отыскать и опознать трупы, измерить разрушения, только чтобы не вылезать в эту страшную непогоду.
Но дальнейшее зависело, разумеется, от того, насколько начальство убеждено, что надо спешить и начинать работы сразу.
Поставив себя на место начальства, которое все равно останется под крышей, в тепле и уюте, при стакане водки, Андрей решил, что он бы уж наверняка погнал подвластных ему мыслителей и воинов разбираться с тем, что они натворили. О чем и сообщил, спустившись в подвал, Альбине.
— А слон? — спросила Альбина.
— Что вы имеете в виду?
— А слона тоже убили?
— Боюсь, что убили, — сказал Андрей и понял, что ему жалко профессора Семирадского куда больше, чем несчастного слона.
— Давайте пойдем отсюда, — сказала Альбина. — Мне тоже невмоготу здесь больше сидеть, как будто ждать, когда придут и тебя свяжут. И к тому же здесь очень вредный воздух. Я это чувствую, я очень интуитивная — каждая минута здесь очень опасна для жизни.
— Тогда пошли, — с облегчением согласился Андрей. Любое движение было выходом. — И пускай погода будет отвратительной. Чем гаже, тем нам лучше.
Альбина направилась было к лестнице, но Андрей заставил ее надеть ватник Айно — Альбина отказывалась, на ватнике была кровь, но Андрей сказал, что в ином случае он с ней никуда не пойдет, — она обязательно замерзнет ночью в тундре.
— И если вы намерены мстить за Айно, — продолжал Андрей, — то для этого нужно как минимум остаться в живых.
Он держал ватник, как держат манто, помогая даме надеть его. И Альбина повернулась к Андрею спиной и надела ватник, как манто, — он был ей велик, чуть ли не до колен, Андрей помог завернуть рукава — некрасиво, но надежно.
— Он тяжелый, — пожаловалась Альбина.
— Потерпите, — сказал Андрей. Сам он позаимствовал у покойника ушанку — своя была совсем драной и без уха.
Поднявшись из подвала и выйдя к выходу из кирхи, они остановились, не в силах сделать следующий шаг — так яростен был напор мокрого снега. Они простояли несколько минут, прижимаясь к стене под козырьком, оставшимся от крыши кирхи, пережидая это бешенство стихий, и, когда снег чуть приутих и сменился снова дождем, они услышали в отдалении сквозь стук дождя и негромкий унылый вой ветра шум тракторного или танкового мотора. Андрей был прав — кто-то направляется сюда, несмотря на безумство стихий.
Этот звук заставил их решиться.
— Нам налево, — сказала Альбина, — практически на север, вы умеете идти по звездам?
— Вы обещаете мне звезды этой ночью?
— Не знаю, — сказала Альбина тихо, словно отвечала на экзамене и не могла решить задачу.
— Лучше бы, чтобы их не было, — сказал Андрей, — звезды означают мороз. А нам он не нужен.
— Но снег нам тоже не нужен. Мы заблудимся и умрем, — сказала Альбина.
— Вы можете вернуться в зону, — сказал Андрей.
— Вы же знаете, что я этого не сделаю.
Они пошли налево, и дождь бил в спину — сразу стало холодно, они промокли, но все же это было лучше, чем идти против ветра. Под ногами была жижа из снега с водой и грязью, к тому же улица превратилась в полосу препятствий, и по сторонам торчали обломанные зубы первых этажей. Самих домов не существовало. Они превратились в кирпичные завалы. Наверное, можно было бы вернуться и поискать другой путь, но Андрей опасался, что к площади уже выехали тракторы, потому упорно тащил несчастную Альбину через завалы, зная, что сама-то улица коротка, — завалы должны кончиться через пятьдесят метров.
Но когда он решил, что они уже преодолели самые сыпучие и крутые завалы, их ждало препятствие, неожиданное и особенно скорбное: перегородив проход грудой обожженного и даже пахнущего жареным мяса, лежал слон, — видно, боль от ожога или ран, полученных при взрыве, была столь велика, что заставила его подняться и побежать прочь.
Альбина начала плакать — Андрей знал, что она плачет, по ее всхлипам, но слез не было видно — Альбина уже промокла, и поля ее старенькой шляпки обвисли, как у старой поганки.
Пришлось влезть внутрь бывшего дома, чтобы обогнуть тушу, но тут Андрей увидел торчащую из-под кирпичей почти черную руку с растопыренными пальцами — там погиб невольный обитатель дома. Андрей резко потащил Альбину еще дальше в сторону, чтобы она не заметила этой руки.
Внезапно они оказались на пустом открытом пространстве — если здесь и были какие-то строения, то их смело взрывной волной. По ровному и мокрому полю сильный ветер катил камешки и какие-то тряпки. Впереди лежал труп — Андрей хотел обойти его, но Альбина смело направилась к нему, и только тогда Андрей понял, что это почему-то оставшееся целым, принесенное сюда взрывом чучело с лицом Гитлера. По странному совпадению он сам раскрашивал его за день до взрыва.
— Я думаю, — сказала Альбина, — что вам лучше снять с него шинель. Вам будет теплее.
— Нет, — ответил Андрей. — Я не хочу. Это не брезгливость — она насквозь промокла, и мне будет тяжело идти.
Альбина не стала спорить, и они пошли дальше. Тут они снова услышали треск мотора — по направлению к ним ехала танкетка.
Им пришлось спрятаться за пустым и обгоревшим танком — в своем путешествии они приблизились к центру взрыва — к парашютной вышке, от которой остались лишь оплавленные устои — как оплывшие металлические пальцы…
Неподалеку шел человек. Он был одет как зэк, но не был зэком, потому что к его груди на ремнях была прикреплена металлическая шкатулка, которую этот человек, присев на корточки, как раз открыл и положил оплавленный кусочек металла, подобранный из грязи. Человек тоже услышал треск мотора танкетки, выпрямился, огляделся в поисках убежища и быстро побежал к обгоревшему танку, за которым прятались Андрей и Альбина.
Увидев их, он сразу сообразил, что они такие же, как и он, беглецы, и потому сказал:
— Привет товарищам по несчастью! — И приложил палец к губам, призывая к молчанию.
Грохот мотора приближался — танкетка медленно ехала по пустырю, верхний люк был открыт, в нем стоял танкист в каске и шлеме. Танкетка миновала их укрытие и повернула в сторону бывшего зоопарка.
Лицо неизвестного зэка — а Андрей был убежден, что не видел его при заселении города и не встречал раньше на строительстве, — было измазано грязью, словно он по уши угодил в лужу, и Андрей рассудил, что тот измазал себя нарочно, для камуфляжа.
Затем опытный взгляд Андрея определил, что ватник, хоть и обыкновенный на вид, слишком нов и чем-то в пошиве отличается от обычного. Возможно, аккуратностью пошива. На ногах у зэка были хорошие непромокаемые сапоги.
— Давайте знакомиться, — сказал зэк, придерживая левой рукой на груди металлический ящик, — Иван Васильев, ссыльный, почти вольный, и можно сказать — случайный прохожий.
Правый карман ватника оттопыривался, и Андрей был почти убежден, что там у зэка пистолет.
Переодетый чекист? Но какого черта им нужно переодеваться в своем доме? Скорее все же не зэк и не ссыльный — но ряженый.
— Не надо меня так разглядывать, — сказал зэк, — от этого я не стану ни хуже и ни лучше. Какой есть, такой есть.
— А кто вы на самом деле? — спросила Альбина.
— Почему вас это волнует? Вы боитесь, что я возвращу вас на место обязательного пребывания?
Голос зэка был знаком, словно когда-то в юности, в давнем прошлом он его встречал, не был близок, но встречал. Значит, прошло двадцать лет? И фамилия Васильев, хоть и вполне обыкновенная и носимая многими тысячами людей, сочеталась именно с этим голосом и с этим веселым и ненадежным взглядом жуира и авантюриста…
Васильев тоже присматривался к Андрею, будто старался что-то вспомнить. Хотя и Андрея после пяти лет лагерей вряд ли узнала бы собственная жена.
— В сущности, я тут все дела закончил, — сказал Васильев. — И собираюсь домой. А вы?
Он уже был убежден, что видит беглецов из здешних лагерей или даже из самого Полярного института, которые воспользовались взрывом, чтобы удрать в тундру, откуда они живыми не выберутся. Но они еще могут сослужить свою последнюю службу Третьему рейху.
— Мы тоже уходим, — сказал Андрей. Что-то связанное с этим Васильевым было ему неприятно. Он пожилой, ему за пятьдесят. Значит, в Гражданскую было тридцать?
— Может быть, пойдем вместе? У вас есть цель?
Андрей взглянул на Альбину. Он медлил с ответом. Встреча с этим Васильевым могла быть спасением, а могла, и более вероятно, оказаться ловушкой.
— У нас есть цель, — сказала Альбина.
— И наверное, со мной не по дороге.
— Наверное, не по дороге.
— Хотя несчастные всегда должны тянуться друг к другу. Вместе мы сильнее любой танкетки. — И Васильев махнул рукой в сторону бывшего города. — Кстати, как этот город назывался?
— Берлин, — сказал, не задумываясь, Андрей.
— Как трогательно! — обрадовался почему-то Васильев. Левая рука Васильева лежала пальцами на ящичке, пересекая грудь, и именно это заставило Андрея вспомнить военлета Васильева, которого он знал во время той войны. К счастью, не очень близко. И стоило вспомнить, кто этот авиатор, как остальные, связанные с ним воспоминания сложились в непрерывную цепочку.
— Вы были в Трапезунде в семнадцатом году? — спросил Андрей.
— Теперь я тебя вспомнил, юный археолог, — сказал Васильев, — и видно, я старею, и меня пора пустить на мыло — нельзя забывать старых знакомых.
Что бы ни было в прошлом, но сейчас старое знакомство сразу устранило барьер отчужденности, хотя на самом деле для этого не было оснований, — Васильев, даже воскресший в памяти, мог оказаться, к примеру, агентом НКВД или бандитом…
— Так вот, милая барышня, — сказал Васильев, — мы с вашим спутником старые приятели, и это дает мне основание, как старшему товарищу, задать вам прямой вопрос — а ваша воля отвечать или нет: куда и откуда вы бежите?
— Мы бежим вон туда, — просто ответила Альбина. — Я знаю, где есть брошенные бараки, в которых можно пока спрятаться.
— И помереть от голода и холода?
— У нас есть немного картошки и бурака, — сказала Альбина. — Мы будем ловить рыбу, а потом пойдем дальше. Ведь надо попробовать. Правда?
И вопрос был таким откровенным и детским, что Васильев неожиданно для самого себя был растроган голосом и словами этой несчастной блеклой худенькой женщины в громоздком рваном ватнике поверх вытертой до корней меха шубки и в шляпке, поля которой обвисли от воды, словно щупальца у черноморской медузы.
— Разговор окончен, — сказал тогда Васильев. — Вы идете со мной. И вам придется мне довериться. Я обещаю вам еду и ночевку, я постараюсь, но не обещаю, что смогу помочь вам выбраться отсюда. Правда, не бесплатно. Но я полагаю, что самое глупое в нашем положении — вести беседы под дождем в ожидании, когда сюда явится оцепление, чтобы заняться вынюхиванием и выслеживанием. Большевики делали этот фейерверк не для развлечения, а потому, что им хочется убивать людей. Пошли.
И Васильев пошел от танка в тундру, к неглубокому распадку, где тек весенний ручей, вздувшийся от дождя, — склоны распадка могли скрыть их от взгляда со стороны.
Начало темнеть, но сумерки обещали быть длинными, дождь постепенно вылился весь, и стало холоднее — к тому же все они промокли насквозь. Васильев шел впереди и часто поправлял ремень, на котором висел металлический ящик. Ему было тяжело.
За Васильевым шла Альбина, Андрей замыкал шествие. Они почти не разговаривали. Говорить было трудно, каждое слово отнимало кусочек тепла и сил. Порой приходилось заходить в ручей, чтобы перебраться на другой берег, — ручей вилял по долинке. Но все равно, как объяснил Васильев, так идти лучше, чем выше, по открытому месту. Здесь по крайней мере твердая земля, песок и камни.
Когда совсем стемнело, зажглись звезды.
Стало подмораживать. Васильев объявил привал. Он устал. Андрей сказал:
— Если вам тяжело, я могу понести дальше.
— Я буду тебе признателен.
Васильева бил озноб — хорошо еще, что ноги у него не промокли, как у остальных. Что делать? Конечно, их можно допросить и бросить в бараке у берега озерка, даже оставить им консервов. Но оставался вариант, в преимуществе которого надо было еще убедить как самих беглецов, так и Юргена с Карлом, — лететь вместе в Берлин. «Ханна» наверняка поднимет такой груз — она уже истратила достаточно бензина.
Так ничего и не решив, он отложил решение до места — нет пользы ломать себе голову заранее. Главное — дотащиться до самолета. Андрей тянул свинцовый ящик из последних сил, но Васильеву не хотелось забирать его обратно — будем считать, что это часть платы Андрея Берестова — вот и фамилия вспомнилась, — часть платы за спасение. «Андрей наверняка обдумывает возможность напасть на благодетеля, он боится, что я приведу его на стоянку НКВД или в логово бандитов-уголовников. Поэтому чем сильнее он устанет, тем мне лучше». Женщина шла молча и не жаловалась. Они терпеливые — эти маленькие женщины.
Через четыре с половиной часа изнурительной ходьбы они вышли к длинному озеру, у берега которого стоял белый гидроплан, отлично видимый на черной воде при свете половинчатой луны.
Андрей остановился.
— Что это такое? — спросил он.
— Это самолет, — сказал Васильев, будто говорил с идиотом. — Он называется «Ханна», и я на нем прилетел.
Появление Васильева с соотечественниками было воспринято его спутниками по-разному. Юрген был категорически против того, чтобы они даже приблизились к самолету, — они показались ему типичными славянами, грязными, подозрительными, злобными и способными одним своим присутствием загубить и «Ханну», и секретную миссию. Высказав свою точку зрения, он покинул остальных и уплыл на надувной лодке к «Ханне».
Андрей и Альбина слишком устали, чтобы понимать, о чем спор, Васильев, который устал не меньше их, был взбешен ограниченностью подполковника и крикнул вслед Юргену, что тот может улетать на своей идиотской «Ханне», но пускай сам отчитывается перед Герингом о провале миссии.
Карл Фишер, не удержавшийся от того, чтобы при свете магниевой вспышки не сфотографировать неожиданных гостей, волей судьбы должен был разрешить спор. Но для него никаких сомнений не существовало — узники погибшего городка были счастливейшей находкой, куда более ценной, чем все фотографии, вместе взятые. Одно дело отправиться в Африку на поиски белого носорога и привезти оттуда его фотографию, сделанную с бреющего полета, другое — явиться с детенышем редчайшего животного. Так что Фишер, поблескивая очками и широко, добродушно улыбаясь, пожал руки зэкам, как гостеприимный хозяин, и спросил, знают ли они немецкий язык? Альбина, запинаясь, ответила, что учила, Андрей отрицательно покачал головой.
— Тогда переведите господам русским, которые, как я понял, бегут из зоны катастрофы, что мы можем оказать им помощь и вытащим их из этой «ловушка». — Последнее слово он произнес по-русски, и Васильев понял, что Фишер знает русский, но не хочет, чтобы упрямый молодой пилот его понимал.
Андрей неожиданно спросил:
— Значит, это немецкий самолет?
— Фашистский самолет? — вторила ему Альбина. Альбина была детищем Советской страны, и для нее слово «фашистский» было страшным и враждебным. Андрей же, когда понял, что его не разыгрывают, ощутил невольное облегчение, потому что в ином случае — окажись Васильев, допустим, агентом советской военной разведки или контролером ЦК ВКП(б) — ну мало ли кем он мог оказаться! — они с Альбиной были обречены либо возвратиться в зону, откуда их ни за что не выпустят живыми, либо пройти мясорубку допросов в какой-то иной советской организации, никак не более гуманной, чем НКВД.
— И вы — шпионы, — сказал Андрей утвердительно.
— Можешь называть нас именно так, можешь даже махать красным галстуком и вызывать отважных пограничников, чтобы нас задержали и предали справедливому суду. Только неизвестно, где тогда окажешься ты, — ответил Васильев.
Альбина робко потянула Андрея за рукав — обратно, в тундру.
— Погоди, — сказал Андрей. — Вы получили сведения о Полярном институте и испытаниях?
— Разумеется, — сказал Васильев, — на то и существует разведка.
Юрген смотрел на них, приблизив лицо к плексигласу кабины. Лицо угадывалось неподвижным белым овалом.
— Не обращайте на Юргена внимания, — сказал Карл Фишер Васильеву. — Это зазнавшийся юноша, напичканный предрассудками, которыми столь богата любая тоталитарная система.
Васильев приподнял бровь. Таких слов он не ожидал от скромного фотографа.
— Не бойтесь, если я говорю нечто выходящее за пределы дозволенного, значит, я отношусь к тем, кто определяет эти границы, — сказал Фишер. — Надеюсь, когда придет время выбирать между смертью в ледяной пустыне и относительным комфортом берлинских учреждений, ваши соотечественники разумно выберут второе.
С этими словами Фишер отошел в сторону, ободрив Васильева, павшего было духом от мысли, что придется бросить этих несчастных людей здесь. Теперь Васильев убедился, что настоящим руководителем миссии является не молодой ас, а именно Фишер, что было куда разумнее с точки зрения германской разведки.
Андрей с Альбиной смотрели вслед Фишеру — они также почувствовали власть в его мягком тоне и сдержанных движениях.
— Мы улетаем через несколько минут, — сказал Васильев. — Иначе нас могут засечь русские истребители, и мы никуда не прилетим. Нас должна скрыть утренняя мгла — к восходу солнца «Ханна» будет уже над морем. Решайте.
Васильев увидел, как Фишер, подойдя к кромке воды, окликнул Юргена, который не сразу высунулся, отодвинув боковую створку пилотской кабины. Васильев не разобрал, что там объяснял фотограф пилоту, потому что слушал, как Андрей говорил Альбине:
— Альбина, я не могу вас здесь бросить одну, на верную смерть. Но если вы не полетите с нами, то я останусь и погибну тоже.
— Но как можно улететь! — произнесла Альбина. — Это же измена Родине.
— К сожалению, наша Родина держит нас здесь, потому что считает нас изменниками, и еще сегодня утром сделала почти удачную попытку отправить нас на тот свет без суда и следствия.
— Это не Родина! — закричала Альбина. — Это Алмазов! Ты же знаешь, что это Алмазов!
— Алмазов такая же пешка, как любой охранник, — в любой момент его могут сковырнуть. И придет другой такой же Алмазов.
— Но что тогда все это означает? Что с нами происходит?
Это был вопрос, который она, видно, задавала множество раз — но только себе, боясь любого собеседника.
— То, что наша страна сошла с ума, — сказал Андрей.
Было жутко холодно, одежда так и не просохла, дул холодный ветер, и звезды были еле видны на голубеющем небе — их постепенно затягивало тонкими полупрозрачными облаками.
Альбину била дрожь.
— В бараке вы не согреетесь, — сказал Андрей. — Мы умрем.
— Я знаю. Так, наверное, лучше.
— Но я остаюсь с вами.
— Ни в коем случае! Вы улетайте!
— Вы моя жена!
— Не смейте так говорить!
— Жена военного времени.
— Не смейтесь.
— Альбина. — Андрей обратился к последнему аргументу. — Только недавно, когда погиб Айно, вы сказали мне, что должны остаться жить, чтобы отомстить Алмазову. Если мы замерзнем в этом бараке, кто будет мстить?
— Я думала мстить здесь, а не там.
— Откуда вы знаете, в каком случае ваша месть будет более успешной?
Альбина подняла голубые — то ли от лунного света, то ли от холода — руки и сжала виски — она была близка к истерике.
Карл Фишер придерживал лодку у берега, Васильев медленно подошел к лодке и передал туда свинцовый ящик. Карл Фишер поставил его в лодку. Потом они посмотрели на Андрея и Альбину.
Андрей протянул Альбине руку, и они пошли к лодке. Альбина вяло сопротивлялась, как бы отдавая дань долгу сопротивляться. Они дошли до лодки и сели в нее. Васильев оттолкнулся от берега, Фишер ловко действовал байдарочным веслом, чтобы подогнать лодку к низко нависшему над водой брюху гидроплана.
Фишер поднялся в фюзеляж первым и что-то резко сказал Юргену.
Тот возразил. Фишер прошел к пилотской кабине, и до Васильева донесся обрывок сказанной им фразы:
— Как только мы выйдем из зоны опасности, вы дадите радиограмму в Берлин. Я разрешаю вам дать ее открытым текстом. В ответе вам подтвердят мои полномочия — в ином случае можете меня расстрелять.
— Я отвечаю за полет, — упорствовал Юрген.
— Вы отвечаете за то, чтобы самолет долетел до места, а все остальное поручено мне. Я надеялся, что не будет нужды в том, чтобы открываться вам, — все шло по плану, но теперь такая необходимость возникла. И я попрошу, чтобы вы не допускали ни единого выпада или оскорбительного слова против несчастных русских.
— Я буду молчать, — сказал Юрген голосом обиженного школьника.
Остальные уже поднялись в тесную кабину гидроплана, и мужчины втаскивали резиновую лодку. Васильев понял, что Альбина слышала разговор Фишера и Юргена и, возможно, поняла его.
— А вы живете в Германии? — спросила Альбина, заметив, что Васильев наблюдает за ней.
— Давно, — сказал Васильев.
— А Андрей знал вас раньше?
— Немного знал, — сказал Андрей.
Васильев задраил дверь, и пассажиры разместились в ногах Фишера, прижавшись к трубам с горячим воздухом, которые вели от моторов для обогрева и были забраны в решетки, чтобы не обжечься. Они тесно сжались в клубок. Юрген развернул машину, включив на малые обороты один из моторов. Васильев стоял за спиной пилотского кресла, все делали вид, что никакого конфликта не произошло.
Прежде чем самолет начал разбег и заревели, заглушая любой разговор, моторы, Васильев сказал, склонившись к уху Андрея:
— Я думал, что, если она откажется, я заставлю тебя лететь с нами под дулом пистолета.
— Во-первых, не знаю, что бы из этого вышло, — ответил Андрей, — а во-вторых, я почти не сомневался, что смогу ее убедить. Мы теряли все, оставаясь там.
— Вот видишь!
— Не исключено, что мы потеряли все, полетев с вами.
— Исключено! — улыбнулся Васильев, который совсем не был в этом уверен.
К тому моменту, когда, теперь уже справа по курсу, поднялось солнце, они миновали берег океана и пошли вдоль Новой Земли, постепенно сворачивая к западу, пока не достигли Земли Франца-Иосифа, откуда повернули на юг.
Приключений не было, если не считать того, что часа два пришлось лететь вслепую, в неприятной болтанке и Альбина тихо плакала от страха. Андрею тоже было страшно — скрипели и трещали листы металла, из которых был склепан оказавшийся таким ненадежным самолет, но он утешал себя тем, что если Альбина плачет, значит, она оживает. Первый час в облаках машину вел Юрген, потом его сменил Васильев. Юрген сидел на масляном баке, поджав ноги и стараясь никак не приближаться к русским. Ему казалось, что на них обязательно должны водиться насекомые. А на самом деле никаких насекомых на пассажирах не было — Алмазов был поборником гигиены, а в помощниках у него был академик Лобанов и еще два известных профессора-гигиениста. Так что в Испытлаге не найти ни одной вши.
К вечеру небо просветлело. Самолет к тому времени поднялся над облаками — баки его значительно опустели, и потому скорость и потолок машины увеличились. Васильев отдал Альбине свою парку, оставшись в толстом свитере, он сказал, что так ему удобнее меняться с Юргеном местами.
Когда под «Ханной» показался берег Финляндии, Фишер дал в Берлин условную телеграмму. Он запрашивал от имени Юргена как первого пилота, где совершать посадку. Берлин спросил, сколько осталось топлива. Топлива оставалось еще на четыре часа полета. «Ханне» приказали тянуть до Берлина.
Над Балтийским морем «Ханну» встретили истребители сопровождения — в воздух было поднято два звена.
— Тебе нужно подтверждение моих полномочий? — спросил Фишер у Юргена Хорманна. Тот отрицательно покачал головой. Он не был переубежден, но внутренняя дисциплина заставляла подчиняться авторитетам.
Глубокой ночью «Ханна» опустилась на военный аэродром под Берлином. На пустынном поле под теплым весенним дождичком стояло несколько длинных черных машин — и Канарис, и Шелленберг не выдержали — примчались узнать о результатах полета.
Первым из «Ханны», выпустившей шасси и почти касавшейся брюхом бетона, выскочил — легко, будто не чувствовал груза лет, — Карл Фишер. Он был освещен фарами машин. Щурясь, он поднял вверх руку, сжатую в кулак, жестом, схожим с приветствием ротфронтовцев. Тут же из темноты возник Шелленберг и протянул Фишеру руку.
— Вас можно поздравить с успехом, штандартенфюрер? — спросил он.
— Разумеется, — сказал Фишер и обернулся к самолету, чтобы Шелленберг и присоединившийся к нему Канарис не упустили момента, когда вслед за несшим свинцовый ящик Васильевым спустились, щурясь и закрываясь от света, Альбина, за ней Андрей.
— Это подарок выше ожидания, — сказал сразу Канарис.
— Русские? — спросил Шелленберг.
— С того объекта. Чудом остались живы при взрыве, который мы имели честь наблюдать.
Юрген Хорманн вышел последним, как капитан, оставляющий тонущий корабль. Он был собран, мрачен и попытался доложить о выполнении миссии полковнику из разведки Люфтваффе, который тоже оказался среди встречавших, но полковник, не дослушав его, пожал ему руку, обнял и поблагодарил от имени рейхсмаршала, чем несколько утешил.
Черный катафалк был запряжен вороными конями, которые, казалось, понимали, с какой печальной целью они влекут свой груз по лондонским улицам, выступали торжественно и не позволяли себе выгибать шеи и даже глядеть по сторонам. Процессия автомобилей, большей частью дорогих, черных или серебристо-серых, как было модно в ту весну, была длиннее обычных для похорон, даже если хоронили члена палаты общин от консервативной партии. Причиной тому была неожиданность и даже нелепость случившейся катастрофы — молодой и подающий такие надежды Энтони Кроссли разбился на самолете.
От ворот кладбища следом за гробом вытянулась немногочисленная, но внушительная процессия, и в толпе любопытных, стоявшей у ворот, в которые полисмены вежливо, но непреклонно не допускали случайных зрителей, перечисляли известные стране фигуры. Сам премьер-министр Чемберлен не смог прибыть на похороны, его представлял здесь лорд Галифакс, возвышавшийся на голову над грузным, так постаревшим за последние годы Уинстоном Черчиллем, бывшим политиком, бывшим бунтарем и всем надоевшим противником Гитлера. Хоть Мюнхенский договор уже очевидно провалился и не принес мира, хоть даже пронемецкая «Таймс» вынуждена была опубликовать данные опросов Гэллапа, по которым лишь семь процентов англичан считали, что Гитлер остановится в своих захватах после Чехословакии, Черчилль был, и не только с точки зрения Чемберлена, последним человеком, которого можно было допускать к высоким постам и вводить в кабинет. Черчилль — это непредсказуемость, это экстравагантность, это опасность войны с Гитлером, Муссолини. Даже здесь, на кладбище, более иных лояльный к Черчиллю (который как раз вчера позволил себе грубые, просто неприличные для политика выпады против господина Гитлера) лорд Галифакс, очевидный преемник Чемберлена на посту премьера, утверждавший, что союз с коммунистами Сталина предпочтительней потакания фашизму, старался держаться от Черчилля подальше.
А Черчилль мерно вышагивал под мелким дождем, который лил в тот день над всей Европой, начиная от Москвы и кончая Дублином, и нес в себе опасные для людей радиоактивные частицы, о чем никто, кроме нескольких человек в далеком Полярном институте, и не подозревал, был глубоко опечален тем, что именно в момент опасного одиночества, когда никто не хотел его слышать, так нелепо погиб один из немногих друзей и сторонников — молодой, талантливый, полный сил и не лишенный остроумия Энтони, автор известной в определенных кругах Лондона, посвященной Черчиллю поэмы, в которой были и такие строки:
Рядом с Черчиллем шел Гарольд Никольсон, из немногочисленной плеяды начинающих и не имевших силы политиков, которым импонировала непреклонность сэра Уинстона.
Они мирно беседовали, пока над открытой могилой читали молитву, потому что Энтони был уже прошлым, а будущее пугало обоих угрозами и еще более — нежеланием Европы видеть эти угрозы.
— Мне шестьдесят четыре года, — сказал неожиданно Черчилль в ответ на филиппику Никольсона о том, что не сегодня-завтра его призовут в правительство, ибо он — человек, нужный стране в годину потрясений. — Я устал. Я наломал дров, моими ошибками и увлечениями мне тычет в лицо каждый, кому не лень, число карикатур на меня в английской прессе исчисляется миллионами.
— Но вы можете гордиться тем, что не намного меньше их и в газетах Германии и России.
— Это не основание для гордости. Просто мне надо сбросить вес.
— Завтра Гитлер нападет на Польшу, — сказал Никольсон. — Я разговаривал с разведчиками, у них есть неопровержимые доказательства, подтвержденные в Берлине.
— Он постарается купить Сталина, — сказал Черчилль.
У него был большой старинный черный зонтик, может, доставшийся от дедушки. Теперь не делают зонтиков с бамбуковыми рукоятями, подумал Никольсон.
— И я боюсь, — продолжал Черчилль, — что Сталин пойдет на сделку, потому что мы сделали все, чтобы изолировать и запугать русских перспективой остаться с Гитлером один на один. И тогда наши дела плохи.
— Но Чемберлен все же решился дать гарантии Польше.
— Еще бы. Даже такому кролику, как он, нельзя отступать до бесконечности, можно замочить пушистый хвостик в луже, которую не заметишь задом. Они передадут власть сэру Галифаксу, чтобы он сохранял лицо империи и в то же время не обижал нашего друга Гитлера.
Гроб опустили в землю. Черчилль подошел к затаившейся за почти непрозрачной вуалью матери друга и попрощался с ней, еще раз выразив свое искреннее горе, — Черчилль умел ценить верных соратников и прощать им слабости. Он полагал, что отличается от любого тирана тем, что никогда не поднимет руку на своего сегодняшнего или вчерашнего товарища.
Никольсон шел с ним обратно к воротам.
— Вы читали в «Таймс», — спросил он, — о падении метеорита на Урале? Говорят, что он был не меньше Тунгусского метеорита.
— Да? — рассеянно отозвался Черчилль, который никогда не слышал о Тунгусском метеорите.
— Сейсмические станции отметили невероятной силы удар.
— К сожалению, — отозвался после паузы Черчилль, — русские засекретят этот метеорит, потому что у них там концлагеря для инакомыслящих.
Некоторое время они шли молча. Потом Никольсон подал голос:
— Меня порой удивляет, почему вы предпочитаете союз со Сталиным. Он в не меньшей мере тиран и деспот, чем Гитлер. Гитлер даже ближе нам — он европеец.
— Оба они — порождение ада, — сказал сэр Уинстон. — Но Сталин нам не угрожает и не сможет в ближайшие годы угрожать. А Гитлер почитает своим долгом покорить Европу и установить господство над всем миром. Сталин по-своему идеалист, как и любой коммунист, он надеется на мировую революцию пролетариата и склонен, если она не получится, заняться уничтожением собственных пролетариев, Гитлер — мистик, несущий свою черную ненависть против всего мира. Гитлера я боюсь, Сталина, даже очень сильного, я презираю. Впрочем, нет, он мне любопытен, как и любой диктатор.
Краем глаза Черчилль заметил, что вышедший раньше из ворот Энтони Иден, один из немногих, разделявших взгляды Черчилля в консервативной партии, но предпочитавший держаться с группой своих сторонников в отдалении от эмоционального и непредсказуемого Черчилля, стоит у своей машины, беседуя с незаметным человеком в длинном мокром плаще и обвисшими от долгого стояния под дождем полями шляпы. Почему-то этот человек так спешил сюда, что забыл зонтик и ждал Идена под дождем.
Иден благодарно кивнул человеку и обвел взглядом выходивших с кладбища, кого-то разыскивая. Его взгляд остановился на Черчилле. Иден подошел к нему.
— Я хотел бы сказать вам несколько слов, — произнес он.
— Мы можем не стесняться Гарольда, если это не касается ваших амурных приключений, — сказал Черчилль. Это была пустая шутка, такие шутки раздражали Идена.
— Нет, — сказал он твердо, глядя на Черчилля сверху вниз; они были похожи на известную клоунскую пару — Пат и Паташон. — Это сугубо секретная информация. Я хотел, чтобы вы получили ее раньше остальных, потому что она может изменить наш политический курс.
Никольсон отошел к своей машине. Хотя был несколько покороблен словами Идена.
— Говорите, — сказал Черчилль.
— По данным, полученным из Соединенных Штатов и подтвержденным в Кавендишской лаборатории, в России на Полярном Урале не было никакого метеорита.
— Что же там произошло?
— Там произошел колоссальной силы взрыв — взрыв, превосходящий всяческое воображение.
— Неужели у них там такие склады боеприпасов?
— Или новая бомба. Сверхоружие.
— Какого рода бомба?
— Вы слышали или читали об атомной бомбе?
— Мне встречались популярные статьи на эту тему, но я полагал, что разговоры о ней не вышли еще из рабочего кабинета Герберта Уэллса.
— Таковы предположения ученых, — упрямо повторил Иден.
— Давайте надеяться, — сказал Черчилль, — что это был очень большой склад боеприпасов.
Иден чуть улыбнулся. Он ждал настоящего ответа.
— Что предпримет кабинет? — спросил Черчилль.
— Пока что они предпочтут ждать и делать вид, что ничего не произошло.
— А разведка?
— Я беседовал с сэром Рибли. Они предпримут все возможные и невозможные меры, чтобы узнать, что там произошло.
— Если бы я был в правительстве, — сказал Черчилль, — я бы мобилизовал всю агентурную сеть не только в самой России, но и в Германии.
Попрощавшись с Иденом, Черчилль подошел к Никольсону, который стоял у своей машины.
— Скажите, Гарольд, — спросил Черчилль, — у вас есть друзья среди физиков? Так сделайте одолжение — я хотел бы встретиться с ними как можно скорее. Если можно, завтра. И если можно, с Джоном Берналом.
— Хорошо, — сказал Никольсон, не ожидая, что Черчилль передаст ему содержание разговора с бывшим министром иностранных дел.
Андрея и Альбину разделили еще на аэродроме, и он не знал, куда ее отвезли. Впрочем, он не беспокоился о ней, зная, что с ней ничего не случится.
Несмотря на двусмысленность и непредсказуемость своего положения, Андрей в первые дни не мог не наслаждаться самыми простыми прелестями жизни — горячей ванной, чистыми простынями, умеренно вкусной и умеренно обильной едой на секретной вилле управления А-6, где его содержали. Карл Фишер приезжал чаще всего утром, но порой задерживался, и Андрей мог гулять в небольшом саду особняка, окруженного высоким непроницаемым деревянным забором. Но следует признать, что в мыслях Андрея не было побега или бунта, — он предпочитал не думать о завтрашнем дне.
Произошла простая человеческая история — ему предложили выбирать между смертью и неизвестностью. И он выбрал неизвестность, как выбрал бы любой нормальный человек. Рассуждая так, Андрей понимал, что в этих рассуждениях таится слабость, потому что под словами «нормальный человек» он понимал некоего европейца или русского начала века, но никак не советского гражданина, который должен был по своему воспитанию и искреннему образу мыслей предпочесть смерть в лагере или тюрьме общению с фашистами — расистами и врагами Советской страны.
Андрей беседовал с Фишером искренне, тем более что никому никогда не приходило в голову брать с Андрея подписку о неразглашении тайн, которые он увидит в зоне Полярного института, хотя бы потому, что никто не думал, что он выберется оттуда живым. К тому же тайна атомной бомбы охранялась столь строго и успешно, что о действительной цели строительства знали буквально несколько человек во всем мире. Это было бы невозможно в любой другой стране, но обычно для страны Советской.
Впрочем, Андрей не знал, насколько он полезен и интересен Фишеру, которого интересовали не только события последних дней, но и вся история сооружения полигона, которая прошла на глазах у Андрея, а также описания всех людей, с которыми он так или иначе сталкивался в лагере и городке, слухи и сплетни, которые там распространялись, — Фишер знал русский, хоть говорил с акцентом и ему не хватало слов. Он использовал невиданный ранее Андреем магнитофон, записывая его слова на большие катушки коричневой пленки.
Фишер не столько допрашивал Андрея, сколько разговаривал с ним. В этом была разница между ним и отечественным следователем, и Андрей был благодарен Карлу за этот способ общения. Он привык к тому, что его допрашивали как врага, унижали и уничтожали с первых дней допросов. Фишер же был откровенен.
— Я сейчас собираю с вас налоги, — говорил он. — Вы мне должны жизнь. Но я собираю не так много, как она стоит.
— Я ничего от вас не скрываю, — отвечал Андрей.
— Я представляю государство, — продолжал Карл. — Это есть великий германский рейх. Вы его можете не любить, я его гражданин. Вам понятно? Я могу не разделять убеждений фюрера, но я выполняю мой долг. Вы понимаете?
— Разумеется.
— Фюрер говорит, что главный враг Германии — мировой коммунизм. Я согласен. Я не спрашиваю, вы согласен или нет. Мне это не есть важно. Понятно? Теперь мы узнали, что Сталин сделал супербомбу. Она может убить много человек. Очень много. Ваш Сталин сделал бомбу, эта бомба еще не взорвалась, но убила больше своих человек, чем потом убьет чужих человек. Понятно?
— Я же не спорю с вами.
— Нет, вы немного спорите. Госпожа Альбина спорит. Госпожа Альбина была больше патриот. Вы меньше — это странно, но это ваше дело. Я считаю, что Сталин — самый страшный убийца в мире. Плохие люди и плохие идеи есть везде. Но в твоей стране они стали жизнью. Завтра Сталин сделает две, пять, десять супербомб. Он не остановится. Правильно?
— Вы правы, — сказал Андрей.
Карл Фишер, как всегда в сером клетчатом пиджаке и серых штанах, чуть ниже колен заправленных в гетры, и в блестящих уличных башмаках, словно собирался идти в горы, подходил к буфету — допросы всегда проходили внизу, в гостиной, а Андрей жил на втором этаже, — доставал оттуда бутылку коньяка и рюмки. Они выпивали по маленькой рюмочке. Потом Карл поднимался, уходил на кухню и приносил оттуда блюдо с маленьким соленым печеньем. И порой, еще через некоторое время, — кофе.
— Сталин сделает бомбы и погрузит их на самолеты, — говорил Фишер.
— Как я уже говорил, бомба — это что-то очень большое. Не влезет в самолет.
— Может быть, для Сталина уже построили специальный, очень толстый самолет, правильно? Тогда этот самолет полетит, чтобы кинуть бомбу на мой дом, потому что я — враг Сталина. Но это не значит, что Сталин кинет бомбу только на мой дом. Он полетит дальше, так как его кавказский варварский голова сообразит, как можно завоевать весь мир. — Фишер волновался, замолкал и начинал протирать замшей толстые очки.
— Но что вы можете сделать?
— Это решает фюрер. Вы можете думать, что ваша роль — роль предателя. Прошу вас, Андрей, думать, что вы как трубач, как гусь.
— Как кто?
— Ах, вы не есть учились в гимназии. Очень давно враги хотели взять город Рим, что есть столица Италии.
— Вы хотите сказать, что я — тот гусь, который спас Рим?
— Вас этому тоже учат? — Почему-то Карл удивился. Но тем не менее продолжил свою речь: — Чем больше мы узнаем о вас, тем лучше мы сможем помешать Сталину. Я не знаю как. Но надеюсь, что вы не хотите, чтобы страны Европы, чтобы все они стали колониями Сталина. Чтобы везде были его лагеря и… как название? ГУЛАГ. Чтобы всех расстреливали. Вы этого не хотите?
Андрей пожал плечами, и Карл оборвал разговор. Бабушка Карла Фишера была еврейкой, и это было хрупкой семейной тайной, которую удалось скрыть от всех анкет и бесед с начальниками. Бабушка умерла рано, от нее не осталось родственников, и Фишер, еще до прихода Гитлера к власти, еще сам не вступив в партию, но понимая, что Гитлер в Германии неизбежно победит, уничтожил лишние документы и взял клятву молчания с матери.
Фишеры были родом из Мемеля, и родственники погибли или сгинули во время Первой мировой и Гражданской войны в России. Если же кто из дальних родственников и остался в живых, то Фишер их не знал, а жили они в Литве. Хоть Мемель и был недавно присоединен, он все равно оставался как бы вне рейха. От детства, проведенного в Мемеле, Фишер помнил русский язык, что и помогало ему руководить русской секцией в ведомстве Шелленберга.
Спустя десять дней после прилета из Советского Союза, когда Андрей уже настолько привык к возвращению к чистой, умеренно цивилизованной жизни, что мог морщиться, видя, что утром на завтрак обязательно получает бутерброд со сливовым повидлом, кусочек масла и кофе с жидким молоком, тогда как организм его требовал куда большего, к Андрею заявился портной, весьма арийского вида мужчина. Он молча вертел Андрея, охватывая различные части тела сантиметром и диктуя данные бледнолицей девице, которая приходилась ему ассистенткой.
Андрей покорно поддался этой процедуре, ему было приятно думать, что наконец-то он наденет костюм не с чужого плеча, но энергичные действия портного вызывали некоторые опасения, по крайней мере служили основанием для размышлений. По тому, как вел себя портной, и по тому, что он заявился с ассистенткой, было очевидно, что это хороший, дорогой портной. Немецкой разведке не было никакого смысла тратиться на Андрея, если она не замыслила для него какой-то необычной роли. Вряд ли в Третьем рейхе награждают халатами, подобно Древнему Китаю. Следовательно, предстоит испытание на высоком уровне, а, как битый-перебитый лагерный пес, Андрей не любил таинственных операций, инициаторами которых были начальники.
Днем пришел Фишер, он был настроен торжественно и не стал ждать вопросов Андрея, он сразу объявил:
— Вас намерен принять фюрер Германии Адольф Гитлер.
— Это еще зачем? — невежливо спросил Андрей.
— Он очень обеспокоен событиями, в которых вы принимали участие, и в то же время желает выразить благодарность лицам, которые приложили силы и умение для того, чтобы разгадать секрет бомбы. А так как фюрер информирован о том, что вы добровольно согласились покинуть Россию и лететь с нами, а также откровенно и весьма полезно сотрудничали с германской разведкой, он желал бы пожать вам руку.
— Не ожидал, — сказал Андрей. Была какая-то неловкость и неправильность в этом приглашении.
— Все ясно, — осклабился Фишер, убедившись предварительно, что его не подслушивает из-за двери повар. Почему-то микрофонов он не опасался — может, потому, что сам их устанавливал. — Ваше живое воображение подсказывает, что большевики победят Третий рейх, и когда они придут сюда, то в списке друзей фюрера найдут вас и примерно накажут. Вы этого испугались?
— Нет, — сказал Андрей, — так далеко в будущее я не смотрел.
— Тогда вы боитесь, что отчет о приеме будет напечатан в газетах и вашим родственникам в России грозит опасность. Я могу заверить вас, что встреча фюрера с вами, как и все, что касается атомной бомбы, будет обставлено строжайшей секретностью. Даже Сталин о такой секретности мечтать не есть… не может.
— Не преувеличивайте, Карл, — улыбнулся Андрей. — Все проще — я подумал, насколько изменчива судьба, и далеко не всегда она делает со мной то, чего бы я сам себе пожелал.
— Вы не желаете встречи с великим человеком, может быть, повелителем Вселенной? Вам не любопытно хотя бы?
— Мне это очень интересно. Честно. И в то же время я бы отлично обошелся без нее.
— Вы все-таки остались советским человеком, Андрей, — сказал Фишер. — И вам место в концлагере. В нашем.
— С меня хватит нашего.
— В вашем вы уже списаны, — сказал Карл сердито. — Почему-то вы забываете о том, что вас не существует. Что дома, на… фатерлянд… как это… на родине — вас уже уничтожили, как вонючих крыс.
Прием был назначен на следующий день, после скромного обеда, который Андрей вкушал в грустном одиночестве, не видя ничего светлого в жизни и не желая вовсе встречаться с этим бесноватым фюрером, антисемитом и бандитом. Все, что он знал об этом человеке, внушало ему отвращение, которое пересиливало любопытство, в значительной степени атрофировавшееся после переживаний последних лет. Андрей с сожалением понимал, что как бы подло ни поступили с ним, но поступала так не его страна, а те бандиты, которые эту страну захватили в заложники. И, сотрудничая с силами, которые намерены были с его страной бороться, он сотрудничал не только против Сталина и его шайки, но и против России в целом, а она состоит из многих миллионов его сограждан. И он будет их врагом. И даже вполне разумные слова Фишера о необходимости выбирать меньшее из зол его никак не утешали.
— Возьмите писателя Лиона Фейхтвангера, — еще вчера говорил Карл. — Его у вас широко печатают, а у нас он запрещен, потому что нет пророка в своем отечестве.
— И его книги сжигали в Германии на площадях.
— Не надо попадаться на удочку пропаганды. Да, у нас есть свои экстремисты, бандиты, готовые сжечь на площади поваренную книгу за слова «фаршированная щука». Да, были гнусные, на мой взгляд, эпизоды, когда сжигали книги еврейских и славянских писателей. Мой сосед сжег, в частности, книгу «Хижина дяди Тома», потому что она воспевает негров, которых официально принято относить к низшим расам. Все это так. Но еврейский писатель Лион Фейхтвангер, который бежал из Германии, и, наверное, правильно сделал, отправился после этого в Россию и там был принят, как герцог, вашим хитрым кавказским варваром. И потом написал книгу с характерным названием «Москва, 1937 год». Читали?
— Нет, в это время я уже сидел.
— Вот видите, вы сидели, а он писал книгу, полностью оправдывая то, что сделал с Россией ваш любимый вождь. И воспевая самого вождя, и даже воспевая процессы над невинными людьми, которых невзлюбил главный гангстер вашей родины. И не надо поднимать ладонь и останавливать меня, Андрей. Вы находитесь в руках фашистской разведки и добровольно с ней сотрудничаете. А я вам скажу — и вы, и Фейхтвангер живете по принципу наименьшего зла. Фейхтвангеру кажется, что, воспевая Сталина, он укрепляет общий фронт против фашизма, против Гитлера. И этим спасает свою жизнь и жизнь еще многих евреев, которые боятся прихода эсэсовцев в Польшу или Румынию. Вы же предпочли жить здесь, нежели умереть в тундре. Наименьшее зло. Так научитесь жить с открытыми глазами и мириться с действительностью. Мне тоже не все в ней нравится. Но я стараюсь выбирать собственные пути…
Андрей допивал жидкий компот, когда вошел охранник и сообщил, что в гостиной ожидает посыльный.
В пакетах и коробках, привезенных посыльным, было два костюма — один вечерний, черный, другой повседневный — клетчатый пиджак и темные брюки — все же Шелленберг расщедрился. Или решил, что Андрею предстоят еще беседы с высокопоставленными лицами в дневное время. В других пакетах и коробках были сорочки, ботинки и прочие детали мужской одежды. Интересно, подумал Андрей, а для привезенных из Германии шпионов на Лубянке шьют смокинги или хотя бы френчи?
Карл Фишер приехал без четверти шесть. Он был в вечернем костюме, однако Андрей отметил, что сам он выглядит куда шикарней своего покровителя. Фишер был скован, молчалив, и лишь однажды, когда они ехали по Берлину, который Андрей в прошлый раз толком не разглядел, и остановились перед светофором, он неожиданно произнес:
— Только, ради бога, не лезьте вперед и не проявляйте инициативу.
— Спасибо за совет, — сухо сказал Андрей.
Рейхсканцелярия подавляла не только тяжеловесным, еще лишь рождавшимся в Советском Союзе архитектурным обликом, но гулкой обширностью внутренних помещений, которые были созданы не в масштабе человека, а будто для гигантов, в существование которых, по общему мнению, свято верил фюрер, либо для расы, которая произойдет от истинных арийцев после того, как мир покорно опустится перед ними ничком.
Они поднялись на второй этаж и были встречены офицером СС, который вежливо, не спуская глаз с гостей, провел их в приемный зал, представляющий собой некое вместилище для гигантов, в котором голоса, казалось бы, должны разноситься, как в помещении пустого вокзала, но на самом деле пожирались самим воздухом и звучали приглушенно, словно собрались там не люди, а муравьи.
Там уже находился Шелленберг и рядом с ним среднего роста мужчина в черной эсэсовской форме со странным, будто бы вырезанным из бумаги лицом — у него был горбатый тонкий нос, узкий лоб, впритык к нему посажены глаза. Шелленберг, встретивший пришедших с обычной для него чуть робкой улыбкой, представил Андрея двухмерному человеку, фамилия которого оказалась Гейдрих, он был начальником Шелленберга и как бы членом политбюро, как попытался потом объяснить Фишер. Гейдрих пронзил Андрея глазками, а вот улыбаться он не умел, и потому губы лишь потерлись одна о другую и невнятно вымолвили:
— Рад познакомиться, господин Берестов. Вы многое сделали для рейха, и мы этого не забудем.
Слова Гейдриха перевел Фишер. Он волновался, словно Гейдрих уже догадался о происхождении его бабушки.
Вскоре вошел адмирал Канарис. Андрей не видел его после встречи на аэродроме и только теперь разглядел и признал, что лицо адмирала скорее приятное, но незначительное. Затем вплыл толстый человек в ладно скроенном голубом мундире и с несколькими орденами и знаками на груди. Андрей узнал Геринга по карикатурам Ефимова и Кукрыниксов в наших газетах — Геринг и на самом деле был похож на свои карикатуры, и это было странно, словно он должен был постараться и уйти от порочного сходства. Следом за Герингом шагали два пилота — Юрген Хорманн и Васильев, но Хорманн был в форме полковника, с Испанским крестом на груди, тогда как Васильев пришел в цивильном, не первой свежести смокинге и чувствовал себя, как показалось Андрею, не совсем уютно. На самом деле Васильев впервые в жизни должен был предстать пред очи фюрера Германии и, потеряв с возрастом значительную долю тщеславия, предпочел бы вместо этого оказаться в тихой уютной пивной.
Последним из известных Андрею (также по карикатурам) личностей Третьего рейха появился страшный руководитель СС Генрих Гиммлер, которого Андрей узнал по старомодному пенсне и скучному лицу агента внешнего наблюдения — таких любят во всех полицейских службах мира за их неприметность. Вместе с Гиммлером пришли две дамы. Одна была хороша мальчишеской, резкой, отчаянной красотой, которая редко привлекает мужчин, сразу чувствующих превосходство такой женщины в силе характера. Обнаружилось, как сказал Фишер, что это была кинорежиссер Лени Рифтеншталь, которая снимала лучшие в мире документальные фильмы. Лучше, чем ваш Дзига Вертов, заметил Карл, что говорило в пользу его эрудиции. С ней вместе шла другая красивая женщина, угадать в которой Альбину Андрею удалось, только когда женщины подошли совсем близко.
За прошедшие десять дней в несчастной лагерной замарашке, хоть и со следами былой красоты, произошла необъяснимая и почти сказочная перемена — гадкий утенок, Золушка… Человечество всю жизнь мечтает о том, чтобы в утенке раскрылся лебедь, и умиленно плачет над этой участью, столь желанной для тебя самого, не желающего дураком прыгать в кипящий котел русской сказки, чтобы вынырнуть настоящим принцем.
Это была Альбина, сказочно перелетевшая из одного Берлина, ложного, в другой, тоже ложный и временно оккупированный людьми в голубых и черных мундирах, ожидающими выхода узурпатора.
Возвышенная банальность собственных мыслей никак не смущала Андрея, потому что он был поражен единственной реальностью в этом мире — хрупкой, неземной, светлой и беззащитной красотой Альбины, его собственной экспериментальной жены, отправленной на заклание комиссаром госбезопасности Алмазовым. Узнав Андрея также после мгновенного колебания, ибо его волосы отросли, а молодой организм сумел за эти дни вобрать и пустить на строительство тела и лица немецкие калории — этот молодой мужчина в черном смокинге был строен, гибок, рожден для верховой езды, африканских сафари и беговой дорожки, — забыв о чинах, окруживших их, Альбина побежала к Андрею.
— Андрюша, — сказала она, задыхаясь от неожиданной радости, — я так за тебя боялась! Ты хорошо выглядишь.
Вблизи было видно, что какую-то часть красоты Альбины можно отнести на долю косметички и парикмахерши, но Альбина расцвела и сама по себе.
Альбина нарушила куртуазную торжественность поведения, но все понимали, что ей простительно. В ее истории, известной всем, была трогательность сказки о Золушке, и в каждом из мужчин присутствовал принц, желавший разделить с прочими принцами королевства право надеть на ее ножку хрустальный башмачок.
В этот момент небольшие в масштабе зала двери раскрылись, и из какого-то внутреннего помещения быстрыми шагами вышел Адольф Гитлер, которого сопровождал человек со странным лицом умницы и дегенерата — слишком густые брови нависали, завершая собой надбровья над утонувшими в глубине глазниц небольшими глазами. Лицо было резким и удобным для карикатуристов, а потому знакомым — хотя Андрей не смог сразу вспомнить, как зовут этого вождя Германии, он всегда оказывался на карикатурах Бориса Ефимова на втором плане, уступая место свинье Гитлеру и обезьянке Геббельсу.
Андрей вспомнил, что человека зовут Рудольф Гесс, когда он и Гитлер подошли совсем близко и Гитлер, очень бледный и какой-то сердитый на вид, крутил головой, разглядывая визитеров, словно и не звал их сюда и удивлен тем, что они собрались.
Альбина отпрянула от Андрея, и само собой вышло так, что все приглашенные вытянулись шеренгой, перегораживая путь фюреру, и тот пошел вдоль шеренги, начав здороваться с Геринга, который единственный оказался вне ряда, и потом пожал руки Шелленбергу и Канарису, задержался на секунду возле Фишера, что-то тихо спросив того, как старый приятель, имеющий с ним общие амурные тайны, затем пожал руку вытянувшемуся деревянным солдатиком Юргену Хорманну и добрался до русских. Фишер теперь шел на шаг сзади и был готов переводить. Он представил русских по очереди, и Гитлер сказал Васильеву, что благодарит его за долгую и верную службу великой цели, затем протянул холодные пальцы Андрею и произнес непонятную фразу. Среди гостей прошла волна легких улыбок, но лишь потом Карл перевел, что слова Гитлера означали: «Какой замечательный арийский тип. Все же Россия сложная страна, столь обильно политая спермой арийцев». Лени Рифтеншталь сделала было движение навстречу фюреру, но тот рассеянно пожал ей руку, потому что увидел Альбину и уставился на нее гипнотизирующим взглядом, способным повергать в ужас не ведающих страха фельдмаршалов и президентов, а Альбина присела, сделав некое подобие книксена, видно, вспомнила, как ее учили в детстве, и протянула царственно тонкую руку. Адольф Гитлер склонился к руке, будто хотел ее поцеловать, но, видно, целовать руки было настолько не принято в рейхсканцелярии, что он спохватился и, выпрямившись, с трудом оторвал взгляд от молодой женщины.
Затем он отступил на несколько шагов от разделившихся на две кучки гостей — граница прошла между правителями страны и теми, кто оказался здесь по их милости.
— Я пригласил вас сюда, господа… — произнес Гитлер; Фишер хотел было переводить, но Васильев сделал ему знак, чтобы не беспокоился, и шепотом, склонившись к ставшим рядом Андрею и Альбине, передавал смысл слов фюрера, — чтобы лично высказать вам благодарность за тот великий, я не боюсь сказать этого слова, великий подвиг ради спасения Германии и всей мировой цивилизации. Вы совершили невероятное… — Голос фюрера поднялся и оборвался на этой ноте. После короткой паузы последовало: — Гибель мира готовилась и сейчас готовится на просторах России — брошен вызов господству льда, адское пламя прошлого прорвалось к Земле для того, чтобы разрушить плоды наших усилий и прервать ход истории. Наш долг — не допустить этого, и ваш вклад в сопротивление пламени останется в памяти потомства. Спасибо, господа.
Указательным пальцем Гитлер убрал со лба прядь волос. И замолчал. Андрей решил было, что Васильев чего-то не понял — речь Гитлера была невразумительна. Но Гитлер уже продолжал далее:
— Мы ознакомились с материалами и сведениями, которые вы привезли с собой. И я должен сказать, что сегодня я не намерен оценивать вклад каждого из участников в успех полета. Я не отделяю от общей группы и русских добровольцев, хотя бы потому, что уважаю их решительность и отвагу и высоко ценю то, что удалось узнать нашим специалистам. Именно потому, что я рассматриваю полет не просто как очередное военное задание, а как подвиг, волей провидения должный изменить судьбу мира, я пригласил вас к себе, чтобы лично выразить свою благодарность.
Андрей видел, что, произнося последние фразы, фюрер смотрит только на Альбину и обращается именно к ней.
По знаку Гитлера Рудольф Гесс обернулся вправо, и тут же там открылась дверь и вошли два офицера, один из которых нес квадратный поднос с коробочками, а второй — внушительную пачку дипломов. Они остановились в двух шагах справа от Гитлера, и тот, как не ставший взрослым мальчик, получая наслаждение от этой церемонии, провозгласил:
— За совершение чрезвычайного значения подвига, потребовавшего мобилизации всех сил и особой отваги, рейх награждает подполковника Юргена Хорманна золотым Рыцарским крестом военных заслуг.
Юрген Хорманн сделал три шага вперед, чтобы принять из рук фюрера коробку, лежащую на кожаной, с вытисненным на ней длиннокрылым орлом папке. Слова благодарности Васильев переводить не стал.
Следующим награжденным таким же крестом стал полковник Карл Фишер. Васильев сказал: «Это, наверное, первый разведчик, который удостоился. Они эту штуку реже, чем мы Героя Советского Союза, дают». И слова, хоть и тихие, для Андрея прозвучали громоподобно. Он даже взглянул быстро по сторонам, не услышал ли кто.
Третьей была красивая Лени Рифтеншталь, ей был вручен национальный приз за культуру и искусство — лента через плечо с небольшой, словно автомобильной, шиной. Гитлер сам надел на нее ленту и попросил, чтобы Лени сняла оперу «Долина» не хуже, чем великий фильм «Гармония радости». Все хлопали в ладоши.
А потом действо перешло за грань реальности, потому что Гитлер тут же в зале, на глазах у своих соратников и, возможно, даже вездесущих советских разведчиков — почему бы не оказаться разведчиком вон тому военному, что держит поднос с коробочками орденов? — вручил белые Кресты заслуг германского орла третьего класса троим русским.
— Вы должны понять, — наставительно сказал он, — что отныне вы — предмет зависти, настоящей доброй зависти миллионов жителей земного шара, которых Германия не одарила такими крестами.
Бонзы империи согласно закивали, давая притом понять, что они свои кресты еще получат.
— А теперь, — произнес фюрер, завершив церемонию, — я прошу моих гостей разделить со мной скромный обед. Прошу в столовую.
Откликнувшись на его слова, двери, а вернее, врата в столовую — не менее гигантскую, нежели приемная, — отворились, обнаружив длинный стол под белой скатертью, по обе стороны которого, отступив на несколько шагов, стояли официанты с военной выправкой, в темно-зеленых фраках.
После мгновенного колебания Гитлер предложил руку Лени, и она первой пошла с ним в столовую. Остальные двинулись следом, причем как-то так получилось, что об Альбине разговорившиеся, словно мальчики после звонка на перемену, германские вожди забыли. Васильев сунул пустую коробочку от Креста заслуг в карман и тихо сказал:
— Пахнет дискриминацией.
— А что? — не понял Андрей.
— Летали вместе — им на шею, а нам — как иностранным лакеям. — То ли он был обижен, то ли шутил. Потом добавил: — Жаль, нельзя в «Правде» отметить.
Адъютанты, которых оказалось куда больше, чем было вначале, подходили к гостям и указывали им места за столом. Геринг сел по правую руку от фюрера, по левую — Гесс, далее сидел Гиммлер. Андрей оказался в конце стола и был отделен от Альбины.
Альбина сидела наискосок от Гитлера, и он, пока все усаживались, не раз бросал на Альбину странные недоуменные взгляды, словно был с ней когда-то знаком, но никак не может вспомнить, где и когда. Может быть, Андрей придумал это за Гитлера, но то, что он смотрит на Альбину чаще, чем на других, увидели многие.
— Что делает с женщиной косметика, — не очень вежливо, но добродушно произнес Васильев. Эта фраза предназначалась лишь для ушей Андрея и Альбины. Альбина повернулась на эти слова, не рассердилась, а чуть улыбнулась и встретила взгляд Андрея открыто, не пряча глаз, и Андрей понял, в чем основное различие с прошлой жизнью, — теперь голубые водоемы Альбининых глаз высохли и не грозили наводнением.
Обед обещал быть пресным, только для истории, — никакого вина гостям не было предложено, лишь разносили минеральную воду, потом принесли протертый пресный суп, а фюреру — кукурузный початок, вроде бы политый растительным маслом. Гитлер взял его в руку и обгрызал, наклоняя голову. Черный, столь любимый карикатуристами чуб касался початка. Гитлер двигал челюстями быстро и мелко, подобно крысе. Все молчали, послушно, как школьники, поедая суп.
Молчание нарушил Гитлер, неожиданно сказав:
— Кто-нибудь из вас удосужился сегодня посмотреть на барометр?
Почему-то, задавая этот строгий вопрос, фюрер смотрел на Геринга, который застыл, не донеся ложку до рта. Потом ответил за всех:
— Нет, мой фюрер. А что-нибудь случилось?
— Командующий моей авиацией обязан знать давление атмосферы, — наставительно сказал Гитлер.
— Ты прав, — согласился Геринг.
— А я смотрел с утра, потому что очень тонко чувствую перемены давления. Сегодня семьсот тридцать восемь миллиметров! Практически никакого давления. Я чувствую себя угнетенным и потерял аппетит. Нет, я не хочу сказать, что вы должны разделять мои тревоги и боль, — одному это дано, а другому — нет. Но самое близкое существо должно уметь разделить именно боль — на радость найдется миллион желающих, не так ли, фрейлейн?
Гитлер обращался к Альбине. Он вытер рот салфеткой и отбросил объеденный початок на тарелку.
— Да, господин Гитлер, — сказала Альбина, глядя на фюрера, и тот, первым метнувшись зрачками в ее сторону, отвел взгляд.
Русская пленница заинтересовала фюрера — каждый из присутствовавших здесь друзей и слуг Гитлера старался понять, насколько важна эта информация, может ли внимание перейти в действие, а если так, то к чему это может привести. Люди старались не переглядываться, ибо фюрер мог перехватить взгляд — это уже бывало раньше и ни к чему хорошему не приводило. Фюрер был всегда осторожен с соратниками, с близкими — тем более, но ни один из них после смерти Рэма и Штрассера не дал основания заподозрить его в измене. И так как взоры фюрера были обращены вовне империи, то остальному окружению отводилась роль соратников, хоть и подозреваемых в возможной, потенциальной неверности, но пока нужных и полезных.
Тем временем сменили приборы и стали разносить рыбу и вареный картофель.
И в этот момент самого старого и мудрого человека за столом посетила невероятная — хотя разве на свете бывает невероятное? — догадка. Он понял, кого увидел Гитлер в Альбине. Она была тенью Гели Раубал. Именно тенью. Все было схоже — и цвет волос, и форма носа, и полные губы, и громадные голубые глаза, но если Гели буквально сверкала молодостью, здоровьем — от нее будто пахло мускусом, чтобы привлекать самцов, — то Альбина была Гели, у которой отняли свежесть, молодость, звериное страстное начало, но вместо этого боги наградили ее завершенной деликатностью и изяществом облика, будто Гели прошла через какие-то невероятные испытания, как сквозь сказочную купель, и от нее остался прекрасный, правда, увядающий дух красоты.
Канарис на мгновение зажмурился, чтобы изгнать видение Гели, которую неоднократно видел и отлично помнил, хотя не был с ней достаточно знаком, не относясь к друзьям дома фюрера, однако интересовался ею и до конца не был уверен, что Гели умерла своей смертью, а не была застрелена фюрером в припадке гнева.
Когда он открыл глаза вновь, то увидел, что над ним стоит официант, ждет, когда тот возьмет с блюда горячее, но Канарис даже не заметил, что ест. Только бы не проговориться, только бы не подать виду… информация такого масштаба может стоить головы, а может сделать могущественнейшим лицом в государстве. Ведь Альбина при «разделе имущества» досталась ему — допрашивал ее сам Канарис, который многое узнал о ней с помощью тихой учительницы немецкого языка, этакой пожилой мышки, приставленной к Альбине.
Гитлеру, который был вегетарианцем, принесли его любимый «кайзешмаррен» — венские блинчики, скатанные в трубочки, начиненные изюмом и политые сладкой пастой. Гесс тоже не ел мяса, но Андрею показалось, что он из тех людей, которые, придя домой, тут же лезут по полкам и, поставив на колени кастрюлю со вчерашними мясными щами, пожирают их поварешкой. Тут Андрей улыбнулся собственным мыслям, понимая, что господин Гесс, наверное, никогда в жизни не был на кухне. С Андреем происходило то же, что происходит со многими в присутствии великих мира сего. Ты начисто отказываешься верить тому, что некогда такая персона была постоянно гонима и голодна и сама разогревала себе на керосинке скудный ужин.
За компотом Гитлер, размякший, домашний, бюргерски довольный собой и гостями, начал рассуждать об опасных переменах в климате, которые мы наблюдаем. Зимы перестают быть зимами, и летом недостаточно тепла, чтобы созрели зерновые культуры. Совершенно очевидно, что все происходящее на Земле определяется в значительной степени событиями в космосе и движением планет. Именно поэтому он, Гитлер, отдавая должное плодотворным мыслям о Полой Земле, которые развивает Бендер, все же продолжает сохранять к ним скептическое и даже отдаленное отношение, ибо из этой теории следует взять лишь гипотезу о существовании подземных полостей, в которых находятся в глубоком сне те гиганты, которые населяли Землю раньше.
Гитлер откровенно обращался к Альбине, он начал говорить все быстрее, потом неожиданно заявил, что не советует гостям пить после обеда кофе, в котором находится много вредных возбуждающих веществ.
Большинство присутствующих были смущены тем, что Гитлер практически ни слова не сказал за обедом о советской атомной бомбе, и объясняли это по-разному — одни присутствием русских, при которых Гитлер сдерживался, не доверяя им, хотя и разыграл умелый спектакль благодарности за подвиг во имя рейха, то ли причиной тому, как полагал Канарис, было замеченное Гитлером сходство Альбины и Гели, то ли причина была необъяснимая, загадочная, ибо Гитлер в понимании его окружения был воистину великим человеком, и его нелогичные ходы и чудачества воспринимались как проявления великого немецкого духа.
Гитлер первым поднялся из-за стола. Все остальные встали тоже.
Гитлер поклонился и вдруг быстро вышел из столовой, как будто чем-то обиженный.
И все довольно долго стояли у своих мест, словно ожидая, что обиженный недисциплинированными учениками учитель вернется и задаст им заслуженную взбучку. Неловко чувствовали себя все — от Геринга до Андрея. Все, кроме Канариса и Альбины. Наконец гости начали двигаться, переговариваться и собираться по домам, некоторые подходили к награжденным, Геринг пожал руку Васильеву и сказал, что рад бы иметь его в своем ведомстве.
— Я стар, — сказал Васильев. — К сожалению, я уже стар. И в этом моя трагедия.
— Вы не старше меня, мой друг, — сказал Геринг и тут же отошел к Гессу, как будто надеясь, что тот скажет нечто более приятное.
Андрей направился к Альбине. Он надеялся, что она сообщит ему номер телефона, он не был уверен в том, где окажется завтра.
Альбина увидела его и двинулась было навстречу, но это движение заметил Канарис, который встал между русскими и сказал улыбчиво и тихо, обращаясь к обоим:
— Молодые люди, я обещаю вам, что при первой же возможности я устрою вам встречу.
Андрей понял, что Канарис не хочет их разговора, а Альбина, лучше знавшая немецкий, предпочла поверить адмиралу и сказала Андрею через его плечо:
— В самые ближайшие дни. Мы же с тобой здесь рабы.
Канарис запомнил последнее слово Альбины и потом спросил у Фишера, что означает русское слово «ра-би», но не смог передать разницы между буквами «ы» и «и» и получил ответ, что имеется в виду, очевидно, еврейский священник, и это повергло адмирала в недоумение.
Канарис угадал. Гитлер был не только очарован, но и смущен и несколько напуган иррациональным и несшим в себе странный смысл сходством Альбины и Гели. Будто почти десять лет разлуки Гели прожила в ином мире, очищаясь в страданиях от всего наносного, грубого, плебейского, что было в ней, но не потеряв внутренней силы, очевидной для Гитлера в открытом взгляде молодой женщины.
Не в силах совладать с собой, фюрер покинул столь невежливо и неожиданно высокое общество, оставив в растерянности даже ближайших соратников.
Он не знал, как вести себя дальше, что означает этот сигнал свыше, насколько он связан с его судьбой. Не исключено, что это лишь игра дьявольских сил, подсунувших ему Альбину — белую, чистую. И надо ли понимать ее имя как духовную эманацию мечты фюрера, чтобы разоружить его… Ведь недаром она появилась так неожиданно и прямо из горнила страшной бомбы, изобретенной большевиками, некоторые из которых, безусловно, близки к масонским кругам и к еврейским магам низкого порядка.
Фюрер не стал возвращаться домой, где ждала его прекрасная, покорная и пустая Ева, а позвонил из своего гигантского кабинета, украшенного портретом тяжелого напыщенного Бисмарка — не для собственного наслаждения, а для удовольствия солдафонов и патриотов, — в загородный дом Карлу Гаусгоферу. Жена того, молчаливая, хозяйственная Марта, сказала, ничуть не удивившись звонку, что Карл вскорости будет здесь — он встречал на вокзале приехавшего инкогнито из Индии какого-то великого мага, и потому, наверное, приезд рейхсканцлера будет очень уместен.
Фюрер почувствовал облегчение. Старый генерал Гаусгофер после Первой мировой войны вышел в отставку и преподавал философию в Мюнхенском университете, где и приблизил к себе послушного студента, будущего секретаря национал-социалистской партии Рудольфа Гесса. Гесс был глубоко убежден, что Гаусгофер относится к числу великих магов, и, когда его новый друг Адольф Гитлер попал после неудавшегося Мюнхенского путча в тюрьму Лансгурт, Гесс привел туда Гаусгофера, ставшего постоянным и долголетним советником Гитлера. Гаусгофер пытался сформировать геополитику Гитлера, который внимательно выслушивал магов, сытно кормил их и даже оплачивал экспедиции в Тибет, в Гималаи. Там, по утверждению якобы посетившего те места бывшего генерала вермахта, ждет, чтобы проснуться и повести за собой человечество, раса гигантов прошлой Луны.
К тому времени, когда машина фюрера, словно крадучись, подобралась к вилле Гаусгофера, не занимавшего официальных постов в империи, но остававшегося фигурой, окутанной тайной, хозяин дома уже приехал с вокзала. Марта предупредила о звонке фюрера, и потому Гаусгофер оставил в полутемной прихожей, освещенной лишь вывезенными из Непала и Тибета светильниками, в которых лампады были заменены электрическими лампочками, Георга Гурджиева — неизвестной национальности человека, выдававшего себя за бурята. Сам же хозяин поспешил с гостями в ванную, чтобы там срочно снять с них дорожную обыденную одежду, которая предназначена была для того, чтобы никто не заподозрил в них существ иного плана, нежели ирландских предпринимателей, за которых они себя выдавали во время своих путешествий у врат Тибета. Одежды, в которых путешественники должны были предстать перед Гитлером, уже были готовы, развешаны по креслам в просторной ванной комнате, вычищенные и выглаженные неутомимой и верной Мартой.
Один из гостей переоделся в оранжевую тогу буддийского монаха и водрузил головной ламаистский убор, схожий с греческим шлемом, второй же избрал куда более экзотическую одежду — это был черный балахон с капюшоном, скрывающим в тени лицо, и в этой черной неопределенности особенно ярко выделялись ярко-зеленые перчатки.
Марта встретила фюрера, вошедшего, по обыкновению, к учителю в одиночестве, тогда как охрана разбежалась вокруг виллы, отрезав ее от внешнего мира, и провела в гостиную, где Гурджиев, давно известный фюреру, почтительно поднялся и поклонился, сложив перед грудью ладони.
— Не надо, брат, — сказал фюрер, проходя к своему креслу — у него в этой гостиной было единственное преимущество перед прочими — свое кресло. — Мы здесь все равны. Мне надо посоветоваться с учителем.
— Он сейчас придет, брат, — сказал Гурджиев, чуть утрируя свой восточный акцент. — У нас сегодня гости. Наконец сбылась мечта Посвященных — они были там.
— Что? Что ты хочешь сказать? — Но Гурджиев игнорировал вопрос фюрера и обернулся к двери, в которой показались Посвященные.
Генерал Гаусгофер, отлично выглядевший, подтянутый, упорно занимавшийся йогой и никогда не выкуривший ни сигареты, отчего казался куда моложе своих семидесяти лет, сделал шаг в сторону, пропуская гостей.
Первым вышел человек в черном капюшоне и зеленых перчатках, за ним — буддийский лама. Лицо ламы сразу привлекло внимание фюрера — у него был крупный нос, большой жесткий подбородок и такие глубокие глазницы, что глаза скрывались в них, как в колодцах.
Оба гостя поклонились фюреру, и фюрер так же молча ответил на их поклоны.
— У нас гости, Адольф, — сказал Гаусгофер. — Гости издалека. Только что они возвратились из Тибета. И впервые наше предприятие оказалось успешным. Отчет об израсходовании тридцати шести тысяч фунтов стерлингов на организацию экспедиции будет передан завтра.
— Гиммлеру, — сказал Гитлер. — Именно он будет отныне оплачивать расходы из конфиската.
— Я не понял тебя, брат, — сказал Гаусгофер.
— Мы не для того отнимаем неправедно нажитые деньги у еврейских богачей и ростовщиков, чтобы кидать их на ветер, — в мире должно быть равновесие.
— Воистину, — сказал генерал и жестом пригласил всех садиться. Потом продолжал: — Я рад, что ты, Адольф, услышал мой мысленный зов и почувствовал, что ты должен быть первым, кто услышит отчет о великом открытии.
Фюрер намеревался сказать, что знанием о великом открытии обладает скорее он, нежели мистики и маги, но понял, что отказываться от дара неразумно. Он склонил голову, признавая за собой право на телепатию.
— Разреши представить тебе — лама Ананда Мохендра.
Пан Теодор, скрывавшийся под этим экзотическим именем и недорого купивший место сопровождающего лица у мага в зеленых перчатках, известного ранее генералу Гаусгоферу как Фридрих Штамм, однако всему миру должный являться как тибетский маг Лобзанг Рапа, чуть склонился вперед, вперив в фюрера упорный взгляд, и тот быстро перевел глаза направо, к магу в черном халате и зеленых перчатках.
— Именно Ананда Мохендра, — сообщил генерал Гаусгофер, — смог провести нашего с вами брата и соратника Лобзанга Рапу в таинственные и недостижимые подземные пещеры в Агарти, храме непричастности.
Гитлер кивнул, будто эти откровения были ему знакомы, впрочем, в многочисленных и многолетних беседах с Гаусгофером, Сиверсом, Эккертом и иными магами, астрологами и восточными целителями, имевшими доступ к нему, термины и понятия обсуждались не раз, правда, далеко не всегда в понятие или термин вкладывался один и тот же смысл. И в этом была сила магов, так как сознание не могло уцепиться за нечто конкретное, подобное точке на карте, — Шамбала могла завтра изменить свою функцию и расположение в космосе, а Земля — вывернуться наизнанку, поместив человечество внутрь себя.
Гитлер сегодня был не столь внимателен и прилежен, как обычно, — ему надо было поделиться с Гаусгофером своей тайной, но собеседники этого не чувствовали, потому что акт, разыгрываемый ими, был вершиной определенной деятельности, стоившей многих средств и приготовлений.
— Говори! — приказал Гаусгофер Лобзангу Рапе. Тот поднял зеленую руку и поправил капюшон, словно настраиваясь на должный тон.
— Мы были в тайном из тайных святилищ Лхасы, — заговорил он громко и значительно, ибо был допущен до самой главной тайны ледяного мира…
Неожиданно Гитлер, который никак не мог сосредоточиться на тайнах Тибета, вопреки ожиданиям Гаусгофера произнес:
— Я полагаю, что подробный рассказ мы побережем до собрания Посвященных. Ты только скажи мне, брат, — ты видел?
— Я видел, мой фюрер! — воскликнул лама, странным образом нарушая обращение к брату-магу, но никто не обратил внимания на эту оговорку. — Я видел три гроба из черного камня, на которых были вырезаны тончайшими иглами загадочные рисунки, — гробы были открыты, и лама Ананда, — человек в зеленых перчатках изящным жестом указал на своего молчаливого спутника, — позволил мне заглянуть внутрь и показал, что именно эти существа обитали в нашей стране в те времена, когда на месте Гималаев тянулась бесконечная ровная долина. Я взглянул на них, мой фюрер, я был очарован и одновременно охвачен бесконечным ужасом. Их тела были покрыты листами золота, видно, чтоб предохранить их от тления. Мужчины были пяти метров в длину, а женщина — трех метров… У них большие головы, узкая челюсть, маленький рот и узкие губы, в то же время их лица по-своему прекрасны…
Гитлер неожиданно поднялся и обернулся к Марте, которая как раз вошла в гостиную, неся поднос с китайскими чашечками.
— Мне чаю не надо, — сказал он.
Лама в зеленых перчатках, не услышав реплики фюрера, продолжал:
— На крышке одного из гробов, что лежала рядом с гробом, я разглядел искусно выгравированную карту звездного неба и, к своему удивлению, убедился, что расположение звезд на ней совсем иное, чем то, к которому мы привыкли.
— Спасибо, — сказал фюрер. Он быстро пошел к выходу — генерал кинулся за ним, не понимая еще, чем прогневал Гитлера. И когда он поравнялся с фюрером в коридоре, тот спросил: — Где можно поговорить с тобой наедине?
Не дожидаясь ответа, он толкнул дверь в ванную комнату и увидел, что она вся — доказательство быстрого переодевания, но Гитлер вроде бы и не заметил этого, а прошел к следующей двери — она вела в спальню. Шторы в спальне были задвинуты, там было темно.
Гитлер прошел к окну. Отодвинул край шторы, выглянул наружу. Затем отпустил штору, и сказал:
— Не зажигай света. Я все отлично вижу. Закрой дверь.
Стало почти совсем темно.
За дверью неслышно дышал пан Теодор, который проследовал за Гитлером и Гаусгофером.
— Сегодня я разговаривал с людьми, которые видели взрыв русской супербомбы.
— Вы не рассказывали мне, брат, — ответил бестелесный голос генерала, — что послали людей втайне от меня.
— Рано было рассказывать. Я соберу братьев, и мы вместе рассмотрим фотографии, сделанные нашими людьми.
— Что означают ваши слова — супербомба?
— Это атомная бомба, о которой нам уже говорили.
— Возможно ли это, мой фюрер?
— Сталин имеет атомную бомбу. Этого можно было ожидать, потому что я окружен неучами и самоуверенными выскочками. Оказывается, у нас не делается совершенно ничего, ты понимаешь — совершенно ничего для того, чтобы не отстать от русских. И если сегодня орудием пламени обзавелись русские евреи, то завтра им будут владеть евреи американские. Ты понимаешь, что это означает для нордической расы? — Гитлер почти кричал, он не мог контролировать голос, который разносился по всей вилле генерала. — А ты мне подсовываешь разглагольствования ламы о трупах в золотых гробах — я не настолько наивен, чтобы принять этого дешевого актера за настоящего тибетского ламу.
— Я никогда не скрывал, что это наш брат, засланный нами в Тибет.
— Оставим это. Поверь мне, что меня сегодня куда более беспокоят дела земные. Бомба существует! Это вызов нашей нордической расе! Это провозвестник безлунной эпохи, которая будет рождать все новых карликов, цыган и негров!
— Я не верю, что тайные и неразрывные связи, которые существуют между вашей, фюрер, судьбой и гигантами прошлого, могут оборваться из-за попытки, даже успешной, русских испугать вас. И вернее всего — бомбы нет.
— Что?
— Это инсценировка бомбы.
— Ты не знаешь, они построили город — настоящий город, они назвали его Берлином. Там были танки, самолеты, и ничего не осталось на километры вокруг.
— Я не верю, — твердо сказал генерал. — Это гипноз.
— Тебе важнее гонцы из Тибета?
— Разумеется, именно в этом судьбы мира и наша судьба. Что может изменить одна бомба в такой великой судьбе? Гиганты ждут пробуждения! Забудь о бомбе, мой фюрер!
Гитлер замолчал.
Затем, не прощаясь, прошел к двери, толкнул ее, безошибочно отыскав в темноте ручку. Пан Теодор прижался к стене, пропуская фюрера. Тот не заметил ламу. Он спустился к машине.
Пошел дождь. Опять стало сумрачно.
Гитлер приказал ехать к себе.
Только в машине он понял, почему столь раздражен своими верными союзниками, которых, как ему казалось, он ранее использовал в той мере, в какой верил или хотел верить в ледяной мир, падающие Луны или Полую Землю. Выслушивая их, он всегда интуитивно чувствовал, с какого момента их заносило и они начинали лгать, чтобы запугать или умилостивить фюрера, потому что, в сущности, были маленькими и зависящими от него людьми. За исключением великого путаника Горбигера, от которого Гитлер унаследовал безусловную веру в интуицию, в озарение как главный движитель истории. Но озарения могли посещать только его самого. Вот и сейчас — ни черта они не поняли в реальности русской бомбы и в угрозе, которая нависла отныне над Третьим рейхом. Трупы в гробах… Если отогнуть обшлага зеленых перчаток, наверняка окажется, что они забыли отодрать этикетку берлинского магазина. А он так хотел поговорить с генералом и, главное, рассказать ему про чудо, случившееся сегодня в рейхсканцелярии, когда он увидел воплощенную Гели Раубал и понял, что именно в этом таится главный мистический смысл — через общение с русской откроется и власть над атомной бомбой. Надо только собрать воедино все данные и выстроить достаточно точную, математически проверенную и интуитивно осознанную теорию. Может быть, в иной ситуации Гитлер с удовольствием позволил бы себе поверить и в золотые трупы, и в гробы с чужими созвездиями… Но не сегодня. Сегодня генерал покинул его и оставил один на один с судьбой.
…Ева Браун вышла встретить Гитлера в холл и смотрела, как адъютант снимает с фюрера плащ.
— У нас никого не будет к ужину? — спросила она.
— Нет, — отрезал фюрер, он не сразу сообразил, кто эта бесцветная и обыкновенная немецкая женщина, почему она встречает его?
Он быстро поднялся к себе и затворился в кабинете.
Следовало принять быстрые решения — самому, потому что именно сейчас и наступил момент перелома мировой судьбы. И не в Тибете, а в Берлине и Москве.
До полуночи Гитлер провел за столом, набрасывая варианты своих и государственных действий на ближайшие дни. Он был против того, чтобы на данном этапе расширять число лиц, видевших фотографии Фишера и записи показаний пилотов и допросов русских. В половине двенадцатого ночи он набрал личный телефон адмирала Канариса и попросил его завтра утром приехать в рейхсканцелярию. Тот был готов к звонку, он ждал его.
Сталин стоял перед раскрытым книжным шкафом, стараясь вспомнить, в какой том Салтыкова-Щедрина была вложена вырезка из «Огонька», которая так понадобилась сейчас. Он не хотел ошибиться, это было бы признанием своей слабости.
Порой Сталин вкладывал в книги нужные, не для чужого глаза, записки или документы, которые не хотел держать в письменном столе или сейфе. С времен подполья он убедился, что надежнее всего тайне лежать не там, где ее ищут. Нет абсолютных замков и засовов. Всегда на крайний случай можно отыскать того, кто сделал замок, и заставить его изготовить еще один ключ.
Даже самые близкие и хитрые не догадывались, что Иосиф Виссарионович на самом деле допускал возможность временного поражения, отступления, ухода в подполье — оппозиция и враждебное окружение были сильны и коварны. И он ни на секунду не сомневался, что в поисках союзников такие подонки, как Бухарин и Тухачевский, завязывали связи с империалистическими разведками. Однажды удалось разоблачить. Еще раз успели схватить за руку. А что будет завтра? Что замыслил Ежов, собравший в ручонках такую власть? У Ежова комплекс махонького человечка, он хочет наполеонствовать. И с бомбой он может стать хозяином всей Земли, правда, если ему удастся ликвидировать лично Сталина. Но мы не дадим ему такой возможности.
Вспомнил! Третий том. Ближе к концу.
Сталин достал книгу и открыл ее сначала на шестнадцатой странице. Все в порядке. Короткий, в сантиметр, отрезок его рыжего, от уса отрезанного волоса был вложен так, что неосторожные пальцы наверняка бы до него дотронулись и сдвинули… Значит, никто книгу не открывал.
Сталин отошел к письменному столу.
Закурил.
…Лет пять назад он вдруг вспомнил о подвале на Лесной улице. Там, под магазином колониальных товаров, некогда скрывали печатный станок. Вечером Сталин приказал отвезти его туда. Он узнал дом. Дом был трехэтажным. На месте магазина располагалась какая-то контора. Он не стал вылезать из машины, а когда вернулся домой, велел Ягоде проверить, что сейчас в подвале. В подвале лежали старые папки и сломанная мебель. Ягода, сообразив уже, почему Сталин спрашивает о подвале, предложил создать в подвале музей — восстановить типографию, спускать в подвал экскурсии молодежи, чтобы та понимала, в каких дьявольски тяжелейших условиях приходилось работать ленинцам. Сталин сказал — нет. Не надо напоминать народу, что мы таились в норах. На самом деле он решил оставить подвал для себя — если придется восстанавливать подпольную типографию для настоящей борьбы, то лучше, чтобы о ней ничего не знали. И может показаться странным, но, когда Ягоду арестовали, Сталин вспомнил о магазине колониальных товаров на Лесной улице и порадовался тому, что теперь не будет свидетеля. Словно Ягоду приказал арестовать не он, а кто-то другой, верховный Судия, охранявший опасное будущее Сталина.
Посторонний никогда бы не догадался, почему та или иная бумажка или фотография удостаивалась чести быть упрятанной в книжный шкаф. Порой и сам Сталин, случайно обнаружив в книге необычную закладку, не сразу мог сообразить, почему она там оказалась.
Но вырезка из «Огонька» к их числу не относилась. Он вынимал ее не раз, он даже захватал пальцами ее правый нижний угол. Это была репродукция с фотографии, на которой был изображен странный профиль немолодого человека, постриженного под бобрик, крутолобого, бровастого — брови были даже преувеличены как бы для удобства карикатуристов. Но еще более преувеличены были усы, моржовые, тяжелые, необычайные.
Сталин положил фотографию на стол. Конечно, он предпочел бы иметь иную, анфас, чтобы встретиться взглядом с Юзефом Пилсудским, маршалом Польши, чтобы встретиться взглядом и не спеша, негромко сказать: «Ну кто из нас победил, пся крев? Как тебе было перед смертью? Говорят, у тебя был рак? Это очень болезненно». Хорошо бы у Пилсудского был рак. И не спасли его ни профессора из Берлина, ни мешки злотых.
Привлекательное в своей преувеличенности лицо польского маршала, начальника государства, посмевшего унизить Сталина и уйти от справедливого возмездия, вдруг ожило и начало поворачиваться к Сталину — видно, тому очень хотелось увидеть глаза маршала, умершего уже несколько лет назад. Но вдруг Сталину стало неприятно и страшно от этого кажущегося движения. Он накрыл портрет ладонью и намеревался было положить его обратно в книгу, как в дверь стукнули — это был стук Поскребышева. И тут же дверь отворилась.
— Можно, Иосиф Виссарионович? — спросил маленький, вкрадчивый Поскребышев.
Рука Сталина сама, без волевого приказа мозга, смяла листок с портретом, пальцы скатали листок в шарик поменьше грецкого ореха, а тем временем Сталин смотрел Поскребышеву в глаза, чтобы тот не мог увидеть, что же делают пальцы вождя.
— Ну что, приехали товарищи с Севера? — спросил Сталин, поднимаясь и пряча бумажный орешек в карман кителя. Не надо Поскребышеву знать, чей портрет рассматривает Иосиф Виссарионович.
— Они ждут, Иосиф Виссарионович, — сказал Поскребышев, стараясь не смотреть на руку Сталина, опустившую в карман смятый в шарик листок бумаги. Тайна этого листка могла заключать в себе сотни тысяч жизней, судьбы городов или государств, а могла быть просто неудавшимся наброском к речи, которую товарищ Сталин готовил к встрече со стахановцами.
Через минуту в кабинет вошли товарищи с Севера.
Сталин считал себя безошибочным физиогномистом и забывал о своих ошибках в определении людей с первого взгляда. Помнил лишь о правильных угадках.
Ежов вошел первым и сделал шажок в сторону, произведя рукой широкий, будто из народного танца, жест, приглашающий остальных заходить в кабинет.
Первым послушался этого жеста Матвей Ипполитович Шавло.
Сталину нетрудно было угадать, что это и есть тот самый физик, потому что остальных — Алмазова и Вревского — он встречал и помнил.
Шавло Сталину не понравился.
Во-первых, преувеличенно высоким ростом, отчего он склонялся к Сталину и вынужден был смотреть на него сверху, а Сталин этого не любил. Во-вторых, фатоватой внешностью — усиками а-ля Гитлер, полубаками, как на вывеске тифлисского парикмахера, вальяжностью манер, напоминающих, как ни странно, графа Алексея Толстого, к которому Сталин относился со снисходительным презрением, полагая, что в постоянном желании угодить граф халтурит и «Хлеб» написал куда слабее, чем другие части своего романа, и получилось, что фигура Сталина обрисована схематично и скучно, как сочинение на заданную, но неинтересную тему. «Наверняка этот Шавло курит трубку, — подумал Сталин. — Но у меня он курить не будет».
— Давно хотел с вами познакомиться, товарищ Шавлов, — сказал Сталин, протягивая руку Матвею и тут же мягко освобождая ее, чтобы поздороваться с чекистами. — Мы внимательно следим за вашей работой.
Сталин прошел на свое место во главе стола, остальные по незаметным экономным жестам Ежова заняли места вдоль стола. Шавло и Алмазов — по правую руку от Сталина, Вревский и Ежов — по левую.
— Я думал, — сказал Сталин, раскрывая пачку папирос и разрывая их, чтобы набить табаком трубку, — собрать также членов Политбюро. Но решил, что эта встреча была бы преждевременной. Работа еще не доведена до успешного конца, и мы вынуждены ограничить круг посвященных в нее самыми надежными и проверенными товарищами.
Сталин замолчал и стал раскуривать трубку, отчего Матвею страшно захотелось закурить, но он понимал, что не может себе этого позволить. Впрочем, судьба, столь прихотливо ведущая его по жизни, должна все изменить. Ведь здесь, в обширном, но притом скромном, почти аскетическом кабинете, есть два великих человека, он и Сталин. И возможно, Сталин еще не понимает, что означает для него самого встреча с Матвеем Шавло. И Сталин еще не знает, что день 18 апреля 1939 года для него не менее важен, чем 7 ноября семнадцатого…
— Пленка узкая, — сказал Ежов, виновато улыбаясь.
— Знаю, — сказал Сталин. — Среди вас не было Эйзенштейна. — Он улыбнулся по-доброму, чуть лукаво и добавил: — Надо было уже лет пять назад направить его вам в консультанты.
Ежов засмеялся высоким голосом.
Как будто ожидавший, когда Ежов отсмеется, вошел низкий сутулый человек с тяжелым обезьяньим лицом, одетый до странного точно как Сталин. Прижимая к груди, он нес проектор.
— Ставьте на стол, — сказал Сталин.
Человек в сталинском френче вытянул из гнезда длинный шнур со штепселем и оглянулся в поисках розетки.
— Выключите настольную лампу, — велел Сталин.
Подчинившись, человек во френче быстро ушел в приемную и мгновенно вернулся в кабинет, неся в руке длинный белый рулон. Он развернул его, рулон оказался экраном, который он повесил на гвоздь, торчавший из стены слева от Сталина. Матя понял, что в этом кабинете такая процедура не внове. Человек во френче стоял в ожидании.
— Товарищ Алмазов умеет обращаться с аппаратом, — быстро сказал Ежов.
Но человек не уходил. Видно, не принято было доверять проектор чужим. Ежов достал из портфеля пленку, намотанную на бобину.
— Вы свободны, — сказал Сталин. — Если товарищи из госбезопасности все умеют делать сами, дадим им попробовать.
Шавло откровенно рассматривал Сталина. Тот оказался темнолицым, рябым и почти седым, и потому смотреть на него было неловко. Как на известную красавицу, которую ты невзначай застал раздетой, в одном халате, с ненакрашенными губами и незамазанными морщинами. Сталин почувствовал его взгляд и, оторвавшись от наблюдения за тем, как готовят к показу проектор, обернулся к Мате и по-кошачьи уперся в него медовыми зрачками, застыло улыбаясь.
— Вы уже, наверное, смотрели этот фильм, товарищ Шавлов, — сказал он, — и вам неинтересно смотреть его снова?
— Интересно или нет, к этому фильму не относится, — ответил Шавло.
— Посмотрим, — сказал Сталин, как бы заранее не соглашаясь.
Сталин склонил голову, и Ежов подхватил это движение, карикатурно склонив свою хорошенькую головку.
— Я хочу заметить, Иосиф Виссарионович, — звонко произнес он. — Мы все, свидетели испытаний, были охвачены радостью и гордостью за нашу страну, которая открывает такие возможности перед человеком.
Сталин приподнял бровь, будто не все понял и хотел переспросить наркома, но передумал и стал раскуривать погасшую трубку.
— Товарищ Алмазов, — произнес он, пыхнув душистым дымом, — закройте шторы, если все готово.
— Все готово, — сказал Алмазов.
Он быстро подошел к окнам и стал одну за другой сдвигать тяжелые шторы. Остальные молча ждали. Каждое погасшее окно было ступенькой к темноте.
В комнате стало почти совсем темно.
Алмазов вернулся к проекционному аппарату.
— Начнем, товарищи? — Голос Сталина прозвучал сам по себе, вне его темного силуэта.
— Поехали, комиссар, — сказал Ежов.
Проектор застрекотал, как швейная машинка. Загорелся экран. Почему-то долго он был ярко-белым, хотя по нему проскакивали какие-то линии и пятна. Затем показался общий план испытательного полигона, как его увидела кинокамера с крыши института.
— Вы видите, — сказал Ежов, — обстановку на полигоне перед началом испытаний.
Шавло видел, как затухает и разгорается красный огонек трубки Сталина.
— Пускай говорит Матвей Ипполитович, — сказал Сталин.
«Он заранее узнал мое имя и запомнил его, — подумал Матя. — По крайней мере он ко мне относится серьезно. — Он представил, как Сталин, мирно попыхивая трубкой, листает его дело. — Чего там только нет — в моем личном деле! Наверное, я бы сам удивился, прочтя какие-то страницы…»
Общий план. Теряющееся в тумане снежное еще поле тундры. Правда, кое-где по нему пошли проплешины, да видны многочисленные колеи, оставленные бестолково гонявшими по тундре машинами и танками. Центром этой картины был небольшой европейский, вернее всего, немецкий городок — издали можно было различить кирху, здание ратуши и две узкие короткие улочки, дома на которых чуть не касались друг друга верхними этажами.
Город был нереален, как декорация сумасшедшего режиссера.
— Мы решили сделать центром испытательного стенда макет части города в натуральную величину, — сказал Шавло.
Он замолк и услышал, как стрекочет проектор и быстро дышит Ежов. Наверное, нарком простужен. Сейчас он откашляется. Ежов глухо, придавленно кашлянул.
— Немецкий город, — с торжеством отличника уточнил Сталин. — Я полагаю, что это не случайно.
— Не по русскому же городу бить, — сказал Ежов и закашлялся.
— Правильное наблюдение, — сказал Сталин. — Продолжайте, академик.
Обращение не польстило — в конце концов, Сталин мог думать, что руководители таких больших проектов всегда академики. У Шавло в шараге работали четыре академика, там были несчитаные профессора и членкоры и один член Британского королевского общества. Все были покорны и ему, и любому охраннику.
В кадре — а оператор повел камеру вбок — показались иные строения, находившиеся в стороне от городка: самолетный ангар, из которого высовывался нос двухмоторной машины, две северные двухэтажные избы, площадка, на которой стояли в ряд несколько танков, ярмарочная карусель…
— Все, что вы здесь видите, — сказал Шавло, — настоящее. Город построен из кирпичей, дома имеют фундаменты, танки и самолеты тоже настоящие.
— Теперь я вижу, — сказал Сталин, — что вы подготовились к испытаниям основательно.
После черной перебивки — видно, оператор менял объектив — они получили возможность разглядеть тот же городок куда ближе — стали видны часы на башенке ратуши. По улице медленно ехала телега, запряженная лошадью. Телега была нагружена и закрыта брезентом. Рядом шагал человек — на расстоянии не разглядишь, как он одет.
— И в вашем городе есть население? — спросил Сталин.
Наступила пауза, потому что Шавло не хотел отвечать на этот вопрос. Он ждал ответа кого-то из чекистов. Ответил Алмазов.
— Эксперимент должен быть исчерпывающим, — сказал он. — Естественно, мы не могли исключить из него живых существ. Нами было отобрано несколько наиболее опасных преступников, приговоренных к высшей мере наказания, товарищ Сталин… А также ряд животных, включая морских свинок, лошадей, собак и мышей.
— И слон! — сказал Вревский. — Настоящий, я видел.
— И слон, и некоторые земноводные, и белый медведь. Но не беспокойтесь, это все старые, списанные из зоопарков звери, — сказал Алмазов.
— Вы говорите, как будто оправдываетесь, — сказал Сталин. — А оправдания здесь неуместны, товарищ Алмазов. Народ не простит нам, если во время грядущей войны мы будем рисковать жизнями простых советских людей только потому, что пожалели нескольких жаб, слона и мерзавцев, заслуженно приговоренных к смерти. Продолжайте, товарищ Шавлов.
Все это время фильм продолжался, давая возможность зрителям подробнее разглядеть детали натюрморта.
Оператор снова сменил объектив на самый широкий, и на экране замер городок среди тундры.
— Сейчас будет, — сказал Алмазов.
— Не молчите, товарищ Шавлов, — потребовал Сталин.
— Взрывное устройство, — сказал Матя, — было установлено нами на высоте двадцати трех метров над землей.
— А как взрывали? — спросил Сталин.
— Одну минутку, — сказал Шавло. — Сейчас нам все покажут.
Пришлось подождать минуту — она была бесконечно длинной. Ежов снова откашлялся.
И вот камера поехала влево — остановилась. В центре кадра оказалась ажурная металлическая вышка, схожая с тригонометрическим знаком. На верхней площадке вышки находилось нечто темное, массивное.
— Похоже на парк культуры, — неожиданно произнес Сталин.
— Почему? — удивился Шавло.
— Потому что там есть карусель и вышка для прыжков с парашютом, — сказал Сталин и хихикнул. И тогда Шавло понял, что Сталин тоже волнуется, что ему передалось нервное напряжение его гостей, которые уже видели и пережили все это.
— На этой вышке установлено наше взрывное устройство, — сказал Шавло, переждав, пока задорно отсмеется Ежов. — Мы вырезали лишние кадры, потому что нам пришлось ждать несколько минут. Через несколько секунд вы, товарищ Сталин, станете одним из первых свидетелей нового, абсолютного оружия!
Матя еле успел договорить, как на том месте, где была вершина вышки, вспыхнул яркий свет — ослепительный даже на экране. Свет этот, почти не тускнея, начал распространяться, и вдруг кадр перекосился, вышка ушла из него…
— Что такое?! — крикнул Сталин.
И быстро ответил Ежов:
— Товарищ Шавло успел перехватить камеру — оператор временно был ослеплен.
— Говнюк, — сказал Сталин.
А тем временем горящее облако начало бешено клубиться, занимая весь экран и порываясь оторваться от земли, умчаться в небеса, унося с собой все, что попало в орбиту его кипения. Этот гигантский шар, размеры которого можно было лишь приблизительно ощутить в сравнении с предметами на Земле, лишь через несколько томительных секунд смог подняться ввысь, соединенный с землей лишь столбом — ножкой круглого, как сморчок, гриба.
— К сожалению, мы находились слишком близко к центру взрыва, — сказал Шавло, стараясь отстраниться от нового переживания тех минут. — Поэтому в кадре не помещается целиком весь взрыв.
— Но на фотографии есть! — почти прокричал Ежов. — Мы вам покажем!
Экран погас.
— Что случилось? — строго спросил Сталин.
— Меняем пленку, — сказал Шавло.
— Надо было больше пленки положить в аппарат, — строго велел Сталин, и никто не стал объяснять, что больше пленки в аппарат не поместится.
Когда экран загорелся вновь, он показал то, что только что было немецким городком.
От него почти ничего не осталось.
Груды кирпича, торчащие из них щупальца арматуры и обломанные зубы нечаянно устоявших углов. Но стены кирхи почему-то почти устояли. Правда, она лишилась колокольни. Ангар полыхал, а из десятка танков остались два — оба перевернуты, как детские игрушки…
Взгляд киноаппарата медленно перетекал от предмета к предмету, и в кабинете Сталина царило молчание, было тихо — даже на маленьком экране, приспособленном на стене над письменным столом, можно было угадать и осознать масштабы смерти, которую несло «взрывное устройство», изготовленное под руководством Полярного института при Наркомате внутренних дел СССР.
Наконец изучение убитого городка прекратилось, экран стал белым, включили свет. Алмазов начал перематывать пленку обратно.
Первым заговорил Сталин.
— Я надеюсь, — произнес он, — что вы, товарищи, знаете, как хранить эту кинопленку. В ваших руках находится один из самых главных секретов двадцатого века.
— Мы отлично понимаем это, Иосиф Виссарионович! — Ежов не мог скрыть торжества. Сталин понял величие их достижений!
— Однако, — видно, Сталин уже пришел в себя, вновь зажег погасшую трубку, — мы, коммунисты, не должны переоценивать свои достижения. Нет ничего опаснее, чем зазнайство. Вы согласны со мной, товарищ Шавлов?
— Разумеется, — сказал Матя. Он ждал совсем иных слов, неизвестно каких, но соответствующих великому моменту его победы.
— Вот именно. Пока что вы провели первое испытание нового оружия, которое показало себя эффективным средством борьбы с вражескими наземными сооружениями. Однако это еще только самый первый шаг. Нам предстоит большая и трудная работа. Скажите, товарищ Шавлов, сколько весит ваше устройство?
— Чуть более двух тонн, — сказал Матя.
— Когда, вы думаете, сможете уменьшить его вес до, скажем, пятисот килограммов?
— Я сомневаюсь, что это вообще сейчас возможно, — сказал Шавло и увидел, как Ежов укоризненно покачивает головой, будто Шавло ведет себя невежливо.
— Вот видите! — сказал Сталин. — Значит, вы не сможете поднять ваше оружие на борт самолета.
— У нас есть самолеты, которые могут поднять две тонны, — сказал Ежов.
— А мы хотели бы, чтобы самолет брал на борт три-четыре бомбы! — вдруг рассердился Сталин. Он поднялся и пошел вдоль стола, продолжая говорить: — Нам нужно воевать, а не в бирюльки играть, товарищ Ежов! Чего вы намерены добиться одной такой бомбой? Две улицы сломать? Не нужна нам такая бомба!
Он указал трубкой Ежову в лицо, и тот зажмурился. Шавло подумал, что этот взрыв негодования не может быть совершенно искренним. Это театр, зрители в котором всерьез принимают угрозу Отелло задушить их голыми руками. И потому он решился.
— Товарищ Сталин, — сказал он. — Эффект применения нашего оружия будет в десять крат большим, если мы сбросим бомбу с самолета. Она у нас находилась слишком близко к земле, и поэтому радиус поражения был невелик.
— Радиус поражения, говорите? — Сталину понравились слова Мати. — Ну хорошо, — продолжал он. — Показывайте, что вы мне еще принесли. Не может быть, чтобы вы ограничились одним этим кинофильмом.
— У нас есть фотографии, Иосиф Виссарионович, — сказал Ежов. — Они сняты на месте взрыва. Желаете поглядеть?
— Ну что ж, посмотрим на ваши фотографии, — сказал Сталин, усаживаясь вновь во главе стола.
Ежов раскрыл свой коричневый, с внешними карманами, скрипящий тугой кожей портфель и вытащил оттуда пакеты с фотографиями. Он улыбался сдержанно и таинственно, словно фея, принесшая Золушке пригласительный билет на бал в Дом Союзов.
Фотографии были большие, глянцевые, и Мате показалось — еще теплые после глянцевателя.
Ежов клал их по очереди перед Сталиным и сам давал пояснения. Можно было лишь подивиться памяти наркома — он сам увидел впервые эти фотографии лишь час с небольшим назад, когда они ждали, как из лаборатории на Лубянке приносили фотографии поштучно, и Шавло объяснял наркому — что же на них изображено. Ежов ставил на обороте карандашом какой-то значок и затем укладывал фотографии в стопку, проводя маленькими ладонями по краям, чтобы стопка была идеально правильной.
Сейчас же он, хорошенький, гладкий, видно, ему суждено на всю жизнь остаться мальчонкой, бросал краткий взгляд на очередную фотографию и давал объяснения высоким юношеским голосом:
— Здесь стояла водокачка. Мы ее сложили из кирпича. Мы покажем вам кирпич, когда принесем вещественные доказательства.
По его знаку Вревский поднялся и пошел к двери. Там должен был стоять капитан госбезопасности с рыжим кожаным чемоданом.
Матя вздрогнул при словах наркома. Вот что приволок сюда Ежов в кожаном чемоданчике! То, что он лазил в самое пекло, — его личное дело. Но он наверняка оттуда притащил какую-нибудь зараженную радиацией дрянь. При чемодане в приемной остался капитан госбезопасности, который не выпускал чемодан от самой шараги. Никому не доверял — как дипкурьер свой портфель с почтой. «Товарищу Нетте — пароходу и человеку…»
Матя всю дорогу инстинктивно старался держаться подальше от чемодана, потому что, когда спросил, что там, Ежов отмахнулся: «Не лезь не в свое дело».
— Товарищ академик нас не слушает, — проник в сознание голос Сталина. — Товарищ академик, наверное, думает о следующих своих открытиях. Это похвально. Но сейчас мы хотели бы выслушать мнение Матвея Ипполитовича о результатах испытаний.
Матя хотел подняться — как в классе, но Сталин остановил его жестом руки с зажатой в ней трубкой. Другой рукой, вялой и вкрадчивой, он разбирал крупные фотографии разрушений, причиненных бомбой, а Ежов, перегнувшись через широкий стол и чуть не оторвав сапожки на высоких каблуках от пола, помогал класть фотографии парами: что было до взрыва и что стало после.
Некоторые строения можно было угадать — ту же кирху. Зато ратуша рассыпалась в горы щебня, и Сталин сказал сердито:
— Раствор пожалели. Раствор надо класть как следует.
— Условия Крайнего Севера, — вмешался Алмазов, и Сталин еще более рассердился:
— Везде есть тяжелые условия, но большевики не ссылаются на трудности. Для этого мы и доверили вам, товарищ Алмазов, ответственный участок работы. А это почему не разрушилось?
Трубка Сталина указывала на сложенный из вековых бревен, привезенный с Пинеги двухэтажный крестьянский дом, — наверное, опустел он, когда раскулачивали хозяина. Дом лишь покосился, но стоял крепко.
— Удивительно, — сказал Ежов. — Совсем близко от центра взрыва, а устоял. Русская работа, Иосиф Виссарионович.
Ежов облизал губы кончиком красного языка — губы были женские, капризные, изогнутые.
— Какая температура была на месте взрыва? — спросил Сталин, обращаясь к Шавло.
— К сожалению, — сказал Шавло, — установить это не удалось.
— Забыли, как всегда, поставить термометры?
— Нет, Иосиф Виссарионович, — обрадовался возможности исправить ошибку Мати Ежов, — термометры расплавились!
— Если расплавились, — сказал Сталин, — значит, надо было поставить другие термометры. Стойкие.
— Разрешите, я вам покажу пример? — Ежов вскочил — готовый бежать, исполнять, четко отстукивать каблуками по кабинету.
Но Ежов никуда не побежал, в дверях показался Вревский с чемоданом. Он понес чемодан к столу, и Сталин чуть отстранился, будто изготовился бежать. И Шавло понял, что у великого человека есть страх перед чемоданами, сумками и прочими возможными вместилищами смерти.
Ежов и Алмазов совместными усилиями поставили чемодан на дальнем конце длинного стола, так что Сталин мог расслабиться. Из верхнего кармана френча Алмазов достал ключик и открыл чемодан. В нем, словно куски домашнего сала, лежали предметы, завернутые в пергамент. Но что за предметы — Шавло не знал, потому что НКВД не информирует гражданских сотрудников о своих намерениях и действиях. Всей шкурой Шавло чувствовал — от чемодана исходит запах грозы.
Ежов вытащил один из свертков и пошел вдоль стола к Сталину, разворачивая его по дороге и улыбаясь, как будто там сейчас окажется слиток золота.
Он прошел за спиной Мати, и тот почувствовал словно ожог — инстинкт самосохранения завопил — беги!
Матя сидел неподвижно, напрягшись и побледнев.
Сталин перевел взгляд с приближающегося Ежова на Матю — он был интуитивен, — что-то его насторожило в физике.
Ежов бухнул перед Сталиным на стол блестящий растекшийся ком — такими иногда бывают золотые самородки.
— Это, Иосиф Виссарионович, — произнес он, — ответ по поводу температуры. Мы вам на память привезли. Убедительней любых слов.
«Они вытащили это из эпицентра, — понимал Матя. — Эта штука и этот чемодан испускают сейчас смертельную радиацию. Я попался между Сциллой и Харибдой…»
Матя спасал себя — и у него не было времени рассуждать.
— Иосиф Виссарионович, — сказал он хрипло. — Простите меня, пожалуйста.
В тот момент он не знал, что скажет дальше, — предупредит ли Сталина об опасности или убежит из кабинета.
И Сталин, не разгадав еще причины столь невежливого поведения ученого, еще более насторожился и готов был уже оттолкнуть от себя блестящий самородок, и Ежов сразу обернулся к Шавло — детские глаза наполнились мгновенной болью и упреком, Алмазов, сидевший рядом, больно наступил на ногу.
И Шавло понял, что выбора нет, потому что он сделал его раньше, еще на испытательном полигоне, когда позволил Ежову отправиться в пекло.
Матя криво улыбнулся. Он был бледен, высокий с залысинами лоб взмок.
— Мне нужно покинуть вас, мне, простите… я, наверное, что-то съел в дороге…
Матя был столь испуган, что и в самом деле боль в животе скрутила его так туго, что он готов был кричать.
И Сталину передалась именно эта боль. И сразу примирила его с неприятным длинным академиком, которого он, правда, еще не сделал академиком…
— Скажите в приемной, — заметил Сталин, кладя маленькую короткопалую руку на блестящую спину радиоактивного самородка. — Вам покажут.
И когда Матя вышел, Сталин добавил:
— В будущем, Николай Иванович, когда будете привозить ко мне несмелых ученых, сначала отводите их в туалет.
Чекисты улыбнулись, понимая шутку и разделяя ее.
— А теперь раскройте мне тайну, что же такое вы мне привезли?
— Это самый обыкновенный кирпич, Иосиф Виссарионович, — сказал Ежов. — Он попал как раз в центр взрыва. Так что вы можете собственными глазами убедиться в том, что температура там была высокая. И товарищ Шавло был прав, когда говорил, что все градусники полопались.
Алмазов тем временем достал из чемодана и передал наркому еще один предмет, который, будучи развернут, оказался большой неровной каплей стали. Затем последовал кусок спекшейся земли.
Сталин внимательно разглядывал каждый из трофеев и откладывал в сторону. Ежов заворачивал их в бумагу, передавал Алмазову, и тот клал их обратно в чемодан.
— Каковы результаты с живыми существами? — спросил Сталин, рассматривая главную, как бы завершающую всю серию фотографию — фотографию великого дымного гриба, поднявшегося до низких облаков.
— В зоне испытаний, — доложил бесстрастно Ежов, — живых существ не обнаружено.
Почувствовав какую-то невнятную заминку в голосе Ежова, Сталин подбодрил его.
— Продолжайте, — сказал он. — Большие дела требуют жертв. Я понимаю ваши чувства.
Он посмотрел на дверь — Шавло пора было бы вернуться. Неужели так прихватило? Или это медвежья болезнь?
— Практически все живые существа, находившиеся в пределах километровой зоны, погибли, многие сгорели без следа. Вот общая картина взрыва. В последовательности.
— А слон? — спросил Сталин.
— Слон погиб, — сказал Алмазов торжественно, будто речь шла о генерале.
Алмазов протянул Сталину последнюю серию фотографий. Не все были удачны, на одной видно, что фотограф припозднился и не успел снять начало взрыва, — над городом уже поднималось темное вулканическое полушарие дыма и огня. Еще одна фотография взрыва получилась неудачной — опустив на секунду аппарат, чтобы посмотреть на площадку, фотограф был ослеплен и хоть попытался сделать снимок, тот получился нечетким и косым. Но Сталин сделал вид, что не обратил внимания на эту неаккуратность. Он понимал, что фотографам было нелегко.
На покрашенной голубой масляной краской стенке туалета был прикреплен фанерный ящичек — из него торчали края листков, нарванных из газет. И на них не хватает пипифакса, вздохнул Матя. Хотя это был туалет для охраны и случайных визитеров — вожди сюда не ходят.
Когда Матя вышел из туалета, лейтенант, который провожал его, сделал шаг в сторону — оказывается, он ждал, почти прислонившись к двери.
«Сейчас он спросит меня, как мое здоровье, предложит лекарство? Как у них положено?» Лейтенант ничего не сказал — он пропустил Матю вперед и шел сзади, шаг в шаг.
«Сколько минут я себе подарил? Наверное, минут пятнадцать, надеюсь, они уже кончили рассматривать вещественные доказательства».
Лейтенант открыл дверь, и Матя остановился в проеме двери. Все обернулись к нему.
Но Шавло смотрел не на людей, он смотрел на излучающие радиацию трофеи Ежова. Керамический самородок все так же лежал перед Сталиным. Рядом — металлическая капля. К ним прибавился ком обожженной земли и изысканно, будто волей искусного кузнеца, изогнутый металлический прут…
Лицо Алмазова было напряжено и враждебно. Ежов, внимание которого лишь на секунду оторвалось от фотографий, поглядел на Матю равнодушно. Но Сталин сразу уловил направление взгляда Шавло — тот смотрел на трофеи, лежавшие перед Сталиным, — и заметил, что физик не захотел возвратиться к своему месту — возле открытого чемодана. Он обошел стол и сел на три стула дальше от Сталина, чем раньше.
— Надеюсь, вас удачно пронесло, товарищ Шавлов? — спросил Сталин, не улыбаясь.
— Спасибо, — смутился не ожидавший грубости Шавло.
— Мы уж устали ждать, — сказал Сталин. И тут же — Алмазову: — Уберите наконец эти осколки!
— Разумеется, — сказал Алмазов, — мы только хотели продемонстрировать.
Он почувствовал недовольство вождя, но не знал, что послужило его причиной.
Вревский, поднявшийся, чтобы помочь Алмазову, который принялся заворачивать образцы в пергаментную бумагу, перехватил взгляд Сталина, обращенный к сверкающей металлической капле размером с небольшое яблоко, и уверенно, хоть и осторожно, словно дрессировщик, протягивающий кусок мяса в клетку непокоренного льва, подвинул каплю к Сталину.
— Возьмите себе на память о большом успехе, — сказал он уверенно, без тени лести или подобострастия.
— Мы еще решим, какой это был успех, — проворчал Сталин, не любивший оставлять последнее слово за другими, даже если был с ними согласен.
Тем не менее он подчинился, может, плененный совершенством линий и блеском этого трофея. Он взял каплю и положил перед собой, придавив ею стопку бумаг.
Ну это еще не так страшно, трусливо убеждал себя Шавло. Всего один слиток, вернее всего, Иосиф Виссарионович передаст его кому-нибудь… Шавло обманывал себя и знал, что обманывает, но сказать сейчас о том, что подарок Вревского излучает смертельные частицы, значило подписать себе смертный приговор. Сталин бы не простил Мате такого запоздалого прозрения. И был бы по-своему прав.
Сталин смотрел на Матю, будто старался прочесть его мысли, казавшиеся ему подозрительными. Но не преуспел в этом либо прочел их неправильно, потому что заговорил вполне миролюбиво.
— Теперь я хотел бы задать нашему новому академику несколько вопросов, — сказал Сталин. — Вы садитесь, товарищ Шавлов, садитесь. И не обижайтесь на старика. Иногда я могу допустить нетактичную шутку, но всегда умею попросить прощения.
Алмазов отнес чемодан к двери, где его подхватил капитан. Матя хвалил себя — какой молодец, мой мальчик, — так мама говорит, — какой молодец, что решился и ушел из этого кабинета. И тут же вспомнил, что этот чертов чемодан летел с ним рядом в самолете — пять часов рядом… «Может, я уже заражен».
— Я умею понимать шутки, товарищ Сталин, — сказал Шавло.
— Вот и молодец. Если бы все академики умели ценить мой юмор, мы бы уже давно построили социалистическое общество, правильно, товарищ Шавлов?
Поправить его или нет? Я же даже не членкор…
— Расскажите мне, товарищ Шавлов, когда будут готовы следующие бомбы?
— Мы ведем сейчас работы над вторым устройством, — ответил Матя. — Я надеюсь, что мы изготовим его к осени.
— Я не ослышался, товарищ академик? — спросил Сталин. — Вы хотите сказать, что намерены полгода бить баклуши, когда наша страна так нуждается в новом оружии?
— Товарищ Сталин, вы, наверное, представляете себе, что работа над атомной бомбой такая же простая, как над обыкновенной?
— Я ничего не представляю. Но зато я отлично знаю, что если оружие уже изобретено и испытано, то его можно поставить на конвейер.
— Но только не атомную бомбу! Изготовление каждой из них — событие экстраординарное.
— Почему?
— Во-первых, у нас не хватит плутония… Во-вторых…
— Ясно. — Сталин поднял руку, обрывая Шавло. — Товарищ академик не хочет спешить. Мы примем это к сведению.
— Я очень хочу.
— Замолчите! — оборвал Шавло Ежов. — Вы только мешаете нам работать. Поверьте мне, товарищ Сталин, я не зря несколько раз посещал испытательный комплекс и внимательно изучил на нем обстановку. Я убежден, что наш академик осторожничает…
Ежов сделал паузу, будто подыскивал уничтожающее слово для Мати. Сталин угадал это и быстро остановил Ежова:
— Товарищ Шавлов боится обмануть наше доверие. Я высоко ценю его осторожность. Но мне бы хотелось соединить ее с энергией и боевитостью наших чекистов, вы меня поняли, товарищ Ежов?
— Я вас отлично понял. Мы даем вам обязательство приготовить до конца года… — Ежов запнулся и бросил взгляд на Алмазова.
— Десять бомб! — громко сказал Алмазов, словно он уже их изготовил.
— Вот видите, — словно передавая эти фантастические бомбы Сталину, протянул к нему ручонки Ежов. — Мы даем слово вождю, что до конца года мы сделаем двадцать атомных бомб!
Шавло постарался сдержать улыбку. Он вдруг понял, что находится на мальчишеской сходке, где они хвастаются перед взрослым бандитом, сколько раз летали на Луну. Или грабили магазин. Не важно…
Чекисты раскраснелись, они были взволнованы и рады возможности совершить подвиг обещания.
— Спасибо, товарищи, — сказал Сталин. — Но учтите, что мы серьезно спросим с вас в случае невыполнения социалистических обещаний.
— Они будут выполнены, — сказал Ежов, и голос его дрогнул.
— Товарищ Сталин… — пытался воззвать к его разуму Шавло.
— Я все понимаю, — сказал Сталин. — Вы должны помнить, что помимо неограниченных ресурсов, которые предоставляет в ваше распоряжение родина, мы даем вам несокрушимое оружие — горячий патриотический энтузиазм советских трудящихся. И потому попрошу вас, товарищ Шавлов, забыть о сомнениях. А вам, товарищ Ежов, надо будет подготовиться к совещанию с командованием Красной Армии. Я думаю, что им пора уже узнать кое-что о наших с вами маленьких секретах.
Шавло надеялся, что Сталин оставит его, выгнав чекистов, оставит, чтобы спросить о том, каковы же на самом деле возможности института. Он же понимает, что мальчики-чекисты просто болтают языками.
Но Сталин этого не сделал. Он поднялся, каждому из гостей пожал руку.
— Мы с вами скоро встретимся, академик, — сказал он. — После того как я приму решение, вам надо будет доложить на Политбюро.
Когда они вышли, капитан с чемоданом увязался за ними.
Матя большими шагами пошел впереди, Ежов и Алмазов, уступая ему в росте, отстали, и это Ежову не понравилось.
— Товарищ Шавло, — окликнул он его, — вам никто не разрешал убегать.
Матя замедлил шаги. Они спустились по лестнице во двор, к машинам.
— Сейчас поедем ко мне, — сказал Ежов. — Нам предстоит серьезный разговор в свете решения товарища Сталина.
Капитан с чемоданом открыл ему дверь в «ЗИС». Алмазов и Шавло сели в «эмку» Алмазова.
— Что с тобой? — спросил Алмазов, как только они остались одни. — Что это за комедия с поносом?
— В самом деле схватило.
— Врешь. Я тебя знаю. Врешь. И Ежов это понял. Ты помни — если нужно, мы не посчитаемся с тем, что ты академик. Мы — государевы псы. А у тебя глотка не жестче, чем у другого. Академиков много…
— Все не так просто, Ян…
— Дурак, — сказал Алмазов. — Бомба уже сделана. Каждый твой шаг зафиксирован, все чертежи и материалы в наших руках. Неужели ты думаешь, что мы не найдем десять академиков, которые будут все делать не хуже тебя, но не станут капризничать при этом.
Матя отвернулся от Алмазова. Алмазов был зловеще прав. И это было отвратительно. Машина проехала Спасские ворота и выкатила на Красную площадь.
— Да, — сказал Алмазов обыкновенным голосом, — я тебя поздравляю.
— С чем? — Матя не смог сразу перестроиться на иной тон.
— С академиком.
— Меня не избирали.
— Значит, изберут.
— Товарищ Сталин пошутил.
— Такими вещами товарищ Сталин никогда не шутит, — возразил Алмазов.
Андрей увидел Альбину через неделю или восемь дней — в конце апреля. Дни после обеда у фюрера прошли тоскливо и медленно. Фишер был занят и почти не появлялся — лишь раза два приезжал с кипами бумаги, расшифровками показаний Андрея, требующими уточнений. Когда Андрей напоминал о том, что хочет увидеть Альбину и узнать наконец, что намерена сделать с ним немецкая военная машина, Фишер отвечал:
— К сожалению, вам никто вразумительно на это не ответит. В России царит полное спокойствие, будто никакой бомбы и не было. Я вам оставлю последние номера «Правды», обратите внимание на заявление Совинформбюро. А что касается встречи с Альбиной, то тут я ничего не решаю. Как вы помните — вас, как ценную военную добычу, поделили две разведки. Вы попали к нам с Шелленбергом. Альбина томится в узах абвера — военной разведки Канариса. Мы и они — несовместимы. Так что терпите, мой друг.
— Но, может быть, мне позволят хотя бы гулять по Берлину?
— Чтобы вас увидел русский агент? Вы думаете, что их здесь мало? И если хоть один заподозрит в вас некоего Андрея Берестова, бежавшего из Берлина в Берлин, я за вашу жизнь не дам и ломаного гроша.
— Даже здесь?
— Тем более здесь. Учтите, Андрей, я говорю вам это со всем сочувствием и симпатией — ваша ценность уже приближается к нулю. Вас высосала наша разведка, вы вряд ли что сможете добавить к тому, что знаете. Наша система, как и все системы мира, направлена не на благо личности, а на благо державы, то есть против личности. Личностью мы всегда готовы пренебречь и пожертвовать ею. Вас выгоднее уничтожить, чем рисковать разоблачением. Сегодня Сталин думает, что его испытание осталось тайной или почти тайной. Стоит ему узнать, что в Берлине сидят по крайней мере пять свидетелей взрыва, из них два беглеца из его системы, как он примет все меры к вашему уничтожению. И моему тоже. Вам это ясно?
Фишер ушел, и Андрей стал читать «Правду». Странное, грустное и сентиментальное настроение овладело им, когда он вчитывался в пустые, в сущности, и родные только нашему соотечественнику сообщения о новых социалистических обязательствах, о переименовании городов, завершении того или иного строительства, о вредных тенденциях в буржуазных науках и отважной борьбе республиканцев в Испании. Там была даже карикатура, изображавшая Геринга и Гитлера, разрезающих на части покойную Чехословакию. Странно было сознавать, что ты знаком с этими уродцами и слышал их голоса, чего никогда не удается художникам Кукрыниксам.
Фишер дал прочесть Андрею заявление Совинформбюро, в котором говорилось, что в некоторых американских и французских органах массовой информации появились домыслы об испытаниях в Советском Союзе нового типа оружия в районе Новой Земли. Каждому разумному человеку понятна абсурдность такого заявления, особенно в адрес государства трудящихся, которое поставило своей целью защиту мира и прав народов во всем мире. Однако Академия наук СССР уполномочена заявить, что в период 4–5 апреля с.г. в областях Полярного Урала и прилежащих районах Карского моря наблюдалась необычно высокая активность полярных сияний, что могло навести некоторых ученых на мысль о причастности советских компетентных органов к этим явлениям. Однако до сих пор полярные сияния проходили без помощи человека и даже независимо от его желаний. «Мы надеемся, что со временем советская наука найдет способы управлять полярными сияниями и использовать их на благо нашей страны. В таком случае мировая общественность будет информирована об этом заранее».
В тоне заявления звучало издевательство — будто формально отрицая взрыв бомбы, всем своим существом, мелодией, настроением документ как бы допускал, что у Советского Союза есть все — и бомба, и управляемые полярные сияния.
На следующий день Фишер заявился снова и на этот раз принес целый пакет вырезок из американских и английских газет и журналов. Там отношение к событиям на Урале было различным, но некоторые ученые — их высказывания Фишер подчеркнул красным карандашом — утверждали о возможности создания атомной бомбы в Советском Союзе и ее успешном испытании. Например, некий венгерский физик Сциллард утверждал в «Нью-Йорк таймс», что сочетание сейсмических данных с данными наблюдений над полярными сияниями и возмущениями в мировой атмосфере указывает на то, что в России произошел большой силы атомный взрыв — в этом нет никакого сомнения. К этому мнению присоединился и Эйнштейн, но Нильс Бор в интервью газете «Данска бладетт» был осторожен, напоминая, что сочетания природных явлений могут ввести в заблуждение физика, который ждет определенных событий, вызванных к жизни людьми. Интервью и статей было много, но, как понял Андрей, никто ничего наверняка так и не знал.
Кроме вырезок, Фишер принес Андрею приглашение.
От Альбины.
Приглашение было вложено в незапечатанный конверт — длинный, голубой и плотный. Без имени адресата.
Внутри был листок плотной бумаги, подобный сложенной вдвое визитной карточке.
«Жду Вас у себя сегодня в четыре часа.
Ваша Альбина».
Андрей протянул листок Фишеру, хотя низенький грузный разведчик отлично был знаком с содержанием послания.
— Что же, — сказал Фишер, — это очень любопытно.
— Почему именно любопытно?
— У меня такое впечатление, что абвер смог предоставить вашей спутнице лучшие условия жизни, чем мы, политическая разведка, — вам, — сказал Фишер. Он вертел в руках конверт, потом даже понюхал его, приблизив к толстым маленьким очкам.
— Вы сделали это открытие сейчас или что-то знали раньше, но не говорили мне?
— Адмирал Канарис не делится с нами своими маленькими секретами, — сказал Фишер.
— А как я туда доберусь? — спросил Андрей, чувствуя, что вопросы заводят его в тупик.
— Это уж не мое дело. Вас пригласили, пускай заботятся.
— А вашей разведке, моим, можно сказать, покровителям, на это наплевать? — поинтересовался Андрей.
— Наша разведка принимает близко к сердцу ваши беды и заботы, товарищ Берестов, — усмехнулся Фишер. — Но порой ей удобнее отойти в сторону и наблюдать за вами… как это говорится, без натуги.
— Спасибо, значит, я не буду оставлен вашими заботами?
— Ни в коем случае!
Вскоре после этого Фишер, так ничего не рассказав, удалился, а Андрей, как всегда скудно и скучно пообедав, переоделся в новый серый дневной костюм. Он полагал, что за ним приедут. Это было в три. Потом он долго стоял у окна, надеясь, что Альбина догадается выпросить для него машину, — он даже не знает, где она живет. А вдруг она надеется на милость Фишера и его компании? А они играют с Андреем, как кошка с мышкой?
…Машина, скромный синий «Опель-Рекорд», остановилась перед воротами особнячка. Из нее вылез мужчина в длинном черном плаще и серой шляпе с прямыми широкими полями, надвинутой слишком низко на уши. Он позвонил, и из особняка вышел ленивый охранник в синем полувоенном костюме. Человек в шляпе показал ему свое удостоверение либо какую-то бумажку, о которой охранник, видимо, знал заранее, потому что он сразу кивнул и вернулся в дом. Человек в шляпе стал медленно прогуливаться по тротуару вдоль решетки особняка. В этом тихом пригородном районе люди редко ходят по улицам — у владельцев особняков, как правило, есть машины, а собаки их гуляют в садиках позади особняков.
Охранник сунул голову в гостиную и сказал по-немецки, что господина Берестова ждут. Андрей с удивлением для самого себя понял, что за три недели общения с немцами незаметно для себя впитал в себя какое-то количество слов и кое-что уже понимает.
Андрей поблагодарил и сразу пошел к двери.
Человек в серой шляпе распахнул перед ним заднюю дверцу машины.
Сам сел спереди, рядом с шофером в фуражке — у немцев, как заметил уже Андрей, была склонность к фуражкам, все носили их, только агенты и тайные люди носили шляпы, что было преувеличением, но близким к истине.
Человек в шляпе ни разу не обернулся и не сказал ни слова, Андрей лишь видел хорошо выбритую шею и часть затылка из-под шляпы. Шофер тоже молчал — все это было похоже на кадры из какого-то иностранного фильма с похищением героя мафией. Зато Андрей имел неспешную возможность смотреть по сторонам. Путь лежал через центр Берлина, деревья уже распустились, хоть листья были невелики, зато нежны цветом, и оттого воздух, наполненный нежарким солнцем, был подчеркнуто чист. Несмотря на дневное время, на улицах у центра было немало прохожих, а в парке, который они проехали, меж еще не оперившихся цветущих кустов были видны няни и мамы с колясками и молодые люди с книгами в руках. Если бы Андрей не знал, что находится сейчас в столице фашистского злобного государства, нацелившегося покорить весь мир, он мог бы с таким же успехом полагать, что судьба забросила его в Копенгаген или какую-нибудь Женеву. Впрочем, эти люди на улицах менее всего намеревались завоевывать мир и, наверное, мечтали, чтобы их оставили в покое гулять с колясками, читать романы или вести бухгалтерские книги.
Андрей помнил по картинкам, хотя жалел сейчас, что так мало интересовался архитектурой, величественное здание германского рейхстага, затем угадал Бранденбургские ворота, кажется, построенные в честь победы над Наполеоном, или это ворота у Белорусского вокзала построены в честь победы?..
Неожиданно машина свернула на боковую улицу, которая была застроена жилыми шести- и семиэтажными домами, и долго ехала по ней, а дома постепенно становились все ниже, а зеленые пространства между ними все шире, потом впереди, между домами, мелькнуло открытое пространство воды, но они не доехали до озера, а повернули на узкую и тихую улицу особняков, как будто, миновав Берлин, вернулись в район, подобный тому, в котором обитал Андрей.
Особняк, возле которого притормозил автомобиль, ожидая, пока откроются ворота, был несколько больше и, главное, отстоял куда дальше от улицы, так что к нему вела не узкая, устланная плитками пешеходная дорожка, а подъездная дорога для автомобилей, и вход не был дверью с медным звонком справа, а подъездом под узким портиком, который поддерживали четыре колонны.
Андрей поднялся по лестнице следом за человеком в серой шляпе, но тот не стал входить в дом, а только подождал, словно опасаясь, что Андрей убежит, пока застекленная дверь в особняк открылась и за ней обнаружился элегантный морской офицер, который на ученическом, почти правильном русском языке пригласил господина Берестова и сообщил, что его ждут.
Альбина сбежала навстречу Андрею по лестнице и сверху уже воскликнула:
— А я у окна стояла, ждала, думала, а вдруг не приедешь!
— Здравствуй, Альбина. — Андрей был искренне рад видеть Альбину, единственную родную душу в этом Берлине.
Она протянула ему руку, он хотел было ее поцеловать, но не решился, потому что не знал, какие здесь порядки, — за ними сейчас наблюдали внимательно несколько человек, как за подопытными кроликами, которых специально запустили в одну клетку, чтобы посмотреть, как они будут себя вести.
В сущности, за последние годы ему так редко удавалось оставаться одному — то есть быть уверенным в том, что никто за тобой не наблюдает…
— Пошли, пошли ко мне наверх! — сказала Альбина. — Гансик, вы свободны, я сама поухаживаю за Андреем, — сказала она морскому офицеру, и тот, не споря, щелкнул каблуками.
Андрей понял, что Альбине удалось поставить себя здесь иначе, чем ему, — если она и пленница, то в позолоченной клетке.
Альбина поднималась наверх первой, и Андрей наконец-то смог разглядеть, что она одета дорого и изысканно, но невызывающе. На ней был брючный домашний костюм из китайской материи, он был свободен, он как бы слегка касался ее тела, ласкал его, но притом давал возможность глазу угадать линии спины, бедер и ног и осознать их легкую изысканность.
Они вошли в гостиную, где стояли два дивана, низкий столик, на котором поместились бутылка вина и два небольших блюда с закусками.
— Я знаю, что ты пообедал, так что считай себя приглашенным на чай, — сказала Альбина, оборачиваясь к Андрею и оказываясь слишком близко от него, так что он невольно сделал движение к ней. Господи, как хороша эта женщина! И это — его грязная, обреченная на смерть, заморенная лагерная жена!
Альбина улыбнулась — он даже улыбки ее еще толком не видел — и отступила на шаг.
— Что будете пить? — спросила она, открывая дверцу бара, встроенного в высокий старинный буфет, который никак не гармонировал с современной обстановкой гостиной.
— А что пьют к чаю в вашем доме? — спросил Андрей, стараясь попасть в тон.
— Коньяк, — заявила уверенно Альбина и, поставив на столик бутылку коньяка, оклеенную черными с золотом этикетками, села на диван и показала Андрею место на другом диване — напротив нее.
Андрей понял, насколько наивны были его надежды на встречу наедине, может, даже в заросшем парке или интимности ресторана… Они сидели на сцене, и вокруг, из-за каждого угла, как из ложи, глядели невидимые, но внимательные зрители.
— Ну и как ты? — спросил Андрей, уже смиряясь с формальностью встречи. — Ты хорошо выглядишь. Красивая. Довольна жизнью?
— Спасибо, а ты? — спросила Альбина.
— Я недоволен жизнью, я плохо выгляжу, я хочу убежать или помереть, — сказал Андрей, почувствовав полное равнодушие к тому, довольны ли его словами новые тюремщики. — Я не знаю, сколько мне здесь сидеть в одиночке.
— Надеюсь, что твоя одиночка комфортабельна? — сказала Альбина, словно стараясь превратить разговор в шутку.
— Вполне. Это отдельная клетка с отдельным входом, отдельной спальней и отдельной ванной, вот только коньяка не дают, хотя, может, потому, что я не просил.
— Лучше, чем в лагере? — серьезно спросила Альбина.
— Не знаю. В лагере я был не один. Там все время были люди, неужели ты не понимаешь?
— Я не люблю людей, — сказала Альбина. — Вернее, я люблю очень немногих людей. Ты — почти такой человек.
Андрей кивнул, но его несколько покоробило то, что его оставили, хоть и допустили к грани, вне круга друзей Альбины.
— А здесь тебе хорошо? — спросил Андрей.
— Ты пей, пей, а если голодный, то я прикажу принести ростбиф. Конечно же, ты голодный!
Альбина привычным — когда она успела так войти в роль! — движением протянула руку к кнопке звонка, которой заканчивался белый провод, лежавший на подлокотнике дивана.
— Я вас слушаю, — донесся голос, словно говорили по телефону, но чуть громче.
— Ростбиф, пожалуйста, и скажи, Герберт, там не осталось жареной картошки с обеда? Той, которую ты так чудесно делаешь.
— Один момент, фрейлейн, — ответил голос.
— Сейчас повар сам принесет, — сказала Альбина.
— За что тебя так полюбил адмирал? — спросил Андрей.
— Во-первых, ты, наверное, забыл, что я была в свое время наложницей начальника строительства — Яна Алмазова. Он убил моего любимого мужа. — Альбина говорила спокойно, вяло, но Андрей понимал, что за этой вялостью есть сила убежденности, непреклонность маленькой христианской мученицы, выходящей на арену Колизея навстречу львам. — Я знаю, как и почему началась вся история с проектом атомной бомбы. Я знаю их всех с тридцать второго года. Семь лет. Теперь ты понимаешь?
— Ты мне раньше не говорила об этом.
— А ты и не спрашивал. А если бы спросил — ничего бы не сказала, зачем подписывать тебе смертный приговор?
— Спасибо.
— Не стоит благодарности.
Постучавшись, вошел очень толстый человек с веселыми свинячьими глазками. Он принес поднос с ростбифом и жареной картошкой для Андрея. К Альбине он обращался почтительно, как к королеве, и робко, как безнадежный поклонник.
— После того как начался проект и я отбыла свой срок, пять лет как чеэсир, он не выпустил меня из зоны, а перевел секретаршей к Мате.
— К кому?
— К директору Полярного института Матвею Шавло, который и стоит за всей этой историей. Я пробыла там еще два года — до тех пор, пока Алмазов не понял, что я могу стать ему по-настоящему опасна. Вот поэтому меня перекинули на новую работу — быть подопытной крысой в городе, который разбомбят.
Андрей поднял бокал с коньяком.
— Крысе от крысы, — сказал он, — мои поздравления. Захватив тебя, они в самом деле приобрели ценнейшего сотрудника.
— Я никому и никогда не была сотрудником, — ответила Альбина. — Но в свое время ты мне сам сказал очень важные слова. За что я тебе или буду всегда благодарна, или возненавижу до конца моей короткой жизни.
— Что же за слова?
Коньяк был душистый и словно густой от запаха.
— Ты напомнил мне, что я обещала посвятить свою жизнь мести Алмазову. И поэтому я должна согласиться улететь с немцами. Ты помнишь?
— Я был прав, — сказал Андрей. — По крайней мере мы живы. И сыты.
Он с удовольствием принялся за картошку — он так соскучился по хорошей жареной картошке!
— И я, пока летела сюда, пока жила здесь, поняла, что ты прав. Но я не могу сама голыми руками расправиться с Яном, и всеми его палачами, и с Матей Шавло, который построил город, и сделал бомбу, и отлично знал притом, что люди погибают на строительстве и будут погибать всегда, пока она существует. И есть люди, ты знаешь, которые хоть и умерли, но ждут моей мести.
Альбина говорила так тихо и почти робко, словно просила прощения за столь решительные мысли. Но за этой робостью Андрей видел лишь непреклонную решимость человека, которому себя уже не жалко.
— Может быть, мне повезло, — сказала она. — И ты был прав…
Она тоже выпила коньяка, не морщась, как воду, равнодушно. Андрей понял, что за пределами своей миссии, своей мании Альбина пуста, почти пуста и равнодушна… И это подтвердилось буквально через несколько минут.
— Простите, госпожа, — сказал голос из репродуктора.
В дверь постучали. Вошел морской офицер.
— Фрейлейн Альбина, — сказал он, — простите, что я прерываю вашу беседу. Но вас просят к телефону — в кабинете.
Альбина кинула взгляд на часы.
— Подожди меня, — сказала она.
Пока Альбины не было — она отсутствовала минут десять, — Андрей управился с ростбифом и картошкой. Ему любопытно было бы поглядеть, как живет его солагерница, но он понимал, что находится под наблюдением, и потому предпочел остаться на диване и выпить еще рюмку коньяка. Теперь ему было приятно, сытно и даже клонило ко сну.
Альбина вошла в комнату, улыбнулась с порога улыбкой старшей сестры.
— Андрюша, — сказала она, — к сожалению, мне придется сегодня с тобой расстаться. Мне надо ехать.
— Опять допросы? — спросил Андрей. — Меня уже оставили в покое. Видно, от каменщика ничего больше не добьешься.
— Какие допросы? — удивилась Альбина. Потом сообразила и грустно улыбнулась. — Нет, у меня свидание, — сказала она.
— Надеюсь, деловое? — спросил, подмигнув, Андрей.
— Не знаю, — сказала Альбина, пожав плечами. — Сомневаюсь…
А так как Андрей смотрел на нее с невысказанным вопросом, она сказала:
— Мы еще увидимся, Андрюша. А пока — прости, мне надо переодеться. Машина ждет внизу, ты ее знаешь. Тебя отвезут домой.
Расставание было слишком холодным и не соответствовало встрече, словно Андрей в чем-то провинился перед Альбиной.
Она протянула ему руку, и даже в пожатии была отстраненность — Альбина думала совсем о другом, Андрей для нее почти перестал существовать. Хотя она и проводила его до лестницы, и стояла, пока он не обернулся от входной двери, и помахала ему — китайский шелк ее костюма соскользнул, обнажив тонкую изящную руку.
Машина ждала у подъезда, и человек в серой шляпе уже заранее открыл дверцу.
Настроение у Андрея было паршивым — все это было театром, призванным продемонстрировать его ничтожество.
Когда машина, увозившая Андрея, отъехала от особняка Альбины, адмирал Канарис, который ввиду важности задания сам находился в пункте прослушивания телефонной связи, сказал своему адъютанту:
— А мне жалко этого парня. Он мне нравится.
— Вы имеете в виду русского пленного? — спросил адъютант.
— Он тоже думает, что он пленный, — сказал Канарис, подивившись нечаянной точности слов адъютанта. И тут же, выкинув из головы Андрея, как лишний элемент общей картины, спросил: — А какую машину фюрер послал за Альбиной?
— Старый «Мерседес», — сказал сотрудник, сидевший за столом в наушниках: к нему стекались сведения от наружного наблюдения, — тот самый, на котором он в тридцать третьем ездил на поклон к Гинденбургу.
— Вы кончали исторический факультет? — спросил Канарис у сотрудника.
— Нет, у меня хорошая память, шеф… машина на подходе.
— Отлично, — сказал Канарис.
На следующий день адмирал Канарис катался верхом с Шелленбергом в Трептов-парке, вдали от подслушивающих ушей Мюллера.
— Фюрер глубоко увлекся русской, — сказал Канарис очевидную истину. Об этом Шелленберг знал и без него.
— Как мы ошиблись при дележе добычи, — сказал молодой собеседник. — Нам достался самый обыкновенный каменщик, а вам не только подруга русского сатрапа, но и новая возлюбленная фюрера. Но существует опасность, на нее мне указывали…
Шелленберг не назвал имени, но Канарис уже догадался, что имеется в виду ревнивый Гиммлер.
— Какая же опасность, мой друг?
— Она русская, славянка. Когда мимолетное увлечение пройдет, она плохо кончит.
— Найдите возможность передать вашему другу, — сказал Канарис, разглядывая легкие кучевые облака, барашками плывущие по теплому небу, — что фюрер полагает фрейлейн Альбину реинкарнацией Гели Раубал, мистическим возрождением его погибшей невесты. Альбина была представлена генералу Гаусгоферу и другим близким к фюреру магам…
— Не может быть!
— Разведка Мюллера опять прошляпила. Ну что от него ожидать…
— И что же?
— Вы хотите бесплатной информации?
— Я буду вашим должником.
— Отлично, бутылка хорошего французского коньяка вас не разорит?
— Так что же сказали маги?
— Они согласились с фюрером. Они полагают, что в появлении ее рядом с фюрером, в чудесном спасении от пламени космической бомбы есть перст судьбы, что именно под влиянием лучей смерти могло произойти такое чудо.
— Если мы будем переносить в область мистики русские бомбы, мы недалеко пойдем.
— Не беспокойтесь. При всем том фюрер стоит обеими ногами на земле и принимает все меры, чтобы противопоставить все, что можно, новой русской угрозе…
Некоторое время они ехали молча. Потом Шелленберг спросил:
— А как она себя ведет?
— Она — безукоризненно.
Канарис не стал рассказывать молодому коллеге об идефикс Альбины — мести Алмазову. Этот фактор может оказаться важным, и тогда лучше, чтобы он остался лишь в памяти адмирала.
Глава 6
Лето 1939 года
Признавая мистический характер своей миссии, фюрер делал это не под влиянием Гаусгофера или Ганса Горбигера, как принято было считать, не потому, что мистики и теософы использовали его в целях доказательства доктрины вечного льда или освобождения Тибета, чтобы вернуть к жизни гигантов прошлых веков или создать новую расу особой мутацией, а наоборот — Гитлер использовал магов для придания своей миссии особого мистического оправдания. Он верил в теории Горбигера и иные, зачастую противоречащие друг другу теории, потому что это входило в систему его собственных взглядов. Полагая себя мессией, призванным навести порядок в мире, он более все же полагался на силу танков, чем на заклинания Посвященных. Но не возражал, когда его окружение или толкователи его действий многократно преувеличивали влияние магов на поступки фюрера. Он и сам был не прочь сыграть роль великого мага, избранного судьбой для вагнеровских мистерий, но для этого ему нужна была подходящая аудитория, желательно доверчивая и в меру наивная. Не было никакого смысла рассуждать о третьей и четвертой Лунах и генетических мутациях перед стотысячными митингами в Нюрнберге или на военных парадах; высокие материи высказывались для узкого круга, и тогда Гитлер, зажигаясь, уже сам не знал, во что же он верит, а где пересказывает читаные и выслушанные речи германских мистиков, которые так старались угадать истинное направление его мыслей.
Порой Гитлер выбирал доверчивого и умиленного слушателя, чтобы порассуждать при нем о том, как человек должен отказаться от ложной дороги ума, а обратиться к интуиции, озарению, ибо лишь через мгновенное предвидение можно продвинуться на следующую ступень эволюции человека. Но стоило ему выйти на трибуну или подойти к микрофону, из всей сложной мистической каши, варившейся в его голове, оставалась лишь воинственно-негативная сторона доктрины, а именно призыв к уничтожению тех по недоразумению родившихся на свет народов, которые мешали чистоте эволюции. Ни в одном его выступлении не найдется и следа золотых гигантов, замороженных в Тибете, или падающих на Землю Лунах. В этом было его сходство со Сталиным. Тот оставлял для широких масс трудящихся заклинания из Марксовых книг, ленинские афоризмы и собственные прибаутки, что все вместе и составляло внешнюю идеологию режима. В действительности его всегда тянуло к шарлатанам и он покровительствовал созданию ВИЭМа, опытам Лепешинской, Богомольца и Лысенко — они были аналогом тибетских гигантов Гитлера. Ум Сталина был трезвее и банальнее гитлеровского в пределах человеческого общения, но страшнее и иррациональнее, когда Сталин оставался наедине с самим собой.
Узкие собрания Посвященных происходили в полутьме затерянных святилищ — фюрер тщательно скрывал их от собственного народа. Он сам не знал, где кончается вера и начинается шарлатанство. Он был схож с ребенком, которому нужны страшные сказки. Гитлер мог на месяцы забыть о существовании своих духовных наставников, потом в пароксизме неуверенности кинуться к ним и, внимая, выкрикивать заклинания или с ученым видом кивать, выслушивая бредни, наивность которых была очевидна малому ребенку и которые были позаимствованы из тех страшилок, которыми пугают друг друга в детской комнате восьмилетние малыши: «И тут в комнату через окно влезла черная рука с окровавленными пальцами!..» В этом месте должен раздаться испуганный визг. Но бородатые дяди и девушки, а то какие-то азиаты с маслеными глазами базарных торговцев вовсе не визжали, они позволяли визжать самому фюреру, который в благодарность за страшные сказки хорошо кормил шахерезад и даже финансировал экспедиции в Тибет.
Но когда дело касалось истинных, его глубинных намерений, его устремлений, то он всегда оказывался на голову выше тех магов, которые полагали себя его учителями и даже покровителями. И на самом деле он верил лишь в себя и свою миссию. В свое право вершить судьбы мира. Как дурной стратег и великолепный тактик, он замечательно пользовался предоставившейся возможностью — случайной трещиной в стене вражеского замка, — чтобы ворваться внутрь. Он был гением интриги, а его учителя-мистики были никуда не годными интриганами. Потому что есть два вида интриги. Один — подсидеть противника, наушничая на него хозяину. Этот вид интриги магам и волшебникам, окружавшим Гитлера, был отлично знаком. Другой вид интриги — великими мастерами которой были Гитлер, Ленин и Сталин — заключался в том, чтобы выждать момент, когда враг отвернется, чтобы всадить ему в спину нож, желательно чужой рукой, чтобы потом отрубить и эту руку. А раз существует различие в понятии интриги, то владеющий интригой высшего уровня не может быть подвластен маленьким интриганам и шарлатанам, даже если они вполне искренни в своих фантазиях.
Великие полководцы, то есть великие злодеи, специальность которых в конечном счете сводится к умерщвлению людей и которые преуспели в уничтожении их в астрономических цифрах, могут внешне поклоняться какому-то богу или пророку, но на самом деле ни один из этих убийц никогда не был религиозен. У них в распоряжении всегда был какой-то эрзац веры — иногда для себя, иногда для внешнего пользования. И эти люди даже склонны время от времени эту языческую причуду менять. Но установленная другими религия их никогда не удовлетворяла. Она — соперник. Она — ограничитель, а великие злодеи — люди без тормозов.
Нет нужды обращаться к истории, но даже первые приходящие на ум убийцы, а самыми крупными и зловещими из них мы можем считать покорителей Вселенной, были безбожниками. Александр Македонский кончил тем, что провозгласил себя богом, чтобы не склоняться к чужим алтарям. Наполеон был настолько равнодушен к религии и презирал ее служителей, что даже не дал папе короновать себя императорской короной, показав ему на его невысокое место в создаваемой заново земной иерархии. Ленин с каким-то деловитым наслаждением выписывал приказы о том, чтоб «расстрелять побольше попов», Сталин также предпочитал видеть в богах себя и взорвал самый большой храм Москвы, не считая сотен поменьше, чтобы он не смел подниматься своей главой выше самого Сталина…
Гитлер не мог быть покорен магам и различного рода мистикам, облепившим его двор, но он, разумеется, искал в жизни смысл, потому что понимал — для чего-то он родился на свет! Но для чего? И отвечал себе той же стандартной фразой, как и Александр Македонский, и Сталин, и Наполеон, — чтобы завоевать мир!
Зачем?
Чтобы навести порядок.
Причем, если к желанию навести порядок примешивается детская или юношеская обида, тогда тиран становится особенно жесток. Ленин не мог простить Романовым и государственной машине России смерть своего террориста-брата. Он догадался, что брат пошел по неправильному пути, надеясь начать с террора и потом создать государство счастливых. Владимир Ильич решил все сделать наоборот: сначала сделать государство счастливых, а потом уже развязать в нем террор. Неизвестно, какой детской обидой или какой завистью питалась ненависть Гитлера к евреям и цыганам, — наверное, этому есть земное и простое объяснение, но эта ненависть, как и у Ленина, придала террору и убийствам особое изуверство.
Альбина осталась ночевать у Адольфа. Она не любила ночевать у него не потому, что ощущала всей шкурой молчаливое неодобрение прислуги и охраны и боялась, что ее отравят, и не потому, что знала, что в этой постели еще недавно спала Ева Браун, а потому, что не желала показываться Адольфу утром, чтобы он видел ее морщины и складки у губ, мятые волосы и мешки под глазами. При всей своей простодушной прозорливости она не догадывалась, что Адольф более всего любил именно эти моменты утренней нежности, когда он мог не только жаждать обладания Альбиной, но и сокрушаться силе бегущего времени, и жалеть Альбину и себя, как отражение в ней, и понимать с горечью, что он потратил впустую слишком много лет и теперь не остается ни сил для настоящей любви, ни времени, чтобы покорить мир.
В ту ночь Альбина проснулась оттого, что Адольф сидел на краю своей постели, будто парализованный. Крупная дрожь била его. Потом он поднял руку, защищаясь от кошмара, и повторял: «Это он, он! Он пришел за мной! Я не звал тебя!»
Альбина затаилась под одеялом — лунный свет падал сквозь открытое окно, и видно было, что волосы Гитлера прилипли ко лбу, по лицу катился крупный пот; потом Гитлер начал произносить цифры, сочетания цифр и отдельных слогов, он говорил быстро, все быстрее, потом повторил убежденно: «Не прячься, выходи!»
Альбина заставила себя подняться и подойти к нему.
— Адольф, — сказала она, — я могу тебе помочь?
Она дотронулась до его щеки, она почувствовала, что именно такая ласка ему нужна. Он прижался к ее ладони мокрой от пота и слез щекой, потом сказал: «Вот и отлично, вот он и ушел».
И удобно улегся в постель, подогнув ноги. Альбина накрыла его одеялом и долго сидела, глядя на его резкий профиль. Дыхание фюрера становилось все ровнее, он спал глубоко и спокойно. Альбина почувствовала к нему нежность, как к любому мужчине, которому отдалась сама, по доброй воле, несмотря на то что эта воля питалась ненавистью к Алмазову и его хозяевам.
— Что тебе приснилось? — спросила она утром. — Ты даже кричал.
— Прости, — сказал Гитлер. Он торопился, подбирал с тарелки овсянку. — Мне приснилось, что я снова на фронте, за мной пришел мой взводный, чтобы позвать меня в атаку, из которой я не вернусь живым… Как странно, я забыл этот сон, а как ты спросила — сразу вспомнил во всех деталях. И я очень испугался… — Гитлер налил себе в чашку кофе и продолжал: — Я тебе должен сказать, что на фронте я был весьма отважным солдатом и сам вызывался в вылазки и в атаку. Странно, почему я так испугался во сне.
— Если ты расскажешь об этом своему генералу Гаусгоферу, он скажет, что тебя посетил дух ледяного мира.
— Ты несерьезно относишься к генералу, — сказал Гитлер. — Хотя тебя можно понять — ты женщина и не совсем хорошо знаешь немецкий язык. Мне даже странно, что ты возродилась не в Германии.
— Я старше твоей Гели, — сказала Альбина. Уже не в первый раз… Гитлер не слышал этих слов и никогда не услышит, для него время существовало в некоей иной плоскости.
— И что ты намерен делать с русскими? — спросила Альбина, глядя на любовника открыто и доверчиво, и Гитлер с умилением подумал, что Альбина никогда не кичится умом, она доверяет ему.
— Я еще не решил, — сказал Гитлер. — Сегодня у меня совещание в Генеральном штабе.
— Я так боюсь, что Сталин решит первым.
— Этого не будет. — Гитлер бросил на стол салфетку и поднялся. — Прости, но я спешу, — добавил он и быстро ушел из комнаты.
В тот же день Альбину навестил сам Рудольф Гесс, ближайший соратник фюрера и в то же время верный ученик генерала Гаусгофера.
Гесс был приятен Альбине — он был всегда вежлив, сдержан и грустен. Альбина предпочитала грустных людей. Все ее возлюбленные были грустными людьми.
Альбина с удовлетворением подумала, что Гесс все же не умнее других мужчин и, зная о ее влиянии на фюрера, полагает, что он сам сможет ею управлять. Ну что ж, пускай он так думает.
— Сверкающая ложа, — сказал Гесс, шагая по гостиной и иногда подходя к окну, как бы проверяя, не подобрался ли кто к дому; но к дому подобраться было невозможно, — полагает, что, прежде чем начинать поход на Польшу, за которой твердо стоят Англия и Франция, фюрер должен достичь соглашения со Сталиным.
— Почему? — спросила Альбина, для которой и название ложи, и даже имена ее членов не были пустым звуком. Еще в мае она попросила верного друга — адмирала Канариса — достать для нее всю литературу по магическим силам Запада и Востока, а также рассказать, что адмирал знает о магах и астрологах, окружающих фюрера. Сказала наивно, как ребенок, который, еще не научившись толком читать, просит купить ему энциклопедию. Нестарый разведчик, единственный, пожалуй, из всех мужчин на свете, догадывался об удивительных способностях и необычном характере Альбины, которая, хоть и могла в мгновение ока избавиться от опеки адмирала, добровольно осталась под его покровительством. Более того, она соглашалась на прогулки в его обществе и рассказывала ему, вдали от чужих ушей, о некоторых новостях и мелочах, подслушанных у фюрера, о которых иным способом адмирал никогда бы не узнал.
Адмирал не только принес ей кипы книг и журналов, но и привел эксперта, которого специально держал для этой цели.
Так что любое слово Гесса, любую его просьбу Альбина знала заранее.
— Наш фюрер, — говорил Гесс, поддерживая с любовницей Гитлера тон доброго товарища, — недооценивает значения этого взрыва, его астрального смысла. Я понимаю, дорогая фрау, что для вас это все темный лес, — в ответ на добрую улыбку Гесса Альбина растерянно голубоглазо улыбнулась, — но можете поверить мне, что достаточно авторитетные ученые, постигшие тайны космических сил, уже высчитали, что этот взрыв — не более как отражение борения льда и пламени, силы нордической расы и скопища грязных мутантов.
— А что теперь делать? — спросила Альбина.
— С нашей стороны было бы безумием сейчас ускорять подготовку к большой войне, чем так всерьез занят фюрер, — ответил Гесс, надвинув на глаза слишком толстые мохнатые брови, — мы не сможем победить чуждый нам космический разум, проявившийся в этой бомбе, без помощи всего арийского мира.
— Но простите, Рудольф, я в самом деле не понимаю…
— Как только мы выступим против Польши, связанные с ней договором Англия и Франция выступят против нас — именно это нужно не только Сталину, но и тем силам зла, которые стоят за ним. Все мировое масонство, все евреи и негры мира ждут только, что мы поддадимся на эту провокацию и попадемся в ловушку. С одной стороны на нас кинется Сталин, с другой — армии наших естественных союзников и по воле зла — врагов-англичан. Мы еще не готовы к такой войне.
— Это ужасно, — искренне сказала Альбина. — Но как я могу помочь вам?
— Не мне. Вы должны помочь мужчине, который увидел в вас свою возлюбленную, вы должны помочь всей белой цивилизации… пока не будет достигнут союз с Англией против Сталина — мы должны ждать. Я уже говорил фюреру, что готов сам полететь в Англию и попытаться договориться с разумными силами там. И это возможно, потому что англичане не менее нас боятся атомной бомбы Сталина.
— Ах, мой милый ангел, он полетит поговорить с Чемберленом. — Канарис развел руками, как бы желая обнять Гесса.
Он приехал к Альбине буквально через несколько минут после того, как машина секретаря партии покинула ее дом.
— А ведь есть и другой путь — не хуже того, что предлагает проанглийская клика, которая перетащила на свою сторону часть этих мистически настроенных бронтозавров, — добиться союза со Сталиным, пускай временного.
— А если Сталин не захочет? — С Канарисом Альбина разговаривала иначе, даже голос звучал жестче. Она и казалась старше — на все свои тридцать шесть. Гесс видел в ней молодую и беззащитную глупышку, которую надеялся использовать, а перед Канарисом сидела средних лет женщина, одержимая жаждой мести и обладающая быстрым и холодным умом.
— Вот именно этот аргумент я высказывал в спорах с Кейтелем и Гальдером, — сказал Канарис. — Генералы стоят за тактический союз со Сталиным, они даже согласны отдать ему половину Польши, но обезопасить тыл. У всех немцев, дорогая, существует с Первой мировой войны ужас перед войной на два фронта. Только, как ты видишь, ужас этот выражается по-разному. Гесс и его сторонники в партии хотят замирить Запад, а генералы — Восток. Но цель одна — разбить их поодиночке.
— А вы? — спросила Альбина.
— Я разделяю точку зрения военных, — сказал Канарис. — Особенно сейчас. Когда у Сталина есть бомба. Зачем лишний риск?
В тот же вечер Альбина долго разговаривала с Адольфом, совсем не о деле и, уж конечно, не о войне — глупом и грязном занятии мужчин. Но Гитлер сам заговорил о своих бедах, не заметив, как умело и незаметно подвела его к этому Альбина. Она сидела перед ним, подогнув ноги на широком диване, в скромном домашнем платье, совсем без грима, такая простая, милая и верная. Когда его предадут или судьба отвернется от него и соратники разбегутся по кустам — Альбина останется рядом.
— Ты не бросишь меня? — спросил Гитлер неожиданно.
— Нет, — ответила Альбина. — А что грозит тебе?
Тогда Гитлер стал рассказывать ей то, что она знала и без него, — о двух вариантах войны, которые разыгрывали придворные клики. Союз с Англией против Востока, который возможен именно сегодня, потому что западный мир уверен в том, что у русских есть бомба, и затаился в неожиданном страхе перед белым русским медведем, или союз с сильным Сталиным и подачка ему в виде Польши или Финляндии, чтобы освободить руки на Западе.
Гитлер не спрашивал совета Альбины — не для этого он сюда приехал. Альбина и не давала советов. Она просто подвела его вопросами и наивными междометиями и сомнениями к третьему варианту. Гитлер не заметил, как тот сформировался в его мозгу.
Но неожиданно он сказал:
— Прости, моя белая фрейлейн, — он так называл ее иногда, в сладкие минуты, отталкиваясь от имени Альбина, — но я сегодня не останусь с тобой.
— Разумеется. Я чувствую, когда великая мысль приходит к тебе, — сказала Альбина настолько серьезно, насколько могут говорить только глупые, но любящие люди.
— Ты знаешь об этом?
— Я чувствую, Адольф.
— Может, ты скажешь ее? — улыбнулся Гитлер.
— Я могу сказать, что чувствую твои мысли, но прости, если в моих устах это будет звучать коряво, неубедительно… я ведь лишь твое маленькое зеркальце.
— Маленькое зеркальце… в этом есть что-то сказочное.
— Я знаю вас, Адольф, ближе, чем многие из мудрецов. Простите, если это звучит самоуверенно.
— Нет, ты права. Я тоже это чувствую. Недаром ты была рождена в пламени всемирного пожара, среди вечных льдов и…
— И упала к вам в руки с неба, — закончила Альбина, улыбнувшись. Она теперь нередко улыбалась, но уголки губ оставались опущенными, и потому от ее улыбки становилось грустно.
— Можно я угадаю ваши мысли? — сказала она.
— Попробуй. Пока что это еще никому не удавалось.
— Вы знаете, что у Сталина есть вторая бомба, она будет готова летом. А третья бомба — осенью. Значит, у вас очень мало времени, чтобы победить его. Пока он не расплодился. Как таракан.
— Я продолжу твою мысль, белый кролик. — Гитлер остановил Альбину жестом узкой руки и заговорил сам, сначала тихо, затем, заводясь, увлекаясь, забыв, что вся-то аудитория состоит из Альбины, начал кричать: — Из-за этой бомбы все мои стратегические планы летят к чертовой матери. Через полгода у Сталина будет пять бомб. К тому времени, когда мы изготовим свою, у него их будет двадцать. А тогда нас уже обгонят американцы! Значит, в моем распоряжении только летние месяцы, чтобы завоевать весь мир. Только одно лето! И я должен идти вперед немедленно! Тут же! Сегодня! Вы меня слышите — вы слышите звуки боевых труб и грохот барабанов?
На следующий день состоялось запланированное еще неделю назад заседание в Генеральном штабе. Гитлер весьма миролюбиво выслушал доклады генералов, связанные с подготовкой выступления против Польши в сентябре 1939 года. После окончания подводившего итоги доклада Кейтеля Гитлер поднялся и, подойдя к карте Европы, занимавшей всю стену, произнес буднично, словно речь шла о поставках шерстяных носков:
— Мы начинаем военные действия против Польши в середине июля, хотя весь мир должен думать, что день «X» — 1 сентября.
После секундной гробовой тишины по залу прокатился невнятный гул возмущенных, испуганных, растерянных голосов.
— Это невозможно! — вырвалось у Кейтеля.
— Судьба не подарила нам больше ни одной минуты, — сказал Гитлер размеренно. — Если вы дадите себе труд задуматься над тем, что происходит в мире, то поймете, от каких факторов зависит наша победа. Так что мое решение, безусловно, не подлежит пересмотру, и завтра в десять я ожидаю к себе начальника Генерального штаба и командующих родами войск. Все планы кампании будут пересмотрены.
Оборвав свою краткую речь, Гитлер быстро покинул зал заседаний, чтобы не отвечать на бурю вопросов и возражений. Через час он вызвал к себе Риббентропа и приказал форсировать зондаж возможностей соглашения с Москвой. Посол в Москве Шуленбург завтра же должен попросить аудиенцию у Молотова и изложить ему вербальную ноту о желательности заключения договора о дружбе и сотрудничестве.
— Любой ценой! — приказал Гитлер. — Если Сталину захочется сожрать Бессарабию — отдайте ему, Финляндию — отдайте, половину Польши — отдайте.
После встречи с фюрером Риббентроп в полной растерянности созвонился с Герингом, который не присутствовал на заседании Генштаба и ничего не знал, тот кинулся к Гитлеру отговаривать его от необдуманного поступка. До вечера Гитлеру пришлось спорить с помощниками и соратниками, которым так трудно приказывать.
В шесть вечера он исчез.
— Он у нее, — сказал Гесс, приехавший в берлогу к Гаусгоферу. — И я подозреваю, что именно эта русская сука…
— Мы не знаем, что управляет судьбами мира, — ответил на это старый генерал Гаусгофер. — Еще вчера ты убеждал меня, что эта женщина на нашей стороне, сегодня говоришь, что предательство исходит из спальни фаворитки.
— Но мы проиграем эту войну! Мы к ней не готовы!
Гитлер был у Альбины. Он объяснял ей свой замысел, как ребенку, щадя ее милую глупую головку:
— Войны выигрываются или силой, или неожиданностью. У нас есть сочетание того и другого. Наша армия отмобилизована и хорошо снаряжена. Русская — лишена командования и отстала на двадцать лет. У поляков не осталось ни одного стратега, они могут соревноваться только с русскими в том, чья кавалерия лучше. Мы не должны дать им возможности опомниться. Пускай Сталин верит в то, что мы пригласим его к обеденному столу. Пускай наденет свой лучший мундир. Пускай спешит нам навстречу, поглощая Прибалтику и Польшу, мне только это и нужно — с растянутыми коммуникациями он еще слабее.
— А англичане? — спросила Альбина, поглаживая руку Гитлера, лежавшую на подлокотнике кресла. Гитлер смотрел на ее нежные, такие белые пальцы. Она все понимает интуитивно, сердцем и любовью.
— Англичане будут обсуждать события в палате общин и потом осудят меня весьма жестоко. Так же поступит и господин Рузвельт в Америке. Но им надо до меня добираться через Францию, а французы слишком эгоистичны, чтобы начать настоящую войну.
— Это так умно, Адольф! Но почему твои генералы не согласны?
— В отличие от меня — они самые простые люди. Банальные и ограниченные исполнители. Они уже привыкли, хоть раньше и сопротивлялись, что я начну вторжение в Польшу в сентябре. Я бы так и сделал, если бы не Сталинская бомба. Но теперь я не могу ждать, пока он изготовит вторую и третью, ты уверена, что вторая на самом деле существует?
— Она будет летом. В институте говорили об этом.
— Когда мои армии будут подходить к Москве и Сталин решится ее использовать, нам с тобой надо будет уехать подальше от Берлина. Сталин постарается кинуть ее именно на Берлин.
— Почему?
— Это так просто, мой кролик! Ведь первый город, который он уничтожил первой бомбой, назывался Берлином.
Альбина не стала напоминать Гитлеру, что идея изготовить для уничтожения Берлин исходила от Ягоды и Сталин сам об этом не знал до последнего момента.
— Тебе не жалко Берлин? — спросила Альбина.
— Наша противовоздушная оборона собьет русский самолет далеко от Берлина… Я останусь сегодня у тебя — мои генералы и партайгеноссен взбеленились, они боятся неожиданностей.
— И маги тоже?
— Счастье мое, — сказал Адольф Гитлер, — искренне я могу сказать только тебе — моя высшая цель для меня еще не открыта. И она откроется на вершине свершений — я не могу получить корону из рук римского папы, которого я не считаю себе ровней.
Альбина кивнула, потому что она поняла, что Гитлер имеет в виду пример Наполеона, но Гитлер не думал, что Альбина могла знать об этом.
— Я допускаю, что и генерал Гаусгофер, и Гурджиев что-то знали и знают, я допускаю, что истину надо искать в том направлении, куда они указывают, но найду истину я сам.
— А они останутся в обозе? — спросила Альбина.
— Да.
— У меня был сегодня Гесс, — сказала она. — От имени магов он просил подействовать на тебя, чтобы ты заключил союз с Англией.
— Ах, какая старая интрига — давить на короля через мадам Помпадур — так звали французскую любовницу короля Людовика какого-то!
— Может, не надо было об этом говорить? Ты расстроен?
— Они будут к тебе приставать, но я не дам тебя в обиду.
— Адольф, пора спать, — сказала Альбина, изображая смешную и чуждую ей строгость. — Ты сегодня устал. А завтра рано вставать.
— Ты — мое сокровище, — сказал Гитлер и с некоторой печалью подумал о том, что Альбина тоже не сможет никогда стать достойной соратницей в великой борьбе, — белый кролик, милый белый кролик, который ничего не смыслит в борьбе титанов…
В течение июня обстановка в мире продолжала нагнетаться. Обыватель с дрожью в пальцах раскрывал сегодняшнюю газету — неопределенность предвоенных месяцев усугубилась взрывом русской бомбы.
До второй половины июня Москва, сделав первое заявление о том, что никакой бомбы нет и она существует лишь в воображении поджигателей войны, затаилась, советские дипломаты были осторожны и молчаливы настолько, что разумные аналитики делали вывод об их полном неведении того, что происходит дома.
Наконец 18 июня последовало новое заявление Совинформбюро.
От имени Советского правительства Совинформбюро сообщало, что в результате беззаветного труда советских ученых и инженеров в СССР создано новое сверхмощное оружие, способное сокрушить любые укрепления и крепости и поразить площадь в несколько квадратных километров, уничтожив дивизию, корпус, а если нужно, то и армию врага. Однако, следуя своей миролюбивой политике, Советское правительство предлагает всем странам Европы заключить договор о коллективной безопасности, в ином случае все последствия за возможное развязывание войны агрессор испытает на себе.
Из заявления неясно было, кто же подразумевается под агрессором и кому угрожает русская нота. Но ответные шаги, которые и до того подготавливались в европейских столицах, не заставили себя ждать.
Уже до того немецкий посол в Москве имел две беседы с наркоминделом Молотовым, а советского посла Деканозова видели в ведомстве Риббентропа. Так что для участников событий быстрая реакция Берлина на заявление Совинформбюро была лишь фикцией для внешнего пользования — переговоры о создании союза велись вторую неделю. Зато реакция Англии и Франции была куда более тесно связана с заявлением. Чемберлен предупредил правительство Гитлера, что любые его новые агрессивные действия против европейских соседей, и в первую очередь против Польши, будут рассматриваться как военный вызов Великобритании и та оставляет за собой право принять решительные меры. Прочтя ноту Чемберлена и подождав, пока закроется дверь за английским послом, Гитлер сказал стоявшему рядом Риббентропу:
— Чемберлен недолго протянет. Его кабинет падет на днях.
Вечером Гитлер рассказал Альбине о ноте Англии и очередном визите посла Деканозова. Альбина разливала китайский чай по тонким, купленным ею на аукционе чашечкам. Она промолчала.
— Ты почему молчишь? — спросил Гитлер. — Ты не согласна с твоим рыцарем?
— Мой рыцарь медлит, — ответила Альбина, робко улыбнувшись. — Я боюсь, что они успеют сделать новую бомбу. И тогда…
— Что тогда?
— Я хотела бы, чтобы ты наказал тех дурных людей, которые причинили мне столько горя.
— Я обещал тебе, кролик, — сказал Гитлер. — Быстротой моих действий будут поражены даже мои собственные генералы.
Решение Генерального штаба Германии начать наступление против Польши не позднее 1 сентября 1939 года было доведено до сведения командующих соединениями и высших военных чинов рейха в расчете на то, что среди них найдется некто, готовый передать эти сведения за рубеж. А на случай, если изменников среди сановников империи не найдется, эта информация была пропущена через германские посольства.
Разумеется, эти сведения, вплоть до протоколов заседания Генерального штаба, оказались на столах противников Германии на следующий день. Оснований сомневаться в их подлинности не было.
Через два дня из Рима примчался министр иностранных дел, зять Муссолини — Чиано. От имени дуче он умолял Риббентропа не спешить с началом войны, к которой Италия еще не готова. Гитлер отказался принять Чиано, а Риббентроп холодно произнес, расставаясь:
— Передайте господину Муссолини, что Германия обойдется без его помощи.
Когда Гитлер узнал, что напугал сентябрьской датой даже своих ближайших союзников, он был доволен. Настолько, что вечером после долгого перерыва собрал у себя магов и астрологов во главе с генералом Гаусгофером. Вместо поддержки Посвященные принялись талдычить, что, по расчету астрологов, начинать войну 1 сентября было слишком рано — звезды еще не пришли в нужное положение. Гитлер, который намеревался было поделиться с Посвященными своими истинными планами, вдруг понял, что эти люди испуганы и, наверное, среди них есть и подкупленные врагами.
20 июня Сталин в принципе согласился на переговоры о мирном договоре с Германией, и Молотов отправился в Берлин. Визит был плодотворным, решено было продолжить переговоры в июле. Гитлер дал понять Сталину, что согласен на передел Европы, если тот гарантирует неприкосновенность немецких тылов.
— Они попались! — торжествовал Гитлер, расхаживая по гостиной Альбины. — Твой грузин схватился за медный пятак, думая, что испугал меня своей бомбой. Так что золотую монетку мы оставим себе…
Гитлер замолчал, вспоминая куда более удачное высказывание о Сталине, которое он повторял так недавно перед Евой Браун. Конечно же, более удачное… надо записывать. Стареешь, и надо записывать.
— У него базарная психология! — воскликнул он торжествующе.
Уставший от компромиссов и ощущавший уже свою ненужность, посол Англии Гендерсон попытался еще раз предупредить Гитлера. Гитлер не отказался его принять, он принимал в те дни многих с одной целью — внести полный разброд и сумятицу в станы противников, включая и союзников, которые порой были опаснее противников. Гитлер неожиданно отвел посла за локоть к окну, за которым ждал своей участи притихший в те летние дни Берлин, и сказал на ухо:
— Мне пятьдесят лет, мой друг. Я хочу начать войну сегодня. Я не могу ждать, пока мне исполнится шестьдесят, как Сталину. Или семьдесят, как вашему премьеру. Я пока еще годен, они — вчерашний день.
— Боже мой! — вырвалось у посла. — При чем тут возраст, господин Гитлер? Речь идет о миллионах жизней!
— Именно о них я и пекусь, — отрезал Гитлер, сменив тон, — и Англия хорошо сделает, если уяснит, что я, как бывший фронтовик, знаю войну куда лучше, чем все ее политики, вместе взятые. Я знаю, как выигрываются и проигрываются войны. Неужели не ясно, что Первая мировая война не была бы проиграна, если бы канцлером Германии был я?
Посол решил вызвать фюрера на откровенность. Тот был в нервном, почти истерическом состоянии и мог сказать больше, чем хотел.
— Существует слух, основанный на данных из достоверных обычно источников, что вы намерены начать войну против Польши в сентябре.
— Я тоже слышал об этом. — Гитлер, словно гипнотизируя, уставился в глаза послу. — С точки зрения Генерального штаба, этот срок малореален — генералы считают, что мы не успеем отмобилизовать нужные резервы и подтянуть механизированные силы к границам противника. Но я бы пренебрег мнением генералов. Они мыслят понятиями начала века. Я же начинаю не Первую мировую войну, а вторую.
— Мировую? — спросил Гендерсон.
— А это уже зависит от вас.
Гендерсон сообщил в Лондон, что в доверительной беседе фюрер дал понять: генералитет рейха выступает против даты 1 сентября как начала войны. Но Гитлер постарается переломить генералов.
25 июня Риббентроп, тайно прибыв на свидание с Молотовым в Минск, о чем западные разведки узнали с прискорбным опозданием, подписал там договор о намерениях — Советский Союз соглашался подписать пакт о нейтралитете при следующих условиях: «В случае территориально-политических изменений в областях, принадлежащих балтийским государствам — Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, а также Польше, северная граница Литвы, а также линия рек Нарев, Висла и Сан образуют границу между сферами интересов Германии и СССР».
Официальное подписание договора о нейтралитете со всеми его секретными статьями было назначено на 12 июля — следовало с помощью экспертов уточнить позиции обеих сторон. Этот срок устраивал Гитлера.
Не сразу, но умело была организована утечка информации, касающейся и этих договоренностей.
Теперь Гитлеру оставался пустяк — сломить сопротивление высшего командования вермахта.
Матя побывал в Москве в начале июня, он надеялся, что сможет задержаться на этот раз на несколько дней, потому что его вызвали на Политбюро. Должен был поехать и Алмазов, но ему в те дни стало хуже — Матя уже не сомневался, что у Алмазова атомная болезнь, названия которой еще не было придумано. Он уверился в этом еще в мае, когда ухудшилось одновременно здоровье не только Алмазова, но и тех, кому пришлось работать на развалинах Берлина, разбирать их, проводить там анализы. Некоторые из этих людей, в частности капитаны из медицинского центра НКВД, которые отбирали людей и зверей для того, чтобы убить их на полигоне, оказались одними из первых жертв этой болезни. Алмазов, который и сам понял, что заразился, но старался утешить себя, что если он будет держаться подальше от развалин, то его могучий организм справится с болезнью, наконец-то понял, что в Испытлаге должны быть настоящие медики.
Для свезенных со всех лагерей Севера врачей выделили большие бараки сразу за Полярным институтом, там же для них устроили и первые лаборатории — Александров передал туда оборудование. Эти врачи были в полном неведении касательно того, что представляла собой болезнь, первые жертвы которой погибали у них на глазах. Шавло догадался, что следует привлечь рентгенологов, — они имеют дело с подобными излучениями. В Москве и Ленинграде ночью были взяты и самолетами отправлены в Ножовку несколько крупнейших рентгенологов страны, чего, впрочем, медицина, и без того обкраденная лагерями, и не заметила. «Если начали брать рентгенологов, то завтра устроят заговор педиатров», — сказал тогда профессор Синько и тут же получил пять лет «за вражескую агитацию». К счастью для него, он был педиатром и в Испытлаг не попал.
В мае заработали сразу два счетчика Гейгера — их показаниям не хотелось верить, потому что оказалось, что и сам Полярный институт, и бараки, в которых жила охрана, и склады, и многие из вспомогательных предприятий и заводов находятся в опасной для людей зоне. Рентгенологи эту опасность пытались измерить и ставили опыты на животных. Впрочем, в их распоряжении оказалось много человеческого материала. И чем хуже становилось комиссару НКВД 2-го ранга Алмазову, который полосами облысел, у которого возникали страшные головные боли и пошли нарывами подмышки и пах, тем отчаяннее свозили в Ножовку лучших врачей страны. Никто бы не мог измерить степень его ненависти к Мате Шавло, который оставался здоровым, хоть и был в городе сразу после взрыва. Но ведь при первой возможности смылся! И больше в город ни ногой! Значит, он чуял, понимал, но скрывал от Алмазова, мечтая, чтобы тот погиб в мучениях.
— Голубчик, — сказал Алмазов хрипло (он простудился, ослабленный организм готов был поддаться любой инфекции), когда Матя пришел попрощаться перед отъездом в Москву, где собирался отчитаться на Политбюро и получить награду, — без тебя я на тот свет не уеду. Можешь мне поверить.
— Ты выкарабкаешься, — убежденно сказал Матя, — я тебя знаю — ты выкарабкаешься.
— Ладно, — отмахнулся Алмазов. Он не допускал мысли о своей смерти и потому продолжал командовать Испытлагом, скрывая истинное самочувствие от начальников.
Не появлялся на люди и Ежов. Не был снят, не был расстрелян — об этом узнали бы хотя бы в Испытлаге. Но были сведения, что болеет. Матя подозревал, что знает его болезнь, — в этом была какая-то дьявольская справедливость: породившие бомбу для уничтожения людей стали ее первыми жертвами. Себя к этим жертвам Матя не относил, да и чувствовал себя нормально — лишь обрюзг, пополнел и много пил. Как-то в разговоре со стариком Иоффе он спросил, как оградить себя от ядерных излучений. Старик, который с излучениями был знаком лишь теоретически, проворчал: «Пить надо больше. И желательно спирт». Матя почему-то поверил старику. И пил. Чтобы не заболеть и чтобы вечерами ни о чем не думать. Выхода он не видел.
Ну, не будет Алмазова и Ежова — его покровителей и тюремщиков. На их место придут другие — хуже, чужие. Алмазов — при всей взаимной ненависти — спутник многих лет жизни, сам палач и сам жертва. А кем ты будешь, Матя, для следующего наркома или начальника Испытлага? Будущим нобелевским лауреатом или зэком, годным лишь на списание, потому что и на самом деле теперь, когда главное сделано, можно обойтись и без Шавло.
В Москву Шавло поехал один.
Его встретил Вревский, как всегда подтянутый, рот — ниточка, тяжелые скулы, волосы — седеющим ежиком. Он мог бы стать «железным» наркомом, но никогда не станет — в тайных папках лежит его неладная для наркома биография, к тому же с университетской скамьи в него впитан дух преклонения перед законом. Он нарушал его дух — как не нарушишь, если ты замнаркомвнудел, — но всегда соблюдал букву. В нем не было склонности к авантюре.
Вревский сказал, что заседание Политбюро назначено на завтра, а сегодня Матю ждут у престарелого президента Академии наук ботаника Комарова. Вревский сопровождал Шавло и вошел с ним в кабинет, как будто боялся, что старик обидит Матю.
Комаров опешил, увидев чекиста в таких высоких чинах, он решил, что его посетил сам «железный» нарком. Смутившись, он забыл, что надо говорить в таких случаях, впрочем, подобного случая у него еще не было. Он протянул Мате папку — диплом действительного члена Академии наук СССР и потом, после паузы, косясь на Вревского, сказал:
— Мы рады выполнить личную просьбу товарища Сталина. — Тут же понял, что сказал не то, и исправился: — Признавая значительный вклад в науку профессора Шавло Матвея Ипполитовича, от имени президиума я приношу свои поздравления, вот именно…
Опять наступила пауза. Можно было уходить. Мечта идиота сбылась.
Матя чувствовал себя оплеванным. «А ты чего хотел? Колонный зал сверкает огнями? Актовый зал Московского университета? Что вас не устраивает, академик?»
Комаров откашлялся и вдруг спросил:
— Вот именно, разумеется, я хотел воспользоваться присутствием товарища командира. Ряд крупных ученых нашей страны находится в распоряжении товарища Шавло, вы знаете?
Вревский кивнул.
— Но это наносит непоправимый ущерб нашей науке. Я прошу вас как можно скорее вернуть их. Я могу подготовить список.
— Ученые работают. Они сделали большое дело, — сказал Вревский. — Вы только что сами высоко оценили их работу. — Вревский указал на папку в руках Шавло. — Как только наша родина будет в безопасности, как только исчезнет угроза войны, они, разумеется, будут вознаграждены и вернутся домой. А сейчас считайте, что они в командировке.
— Разумеется, — сказал академик, — в командировке, но им не дают переписываться, словно они в тюрьме. Хотя бы отпускайте их в отпуск, в конце концов!
— Какой, к черту, отпуск! — взорвался тут Матя. — Разве вы не понимаете, что по крайней мере половину из них я вытаскивал из лагерей, я спас им жизнь, а вы смеете меня упрекать! Они бы давно сгнили!
— Матвей Ипполитович, Матвей Ипполитович, — укоризненно остановил его Вревский. — Так нельзя. Никто из настоящих ученых не гниет у нас в темницах.
— Вот именно. — Мате было стыдно перед стариком, у которого слезились глаза, ему ведь было так трудно просить.
— Можно сделать так, — сказал Вревский. — Если кто-то из членов семей некоторых ученых — тех, кто мобилизован, но не осужден, — захочет поехать на Север и жить вместе с мужем или отцом в Полярном институте, мы благожелательно рассмотрим эти просьбы.
Матя готов был материться! Он же тысячу раз просил, убеждал непреклонного Алмазова допустить до академиков их жен, тогда и они не будут чувствовать себя в тюрьме, но Алмазов жалел каждую копейку, торопясь сделать бомбу и только бомбу, и не понимал, что довольный ученый работает втрое лучше подневольного, — этого он не понимал. Он спешил сделать бомбу и помереть от ее сверкающих лучей!
Конечно же, Матвей не сказал этого. А президент Академии был искренне благодарен чекисту — на прощание он пожал ему руку и начисто забыл попрощаться с Шавло.
— Черт с ним, — сказал Матя, когда они спускались вниз.
— Вы не правы, — рассудительно заметил Вревский. — Я глубоко уважаю академика Комарова, и в его положении совершенно естественно заботиться о судьбах ученых.
— Вам хорошо решать, а когда я просил об этом — кто меня слышал?
Вревский не стал спорить — они должны были посетить первого заместителя наркомвнудел Лаврентия Павловича Берию, который займет место Ежова, выздоровеет тот или нет. Ежов должен будет ответить за преступления… впрочем, сегодня никто не может сказать, что будет с Ежовым. События разворачиваются столь быстро, что даже самый тупой из чекистов понимает, что лучше не высовываться.
Аудиенция у Берии была краткой, будущий нарком спешил. Он был любезен, маленькие стекляшки пенсне были расположены так, что вместо глаз ты все время видел какой-то неверный отблеск, лицо его было покрыто гладким сытым подкожным жирком жуира и распутника. В то же время от него исходила сила злодейства, которой не чувствовалось в махонькой куколке — Ежове.
Берия поздравил Шавло с выборами в академики и заметил с краткой улыбкой, что и сам надеется когда-нибудь удостоиться такой же чести. Он был серьезен — и когда поздравлял, и когда высказывал свои надежды. Затем они вкратце переговорили о нуждах строительства. Берия сказал, что сам прилетит в Ножовку на той неделе, чтобы ознакомиться с делами на месте, — международная обстановка усложнилась, и придется кинуть все силы на то, чтобы произвести хотя бы пять или шесть таких бомб.
— К сожалению, — сказал Матя, — это пока выше наших возможностей.
— Вы забываете, что мы с вами коммунисты, — сказал Берия, с тяжелым, будто пародийным на Сталина, грузинским акцентом. — И для нас нет невозможного. Если вам нужен миллион человек, я вам дам миллион человек, а если миллион долларов, я вам дам сто тысяч долларов. — И Берия искренне засмеялся своей шутке. Что ж, пришло следующее поколение власти.
Берия спросил, не останется ли Шавло у него отобедать. Но вопрос был задан так, что ставший крайне чутким к полутонам и недомолвкам Матя понял, что Берия отдает дань вежливости, и сказал, что устал с дороги и ему надо привести себя в порядок.
— Тогда до завтра, — сказал Берия. — Надеюсь, что мы с вами сработаемся.
Вревский отвез Матю в закрытую гостиницу НКВД. Правда, по дороге согласился поездить с ним немного по Москве.
— Я вас понимаю, — сказал он, — я сам так редко бываю среди нормальных людей.
В Москве было много новых зданий. Тверская, теперь улица Горького, стала широкой, пока еще полуразрушенной, но в будущем парижской улицей. Исчез, правда, Страстной монастырь.
Когда вечером Матя, выспавшись и изучив на досуге диплом академика («Все же я в десять раз более заслуженный академик, чем эти ничтожные бухгалтеры клинописи или счетчики генов у мушек-дрозофил»), хотел выйти погулять в леске, окружавшем гостиницу, за ним увязался тягач — у него теперь, наверное, до конца жизни будет тягач. Тягач был в штатском, но дородный, в заслуженных чинах.
Они погуляли по небольшому парку, окружавшему особняк, и Мате вдруг показалось, что он снова в Узком, откуда и началась вся эта история. Внизу заблестел под вечерним солнцем пруд, и Матя резко повернул обратно в гостиницу. Есть вещи, о которых лучше не вспоминать.
На следующий день Матю повезли в Кремль.
Там, в большом кабинете Сталина, он увидел вождей страны. Вожди были знакомы по портретам и потому должны были быть крупнее и значительнее. Они оказались мелки и обыкновенны.
Члены Политбюро мушиным роем толклись неподалеку от двери — как будто нечто запрещало им приблизиться к столу, за которым они будут заседать, а уж тем более к месту, которое занимал Сталин. Так как Матя уже бывал в этом кабинете, он знал место, которое занимал за длинным столом Сталин. Там же в кабинете поглубже стоял и рабочий стол вождя. Матя сделал несколько шагов вдоль длинного стола заседаний, чтобы получше присмотреться к столу, за которым решаются судьбы мира.
Там лежали какие-то бумаги, журнал «30 дней», в углу, стопкой, книги и поверх них слева — настольная лампа под зеленым стеклянным абажуром, какие изготовляют, видно, с начала века, — такую и сегодня можно купить в «Мосторге». Но внимание Мати привлек блестящий предмет, лежавший на столе вместо пресса: стопка бумаг была придавлена стальной каплей от парашютной вышки — из эпицентра взрыва.
Матя невольно попятился, и, неправильно поняв его движение, Микоян сказал:
— Не стесняйтесь, академик, здесь нет тайн.
Но Матя понял, что хочет уйти из этого кабинета как можно скорее, — тот же ужас, какой преследовал его в первый визит в этот кабинет, охватил Матю. Идиот, подумал он о великом вожде, неужели он ничего не чувствует? Это же опаснее, чем ежедневно жрать мышьяк!
Вожди здоровались по очереди, бритый здоровяк — кажется, его фамилия Хрущев (Матя не ко всем переменам в Политбюро успел привыкнуть) — показал в улыбке несколько золотых зубов и спросил добродушно:
— Как у вас там летом, можно теплицы устроить?
— Теплицы? — Матя был удивлен.
— Мы устроим, — сказал Берия, опекавший Матю и не отпускавший ни на шаг.
Наркомвоенмор Ворошилов был недоволен этим и не скрывал своих намерений. Он сказал Мате, не глядя на Берию:
— Мы готовим документы о передаче ваших объектов в наркомат вооружений. Так что готовьтесь к военной дисциплине.
Берия улыбнулся и ответил за Матю:
— Мы еще посмотрим, в каком наркомате нам удобнее работать: в том ли, в котором мы за шесть лет создали оружие, или в том, где за двадцать лет ни хрена не смогли сделать.
Вышел маленький человек в полувоенной одежде — секретарь Сталина Поскребышев — и сказал, что Политбюро не состоится, ввиду того что товарищ Сталин сейчас занят.
Где, как, почему — этого не положено было знать даже самым близким его соратникам.
Пока собравшиеся в некоторой растерянности переваривали эту информацию, вперед выступил похожий на доброго козлика президент СССР Калинин. Он спросил у секретаря Сталина:
— А как же награждение?
— Награждение проведите сейчас, — сказал тот и остался стоять в дверях, ожидая, что Калинин выполнит это указание.
Калинин взял со стола коробку и небольшую книжку в темном кожаном переплете.
— Дорогой товарищ Шавло, — сказал он, направляясь к Мате и держа перед собой коробку и книжку, как ключи от сдаваемого врагу города.
Он открыл коробку — там лежал орден Ленина.
У Мати дрогнуло сердце. Он не ожидал такого сладкого сюрприза.
Он сделал шаг навстречу Калинину, а тот обернулся и растерянно спросил:
— А как же? У него нет петлицы? Может быть, у кого-нибудь найдутся ножницы, чтобы… ах, впрочем, что я говорю.
Тут все стали смеяться, потому что каждый мог представить себе, как президент Калинин продырявливает ножницами пиджак академика.
— Ладно уж, возьмите так, сами делайте дырки, — сказал Калинин, передавая коробочку и орденскую книжку, а затем вынул из кармана чистый белый платочек, чтобы вытереть слезящиеся от смеха глаза.
Матя думал, что Политбюро перенесут на следующий день и надо будет ждать, но Берия сказал ему, чтобы возвращался в Ножовку:
— В Ножовке вы нужнее. Тут они обойдутся без вас.
На следующей неделе произошло два события.
Ежов был освобожден от должности наркомвнудел и переведен на должность наркома речного транспорта, а на его место назначен Берия.
Еще через два дня нарком Берия, никого не предупредив, прилетел в Ножовку на военно-транспортном самолете.
Шифровка была получена за два часа до прилета, и Алмазов просто физически не смог собраться, чтобы выйти встретить нового шефа. Его с утра так рвало и была такая температура, что подняться с постели он не смог.
Берию встречали Матя и заместитель Алмазова старший майор Павловский. С Берией прилетел Вревский, которого он оставил на старой должности и который, возможно, был вовсе не выдвиженцем Ежова, а ставленником Берии, впрочем, кому это сейчас важно?
Матя провез Берию в управление по недавно покрытой металлической сеткой дороге, которая огибала полигон на безопасном расстоянии.
Берии было любопытно, и он спросил:
— А зачем едем вокруг?
— Город до сих пор излучает вредные вещества, — честно сказал Матя.
— Почему я об этом не знал? — спросил Берия. Он сразу подобрался, стал упругим и даже жестким.
— Мы сами не знали, когда был взрыв, — сказал Матя. — Но потом начались случаи лучевой болезни — так мы называем поражение…
— Лучами смерти, — подсказал Берия.
— Лучами смерти, — согласился Матя.
— А откуда они исходят? — спросил Берия через минуту — у него четко работала голова. — Если взрыва уже нет? Откуда?
— Если говорить упрощенно, то процесс взрыва продолжается. При взрыве образуются различные вещества, которые распадаются и излучают, — сказал Матя.
— И надолго это?
— Период излучения зависит от периода распада вещества. Излучая, оно постепенно превращается в другое вещество, безопасное.
— И вы не знали об этом раньше?
— Были теоретические разработки… но вы поймите нас, Лаврентий Павлович. — Шавло старался, чтобы его голос звучал убедительно, ему самому уже казалось под взглядом глазок наркома, что он лжет. — Нам было не до излучений. Мы делали первую в мире бомбу. И пока она не взорвалась, мы могли только догадываться.
— Скажи мне, Матвей, — Берия неожиданно перешел на «ты», и Матя не знал, насколько это хорошо или смертельно опасно, — наш общий знакомый Ежов знал, что от этих излучений можно пострадать?
— От них можно умереть. Сейчас у нас созданы специальные медицинские управления, мы стараемся понять, что такое эта лучевая болезнь и как ее лечить.
— И пока не знаете?
— Нет.
— Плохо, — сказал Берия. — Значит, и Ежов не знал… — Потом, подумав, заговорил вновь: — А далеко могут разлетаться эти лучи?
— Главное — даже не расстояние, а время после взрыва. Если ты попадаешь на это место сразу после взрыва, то там все буквально пронизано лучами.
— И вы совались туда после взрыва? — спросил Берия.
— Совались, — сказал Матя, словно виноватый школьник.
— И Ежов?
— И Ежов. И Алмазов.
— А что потом? Какие симптомы?
— Лаврентий Павлович, я вызову вам врачей, они сейчас проводят очень интересные опыты. В том числе у нас есть ряд лиц, по разным причинам оказавшихся в зоне заражения. Если вам это важно, мы немедленно подготовим вам все материалы.
— Вот именно, немедленно.
Берия согласился отобедать с Шавло. Матя думал, что нарком вызовет своего повара, будет, подобно Ежову, бояться отравы, — Берия ел и пил нормально, спокойно, как коллега, приехавший на соседний объект. И не спешил. Даже расспрашивал Матю о жизни в Италии, видел ли он там Муссолини, который почему-то вызывал в Берии особый интерес, больший даже, чем Гитлер, — может быть, тут играло роль сходство южного темперамента.
— Прежде чем поедем с тобой к врачам, — сказал Берия, — я хочу, чтобы ты подготовил мне визиты на все твои главные объекты. Кроме института — ученые мне пока не нужны, мне достаточно одного академика Шавло. Мне нужно, чтобы я все понял об этой бомбе. И хочу знать, когда она будет запущена на поток… — Берия поднял руку, останавливая возражения Мати. — Я все уже слышал. Я разумный человек и не какой-нибудь варвар и убийца, как твой друг Ежов. Ты должен будешь мне объяснить, почему не можешь сделать следующую бомбу послезавтра. Но так объяснить, чтобы я тебе поверил, ясно? Тогда давай еще по рюмке и пошли к твоим докторам. Я хочу все знать про лучевую болезнь. Но смотри, заразишь меня — умрешь раньше.
— Я хочу жить, — сказал Матя. — И меня уже пугали.
— Молодец, — одобрил Берия. — Значит, мы с тобой в чем-то похожи.
И он весело засмеялся.
Берия не отпускал Матю почти сутки, пока не осмотрел все, что можно было осмотреть в Ножовке. Единственное, куда он не поехал, — это в погибший город Берлин. Он рассматривал его в бинокль с крыши института.
Полярный день был в самом разгаре, солнце лишь на несколько минут опускалось за горизонт, и ночью было так же светло, как днем.
Последний разговор между Берией и Матей произошел уже утром, когда оба шатались от усталости. Берия требовал, чтобы габариты бомбы были резко уменьшены, — она должна помещаться в бомбардировщик дальнего действия. Матя доказывал наркому, что это невозможно.
— И ты не только придумаешь, как это сделать, — сказал тогда Берия, — но сделаешь это до первого сентября.
— Осталось два месяца! Это невозможно!
— Опять невозможно! Ты мне надоел. Ты растяпа. Я заменю тебя каким-нибудь другим академиком, и не липовым, а настоящим.
Матя дернулся, как от пощечины.
— А я хочу тебя обидеть, — сказал Берия. — Хочу обидеть и испугать, иначе ты не сделаешь, что я тебя прошу. Пойми, что мы не можем ждать, пока вы с академиками раскачаетесь как положено. Мы, коммунисты, все делаем не как обычные люди, мы в десять раз более жестокие и бедные — мы как боевые муравьи-разбойники. Слышал о таких? Теперь слушай меня внимательно и пойми, иначе тебя ждет долгая и мучительная смерть. И знаешь какая? Я посажу тебя голой жопой в центре полигона, и пускай сквозь тебя лезут все самые вредные лучи. Я не академик, а уже знаю, как погрузить бомбу в ТБ-4. С нее надо снять свинцовую оболочку.
— Но тогда она будет излучать…
— Ну и хрен с ней, пускай излучает. Летчики потерпят, они у нас комсомольцы. Так что раздевайте своего «Ивана».
А уже на летном поле, когда Матя провожал Берию, тот взял его крепкими пальцами за локоть и повлек в сторону от охраны.
— Скажи, у Алмазова лучевая болезнь?
— Наверное.
— Мы с тобой смотрели на лысых крыс и лысых людей, волосы всегда при лучевой болезни выпадают?
— Я думал, что вы уже все знаете лучше меня.
— Это правильно. Но все равно не мешает лишний раз спросить. Мне тот профессор, на Пушкина похожий, еврей, объяснял, что предметы и люди тоже заражаются, если они были в очень облученном месте. Значит, если у меня есть предмет, вещь из облученного места, она меня может убить?
— Наверное, может, — сказал Матя. Он не знал, что имел в виду Берия, но сам, к ужасу своему, явственно представил сверкающую полированную каплю размером с кулак на письменном столе Сталина.
Но, возможно, Берия имел в виду что-то иное, потому что сказал, направляясь под ночным солнцем к трапу самолета:
— Значит, его можно будет не расстреливать — сам отмучается.
15 июля 1939 года, через два дня после подписания договора с русскими о мире и дележе Европы, Гитлер бросил свои войска на Польшу.
Он не устраивал никаких провокаций на границе и ничего не заявлял в свое оправдание. Он пошел на авантюру куда более отчаянную, чем при захвате Рейнской области или вторжении в Чехословакию. Он знал, что его могут спасти только быстрота и неожиданность, потому что третий фактор стратегии — сила — был временно в руках Сталина. И этот фактор также было необходимо выбить из рук Сталина.
Сметя пограничные заставы поляков, разведка которых проспала движение германских войск возле границы, обходя сильные крепостные гарнизоны, немецкие войска в течение трех дней подошли к Варшаве.
Мир был в смущении, ярости и гневе.
В день начала наступления Гитлера на Польшу в Лондоне пало правительство Чемберлена, который даже в этот момент умолял парламент не отдавать власть слишком резкому и непредсказуемому Черчиллю, а сделать премьером лорда Галифакса. Но Галифакс сам отказался от такой чести — Чемберлен и Галифакс несколько лет старались удерживать Гитлера подарками и компромиссами, а Черчиллю предстояло объявить ему войну.
Франция уже разорвала дипломатические отношения с Германией и начала мобилизацию. Испуганно готовились к войне маленькие Дания и Голландия.
На третий день мировой войны Мате Шавло пришлось дважды разговаривать с обреченными людьми.
За день до того Матя получил вызов в Москву, подписанный Берией. Медлить было нельзя, и Матя стал тут же собираться. Но когда он заглянул в свой кабинет в институте, где он бывал очень редко, потому что в институте был повышенный радиационный фон и большинство ценных специалистов и служб были эвакуированы подальше от полигона, раздался телефонный звонок.
Звонил Алмазов.
— Думаешь, я не знаю, где ты? — засмеялся Алмазов в трубку глухим, трудно узнаваемым голосом. — Я за тобой присматриваю.
— Говори, что нужно, я сегодня улетаю в Москву.
— Я знаю, что началась война, а меня на нее не возьмут, — сказал Алмазов и вновь рассмеялся. — Ты летишь бомбить Берлин?
— Честное слово, я не знаю, зачем меня вызывают, Ян. Может, чтобы уволить.
— Ты молодец, ты веселый. А я все болею, слышал?
— Ян, не кривляйся.
— Ах как ты заговорил, Шавло! Ты забыл, кому обязан жизнью?
— Ян, честное слово, я спешу в Москву. Нарком не будет меня ждать.
— И нарком уже другой, а я его видел только издали.
— Что тебе нужно?
— Матя, ты знал, что я заболею? Ты скажи честно — я все равно ничего тебе не сделаю. Только честно.
— Я не мог удерживать вас, когда вы полезли в самое пекло.
— Значит, ты знал, да? Ты убил меня нарочно?
— Никто тебя не убивал, ты выздоровеешь.
— Мне хочется в это верить, но я не верю. И звоню тебе предупредить, что на тот свет без тебя не отправлюсь. Так и знай — ты умрешь в тот же день, когда умру я. Подохнешь, как собака! Ты меня слышишь?
— Ян, я вернусь и обязательно к тебе приду.
Слышно было, как Алмазов тяжело дышит в трубку.
— Скажи, а Николая Ивановича… осудили?
— Посмотри сегодняшнюю газету. Там некролог.
— Ты думаешь, что он болел той же болезнью? — И, не услышав ответа, Алмазов закончил: — Первая пуля ранила коня, а вторая пуля ранила меня. Ты меня слушаешь? — И он снова засмеялся.
Безумие струилось по телефонным проводам и достигало Мати. Ему было страшно, словно Алмазов был рядом с ним в комнате.
— Они нас заколдовали, — быстро говорил Алмазов. — Альбина и Александрийский. Ты почему убил Альбину?
— Ян, иногда тебе лучше бы помолчать.
— Ты хочешь сказать, что я ее убил? Нет, я не убиваю тех, кого люблю. Я не насильник, как академик Шавло.
— Нас слушают, — сказал Матя и бросил трубку. Потом тут же снял ее с рычага, чтобы было занято, если Алмазов захочет позвонить снова.
Он сходит с ума, понимал Матя, он лежит у себя, он мучается от болезни, которую ему подарила бомба — та самая, ради которой он пошел на все. «Ну что ж, каждый из нас игрок. Ты сделал слишком большую ставку, Ян… А месть Альбины… Что мы знаем о том мире?» И вдруг Матя подумал, что Альбина могла и выжить, и убежать из этого города и она скрывается где-то. Когда все кончится, он обязательно ее найдет и сделает так, чтобы она жила в уюте и покое.
И Матя улетел в Москву.
На аэродроме в Москве Матю встретил Вревский, и они поехали на Лубянку.
— Что нового? — спросил Матя, как только они остались в машине вдвоем.
— События принимают тревожный оборот, — сказал Вревский. — Сегодня немецкие танки были уже замечены в пригородах Варшавы. Правда, сопротивление поляков усиливается — похоже, они опомнились. Не знаю, успеют ли они.
— А мы?
— Я не знаю. Я ничего не знаю.
— «Иван» уехал, — сказал Матя.
— Знаю, — сказал Вревский. — Он живет сейчас в Монине, под Москвой, там есть аэродром дальней авиации.
— Но зачем? Какую роль ему отводят?
— Меня не спрашивали.
В том сумасшедшем мире Матя и Вревский доверяли друг другу более, чем иным. Но это не означало откровенности.
— Какие еще новости в Москве? Что означал вчерашний некролог о смерти наркома водного транспорта?
— Маленький нарком в самом деле умер. Никто ему не помогал умереть. Кроме вас, Шавло.
— Лучевая болезнь? — спросил Матя.
— Я не знаю, как это называется, но медики утверждают, что он получил очень большие дозы облучения, родственного рентгеновскому. Говорят, от этого умерла Мария Кюри, да?
— Она подвергалась многократному облучению в течение нескольких лет.
— Что в лоб, что по лбу, — сказал Вревский и добавил задумчиво, как бы для самого себя: — Когда это кончится, нам придется закапывать твой полигон, а то трава там не будет расти.
— Это не мой полигон, — сказал Матя.
— Не надо, товарищ академик и орденоносец. Без твоей смелой инициативы Алмазов никогда бы не пробил этот проект.
— Так сложились обстоятельства. А вы бы предпочли, чтобы бомбу сделал Гитлер?
— Ему это не по зубам.
— Американцам это по зубам.
— И пускай делают. Мне они нравятся, — вдруг сказал Вревский, чем вверг Матю в изумление.
Берия ждал их в своем кабинете.
— Я уже три раза звонил на аэродром, — сказал он сердито. — Сколько можно добираться от Филей?
— Мы ехали без сирены, — сказал Вревский.
— Помолчи, Иона, — оборвал его Берия. — Нас с Матвеем Ипполитовичем срочно ждет к себе товарищ Сталин.
— В Кремль?
— Он у себя на ближней даче, в Кунцеве. Ты, Иона, останешься за меня. Информация поступает каждую минуту, мы не знаем, что случится в мире через час. Идет большая игра.
В машине Берия вдруг вынул из кармана пакет. Служебный конверт, «Совершенно секретно».
— Прочти, — сказал он.
Матя прочел — письмо было на трех страницах, написано неразборчивым, вялым почерком ослабевшего человека. В нем докладывали наркому внутренних дел, что Матвей Ипполитович Шавло в октябре 1932 года совершил на территории академического санатория «Узкое» два убийства. Первой из жертв стала некогда изнасилованная им Полина Покровская, второй — всемирно известный физик Александрийский. В то время Главное политическое управление по инициативе гр. Ягоды покрыло преступления Шавло, так как он обещал создать во искупление своей вины атомное оружие. Во время испытаний этого оружия упомянутый Шавло сознательно заманил наркома Ежова и сопровождавших его лиц в зону опасной радиации и фактически убил их. Что, без сомнения, доказывает, что Шавло на самом деле проводил всю эту операцию по заданию немецкой и итальянской разведок. В настоящее время состояние проекта таково, что его может возглавить любой из сильных физиков-практиков, а научная и организационная ценность М. Шавло утеряна. Поэтому наша страна не потерпит никакого урона, если он подвергнется заслуженному наказанию. Была и подпись — Яна Алмазова, комиссара НКВД второго ранга, начальника Испытлага, дважды кавалера ордена Красного Знамени.
Читая, Матя не смел повернуть головы к Берии. Обратить это в шутку? Наверняка Берия уже все проверил. Матю тошнило. «Каков подлец! Ну почему я, дурак, не навестил его ни разу за болезнь, почему избегал его и убедил этим, что намерен и дальше существовать без него и даже лучше, чем при нем? Забыл о том, как все это начиналось? Понадеялся на благородство Алмазова?»
— Ну давай сюда бумагу и не дрожи, машину раскачиваешь, — сказал Берия, отбирая пакет у Шавло. Матя подчинился.
— Ну и как, на твой взгляд, сильно Алмазов болен? — спросил нарком.
— Да, — сказал Матя. И удивился, что его голос звучит обыкновенно.
— И скоро умрет? — спросил Берия.
— Я не знаю.
— Я поговорю с врачами, — сказал Берия. Машина повернула на узкое асфальтовое шоссе, ведущее в густой холодный лес. Переехали речку. Машина остановилась перед воротами.
Когда они шли по поляне к обыкновенному скучному зданию сталинской дачи, Берия вдруг сказал:
— Товарищ Сталин не очень хорошо выглядит. Не обращай на это внимания.
Это был приказ.
Сталин их ждал на застекленной веранде, выходившей в лес. На веранде было жарко, жужжали мухи.
Сталин полулежал в шезлонге, его ноги были покрыты одеялом.
На веранде было светло, и перемены, произошедшие с вождем за последние три месяца, были очевидны и разительны. Если бы Шавло не знал, что увидит именно Сталина, он бы никогда его не узнал.
В шезлонге лежал маленький усохший человек с темно-желтым лицом и редкими седыми обвисшими усами. Он был совершенно лыс, если не считать седой пряди волос, почему-то сохранившейся над левым ухом и зачесанной поперек почти черной, в язвочках лысины. Веки Сталина припухли, и он с трудом открывал глаза, всматриваясь в гостей.
— Пришли, — сказал он с облегчением. — Доехали?
Голос был тих, он с трудом прорывался сквозь жужжание мух. Сталин взял лежавший у него на коленях дешевый детский веер с изображением парашютистов и краснозвездных самолетов и принялся отмахиваться от мух.
— Очень жарко, — сообщил он, — но врач велел беречься простуды. В моем состоянии простуда опасна.
— Вы сегодня лучше выглядите, Иосиф Виссарионович, — сказал вежливо Берия.
— Я сегодня никуда не годно выгляжу, — ответил Сталин. — И вчера тоже никуда не годился. К сожалению, этот ревматизм-мевматизм так не вовремя приковал меня к месту.
Сталин замолчал, рука с веером упала на колени, и он медленно дышал, чтобы набраться сил.
Гости терпеливо ждали, лишь иногда отгоняя мух. В дверях веранды стоял секретарь Сталина Поскребышев.
— Я теперь доверяю только тебе, Лаврентий, — сказал Сталин. — Другие не должны знать о моей болезни. Больной лев — слабый лев. Всегда найдется шакал, который захочет на него наброситься. А еще чаще — стая шакалов.
Матю Сталин как будто не замечал, но тот понимал, что Сталин не потерял зоркости ума и внутри его все еще крутился мотор властолюбия, способный смести с лица земли миллионы людей. Не было сомнений — у Сталина лучевая болезнь. За последние месяцы Матя нагляделся на пациентов, просмотрел десятки историй болезни. Матя знал, каков источник болезни: день за днем на расстоянии вытянутой руки на письменном столе Сталина лежала сверкающая, с яблоко размером, керамическая капля, привезенная Алмазовым и Ежовым. Если можно привести образное сравнение — она была настолько раскаленной, что сила ее лучей могла убить десятки человек. И он, Матя, знал об этом. И убил Сталина из страха за собственную жизнь, из-за того, что не смел открыть тайну своих подозрений Сталину в присутствии чекистов, которых не остановил в мертвом Берлине. Тогда он отсиделся в уборной, а Сталин не догадался, как опасна для него эта капля.
Теперь же он должен был еще тщательней скрывать свою тайну… как та японская обезьянка: ничего не слышал, ничего не видел, ничего не скажет…
— На днях, — произнес Сталин, совсем по-старчески пошлепав губами, — товарищ Молотов подписал договор о дружбе с Гитлером. Мы получаем по нему половину Польши, Прибалтику и Бессарабию. Однако Гитлер коварно обманул нас, немедленно напав на Польшу. Мы доверились ему, а он нас обманул. Он полагает, что мы будем таскать для него каштаны из огня и воевать с Францией, так?
— Конечно, товарищ Сталин.
Это уже последняя стадия — его не вытянуть из этой болезни ни за что на свете. Все доктора мира бессильны помочь ему. Неужели никто из врачей не поставил правильного диагноза?
Теперь все зависит от Берии. От того, захочет ли он привести в действие машину правосудия и стереть с лица земли букашку, несостоявшегося нобелевского лауреата? Или, может, он предпочтет спрятать это письмо в самый надежный из своих сейфов? Он, Шавло, сделал бы именно так.
— Вы слушаете меня, товарищ Шавлов? — донесся тихий голос Сталина. Он так и не научился правильно произносить фамилию. — У меня создается такое впечатление, что вы плохо меня слушаете.
— Я внимательно слушаю, товарищ Сталин, — спохватился Матя.
— Я вызвал вас, потому что мне нужна самая точная информация из самых первых рук. Надеюсь, вы не станете лукавить перед больным старым человеком… Нет? Тогда скажите мне точно, каково положение с атомными бомбами?
Шавло осторожно покосился на Берию, теперь он выбрал себе нового покровителя — без Берии или вопреки Берии ему не выжить. Он видел, как Берия прикрыл глаза, как бы дозволяя говорить правду.
Может быть, Берия и вел бы себя иначе, но пока он был заинтересован в доверии и поддержке больного и, может быть, обреченного Сталина. Он был не первым на лестнице советской власти, и требовалось время, чтобы расчистить себе дорогу. А для этого ему нужен живой Сталин.
— Бомба номер два, товарищ Сталин, — сказал Шавло, — под кодовым названием «Иван» уже готова, и теперь для нее изготавливается новая оболочка, которая позволит погрузить ее в бомбардировщик дальнего действия.
— Правильно, — сказал Сталин. — Молодцы, что спешите выполнить это мое указание.
— Эта работа практически закончена.
— А остальные бомбы? Меня интересуют остальные. Одной бомбой мы можем только пугнуть. Но для победы мы должны иметь хотя бы несколько бомб. И поймите, товарищ Шавлов, сейчас от вас и ваших сотрудников, от их беззаветной работы на благо нашей советской родины зависит судьба и нашей страны, и всего мирового пролетариата!
Этот монолог стоил Сталину таких усилий, что он надолго закрыл глаза. Но Берия и Шавло сидели неподвижно, будто боялись его разбудить.
— Говорите, — произнес Сталин, не открывая глаз.
— Третья и четвертая бомбы будут готовы осенью — надеюсь, в октябре.
— Почему так долго?
— Дальше дела пойдут быстрее, товарищ Сталин.
— Мне не надо дальше, мне надо сокрушить наших врагов раньше. Немедленно! Сейчас! Я приказываю вам, Шавлов, под личную ответственность, чтобы к началу сентября были закончены бомбы три и четыре. Под вашу личную ответственность…
Сталин откинул голову назад и захрипел.
Вбежал Поскребышев. За ним маленький мужчина в белом халате.
— Идите и исполняйте, — сказал Поскребышев. — Я сообщу вам, когда товарищ Сталин вызовет вас снова.
Берия не оборвал Поскребышева, который посмел выгнать их. Ясно было, что больше им нечего делать на даче.
Машина Берии выехала из ворот и повернула почему-то направо — по сторонам шел лес, потом она выехала на широкое поле, кое-где поросшее кустарником, которое полого скатывалось в пойму речушки.
Берия сказал:
— Пойдемте немного погуляем, такой хороший теплый день.
Когда они отошли от машины, Берия, сверкнув пенсне, уставился змеиными глазами на Матю.
— Ваш диагноз? — спросил он.
— Лучевая болезнь, — ответил Матя.
— Без сомнения?
— Без сомнения.
— И это опасно?
— По тому, что я знаю, он проживет немного. Может быть, всего несколько дней.
— И вылечить нельзя?
— Нет, пока медицина бессильна.
Берия медленно пошел по тропинке над широким зеленым склоном.
Матя подумал, что Берия только проверяет выводы, к которым пришел сам. Видно, симптомы болезни появились у Сталина давно и интерес Берии, прилетавшего недавно в Ножовку, был вызван в значительной степени этим.
— А каковы, вы думаете, причины этой странной болезни? — спросил Берия. — Она заразна?
— В обычном смысле этого слова незаразна.
— То есть Иосиф Виссарионович не мог подцепить ее у Ежова или Алмазова?
— Нет.
— Так в чем же дело?
Шавло молчал.
— Матвей Ипполитович, — сказал Берия, останавливаясь. — Я хотел бы вам напомнить, что вы полностью находитесь в моей власти. Что я и без доноса Алмазова знаю о вас достаточно, чтобы завтра же расстрелять. В том числе я уверен, что вы отлично знали о радиации и смертельных лучах, которые испускает бомба, но скрыли это от своих шефов. Вы не сказали сначала и понимали, что если скажете с опозданием, то пощады вам не будет. Но я не хочу вас уничтожать, Шавло, я надеюсь, что мы с вами еще много лет будем работать вместе, рука об руку. Поэтому мне нужна абсолютная откровенность.
— У меня есть подозрение… — начал Матя, понимая, что сейчас вынужден будет признаться в фактическом убийстве вождя Советской страны. — У меня подозрение на оплавленный кирпич, который Ежов оставил Сталину на память. На письменном столе.
— Блестящий? Как яблоко?
— Вот именно.
— А я, дурак, даже в руки его брал! — Берия вдруг рассердился. — Ты мне мог сказать, а?
— Надеюсь, что это вам не угрожает. Товарищ Сталин часами и неделями подвергался непрерывному сильному облучению.
— Хорошо, — сразу остыл Берия и повернул обратно, к машине. — Я вытащу этот слиток для проверки. А ты обеспечь мне специалиста с измерительным прибором. Как он называется?
— Счетчик Гейгера.
— Чтобы у меня всегда рядом был счетчик Гейгера.
У машины Берия вдруг задумчиво произнес:
— Мы с тобой вступаем в атомную эру. Пути назад нет. Придется быть очень осторожными…
Сказать, что выступление Гитлера против Польши застало Европу врасплох, — значит ничего не сказать. В одночасье Гитлер разрушил все планы западных держав по развертыванию войск и мобилизации, которая должна была начаться не спеша к августу, в надежде, что все еще обойдется. Английская и французская общественность, хоть и выступала против нового Мюнхена и осознавала уже, что Гитлера можно остановить лишь силой, теперь съежилась и замолкла. Даже сведения о бомбардировке Варшавы и Кракова, о боях на Вестерплатте, где немецкий десант никак не мог одолеть польский морской гарнизон, казались лишь кошмаром из чужого мира, который не может иметь отношения к моему дому, к моей семье, к моей жизни.
Паралич охватил и всю структуру власти — Черчилль со своей антинемецкой позицией и постоянной непримиримостью к Гитлеру должен был получить немедленную власть военного времени, даже Гитлер так полагал, но заявление о подписании советско-германского договора о дружбе и нейтралитете разрушило весь карточный домик его политики. Надо было еще привыкнуть к тому, что воевать придется, вернее всего, сразу с обоими тоталитарными режимами Европы, а Америка, занятая своими дрязгами с Японией и президентскими выборами, постарается в европейские дела не вмешиваться.
Чемберлен подал в отставку, Галифакс поста премьера не принял, Черчилля палата общин не пропускала…
Черчилль укрылся в тот день в Адмиралтействе. Этот компромиссный пост парламент подарил Черчиллю, так как он был внекабинетным, ради того чтобы успокоить растерянное общественное мнение, для которого имя Черчилль связывалось теперь с честью страны, которую Черчиллю и положено было спасать, не имея к тому ни сил, ни средств.
— Какого черта? — спросил Черчилль адмирала Маунтбэттена, который сидел у камина в кабинете, еще пахнущем табаком его прежнего хозяина. — Какого черта Сталин допустил утечку информации о секретных переговорах — это же компрометирует Россию?
— Возможно, это означает, что Сталин теряет власть над страной?
— После того, что он сделал с оппозицией? Не будьте наивным, адмирал. — Толстый невысокий Черчилль стоял перед высоким красавцем Маунтбэттеном, родственником короля, но тем не менее толковым моряком, уперев руки в бока, будто хотел боднуть собеседника в подбородок.
— Тогда будем считать, что случилась обыкновенная утечка информации, — это бывает на разном уровне. Не забудьте, сэр, что и у русских сейчас большие перемены: скромный некролог комиссару Ежову и назначение Берии…
— Берия давно целился на этот пост. Удивительно, что Ежов продержался так долго.
— Мне кажется, что здесь все неправильно, — сказал сэр Рибли, начальник морской разведки, сидевший до того молча в одном из мягких кресел. — Ежов мог умереть, только став жертвой процесса. И Сталин готовил этот процесс — мои аналитики могут доказать это на основе советской прессы. На Ежова должны были быть свалены все грехи сталинского террора. А он умирает сам по себе. Если он убит — тогда либо проклятия, либо полное молчание. Если покончил с собой — то несчастный случай или сердечный приступ. А вы прочли некролог?
— Нет, — признался Черчилль.
— Там сказано «после тяжелой продолжительной болезни», то есть признается, что Ежов умер от естественных причин. Второе: где Сталин? Почему договор с Германией подписывался в его отсутствие? Это неправильно. Почему он ни разу не появился на людях после Первого мая, когда он в последний раз торчал на Мавзолее своего учителя? Что он готовит?
— Я видел его подпись под договором с Гитлером. И этот договор может означать гибель европейской цивилизации, — сказал Маунтбэттен.
— Я бы не разделил столь пессимистического взгляда на положение вещей, — сказал Черчилль, — если бы у красных не было атомной бомбы. Так хочется надеяться, что это розыгрыш, шутка, ошибка ученых… — Черчилль оборвал фразу.
— Вы сами в это не верите.
— Тогда скажите, сколько у них еще бомб? Сколько он сможет их поднять в воздух? И можно ли вообще поднять атомную бомбу в небо и доставить в другую страну на самолете? Почему вы ничего этого не знаете? За что правительство Его Величества платит вам скромное жалованье?
Последние слова должны были прозвучать шуткой, но таковой не стали. И Рибли ответил совершенно искренне:
— Все службы британской разведки трудятся сейчас над этим. Но в Полярном институте у нас нет своих людей. Их нет и в Испытлаге…
— Что еще за дикое слово? — спросил Черчилль.
— Мне объяснили, что это сокращение для названия концентрационного лагеря, в котором происходят испытания.
— Продолжайте и простите, сэр.
— Но мы знаем самое важное, — сказал Рибли. — Немецкая разведка имеет фильм об испытаниях бомбы, и, более того, они смогли отправить в тот район специально оборудованный самолет, который привез образцы и даже двух русских… и эти русские кое-что знают.
— Бред какой-то! — возмутился Черчилль. — «Интеллидженс сервис» скоро останется лишь в славных романах о наших Лоуренсах. В момент, когда решаются судьбы мира, мы оказываемся слепыми и глухими.
— Мы принимаем меры, — сказал Рибли.
— Но какие?
— Даже здесь и даже вам, сэр, я не могу о них сообщить. Единственное, что вам должно быть понятно: в Германии, в отличие от Полярного Урала, у нас есть свои агенты. Нам легче выкрасть Гитлера, чем простого заключенного из сталинской Арктики.
— А вот немцам удалось, — мрачно сказал Черчилль. — Хотя нам эти люди нужны любой ценой, а Гитлеру — вряд ли.
— Почему? — удивился Маунтбэттен.
— Потому что я полагаю, что нам подсунули секретные соглашения Советского Союза и Германии специально для того, чтобы мы не догадались о существовании еще более секретных соглашений: когда и чем Гитлер ответит на ценные подарки, которые намерен получить от Сталина.
— И что вы думаете?
— Я боюсь, что эти подарки — атомные бомбы. Если их у Сталина хотя бы две или три, этого достаточно, чтобы стереть с лица Земли половину Парижа и Лондона, — и война Гитлером выиграна. Шок будет таков, что люди ради спасения себя и своих детей потребуют мира любой ценой.
Адмирал Маунтбэттен вытянулся, будто отпрянул от пощечины, и громко сказал:
— Вы недооцениваете добрый народ Англии, сэр!
«Господи, какой ты молодой, стройный и красивый, какая отличная карьера открывается перед тобой. Но, вернее всего, этого не случится, потому что два мерзавца сговорились отправить тебя на тот свет».
Сталин не бывал искренним даже с самим собой. И это порой помогало ему сохранить несохранимые тайны и обмануть людей, которых обмануть невозможно.
Остальные могут продать, сделать глупость, проговориться…
Но все же ближе других к Сталину был его секретарь Поскребышев. Недавно, уже заболевая и все более ненавидя от постоянной тошноты окружавших его негодяев, он приказал арестовать жену Поскребышева. Тот на коленях умолял вождя отпустить эту женщину. И тогда Сталин приказал Поскребышеву прекратить истерику и принести стакан чаю.
Когда заплаканный маленький Поскребышев принес стакан и поставил на стол, Сталин велел ему тут же уходить. А сам вызвал по прямому телефону эксперта из лаборатории Фесуненкова — специалиста по ядам. В стакане яда не оказалось. Сталин не отпустил жену Поскребышева, но подложил ему другую, молодую, куда более красивую.
Шла ночь на 18 июля. Немецкие войска уже подошли к Варшаве и вели бои на подступах к ней. Польские авиационные части были в основном уничтожены на земле, потому что поляки, как и все, верили в то, что войны не начинаются так вот, неожиданно даже для собственного Генерального штаба.
Сталин не мог заснуть. Ломило голову — наверное, опять давление, тошнило, как тошнило все последние недели. Кожа на тыльных сторонах кистей распухла и болезненно растрескалась, очень мучили язвы под мышками и в паху. Но врачей Сталин к себе не допускал, он не мог допустить врачей, которые растрезвонят по всему миру, что он так страшно болен и неизвестно когда придет в себя, хотя он твердо верил, что выздоровеет; он всегда выздоравливал, а сейчас он еще не стар — шестьдесят не возраст для мужчины, да и нельзя показываться врачам — начнутся анализы, подозрения на рак, Сталин очень боялся рака.
Сталин осторожно поднялся и долго сидел, медленно шевеля ступнями ног, возя ими по полу в поисках шлепанцев. Ему надо было дойти до кабинета. Он понял сейчас, лежа без сна, что именно этой ночью он еще может спасти мир и свою судьбу — завтра будет поздно. Потому что Гитлер провел его, обманул, как обманул всех — и англичан, и французов. Но этих не жалко — а вот как можно дать обмануть себя! Ведь поверил разведке, поверил иностранным дипломатам, поверил искренности телеграмм Гитлера и откровенно рабским преданным глазам красавчика Риббентропа, доверился этим идиотам, подонкам, ничтожествам — Молотову и Ворошилову. Конечно же, Гитлер облапошил их.
В переговорах Гитлер дал понять, что знает о существовании у Сталина одной атомной бомбы. Откуда он знал об этом — не важно, опять просрала контрразведка — везде предатели и олухи. Но речь шла и о других бомбах. Когда Гитлер предложил Сталину заключить с ним сверхсекретное соглашение, по которому он после начала войны, то есть в сентябре, обязуется бросить одну бомбу на Париж, а одну на Лондон, за что Гитлер навсегда отказывается от претензий на Восточное полушарие, отдавая его Сталину, Сталин не сказал ни да ни нет, велел Молотову молчать.
И все же поверил, дурак, поверил, что Гитлер в самом деле будет ждать сентября, когда у Сталина будет три бомбы. Ведь сам бы на месте Гитлера ударил упреждающе, не поверил бы договору. Никому верить нельзя.
Теперь у Сталина всего одна карта.
Одна козырная карта. И может ли он ею воспользоваться? А если беречь ее, до какого дня? И где ударить больнее? Как уничтожить этого паршивого предателя, ефрейтора, обманщика, жалкого доходягу?
Объявить всему миру о том, что он идет на союз с Англией? И с Польшей? Чтобы наказать Гитлера.
И это на следующий день после подписания договора?
Да никакая Англия не поверит теперь ему. Этого и добивался Гитлер, так ласково предлагая еще не убитого медведя — половину шкуры, три четверти шкуры. Бери, Сталин, ты мне теперь не страшен.
Сталин не стал зажигать света и привлекать внимание бодрствующей охраны. Он прошел к книжному шкафу и взял тот самый том, чтобы достать портрет Пилсудского, который успел умереть, и оскорбление, нанесенное Сталину, осталось неотомщенным — самое горькое оскорбление, которое можно нанести человеку гор. Человек гор — так он порой называл себя, но никогда вслух.
Сталин прошлепал к окну — снаружи светил фонарь, и его свет проникал внутрь комнаты. Он открыл книгу, перелистал. Портрета на месте не было! Украли… А потом вспомнил, что сам, еще весной, смял его и выбросил. А теперь заболел и забыл.
Никогда еще Сталин не попадал в такое безвыходное положение: через две недели, сокрушив Польшу, Гитлер ринется на Россию, и даже если Ворошилов поведет навстречу ему свои танки, то они будут перехвачены в пути и разбиты. Вся армия в летних лагерях, и даже четыре дивизии, должные торжественно войти в Польшу и Прибалтику, так щедро подаренные Гитлером, еще не готовы. А помощи от Запада ждать нельзя.
Завтра Гитлер войдет в Варшаву, в ту самую, сладкую, недостижимую Варшаву, которую Сталин так и не сумел захватить, может, даже по собственной вине — не желал, чтобы слава досталась выскочке Тухачевскому, и задержал Буденного подо Львовом.
Завтра Гитлер будет в Варшаве. А Сталин уже никогда…
Тогда и возникло в мозгу это слово — никогда. Тогда и пришло осознание окончательности своей болезни. Он же обманывал себя от страха не перед врачами, а перед смертью. Наверное, подсознательно он давно уже понял, что спасения нет…
И только один удар, один козырь!
Поскребышев, который спал в прихожей, не раздеваясь, уже несколько недель, услышал, как Сталин шлепает по комнате и шуршит страницами. Он чуть приоткрыл дверь.
— Что-нибудь нужно, Иосиф Виссарионович? — спросил он.
— Завтра утром свяжешь меня с Ворошиловым и Тимошенко. А кто у нас командует дальней авиацией?
— Рычагов, товарищ Сталин.
— Значит, должен будет знать и Рычагов. А Берия пускай приедет ко мне в двенадцать ноль-ноль.
Голос Сталина был настолько тверд, словно он выздоровел, и Поскребышев, который понимал, что он, как жена скифского царя, будет убит и положен в курган вместе с повелителем, вдруг вознадеялся, что обошлось…
Но в комнате так пахло разлагающейся плотью и фигура вождя была так сгорблена и немощна, что Поскребышев отринул надежду и, подойдя к вождю, помог ему вернуться к дивану, на котором тот должен был спать.
Варшава пала утром 18 июля.
Танковый корпус Гудериана смог обойти ее с юга, и в городе началась паника. Польская армия откатывалась на восток, но советские части, которые, по соглашению с Германией, должны были двинуться навстречу германцам, воссоединяя с родиной народы Западной Белоруссии и Украины, все еще не были подтянуты к границе. Все планировалось на сентябрь. Сейчас эшелоны шли на запад, вызывая безнадежные пробки на дорогах. В приграничных областях царили неразбериха и анархия. Наркомвоенмор Ворошилов, не имея инструкций от Сталина, до которого он уже неделю не мог дозвониться, предпринимал лишь половинчатые, неуверенные шаги, вроде бы кому-то угрожая, но в то же время готовый, если нужно, и отступить. В Кремле царила тихая и невидимая посторонним паника…
Утром, получив сообщение из Варшавы, Гитлер тут же позвонил Альбине.
— Моя судьба, добрым вестником которой ты для меня стала, свершается, — сказал он торжественно. — Варшава пала!
— А что наши? — спросила Альбина и с неловким смешком поправилась: — А что русские?
— Они все еще в растерянности. Я их понимаю, они сидят с одной картой.
— И что они с ней сделают?
— Насколько я знаю Сталина, он должен постараться мне отомстить, — сказал Гитлер. — Он погрузит бомбу в самолет и отправит ее на Берлин.
— Какой ужас!
— Неужели ты думаешь, белый кролик, что я допущу этот самолет к нашему городу? Начиная с сегодняшней ночи вся авиация империи будет защищать столицу. На всем пути самолета с бомбой будут дежурить истребители. Твой Сталин…
— Он не мой! Я его ненавижу!
— Ты не имеешь права ненавидеть лидеров других государств, — засмеялся Гитлер, — ты слишком нежна для этого.
— Я — богиня, — сказала Альбина.
— Да, я знаю. — Гитлер перестал смеяться. — Но можешь быть уверена, что этот самолет до Берлина не долетит.
— А если он решит кинуть бомбу на Париж?
— Одну-единственную и на Париж, который ему стратегически не нужен? Он не сумасшедший. Он сейчас ненавидит меня, потому что я его облапошил.
Альбина не знала этого немецкого слова, и Гитлер объяснил и продолжал:
— Так что берлинцы будут в безопасности.
— Спасибо, — сказала Альбина и замолчала.
— Я помню о своем обещании, — сказал Гитлер. — Я возьму тебя с собой в Варшаву. Потому что, пока остается хоть один маленький шанс, что этот чертов самолет все же долетит до Берлина, я хочу, чтобы тебя здесь не было. Ты вылетаешь вместе со мной в Варшаву. Мы с тобой будем принимать парад победителей.
— Ой, как хорошо! — совсем по-детски воскликнула Альбина. — Мне так интересно посмотреть на Варшаву, я никогда не была за границей!
Гитлер объявил о своем намерении вылететь утром в Варшаву в пять часов вечера, через несколько часов после ее капитуляции. Немедленно по получении этого известия Геринг и Гиммлер старались отговорить фюрера — Варшава еще не очищена от подозрительных элементов. Русские войска могут попытаться туда прорваться.
Но Гитлер поднял всех на смех:
— Я должен сделать это завтра — завтра или никогда. Я не намерен терять ни часа! Еще неделю назад вы валялись у меня в ногах, уверяя, что поход на Польшу — дешевая авантюра, которая загубит рейх. Так вот — завтра я принимаю там парад, и весь мир содрогнется. А послезавтра я кидаю мои войска на Москву. Мне нужно взять их столицу раньше, чем Англия с Францией поймут, что без России им не поможет даже Америка. Все!
Через два часа в воздух была поднята находившаяся в полной боевой готовности воздушно-десантная дивизия СС «Хорст Вессель». На одном из самолетов летел сам рейхсфюрер СС, который лично возглавил начавшуюся вечером и законченную к началу торжественного парада очистку польской столицы от вредных элементов, организацию временных гетто для евреев и другие меры безопасности.
Гитлер заехал за Альбиной сам — это было немыслимо для покорителя Вселенной, но он придавал особый мистический смысл тому, что Альбина будет рядом с ним как олицетворение космической расы господ.
Оттуда они поехали на аэродром. Они ехали в открытой машине, за ними — три или четыре машины, в одной из которых восседали генерал Гаусгофер, два его ассистента, человек в зеленых перчатках и тибетский лама с глубоко посаженными глазами, правда, другие спутники Гаусгофера были в цивильной одежде и низко надвинутых шляпах.
Прохожие останавливались — некоторые узнавали фюрера, и, хотя машины ехали довольно быстро, слух о том, что фюрер улетает в Варшаву, чтобы принять капитуляцию поляков и золотые ключи от этого города, разносился по Берлину со сказочной быстротой, и люди выбегали на улицы — они выстраивались в несколько рядов неровным, наклоненным в сторону машин частоколом и держали в приветствии руки. Гитлер встал в машине и тоже поднял руку — чуть согнув в локте. Альбина сидела рядом с ним и смотрела на него с восхищением. Потому что он был велик, как римский цезарь.
Самолет с «Иваном» на борту уже вторую неделю стоял в полной боевой готовности в ангаре военного аэродрома в Монино. Ни одна живая душа, включая пилотов самолета и командование авиации, не знала, что за груз находится там. Знал лишь командующий авиацией командарм второго ранга Рычагов — один из шести человек в государстве. Еще несколько десятков человек догадывались.
С утра восемнадцатого, когда были получены сообщения о падении Варшавы, Поскребышев, выполняя Сталинский приказ, разослал с нарочными заготовленный ранее, отпечатанный на машинке приказ наркомвоенмору Ворошилову и командующему авиацией Рычагову. Члены Политбюро не были поставлены в известность — никто не ехал в отпуск, все сидели в Москве, узнавая о новостях по радио, и опасались общаться в страхе перед Берией.
Получив приказ, Ворошилов позвонил Сталину. Поскребышев ответил, что товарищ Сталин занят.
— Мне надо немедленно приехать к нему.
— Я могу передать трубку наркомвнудел товарищу Берии, — сказал Поскребышев.
Ворошилов выматерился. В такой момент Сосо мог бы поговорить откровенно.
— Я подтверждаю, что приказ, полученный вами, Климент Ефремович, — сказал Берия, — подлинный. Иосиф Виссарионович лично при мне отправил его.
— Да ты знаешь, Лаврентий, что там написано?
— Хоть мы говорим по «вертушке», я бы не стал на твоем месте объяснять мне то, что я уже знаю, — ответил Берия.
— Я должен поговорить с Сосо.
— Зачем?
— Потому что это сумасшедший приказ! Потому что я его не понимаю.
Сталин протянул руку. В то утро он чувствовал себя лучше — он всегда мог собрать в кулак все силы в моменты наибольшей опасности. Он лежал на диване, в галифе и мягкой куртке, но босой — гнойные узлы на ногах не давали надеть сапоги. Телефон, по которому говорил Берия, находился на письменном столе, но шнур был длинный и дотянулся до дивана.
— Клим, — сказал Сталин прежним, привычным для Ворошилова голосом. — Обстоятельства сложились так, что мне придется несколько дней полежать с простудой. Но я никому, кроме тебя и Лаврентия, об этом не говорю — ты сам понимаешь, какая царит международная обстановка и как могут расценить простую простуду наши враги.
— Конечно, Сосо, отдыхай, Сосо. — Ворошилов ощущал себя дворовым псом, которому хозяин позволил потереться о сапог. — Мы все без тебя сделаем.
— Мне не нужно все, Клим, — сказал Сталин. — Мне нужно только, чтобы ты хорошо работал и выполнял свои функции. И если я приказал тебе отправить самолет в нужном направлении и поразить нужную цель, значит, я знаю, что делаю.
— Прости, Сосо, — сказал Клим. — Я волнуюсь. Тебя нет, немцы наступают, мы же должны выходить к линии раздела.
— А ты выходи, не обращай ни на кого внимания…
— Сосо, ты не представляешь, что делается на железных дорогах, немцы застали нас врасплох.
— А вот тут ты ошибаешься, Клим, — сказал Сталин. — Немцы не могли застать меня врасплох. Я — орешек им не по зубам. Так что готовь машины…
— Сколько?
— Сколько у Рычагова есть ТБ-4? Готовых к полету, а не на бумаге.
После некоторой паузы, из которой можно было заключить, что Рычагов находился в кабинете наркомвоенмора, Ворошилов сказал:
— Два звена. Не считая машины, которая стоит с грузом.
— Вот оба эти два звена ты и пошлешь.
— Зачем?
— Все истребители сопровождения, какие сможете поднять, будут прикрывать их за Минском. Двумя звеньями можете пожертвовать, отвлеки на них всю немецкую авиацию, но самолет с грузом должен долететь.
— Слушаюсь, Сосо, — сказал Ворошилов.
— И очень прошу тебя, Клим, — Сталин постарался придать голосу отеческие интонации, — не беспокой меня больше, я планирую очень важную операцию и надеюсь, что ты выполнишь свой долг.
— Я клянусь тебе, Сосо, — сказал Ворошилов.
Сталин повесил трубку и спросил Берию:
— Ты думаешь, он не струсит?
— Я поеду в Москву, — сказал Берия, — я постараюсь быть рядом с ним.
— Правильно, — сказал Сталин, — и смотри, какая будет реакция в мире.
Берия вышел. Сталину казалось, что он смог убедить своих соратников в том, что им руководит особая тайная цель, осознать которую они пока не могут, но со временем оценят и поймут.
На самом же деле Сталин наконец понял, что умирает, и решил свести перед смертью давние счеты.
ТБ-4 имели относительно небольшую крейсерскую скорость — чуть больше двухсот пятидесяти километров в час. В ту ночь, когда они вылетели из Монина, была низкая облачность, и, несмотря на летнюю погоду, уже на высоте трех километров они попали в полосу холодного воздуха, и началось обледенение — самолеты опустились ниже.
Экипаж машины № 12, на борту которой была атомная бомба «Иван», привык к этой чушке. Так и называли бомбу — чушкой.
Приказ о маршруте был у командира корабля, приказ на выполнение задания — у старшего майора НКВД и его помощника, который находился в бомбометательном отсеке.
Еще днем молодой командующий авиацией Рычагов, в несколько месяцев взлетевший от командира полка до командующего только потому, что был смел, никогда не вмешивался в дела старших, был неопасен и на него не оказалось серьезных доносов, придумал план, который, с его точки зрения, обеспечивал, если не гарантировал, удачу полета.
Двенадцатая машина шла медленнее остальных, она должна была отстать от основной группы так, чтобы первые машины отвлекли на себя внимание противника.
Двенадцатая машина должна была прокрасться чуть позже их, идти на максимальной высоте, используя облачную погоду, и держаться севернее. Рычагов не задумывался о смысле приказа или его возможных последствиях для всего мира — он выполнял приказ: порой удобнее иметь в командующих вчерашнего командира полка.
Советско-польской границы, проходившей западнее Минска, бомбардировщики достигли на рассвете. Вот теперь-то и начиналось самое трудное. Пока что шли над расположением польских войск, их авиация в бой с советскими тяжелыми бомбардировщиками, шедшими при массированном сопровождении истребителей, не вступала. Но в районе Гродно советские самолеты привлекли внимание немецкого самолета-наблюдателя, который парил в стороне, фотографируя пути отступления поляков.
Сведения о том, что со стороны советской границы идут тяжелые бомбардировщики, Гитлер получил, когда уже был одет, а части строились на Аллеях Уяздовых для парада.
Он провел эту ночь с Альбиной и утром, когда направился в ванную, сказал:
— Я бы хотел сегодня зачать сына. Впервые в жизни такое желание. Почему?
— Потому что это мое желание, — ответила Альбина.
Она причесывалась, сидя перед трюмо. Ее смущало то, что волосы в последнее время стали выпадать, — возраст сказывался… Впрочем, она тут же изгнала эту мысль — сегодня и ее день. Она будет стоять рядом с Адольфом в момент его торжества. И тогда до свершения мести останется всего шаг.
— Ты будешь стоять вместе с женами моих высших сановников, — сказал Гитлер из спальни. — Я не могу подвергать тебя риску — возможно покушение.
— Значит, опасность грозит тебе?
— Нет, меня охраняют космические силы.
— Меня тоже!
— Ты — мать наследника нашей империи, — отрезал Гитлер.
Они завтракали, когда Гитлеру принесли очередное сообщение: тяжелые бомбардировщики русских находятся в полутора часах лета от Варшавы.
— Сколько их? — спросил Гитлер.
— Сейчас данные уточняются, — ответил адъютант. — Очевидно, шесть.
— Сколько им лететь до Берлина? — спросил Гитлер.
— Около четырех часов.
— Поднимите в воздух всю истребительную авиацию рейха, но эти бомбардировщики должны быть сбиты раньше, чем пересекут границу Германии!
Гитлер обернулся к Альбине. Она была испугана.
— А вдруг они летят, чтобы убить тебя?
— Зачем Сталину взятая нами Варшава? Что он в ней потерял? — засмеялся Гитлер.
— А вдруг он знает, что ты здесь?
— Это невероятно. О моем приезде знали лишь несколько человек. Приехали мы с тобой уже в сумерках. Нет, это невероятно…
Гитлер подозвал адъютанта и приказал усилить охрану неба над Варшавой.
Он вышел на площадь. За ночь возведенная трибуна была украшена громадными нацистскими знаменами. Алые полотнища с белыми кругами и свастиками спускались с крыш соседних домов. Где-то недалеко ревели моторы танков, которые готовились выйти на площадь.
Тщательно отобранная толпа клакеров, привезенных из Данцига и даже Берлина, закричала, приветствуя вождя. Гитлер поднял руку, прекращая крики. Альбина остановилась ниже, среди вельмож империи и их жен. Рядом с ней как бы напоминанием окружающим о ее особой роли встал адъютант фюрера. Альбина подняла голову, глядя на фюрера. Высоко в небе, то залетая в облака, то показываясь из них, мелькали маленькие самолетики.
— Это наши самолеты? — спросила Альбина у адъютанта.
— Да, это наши истребители, фрейлейн, — ответил адъютант.
Гитлеру, когда он уже стоял на трибуне, сообщили, что два самолета сбиты, несмотря на то что их охраняли русские истребители. Еще два взяли курс южнее — очевидно, на Бреслау. Наконец, последние два упорно пробиваются к западу. Но истребителям сопровождения не хватает горючего, и они уходят назад. Единственная сложность — русские бомбардировщики прячутся в облаках, хотя возле Берлина облачность кончается, и они окажутся в открытом пространстве.
Гитлер кивнул — он не мог ответить, потому что на площадь вступила первая колонна победителей. Гитлер поднял руку, и его дух воспарил от удивительного превращения толпы людей в единую, стройную, совершенную квадратную колонну, каждая частица которой одинаково чеканила шаг, одинаково двигала руками и одинаково поворачивала голову в шлеме, чтобы влюбленными глазами увидеть Цезаря.
Гитлер посмотрел вниз, стараясь разглядеть в толпе у ног Альбину, которую обидел тем, что отдалил от себя в этот момент. Но долг выше любви. Это есть отличительная черта нордического характера. Недалеко от Альбины стоял генерал Гаусгофер — фюреру была видна лишь его лысина, обрамленная венчиком седых волос…
За три минуты до этого двенадцатая машина, долетев все же до Варшавы, стала жертвой отыскавших ее в облаках «мессершмиттов» и была повреждена. Машина теряла высоту — пилот старался выровнять самолет, хотя выровнять такую тяжелую машину трудно. Он тянул к центру Варшавы, такой у него был приказ — произвести бомбометание над центром Варшавы. И когда самолет готов был сорваться в штопор, старший майор НКВД, отвечавший за выполнение задания партии, смог раскрыть бомбовый люк, и «Иван» вывалился наружу.
Самолет все тянул по касательной и разбился в районе Мотокова. «Иван» рухнул в районе здания Сейма в нескольких сотнях метров от трибуны, на которой стоял фюрер.
Альбина, почувствовав неожиданный удар в сердце, обернулась и увидела совсем близко над домами особый свет, испускаемый бомбой… Она сразу поняла и хотела было кинуться наверх — к Адольфу, но не успела…
Альбине показалось, что неведомая ангельская сила поднимает ее в небо, чтобы она могла наконец соединиться с ее любимым, единственно любимым мужем Гоги. Перед смертью она забыла обо всех других…
Гитлер погиб не от взрыва, а под обломками рухнувшей на него стены дома. Когда через несколько часов порядок в городе был восстановлен настолько, что начались раскопки на месте парада, и Гитлера откопали, он был еще жив, но умер в больнице, не приходя в сознание.
Сталин узнал о случившемся вечером и долго смеялся.
Поскребышев испугался, что Сталин сошел с ума.
А Сталин смеялся над судьбой — он еще раз обманул ее. Он поставил себе лишь одну цель — отомстить мертвому Пилсудскому, уничтожить Варшаву — свой позор и скопище ненавистных ему поляков. А вместе с ними отделался от Гитлера. Нет, надо же, чтобы тот решил устроить парад, как говорится в песне…
— Поскребышев! — крикнул Сталин. — Как поется в песне?
— Не понял, — ответил тот.
— Ну есть такая песня! Наверное, Дунаевского. Там слова: «На том же месте, в тот же час!» — Сталин пропел эту фразу. — Да позвони ты Дунаевскому, спроси, как там дальше, пошевеливайся.
Когда Поскребышев ушел, Сталин откинулся на подушку.
— Одним ударом, — сказал он вслух. — Это похоже на чудо.
В этом состоянии духа он смог продиктовать по телефону в «Правду» сообщение о покушении на Гитлера, устроенном польскими патриотами. Покушение удачное — главный фашист погиб.
Потом он еще говорил по телефону с Ворошиловым, приказывая любой ценой двинуть войска на польскую территорию. Сегодня же.
И Ворошилов, вылетавший через час на границу, чтобы лично возглавить наступление, поражался гениальной прозорливости Сосо, который смог рассчитать такой точный удар в сердце фашистской империи. Теперь Ворошилову стало понятно, почему Сосо был недоступен в последние дни: он готовил гениальную операцию!
Позже, вечером, к Сталину приехал Берия.
Но Сталину стало хуже — прошли напряжение и эйфория победы.
Сталин впадал в забытье и снова приходил в себя. Он с трудом и не всегда узнавал Берию и, если узнавал, диктовал ему какие-то бессвязные приказы, потом заговорил о политическом завещании…
Берия прошел в кабинет Сталина и взял чистый лист бумаги, вложил в машинку. Он напечатал текст. По-сталински краткий:
«В случае моей смерти до решения съезда ВКП(б) обязанности генерального секретаря партии поручаю исполнять товарищу Лаврентию Павловичу Берии». Потом с отступом напечатал число: 19 июля 1939 года.
Поскребышев молча стоял в дверях за спиной Берии.
— Это надо подписать, — приказал Берия Поскребышеву. Тот прочел, подумал. Берия ждал. От решения Поскребышева зависело многое — Берия был здесь один, не считая охранника и шофера, которые, наверное, играют в домино с подсменными охраны Сталина. У Поскребышева здесь были люди, и ему было достаточно мигнуть, чтобы Берию взяли. Берия ждал и не боялся — он не боялся, когда думал, что выиграет.
— Хорошо, — сказал Поскребышев. — Я попробую, Лаврентий Павлович.
Берия больше не входил в комнату, где лежал Сталин. Оттуда доносились стоны, хрип, Сталину было очень плохо. Потом ему показалось, что он слышит голос Поскребышева. И внятный голос Сталина: «Мы еще повоюем, друзья!»
Потом стало очень тихо.
В кабинет, где Берия сидел за столом и постукивал карандашом по зеленому сукну, вошел Поскребышев и положил перед Берией подписанное Сталиным завещание. Подпись была настоящая, твердая. Как этого удалось добиться Поскребышеву, Берия никогда не узнал.
— Он умер? — спросил Берия, не поднимаясь из-за стола.
— Иосиф Виссарионович скончался, — сказал Поскребышев и горько заплакал.
Известие о гибели Варшавы достигло европейских столиц через несколько часов — задержка была вызвана тем, что большинство журналистов находились на параде и погибли или были ранены вместе с верхушкой Третьего рейха. Те же, кто мог послать сообщение, столкнулись с параличом всей системы коммуникаций: не работала ни телеграфная, ни телефонная связь. Лишь после полудня один из журналистов, связанный с американской разведкой, смог отыскать дом резидента, сам резидент пропал без вести, но его жена, она же радист, несмотря на состояние шока, в котором пребывала, согласилась дать радиограмму в Вашингтон. Радиограмма была принята сначала центром в Копенгагене и воспринята там как «утка». Поэтому резидент в Копенгагене до проверки не разрешил передавать радиограмму дальше. Однако к тому времени в эфир вышли радиолюбители, видевшие огненный столб над Варшавой, а вскоре удалось наладить передатчик в полуразрушенном английском посольстве в Варшаве. В три часа о событиях в Польше уже знал Черчилль, и он при всем своем уме и политическом опыте не смог полностью осознать происшедшего. Потому что телеграммы и радиограммы с трудом поддавались проверке — в Варшаве царил полный хаос: атомная бомба Сталина, как перст Немезиды, как Божья кара, уничтожила не только цвет германской армии, вошедшей в Варшаву и дефилировавшей перед фюрером, но и мгновенно разорвала все связи как внутри Польши, так и внутри самого рейха, ибо все они, как нити паутины к пауку, стягивались в тот момент к Варшаве.
Может, поэтому, уже поверив в то, что атомная бомба упала на Варшаву, Черчилль не мог поверить в смерть Гитлера, Геринга и Гиммлера — бывают совпадения вне человеческого разумения, возможные лишь в авантюрных или фантастических романах. А Черчилль был сугубым реалистом, и притом осторожным, при оценке благоприятных совпадений.
Но уже к вечеру стало ясно, что Гитлер погиб, тело его было извлечено из-под обломков, но врачам не удалось раздуть тлеющий огонек жизни. На месте были убиты также сопровождавшие фюрера бонзы Третьего рейха — Гальдер, Гиммлер, Геринг и Геббельс, не считая сонма генералов и чиновников поменьше рангом.
В тот день и последующие несколько дней некому было считать убитых Сталиным жителей Варшавы, впрочем, о них тогда думали лишь сами поляки — окружающему миру казалась более важной смерть диктатора.
Странно, но война в Польше еще несколько дней продолжалась, и ее характер изменился не сразу, но уже на третий день стало ясно, что со смертью главных вождей империи стало не за что сражаться, и Польша оказалась никому не нужна. Горстка бандитов придумала лозунги, вопли, а затем и идеологию, которая была принята населением государства, но, оказывается, вовсе не существовала вне банды, потому что была не более как набором вспомогательных способов убивать несогласных.
Года через два в Берлине была напечатана книга одного из последователей генерала Гаусгофера, в которой утверждалось, что крушение марша на Восток было вызвано именно этой мистической смертью, которая автором связывалась с женщиной — славянкой, обладавшей невероятной мистической силой и затянувшей Гитлера в «варшавскую ловушку». Известно было имя этой женщины — Альбина, но никогда не будут разгаданы появление ее в Берлине и причина ее таинственного влияния на Гитлера. А те лица, которые могли бы внести ясность в эту тайну, ушли на тот свет вместе с Гитлером либо по весьма существенным причинам предпочитали молчать.
Война не может кончиться в одночасье, если не было приказа ее кончить. Как только сведения о гибели фюрера были подтверждены в штабе войск «Ост» и в самом Берлине, верховное командование автоматически перешло к генерал-полковнику Кейтелю, а руководство партией взял на себя Рудольф Гесс.
Однако наступление германских армий вскоре застопорилось, словно из него выпустили воздух, а трехчасовое нарушение связи и почти десятичасовой перерыв в преемственности командования привели к переменам в самом характере военных действий.
Польские армии, отступившие из Варшавы и сконцентрированные как возле крепости Модлин, так и южнее, в районе Катовиц, воспользовавшись заминкой в немецком наступлении, перешли к активной обороне, а на некоторых направлениях даже пытались наступать. В результате удачной атаки 2-го танкового полка, поддержанного креховецкими уланами полковника Дибич-Волынского, 37-я немецкая пехотная дивизия очистила город и неорганизованно отступила к Лодзи. Это еще не было переломом в войне, но сведения о первой удаче вкупе с известием о том, что немецкому десанту так и не удалось взять Вестерплатте, распространялись по Польше тем таинственным мгновенным образом, как некогда вести о наступлении тевтонских рыцарей или появлении турецких армий на южных границах.
А Черчилль — в том же старом кабинете в Адмиралтействе и в присутствии тех же действующих лиц, что несколько дней назад, — даже позволил себе возмутиться:
— Что же произошло? В мире должна быть логика!
— В политике нет логики, — ответил сэр Энтони Иден, присоединившийся к немногочисленным слушателям Главного лорда Адмиралтейства. — Я исповедую этот принцип весьма успешно.
— Вы молоды, сэр Энтони, — заявил Черчилль. — Вам простительно не видеть того, что скрыто под поверхностными водоворотами.
Он оглядел собеседников. Все они — и Иден, и Никольсон, и Маунтбэттен — были молоды и годились ему в сыновья. Но они были куда ближе сэру Уинстону, чем растерянные перед лицом бандитской наглости старомодные джентльмены.
— У Сталина, как мы можем предположить, есть только одна атомная бомба. И он бросает ее на Варшаву. Если кто-нибудь из вас сможет нормальным языком разъяснить мне, зачем он это сделал, я дарю ему на выбор любую бутылку вина из моей скромной коллекции!
— Он хотел убить Гитлера, — сказал Никольсон.
— Чепуха, — не согласился Иден. — С Гитлером у Сталина было заключено наивыгоднейшее соглашение — он получал половину Восточной Европы. Убив Гитлера, он расторгает союз, пусть даже союз двух бандитов, союз уголовников, но выгодный обеим сторонам. Даже в уголовном мире так не делается.
— У меня козырная карта, — продолжал рассуждать вслух Черчилль. — Всего одна. Я не могу с ее помощью выиграть большую игру, но этот кон — мой! Но какой кон? Я почти убежден, что, имея в кармане бомбу, Сталин мог торговаться с Гитлером с куда более выгодных позиций, чем раньше. Он мог за эту бомбу получить и саму Варшаву, они могли разделить мир между собой…
— А как ему надо было ее употребить? — спросил Маунтбэттен, желая найти подтверждение собственным выводам.
— Я бы на его месте припугнул нас с вами, адмирал, — сказал Черчилль. — Нет, не обижайтесь, не лично вас, а тех, кто правит нашей страной, и политиков типа Даладье. Я представляю бандитский шантаж — совершенно в стиле дяди Джо или Адольфа: бомба падает на Париж! И затем следует совместный ультиматум — Франция должна выйти из игры, иначе она получит еще порцию… А затем наступит наша очередь.
— Но в Америке уже идут работы над бомбой, и, наверное, скоро они смогут что-то противопоставить… — Никольсон оборвал собственную фразу и махнул рукой.
— То-то, — улыбнулся Черчилль. — Видите, насколько это неубедительно. Пока американцы сделают свою бомбу, у Сталина их будет уже двадцать. За последние дни я провел несколько часов, беседуя с нашими ядерными физиками. Для того чтобы сделать первую бомбу, нам потребуется несколько лет. Мы даже не знаем, с какого конца взяться за проблему. Но как только ты сделал первую — остальное дело техники. Она ведь проста, как яблоко.
— А как же русские?
— По нашим расчетам, русские потратили на бомбу семь-восемь лет, и для этого они угробили несколько десятков тысяч человек — потому что все, что там есть, строили рабы, заключенные лагерей…
— Как же они догадались? — спросил Иден.
Черчилль не стал отвечать на этот вопрос. Он снова принялся ходить по мягкому ковру — сильный и жесткий, как носорог, несмотря на свои годы.
— Ну, допустим, что Сталин решил сыграть в собственную игру. Значит ли это, что у него есть в запасе уже готовые бомбы? А наша разведка молчит.
— Наша разведка молчит. — Иден с упреком кинул взгляд на засевшего в темном углу сэра Рибли. Тот только пожал плечами, что ровным счетом ничего не означало.
— Допустим, что у Сталина несколько бомб и он решает сам диктовать свои условия миру…
— И решает убить Гитлера.
— Да не знал он, не мог знать, что Гитлер прилетит на этот парад! Никто даже в Берлине не знал — это было решение последней минуты. Как теперь стало известно, Гиммлеру и его молодчикам пришлось лететь в Варшаву вечером, чтобы к утру выгнать из нее половину населения… и кстати, спасти множество поляков, — сказал Рибли.
Черчилль улыбнулся, присел к столу, на котором стояла коробка с бирманскими сигарами, и, откусив ножницами кончик, принялся раскуривать сигару.
— Тогда мы должны ждать от Сталина предложений мира, — сказал Маунтбэттен. — Все же он политик, а не только бандит. И ему нужны союзники.
— Кстати, — Черчилль обернулся к сэру Рибли, — из Москвы есть свежие известия?
Начальник разведки отрицательно покачал головой.
— Вот именно! — взъярился Черчилль. — Мир катится в тартарары, а мы не знаем, что происходит в Москве.
— Вернее всего, — тихо ответил сэр Рибли, — ничего не происходит. В ином случае мы бы услышали что-нибудь по радио.
Черчилль раскурил сигару, поднялся, прошел к холодному камину — в комнате стало душно, но шторы были наполовину сдвинуты и окна закрыты.
— Мне кажется, — медленно сказал он, — что смерть Гитлера — счастливая или несчастливая случайность, такая же случайность для Сталина, как и для нас. А если так, то у нас еще остается надежда.
— Пока что русские не признали, что это была бомба, — заметил Маунтбэттен.
— Это тем более ставит их в ложное положение, — сказал Черчилль. — Завтра весь мир будет знать, что бомба — страшное преступление Советов. Никуда они не денутся. Но пока я представляю себе, как суетятся их пропагандисты, чтобы доказать своему народу и всему миру, что бомба заслуженно обрушилась на головы поляков.
— Может, они объяснят, что роняли ее только на голову Гитлеру?
— И договор о сотрудничестве и разделе мира с Гитлером подписывали только из большой хитрости? Нет, я не завидую этой публике, — сказал Иден.
Известие о событиях в Варшаве было неожиданностью для всех в Москве, кроме тройки исполнителей — Берии, Ворошилова и Рычагова — да Поскребышева, который находился в шоке от смерти вождя. Даже Шавло, догадавшийся о событии, а потом и уверившийся в безумном шаге Сталина, узнал о судьбе Варшавы лишь по радио — поздно вечером.
Из своих приближенных Берия поделился мыслями лишь со Вревским, а тот испугался, потому что был человеком трезвым и рассудительным, а происходящее было ненормальным.
Поняв состояние Вревского и даже частично разделяя его, ибо оставался холодным и жестоким практиком, для которого кошмар, сумасшествие были лишь орудием в борьбе за власть, Берия успокоил заместителя странным образом.
— Сталин долго не проживет, — сказал он. — Я уверен.
— А что? Что случилось? — Вревский был циничен, он видел куда более, чем положено видеть на веку нормальному человеку, но мысль о возможной смерти Сталина настолько выходила за пределы его понимания, что он потерял контроль над собой. — Этого не может быть! Что же тогда станет с нами?
И вдруг Берия весело засмеялся, поблескивая стекляшками пенсне.
— Вы только послушайте этого идеалиста! — говорил он, прерывая речь спазмами смеха. — Он прожил полжизни при царе и наверняка, когда царя ухлопали, тоже бил себя в грудь кулаками и кричал: «Этого не может быть! Что теперь с нами будет?» — Берия старался передразнить Вревского, но это у него плохо получалось, потому что ему мешал грузинский акцент. Отсмеявшись, он сказал, согнав с лица даже намек на улыбку: — А ничего не будет. Россия, Советский Союз как жил, так и будет жить. Просто на троне сменится еще один царь.
И Берия сказал это так, что у Вревского захватило дух от осознания открывшейся ему истины. Он понял, кто теперь хочет править страной. Если хватит сил…
— Будет оппозиция, сильная оппозиция, — сказал Вревский после паузы.
«Это правильные слова, правильная реакция, — подумал Берия. — Это слова разумного и достойного единомышленника. Я бы не простил ему глупости, если бы он спросил, кто же будет царем, и не простил бы ему слабости, если бы он бросился обнимать мои колени».
— Поэтому все должно быть сделано очень быстро и совершенно неожиданно. К счастью, Сосо очень боялся держать возле себя умных людей, он сразу рубил им головы. И с кем он остался — с дураками! — Берия улыбнулся.
Вревский отметил про себя, что Берия говорит о Сталине в прошедшем времени, и внутренне сжался.
— А когда… когда может скончаться Иосиф Виссарионович? — спросил он. Вревский стоял перед Берией прямо, коренастый и надежный в блестящих сапогах, которые вбирали в себя свет и даже, как показалось Берии, отражали переплет окна. Вот это лишнее, подумал он, нельзя так много времени уделять своим сапогам. Впрочем, у него могут быть ординарцы или даже сожительница, которая облизывает сапоги язычком.
— Сосо не очень доверяет врачам и не допускает их к себе. У великого человека бывают великие слабости. Поэтому мне пришлось по секрету привести к нему доктора, когда Сосо спал. Мы с товарищем Поскребышевым дали ему сильное снотворное, и он крепко спал. Доктор сказал, что товарищ Сталин жив только потому, что в жизни у него есть какая-то великая цель — она поддерживает его силы. Как только цель будет достигнута, он умрет.
— А когда?
— Когда да когда! Надо думать! Цель была. Цель достигнута.
— Простите, но я не все понял.
— Хорошо. Есть вещи, которые ты и не можешь понять. Но я должен тебе сказать, что у каждого человека есть самое главное чувство. Для одних — жадность, для других — честолюбие. А знаешь, какое самое важное чувство для товарища Сталина? Нет? Для товарища Сталина главное чувство — месть. Он кавказский человек, я думаю — это у него глубоко в крови. Пока он не отомстит, он не может спать спокойно. Пройдут годы, но он обязательно сведет счеты с человеком, даже с незнакомцем, который еще до революции нечаянно наступил ему на ногу в трамвае. Но была одна месть, которую он не мог осуществить, но не хотел, чтобы за него мстили другие, эта месть — Варшава. Это его унижение. Это его поражение. Я полагаю, что он послал самолет с бомбой на Варшаву не потому, что это была великая политика, а потому, что он был маленьким и злобным горцем.
Вревский покачал головой. Он не смог принять эту теорию.
— Дорогой мой, давай считать этот вариант сказкой, — усмехнулся Берия. — Мы никогда этого не докажем. Я останусь при своем мнении, а Клим Ворошилов, народный комиссар, будет думать, что это гениальный ход его учителя и друга, который так хитро убил Гитлера. И выиграл войну, которую ни с кем не вел.
— Этого быть не могло? — спросил Вревский, глядя на свои сапоги.
— Этого быть не могло, потому что ни наша разведка, ни лично товарищ Сталин не знали, что Гитлер будет в Варшаве. К тому же товарищу Гитлеру товарищ Сталин не собирался мстить — он хотел поделить с ним весь мир.
— А чем болен товарищ Сталин? — спросил Вревский, так и не убежденный словами своего шефа.
— Его убила бомба, — ответил Берия.
— Как? — Вревский решил было, что нарком шутит. Берия не стал объяснять. Рано. Потом все узнается. И Сталин официально умрет сегодня ночью, счастливый оттого, что убил Варшаву, которая так и не допустила его в свое лоно.
Андрей пребывал в своей умеренно благоустроенной тюрьме и мог получать новости лишь из приемника «телефункен», который ему привезли после настойчивых просьб. Приемник плохо ловил Москву, но Андрей немного знал английский и потому мог слушать последние известия из Лондона.
О союзе между Сталиным и Гитлером он узнал из сообщения английского радио. Оттуда же — известия о неожиданном для всего мира наступлении Гитлера на Варшаву.
Он понимал, что Сталин играет бомбой, как козырной картой, но Гитлер по их с Альбиной показаниям должен знать, что Сталин блефует, — у него же только одна бомба.
Андрей полагал, что Сталин делает вид, будто у него бомб — пруд пруди. Но ведь Гитлер, как призналась Андрею Альбина, знает уже, что у Сталина пока есть только «Иван» — вторая из изготовленных в институте бомб. И больше до осени не будет. Андрей верил Альбине, она же, как ни странно, получила эту уверенность после допросов Канариса — ее заставляли там вспоминать все, о чем говорилось в дирекции института, что она знала о перевозках и были ли другие центры атомных исследований. Оказывается, за последние два года работы в предбаннике у Шавло Альбина услышала столько, сколько не смог бы узнать опытный резидент. Но зачастую она не понимала смысла информации, которая накапливалась в ее головке и никогда никуда из нее не вываливалась. Так что показания Альбины, многочасовые и подробные, были сокровищем для аналитиков разведки. Правда, они хранились в ведомстве Канариса. И Фишер не имел к ним доступа.
Вечером английское радио сообщило об атомном взрыве в Варшаве, а еще позже — о возможной гибели самого Гитлера.
Андрей долго не спал, ловя хоть какие-нибудь сообщения из Москвы. Но Москва передавала мелодии из «Лебединого озера», «Марш энтузиастов» и беседы о прополке свеклы. Там ничего не происходило.
Сообщение о взрыве в Варшаве затерялось среди прочих новостей в ночных последних известиях. Между сообщением об отважных защитниках Барселоны и новыми зверствами японских оккупантов в Китае. В сообщении говорилось, что в центре Варшавы произошел мощный взрыв, возможно, на варшавском арсенале. Не исключено, что взрыв произведен сознательно польскими военнослужащими для того, чтобы уничтожить оккупантов. Других известий с фронта боевых действий в Польше на настоящий момент не поступало. Тут же диктор перешел к описанию событий в Китае.
Утром он снова бросился к приемнику, но тут же пришлось отвлечься: у ограды особняка остановился знакомый «Опель» Карла Фишера.
Андрей обрадовался разведчику, как родному брату.
Он кинулся к двери и открыл ее прежде, чем дремавший за столиком и не слышавший звука автомобиля охранник успел встать со своего места.
Карл Фишер поманил за собой Андрея и быстро пошел в гостиную. Там он бросил на кресло шляпу. Красные щечки Карла полыхали от волнения, очки запотели. Он снял их.
— Вы уже знаете, мой друг?! — воскликнул он, показывая на включенный приемник.
— Ни черта я не знаю, — ответил Андрей. — Москва ничего не хочет сказать, Лондон через каждые полчаса выдает новые версии, а что говорят ваши станции, я не понимаю.
— Кстати, — с искренним упреком заявил Фишер, — за время, пока вы здесь находитесь, иной, более разумный молодой человек выучил бы немецкий язык. Это полезно. Я сам учил французский язык во французской тюрьме. Но об этом после. Я пришел к вам для того, чтобы поговорить кратко, но совершенно искренне. Я предлагаю вам побег.
— Побег? Куда? Зачем?
— Вам нравится здесь?
— Нет.
— Вы чуть запнулись, потому что в сравнении с жизнью на родине ваше пребывание здесь кажется комфортабельным? И вы испытываете благодарность за то, что мы вас спасли?
— Я не такой наивный, — сказал Андрей. — Не нужны бы вам языки, никогда бы нас не стали спасать.
— Языки?
— Это военное слово. Значит пленный, у которого есть язык.
— Вы хотите сказать, что нам нужны были ваши языки, а не жизни?
— Так и хотел сказать.
— Вы не правы. Мне было искренне вас жаль. Потому я так спорил с Юргеном, с пилотом самолета.
— Наверное, это не так важно сейчас?
— Нет. Важно. Скажите, пожалуйста, у вас есть политические симпатии или антипатии?
— Есть, — сказал Андрей.
Карл Фишер открыл буфет, вынул оттуда бутылку, поглядел на свет, будто проверяя, не пил ли Андрей без него, разлил ликер по рюмкам.
— Тогда поделитесь ими. Хоть сейчас каждая секунда на счету, я согласен выслушать ваше искреннее мнение о мировой политике.
«Он издевается? Нет, он взволнован, я ему для чего-то очень нужен. Он хочет склонить меня к своему плану так, чтобы это было моим добровольным решением».
— Я не люблю Сталина и государство, которое он создал.
— Но ведь вы сами — детище и создание этого государства.
— Мы говорили уже с вами об этом. Я воспитывался вне пионеров и комсомола — так уж получилось.
— И ни разу не объяснили мне, почему так получилось.
— Вас это не очень интересовало.
— Не интересует и сейчас.
Андрей пошире распахнул окно, захлопнувшееся с неприятным стуком от порыва ветра. Было жарко, душно, надвигалась гроза.
— Будет гроза, — сказал Фишер.
— Меня не радует фашистское государство. Я не люблю вас и ваши порядки, — сказал Андрей.
— Вот видите! — сказал Фишер почти с торжеством. Как будто Андрей угадал правильный ход.
— Вы об этом меня раньше не спрашивали, а я не говорил — я понимал, что убегу от вас, я надеялся, что будет война и два скорпиона не уживутся в одной банке.
— Вы осмелели, — Фишер показал на приемник, — как только узнали о смерти фюрера.
— Вы просили меня быть искренним. Если бы спросили меня об этом вчера, вы получили бы такой же ответ. Но вчера вы не смели спросить, потому что иначе должны были бы донести на меня.
— Ах, что вы! — отмахнулся с улыбкой Фишер. — Я не мелкая сошка, которая должна давать отчет каждой нацистской козявке.
— Почему вы ко мне пришли?
— А если бы у вас появилась возможность эмигрировать?
— Как?
— Уехать, допустим, в Англию? Вы согласились бы?
— Как шпионская добыча? — спросил Андрей. — Чтобы там тоже сидеть в клетке?
— Вы слишком догадливы, мой юный друг, — сказал Фишер. — Но вы правы.
— Неужели дела в вашем королевстве так плохи, что вы решили бежать, а меня взять как пропуск?
— Ну, молодец! — Фишер поднялся и прошел к двери, чтобы посмотреть, не подслушивают ли их, на самом же деле, как показалось Андрею, чтобы скрыть свое смущение, — он не ожидал, что беседа повернется таким образом.
Фишер обернулся к Андрею, снял очки и принялся их протирать клочком замши.
— Никогда бы не узнал вас, — сказал он, надевая их и оглядывая Андрея, как собственное творение. — Вы не представляете, каким заморышем мы вас оттуда вытащили. Лысый, уши торчат, глаза ввалились — ну буквально живой труп. А сейчас вас впору срисовывать для плакатов: «Истинный ариец, вступай в ряды!» или, может, «Истинный комсомолец, вступай в ряды!».
— Карл, говорите же, — прервал его Андрей. — Я ведь не мальчик и понимаю, что все вокруг идет прахом.
— И хуже того, — согласился Фишер. — Вчера во время парада в Варшаве Сталин сбросил на Гитлера атомную бомбу. Как он догадался, что его главный соперник в борьбе за мировое господство будет именно там в тот момент, а Гитлер, который отлично знал, что у Сталина есть атомная бомба, доверился ему и решил, что ему-то ничего не угрожает, — я этого не понимаю! Но, как назло, эта мгновенная акция Сталина свалила карточный домик, который казался такой стройной и высокой пирамидой! Вместе с фюрером погибли основные чины партии. Сейчас в Берлине Рудольф Гесс пытается собрать воедино и держать в руках партию — на сколько его хватит? Сожрет его Борман или начнется переворот со стороны социал-демократов? Ты же представляешь, сколько в Германии недовольных фашизмом, которые жили в трепете перед Гитлером и Гиммлером!
— И чего вы ждете?
— Я жду страшно опасных для тебя и меня пертурбаций в рейхе, я жду гибели рейха, потому что он, не забудь того, мой мальчик, находится в состоянии войны с Англией и Францией. А те молчали и лишь лениво пошевеливались, пока был жив Гитлер, и все надеялись, что Гитлер их не скушает. Теперь же там, поверь моему слову, к власти придут такие деятели, как Черчилль или де Голль, — ярые враги германского духа.
— Вы говорите как газета «Правда», — улыбнулся Андрей.
— Мы с ней представляем родственные социальные структуры, — ответил Фишер. — И я знаю, что, почуяв нашу слабость, зашевелятся так недавно съеденные нами Чехословакия и Австрия, не говоря уж о Польше, для которой смерть Гитлера — знамение католического Бога. Я не удивлюсь, если завтра французы перейдут немецкую границу с одной стороны, а поляки — с другой.
— Даже так страшно? — Андрею не было жалко фашистов, но каков Фишер! Как он спешит переменить флаг! Значит, и такие заслуженные крысы побежали с корабля?
— Простите, забыл вам сказать, — продолжал Фишер другим голосом, будто извиняясь перед Андреем. — Судя по всему, погибла ваша спутница Альбина.
— Где? — Андрею вдруг стало так больно.
— В Варшаве. Она была на параде вместе с Гитлером. Рядом с ним.
— Как жалко… — сказал Андрей. — Как ее жалко.
Андрей выпил ликер, ликер был душистый, но слишком сладкий. Он предпочел бы сейчас водки. И догадливый Карл крикнул охраннику — так, чтобы тот услышал в вестибюле, — и приказал принести из кухни шнапса.
Они молчали ту минуту или две, пока охранник принес бутылку, и Фишер налил Андрею водки в чайную чашку. Потом подумал, налил себе тоже.
Охранник молча вышел.
— И еще мне жалко, — сказал наконец Андрей, — что она так и не отомстила. Она хотела отомстить Алмазову, а может, Сталину — тем, кто был виноват в смерти ее мужа. Я думаю, что она согласилась стать… подругой Гитлера ради этой мести.
— Я согласен с вами, — сказал Фишер. — Но и вы согласны… — Он понизил голос. — Вы согласны лететь со мной в Англию?
— Разумеется, — сказал Андрей. — Куда угодно — только отсюда. Мне надоел очередной лагерь. Пора на пересылку.
В своих предчувствиях Карл Фишер был более чем прав. Уже когда он сидел у Андрея Берестова, начались бои вокруг Варшавы — корпус Гудериана, попавший под удар в Варшаве, начал отступать, и с каждым часом все более обнаруживалось, что эта война — чистой воды авантюра Гитлера, которая могла бы принести плоды, если бы он оставался наверху пирамиды. Без него эту войну скорее следовало бы назвать операцией «Голый король». Эти слова принадлежали Рузвельту и были сказаны куда позже, после того как Черчилль стал премьер-министром. То есть на следующий день.
На улицах чешской столицы появились демонстранты — полиция и вызванные войска разгоняли их, в одном месте эсэсовцы открыли стрельбу и убили несколько человек, но к ночи на Вацлавскую площадь вышла вся Прага, и площадь украсилась миллионом зажженных свечей.
Генерал де Голль, столь тщательно оттесняемый Гемелином, без приказа свыше, так и не дождавшись окончательного решения Генерального штаба Франции, сговорился с командующим 5-й армией и двинул свои танки на Кельн. Сопротивление этому удару было слабым и неорганизованным.
Когда стемнело, как раз во время первого налета английских бомбардировщиков на Берлин, не принесшего большого вреда, но посеявшего панику в городе, в рейхсканцелярии Рудольф Гесс принял приехавших из Варшавы, чудом оставшихся в живых тибетского ламу Ананду, который так и не промолвил ни одного слова, и Лобзанга Рапу. Оба были истерзаны дорогой и испытаниями, которые им пришлось перенести. Лобзанг Рапа первым делом заявил, что железные дороги к востоку от Берлина потеряли общее управление и вагоны переполнены дезертирами. Гесс отмахнулся от этой информации — это дело министерства транспорта и военных комендатур. Сейчас, после мученической кончины Великого Мага и Учителя — генерала Гаусгофера, следовало решить, что делать Посвященным далее. Ведь среди них нет согласия, как трактовать взрыв бомбы? Принять ли его за возмущение рока против неправильных и несвоевременных действий фюрера или пренебречь трагедией и продолжить великую борьбу? Вызванные на ту же встречу еще два представителя Посвященных, вчера еще обладатели великой страны и предмет трепета соседей, не имели собственного мнения и надеялись на то, что тибетский учитель и камрад Гесс лучше их владеют связями с иррациональным миром.
— Мне необходимо срочно вылететь в Тибет, — сказал наконец лама Лобзанг Рапа. На этот раз он был без зеленых перчаток — он боялся, что его кто-нибудь узнает. — Попрошу выделить мне самолет и охрану. Я не могу дать ответа без консультаций с ламами монастыря в Лхасе, и вы это понимаете не хуже меня, герр Гесс.
Гесс отошел к столу, за которым еще недавно сидел фюрер.
— Все могут быть свободны, — сказал он. — Мой секретарь проводит вас на третий этаж в партийную кассу, где вы получите деньги на дорогу.
— Куда? — спросил один из берлинских магов. Голос его сорвался, и он откашлялся. Гесс никогда ранее не видел его без длинной лиловой тоги, в которой тот появлялся перед избранными, и потому никак не мог вспомнить его настоящего имени.
— К чертовой матери, — сказал Рудольф Гесс и, повернувшись, вышел в маленькую дверь за столом фюрера. Он не хотел больше видеть этих людей.
Гессу было необходимо успеть на чрезвычайный совет, собиравшийся на вилле Бормана. Туда приедут Геббельс и Розенберг. Может, будет алкоголик Лей. И они станут делить остатки власти, так как не понимают, что империя в нынешнем состоянии не устоит. И те, кто будет упорствовать в этом, погибнут под развалинами Берлина.
Гесс прошел в комнату правительственной связи. Дежурный приветствовал его. Гесс связался с верховным штабом вермахта. Польские войска заняли Данциг и выходят к границе с рейхом. Танки генерала де Голля продолжают преследовать отступающие местные гарнизоны. Палата общин английского парламента почти единогласно избрала премьером поджигателя войны Уинстона Черчилля. Лишь из России не было никаких вестей. Словно она затаилась для прыжка — но куда прыгнет кавказский лев после убийства Варшавы?
Гесс приказал подать машину. Он вдруг понял, что единственный путь остановить войну и спасти империю в том, чтобы уговорить Англию на немедленный мир. На любых условиях. Как только Англия согласится на мир — остальные не так страшны. Две арийские державы, объединившись, спасут мир льда!
Рудольф Гесс вызвал по правительственной связи адмирала Канариса, который оказался у себя в кабинете. Он приказал прибыть к нему в рейхсканцелярию через двадцать минут со всеми документами, касающимися «Полярного дела».
Канарис сказал, что выезжает. Из всех оставшихся в живых вождей рейха он более других мог положиться именно на Гесса, несмотря на мистический склад его ума. Гесс был англофилом, что в этой ситуации могло сыграть решающую роль. Канарис понимал, что при потере общего руководства продолжение войны с Польшей и Францией бессмысленно.
Гесс еще раз вернулся в кабинет фюрера. Он любил этого человека, он считал его пророком, близким к богам Валгаллы, он до конца дней будет оплакивать его как мессию… Зазвонил телефон. Это был Геббельс.
— Рудольф, мы не можем больше ждать. Мы должны немедленно избрать наследника фюрера. Неужели ты не понимаешь, что любая минута промедления опасна для рейха?
— Я не претендую на эту роль, — сказал Гесс.
— А мы и не рассматриваем твою кандидатуру, — отрезал Геббельс.
— Тогда мне нечего делать у вас.
— Если ты задумал предательство, — крикнул Геббельс, — мы найдем тебя и уничтожим! Понимаешь, уничтожим!
Гесс повесил трубку. Времени и в самом деле оставалось в обрез. Они могут попытаться арестовать его.
Гесс взял некоторые документы из сейфа фюрера — Гитлер всегда оставлял ему комбинацию, если ненадолго отлучался из столицы. Затем, с одним портфелем в руке, быстро спустился вниз. Его машина стояла у подъезда. Сзади — машина охраны.
Вдали показались огни приближающегося автомобиля. Гесс вдруг испугался, что это эсэсовцы, которых прислал Геббельс. Он отступил за спину охранника. Но это был «Мерседес» адмирала Канариса.
Тот вышел из машины, и Гесс с облегчением сбежал по ступенькам и пожал ему руку.
— В тяжелые времена лучше быть вместе, — сказал он.
— И куда же? — спросил Канарис.
Было душно, надвигалась гроза, и молнии сполохами загорались на востоке.
— Хорошо бы уйти от плохой погоды, — сказал Гесс.
— У меня хороший пилот, — сказал Канарис.
Они ехали в машине Канариса, затем следовала пустая машина Гесса, потом машина с охраной.
Эсэсовцы настигли их почти у самого аэродрома — Геббельс все же успел послать их по следу.
Машина охраны вступила в бой. Ее изрешетили из пулемета, и она свалилась в кювет. Затем наступила очередь пустой машины Гесса, перегородившей дорогу. Пока преследователи расправлялись с ней, Гесс и Канарис успели прорваться на аэродром.
У Канариса все было продумано.
— Мы летим на частном гражданском самолете. Но мотор его посильнее, чем у «мессершмитта».
Гесс не стал спорить — эсэсовцы могли появиться в любой момент.
Самолет был невелик. Там сидел всего один офицер — адъютант Канариса.
Из кабины выглянул летчик — пожилой лысеющий человек, лицо в глубоких морщинах, как бывает у лесников или геологов, которые проводят значительную часть жизни на открытом воздухе.
— Все в порядке, — сказал человек, и Гесс узнал русского летчика.
— Тогда полетели, капитан Васильев, — сказал Канарис. — Вы знаете, что сегодня в небе слишком много самолетов, вам нужно всех обмануть и обогнать. Мы с господином Гессом слишком ценный груз. Может быть, в нас — будущее всего мира.
— Когда вы перечисляли ценные грузы, адмирал, — заметил летчик, — то забыли упомянуть меня. Я ведь тоже люблю жить.
— Простите, капитан Васильев, — сказал Канарис. — Я с вами согласен.
Васильев скрылся в кабине, и самолет вздрогнул оттого, что пропеллер начал крутиться все быстрее и быстрее, пока не задрожала обшивка самолета.
— Он русский, — сказал Гесс, выказывая тоном сомнение в правильности действий Канариса.
— У вас есть больше оснований доверять господину Геббельсу или молодцам Мюллера?
— Разумеется, у меня нет таких оснований, — сказал Гесс.
Самолет разогнался и пошел к северу, чтобы обмануть истребители, если их поднимут в погоню.
Но истребители его не заметили — правда, пришлось пройти краем грозового облака, гроза в ту ночь свирепствовала над всей Европой, и их сильно потрепало. Адмирал Канарис держался молодцом, а Гесс испугался. Он стал молиться так громко, будто хотел перекричать мотор. Канарис склонился к нему и спросил не без ехидства:
— Разве вы христианин? Профессора черной магии будут недовольны.
Гесс лишь отмахнулся.
Над проливом Васильев увидел в разрывах облаков одномоторный самолет, шедший параллельным курсом. Васильев не испугался, но взял чуть выше. И впрямь у него не было оснований опасаться — в увиденном им самолете спешил в Англию Карл Фишер и с ним — Андрей.
Над берегом Шотландии Васильев вышел на радиосвязь с аэродромом в Эдинбурге, Гессу было видно, как он говорит что-то в микрофон, прижав его к губам. Из Эдинбурга Васильеву дали связь на Лондон, откуда запросили, хватит ли у него горючего до Лондона. Через несколько минут их встретил поднятый в воздух истребитель и проводил до военного аэродрома под Лондоном.
В своей знаменитой речи в палате общин 22 июля 1939 года Черчилль заявил, что страны демократического мира не остановятся до тех пор, пока коричневая опасность не будет стерта с лица земли. Где-то во второй половине речи он дал понять слушателям, что, судя по полученной правительством Его Величества строго секретной информации, оружие, разработанное в Советской России, не представляет угрозы для жизни и собственности подданных Королевства и правительство примет все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность в будущем.
В то время еще шел глубокий анализ показаний Альбины, привезенных Канарисом, и допросы Фишера, Васильева и Берестова — из многочисленных кусочков мозаики, ценность которых порой была неясна для самих рассказчиков, английской разведке требовалось составить общее представление о структуре Испытлага и Полярного института, его функциях и возможностях, о степени и уровне исследований. Андрея допрашивали не только военные и господа в цивильных костюмах, всегда делавшие комплименты его посредственному английскому языку, но и ученые, физики, их было легко отличить хотя бы по тому, что они позволяли себе сердиться на Андрея за то, что он так мало знает.
И лишь в начале августа в Лондоне было принято окончательное решение.
Оно могло быть принято потому, что военные действия в Европе к 18 августа фактически закончились. Линия перемирия была установлена на западе по Рейну, затем от Вюрцбурга до Мюнхена, на востоке польские армии заняли Бреслау и Штеттин и не намеревались оттуда уходить. Временное коалиционное правительство в Берлине не включило в себя ни одного из членов национал-социалистской партии. А членские билеты партийцев медленно плыли по рекам и канализационным трубам империи.
Лишь события в России оставались загадочными и непонятными.
На следующий день после смерти Сталина Берия от его имени собрал Политбюро. Приехали все. Даже Ворошилов прилетел с фронта, изготовившегося к наступлению.
Лаврентий Павлович заставил себя ждать.
Под взглядами соратников — старых и недавних — он прошел в конец стола и собрался было сесть на место, которое обычно занимал Сталин, но вдруг вспомнил о чем-то и, нажав на звонок на углу письменного стола, вызвал Поскребышева.
Перемена, происшедшая в верном секретаре Сталина, была разительной и бросилась в глаза всем, наполнив их и без того охваченные подозрением сердца почти священным ужасом.
Берия показал на сверкающую каплю — пресс, которым Сталин придавливал у себя на столе бумаги.
— Унесите это и выбросьте… к чертовой бабушке. Нет, стойте! Прикажите отправить в Институт физики, я потом дам указания.
Все лица немолодых уже, толстеньких, низкого роста людей, сидевших за длинным столом, были обращены к Берии с ожиданием и страхом. Они так привыкли к собственной беззащитности перед лицом Хозяина, что ими будет нетрудно управлять… может, не всеми, но можно.
— Товарищи, — сказал Берия, не садясь на сталинское место, а стоя во главе стола и медленно ведя по лицам искорками стеклышек пенсне. — Я собрал вас здесь, потому что Иосиф Виссарионович тяжко болен. На время своей болезни он просил меня выполнять его обязанности. И я намерен, — здесь голос Берии несколько повысился, — любой ценой исполнить волю нашего дорогого и любимого вождя.
— Подожди, подожди! — вскинулся Ворошилов. — Что ты говоришь, Лаврентий? Какая болезнь? Он всегда был здоровый.
Ага, обеспокоились, испугались, но еще недостаточно.
— Я согласен с Климом, — сказал Микоян, — нам бы хотелось получить доказательства. Или подтверждение Сосо, — поддержал он Ворошилова. — В конце концов, здесь все равны. Мы все — члены Политбюро.
— Товарищ Поскребышев, вы еще здесь? — спросил Берия.
Поскребышев уже вернулся и, зная, что он понадобится, стоял в дверях кабинета.
— Будьте любезны, ознакомьте товарищей с документом, — сказал Берия. — И подтвердите мои слова.
— Что? Что случилось? — Все тянулись к листу бумаги, который Поскребышев извлек из папки и положил на край стола.
Там собрались тертые калачи, и каждый из них поодиночке не выносил наркомвнудел, и каждый полагал себя куда ближе к вождю, чем этот выскочка, который и в наркомах-то без году неделя.
Кто-то поставил под сомнение подпись Сталина, но Поскребышев, преданность которого вождю не вызывала сомнений, подтвердил, что это так. И все же Политбюро постановило немедленно вызвать лечащих врачей Иосифа Виссарионовича и не расходиться до тех пор, пока они не отчитаются перед правителями страны.
— Тогда, — вздохнул Берия, — я предлагаю несколько иной путь, может быть, даже более простой.
— Какой? — осторожно спросил Молотов, ожидая подвоха.
— Я предлагаю всем нам поехать на ближнюю дачу, где находится товарищ Сталин…
Заскрипели стулья — почти сразу все стали подниматься, — решение показалось самым разумным, и непонятно было, почему его не приняли раньше.
— Там и поговорим с врачами! — крикнул Андреев.
Ехали все на своих машинах — кортеж «ЗИСов» в километр, давно так не выезжали.
Поскребышева, чтобы не выпускать из вида, Берия посадил в свою машину.
— Там косметологи были, как я приказывал? — спросил Берия.
— Были. — Поскребышев был в полном душевном раздрызге, он то и дело начинал плакать.
— Тебе надо отдохнуть, — сказал добродушно Берия, но Поскребышев сразу сжался — он знал о таких товарищеских предложениях, об отпусках, из которых люди не возвращаются.
— Спасибо, — сказал он. — Надеюсь, что все скоро пройдет.
— Не бойся меня, — сказал Берия, кладя мягкую руку на колено сталинского секретаря, — то, что было при Сосо, не может продолжаться. Я не надеюсь, что ты все сразу поймешь, но, наверное, потом подумаешь и поймешь. Только Сталин мог править как бог и убивать кого желал и от этого становился еще больше как бог. А я не могу — второго бога нашей стране не одолеть. Я буду мягким, добрым к народу, а жестоким только к тем, кто угнетает этот народ и неправильно им правит. И я хочу, чтобы ты мне помогал быть добрым, понял, генацвале?
Поскребышев кивнул. Он не поверил ни слову в искренней речи Берии.
Берия шел в толпе членов Политбюро, как один из равных, а вел всех Поскребышев. Было так тихо, что казалось — даже птицы в лесу замолкли.
Берия ввел их в комнату, где на диване, мирно сложив руки, лежал изможденный, совсем лысый, со страшным острым костлявым носом Сталин.
— Нет! — закричал Калинин. — Это не он!
Никто ему не возразил. Конечно же, это был не Сталин — это был Мертвый Сталин. И каждый это понимал.
Заседание Политбюро продолжалось в столовой за длинным обеденным столом. Принесли легкую закуску, вино и водку, старые товарищи помянули вождя, спрашивали, какой диагноз, и Берия отвечал: «Внутреннее заболевание». А Поскребышев всем говорил, что товарищ Сталин надеялся выздороветь и отказывался от врачей, а потом внезапно умер. Все знали об отношении Сталина к врачам и потому не спорили.
На том, уже мирном заседании Политбюро согласилось выполнить волю вождя — да и как ее было нарушить в этом доме и в его присутствии? Никто еще не осознал окончательности этой смерти и неизбежности перемен. Кроме Берии.
Ввиду очевидных пертурбаций в фашистской Германии на том заседании было решено задержать намеченное наступление на Прибалтику и Польшу, так как неизвестно, каковы намерения наследников Гитлера. Неожиданно прозвучали возражения Кагановича, поддержанного Микояном, о классовой сомнительности союза с фашистами, особенно теперь, когда у фашистов не все так хорошо получается.
Наконец было решено — а это было решением самым главным — на некоторое время скрыть от народа смерть Сталина.
Это решение диктовалось как внутренними, так и внешними причинами. С одной стороны, надо как-то подготовить народ к тому, что великий вождь и учитель умер, а это не может быть внезапным, ибо травма может оказаться слишком сильной для всей страны и для дела строительства коммунизма. Во-вторых, международная обстановка была настолько сложной, что не исключено: если Германия, Япония или Англия узнают о смерти Сталина, они постараются воспользоваться этим моментом, чтобы ударить по стране социализма.
Окончательно решили — через три дня объявить о болезни Сталина. Затем давать последовательные бюллетени о его здоровье так, чтобы он умер примерно 29 июля.
Правда, когда съехались на следующий день — а Политбюро заседало ежедневно, — перенесли срок на два дня, всем было страшно сказать вслух… Берия же не спешил. Он, в отличие от своих товарищей, сменял сомнительных людей на местах и ставил в областях на руководящие ключевые места сотрудников НКВД. То же, пользуясь растерянностью Ворошилова, он старался делать и в армии.
Наконец, когда выяснилось, что в Германии власть нацистов рушится и она готова на любые мирные переговоры, тогда как Советский Союз для всего мира остается союзником и другом фашистов, было объявлено, что товарищ Сталин заболел. Что он перенес инсульт, что состояние его здоровья вызывает опасения, однако лучшие врачи не отходят от его постели, и можно надеяться — в ближайшие дни в здоровье товарища Сталина наступит облегчение.
Страна замерла в ужасе. Люди простаивали часами у черных тарелок репродукторов, ожидая очередного сообщения о здоровье живого бога, но, когда прерывалась классическая музыка, диктор чаще всего повторял медицинское заключение прошлых часов.
На следующий день здоровье товарища Сталина несколько ухудшилось, но оставалась надежда.
На третий день товарищ Сталин, не приходя в себя, скончался. Оставив после себя и вместо себя ленинско-сталинское Политбюро во главе с верным ленинцем, наркомвнудел товарищем Лаврентием Павловичем Берией.
Сообщение о смерти Сталина вызвало разногласия как в английском правительстве, так и среди военных. Главный маршал авиации Корнуэлл требовал отменить операцию, которая могла очень дорого обойтись Королевским воздушным силам.
Но Черчилль был непреклонен. И он, слетав в Париж, заручился безусловной и полной поддержкой генерала де Голля.
На узком заседании Военного совета Королевства в ответ на сомнения, высказанные главным маршалом авиации Корнуэллом и генералом Монтгомери, он сказал так:
— Я согласен был бы отменить акцию, если бы она была направлена против Германии. По той простой причине, что у нас есть основания полагать, что Германия находится на пороге возвращения к нормальной цивилизованной жизни. Но в России к власти пришел еще более кровавый и страшный убийца, чем Сталин, — палач, который сделает все, чтобы залить кровью свою страну, а если сможет, и весь мир. И мы должны преподать ему урок. Иначе наша цивилизация останется под дамокловым мечом. Только что я разговаривал по прямому проводу с президентом Рузвельтом. Он полностью разделяет нашу позицию, и его участие в операции, обусловленное еще три дня назад, уже реализуется…
На Ножовку, на Полярный институт, тяжелые бомбардировщики Англии и Америки шли отдельными эскадрами, причем они имели точные карты расположения института и заводов по обогащению урана, а также складов и ангаров. Воздушные эскадры разделили цели между собой.
Американские Б-26 появились над институтом первыми — в середине дня, они шли с севера, через полюс, с канадских баз и не опасались советских истребителей.
Матя Шавло был на аэродроме.
Он встречал Вревского.
Первоначально договаривались, что сюда прилетит сам Берия, чтобы обговорить будущие планы института и меры по его охране от внешних хищников, которые наверняка теперь ищут к нему пути. Но потом обнаружилось, что Лаврентий Павлович не может покинуть столицу и прилетит Вревский, который останется здесь с Матей, чтобы сменить больного Алмазова.
Погода была ветреной, свежей, но солнце грело — все же середина лета. Недавно взлетную полосу удлинили и сделали вторую, покрыв ее металлической сеткой, чтобы сюда могли садиться тяжелые транспортные машины. Берия решил устроить рядом с объектом военно-воздушную базу и в будущем быть спокойным, что никто не покусится на Испытлаг с воздуха.
Устройство базы тоже входило в круг задач Вревского. С утра Матя слушал радио — война в Европе завершилась, но началось восстание в Италии, и Мате было жалко, что в любимом им Риме сейчас стреляют и убивают людей. Как ему захотелось сейчас туда! Но теперь, с окончанием войны, у него появлялись надежды вернуться в академические круги не тюремщиком, а достойным членом семьи. Ведь о том, что он командовал тюремным институтом, через год-два забудут, а о том, что он — отец атомной бомбы, человечество будет помнить вечно. И хоть трагедия Варшавы в какой-то мере остается на совести бомбы, ученый, как известно, не может нести ответственности за решения политиков. Иначе изобретатель пулемета должен был бы повеситься, узнав, сколько человек убито из его изобретения.
— Летят! — закричал диспетчер, выглянув из небольшого домика, что с позапрошлого года стоял на краю поля. Возле домика поднимались высокие антенны. «Через год здесь будет большой аэродром, — подумал Матя. — И может быть, скоро наступит то благодатное время, когда мы придумаем, как использовать бомбу для мирной работы на благо людей».
Черная точка быстро превратилась в самолет. Самолет, не делая круга, зашел на посадку — это была небольшая транспортная машина. Разбрызгивая воду из-под железной сетки, самолет затормозил недалеко от Шавло, и Матя поспешил к Вревскому, который, не дожидаясь трапа, спрыгнул на металлическую сетку. Они обнялись. Они чувствовали друг к другу искреннюю симпатию и доверие.
— Я рад, что вы будете здесь.
Сзади раздался шум мотора. Они обернулись. По разбитой, грязной дороге, разбрызгивая воду, ехала «эмка» Алмазова. Она въехала на сетку аэродрома и затормозила. Дверца распахнулась, и никто не появился из машины. Сидевший рядом с шофером охранник вылез наружу и с трудом выволок из машины Алмазова. Алмазов был в полной форме и в фуражке, надвинутой так низко на лоб, что открытыми оставались лишь синие щеки и распухшие, потрескавшиеся губы.
Алмазов пошел к Шавло и Вревскому, но через два шага его повело в сторону, и охраннику пришлось его поддерживать.
— По вашему вызову, товарищ комиссар второго ранга, явился.
Матя понял, что мысли больного Алмазова путаются и язык не подчиняется ему, потому что он накачался водкой, чтобы заглушить болезнь.
— Я намерен узнать, получил ли товарищ Берия мой доклад об изменнической деятельности Матвея Шавло, убийцы и предателя родины? — спросил он.
Вревский обернулся к Мате, словно за советом. Матя подумал, что Берия вряд ли показывал письмо Алмазова кому бы то ни было, даже Вревскому.
— Товарищу Алмазову плохо, — сказал он.
— Я тоже так думаю, — сказал Вревский. — Ян Янович, я думаю, тебе лучше вернуться к себе и отдохнуть.
— Я не шучу, — настойчиво повторил Алмазов. — Этот человек — изменник родины, и я передал письмо об этом наркомвнудел товарищу Берии.
— Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) товарищ Берия мне никаких указаний на этот счет не давал, — мягко, но со значением произнес Вревский.
— Как? — Алмазов пытался осознать эту новость. Внимание Вревского привлек новый шум — он доносился с севера. Вот показалась одна черная точка, вторая, третья…
— Это что значит? — обернулся Вревский к Мате. — Кто должен прилететь?
— Ума не приложу.
Они смотрели вверх — самолеты приближались, и становилось понятно, что это не наши, чужие самолеты.
— Немцы? — тупо спросил Матя.
— Какие, к черту, немцы! — закричал Вревский. — В укрытие!
— Здесь нет укрытия!
— Тогда в машину — и подальше отсюда!
— Куда же?
До машины Шавло надо было еще дойти — он оставил ее за пределами поля, рядом была только машина Алмазова.
— А ну быстро в машину! — приказал Вревский, стараясь оттолкнуть Алмазова. Вревский залез внутрь.
— Скорей же! — кричал он.
Но Матя задержался, потрясенный зрелищем гигантских четырехмоторных машин, которые медленно подплывали к аэродрому.
Так же не спеша они опускались все ниже, и Матя увидел, как от них начали отделяться многочисленные черные точки — бомбы.
Следующая волна самолетов, надвигавшаяся на Испытлаг, шла ниже, и два самолета на глазах Мати пошли на посадку — именно на ту посадочную полосу, где он только что встретил Вревского. Мате казалось, что это сон, кошмар…
Вревский высунулся из машины и тянул Матю внутрь.
Тот уже подчинился, но пытался сквозь шум что-то объяснить Вревскому, и тут увидел, как Алмазов, который понял, что его бросают здесь, а сами спасаются — одна шайка! — вытащил наградной револьвер с серебряной пластинкой и начал всаживать в Матю пулю за пулей.
Мате стало очень больно, он осел в руках Вревского, а тот сразу понял, в чем дело, пригнулся, отпрянул, упав спиной на сиденье, и крикнул шоферу:
— Гони, мать твою!
Оставшиеся три пули Алмазов пустил вслед машине, но промахнулся.
Тогда он обернулся к самолетам. Первый из них уже тормозил на взлетной полосе, и не успел он остановиться, как из открывшихся люков стали выскакивать солдаты в неизвестной Алмазову форме и с незнакомыми автоматами в руках. Они бежали, рассыпаясь веером и поливая свинцом из автоматов летное поле, диспетчеров, охрану, и они убили Алмазова, который так и не понял, почему здесь чужие солдаты.
Алмазов лежал на железной сетке и видел перед смертью, как взрываются здания Полярного института и как поднимается черный дым над объектами Испытлага.
— Нельзя! — закричал он, вернее, ему показалось, что он закричал. — Вы с ума сошли!
Но бомбардировщики пошли на второй круг, чтобы надежнее уничтожить все, что можно было уничтожить.
Последнее, что увидел Алмазов, — удивленное лицо негра, самого настоящего, угнетенного американского негра, в руках у которого был автомат. Негр увидел, как по железной сетке ползет залитый кровью, уже почти совсем мертвый человек и смотрит на него, будто просит освободить от земных мучений. Негр испугался этого человека, пожалел его и добил, пустив ему в голову очередь из автомата.
Когда две волны бомбардировщиков проутюжили основные объекты Полярного института, десант, высаженный на аэродроме, достиг горящих корпусов института. Ограждение было уничтожено, те ученые и техники, что еще оставались там, разбегались, спасая жизнь, но, придя в себя после бомбежки, охрана института открыла огонь по убегавшим зэкам и вольным, не давая им выбраться из здания, потому что охранники таким образом выполняли свой долг. Увидев эту сцену, американские десантники смогли беспрепятственно достичь периметра института, и командир особо отличившейся в том налете шестнадцатой роты морских пехотинцев Ронди Симпсон, сообразив, что же происходит в этом, насыщенном черным дымом, пылающем, орущем и стреляющем аду, приказал своим подчиненным уничтожать людей в зеленых мундирах и синих галифе, но не убивать штатских. Потому что люди в зеленом и есть полиция Советов, слуги Сталина, которые держат в жутких концлагерях миллионы своих граждан.
Так что когда чекисты, увлекшиеся охотой за физиками, опомнились, морские пехотинцы США уже расстреливали их самих.
Следом за морскими пехотинцами, разбежавшимися по территории Испытлага, чтобы взрывать другие объекты, в институт проникли одетые в форму морских пехотинцев, но не относившиеся к ним офицеры, которые пробегали по помещениям, вскрывали замки сейфов и даже вытаскивали бумаги из письменных столов. Когда крыша института — «обезьянник», где так недавно гуляли физики, — рухнула, они уже бежали к самолетам, похожие на опаздывающих на поезд пассажиров, которые волокут слишком тяжелые чемоданы.
Ученые, спасшиеся от бомбежки и пуль охраны, далеко не убежали — что делать человеку в тундре? Некоторые, отойдя на сотню шагов, с радостью или с грустью глядели, как погибает их тюрьма. Для одних — только тюрьма, для других — время великих открытий. Иные же устремились к баракам, полагая, что там расстреливать не будут.
Неожиданно в толпе тех, кто глядел на пожар, возник странный человек в зеленом маскхалате и круглой каске, с которой никак не вязалась дореволюционная адвокатская бородка.
— Господа и товарищи! — громко закричал он, и его голос далеко разнесся над тундрой, перекрывая звуки выстрелов и взрывы. — Разрешите к вам обратиться профессору Мичиганского университета Майклу Крутилину, а для тех, кто кончал Петроградский политехнический в шестнадцатом году, — Мишке Крутилину. Неужели среди вас, сволочи, нет ни одного моего однокашника?
— Почему нет? — спокойно сказал сгорбленный и кособокий — на допросах чекисты перебили позвоночник, а он назло им выжил — бывший профессор Ирчи Османов, посаженный, как он сам шутил, за то, что маленькому кумыкскому народу не положено иметь своих физических гениев. — Почему нет, Мишка? Только ты меня не узнаешь.
Крутилин сделал несколько шагов к уродливому старику в зэковском бушлате.
— Прости, — сказал он, дотрагиваясь извиняющимся жестом до рукава Османова, — прости, но они с тобой столько сделали…
— Что меня не узнает мама, — сказал Османов.
Вокруг молчали. Сдвигались ближе. Подходили со стороны, привлеченные любопытством. На людей сыпалась черная сажа, и порой от дома долетали искры.
— Ирчи! — закричал Крутилин. — Ирчишка, мать твою! Ирчи Османов! Ты чего стоишь! — Он кинулся обнимать грязного зэка, и Ирчи, стесняясь, отталкивал его и повторял:
— Да ты что, да зачем, Мишка!
— Ирчи! — Крутилин отстранился от однокашника и, подняв его руку, обернулся к толпе узников Испытлага. — Подтвердите этим людям, что я — настоящий физик, любимый ученик самого Иоффе, а не какой-нибудь чекист…
Завершение фразы было настолько вычурно-матерным, что знатоки, покачивая головой, оценили талант Крутилина.
— А зачем подтверждать, когда Абрам Федорович здесь, — сказал Ирчи.
— Как так здесь?
— В нашей шараге, — сказал Ирчи Османов, и вокруг послышался шум голосов, подтверждавших эту горькую истину.
— Так где же он? — закричал Мишка Крутилин.
— Он там остался, — сказал кто-то, показывая на пылающий институт. А другой сказал:
— Я видел, как его вохровец застрелил.
— Тогда делаем так! — остановил разнобой голосов энергичным жестом Крутилин. — У нас с вами есть всего пятнадцать минут. Добровольцы — двадцать человек — осматривают людей, которых расстреливала охрана. Мы ищем, кто остался живой, кому можно оказать помощь… Стойте! Вы еще не выслушали второе. На аэродроме вашего… института стоят два бомбардировщика «Б-26». Это большие хорошие машины. Любой ученый, который хочет продолжать работу по специальности или склонности в Америке, должен добраться до самолетов своим ходом — пешком. Вход свободный. Зарплата в долларах. Пошли, Ирчи, вдруг Абрам Федорович где-нибудь только раненный.
Когда через час двадцать минут самолеты поднялись с аэродрома, среди морских пехотинцев сидели человек шесть физиков из шараги, остальные по разным причинам остались в тундре.
Миша Крутилин особенно расстраивался, что нет Ирчи Османова.
— А у меня даже тушенки с собой не было, — пытался он передать свое разочарование ротному Ронди Симпсону, а тот рассматривал шестерых понурых и мрачных физиков, решившихся сменить лагерь на капиталистический мир, и в конце концов заявил Майклу Крутилину, что русские, как правило, очень похожи на неандертальцев.
По знаменательному, но не очень приятному совпадению те полтора часа, что американские морские пехотинцы провели в Полярном институте, а бомбардировщики разделывались с заводами и хранилищами по соседству, Вревский и Шавло прятались в подвале кирхи давно уже взорванного Берлина.
Шавло громко стонал — он был убежден, что погибнет, потому что его раны смертельны, но, по заключению Вревского, одна пуля пронзила мякоть предплечья, а вторая — прошла между двух нижних ребер, даже не вызвав большого кровотечения, так как там были жировые ткани. От раны в предплечье было много крови, и Вревский, занеся Матю с помощью шофера в кирху, рубашкой шофера перебинтовал Мате руку. Но долго там отсиживаться им не пришлось — американцы появились и в Берлине. Только Вревский и шофер спустили Матю по лестнице в подвал, как в кирху вбежали несколько морских пехотинцев с кинооператором. Десантники сначала осыпали внутренность кирхи пулями, а потом кинооператор снимал. Вревский, Матя и шофер в это время лежали в ледяной вонючей воде подвала рядом с трупом Айно.
Им казалось, что прошло много времени, прежде чем американцы убрались в свою Америку. «Эмку», брошенную у входа в кирху, американцы всю изрешетили пулями — к сожалению, ее колеса были спущены. Пришлось посылать шофера за помощью, и его чуть не подстрелили свои.
Матю в тот же день эвакуировали в Москву.
Вревский навещал его в «кремлевке». Там же лежал и Абрам Федорович Иоффе, найденный под обломками одного из зданий неподалеку от Полярного института.
Советские газеты об инциденте в Арктике не писали.
Но более удивительно то, что информация, просочившаяся об этом налете в американские газеты, была невразумительной и казалась читателям очередной газетной «уткой».
Вревский передал академикам Шавло и Иоффе личные пожелания здоровья от товарища Берии. В СССР началась кампания реабилитации невинно осужденных, и из лагерей стали возвращаться диверсанты и изменники родины, так как наряду с законно осужденными преступниками, как оказалось, пострадали многие невиновные товарищи.
Полярный институт решено было восстанавливать под Москвой. А на Севере, на Новой Земле, оставить лишь полигон, но уже без готических домиков. Из сотрудников института никого пока на волю не отпустили, но к некоторым, уже переведенным в Среднюю Россию, привезли семьи.
И уж разумеется, не отпустили на волю Матвея Шавло, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, академика и т. д.
Андрей Берестов в августе получил предложение вернуться в Советскую Россию в качестве британского разведчика со всеми послужными и пенсионными льготами, причитающимися по службе. Но он отказался.
Он тогда жил под Ноттингемом в загородной вилле разведшколы.
— Ситуация в вашей стране неясная, — уговаривал его полковник Квинсли, слишком похожий на Карла Фишера, благожелательный и ровный в общении. — Я не думаю, что Берия долго продержится. Он слишком круто повернул к ограниченной свободе. Но свобода не может быть ограниченной, как девушка не может быть наполовину девственной.
В этом месте своей речи Квинсли надолго засмеялся и вынужден был достать чистый платок, чтобы вытереть набежавшие от смеха слезы.
— Мы вас доставим домой, аккуратно, как плод манго. И наша пенсия куда больше, чем та, которую вы сможете добыть честным путем.
На этот раз полковник лишь улыбнулся.
— И все же я пока останусь здесь, — сказал Андрей. — Вы, может, подыщете мне какую-нибудь работу…
Ему не хотелось служить мистеру Квинсли, даже если это обещало скорую встречу с Лидой. Он надеялся вернуться туда легально, хотя и не верил в приверженность Берии к ограниченным свободам.
Квинсли предложил подумать столько, сколько мистер Берестов сочтет нужным.
Андрея никто не ограничивал в передвижениях — правда, в Лондон он не ездил, он получал деньги лишь на сигареты.
Наступила осень. Она была здесь особенно печальна, потому что аккуратна, подобранна и тиха, как чистая старушка из приюта. Андрей уходил далеко в поля, по узким дорожкам, между зелеными лужайками и оранжевыми купами лип и кленов.
На одной из прогулок его подстерег пан Теодор.
Он был одет, как и положено английскому средней руки джентльмену, скажем, школьному учителю. Но за сто ярдов было ясно, что этот человек, изображающий из себя школьного учителя, в жизни им не был.
Сначала Андрей обрадовался Теодору, а лишь потом удивился, что он тут делает: как будто в этих местах, кроме местных жителей, встречались лишь шпионы.
— Я, как всегда, наблюдаю, — сказал пан Теодор.
— А почему вы оказались здесь?
— Потому что искал тебя, Андрей.
— Вы знаете, где Лида? — И с этим вопросом, с возможностью такого везения, все исчезло: и серый, окрашенный яркой листвой день, и невнятность собственного будущего.
— Я помогу тебе возвратиться к Лиде, — сказал Теодор, — она тебя ждет.
— Где?
— В Москве.
— Так просто?
— Разумеется.
— Как же я туда попаду?
— Согласишься на предложение полковника Квинсли.
— Вы и это знаете?
— Андрей, ты стареешь. Основным признаком старости, на мой взгляд, может считаться стремление человека выразить в двадцати словах мысль, для которой достаточно трех слов.
— Но я не хочу быть агентом «Интеллидженс сервис». Это непорядочно по отношению к России.
— О лояльности мы еще побеседуем. Но сейчас я должен тебе сообщить, что твои обязательства перед полковником ровно ничего не значат. Как только ты возвратишься в Москву, ты возьмешь табакерку, которую я тебе дам, и сделаешь рывок на несколько дней вперед. С поправкой на то, что последние годы ты прожил в чужом мире… в сухой ветви времени.
— Вы хотите сказать, что это тупиковая ветвь?
— Я не знаю. Этим займутся другие. Но это не основное русло истории Земли.
— Там, где Лида, лучше?
— Там пока хуже. Там живы и Сталин, и Гитлер.
— Вы с ума сошли! Это значит, что будет страшная война!
— Это не я сошел с ума. Но там тебя ждет Лидочка. И ей одной нелегко.
— Разве я хоть на мгновение отказывался?
Ежик перешел перед ними тропинку, и они остановились, пропуская его. Сухой лист был наколот на его иголки.
— Вот тебе адрес Лидочки. По крайней мере это адрес, который она мне дала, когда я впервые ушел в эту ветвь времени. Давно. Семь лет назад. Я думаю, что англичане сделают для тебя хорошие документы.
— А когда я вас увижу?
— Наверное, скоро. Как только этот вариант мира начнет рассыпаться.
— Но почему же? Он лучше, чем тот, в котором Сталин и Гитлер остались живы.
Теодор протянул Андрею табакерку.
— Логика эволюции Вселенной выше понятий «хорошо» или «плохо», придуманных людьми. Если моей жизни не хватит для того, чтобы понять ее смысл, я завещаю эту загадку тебе.
КУПИДОН ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ
Вдруг его охватило нетерпение, суматошная, нервная спешка. Надо было скорее, скорее все сделать, пока никто не заметил, никто не пришел. Вряд ли кто мог прийти сюда, в дачный поселок, в ноябре, на рассвете… Пусто, последние бурые листья, пропитанные водой, собираются кучками в углублениях почвы и чавкают под ногами. Грязно, земля тяжелая, небо свинцовое, из всех птиц осталась одна ворона, уселась на сосне, ей бы спать, чего неймется? Ворона раза два каркнула, склонив голову. Сейчас бы выстрелить в нее, и дело с концом. И хоть у него отродясь не было пистолета или ружья, он вдруг испугался собственного желания, как будто уже был готов к выстрелу — представил, какой гулкий получится шум, как покатится эхо выстрела над дачным поселком, до самой станции и обязательно вызовет там тревогу. И кто-то уже прибежит сюда посмотреть, на какой даче остались люди, кто стрелял, кого убили?
Он бегом вернулся в сырой нетопленный дом. Он очень спешил, главное было успеть, пока не рассвело совсем, пока по дороге кто-нибудь не прошел или не проехал — кусты облетели, и теперь с дороги весь участок просматривается как на ладони. Когда глаза привыкли к полутьме, он забрал с тумбочки ее коробку для шитья — нитки, иголки, какие-то тряпочки, — потом у зеркала увидел початый флакончик духов «Красная Москва», схватил и его, еще попалась чашка с розочками — почему надо было брать и чашку, он не смог себе объяснить, но чашка имела отношение к жене, чашка свидетельствовала о ее существовании. Предметы, которые раньше были незаметны, растворялись в комнате и на кухне, сейчас прямо лезли в глаза, отовсюду, из каждого угла кричали о его жене. И для того чтобы она исчезла окончательно, навсегда, для всех, для любопытного глаза, надо стереть ее следы до последнего.
Все разом было не унести, но он догадался, разложил на полу ее старый халат, тот, который с лиловыми ирисами, покидал на него вещи. Затем, обозрев кучу добра, зачем-то принес из кухни любимую кастрюлю жены. С минуту стоял, разглядывая ее, потом поспешил обратно, поставил ее снова на полку — таких кастрюль в мире миллион. Тут вдруг вспомнил — полез под кровать. Так и есть, там остался старый чемодан с барахлом, туфлями жены, которые вышли из моды, и кофтой еще довоенных времен. Из чемодана несло нафталином, и сквозь этот запах пробивался запах жены — ее волос, духов, — такой знакомый, он даже отпрянул от чемодана и оглянулся. Ему показалось, что он услышал вздох жены, как бывало, когда она ночью вдруг вздыхала, говорила что-то неразборчиво и переворачивалась на другой бок. Он вскочил, обернулся… Медленно, от ветра, закрывалась дверь.
— Нет тебя. Нет тебя совсем, — сказал он тихо, а получилось громко, гулко, потому что комната уже стала нежилой.
Он связал барахло рукавами халата, потащил к двери. На пороге остановился, посмотрел, нет ли кого на дороге. Холодный туман подбирался к штакетнику, хорошему, ровному, прямому; сам еще летом вкопал новые столбы, а она тогда сидела на веранде, перебирала клубнику, у нее были очень белые руки (никогда не загорала), темно-рыжие волосы и веснушки на переносице. Она была не толстой, но со временем обязательно бы располнела. И странно: к ней как-то приезжала сестра из деревни, маленькая, смуглая, будто из другого племени.
Дорога была пустая. Собирался дождь, и, наверное, от этого никак не светлело. Он поволок узел по тропинке, к сараю. Стало очень жарко, словно взбирался на гору.
У старого, заброшенного колодца, из которого давным-давно ушла вода и который он все собирался расчистить, да не было денег, чтобы нанять мастера, а сам не мог, он остановился. Потом поднял узел на сруб — только два бревна над травой — и толкнул. Узел послушно скользнул вниз, упал на мягкое, недалеко, метрах в двух, что-то в нем звякнуло, наверное, вилки. Он вытер о пиджак потные ладони.
Надо спешить, спешить… еще столько работы осталось. А в любой момент кто-то может появиться. Ну, хотя бы на соседней даче. Они, правда, не приезжали уже недели две, но чем черт не шутит… Он побежал в сарай, отыскал в куче хлама лопату. А лома не было. Вспомнил, что видел лом у крыльца. Он бросил лопату, поспешил к дому. Лом стоял у стены. А топор? Топор в комнате. Он вернулся в дом, часто дыша и не имея времени перевести дух, у дверей поднял с пола топор, еще раз огляделся — увидел на столе шкатулку с ее письмами и всякими бумажками, подхватил ее, побежал обратно, от двери кинул взгляд на комнату, будто уже не смог бы вернуться сюда вновь, — на стуле лежала ее шляпка без полей, она носила ее набекрень. Вернулся, взял и шляпку…
Он расшатывал, разваливал ломом бревна. Бревна сруба были старыми, кое-где подгнили, но держались крепко, скрип стоял на весь поселок, наконец одно бревно поддалось, отвалилось в сторону, он выпрямился, и тут его кто-то спросил, совсем рядом:
— Помочь, может, хозяин?
— Что? — И сразу наступило спокойствие. Все погибло… Подсознательно он ждал этого голоса. Лучше было поджечь дачу и бежать — бежать без оглядки.
Он заставил себя обернуться.
У забора, облокотившись на низкий штакетник, стоял молодой мужчина в ватнике поверх гимнастерки, на гимнастерке видны две полоски, за ранения. А на дороге — удивительно, неужели он мог этого не услышать, — «Студебеккер».
Он с трудом заставил себя говорить.
— Не надо, — сказал он. — Я сам…
— А чего трудишься?
— Колодец, — сказал он. — Видишь, колодец совсем старый. Воды нет. Я здесь огород сделаю.
— Огород?
Под сосной у сарая место для огорода неподходящее, с первого взгляда видно.
— Я выкорчую, — сказал он, — выкорчую, понимаешь?
— Дело твое, а то бы я тебе все это быстро организовал, — сказал демобилизованный. — Не хочешь?
— Спасибо, не надо. Спасибо.
— Ну как знаешь. А ты мне тогда скажи, как на Пушкино выехать?
— На Пушкино?
Он положил на землю лом и пошел к забору, стараясь закрыть собой колодец, хотя в колодец заглянуть от забора было нельзя — далеко все-таки.
— Через километр, — сказал он и откашлялся, — будет поворот направо…
Шофер слушал его, кивал, а сам смотрел почему-то ему через плечо, на колодец. «Что я там забыл? Что он там видит?»
— Смотри, — сказал шофер, — твоя баба шляпу и шкатулку забыла. Дождем промочит.
— Это старые, ненужные, я выброшу, — сказал он быстро, не оборачиваясь.
— Может, мне тогда отдашь, а?
— Нет, — сказал он быстро. — Нельзя.
— Я заплачу.
— Нет.
— Ды ты не психуй, — сказал шофер. — Не хочешь — не надо. Подавись своим добром.
Он пошел к «Студебеккеру», забрался в кабину, дал газ, и грузовик, покачиваясь, как корабль, поплыл с ревом по проселочной дороге.
Как же он мог не услышать, что подъехала машина?
Он побежал к колодцу и первым делом кинул туда шляпу и шкатулку с бумагами. Тут же испугался, не остался ли в шкатулке паспорт жены. Поэтому, прежде чем продолжить разрушение колодца, сбегал домой, убедился, что паспорт спрятан там, только потом вернулся к колодцу, докончил его разрушение, скинул бревна и начал рыть яму неподалеку, чтобы той землей засыпать колодец…
В дверь позвонили.
В этот момент Лидочка проявляла, вернее, сидела на полу в ванной и заряжала в бачок широкую пленку. Было девять вечера, середина сентября, дома никого — Андрей в Средней Азии. Лидочка крикнула:
— Сейчас!
Хотя знала, что за дверью не услышат.
Пленка, как назло, не влезала в бачок. Лидочка молча прокляла судьбу, положила пленку на пол, вышла из ванной и, не зажигая света в коридоре, отворила дверь.
Там стояла маленького роста смуглая бабушка в похожем на шинельку пальто, в черном с красными цветами платке, с большой голубой сумкой «Олимпиада-80» через плечо и чемоданом в руке. У бабушки были темные, въедливые глаза и губы в ниточку.
— Долго не открываешь, — сказала бабушка сердито. — Что ж я, всю ночь на лестнице стоять буду?
— Вам кого? — спросила Лидочка, щурясь от яркого, после темной ванной, света на лестничной площадке.
— Погодите, — сказала бабка. — Проверим. Ты только меня на лестнице не держи, в дом пригласи, окажи внимание пожилому ветерану труда. Я тебя не съем, не обворую, у меня паспорт есть…
Лидочке ничего не оставалось, как покорно отступить в коридор.
— Свет зажги, — сказала бабушка. — Я без свету ничего не разберу.
Лидочка прикинула, насколько опасен свет для пленки, оставшейся на полу ванной. Потом решила, что свет туда не проникнет.
Бабушка прошла на кухню, не спеша развязала платок, сбросила его на плечи, сказала:
— Жарко у тебя, затопили уж, что ли?
— Затопили. — Лидочка вдруг почувствовала себя виноватой за то, что затопили раньше времени.
— А фортку чего не открываешь? — спросила бабушка. — У тебя микробы размножаются.
Пока Лидочка послушно открывала форточку на кухне, бабка поставила на стул сумку, прислонила к стулу чемодан, сама же уселась на стол, вытащила из складок плаща бумажник из кожи под крокодила, а из него — листок. Долго искала очки, а Лидочка стояла над ней и думала, что если надо будет поить бабушку чаем, а все идет к этому, то печенья почти не осталось, и надо открывать последнюю банку малинового варенья. Сейчас бабушка зачитает листок, и из него обнаружится, что она — отдаленная, но некогда любимая родственница Андрюши Берестова. И что таковая решила навеки здесь поселиться, так как ее родное село переоборудуют в водохранилище.
— Точно, — изрекла наконец бабушка. — Я своей памяти уже не доверяю, все записываю, хотя в этой квартире бывала.
— А я вас не помню, — посмела начать сопротивление Лидочка.
— Куда тебе, — согласилась бабушка. — Это Средний Тишинский?
— А что?
— Не тяни, отвечай, не задумывайся.
— Средний Тишинский.
— Дом сорок два, квартира двадцать?
— Правильно. — Надежда на то, что бабушка ошиблась квартирой, испарилась.
— Тогда ты мне скажи. — Бабушка вперила взгляд увеличенных сильными линзами выцветших глаз в лицо Лидочке. — Ты мне скажи, что могло случиться с Верой?
— С кем?
— С моей младшей сестрой Верой. Тысяча девятьсот двадцать первого года рождения.
— Никогда не слышала! — Но Лидочка испытала облегчение, потому что бабушка наверняка не была родственницей ее мужа и по крайней мере не претендовала на угол.
— Вот именно, — сказала бабушка. — Так мне все говорят.
— Может, вам чаю поставить?
Лидочка не смогла скрыть облегчения в голосе. Бабушка его уловила.
— Сделай, сделай, — согласилась она. — Ты меня не бойся, я тебя обо всем расспрошу, переведу дух, а потом обратно поеду. У меня других дел нет. Где у тебя удобства, покажи.
С каждой минутой бабушка все более вживалась в квартиру. Она демонстрировала чувство собственного достоинства, была естественна и дружелюбна настолько, что Лидочке начинало казаться: не она ли сама вторглась в чужой дом и намерена здесь навеки поселиться.
Лидочка покорно проводила бабушку до ванной, зажгла ей свет, потом прошла на кухню поставить чайник и услышала бабушкин голос.
— Ты чего фотографическую ленту на полу раскидываешь? Чтобы я наступила, да? А если я поскользнусь и шейку бедра переломлю — ты ж по больницам со мной намаешься!
— Господи! — воскликнула Лидочка и с чайников в руке бросилась в ванную. Эта пленка была плодом трех часов работы, трех часов под мелким дождем — Лидочка промокла, долго выслеживала кошку, которая вывела котят в разросшемся за домом кустарнике.
Бабушка встретила ее в дверях, брезгливо, как раздавленную гадюку, держа пленку за хвост. Пленка была безнадежно засвечена.
А бабушка немного, из вежливости, посокрушалась. Потом с удовольствием пила чай, не скрывая своего намерения переночевать. Оказалось, что зовут ее Любовью Семеновной и разыскивает она свою младшую сестренку Верочку, десятью годами ее моложе. Верочка, как выяснилось, жила когда-то, сразу после войны, в этой квартире со своим мужем. Тогда квартира была коммунальной. Три комнаты — три семьи. Мужа звали Купидоном. Это прозвище, как поняла Лидочка, было дано ему за малый рост, пухлость щек и общую подвижность. Сестры расстались в войну. Вера пошла на фронт медсестрой, там познакомилась и сошлась с Купидоном — он же Иван Макарыч Спесивцев, который состоял в том же госпитале при хозяйственной части, — и в сорок четвертом вышла за него замуж, но не по любви, а чтобы не быть боевой подругой. Как война кончилась, Купидон начал служить в Москве, они поселились в этой квартире, занимали в ней светлую комнату, напротив кухни, потом купили маленькую дачу. Неплохо жили. Любовь Семеновна приезжала к ним сюда в сорок седьмом, дорога неблизкая, а потом сестры что-то поссорились, даже трудно вспомнить почему. Вера была несчастлива с Купидоном, все грозилась бросить его, но не решалась, а он страшно ревновал и даже как-то чуть не убил из ревности. Еще бы, ему уже было за сорок, а Верочке, красавице, как березка молодая, меньше тридцати. После ссоры сестры и переписываться перестали. А годы тем временем неслись, щелкали, и набежало около сорока. Лет десять назад написала Любовь Семеновна своей сестре письмо, потом, в восьмидесятом, — поздравление с Первым мая, но ни ответа, ни привета. Решила, что та все сердится, хоть пора и забыть, — чего не бывает между родными! Но недавно Любовь Семеновна начала беспокоиться. Хоть не были сестры близки, к старости человек начинает искать родные души. И вот результат: Любовь Семеновна вышла на пенсию и поехала в Москву, поглядеть на сестру. А где она — одному Богу известно…
Старуха разбудила Лидочку на рассвете. Она встала до первых петухов и начала артиллерийскую подготовку — загремела на кухне посудой, готовила поесть.
— Вставай, Лидия, — крикнула она из кухни, — проспишь! Тебе на улицу иттить!
— Зачем? — спросила Лидия, не раскрывая глаз.
— Как так зачем? Кошку из аппарата щелкать, пленку-то ты вчера загубила, я, что ли, за тебя буду ползать по грязи, животных обнимать?
«Ну зачем я вчера откровенничала! И почему эта бабушка у меня живет?»
— Не пойду, — сказала Лидочка. — Черт с ней, с кошкой, дождик на улице.
— Ну, как знаешь. Тогда звони, как собиралась.
— Рано еще, все спят, семь часов.
— Спять, спять… Когда же они дело делают?
Бабка все знала, все понимала, но была актрисой, хитрила, переигрывала свою роль деревенской старушонки, ей эта роль нравилась, ведь нечасто удается получить бенефис на московской сцене.
До половины девятого Лидочка кое-как сопротивлялась бабушкиному напору. Затем принялась вспоминать, кто жил в Вериной комнате, когда сюда сменивались Берестовы. Странно, прошло всего семь лет, как Лидочка въехала в эту квартиру, а она уже забыла или, вернее, почти совсем забыла людей, которые жили здесь раньше.
Пока Лидочка разыскивала старую записную книжку, в которой должен быть телефон тех самых Свиницких, которые семь лет назад занимали комнату Купидона, бабушка ходила за Лидой хвостиком и сомневалась:
— А может, она не здесь жила? Тогда ведь иначе было — вот здесь в коридоре велосипед стоял. Ты велосипед помнишь?
— Не было велосипеда, Любовь Семеновна.
— А сундук был?
— И сундука не было. Поймите же, Любовь Семеновна, ваша сестра жила здесь почти сорок лет назад. Наверняка за это время сменилось не одно поколение жильцов.
— Так ты звони, Лида, не отвлекайся.
Наконец Лидочка отыскала книжку и в ней — телефонный номер Свиницких. Тогда, семь лет назад, обмен был сложным, так что находка телефона Свиницких была счастливой случайностью. Видно, Лидочке так хотелось избавиться от бабушки, что даже вещи кинулись ей на подмогу.
— Слушаю, — раздался в трубке сонный мужской голос.
— Простите, я вас не разбудила? — спросила Лидочка.
— Я все равно собирался вставать, — уклончиво ответил голос.
Лидочка вздохнула и продолжала, чувствуя себя убийцей:
— Вы меня, наверное, не помните, но семь лет назад мы с вами обменялись… Вы жили раньше в Среднем Тишинском?
— Калерия! — Голос зазвучал глуше. — Тебя бывшие обменщики требуют.
В трубке щелкнуло. Видно, мужчина положил ее.
— Не желают признаваться? — спросила баба Люба. — Сами задевали Верку, а сами…
— Сомневаюсь, что они в чем-то виноваты.
В трубке возник другой, показавшийся отдаленно знакомый голос. Оказывается, за семь лет память о нем не совсем выветрилась.
— Меня зовут Лидия Кирилловна… — начала Лидочка, но тут же голос в трубке ее перебил:
— Как же, как же… неужели не помним? Мы вас помним. Вы еще нашу люстру себе оставили. Ну как она, светит? — словно речь шла об отданной на воспитание девице.
— Спасибо, — сказала Лидочка. — Люстра в порядке. А я хотела узнать, известно ли вам такое имя…
— Вера Семеновна Спесивцева, — подсказала бабушка Люба. — А то мы Тяжные.
— Боря! — раздалось в трубке. — Ты знал Спесивцеву? Она жена режиссера, да?
— Нет, она жила в вашей комнате после войны.
— Боря, ты помнишь, кто жил у нас после войны?.. Вообще-то он не может знать, потому что сначала я сюда прописалась, а потом он. Он три года никак не решался оставить свою Милочку. Ну ладно, два, это уже теперь неважно. Я ту комнату в шестьдесят третьем получила и буквально три года жила одна, не зная, что со мной случится завтра, вы представляете…
— Значит, Веру Семеновну вы не помните?
…Потом Лидочка дозвонилась и до других жильцов, до тех, кто занимал до обмена большую комнату. Они тоже не смогли припомнить ни Веру, ни ее мужа. У третьих телефона не было.
— Значит, не живая, — уверенно, даже с каким-то облегчением сказала бабушка Люба. — Иначе бы весточку подала. Ну как можно родной сестре весточку не подать?
— Хорошо, — сказала Лидочка, которая не любила оставлять дела недоделанными. — Пошли в ЖЭК.
В домоуправлении, хоть там Лидию Кирилловну знали, добыть какие-нибудь сведения оказалось нелегко. Старые домовые книги уже ушли в архив, а в тех, что велись с шестидесятых годов, никаких следов Спесивцевых не оказалось.
Бабушка Люба робела в домоуправлении перед накрашенными девочками, дергала Лидочку за рукав и шипела:
— Ну пошли, что ли? Бог дал, бог взял, понятное дело.
— Давайте подумаем, — сказала Лидочка учительским голосом паспортистке Шурочке. — Бесследно человек исчезнуть не мог. Прежде чем поднимать дела в архиве, поглядим, нет ли другого пути, более простого.
— Угу, — сказала Шурочка, разворачивая бутерброд. — Я тут сама новенькая.
— К тете Соне сходите, — сказала другая паспортистка. — Если она не знает, никто не знает. Сколько лет прошло, можно сказать, с дореволюции она здесь была.
Тетя Соня, которая проработала в домоуправлении всю жизнь, отыскалась на лавочке у третьего подъезда. Делать тете Соне было нечего, а память у нее была уникальная, если бы не жизненные обстоятельства, быть ей математическим академиком. Лидочка подсела к ней, знаком велела сделать то же бабе Любе и тут же напустила приезжую бабушку на местную. Сама только слушала. Со стороны, наверное, выглядело это идиллически: две бабушки и женщина бальзаковского возраста сидят на лавочке, поглядывают на детишек, которые резвятся неподалеку. На самом же деле шло расследование давнишней тайны — исчезновения семьи Спесивцевых, в первую очередь гражданки Спесивцевой, в промежутке между 1947-м и 1949 годами.
И, разумеется, тетя Соня все вспомнила.
— Знаю, — сказала она. — Уехали.
— Вы уверены в этом? — спросила Лидочка.
— Как в твоем, Лидия Кирилловна, существовании, — сказала тетя Соня. — Мне надо только глаза закрыть, как книжку перелистать, и я вижу картинку.
— Ну и как? — спросила баба Люба. — Как тебе моя сестра?
— Сейчас-то она, наверное, женщина пожилая, — сказала Соня. — Преклонных лет. А тогда была видная баба.
— Настоящая красавица, — сказала бабушка Люба. — Я на нее совсем не похожа.
— Нет, ты не похожая, — согласилась тетя Соня. — Ты мелкая будешь и смуглая кожей. Нет, совсем непохожая. Та лучше была. Волосы рыжие, лицом белая, ну королева!
— Значит, уехала? — спросила Лидочка. — Может, вы помните, когда, куда?
— Знаю! Как же не знать. Он ко мне с паспортами пришел. Я как раз закрываться хотела, домой спешила, осенью это было, дай бог памяти, думаю, что в сорок восьмом. Вот, говорит, уезжаем на юг, в теплые края, нужен, говорит, для моей Верочки теплый воздух, а то у нее легкие слабые. Как сейчас помню — странно это было.
— Что странно? — спросила Лидочка.
— Я бы и не запомнила. Даже с моей памятью. Мало ли кто уезжает и приезжает — у нас было шесть больших домов, а сейчас и еще больше. И прожили они не то чтобы долго. Года два, три, не больше. Я ее замечала за красоту, а его и не замечала, но когда с паспортами пришел выписываться, я в него вгляделась, потому что странно мне стало, чем такой колобок такую кралю охмурил.
— Вот я ей и говорила, — вставила бабушка Люба. — Чего ты в нем нашла? А она мне: «Убежала бы, да не пускает. Он меня живой не выпустит». Такой вот крокодил.
— А впечатление производил мирное, бухгалтерское, — ответила тетя Соня. — У нас такой бухгалтер раньше был, Иван Иванович, не помнишь, Лидия Кирилловна? Да нет, куда тебе — ты у нас только седьмой год живешь. Но я тогда к нему пригляделась — думаю, вот бывает любовь, воистину, что козла полюбишь. И вроде он не так чтобы богатый или жулик. Не производил впечатления.
— Нет, не производил, — сказала бабушка Люба. — Но по сравнению с нашей жизнью он очень даже был состоятельный. Я когда в поселке рассказывала, некоторые Верке очень завидовали.
— Я не завидовала…
— Так что же вам странным показалось? — снова спросила Лидочка.
— Еще бы не странное. Кто же из Москвы добровольно в сорок восьмом уезжал — комнату отдавал, все бросал и уезжал?
— Так он не поменялся?
— Нет, сказал мне, что уезжает климат искать для своей супруги. Там, говорит, найдет, что купить. Дачу, говорит, продал. Дача у него была, понимаешь? Под Москвой. Продал он ее, а комнату просто отдал. Выписался и пошел куда глаза глядят.
Тетя Соня тяжко вздохнула. В тон ей вздохнула баба Люба.
— А ее вы не видели? — спросила Лидочка.
— Ее не видала. Может, она раньше уехала. Он как вещи на машину загрузил, ночью грузился, немного вещей было, я что-то у окна стояла, воздухом дышала, вот и увидела.
Лидочка подумала, что стояла тетя Соня у окна не случайно. Ее одолевало любопытство.
Тетя Соня вынула из кармана кожаной куртки платочек и стала протирать очки. Листва вокруг была еще зеленой, но кое-где пожухла. Тетя Соня продолжала:
— Наверное, она раньше его уехала. А может, он мне сам так сказал, что она раньше уехала, не помню я…
— И не сказал, в какой город? Ведь если вещи вывозил в машине, вернее всего, уже знал, куда едет.
— Может, и сказал… Вернее всего, сказал. В те времена у нас с перемещением лиц было строго. Врать бы не стал.
Но тетя Соня не вспомнила, в какой город уехали Спесивцевы.
Когда они с бабушкой Любой вернулись домой, Лидочка хотела было продолжать поиски — она любила сам процесс поисков, будь то забытая цитата или старинное преступление, вычитанное у историка Соловьева. Она любила ясность, а ясность подразумевает результат поисков.
Но бабушка Люба вдруг скисла.
— Нет ее, — сказала она твердо. — Сердце мое уверено, что нету. Умерла. Или он ее загубил, или сама умерла. Только никогда у нее не было такого со здоровьем, чтобы на юг ехать. Неужели за год, как я ее не видела… бывает?
— Бывает, — согласилась Лидочка. — Все-таки мы можем обратиться в милицию, там же есть бюро по розыску.
— Нет, — сказала бабушка Люба твердо. — Если она живая, то должна мне написать — я-то свой адрес не меняла. Не написала, значит, нет ее. Или не хочет. Так что я домой поехала. Спасибо за все, Лида, буду в гости ждать. Приедешь? У нас молочко хорошее, как сливки. И воздух теплый, даже зимой теплый, изнутри в нем теплота. У меня хлебозавод рядом, очень аромат полезный.
И бабушка Люба уехала, оставив Лидию Кирилловну в неприятном ощущении недоделанного дела, нависшей тайны, которая, может, и не тайна вовсе.
А дня через два встретилась на улице тетя Соня и сказала:
— В Ялту они уехали. Так он и сказал, в Ялту. Вряд ли соврал, он же в заявлении на выписку пункт убытия указывал.
— Спасибо, — сказала Лидочка. — А ее сестра уже уехала.
— Ты ей напиши.
Лидочка написала, но ответа не получила.
В Ялте Лидочка оказалась следующей весной, в конце апреля. Не хотела ехать, была занята, все связи с Крымом давно порвались, но в месткоме горела путевка. И тут одолело желание еще разок поглядеть, как цветут глицинии на крутых улочках, как утренние прохладные облака сползают с Ай-Петри, как воспоминанием молодости горячий шепот доносится со скамеек под платанами.
В Ялте было свежо, спокойно, относительно малолюдно, море еще раскачивалось, успокаиваясь после зимних непогод. Лидочка с утра уходила к морю или наверх, в горы, снимала цветущие вишни и тучи над корявыми театральными соснами. На третий день она поняла, как сладостен бездумный отдых, что она здесь оживает, отходит, пропитывается весенним солнцем и морским воздухом, а тени далекого прошлого не удручают, а стали с годами прозрачными и мирными.
Как-то она вернулась из Никитского сада, сошла на автостанции у подземного перехода, где скучно толклись владельцы коек. Из симферопольского троллейбуса выходили немногочисленные еще гости города-курорта. Владельцы потянулись к ним, обступая тех, кто посолиднее, предпочитая бездетные парочки. Так что на маленькую смуглую бабушку с чемоданчиком никто не обратил внимания. А Лидочка ошалела от удивления. Это была бабушка Люба. Надо же встретить ее здесь, под этим ласковым солнцем! А впрочем, почему бабушке Любе не приехать в Ялту? Нет, это невероятно. Если бы бабушка и приехала, то в дом отдыха, организованно, с путевкой за пазухой… Лидочка подошла к бабушке и сказала:
— Любовь Семеновна, какими судьбами?
Бабушка оглянулась, и Лидочка сразу поняла, что обозналась. Просто похожая бабушка. Даже странно, что спутала. Может, где-то в глубине сознания сидит эта смешная деловитая старушка, которая через сорок лет решила разыскать сестру, да махнула рукой, смирилась с тем, что сестры давно уж нет на свете. И почему именно здесь это сходство так встревожило? Господи, конечно же, Спесивцевы в сорок восьмом уехали в Ялту лечить Веру от болезней, которых, как уверяла Любовь Семеновна, у Веры отродясь не было.
В Ялту… В Ялту.
А городское справочное бюро было тут же, на автостанции. Все это совершенно не касалось Лидочки, но она понимала, что потом всю жизнь будет корить себя, что не подошла к этой будке, оклеенной объявлениями, и не задала простого вопроса: где проживают Спесивцевы? Иван Макарович и Вера Семеновна, приблизительно 1905-го и 1920 года рождения.
Лидочка направилась к справочному бюро.
Никакой надежды на то, что Спесивцев сказал тете Соне правду, никакой надежды на то, что эти люди, даже приехав в Ялту, остались здесь жить, конечно, не было.
И все-таки…
Полчаса Лидочка прождала на скамейке над узкой речкой, за стекляшкой-гастрономом, а потом ей выдали ответ на бланке. Ответ совершенно неожиданный, хотя именно ради него Лидочка и заполняла бланк:
«Спесивцев Иван Макарович проживает в Ялте с 1948 года, по улице Харьковской, в доме четыре. Спесивцева Вера Семеновна в Ялте не проживает».
Теперь уж ничего не оставалось, как добраться до Спесивцева и узнать у него, где Вера. В конце концов, любопытство Лидочки оправдано просьбой Любови Семеновны, ничего в этом нет особенного. Попросила тебя об услуге приезжая бабушка, а ты исполнила ее просьбу.
«Удивительно, — поймала себя на мысли Лидочка, — что я ищу оправдания своему визиту к Спесивцеву, к Купидону прошлых лет. Что я решила, что он убил Веру? Из ревности? Еще полчаса назад я и не думала об этих людях, а сейчас строю пустые теории…»
Улица Харьковская причудливо вилась, следуя изгибам горы, веранды выглядывали из-за деревьев, с заборов свисала сиреневая глициния, одинокий кипарис устроился посреди улицы, и асфальт обтекал его с двух сторон. Лидочка запыхалась, пока добралась до этого уголка Ялты, не указанного в путеводителях, но наверняка памятного многим тысячам отдыхающих, которые снимали здесь койки. И смутно знакомого Лидочке по каким-то детским воспоминаниям.
…В доме четыре шел грандиозный скандал.
Его раскаты Лидочка услышала за квартал. Толстый, почти черный, голый по пояс мужчина с гаечным ключом в руке требовал у менее толстой зареванной женщины денег за починку насоса и грозил, если мзды не получит, не только лишить весь дом питьевой воды, но и вообще снести его с лица земли. Дом был двухэтажным, каменным, старым, обнесенным верандами и всяческими пристройками так, что первоначальный архитектурный замысел угадать было совершенно невозможно.
Лидочка остановилась на периферии скандала и некоторое время пребывала в роли мирного свидетеля — тем более что была в этой роли не одинока — все жильцы дома свесились со своих веранд, а соседи прижались к заборам, разделившись на партии в зависимости от личных отношений с водопроводчиком и потерпевшей. Скандал тянулся, видно, давно и прекращаться не намеревался. Лидочка оглядывала лица соседей в надежде увидеть Спесивцева, но вроде бы никто под это описание не подходил. Наконец она выждала паузу в споре, когда стороны переводили дух, и спросила:
— Скажите, Спесивцев Иван Макарович здесь живет?
И тут тишина сразу усугубилась, напряглась и стала пещерной, подземной — слышно было, как разрезает воду километрах в пяти от берега пароход «Адмирал Макаров».
— Вот, — сказал наконец водопроводчик. — Этим и должно было кончиться.
Толстая женщина вздохнула и ничего не сказала.
Первой заговорила девочка с белой челкой, которая выглядывала с веранды второго этажа.
— А деда Ваню они в дом сдали.
— Молчи, — раздался женский голос, и какая-то неведомая сила утянула девочку от края веранды.
— Вы, значит, откуда будете? — спросил водопроводчик. — Если из газеты, то я вам прямо скажу — это гнездо пиратства и порока. Я с ней договорился по-человечески, двадцать пять и бутылка, понимаете? Договоренность соблюдают или нет?
— Работы на пятерку, — отрезала женщина.
— Я не ставлю под сомнение слова уважаемой Берты Богородской, — сказал водопроводчик, сочетая в этой фразе южную учтивость с южным презрением, — я ставлю под сомнение ее моральные устои.
— Моральные устои? Это кто мне говорит, простите, о моральных устоях? Твои моральные устои лежат под забором в алкогольном бреду!
— Мои, мадам? А вы их когда-нибудь видели?
— Как же можно увидеть то, чего нет?
— Простите, — сказала Лидочка, — мне не ответили, где Спесивцев?
— Вам уже ответили, — сказал водопроводчик. — Эти люди сдали Ивана Макаровича в дом для престарелых, чтобы завладеть его небольшой комнатой. Теперь они поставили в ней восемь коек и сдают их по два рубля с носа, что не мешает им экономить на водопроводчике…
Лидочка сидела на скамеечке в саду дома престарелых и любовалась цветущей сливой. Ей сказали, что Спесивцев выйдет на прогулку, как кончится завтрак. Так что его можно здесь подождать. «Он, правда, сильно болел, даже лежал в больнице, — сказала, словно извиняясь, медсестра, — но теперь ему лучше, хотя чего можно ждать, когда человеку уже восемьдесят? А вы ему родственница? К нему ни разу никто не приходил. Мы думали, что у него никого не осталось. Вы не обращайте внимания, что он такой нервный, это старческое, это уже неизбежно».
— А у него нет жены? — спросила Лидочка.
— Он холостяк, у него жена сразу после войны умерла, он рассказывал. Он ее очень любил. И больше не женился. Это удивительно, какая верность. Но, правда, для него это плохо — представьте себе, каково кончать жизнь здесь, у нас… нет, у нас хорошо, питание нормальное и медицинский уход, вы не думайте, у нас вымпел облздравотдела за показатели, многие хотят к нам попасть, но все равно не родной дом, правда? Я бы не хотела… У вас есть дети?
— Есть, — улыбнулась Лидочка. — Есть дети.
Сестра вывела Спесивцева под руку. Лидочка его сразу угадала. Хоть никогда не видела.
Иногда старики становятся похожи на младенцев. Таким, наверно, Иван Макарыч был в детстве — красные надутые щечки, гладкая кожа, светлые волосики пушком над розовым черепом, пухлые ручки и ножки. И в старости он остался таким же.
Только когда он подошел ближе и Лидочка поднялась, чтобы его встретить, она поняла, что сравнение с младенцем не совсем верно. Щечки были изборождены малиновыми сосудиками, глаза помутнели и выцвели, пушок был седым, с желтизной, руки морщинисты и мелко дрожали.
Старик был предупрежден, что к нему гостья, и издали уже приглядывался, щурился, старался сообразить, кто это мог быть, и вдруг Лидочке стало стыдно, что она не купила ему никакого гостинца.
Сестра помогла старику сесть и сказала:
— Я потом подбегу, если что надо.
— Не знаю, — сказал старик, — не признаю.
— Здравствуйте. Вы меня в самом деле не знаете… — И Лидочка замолкла, потому что совершенно не представляла, что говорить дальше, как сказать — сразу, или сначала надо поговорить о других, посторонних вещах?
— Я заходила к вам на Харьковскую, — сказала она после паузы. — Там мне сказали, где вас найти.
— Я туда не поеду. Там они меня травят, — сказал старик высоким дребезжащим голосом. — Мне тут хорошо. Зачем я туда поеду?
— Вы меня неправильно поняли, — сказала Лидочка. — Я знакомая Любови Семеновны, вашей… забыла, как называется… в общем, сестры вашей жены. Вы ее помните?
— Нет, — сказал старик быстро. — Я вас не помню. И никого не помню. Я пойду на гимнастику. Я каждый день гимнастикой занимаюсь.
— Ну конечно, конечно, — сказала Лидочка. — Я вас не задерживаю.
— Я пошел, — повторил старик. Голова его начала трястись. — Я себя плохо чувствую. Меня следует оберегать.
— Хорошо. Но все-таки, может, вы мне скажете, что стало с вашей женой?
— А вот и не найдешь! — Старик вдруг засмеялся. Он смеялся долго, притворно, ему было совсем не смешно, на глазах выступили слезы, он закашлялся. А потом вдруг сказал: — Не было у меня жены. Никогда не было у меня жены. Я холостой!
— А куда она уехала? — спросила Лидочка.
— Не было, не было, а я сейчас уйду, и тебя тоже не будет, — сказал старик. — Я пойду. Я себе палку из дерева вырезаю. С узорами.
Но никуда он не уходил. Сидел, искоса поглядывая на Лидочку, и ей казалось, что он притворяется, как притворялся, смеясь. А в самом деле все помнит, все знает, но не хочет говорить.
— В сорок восьмом году, в ноябре, вы выписались с женой из квартиры в Среднем Тишинском и уехали сюда.
— Я один уехал, — сказал старик. — Я холостой. У меня жены не было.
— Вы жили в Среднем Тишинском переулке в Москве? — спросила Лидочка. Вдруг ей показалось, что произошла ошибка, странное совпадение.
— Я жил в Москве в Среднем Тишинском и никогда этого не скрывал, — сказал старик.
— С женой?
— Не помню, — сказал старик, на этот раз серьезно. — Она уехала. Взяла и уехала. С дачи. Мы на даче жили, правда! Уехала, и никаких следов, как птицы в небе, пролетая над закатом, они не помнили о розовых мечтах, вы меня понимаете? Уехала, и никаких следов…
Старик стал говорить все быстрее, сбивчивее. Он мелко и часто дышал. Лидочка оглянулась в поисках медсестры, но той не было поблизости.
— И в землю закопал, — сказал старик, — и надпись написал. Вы читали эту поэму? Собака уехала, и тот самый закопал ее в землю, чтобы не лаяла, нет собаки, потому что священнослужителю собака не нужна, но любить я ее продолжал безмерно и бесконечно, как соловей розу… — Старик обернулся к Лидочке и приблизил к ней младенческое пухлое лицо. Он продолжал громким заговорщицким, театральным шепотом: — Я подхожу к колодцу, а из-за забора на меня смотрит солдат. Я этого солдата каждую ночь во сне вижу, он на меня смотрит и говорит: «Ты забыл ее шляпу в колодец положить», — понимаете? И нет никакой гарантии, что он не стоял там раньше. А у меня еще масса работы, потому что прощание с любимой — это значит, чтобы от нее не осталось никаких следов на земле, кому нужны следы, если нет человека, вы меня понимаете?
В нем была такая настойчивость, такое смятение и нелепое стремление донести до Лидочки свои данные переживания, свою память, что стало страшно, будто его губами говорил совсем другой человек, тот, что остался в нем с прошлых лет, и тот, который видел во сне какого-то солдата.
— Вы знаете, как я любил Веру, этого никто не может представить. И пускай она для меня навсегда останется молодой, это можно понять, а?
— Вы хотите сказать, что Вера умерла? — перебила его Лидочка.
— Умерла? Исчезла? Нет ее, не может быть. А может, и не было. Конечно, ее не было… Покажите ваш паспорт, гражданка!
Сестра шла по дорожке.
Лидочка увидела ее и помахала рукой.
Та поняла. Подбежала.
— Ну что вы, Иван Макарыч, — сказала она, наклоняясь над стариком. — Вам же нельзя волноваться. Что вам доктор говорил — нельзя волноваться…
— Пускай она уйдет! — вдруг закричал старик. — Пускай ее не будет! Она копает могилы. Она хочет закопать, закопать колодец, закопать меня…
— Вы лучше уходите, женщина, — сказала сестра с осуждением. — Зря вы его так разволновали. Он заговариваться стал. Он если волнуется, то заговаривается. Восемьдесят лет человеку, не надо его волновать.
— Вот именно, — сказал старик. — У меня нервы совершенно расшатаны. Я всю войну прошел.
Лидочка извинилась и ушла.
От поворота оглянулась. Медсестра сидела на скамейке рядом со стариком, и оба смотрели ей вслед.
На следующий день она снова ходила на Харьковскую. Там в ней заподозрили наследницу старика, которая будет претендовать на комнату. С ней говорили нехотя и раздраженно. Но все без исключения уверяли, что старик всегда жил один. Не было у него жены.
Лидочка написала бабушке Любе, что видела Спесивцева и у нее создалось впечатление, что Вера Семеновна умерла. По крайней мере, в доме по Харьковской, где Спесивцев прожил все эти годы, никто ее не видел и никто о ней не слыхал.
И конечно, Лидочка на этом не успокоилась. Она вновь и вновь мысленно повторяла бессмысленный и сбивчивый монолог старика и старалась найти в нем какой-то смысл. В монологе были какие-то конкретные опорные точки. Был солдат у забора. Был колодец и была шляпа жены. Это были предметы из его воспоминаний. Все остальное — и его любовь к жене, и уверение, что ее нет, что она уехала, пропала и так далее, — эти слова Лидочка пока выкинула из головы.
Она не забыла этого монолога, этого странного утреннего истеричного разговора на скамейке в саду дома престарелых и трясущихся младенческих щек. Она не поверила старику. Получалось, что никто, ни один человек, не видел Веру Семеновну после осени сорок восьмого года. Ни тетя Соня, когда Спесивцев уезжал из Москвы, ни соседи по Ялте, ни Любовь Семеновна.
Лидочке захотелось пойти в милицию и поговорить там. Но она понимала, что ее выслушают, но вряд ли чем-нибудь смогут помочь. Представьте себе, вы — следователь. К вам приходит женщина и сообщает, что тридцать с лишним лет назад, сразу после войны, некий гражданин Спесивцев уехал из Москвы и переехал в Ялту. А вот его жены при этом не было. И я, Лидия Берестова, подозреваю, что он ее убил… И что? И в землю закопал? «А где сейчас этот Спесивцев?» — спросит следователь. «Этот Спесивцев, — ответит Лидочка, — в возрасте восьмидесяти лет и в состоянии полного маразма находится в доме престарелых. И ничего объяснить не может или не хочет…» Нет, если идти в милицию, то надо идти с каким-нибудь более конкретным делом. Например, с сообщением о том, что вчера (а не сорок лет назад) обокрали твою квартиру. В конце концов, дело об исчезновении жены Спесивцева такое же древнее, как дело о смерти жены Ивана Грозного. И общественной опасности не представляет.
Размышляя именно таким образом, Лидочка поняла, что должна бы сделать больше, чем сделала. Могла бы, например, попросить паспорт Спесивцева и узнать, записана ли в нем его жена? Или они развелись? Или, например, пойти в загс Ялты и узнать, не умирала ли такая некая Вера Семеновна… Теперь было поздно. Не возвращаться же в Ялту.
Правда, оставался еще один путь. И он более других отвечал характеру Лидочки. И она позвонила своему приятелю в МВД и попросила его об одном одолжении. Как узнать, где находилась дача гражданина Спесивцева И.М., проданная осенью сорок восьмого года?
— Лидия, ты сошла с ума, — ответил знакомый.
— Алик, — сказала Лидочка, которая имела счастье несколько лет назад спасти от беды этого крупного ныне деятеля законности и порядка, — я никогда не прошу тебя ни о чем по пустякам. Дело идет о жизни и смерти.
— Когда ты повзрослеешь? — спросил генерал Алик.
На бывшей даче Спесивцева жил Коля. Коле было сорок два года, он играл в дачу, как мальчик в железную дорогу, и потому, когда они туда приехали, Лидочке волей-неволей пришлось помогать ему тащить по заляпанной грязью асфальтовой дорожке, а потом по тропинке через перелесок саженцы вишни какого-то невероятно редкого и плодовитого сорта, а сам Коля волок банки с химикалиями, краску, набор садовых инструментов и еще что-то в рюкзаке, что вылезало оттуда острыми углами и норовило этот рюкзак проткнуть. Коля уже знал об истории с Верой Семеновной Спесивцевой, но относился к опасениям Лидочки скептически, как человек, который дожил до сорока с лишним лет и умудрился втиснуть их в такой мирный период истории, что ни разу не видел, как умирает человек. Так что мысли об убийстве, тем более таком древнем, казались ему книжными, невероятными и даже чем-то обижали его дачу, полученную вместе с новой молодой женой и старой тещей.
— Вы только подумайте, — говорил он, сгибаясь под рюкзаком, — какие у него основания? Ну, если недоволен, то разведись. Вот у меня были неоднократные скандалы с Галей, доходило до страшных слов, и я не удивлюсь, если она желала моей смерти. Ну и что? Разошлись. Оба счастливы. Вы бы посмотрели, какой у нее муж — мы с ним в воскресенье ходили на футбол, — если бы я знал, сам бы на нем женился. Умница, физик-теоретик.
— А известный случай из жизни адмирала Отелло? — спросила Лидочка.
— Вот именно — литература.
— Вы хотите сказать, что люди вообще друг друга не убивают?
— Только на Ближнем Востоке, — неуверенно ответил Коля.
Дача была и в самом деле маленькая, одноэтажная, с чердачным окошком под двускатной крышей. Коля, как только они свернули на улицу поселка, стал рассказывать Лидочке, как он ее перестроит и превратит в виллу Ротшильда, и вообще у Коли все было просто — надо только чего-нибудь подтащить, немного потерпеть, чуть-чуть недоспать, а люди хорошие, кто-нибудь заметит, как Коля старается, и дадут ему жену, дачу, а когда-нибудь — машину.
Видно, до Колиного появления в том семействе, что купило дачу у Спесивцева, дачей там заниматься было некому. Ею пользовались, на ней жили, ее ругали, туда таскали продукты и подставляли тазы, когда снова начинала подтекать заштопанная крыша, но коренных перемен никто там не предпринимал. Даже мебель туда отправлялась, как бывает чаще всего на русских дачах, — в ссылку, доживать свой век. Может, подумала Лидочка, это происходит от генетической памяти наших предков-кочевников. Считается, что на даче следует жить в неудобстве, житейской скудности и подчеркнутой простоте. А может, это происходит для того, чтобы можно было лучше оценить осенью городской уют.
— А колодец здесь есть? — спросила Лидочка. Спросить это надо было раньше, но как-то не поворачивался язык. Все расследование Лидочки зиждилось на том, что здесь когда-то был колодец. Колодец, который фигурировал в бреду старика Спесивцева.
— К сожалению, — ответил Коля, наклоняясь, чтобы подобрать брошенные Лидочкой саженцы, обнимая их, прижимая нежно к груди, чтобы занести на веранду, — колодец за три участка. Воду носить неудобно. Надеюсь, если все будет в порядке, провести сюда водопровод от колонки. Многие уже сделали. Только расход большой. Трубы дорогие.
— А раньше колодца не было?
Доски пола веранды заскрипели под коренастой, склонной к полноте фигурой Коли, пролетел холодный ветер и пошевелил листьями на березе. Береза была старой, она помнила и Спесивцева, и Веру Семеновну. Может быть, Вера сидела под ней и вышивала. В солнечный день. Вынесет стул и вышивает…
— Вам обязательно нужен колодец, — сказал Коля. — Иначе вашему преступнику некуда было кидать холодный труп.
Лидочка вздохнула. В устах Коли все зазвучало крайне дурацки. В самом деле — приехала тетка, подавай ей колодец, чтобы спрятать туда труп. С ума можно сойти. Неужели она такая дура?
Коля гремел на веранде, разбирая банки и бутылки.
— Сейчас мы с вами сообразим чего-нибудь поесть, — крикнул он. — Разберусь, и сообразим, хорошо?
— Спасибо, я не хочу.
— Я тоже не хочу, но на свежем воздухе и при простом труде такой аппетит разыгрывается, вы себе просто не представляете.
«Неужели он заставит меня копать грядки или убирать листву?» — испугалась Лидочка. С него станется.
— Заходите в дом! — крикнул Коля. — Правда, от них никаких вещей, наверное, не осталось. Хотя моя теща дачей буквально не занималась, но, кроме старого шкафа и дивана, этот Спесивцев ничего им в наследство не оставил.
За верандой была кухонька и прихожая. Потом большая комната. Вот и все. Шкаф и в самом деле был основным предметом в комнате. Было ему сто лет, даже удивительно, как его смогли затащить в эту дачу. Вернее всего, ее строили вокруг шкафа. На столе лежали кипой старые журналы, пахло летней пылью и старыми тряпками. Нет, здесь ничего не могло остаться.
— И на чердаке нет? — спросила Лидочка.
Коля расхохотался.
— Вы меня потрясаете, Лидия! — сказал он. — Я туда лазил раз сто — ни одного скелета.
«Что здесь произошло?» — размышляла Лидочка. Она подошла к маленькому окну. На нижней раме валялись дохлые мухи. Ветка яблони билась о стекло снаружи. И хоть окружали ее чужие для Спесивцева вещи, хоть на веранде гремел, шумел, возился медведем Коля, она все равно не могла отделаться от ощущения, что именно здесь скрывается тайна исчезновения Веры Семеновны…
Лидочка вышла в сад.
Трава пожелтела, пожухла, но листва с малины еще не облетела. Участок был невелик, но зарос так, что угадать, был ли там когда-нибудь колодец, невозможно. Участок был узким, как бы сжатым между соседями. Забор, выходивший на улицу, был коротким, метров пятнадцать. Сама дача стояла в глубине участка, а там, ближе к забору, к боковой стороне участка притулился старый сарай, крыша его провалилась, дверь была перманентно полуоткрыта. Если тот солдат подходил к забору, то, вернее всего, Спесивцев разговаривал с ним не от дома, а ближе, от сарая, например.
Лидочка подошла к сараю. Какие-то палки, гнилые сучья мешали ей, торчали из травы — видно, сюда редко кто заходил. Удивительно, но даже в самых маленьких пространствах, даже в квартире, всегда найдутся кусочки территории, куда не ходят. Лидочка заглянула в полуоткрытую дверь. Сарай тоже не участвовал в жизни дачи. Сюда только кидали вещи громоздкие, ненужные или те, что, казалось, когда-нибудь пригодятся.
— Лидка! — крикнул Коля с веранды. — Если хочешь туда заглянуть, интересуйся! Только в сарае угрожающая обстановка. Я все жду, когда он упадет, чтобы сжечь его спокойно.
И Коля засмеялся на весь участок хорошим, громким смехом здорового работящего человека.
— И колодца там нет! И скелетов…
Лидочка ступила в сарай. Да, здесь сам черт ногу сломит. Правда, светло — щели в стенах и крыше такие, что может пролететь самолет. Чего здесь только нет. Вон старый рукомойник с треснутой мраморной стенкой, стопкой, одно в другом, ведра, кастрюли, грабли, лопаты, топор без топорища, ржавый велосипед, толстая цепь с ведром, рваные сапоги, листы фанеры, пошедшие от сырости, доски, бревно…
— Лидия! Иди перекусим!
Коля уже расставил на столе на веранде дачную посуду, нарезал колбасу и открыл четвертинку — Лидочка поняла, что выступает в роли доброго предлога выпить рюмочку до трудов праведных.
Где же этот чертов колодец? Она была уверена, что он на участке. А если он где-нибудь у соседей?
Не может же быть, чтобы ни хозяева дачи, ни она не обратили внимания на такую крупную деталь пейзажа, как колодезный сруб…
— Ну, за знакомство, — сказал Коля. — Или, как говорил американский детектив Перри Мейсон, — за убийство! Ты по-английски читаешь?
— Я читаю по-английски, — призналась Лидочка. Что-то мучило ее. Что-то, что она видела здесь недавно и что было упущено памятью, а не должно было быть упущено.
— Чего же не пьешь? — спросил Коля. — Нам с тобой надо всю бутылочку прикончить. Не оставлять же воронам!
Он с ней подружился, и ему в голову не приходило, хочет ли Лидочка ответить взаимностью.
Лейтенант Миронов, у письменного стола которого Лидочка завершила свое путешествие по отделению милиции, был молод, краснощек, в глазах его застыло удивление отличника при виде изумительного по красоте решения трудной задачки, к тому же он был человеком аккуратным и последовательным. Он умудрялся все вокруг себя держать новым, блестящим и правильным. И лейтенантские погоны у него блестели так, что казалось, все еще лежат на складе, а не на плечах, на столе царил фантастический порядок, при котором страшно было дотронуться, допустим, до ручки или блокнота, сдвинуть его и этим нарушить стройную и строгую гармонию.
Разговор они начали в кабинете его начальника, так что он уже знал, кто такая Лидочка, почему пришла и что за нелепая у нее теория. Тем не менее он все записал как положено, по форме. Глядя на лейтенанта через стол, Лидочка робела, боясь нарушить дыханием организованность воздуха в кабинете, и любовалась поразительной завершенностью каллиграфического почерка товарища Миронова.
— Продолжайте, Лидия Кирилловна, — предложил Миронов, — с той точки, на которой мы остановились.
Лидочка понимала, что Миронов и устную речь делит на фразу и никогда, даже разговаривая в очереди или дома, не забывает ставить в нужных местах точки и запятые.
— И тогда я вспомнила, — сказала Лидочка. — Я вспомнила, что видела в сарае цепь с ведром. Старую толстую цепь. С ведром. Вы понимаете?
Миронов начал писать, снова склонив голову ровно настолько, чтобы ни один волосок не сдвинулся с места.
— Продолжайте, — сказал он.
— Цепь с ведром могла быть только у колодца. Но так как колодца не было, то я сразу сообразила. И хозяева дачи никогда не догадывались, что цепь с ведром указывает на существование колодца. Но колодца нет. И следов от него не осталось. И это было странно.
— Вы правы, — сказал Миронов. — Но это не значит, что колодец был ликвидирован с преступными намерениями.
— Но с какими намерениями он был ликвидирован?
— Допустим, — Миронов задумчиво посмотрел на нее небесного цвета глазами, — во избежание падения в него детей.
— Колодец всегда нужен. Лучше его углубить и расчистить, чем ликвидировать. Тем более что хозяйка дачи живет там с сорок восьмого года и колодца не помнит. Зато она вспомнила, когда ее спрашивал зять, что прежде недалеко от сарая был участок голой земли и Спесивцев никакого объяснения этому им не дал. И больше того, поблизости была неглубокая яма.
— Откуда брали землю, чтобы засыпать колодец, — предположил Миронов.
— Вот видите, — сказала Лидочка, — вы со мной согласны.
— Я следую ходу вашей логики, — любезно улыбнулся лейтенант Миронов. — Это не означает, что я согласен в интересах исторической справедливости тратить время на поиски колодца, якобы засыпанного сорок лет назад.
— Даже если в нем может оказаться труп женщины?
— Возможность этого незначительна, — сказал лейтенант Миронов. — Тем не менее мы примем все меры, чтобы проверить ваш сигнал.
«Господи, — подумала Лидочка, — как он вежлив, как он меня терпит. Ну ничего, ты найдешь этот злополучный колодец и, когда узнаешь, что я права, заговоришь иначе».
— Ни одно преступление… — начала Лидочка.
— Как бы давно оно ни было совершено, — развил ее мысль лейтенант Миронов, — не должно остаться нерасследованным. Кстати, дайте мне координаты этого старика. Может быть, мне придется с ним встретиться.
— Но сначала…
— Сначала мы, разумеется, выясним, был ли на том участке колодец, — сказал лейтенант Миронов, — я уже затребовал планы участков поселка «Работница».
«По крайней мере этот человек не способен халтурить», — подумала Лидочка.
Они стояли группой вокруг небольшой ямы в траве. Лидочка, Миронов, два землекопа и Коля. Сыпал мелкий занудный дождик. Лидочка, которую лейтенант Миронов не хотел брать с собой на дачу, раскрыла зонтик, и Миронов, у которого зонтика не было, развернул под ним, прижавшись к Лидочке, ветхую карту участка, где был указан колодец. Землекопы заинтересованно разглядывали схему, а Коля, обращаясь к лейтенанту, повторял:
— Этого физически не могло быть. Наша семья живет здесь уже много лет. Удивительно, правда?
— Ничего удивительного нет, — возразил вежливо лейтенант Миронов.
Лидочке вдруг показалось, что капли дождя не решаются падать на его выглаженный плащ, а если падают, то деликатно и ровно, чтобы не смять и не промочить.
— В свое время, — продолжал лейтенант, сворачивая карту и давая знак землекопам, чтобы они приступали к работе, — в Карнаке, это такой населенный пункт в Египте, был обнаружен засыпанный колодец, в котором хранилось более сорока ценных скульптур и обелисков.
— Да, конечно, помню, — растерялся Коля.
Шофер милицейской машины тоже подошел поближе. И ему было любопытно.
Дерн аккуратно вывернулся, взрезанный лопатами. Лейтенант Миронов стоял за спинами землекопов и отмечал каждое их движение. Коля сбегал на веранду, проверил, не кипит ли чай. Почти сразу под дерном обнаружился край стоявшего торчком бревна. Рядом — второго. Их обкопали и вытащили наружу. Операция оказалась долгой и нелегкой. Лейтенант Миронов помогал землекопам. Они уже давно измазались мокрой землей, зеленью и древесной трухой — к Миронову не пристало ни крошки.
Бревна оказались короткими, обтесанными с краев, и Лидочка сразу догадалась, что это остатки колодезного сруба, сваленные Спесивцевым внутрь. Лейтенант Миронов вытащил фотокамеру, он периодически останавливал землекопов и фотографировал колодец. Потом вытащили еще одно бревно. Потом землекопы сказали, что выпили бы чаю, если нет чего покрепче. Коля потащил всех на веранду. Лейтенант Миронов был недоволен, он хотел сначала закончить эту историю. Лидочка была с ним согласна, она почувствовала в лейтенанте родственную душу — в нем жил детективный дух. Все все-таки пошли на веранду, а Лидочка задержалась у неглубокой ямы. Заглянула внутрь. По краям ее были видны грязные, в земле, бревна сруба. Внутри земля была мокрой, черной, с пятнами рыжей глины. Лидочке показалось, что из земли торчит край черной тряпки. Она села на корточки, протянула руку вниз, но не дотянулась. И в тот же момент услышала вежливый голос Миронова:
— Разве вы не понимаете, Лидия Кирилловна, что делать это совершенно недопустимо. Мы ведем расследование.
— Простите, лейтенант, — спохватилась Лидочка. — Вы правы. А дождь не повредит?
— Дождь уже ничему не повредит, — сказал лейтенант и, взяв у Лидочки зонтик, проводил ее до веранды. Все-таки оставлять ее одну у колодца он не желал. Это противоречило какой-то инструкции.
Землекопы не спеша пили чай и рассказывали о страшных преступлениях, которым были запоздалыми свидетелями. Миронов записывал что-то в книжечку, а Коля виновато суетился, будто кто-то подозревал его в том, что колодец засыпал он сам.
Только через полчаса, когда Лидочка уже совершенно извелась от нетерпения, землекопы встали из-за стола и вернулись к работе. Но первым в колодец спрыгнул лейтенант Миронов. Осторожно достал черную тряпочку. Передал своему шоферу. Тот разложил на заднем сиденье милицейского «жигуленка» лист белой бумаги, и тогда Лидочка сообразила, что это не тряпка, а бывшая женская шляпка, такие носили сразу после войны. А пока она разглядывала шляпку, лейтенант принес серебряную вилку и прогнившую шкатулку с бумагами, превратившимися от влажности в мягкий серый ком…
Затем находки стали следовать одна за другой. Нашлось два женских платья, туфли, один валенок, россыпью — хрустальные бусы, золотое колечко с аметистом, женская комбинация.
Теперь копали осторожно, ножами, лейтенант Миронов сидел в колодце и основную часть работы взял на себя — и это было понятно. Лидочке лишь непонятно было, как он умудрился даже в этой обстановке остаться хрустально чистым и выглаженным, как в кабинете.
Коля стоял на дожде, промок, он был печален и больше не суетился.
— Странно, — сказал он Лидочке тихо, тут все говорили тихо, даже землекопы перестали шутить, — странно, что я все эти годы ходил по этой дорожке, прямо по колодцу, понимаете, и вам не поверил, думал — блажь. Простите, конечно. Но я даже не знаю, как мы теперь здесь жить будем. Даже шкаф в комнате — он, наверное, все видел.
— Ничего, я думаю, переживете, только не рассказывайте подробностей своей жене.
— Ни в коем случае. Она же в положении. Ей мертвецы будут сниться. Потом, вы же знаете, какие женщины в положении нервные. Она может решить, что и я способен… понимаете, какая глупость?
— Ну, уж о вас она не подумает…
— Кто знает, — загадочно ответил Коля, и Лидочка поглядела на него с опаской. Устоявшийся мир представлений Коли об отношениях людей — что бывает в жизни, а что только в литературе — рухнул. Теперь ему надо было строить вокруг себя новый мир. Или забыть обо всем… Пока же он был напуган. Даже самим собой.
— Все, — сказал землекоп, выскакивая из колодца, держась за руки товарища. — Материк.
Он наклонился, чтобы помочь Миронову выбраться из колодца.
Тот выбрался наружу, смахнул с брючины черный комочек и наклонил голову.
— Как так материк? — спросила Лидочка.
— Слежавшийся ил, — сдержанно сказал Миронов. — На глубину еще двух метров. Прослойки песка. Мы проведем дополнительную проверку. Однако полагаю, что трупа там нет.
— А где же он? — спросила Лидочка. — Где же его теперь искать?
Коля в ужасе посмотрел на свою дачу. Он представил, что ее будут сносить.
На заднем сиденье машины лежали сгнившие, с трудом узнаваемые вещи — все, что осталось от молодой и красивой женщины.
— Но где же она? — настаивала Лидочка, словно Миронов хотел скрыть от нее правду.
— Будем продолжать проверку, — сказал Миронов сдержанно.
— Тут магазин далеко? — спросил один из землекопов. — Согреться бы не мешало.
Лейтенант Миронов отвернулся, он не слушал. Он думал.
— Как вы понимаете, — сказал лейтенант Миронов, осторожно подвигая к Лидочке серую папку с таким расчетом, чтобы направление ее движения находилось под прямым углом к остальным предметам на столе, — я не имею никаких оснований знакомить вас с материалами предварительного расследования. Однако, посоветовавшись с Сергеем Максимовичем, я решил, что, так как действия проводились по вашему сигналу и, можно сказать, вы принимали активное участие как лицо заинтересованное в торжестве правосудия… — тут Лидочке показалось, что в глазах Миронова появилась ехидная усмешка, хотя при том они продолжали взирать на нее невинно и крайне серьезно, — мы не поступимся духом закона, предоставив вам возможность прочесть находящиеся здесь дополнительные материалы. Я сделал закладки для того, чтобы вам удобнее было читать, и подчеркнул красным карандашом те строки из документов, которые могут вас заинтересовать. Пожалуйста. А теперь, если вы меня извините, я вас покину на десять минут и выпью чаю в буфете. Вы не возражаете?
— Спасибо, — сказала Лидочка и искренне посочувствовала жене молодого лейтенанта, если таковая еще от него не сбежала. Она подозревала, что на самом деле лейтенант уходит из комнаты, чтобы не видеть, как посетительница держит папку под совершенно недопустимым углом.
Закладки были прямыми, маленькими, очень белыми и совершенно одинаковыми — чудо закладочного искусства. Строки были подчеркнуты по полям так прямо и аккуратно, словно Миронов собирался сдавать черчение в архитектурный институт.
Закладок было всего три.
За первой оказалась фотокопия письма, строчки которого были настолько бледными и неразборчивыми, что Лидочке пришлось надеть очки, чего делать она не любила. Можно было подумать, что письмо это долго пролежало в воде. Вскоре Лидочка поняла, что не ошиблась. Письмо было извлечено из колодца. Письмо было коротким.
3 ноября 1948 года.
Иван!
Я уезжаю от тебя. Не пытайся меня искать. Я знаю, что тебе я причиняю боль, но я больше не могу с тобой жить. Еще раз повторяю, чтобы ты меня не искал и забыл. Я поняла, что без любви жить нельзя. Прощай и прости.
Вера.
Вторая закладка тоже хранила под собой письмо. Письмо было отправлено из Томска всего десять дней назад.
Уважаемый товарищ Миронов!
Вам пишет дочь Веры Семеновны Куракиной, которая раньше была замужем за Спесивцевым. Меня вызвали в милицию и попросили рассказать о моей матери. И они согласились, чтобы я вам прямо написала, потому что это давнее дело и мне не хотелось бы тревожить мамину память. Мама моя умерла два года назад. Мой отец, Сергей Сергеевич, погиб давно, в автомобильной катастрофе. Моя мама и папа жили очень счастливо, и я до сих пор переживаю их смерть. Я не знаю, как вы нашли наш адрес, но вы затронули ту часть маминой биографии, о которой она никому, кроме меня, не рассказывала. Моя мама познакомилась со Спесивцевым во время войны и тогда же вышла за него замуж. Она была значительно моложе его и совсем его не любила. Спесивцев был неуравновешенным человеком, он ревновал маму ко всему на свете, грозился ее убить, и мама его очень боялась. Жизнь у нее была невыносимая. Он был психически неуравновешенным. В конце концов мама поняла, что больше она такую жизнь не выдержит, и в один прекрасный день сбежала от него, не взяв с собой ничего — даже своих вещей. Она не хотела иметь ничего общего с этим человеком. Вы не поверите, но он маму бил и спрятал ее паспорт, чтобы она от него не убежала. Мама просто села в поезд и поехала куда глаза глядят.
Она устроилась на работу в Казахстане и сказала, что потеряла все документы. Потом она встретила моего отца и полюбила его. Спесивцева она совсем не вспоминала, он был для нее как кошмар. Вот и все, что я могу ответить на ваш запрос.
С уважением, Надежда Сергеевна Куракина.
И еще там была третья закладка. Она была на последней страничке перед постановлением о закрытии дела. Это был официальный доклад из Ялты, писал его тамошний следователь. Он писал, что на основании письменного запроса он посетил дом престарелых и встретился с гражданином Спесивцевым, состояние здоровья которого было угрожающим, и пришлось ждать три дня, прежде чем врач разрешил говорить со стариком. Далее следовали строки, отчеркнутые Мироновым.
…В первой части нашей беседы гр. Спесивцев проявил трезвость и говорил связно. Сначала он отказывался от того, что был ранее женат, однако после ряда дополнительных вопросов с моей стороны признал, что был женат на гр. Спесивцевой Вере Семеновне, 1921 г. рождения, с которой находился в состоянии глубокого чувства, которое она оскорбила, покинув его с другим мужчиной. В состоянии оскорбленного самолюбия гр. Спесивцев И.М. решил уничтожить все следы своего брака с гр. Спесивцевой B.C., для чего выкинул из дома в поселке «Работница» Московской области, где временно проживал, все вещи, принадлежавшие его прежней жене, в колодец на территории его садового участка, после чего колодец засыпал землей, утверждая, что находился в состоянии нервного потрясения, вызванного оскорблением, нанесенным ему его супругой. Цель гр. Спесивцева заключалась в том, чтобы не осталось никакого воспоминания о гр. Спесивцевой, как будто ее не существовало на свете. С целью забыть свою жену гр. Спесивцев после этого продал дачу, покинул Москву и переселился на постоянное жительство в г. Ялту. Более никакой информации получить у гр. Спесивцева мне не удалось ввиду того, что он начал заговариваться и утверждать, что убил свою жену гр. Спесивцеву В. С. и бросил ее в колодец. Состояние здоровья и умственное состояние гр. Спесивцева не позволили мне сделать заключение, какая из версий, предложенных им, правильна. В настоящее время, по словам врача, состояние здоровья гр. Спесивцева безнадежно, и современная медицина не позволяет надеяться на его выздоровление…
Лидочка закрыла папку и постаралась положить ее на стол лейтенанта Миронова так, чтобы ее края находились под абсолютно прямым углом к остальным предметам. Ей хотелось доставить лейтенанту такую небольшую радость. Все-таки он сделал все, что мог. И не его вина, что трупа в колодце не оказалось, а все действующие лица этой драмы сошли со сцены естественным путем.
Она поднялась с неудобного жесткого стула и подошла к окну. Там шел дождь. И было холодно. «Приду домой, — подумала она, — напишу сразу Любови Семеновне. Может, соберется в Томск, все-таки там у нее живет племянница. Никого у бабы Любы не осталось родных, кроме Нади Куракиной».
МЛАДЕНЕЦ ФРЕЙ
Все действующие лица этого романа придуманы автором, и любое совпадение с прежде или ныне живущими людьми — досадная случайность.
Пролог
Январь 1992 г
Леонида Саввича не насторожило то, что дама, назвавшаяся Антониной Викторовной («Зовите меня просто Антониной или даже Тоней»), позвонила ему на работу. А ведь стоило задуматься: телефон сменили всего неделю назад, даже Соня его не знала.
Антонина Викторовна сказала, что звонит по просьбе его бывшего соученика, брат которого умер месяц назад, оставив коллекцию марок. А в семье соученика, который, правда, давно отъехал в другую страну, хранится память о том, что Леонид Саввич — выдающийся филателист и добрейшей души человек.
«Ну что вы, как можно, — сказал тут Леонид Саввич, — я отлично помню соученика Геннадия, неужели он отъехал за рубеж? Если я могу помочь, то буду рад, только учтите, что я стеснен материально, может быть, вам лучше обратиться к более состоятельным филателистам, я готов дать вам телефон моего коллеги…»
«Ну нет, нет и еще раз нет, — возразила Антонина Викторовна, — покойный настаивал, чтобы обратиться именно к вам, он так вам доверял. Впрочем, и сумма может быть невелика, вы даже заработаете на этом».
«Как можно, как можно! Разве речь идет о наживе?»
«Нет, речь идет о гуманитарной помощи».
Смех у Антонины Викторовны был молодой, задорный, какой бывал по радио в комсомольских передачах.
«А далеко ли ехать? — спросил Леонид Саввич. — У меня нет своего транспорта, и супруга хворает, мне надо будет еще пойти по магазинам. Позвоните на той неделе, я буду рад».
Конечно, в сердце Леонида Саввича шевельнулся коллекционный короед: а вдруг от неведомого брата забытого однокашника остались сокровища, собранные еще дедушкой? Но Леонид Саввич привык не верить в счастье. Счастье всегда доставалось кому-то еще, а он лишь глядел на удаляющиеся красные кормовые фонарики.
К тому же у Леонида Саввича был большой жизненный опыт, и он знал наверняка, что выказывать излишнее любопытство, страсть, нетерпение — может оказаться роковым. Поспешай не торопясь, как учил Блехман.
Но Антонина Викторовна сама взяла дело в свои руки.
Ничего подобного, сказала она. Поездка займет всего ничего, альбомы у нее с собой, в гостинице «Украина», тут она остановилась проездом. Разве она не сказала еще, что брат умер в Костроме? Да, именно в Костроме. «Гена не говорил вам, что они родом из Костромы? Ну вот, а вы запамятовали. Я за вами заеду и отвезу. Дело пустячное, вы успеете домой колбаски купить».
«Но я еще не кончил работать».
«Когда кончаете? В шесть? А в пять уйти сможете? В виде исключения. Скажите, что врача к жене ждете. Я буду вас ждать у входа в институт».
И Леонид Саввич, разумеется, сдался.
Леонид Саввич вышел из института в пять десять. Не хотел задерживать даму. Воображение, не очень развитое у Леонида Саввича, тем не менее нарисовало ему портрет незнакомки — учительница из Костромы, молоденькая, в толстых очках, одетая в длинное, еще мамино пальто…
Он вышел на улицу Красина.
Остановился, сделав несколько шагов вперед, вдоль голых колючих кустов. Справа нагло и недоступно улыбалась Джоконда — там во дворе располагалось казино ее имени. Недавно открылось. Страна катилась к капитализму, это не очень нравилось Леониду Саввичу, потому что у него не было свободных денег и Сонино лечение тоже тянуло из семьи последние соки.
Ну где же эта учительница?
Тявкнул автомобильный сигнал — Антонина Викторовна (кто же, кроме нее?) открыла дверцу черного японского джипа и крикнула:
— Залезай быстрее, все тепло выпустишь.
Он перебежал к джипу и сел на заднее сиденье. Антонина Викторовна подвинулась, освобождая ему место. Леонид Саввич спросил:
— Вы ждете именно меня?
— Нет, Суворова! — ответила уже знакомым комсомольским голосом женщина, скорее молодая, чем средних лет, в темно-коричневой шубе, которая поблескивала так дорого, что Леонид Саввич сразу подумал: это не синтетика!
Гордая ее голова была не покрыта, волосы, покрашенные в блондинистый цвет, завиты и прижаты к голове — получался некий довоенный образ. Леониду Саввичу, разумеется, те времена не достались, он родился после войны, но столько видел таких женщин в кино, что привык к этому образу.
Лицо Антонины Викторовны было тугим и розовощеким, подбородочек — круглый и упрямый, а глаза велики и цветом как облачное небо. Серые, с оттенком сиреневого.
Под шубой было трудно угадать, толстая она или нет. Но вернее всего мускулистая. Как метательница диска. Но не настолько мускулистая и массивная, как толкательница ядра.
— А я вас таким и представляла! — радостно сообщила Антонина Викторовна и приказала бритому узкому затылку над спинкой переднего сиденья: — Вперед, Алик, до хаты.
Алик кивнул, не оборачиваясь. Его уши были туго прижаты к голове.
Джип нарочито взревел, чтобы все знали, на какой тачке уезжает из института младший научный сотрудник Малкин.
Но вернее всего никто не заметил. И славно. Чем меньше мы высовываем напоказ наше благосостояние, тем больше нас любят сослуживцы.
Джип не спеша покатил по Красина к Тишинскому рынку, оттуда по Большой Грузинской взял к реке.
От Антонины Викторовны пахло шикарными сладкими и одновременно горькими духами. В джипе было чуть темнее, чем на улице, — стекла тонированные, женщина дышала часто, словно была взволнована.
— Вы давно в Москве? — спросил Леонид Саввич. Надо было проявить вежливость.
— Наездами, — сказала Антонина. — А если кто из хороших людей чего попросит — все ко мне бегут. Такой характер, никому не могу отказать. А с мужиками — ну просто катастрофа.
Она засмеялась, вернее, захохотала. Но это не выглядело вульгарным — Леонид Саввич был противником всего вульгарного, — это был здоровый смех здорового животного.
Когда он шел по коридору «Украины» следом за дамой, то усмехнулся: вот кого он представлял себе учительницей в мамином пальтишке!
Длинное манто развевалось, как плащ императрицы Екатерины, высокие каблуки цокали, будто проходил эскадрон. Алик, который спешил на два шага впереди, остановился перед дверью и отпер ее.
— Подождешь в машине, — приказала Антонина Викторовна.
Алик окинул Леонида Саввича недоброжелательным взглядом. Впрочем, других взглядов у Алика в запасе не было.
Войдя в номер, старомодный и шикарный с точки зрения провинциального начальника главка, Антонина повернулась к Леониду Саввичу спиной и сделала привычное движение — манто соскользнуло ему в руки, и он еле успел его подхватить.
— Опыта еще не набрался, — сказала Антонина Викторовна. — Что пьем? Виски, коньяк? Шампузу или простую белую?
— Мне домой надо, — смутился Леонид Саввич. Ему уже не хотелось домой.
— Ты же не за рулем, — возразила Антонина Викторовна. — А нам надо еще на брудершафт выпить.
Она уселась на диван. Юбка оказалась куда короче, чем можно было ожидать. Впрочем, Леонид Саввич и не мог бы сказать, чего он ожидал.
Антонина Викторовна села — нога на ногу. Колени — полные, красивые, гладкие, хочется их гладить.
— Ну что стоишь! — рассмеялась Антонина Викторовна. — Действуй, орел. Видишь бар? Доставай выпивку. Я приказываю тебе, мой рыцарь.
Она правильно выбрала тон — он позволил Леониду Саввичу тоже вроде перевести ситуацию в шутку. В шутку достать из большого бара бутылку водки для Антонины Викторовны, для себя — виски, кюветку со льдом, минералку. Славно! Леонид Саввич никогда не был трезвенником, но пил редко, чаще всего на семейных торжествах или поминках. Ему нравилось посидеть в компании.
Можно было даже не спрашивать про марки. Просто посидеть с красивой женщиной.
Выпили по первой.
— А ты славный, — сказала Антонина Викторовна.
Выпили еще по одной.
— Да, кстати, — сказала Антонина, — прежде чем я покажу альбомчик, попрошу называть меня без отчества. А то выгоню.
— Слушаюсь, мон женераль! — согласился Леонид Саввич. — Но и вы меня, пожалуйста, — Леонидом.
— Леней, а не Леонидом, — поправила его Антонина. — Я тебе говорила, что ты славный?
Вряд ли Леонида Саввича можно было назвать славным. Тут требовалось какое-то иное определение.
В Леониде Саввиче было несколько противоречий, правда, непринципиальных. К примеру, он был худ и сутул, с осунувшимся лицом, но притом у него в последние годы вырос круглый животик, который вылезал из любого пиджака. В плечах и прочих местах он был на четыре размера меньше, чем в талии. Леонид Саввич был лыс, но вокруг лысины волосы росли так густо и так энергично курчавились, что уследить за этой шевелюрой не было возможности. Голова его была схожа с гнездом из травы и сучков, из которого вылезало крупное желтоватое яйцо. Глаза у Леонида Саввича были узкими, желтыми, скулы высокими — он немного походил на нанайца, но узкий длинный нос вытягивался вперед столь очевидно, что казался приклеенным к лицу для маскировки.
Нет, его не назовешь привлекательным, но и отвращения это лицо не вызывало.
Выпили еще по одной.
— Работа у тебя интересная? — спросила Антонина.
Он кивнул и выпил еще.
— У меня тоже, — сказала Антонина. — Тебе марки показать?
— Разумеется, — обрадовался Леня, который было запамятовал, зачем пришел в этот роскошный номер. Может быть, для любовного свидания? Ах, не шутите!
Антонина легко поднялась с дивана и, играя ягодицами, подошла к письменному столу, на котором лежал кожаный кейс. Она ловко нажала нужные кнопки, кейс щелкнул и откинул крышку. Там лежал сверток, обернутый в газету.
Антонина перенесла сверток на журнальный столик.
— Ты чего не налил? — удивилась она.
Леонид Саввич аккуратно развернул газету и сложил ее. Потом открыл альбом, скорее стопку листов, издания 1940 года в коленкоровой папке: «Марки СССР». В таких альбомах обычно хранятся посредственные коллекции, любительские, старые. Но изредка в них попадаются жемчужины.
Антонина сама налила по новой, Леонид Саввич листал альбом.
Вначале все было обыкновенно, привычный набор: консульской почты только два первых номера, «Филателия — детям» без первых двух марок, все на наклейках, что снижает цену вдвое. Стоп! Если это не липа, то из-за этой марки стоит купить весь альбом! Леваневский с маленькой буквой «ф» в слове «Франциско». А вот и блок первого съезда архитекторов без надписи. Такого раритета он еще в руках не держал…
— Ну и как? — спросила Антонина Викторовна.
— Есть неплохие экземпляры, — признался Леонид Саввич. Теперь надо осторожно спросить — только не вызывать подозрений: — А вы кому-нибудь показывали?
— Ну кому покажешь в Костроме! — вздохнула Антонина Викторовна. — Ведь надо помочь людям. Я боюсь, что ты разочарован, мой академик? Ну не расстраивайся, главное — здоровье, остальное купим.
— Остальное купим, — тупо повторил Леонид Саввич. — Остальное купим. Что купим?
— Говоришь, ничего интересного?
— Кое-что… а сколько они хотят?
— Это тебе решать, козлик, — ласково сказала Антонина Викторовна. — Полное доверие, не чужие ведь. Как думаешь, сможем помочь бедным родственникам?
— Конечно, — поспешил ответить Леонид Саввич.
Он не намеревался обижать или обманывать владельцев коллекции. Ни в коем случае! Но он знал закон этого мира: не предлагай больше, чем от тебя ожидают. Иначе возникнет подозрение, что на самом деле товар стоит куда дороже. А если эта женщина понесет проверять его оценку к чужому человеку, то получится конфуз.
— Мне надо подумать, — сказал Малкин. — Два дня. Вы можете дать мне коллекцию с собой? Надо проверить состояние марок.
— Бери, — сразу согласилась Антонина. — Они фотографии сделали, с каждой страницы. Так что тебе их не обдурить.
Малкин обиделся. Искренне обиделся. Решительно захлопнул альбом и произнес:
— Как только в отношения вторгается элемент недоверия, все теряет смысл.
— Как сказал! Как сказал, мой академик! — Антонина, сидевшая рядом с ним на широком диване, потянулась к нему, потеряла равновесие и навалилась преувеличенно мягкой грудью.
— Тебя не хотели, — прошептала она, — тебя не хотели обидеть. Я докажу тебе!
— Что докажешь? — Леонид Саввич стал говорить шепотом, словно они таились под кустом на пикнике и рядом пребывал ее сердитый муж или его ревнивая жена.
— Я тебе докажу, какой ты мужик, — шепотом ответила Антонина. — Ты — мужчина моей мечты!
— Ну что вы… — Леонид Саввич испугался, что, лежа на нем, Антонина нечаянно повредит страницы альбома.
— Бог с ними, с марками! — заявила Антонина. — Любовь дороже.
Леонид Саввич готов был возразить, помня о блоке без надписи, но возразить не смог, так как его рот был наполнен пышным смачным мокрым языком Антонины Викторовны, который возился во рту библиографа, что-то разыскивая.
Если кому-то из читателей этот образ может показаться чересчур натуралистичным, я осмелюсь возразить: Антонина Викторовна была в высшей степени соблазнительной женщиной, а такая женщина не соблюдает правил хорошего тона. Леониду Саввичу пришлось начать борьбу с языком дамы, выталкивая его наружу, и Антонина согласилась сражаться, отчего в битве языков создался определенный ритм, перешедший на тела в целом. И Антонина, откинув на секунду голову, хрипло прошептала:
— Перенеси меня в койку!
Что было условностью, так как оба понимали — Леониду Саввичу не поднять сто килограммов жаждущей плоти.
Поэтому Антонина потянула Леонида Саввича за собой туда, где в алькове стояла трехспальная кровать для командированных работников государственного аппарата.
Антонина провела прием самбо, которому научилась в комсомольской школе. Ее жертва — впрочем, приемлемо ли здесь это слово? — потеряла равновесие и рухнула на кровать, исчезнув на несколько мгновений в поднявшихся дыбом одеялах и покрывалах.
— У-у-ух, ты мой сладенький академик! — воскликнула Антонина и принялась искать Леонида Саввича в кровати, в чем вскоре преуспела.
— Ты меня любишь? — спросила она, обхватив Леонида Саввича за талию и приподнимая, чтобы легче сорвать с него брюки.
— Да, — согласился Леонид Саввич, потому что неловко отказывать женщине в таком знаке внимания.
Он выпутывался из брюк, и Антонина, помогая ему в этом, употребляла неприличные, но странные слова, которые никогда не смели произносить в постели ни Соня, ни Изольда — институтская возлюбленная Леонида Саввича, которая потом предпочла ему другого молодого человека. Этим его сексуальный опыт и ограничивался.
А дальнейшее произошло быстро и неожиданно, потому что Леонид Саввич не сообразил в горячке объятий, поцелуев и душевного трепета, что Антонина незаметно для него успела раздеться и в тот момент, когда он уже намеревался овладеть ею, оседлала мужчину, и ему пришлось подстраиваться под ритм ее тела, которое мягко и неотвратимо двигалось, жарко надеваясь на него, как перчатка на пальцы.
Крики и движения так возбудили Леонида Саввича, что он потерял контроль над своим телом и вдруг почувствовал, как живительная влага устремляется к выходу из него, отчего он двигался все быстрее, превращаясь в некий вибратор, а Антонина все молила его: «О, не спеши, только не спеши, гад!»
Но она не смогла удержать любовника, не успела догнать его, и потому, когда Леонид Саввич, чувствуя себя страшно виноватым, провалившим любовный экзамен, отполз от нее, освобождаясь от объятий, она произнесла трезво и деловито:
— Ну, ты не Геркулес! Я только разогрелась, а ты уже! Разве так можно?
— Простите, — сказал Леонид Саввич и сразу вспомнил о блоке без надписи и марке Леваневского с маленькой «ф». Вряд ли теперь, понимал он, ему отдадут эту коллекцию. Он так опозорился…
Антонина вздохнула, подумала, вздохнула вторично и неожиданно для Леонида Саввича провела мягкими губами по его плечу, по шее, уху и произнесла:
— Не расстраивайся. Дай бог, не последний.
— Простите, — сказал Леонид Саввич.
— За что? За то, что ты на меня набросился? За попытку изнасилования в номере люкс гостиницы «Украина»? Ну, за это пусть тебя жена критикует.
Менее всего Леонид Саввич рассматривал происшедшее как попытку изнасилования. Так он и сказал:
— Простите, но я вас очень уважаю и совсем не хотел вас обидеть.
— Неужели не хотел? Ну и дурак. А я люблю, когда меня насилуют. И лучше коллективом, чем индивидуально. — И она рассмеялась. — Еще выпьешь?
И тут Леонид Саввич понял, что на него не сердятся. Даже шутят.
Трудно представить себе градус благодарности, которая наполнила его небольшое лысое тело. Подобного счастья он не испытывал никогда в жизни… Если бы его попросили объяснить, в чем же то самое счастье заключалось, он бы развел руками, показывая, каким оно было широким. Ощущения возникали не от воспоминаний, а от образа женщины, которая сидела рядом с ним на кровати и, совсем его не стесняясь, выдавливала прыщик на розовом округлом бедре.
— Выпью, — сказал Леонид Саввич. — А вам… тебе не было неприятно?
— Мне было недостаточно, — ответила Антонина. — Себе налей и меня не забудь.
Леонид Саввич поднялся с постели и чуть не упал, так весело и быстро кружилась голова. Он зажмурился и подождал, пока она перестанет вертеться.
— А ты где вообще работаешь? — спросила Антонина.
— В Институте специальных биологических проблем.
— А есть и неспециальные? — пошутила Антонина.
— У меня редкая работа.
Леонид Саввич налил ей чистой водочки, а себе виски. Он уже почти пришел в себя, и его все более тянуло открыть снова альбом и убедиться, что блок ему не причудился.
— Признайся, птенчик, — умоляла Антонина. — Меня прямо щекочет узнать, что ты делаешь в своей академии.
Нет, ноги слабые. Леонид Саввич сел на край дивана, и его рука непроизвольно потянулась к альбому.
— Это не совсем академия, — сказал он. — Мы занимаемся некоторыми биологическими проблемами.
— Ясно. Темнишь, значит, работаешь в ящике и думаешь, что я агент ЦРУ. Застегни мне платье сзади. Накинулся как волк, теперь буду мучиться.
— Почему?
— Ты мне все там разбередил. Как будто дубиной отдубасил, урод какой-то.
Леонид Саввич знал, конечно, что слова ее не имеют отношения к действительности, но было лестно, что он чуть не искалечил такую опытную женщину.
— Прости, — повторил он уже с долей кокетства. — Я не хотел.
— И как тебя жена выдерживает? Наверное, рыдает по ночам?
Леонид Саввич испугался услышать насмешку в голосе, но насмешки не услышал.
— Мы с ней… мы фактически не спим вместе.
— А дети-то есть?
— Есть, сын. В школу пошел, — признался Леонид Саввич. — Одни пятерки, кроме арифметики.
— Так ты мне не сказал, что изобретаешь в своем почтовом ящике.
— Это не почтовый ящик. Это гражданский институт, но очень старый и закрытый.
— Закрытый, но не секретный?
— У нас деликатная тема исследований. Тебе неинтересно. Особенно теперь.
— Ну ты меня заинтриговал, птенчик!
— Мы занимаемся сохранением тел выдающихся людей.
— Сохранением тел… — повторила Антонина. — Как так? Морозилка, что ли?
— Я не шучу. — Леонид Саввич вдруг понял, что у него есть свои козыри: он трудился в учреждении, само существование которого — тайна.
— Тогда объясни. — Антонина поднялась наконец с кровати, подошла к зеркалу и стала приводить в порядок прическу.
— Другими словами, это — институт Ленина, — сказал Леонид Саввич. — Именно мы уже много десятилетий поддерживаем его внешний вид в кондициях почти живого человека.
— Мавзолей, да?
— Мавзолей в Москве, мавзолеи в других странах, где берегут тела своих вождей. Например, в Ханое, где лежит тело Хо Ши Мина, и в Мозамбике.
— А разве его еще не вывезли на кладбище?
— Надеюсь, этого не будет никогда, — сказал Леонид Саввич. — Никогда. Величайший эксперимент в истории человечества должен быть завершен.
— И когда же?
— Когда подойдет время. — Леонид Саввич был тверд.
— Интересно, так же бальзамировщики в Древнем Египте говорили? — произнесла Антонина, обнаружив определенную эрудицию. — Там тоже думали, что эксперимент должен завершиться в свое время?
К счастью для Антонины Викторовны, Леонид Саввич был уже настолько поглощен мыслями об альбоме, что не обратил внимания на холодную трезвость ее голоса.
Он решился на новое наступление. Мелкое мужское коварство подсказывало ему, что любовница должна размягчиться. Ведь не чужие они теперь.
— Мы не чужие теперь, — сказал он.
— Ты о чем, цыпочка?
— Мне в самом деле придется посмотреть марки. С каталогом. Надо состояние их увидеть, наконец. А вдруг у них тонкие места?
— Тонкие места, говоришь? Это хорошо или плохо?
— Плохо, Тоня, очень плохо.
Леонид Саввич мысленно извивался у ее ног, как дрессированный угорь.
— А ты чем сам-то занимаешься в своем институте? Температуру мумиям меришь?
— Антонина, я бы тебя попросил! — сказал строго Леонид Саввич. Даже кончик узкого носа покраснел от гнева. — Есть на свете вещи, над которыми издеваться некрасиво.
— Понимаю, — быстро согласилась Антонина.
— А я — главный библиограф института.
— Главный? А сколько вас всего?
Леонид Саввич несколько секунд размышлял, обидеться или нет, потом улыбнулся и ответил:
— Я один.
— И чем же занимается библиограф в таком важном институте?
— В моем ведении архив. — Леонид Саввич отвечал автоматически. Сердце его было в альбоме.
— А ты когда решение примешь? — спросила Антонина.
— Надо срочно?
— До моего отъезда. Я обещала — если у тебя не выйдет, отнесу в комиссионку.
— А там обманут. Раз в пять меньше дадут.
— С тобой вместе пойдем, зайчик, ты же не разрешишь обмануть свою птичку?
— Не разрешу, — согласился Леонид Саввич. — Но взять альбом с собой придется. Все равно придется. Нужна уверенность. — Мысль о том, как он будет сопровождать птичку к другому торговцу, была ужасна и тошнотворна.
— И чтобы завтра вернул.
— Ну разумеется!
— Принесешь сюда, после обеда. И деньги чтобы были с тобой.
— Но я же еще не оценил!
— Это меня не колышет, козлик. Не будешь же ты обманывать родственников своего друга.
«Кто же это мой друг? — вдруг смутился Леонид Саввич. — У меня кто-то умер?»
Пока он собирался с мыслями, Антонина завершила свой туалет. Налила себе полную рюмку, кавалеру на этот раз не предложила.
— Ты на работе будешь? — спросила она.
— В какое время?
— Я до обеда тебе позвоню, сговоримся.
— Разумеется, — сказал Леонид Саввич.
Краткое любовное безумие, поразившее их, умчалось далее с порывом ветра. Теперь чувства Леонида Саввича принадлежали альбому.
Какие чувства волновали Антонину, Леонид Саввич и не хотел догадываться. Это не значит, что страсть не оставила следа в его душе, но душа его была невелика размером, и в ней с трудом умещались три, а то и два сильных чувства. В конце концов, большинство людей устроены именно так. Естественно будет, если взбаламученные мужские эмоции вновь заявят о себе, как только наступит ясность с коллекцией.
— А сколько ты примерно думаешь дать? Навскидку?
— Боюсь сказать, — ответил Леонид Саввич. — Но не меньше пятисот долларов.
— Ты уверен?
«Надо было меньше сказать! Ошибся, ошибся…»
— Может быть, поменьше, триста…
— А она рассчитывала тысячи на две-три, так и сказала.
Это тоже опасно.
— Для того и хочу взять домой, — сказал Леонид Саввич.
— В холодке, за бутыльцом «Будвайзера»?
— В переносном смысле именно так.
— Ах ты мой умница! Ах ты мой хорошенький.
Она сжала ладонями его щеки, так что губы сложились бантиком, и быстро-быстро принялась облизывать его губы острым язычком.
— О-о-о-о, — замычал Леонид Саввич.
— До завтра! — Она отпустила его. — Звоню в двенадцать. Чтобы решение было принято, бабки на столе — и я твоя. Только, как понимаешь, я в финансовую сторону не вхожу. Я — бесплатное приложение!
Она отворила дверь в коридор.
Там стоял Алик.
Неужели он все слышал?
— И чтобы сегодня ты с Сонькой не спал. Любой предлог найди! Завтра ты мой — чтобы было чем и как.
Она засмеялась и пошла по коридору.
Алик задержался, запирая за ними дверь.
Леонид Саввич покраснел: он чувствовал себя прегадко, единственное утешение — чемодан с альбомом. Чемодан оттягивал руку, хотя ценности, заключенные в нем, были почти невесомыми.
Что делает относительно честный человек, которому надо за ночь совершить два бесчестных поступка: подготовить к покупке коллекцию марок так, чтобы она ему досталась как можно дешевле, и солгать жене, которой почти никогда не лгал.
Первая ложь защитила его от разоблачения второй.
— Я ездил за коллекцией. Вот она, смотри.
— С каких пор коллекции тебе выдают в американских кейсах?
Соня человек въедливый и не то чтобы умный, но хваткий.
— Здесь есть ценные экземпляры.
— Покупать будешь? — Это было сказано без всякого уважения к Леониду Саввичу, так как у того свободных денег не было. Если не считать полутора тысяч, собранных с помощью Сониной мамы на отпуск в Анталии.
— Может быть выгодная сделка.
Соня пошла на кухню ворчать, а ее муж, уже не спеша, с лупой, с каталогом, принялся рассматривать потенциальную добычу.
И Леваневский, и блок были настоящими, состояние на четыре с плюсом.
Проще всего подменить марки. Блок вставить обычный, он ничем, кроме нескольких строчек надписи текста, не отличается. А марка и того более схожа — буква побольше, буква поменьше — кто поймет! И даже если кто-то сделал любительские фотографии и потом, охваченный подозрениями, станет выяснять истину, можно от всего отречься. По крайней мере нет такой фотографии, на которой увидишь разницу между буквами.
Понятно, что мысли Леонида Саввича граничили с уголовщиной.
И он стал думать — то ли остаться честным и предложить две тысячи, чего от него ждут, то ли просто подменить марки, предложить цену ничтожную и отказаться от сделки вообще. Так или так?
Так или так?
А у Антонины серые выпуклые глаза, она открыла их в тот самый момент, и в них была несказанная боль наслаждения! И он увидел себя в этих глазах, увидел потрясение впервые в жизни полученной радостью, хоть и опозорился.
— Ты чай будешь пить?
— Иду, сейчас иду.
А жена начнет канючить, какая глупая учительница поставила Дениске двойку и как беспардонно ведет себя сосед по лестничной клетке, который открыто и нагло водит к себе девиц. Понимаешь — девиц. Он оскорбляет наш лифт.
«Ну уж лифт…»
«Ты был бы счастлив оказаться на его месте! По глазам вижу, что счастлив. Но я тебе такого шанса не дам, и не рассчитывай».
«Нет, — подумал Леонид Саввич. — Обман может раскрыться. И тогда вся надежда на будущие встречи с Антониной рухнет. Нужен ли ей мелкий жулик? А если у нее будет ребенок? Нет, об этом думать даже наивно, такая женщина, как Антонина, отлично умеет предохраняться. Лучше оценить все в половину стоимости…»
Ночью он проснулся от гениальной идеи. Он подменит только одну марку — Леваневского с маленькой буквой. А блок оставит как есть. Зато предложит две тысячи…
Соня храпела. Она спала на спине и храпела. Леонид Саввич принялся переворачивать Соню на бок, она сопротивлялась. В соседней комнате забормотал во сне Дениска. Это же ужас — прожить жизнь в двухкомнатной хрущобе! Без перспектив.
Но где взять две тысячи?
Соне ничего сказать нельзя, она этого не переживет. Ей вообще несвойствен риск. А не рискуя, ты никогда ничего не заработаешь.
Утром он опоздал на работу, потому что ждал, пока уйдет Соня. Она повела мальчика в школу.
Леонид Саввич полез в домашний сейф — коробку из-под кубинских сигар за книгами на второй сверху книжной полке. Коробки не было.
Ну и хитрюга! Заподозрила! Перепрятала.
Он знал, куда Соня перепрятывает. Когда-то прочел в записках следователя, что мужчины прячут деньги в книги, а женщины — в белье. По крайней мере у них дома это правило срабатывало.
Леонид Саввич отыскал коробку под простынями.
Оставил там двести долларов. Остальное изъял. И поехал в институт.
Длинная узкая комната архива примыкала к институтской библиотеке.
На все про все — один работник, Леонид Саввич. Раньше было трое, но сейчас пришлось сократить.
Институт содрогался под угрозой ликвидации. Хорошо еще, что в сердце у самых главных чиновников страны таилась явная или тайная тревога: «Если все вернется, как я посмотрю в глаза товарищам по бывшей партии?»
Поэтому институту отыскивали деньги на существование, на поддержание лаборатории и даже на заграничные командировки, потому что по всему миру раскиданы мавзолеи и гробницы, где лежат нетленные диктаторы. Правда, число их уменьшается — то где-нибудь в Афганистане, то в Чаде развенчивают очередного вождя всех народов и кидают в яму. Если остаются должны институту, то никогда не возвращают долгов.
Но два или три вождя все еще покоятся в мавзолеях, и за них последователи платят в валюте, хоть и скудно. Надеются, что подойдет их черед и они тоже удостоятся состояния мумии.
В двенадцать ровно позвонила любовница Леонида. Не то чтобы он надеялся, что она забыла о коллекции, — такого не бывает, и не то чтобы он этого не хотел — его тело все более настойчиво вспоминало о возможном повторении счастья. Так что Леонид Саввич просто сидел у телефона и ждал — будь что будет!
А ее голос возбудил так, что он встал — не смог усидеть.
— Козлик, — сказала она. — Ты обдумал?
В этот момент в архив заглянул кто-то из сотрудников, и «козлику» пришлось прикрыть трубку ладонью.
— В два в гостинице? — спросил он.
— Нет, — вздохнула дама его сердца. — С гостиницей подождем, сейчас я должна взять у тебя коллекцию.
— Что случилось?
— Срочно нужны деньги. Поехали в магазин, ты покажешь?
— Но я принес деньги.
— Сколько?
Леонид Саввич оглянулся и ответил как положено:
— Это не телефонный разговор. Встретимся, скажу.
— Милый, я не могу ждать, — возразила Антонина. — Мне нужно твое решение немедленно. Она мне за ночь шесть раз звонила.
— Но я сейчас не могу уйти. Совершенно невозможно.
— Ничего страшного, я к тебе заеду. Это же минутка.
— Мне надо будет пропуск выписать… Хорошо, я тебя внизу встречу.
— Тогда жди через час. У тебя внутренний? Снизу позвоню.
Леонид Саввич даже не успел все продумать и испугаться, как открылась дверь и зам по режиму — из всех людей именно он — впустил в архив Антонину.
— Принимай землячку, — сказал он. — Надо погостеприимнее быть.
— Спасибо, Тихон Анатольевич, — пропела Антонина. — Век буду вашей должницей. Приедете ко мне — шкурки подберем для вашей супруги.
Зам гоготнул и пошел кривыми ногами к двери.
— Какие еще шкурки? — Леонид Саввич был растерян. — И как ты к нам прошла?
— Шкурки, потому что я твоя землячка, из Перми, у нас там звероферма, а я ее директор.
— Я же не из Перми!
— А ты побольше шуми, побольше!
— И ты ему шкурки пришлешь?
— Ты у меня первый среди чудаков.
— Может получиться неудобно…
— Уже получилось.
Леонид Саввич вздрогнул. Он очень боялся потерять место. С дипломом Историко-архивного сорокалетнему мужчине трудно устроиться.
Антонина опустилась на свободный стул напротив Леонида Саввича. Вынула из сумочки очки, не спеша надела их, и серые выпуклые глаза стали громадными, как у стрекозы.
— Ты меня подвел, — сказала она негромко. — Ох и подвел ты меня, зайчик!
Леонид Саввич стал доставать из-под стола кейс с альбомом, он был готов уже на все — только бы не вылететь из института.
Антонина снизила голос до шепота.
— Ты вчера не предохранялся?
— Как? — Вчерашний роман был покрыт дымкой древности.
— И я от тебя понесла. Будем рожать богатыря.
Среди мужчин сегодня еще существуют экземпляры, которые уверены, что о зачатии будущая мать знает в тот же день. Или допускают такую мысль.
Леонид Саввич относился именно к этим мужчинам. Кидая ему в лицо обвинение, Антонина ничем не рисковала.
— Я не понял, — сказал библиограф. — Разве так бывает?
— С тобой, суслик, чего только не бывает. Я с утра была у гинеколога, и он сообщил, что я изнасилована особо яростным самцом и теперь рожу богатыря — как две капли воды ты, мой зайчик.
— Ну ладно, ладно, — примирительно сказал Леонид Саввич. — Так не бывает.
— Это у твоей Сонечки не бывает… впрочем, не исключено, что я соглашусь на аборт. Скинемся по тысяче баксов?
Тут Леонид Саввич расплылся в улыбке. Как-то Сонечка делала аборт, раз в жизни. Он обошелся в десять раз дешевле.
— Улыбаешься? — грозно спросила Антонина и тут же сменила тон. Обвела взглядом длинные полки с папками и спросила: — Тут все записано?
— Да, все записано… — Леонид Саввич не успел переключиться, он все еще думал о цене аборта.
— И рост, и вес, и фотографии персонажей?
— Все, все! — И куда она клонит? Леонид Саввич уже начал понимать, что страстная любовница таит в себе серьезную угрозу его существованию.
— Ну, покажи, — сказала Антонина.
— Что покажи?
— Личное дело Владимира Ильича Ленина покажи.
— Невозможно, — сказал библиограф.
— Это почему так?
— Нет такого дела — тут целый кабинет, сотни дел! Это же вся жизнь нашего государства!
— Вот именно, — согласилась Антонина. — И что ты решил с марками?
— Я хотел бы их взять, но, конечно, не за ту сумму, которую ты назвала.
— А какую сумму я назвала?
— Две тысячи долларов, — прошептал Леонид Саввич. Их могли подслушать.
— Три тысячи, — ответила Антонина.
— Разве? — Он в самом деле забыл, ему казалось, что была названа меньшая сумма. Впрочем, это не играло роли.
— Ну, берешь? — спросила Антонина.
— Лапочка, — голос Леонида Саввича стал высоким, детским и беспомощным, словно он жаловался на пчелу, которая его укусила, — лапочка, у меня нет такой суммы.
— Сумму я ссужу, — сказала Антонина. — Когда будешь платить за аборт.
— Нет, я не могу себе этого позволить.
Тонкий нос библиографа покраснел, глаза стали щелочками — он чувствовал, что пропал. Все было ненастоящим. И марки, и любовь, и Алик за дверью номера…
— И что же, там есть его волосы, ногти, отпечатки пальцев? — спросила Антонина.
— Ты о Ленине?
— Разумеется. О нем, мой барбосик.
— Наверное, есть. Я же не изучаю его ногти.
— А есть, которые изучают?
— Антонина, не делай вид, что не понимаешь! — вдруг рассердился Леонид Саввич. — Совершенно очевидно, что за эти годы несколько докторских, не говоря о кандидатских, защитили о ногтях Ильича.
— Первый ноготь левой ноги, большой ноготь правой ноги…
— А вот смех твой опять же неуместен. Каждая молекула тела нашего вождя представляет неоцененный интерес для науки. Ты это понимаешь, но шутишь.
— Ну и покажи мне диссертацию.
— Какую?
— Допустим, по отпечаткам пальцев Ильича.
— Я не знаю, где лежат данные.
— Отыщи. Вон у тебя компьютер стоит.
— В него еще далеко не все занесено.
— А ты ищи, ищи. Хочешь коллекцию марок получить?
— Хочу.
— Хочешь снова надо мной надругаться?
— Зачем ты так… у меня к тебе зарождается чувство.
— Хочешь еще три тысячи баксов?
— Ну зачем тебе это?
— Я любопытная. Я прямо выкипаю от любопытства.
— Может, хочешь послушать записи голоса Ильича? Они у меня в открытом хранении.
— Отпечатки пальцев. И быстро.
— Антонина, я же сказал, что это невозможно.
Раздался тонкий требовательный сигнал.
Антонина вытащила из сумки мобиль.
— Да, — сказала она. — Это я, кто еще! Тебе что, пароль сказать? Ну то-то. Что? Работаю. Именно сейчас работаю. Патронов не жалею. Хорошо, отзвоню.
Она спрятала аппарат и, глядя громадными серыми полушариями на Леонида Саввича, сказала:
— Ты видишь, я не одна. Есть очень влиятельные люди, которые интересуются.
Именно в этот момент Леонид Саввич понял, что имеет дело с инопланетянами, с пришелицей. В любой момент она, как это обычно бывает в американских фильмах, сорвет с себя пластиковую маску, и взору Леонида Саввича предстанет страшная рожа космической завоевательницы, в которой от прежней красоты останутся лишь громадные серые выпуклые глаза.
Но показать свой страх, саморазоблачиться — нет, ни в коем случае.
Он имеет шансы выжить, только если они сами его не заподозрят!
И он еще имел с ней секс, как говорят американцы! Секс с инопланетянкой. А что, если теперь у Сонечки родится галактический вампир? «Нет, остановись, Леня, не суетись, возьми себя в руки. Можно ведь закричать, прибегут товарищи по работе…» А если их тоже расстреляют?
— Ты что? — спросила Антонина, нехорошо улыбаясь. — Забыл, где лежат отпечатки нашего вождя?
— Я не знаю…
— Думай, Леня, думай. Нашего решения ждут в высоких сферах.
Антонина ткнула пальцем в небо, и Леонид Саввич еще больше сжался — она и не считала нужным скрывать свое происхождение.
— Но отпечатки пальцев! — воскликнул он. — Почему отпечатки?
— Это наши проблемы, — ответила инопланетянка Антонина. — А ты наш добровольный помощник.
— Но я… это опасно.
— Для тебя уже ничего не опасно, зайчик. Для тебя только я опасна. И, может быть, Сонечка.
— При чем тут Сонечка?
— При том, что ей совсем не следует знать, чем ты занимаешься с залетной бабой в рабочее время.
— Но ты не посмеешь!
— Три тысячи за аборт — и молчу.
Она нагло расхохоталась, хотя глаза остались холодными.
И тогда Леонид Саввич дрогнул. Он посмотрел на компьютер. Конечно, можно попытаться, ничего не найти…
— Только не манкировать! — приказала Антонина. — А то я и еще чего могу вспомнить.
Леонид Саввич игнорировал ее слова. Он обернулся к компьютеру и приступил к поиску. Пальцы слушались плохо.
Прошло минут пять.
Антонина закурила, хотя курить в архиве было строжайше запрещено. На дым сунулся шеф по режиму, Антонина отмахнулась от него. Он ушел. «Видно, немало получил», — успел подумать Леонид Саввич.
— Ну!
— Боюсь, с него не снимали отпечатков пальцев, — сказал Леонид Саввич. — Ни в алфавитном указателе, ни в тематическом такой информации нет.
— Отойди, — сказала женщина.
Леонид Саввич поднялся.
Антонина села к компьютеру.
— Показывай, что у вас тут к чему.
Оказалось, что она в ладах с компьютером. Что было странно, если она заведует пушной фермой под Пермью, и совсем неудивительно, если она пришелец с дальней звезды…
«И неизвестного пола! А вдруг я согрешил? Вдруг я ударился в гомосексуализм? Но как спросишь? Лучше мучиться, чем спросить».
— Черт побери, — сказала Антонина наконец. — Твоя правда. Как же можно столько лет работать и не снять отпечатков пальцев! Может, враги утащили?
— Нет, — твердо сказал Леонид Саввич. — Я уверен.
Антонина снова вытащила мобиль.
— Оскар, ты? — спросила она. — В институте нет его пальчиков. Что будем делать?..
С той стороны говорили долго. Антонина кивала, стряхивая пепел на пол. Леонид Саввич пытался увидеть в ней инопланетянку, но не был ни в чем уверен.
Наконец Антонина попрощалась с Оскаром, обернулась к Леониду и сказала:
— Придется снимать с мумии.
— Как так? — Леонид Саввич ничего не понял.
— А так — пойдем в Мавзолей и снимем.
— Ты с ума сошла!
— Нет. Ты пойдешь с нами и все для нас сделаешь.
— Ни в коем случае! Я на это не пойду!
— А как марку с маленькой буквой «ф» из чужой коллекции вынимать, это ты можешь?
— Какую марку?
— Леваневского.
Чтобы поднять уровень духа у Леонида Саввича, Антонина перед ночной операцией позвала его в номер, но пить не давала, а была деловита, шустро разделась, раскидав изящные вещи по узорчатому паласу, и торопила любовника. Леонид Саввич запутался в брюках, рассердился и вообще хотел одеться и уйти.
— Возьми себя в руки, птичка, — спохватилась Антонина. — Я ведь жертва эпохи. Все на ходу, обедаем бутербродами, спим в самолетах.
Она была похожа на нечто русалочье, гладкое и только из воды.
Она сладко потянулась и закинула за голову полные руки. Груди дрогнули, всколыхнулись, и Леонида Саввича охватила страсть.
— Я понимаю, — сказал он, — бутерброд на обед…
На этот раз женщине удалось направить его в должное русло, и, прежде чем завершить акт, Леонид Саввич даже смог раззадорить жадную плоть Антонины Викторовны.
— Еще! — шептала, кричала, настаивала она, но «еще» не получилось, и Антонина оттолкнула любовника.
И на этот раз выпить ему она не дала, а сама приняла только сто грамм. Одевалась она ловко, как будто утром на службу.
— Не боись, — сказала она, — ничего дурного не произойдет. Оскар позаботится.
— Но мне-то зачем в Мавзолей? — спросил Леонид Саввич. — Я же не научный сотрудник.
— Но ты сотрудник института.
— Я не пойду на уголовщину!
— Ты одевайся, одевайся, — сказала Антонина. — Скоро машина придет.
— Нет!
— Значит, так, сдаешь обратно коллекцию, а на работу мы сообщаем, что ты спер ценную марку у несчастной вдовы.
— Нет!
— Застегни мне платье. Да не рви ты пуговицы!
— Вы можете все взять.
— Мы не можем все взять. Как я могу вернуть Сонечке твою честь и честь семьи? Хорош верный муж…
У Леонида Саввича голова шла кругом — буквально, а не в переносном смысле. Он взялся за край письменного стола — чуть не свалил телевизор. Антонине пришлось поцеловать его, приласкать, чтобы пришел в себя.
Институтский «рафик» остановился перед гостиницей. Там уже был зам по режиму и незнакомый Леониду доктор — оба в белых халатах. Алик передал белый халат Леониду Саввичу. Тому было неловко надевать его в движущемся автомобиле, но шеф по режиму настоял, чтобы тот натянул его прямо сейчас.
Окошки были затянуты шторками. Леонид Саввич как-то ездил в этом «рафике» по делам, но обычно машину держали именно для проверочных рейдов к Кремлю. Там была аппаратура. В «рафике» было душно, пахло французскими духами Антонины. Леонид страшился, что сейчас в «рафик» заглянет охранник и увидит, что к Ильичу едут самозванцы.
Машина остановилась возле Спасской башни.
— Буль-буль-буль, — были слышны голоса снаружи. От открытого водительского окошка, за которым угадывался силуэт милиционера, тянуло жутким холодом. Сонечка знает, что он задержался на работе: сложный заказ, объявлена мобилизация всех сотрудников. Пришлось попросить зама по режиму, которого, как говорит Антонина, купили с потрохами, позвонить и подтвердить, что Малкин мобилизован. Все равно Соня не поверит.
Ну вот, сейчас откроется дверь и их попросят…
— Привет, — сказал водитель. Вроде бы водитель институтский, но их в институте несколько, трудно угадать.
Голос снаружи откликнулся. Вполне обыкновенно.
Поехали дальше.
Леонид Саввич все ждал, когда их поймают. Даже с надеждой — только бы кончился этот кошмар.
Мертвые души в каком-то космическом масштабе. Зачем-то инопланетным агрессорам понадобились отпечатки пальцев вождя.
«Может, они желают воссоздать у себя такого же? Нет, это бред, бред, бред!»
Шеф по режиму, который не в первый раз в Мавзолее, усилил свет.
Внутренний часовой, убедившись, что это на самом деле сотрудники института, вернулся к чтению.
Новые солдаты уже не были столь верующими, как их старшие братья. Мумия не вызывала в них душевного трепета, скорее она ассоциировалась с американскими фильмами «ужасов». В охране рождался фольклор, где мумия Ильича выступала в ролях неприятных, зловещих, но не сакральных — мертвец как мертвец. К мертвецам в России западного уважения нет.
В центральной камере Мавзолея часовой читал роман Рекса Стаута, пронесенный кем-то из его предшественников и ставший как бы переходящим призом для долгого ночного дежурства.
Роман был интересным, толстяк Ниро Вульф проявлял чудеса сообразительности, его шустрый помощник с ног сбился…
Часовой все же поглядывал на сотрудников института — они проводили проверку трупа. Работа ответственная, но тоскливая и не очень приятная.
Когда они подняли прозрачную крышку саркофага, подземный зал наполнился неприятным лекарственным запахом, смешанным с запахом тления. Что, конечно, было лишь фантомом, ведь ничего органического в Ленине не осталось — сплошной пластик. Но никуда от тления не денешься. Такова наша жизнь…
Сотрудники были молчаливы. Один из них, черный, кавказской или еврейской национальности, проверял пальцы вождя. И в этом тоже не было ничего удивительного — часовой знал, что проверяют по очереди разные части тела.
Их было трое. Но часовой только одного знал в лицо — он уже сюда приезжал.
Они же все в белых халатах и матерчатых масках на пол-лица — боятся занести микробы.
Зазвонил телефон — внутренняя связь.
Спрашивал начальник караула. Обычный звонок. Нет ли происшествий?
— Происшествий нет, — ответил часовой. — Сотрудники Института специальных биологических технологий, согласно плану, проводят проверку тела.
— Погоди, погоди, — сказал начальник караула. — Разве сегодня от них должны приезжать? Они же на той неделе были?
— Да нет, приехали, — сказал часовой. — Вон тут, работают, проверяют.
— Дай-ка мне ихнего старшого, — велел начальник.
Часовой позвал старшого.
Старшой подошел.
— Внеплановая проверка рук, — сказал старшой. — Есть опасения, что под ногтями мог завестись грибок. Откуда? А мне-то зачем знать? Я снимаю образцы.
Господи, думал Леонид Саввич, глядя на зама по режиму, который говорил так легко и непринужденно, словно обсуждал на профсоюзном собрании проблему недоплаты членских взносов.
— Да вы позвоните к нам в институт, — сказал зам по режиму. — Телефон известен? Вот и звоните. Спросите Тихона Анатольевича. Это наш зам по режиму. Он подтвердит.
«Что вы делаете! — закричал было Леонид Саввич. — Это же ваш телефон!»
Но кричать было нельзя.
— Нормально, мы уже сворачиваемся, — сказал зам по режиму.
Он вернул трубку часовому и сердито сказал остальным:
— Да поворачивайтесь вы, поворачивайтесь! Товарищи недовольны!
Леонид Саввич не отрывал взгляда от часового, потому что тот не выпускал из руки трубку, слушал какие-то указания, кивал, и библиограф отлично понимал, что подозрительный начальник караула так и не успокоился.
Он хотел сообщить об этом заму по режиму, который подошел к незнакомому сотруднику, тому самому, который снимал с мумии Ленина отпечатки пальцев. Но зам по режиму не смотрел на Леонида Саввича.
А дальнейшее произошло так быстро, что Леонид Саввич не запомнил последовательности событий.
Для начала часовой ахнул и начал опускаться на пол.
За его спиной стоял доктор с пистолетом в руке, которым он и оглушил часового.
— Ах! — воскликнул Леонид Саввич. — Что вы делаете! Это безумие! Нас всех расстреляют!
Но тут же он потерял сознание, потому что зам по режиму, имевший опыт боевых действий в Афганистане и Анголе, ударил его по голове. Не очень сильно, в центр лысины, но достаточно, чтобы отключить сознание такого некрепкого человека, как библиограф.
Поэтому дальнейшие события происходили без участия Малкина.
Он не видел, как преступники, сбрасывая и сворачивая на ходу белые халаты, выбежали из Мавзолея.
Машины, похожей на институтский «рафик», перед задним входом в Мавзолей уже не было. Оказывается, она уехала, как только выгрузила сотрудников. Отсутствие машины сразу лишило участников налета возможности погоняться по Москве наперегонки с милицией, но это их не обескуражило.
Они спокойно разошлись в разные стороны, неся ненужные халаты в пластиковых пакетах, от которых нетрудно отделаться.
Сотрудника, который снимал отпечатки пальцев с Ильича, встретила у Царь-пушки эффектная крепкая дама, которой он незаметно передал трофеи.
Но оказалось, что эта предосторожность была излишней. Их никто не задержал, и они покинули Кремль раньше, чем были перекрыты все входы и выходы.
Между тем возле саркофага вождя были обнаружены часовой в бессознательном состоянии, который очнулся только к вечеру в госпитале, и библиограф Института специальных биологических технологий Леонид Саввич Малкин, который уже пришел в сознание, но его показания, данные следователю спецпрокуратуры, были весьма сбивчивы и нелепы.
На первом допросе Малкин заявил, что ничего не помнит, ничего не знает, попал в Мавзолей случайно.
Но против него были как показания очнувшегося часового, так и мешочек, найденный во внутреннем кармане пиджака Малкина при досмотре. В мешочке обнаружились пряди волос вождя.
Несмотря на путаницу в показаниях библиографа, следствие быстро пришло к выводу, что, действуя в составе преступной банды, Малкин намеревался осквернить тело вождя, возможно, с корыстной целью торговли его волосами среди паломников.
Когда же наконец Малкин раскололся и начал давать новые показания, они были настолько безумны, что следователь с трудом сдерживал саркастический смех.
Малкин сообщил, что некая дама по имени Антонина подсунула ему коллекцию марок — альбом в американском кейсе от одного покойника. Затем, под предлогом деловых переговоров, соблазнила его в гостинице «Украина» и попросила достать для нее в картотеке отпечатки пальцев Ильича. Когда таковых в картотеке не обнаружилось, она включила его в группу захвата во главе с заместителем директора института по режиму, полковником в отставке, чтобы снять отпечатки пальцев вождя прямо в Мавзолее, что и было сделано. А потом он получил удар по голове и ничего больше не помнит. Никакой бороды у мумии он не отрывал и до кудрей не дотрагивался, и явно, что все это подложено ему в карман замом по режиму или неизвестным доктором.
При проверке обнаружилось, что Малкин лжет во всем — большом и малом.
Во-первых, в гостинице «Украина» дама по имени Антонина на третьем этаже (номер комнаты Малкин не запомнил) не останавливалась, зам по режиму в тот день не покидал своего кабинета, так как готовил доклад для отчета на городском слете ветеранов Ангольской войны с Южно-Африканской Республикой. Даже «рафик» простоял весь день на профилактике.
Никакого альбома с марками дома у Малкина не обнаружили; а если бы обнаружили, ничего бы это не изменило. На самом деле альбом Соня спрятала у своей сестры, полагая, что деньгами в наши дни не разбрасываются.
Но главное, что решило судьбу Малкина, — это была история с отпечатками пальцев.
Кому и зачем могут понадобиться отпечатки пальцев мумии?
Выдумка Малкина была неправдоподобной и даже оскорбительной для следствия.
Разумеется, его отправили на психиатрическую экспертизу, где обнаружили букет неврозов, но не зафиксировали никаких существенных отклонений от нормы.
Это возвратило следствие к первоначальной версии — корыстная попытка торговать волосами мумии.
Суда, конечно же, не было. Такой суд был бы на руку желтой западной прессе и отечественным демократам.
Малкин получил три года административной ссылки, которой у нас не существует. Где он, как он, не известно никому, кроме тех, кому положено об этом знать.
Соня за ним не поехала. Она дважды встречалась с сослуживцем Искателевым, тоже филателистом, показывала ему альбом, но не с целью продажи, а чтобы узнать, что же соблазнило ее несчастного мужа. Искателев указал ей на блок, но усомнился в его подлинности.
Когда Антонина вернулась из Кремля, она позвонила Бегишеву.
Оскар сказал:
— А ну дуй на Петровку, 38, Семенов предупрежден. Его человек в два тридцать будет ждать в проходной.
А ночью, отласкав Антонину и отдыхая с бокалом шампанского в руке (Оскар не засыпает без шампанского), он сказал Антонине, которая терпела и не задавала лишних вопросов:
— Проверили. Отпечатки совпадают.
— Какое счастье! — ответила Антонина.
Глава 1
Осень 1991 г
Каждый человек с возрастом теряет живость ума, память, способность оплодотворять ткань муравейника, называемого человечеством. Но к девяноста годам можно превратиться в сорное растение, а можно остаться обыкновенным профессором и просто талантом, если еще двадцать лет назад ты был талантом выдающимся.
Сергею Борисовичу Завадскому было почти девяносто лет от роду, позади — шестнадцать лет лагерей (в два приема), три инфаркта, больная печень, приступы меланхолии… Сергей Борисович — человек одинокий и объективно несчастный — существовал на этом свете не для завершения жизни, а по праву активной в ней необходимости. Было очевидно, что, когда он рухнет — умрет, улетит, растворится в воздухе, — это станет глубокой печалью для некоторых людей, включая Лидочку Берестову.
Одиночество Сергея было очевидно. Оно выражалось в запущенной, заваленной книгами пыльной квартире, где жили он сам, древний кот без имени и половины хвоста и странный приживальщик — подобранный где-то или полученный в наследство старик по имени Фрей. Кота и Фрея днем не было видно, и большинство посетителей Сергея даже не подозревали об их существовании. Лидочка удивилась, впервые увидев Фрея — низкорослого, нервного, лысого человека, не выносящего прямого человеческого взгляда. Галина — жена Сергея была тогда еще жива — отмахнулась от возникшего в дверях кухни и растворившегося в тени коридора приживальщика и произнесла надтреснутым благородным голосом:
— Не обращайте на него внимания, Лидочка. Он уже безвреден.
С тех пор прошло несколько лет. Тяжело и в тоске умерла Галина, которую страшила не столько собственная мучительная кончина, сколько беспомощность и одиночество мужа. Они встретились с ним под Магаданом и прожили в нежной любви почти сорок лет. Порой к Сергею забегала пожилая дочка. Она приносила полкило яблок и насиловала стиральную машину. Еще реже появлялась внучка, которая ничего не приносила, но нуждалась в деньгах, потому что содержала бездарного и наглого гитариста из ансамбля «Варианты».
Пока жила Галина, за Сергеем был уход и в доме царила строгость. Вдовствуя, Сергей одряхлел и даже усох, а кожа повисла на нем, как на шее черепахи.
И все же он остался чудесным педиатром.
…Вот он входит в переднюю пациента и начинает, стараясь не кряхтеть, раздеваться, а у малыша уже снижается температура. Он появляется в дверях комнаты, и при виде доктора микробы разбегаются из тела больного, тут же пропадает сыпь, спадает опухоль в горле и исчезает кашель.
Сергей усаживается у постели и строго спрашивает:
— На что будем жаловаться, бездельник?
И страдалец отвечает, давясь от смеха:
— Я не бездельник, я только болею.
Сергей не велел давать своего телефона чужим людям. Ему уже было трудно ходить по визитам, спотыкаясь и скользя по тротуарам запущенной, грязной Москвы. Но все равно матери и бабушки детей, которым не мог помочь никто другой, раздобывали телефон, а то и адрес, приезжали на такси, совали ему на прощание в карман конверт с деньгами и, как правило, на радостях забывали заказать такси на обратную дорогу.
Кроме того, Сергей заседал в «Мемориале», выступал с лекциями и написал чудесную книгу воспоминаний о бесконечно тяжелой и мертвой лагерной жизни. В каждой новелле Сергея далеко, в уголке обложенного ночными тучами неба, горела маленькая звездочка надежды. И это выделяло его новеллы среди всех прочих лагерных воспоминаний.
Лидочка заходила к Сергею — они соседствовали: Лидочка жила в восьмиэтажном кирпичном доме, а он — через переулок, в оставшемся по недосмотру особнячке, вернее, половине особнячка. Вторую половину заняла фотолаборатория какого-то ведомства, вечерами и ночью превращавшаяся в вертеп и одновременно кузницу левых денег. В зашторенной просторной, ослепительно освещенной бывшей гостиной особняка два патлатых жулика снимали глупых крикливых девиц для листков «Все о сексе», «Любовь для вас», «Анюта», «Обними меня правильно» и «Сексуальное большинство». В двух маленьких, освещенных красными лампами комнатах пленки тут же проявлялись и печатались. Так что перед уходом после смены девицы извивались от хохота или притворного возмущения при виде собственных ляжек и грудей. Потом обыкновенные, как текстильщицы с ночной смены, они бежали на последний автобус.
Лидочка не представляла, какого размера и планировки была квартира Сергея, хотя раньше думала, что она невелика и в ней помещаются лишь книги, которые нехотя уступают место хозяину, их единственному читателю.
Известная ей часть квартиры начиналась с махонькой прихожей, потому что парадный вход достался фотографам, а Сергею — черный. Справа от нее была комната Сергея, прямо — узкий коридор вел к уборной и кухне с выгороженной в ней ванной. Где-то там и пряталась вторая комната, или закоулок, где таился Фрей и куда порой уходил Сергей за понадобившейся книжкой, но туда Лидочку не приглашали.
Особняк все грозились то снести, то приватизировать, то превратить в памятник архитектуры. Но Сергей надеялся, что доживет в нем до конца своих дней. Они вселились туда с Галиной, как только возвратились из ссылки, и потому для Сергея особнячок был больше чем квартирой, жилплощадью.
Сергей был особенно хорош, когда собирался народ и он держал стол или концентрировал внимание черни в роли Великого Старца. Но Лидочка почти не бывала на таких сборищах, она любила его другим — тихим, старым, грустным и мудрым. На мягких дрожках его прозрачной памяти она уезжала в иные края и времена, забывая порой, что в пределах нашей цивилизации Сергей Борисович был не так уж и стар — даже революцию семнадцатого года почти проморгал, потому что увлеченно учился на первом курсе медицинского института. Но, как ни парадоксально, исковеркав жизнь Сергея, ее в то же время бесконечно удлинили лагеря и тюремные скитания. Он впервые попал в тот мир в начале тридцатых годов, когда в ГУЛАГе значительную часть составляли бывшие эсеры, кадеты, чистой воды белогвардейцы, дворяне и всякий чуждый элемент. Молодой доктор медицины оказался на нарах рядом с убеленными сединами графами и полковниками, и они поверили ему свое прошлое. Сергей, как мог, врачевал своих рассказчиков, а они и не подозревали, что имеют дело с чудом природы, память которого фотографична и прочна. Жаль, что никто из них не мог предположить, что этот Сережа будет жив и через шестьдесят лет и пронесет в себе их воспоминания, их мысли, клочки их несбывшегося бессмертия.
— Я утверждаю, — говорил он, подвинув к себе полную пепельницу и гася в кучу окурков половинку сигареты, — что не только моральные качества людей начала века, не только их умственный уровень, но и научные знания зачастую превосходили наши. Не отмахивайтесь, Лида, вы еще слишком молоды, чтобы сравнивать содержание поколений на собственном опыте, доверьтесь моему.
— Значит, атомную бомбу изобрел один алхимик из Саксонии, — сказала Лидочка, — а рентгеновские лучи придумал Вася, который крикнул своей жене, что видит ее насквозь.
— Ирония — оружие слабых, — ответил Сергей. — Вчера приходил английский издатель и подарил мне бутылку виски. Откупорим?
— Нет, вы же надеетесь сохранить ее до дня рождения.
— Не удастся. Завтра из «Мемориала» ко мне привезут мальчиков — приехали дети испанских республиканцев. Вы, конечно, не знаете, как в тридцать восьмом их спасали от ужасов фашизма?
Лидочка помнила, как и кого спасали от фашизма, но ее больше интересовал прогресс науки.
— Отказывая ученым в движении вперед, вы признаете знахарей? — упорствовала она.
— Знахарей сегодня втрое больше, чем в дни моей молодости. Тогда лечили, потому что не было сомнений в идеологической альтернативе. Либо вы поклонялись Богу, но втайне, либо мамоне, в лице большевиков, и явно. А сегодня богов стало немыслимо много. Можно поклоняться летающим тарелочкам, барабашкам, воде, заряженной колдуном со званием кандидата медицинских наук, астрологам. Вольному идиоту — воля!
Сергей закурил вновь.
Вошел Фрей в шелковом черном халате, подпоясанном армейским ремнем. Лидочка поздоровалась. Он не ответил, взял пепельницу и унес.
— Не обижайтесь, — сказал Сергей. — Фрей сегодня в плохом настроении. Он вычитал что-то мерзкое в любимой газете «Правда». Он принимает близко к сердцу парламентские перипетии и радеет за судьбы русского народа.
— Еще бы, — согласилась Лидочка. — Какое счастье, что я неграмотна.
Фрей услышал ее реплику из коридора, вернулся к двери и произнес:
— Это ложь. Я видел, как вы на днях читали. Именно в этой комнате, гражданка!
И, укорив таким образом Лидочку, он удалился, не ожидая ответа.
Сергей хотел стряхнуть пепел, но не нашел пепельницы и высыпал его в ложечку ладони.
— Мне приходилось сидеть с медиками, с физиологами, гипнотизерами, астрологами и провидцами. Но перед миской с баландой они теряли свои профессиональные качества. Потому что все они были самозванцами и не выдерживали испытания на искренность таланта.
Вернулся Фрей с пустой пепельницей и, укоризненно взглянув на Лидочку, так же бесшумно удалился. Почти сразу из глубины квартиры, которой по архитектурным законам и быть не должно, донеслась фортепьянная музыка. Кто-то ученически, но правильно играл «Аппассионату».
— Это Фрей? — спросила Лидочка.
— Он вообразил, что станет музыкантом. Что еще успеет выучиться.
— Он давно у вас живет?
— Давно. — И разъяснений не последовало. Лидочке ничего не оставалось, как ждать продолжения рассказа. И она спросила:
— Вы не устали?
— Нет, я отдыхаю с вами. Для меня теперь люди делятся на две категории. С одними я устаю, напрягаюсь и жду лишь, когда общение закончится. С другими отдыхаю, не замечая, как течет время.
— Я тоже.
Сергей улыбнулся, погасил сигарету, и Лидочка с ужасом поняла, что в пепельнице уже лежит несколько окурков, хотя Фрей принес чистую пепельницу лишь десять минут назад.
Музыка за стеной оборвалась, и тут же снова пришел Фрей. Он держал на руках черного с белой грудью полухвостого кота, и тот норовил задними лапами разодрать Фрею живот.
— Суп разогревать? — спросил Фрей.
— Как хочешь, — сказал Сергей. Было видно, как ему хочется пооткровенничать. Но судьба была сильнее — тут же в дверь позвонили, и пришла быстрая, суетливая и будто бы заботливая внучка Сергея. Фрей ее приходу был не рад, а Сергей сразу забыл о Лидочке и пошел с внучкой на кухню.
— Как вы полагаете, в каком году начнется война за Крым? — вдруг спросил Лидочку Фрей.
Она не знала, будет ли такая, и очень ее не хотела. Но догадалась, что таким образом Фрей выживает ее из дома. Она заглянула на кухню, попрощалась с Сергеем. Он помахал Лидочке рассеянно. Он влюбленно смотрел на внучку. Лидочка подумала тогда, что больше к нему не придет. Зачем?
Он позвонил на третий день и заманил ее детской просьбой:
— Возле вас, Лида, есть киоск. Там еще продают горячий лаваш?
— Мне хочется поделиться с вами своим прошлым, — сказал Сергей. — Я мало написал, понимая, что моими коллегами это будет воспринято скептически. Меня слушают только из общепринятого уважения к моей судьбе. А я этого не терплю. Теперь же я понял, как близка моя смерть… не машите на меня руками, я лучше знаю.
В коридоре что-то упало, ахнул, выругался высокий голос. Сергей замолчал, прислушиваясь.
Вошел Фрей и сказал от дверей:
— Может, не стоит об этом рассказывать?
Сергей смерил Фрея суровым взглядом, каким хозяин глядит на нагадившего кота, и неожиданно спросил:
— Ты кофе купил?
— А вы знаете, сколько ваш кофе теперь стоит, а?
Усики Фрея напыжились, торчали щеточкой под коротким носиком. Он стал похож на гневного Ленина. Правда, тонкий шрам, вертикально пересекавший правую бровь, нарушал сходство.
— У нас кончились деньги? Тогда возьми доллары, — сказал Сергей.
— Ах, оставьте! — воскликнул Фрей. — Сделки в валюте противозаконны.
Оттолкнув Фрея, в дверях появилась легко одетая девица из породы тех, что фотографировались на другой половине особняка. Непонятно только было, каким образом она проникла в квартиру Сергея. «Неужели половинки соединяются неизвестной мне дверью?» — подумала Лидочка.
Девица поздоровалась небрежно, словно она была здесь хозяйкой, а Лидочка с Сергеем — случайными докучливыми посетителями.
Затем она прошла к стулу, сняла с него и положила на пол стопку книг и уселась, закинув ногу на ногу. Девица была очаровательна, но банальна, а раскрашенное кукольное личико портила слишком упрощенно понятой модной прической — поникшим рыжим коком, схожим с горбом голодного верблюда. Зато ее ноги были совершенными архитектурными сооружениями, двумя перевернутыми Эйфелевыми башнями в черных чулках. «Как жаль, — подумала Лидочка, — что я не принадлежу к мужскому племени и могу оценивать нижние конечности гостьи лишь как энтомолог». Тем не менее свои ноги, вполне стройные и прямые, она упрятала под стул. Девица заметила это движение и победоносно приподняла юбку, чтобы ни один миллиметр бедер не скрылся от всеобщего лицезрения.
— Женька, — взмолился Сергей. — Не соблазняй нашего Фрея. Ему же горько.
— Пусть заплатит по-человечески и имеет меня хоть всю ночь, — ответила Женька, а Сергей сообщил Лидочке:
— Этот выдающийся образец белой женщины не столь глуп, как может показаться. Трудно поверить, Лида, но Женя окончила Плехановский институт.
— Плешку, — поправила Сергея девица. — Академию.
— И теперь заведует отделом снабжения в одном русско-китайском совместном предприятии.
— Я только что из Шанхая, — поведала Женька Лидочке. — Там сервис обалденный.
Голос у нее был низкий и звучал простонародно. Она извлекла из большой мягкой сумки пачку «Галуаз» и кинула на журнальный столик под нос Сергею. Сергей не обиделся.
— Спасибо, — сказал он, — за ребенком пришла?
— Я его на недельку возьму. Мать из Саратова приехала и базлает: где дитя? Надо демонстрировать материнскую любовь.
— Я не отдам, — возразил Фрей. Он стоял в дверях. — Она его консервами кормит. У ребенка диатез.
— А сам куда детское питание дел? Голландские бутылочки куда дел?
— Как ты могла заподозрить, дешевка! — Фрей был возмущен. Даже лоб вспотел.
— Принеси ребенка, — велел Сергей.
Фрей ушел. Лида ожидала, что он вернется, но вместо него появилась, застегивая блузку, еще одна девица, запущенная как привокзальный сквер. Ее прическа была заимствована у нестриженого пуделя, зато ноги начинались от ушей.
— Слушайте, лабухи, — проскрипела новая девица, — курить у кого найдется?
Женька дала ей закурить, пришел Фрей. Он бережно нес на руках младенца. Младенец был в розовом стеганом пакете, в белом чепчике. Чистый, невинный, прекрасный, он тихо дышал, надув нежные губки.
— Нет у меня молока, — сердито ответила Женька на невысказанный вопрос Фрея. — Откуда ему взяться?
— Давай я покормлю, — сказала вторая девица, которую звали Ларисой. И Фрей передал ей младенца. Тот проснулся и стал сосать грудь. Обе девицы курили, что вредно для детей. Лидочка знаком показала Сергею, чтобы он велел им бросить сигареты. А тот лишь улыбнулся. Тогда Лидочка сказала, что ей пора идти.
Перед уходом Лидочка прошла коридором в туалет. Дверь во вторую комнату была приоткрыта. Она заглянула в щель. Комната была невелика и пуста, если не считать аккуратно застеленной сиротским одеялом девичьей кровати, школьного стола и венского стула: жилище Фрея было аскетическим и тоскливым. Оживляли комнату лишь две детские колясочки. Одна была пуста, во второй спал младенец.
Сергей сам позвонил Лиде. На работу. Худред Гурский, отпустивший кривую бороду и политически склоняющийся к прогрессивным националистам, сказал, передавая Лидочке трубку:
— Предупреждаю, сейчас развелось много сексуальных маньяков. Насмотрятся американской порнухи и готовы бросаться на русских блондинок.
— Какое счастье, что я шатенка, — ответила Лидочка.
— Куда вы пропали? — спросил Сергей. — Мне бывает скучно без вас. Знаете почему? Вы умеете слушать. А в наши дни, да еще в моем возрасте, отыскать слушателя, а тем более прекрасную слушательницу, почти немыслимо.
Лида поняла, что ввело в заблуждение Гурского: голоса старятся вовсе не вместе с людьми. У них своя жизнь, свой возраст и своя старость. У Сергея был воркующий баритон соблазнителя в расцвете лет.
Сергей сварил чудесный кофе — оказывается, он получил гонорар банкой «Нестле» в семье демократического министра, который часто обменивается опытом с Западной Европой. Фрей был тут как тут, еще более похожий на Ленина, чем обычно, потому что начал отпускать эспаньолку. Пока что она была лишь пегим пятном, приклеенным к подбородку. Свою чашку он унес на кухню разбавить кипятком, потому что, по его словам, берег сердце.
— Мне показалось, что вам не понравились мои юные приятельницы, — сказал Сергей. — Этим вы нас с ними огорчили.
— И их огорчила? — спросила Лидочка не без иронии.
— Разумеется, — Сергей был искренен, — вы не можете не понравиться. К тому же они почувствовали к вам глубокое уважение.
Его дипломатия была наивна, но разоблачать ее было жестоко.
— Они фотографируются у ваших соседей?
— Допускаю, что Лариса там подрабатывает. Женя уже самостоятельна. Но им некогда должным образом заботиться о детях.
Лидочка помолчала, выражая сочувствие к суровой судьбе девиц.
— Вы задавались вопросом, какого черта я держу в доме их младенцев? И при чем тут мой Фрей?
— Это ваше дело.
— Все несколько сложнее, — начал было Сергей, но не успел, потому что в комнату ворвался Фрей.
— Я категорически против, чтобы возвращать Мишеньку Ларисе, — заявил он с порога. Он держал в ладонях большую кружку с разбавленным кофе. — Вы же знаете, у нее однокомнатная квартира с постоянным развратом. Вот именно, с развратом!
К тому же Фрей и картавил. Когда у него отрастет бородка, то на улицу его больше нельзя будет выпускать — какие-нибудь новые «красные» сделают его своим лидером. Лидочка хотела сказать об этом, но спохватилась, что такая шутка может быть Фрею неприятна.
— Не вам это решать, — сказал Сергей.
— А вот это мы еще посмотрим, голубчик! — патетически воскликнул Фрей.
— С вашим-то здоровьем?
— Получше вашего!
— Вот зачем вы стали отращивать эспаньолку! Хочется в большую политику? — Сергей засмеялся, а Фрей, прикрываясь кружкой, отступил в коридор и оттуда, из сумрака, крикнул:
— Вы еще пожалеете, что позволяете себе иронизировать! Я ничего не прощаю.
К удивлению Лидочки, Сергей произнес фразу, что вертелась у нее в голове:
— На улицу его сейчас выпускать опасно. Его поставят на БТР, чтобы он призывал к новой революции.
Лидочка засмеялась, потом решилась спросить:
— А как он к вам попал?
— Он давно здесь живет, — сказал Сергей. — Я сам его отыскал, когда вернулся из ссылки. И хорошо, что успел — он бы там погиб.
— Где?
На этот раз ворвавшийся в комнату Фрей был ужасен: красный, потный, клочки пегих волос дыбом из-за ушей, он держал, замахнувшись, кружку. Та вздрагивала, готовая полететь Сергею в голову.
— Я прошу, умоляю, требую, наконец, прекратить эти грязные сплетни, которые не делают вам чести, товарищ!
— Здесь решаю я! — воскликнул Сергей, пытаясь подняться и поводя в воздухе костлявым указательным пальцем.
— Ах ты! — Фрей запустил-таки кружку в своего благодетеля, а тот, потеряв с возрастом реакцию, не успел отклониться, и кружка, пролетая в угол комнаты, обдала его горячим кофе.
Сергей зажмурился, отшатнулся, а Фрей петухом закричал:
— Так будет с каждым, кто осмелится поднять руку!
И кинулся прочь из комнаты.
К счастью, Сергей не обжегся. Он открыл створку платяного шкафа и, зайдя за нее, достал чистую сорочку. Раздеваясь, он говорил:
— Ошибочно думать, что жизнь — это линия, подобная пологой волне. Будто человек растет, умнеет, а потом медленно или быстро катится под уклон, к смерти. На самом деле физиологически каждый из нас стремится к замкнутому кругу. Недаром народная мудрость придумала выражение: впасть в детство.
Сергей повесил мокрую сорочку на дверцу шкафа и принялся надевать другую. Лидочка его не видела, лишь порой над дверцей взлетал рукав сорочки или проплывала сухая рука старика.
— Я утверждаю, что старость — это неудачное повторение детства. Порой мне смешно глядеть по телевизору на древних аксакалов, которых сажают в первом ряду национального митинга как свидетельство коллективной политической мудрости. Чепуха! Лучше посадите там детский сад. Эти старики уже в молодости были самыми глупыми в ауле или кишлаке, а в зрелости стали ничтожествами — иначе бы им не укрыться от жестокой судьбы, не выжить. Они были серенькими и уцелели. А теперь в них не осталось ничего, кроме старческого чревоугодия и желания запретить все, что им недоступно.
Сергей выглянул из-за дверцы. Он застегивал сорочку.
— Если мы примем мой тезис как основание для гипотезы, — продолжал он, лукаво улыбаясь, — то любопытно поискать, нет ли реальных средств помочь человеку снова стать младенцем не только в частностях, но и в целом.
— Зачем? — спросила Лидочка.
— Во-первых, потому что это интересно. То есть научно. Во-вторых, это поможет бороться с некоторыми болезнями, например…
— Вы шутите! Признайтесь, что вы шутите.
— Разумеется, каждый биолог закричит, что это — чепуха! А я останусь при своем мнении.
— Но почему?
— Потому что такой феномен я планомерно искал несколько десятков лет, наблюдал и фиксировал.
— И в чем же он заключается?
— Как ни странно, я в самом деле нашел гормон, ответственный за этот процесс. Итак, я знаю, что явление существует, я знаю, чем оно вызвано, но, правда, мои возможности этим и ограничиваются…
— Кроме того, вы научились взглядом разгонять облака и заряжать воду в реке Волге, — съязвила Лидочка. Она не выносила шарлатанов, которых столько развелось вокруг, и сочла слова Сергея изысканной, но далеко зашедшей шуткой.
— К сожалению, я не шучу, — сказал Сергей, — но понимаю, что мое открытие опасно для человечества не менее, чем атомная бомба.
— Разумеется, — все еще не сдавалась Лидочка, — нет ничего опаснее, чем омолодить Ленина, чтобы он снова взялся за Октябрьскую революцию.
Лидочка ожидала, что Сергей наконец-то рассмеется, но натолкнулась на такой напряженный взгляд старика, что осеклась. И непроизвольно посмотрела на дверь, уверенная, что увидит Фрея, в котором давно уловила тревожащее сходство с Лениным.
В дверях никого не было. Издали донесся плач младенца, потом на фортепиано заиграли гамму.
Лидочка отвела взгляд. Под журнальным столиком лежала погремушка. Сергей закрыл шкаф. На нем была голубая сорочка. Он медленно, словно преодолевая сопротивление суставов, опустился на диван.
— Здесь перепутаны причина и следствие, — непонятно сказал он.
Почему-то для Лидочки было облегчением, что Сергей не стал признавать немыслимого тождества. Она была согласна выслушивать любые фантастические гипотезы, только бы самой не заглядывать за пределы здравого смысла.
— В этом нет никакой мистики, — сказал Сергей, — если не считать мистикой непознанные возможности наших тел. Подумайте: медицине известны многочисленные случаи мгновенного или почти мгновенного поседения. Помните? «Утром он проснулся седой как лунь». А что это означает? Организм, огорченный потерей или испытавший страх, дает приказ волосам потерять пигмент. И каждая из миллионов клеток избавляется от пигмента. Неужели это чудо физиологии вас не потрясает?
— От него до омоложения — громадная дистанция.
— Никакой дистанции! Механизм этого явления тождествен тому, что может замкнуть цепочку: рождение — младенчество — старость — младенчество, где второе младенчество заменяет собой смерть. Вы читали о том, как в Африке люди, проклятые колдуном, в ту же ночь умирали? Это явление аналогичного порядка: приказ мозга и мобилизация всех систем организма.
— Значит, можно приказать старческому телу: омолодись! — Лидочка вдруг поняла — ее собеседник безумен.
— И клетки его послушно и скоро изгонят из себя продукты старения, сделают сосуды вновь эластичными, глаза — зоркими, суставы — гибкими. А что в этом невозможного? — спросил Сергей.
— Только то, что этого не может быть. Жизнь необратима!
— Главное — поверить в очевидное, то есть видимое очами, а потом уже делать выводы. Когда я впервые, молодым врачом, столкнулся с этим феноменом, мне было еще труднее, чем вам. Но я поверил. И доказательства — в соседней комнате.
Лидочке показалось, что в глазах Сергея, как говорится, зажегся безумный огонь. Что теперь? Спасаться?
— Разные организмы в различных обстоятельствах обретают либо теряют такие способности. Все зависит от способности мозга повелевать функциями тела. А эти способности, как оказалось, безграничны. Моя же роль скромна. Я, зная, что и где искать, могу помочь телу.
Музыка за стеной оборвалась.
— Возьмем сына Евгении, — сказал Сергей. — Мальчику уже шестой год. Но он лежит в колыбельке. Физически ему меньше полугода.
— Вы хотите сказать, что проводите опыты над людьми? Я вам все равно не верю!
— Почему?
За дверью затопали.
— Он — чудовище! — закричал, как всегда останавливаясь в дверях, Фрей. — Вы читали роман Гюго «Человек, который смеется»? Компрачикосы! Вот именно! Кто дал вам право, чудовище, ставить эксперименты на людях?
— Вы ставили эксперименты над страной, Владимир Ильич, — ответил Сергей. — По какому праву вы делали это?
— Не смей! — замахал руками Фрей. — Забудь мое имя. Я не хочу, чтобы меня убили. Ищейки еще бегут по следу!
Казалось, что он отбивается от роя пчел.
— Я не убийца, — сказал Сергей. — Этот мальчик не может расти. С его болезнью дети не дотягивают до года. И конец. Я же удерживаю его в младенческом состоянии, ибо, как только его организм перешагнет через границу, соответствующую развитию годовалого ребенка, он умрет.
— И сколько же вы намерены продолжать… эту пытку?
— Вы сама чувствуете, что пытка — неточное слово. Ребенок не мучается. Я же жду, когда будет изготовлено лекарство от его болезни.
— А если это случится через сто лет?
— Будет решать мать.
— У вашей Женьки в голове солома! Неужели вы на самом деле доверяетесь ей? — Фрей был возмущен.
— Я слежу за исследованиями, — сказал Сергей. — И убежден, что результаты будут получены уже в ближайшие годы.
Говорил Сергей нехотя, словно этот диалог повторялся не впервые и Сергею не удавалось убедить самого себя.
— Там есть второй ребенок, — произнесла Лидочка. — Это тоже неизлечимая болезнь?
— Нет, другая проблема. Тот ребенок не может стать большим, он не хочет.
— Вы шутите?
— Возможно, в один прекрасный день я его задушу, — пообещал Фрей.
— Помолчите, — отмахнулся Сергей. — Мне самому не все понятно.
— Вам хорошо. Вы гормон знаете! — крикнул Фрей. — Чуть что — помолодеете, жену молодую возьмете. Я знаю, у вас все готово. Другие помрут, а вы наших внучек будете бесчестить!
— С меня этой жизни хватит, — усмехнулся Сергей. — Я пожил достаточно.
— Врешь! Самому скоро сто лет, а крепкий, как боровик!
— Если бы я мог ввести гормон по желанию… неужели я бы не спас Галину? Но решаю не я. Решает сам организм перед лицом смерти. Или страха, сопоставимого со смертью.
— Может, ты и не хотел ее спасать, — сказал Фрей и отступил к двери, словно испугался, что Сергей его ударит. — На молодой хочешь жениться.
Но Сергей вовсе не рассердился, он пропустил обвинение Фрея мимо ушей.
— Гормон, синтезированный мной, не может стать просто лекарством. И я убежден, что запрет на это лежит в самой природе жизни, — сказал он.
— А как же младенцы? — спросила Лидочка.
— Да, младенцы! — подтвердил Фрей.
— Здесь работают механизмы, которые включаются раньше, чем просыпается сознание. Я могу помочь младенцу. Но не взрослому. И не спрашивайте меня — как и почему. Я уверен только в одном — я старался выйти за пределы дозволенного человеку. Это слишком опасно.
— Но будут другие люди, другие ученые, — сказала Лида.
— Возможно, — ответил старик. — Надеюсь, это случится, когда нас с вами уже не будет на свете.
— И вы храните это в тайне?
— Разумеется. Как любой человек, владеющий пробиркой с бациллами чумы. Я могу разбить ее или закопать.
— Тогда молчи! — крикнул Фрей. — Не открывайся этой красотке.
— Не могу, — улыбнулся Сергей, — любому ученому страшно, что его знания умрут вместе с ним.
— Вам страшно? — спросила Лидочка.
— Не знаю. Возможно, уже не страшно. Потому что мне страшнее представить себе мобилизационные пункты, на которых древних стариков вновь превращают в юношей и выдают им гранатометы. Человечество всегда стремится обратить свои знания во вред людям.
— Ну уж это чушь! — воскликнул Фрей.
Сергей словно не слышал его.
— Я понимаю, — сказал он, — что через год или пять лет кто-то обязательно придет к этому открытию. Но, дай бог, к тому времени человечество станет лучше и добрее.
— Оно не станет таковым, если я его не сделаю свободным! — сказал Фрей, и в тот момент Лидочка окончательно убедилась, что он — оживший Ленин. Каким-то образом это было связано с тайной Сергея. Фрей был Лениным. И это находилось за пределами чуда и здравого смысла. Лида не могла поверить в то, во что уже уверовала. И совершенно непроизвольно она сказала:
— Но ведь я же была в Мавзолее!
Ей никто не ответил, а она поняла, что в Мавзолее может лежать кто угодно — был бы похож на фотографии. А может, и фотографии сделали задним числом?
Лидочка ушла тогда домой, одурманенная невозможностью поверить и бессилием не поверить. Она пыталась осознать масштаб и значение открытия, сделанного так давно и еще не повторенного. И в то же время она ужасалась возможности стать жертвой старческого розыгрыша.
Потом, уже поздней ночью, не в силах заснуть, она вдруг поняла, где таится главный обман. Он во Фрее. Фрей не может быть Лениным. Он — не великий человек. Он просто старый приживала…
Лидочке больше не хотелось возвращаться к Сергею, хотя положено жалеть стариков, тем более стариков такой тяжкой судьбы. Она даже не подходила к телефону, если подозревала, что звонит Сергей. А может быть, он и не звонил. Для собственного спокойствия было куда удобнее думать, что два сумасшедших старика разыграли ее. Правда, с каждым днем испуг таял как айсберг, и Лида уже готова была позвонить соседу. Но не успела.
Недели через две Лидочка шла из булочной. Перед ней мирно шествовали две молодые длинноногие мамаши в похожих кожаных куртках. И коляски у них были одинаковые.
Лишь поравнявшись с ними, Лидочка догадалась, что это Женька и Лариса. Они узнали Лидочку, сдержанно поздоровались, а она замедлила шаг, непроизвольно заглядывая в коляски.
Младенцы в них лежали строго, как персональные пенсионеры на пляже. Они догадались, зачем Лида косит на них взглядом, и встретили его молчаливым презрением.
— Чего же вы не заходили, — сказала Лариса. — Сергей Борисович все спрашивал, а у меня вашего телефона нет.
— Что с ним?
— В больнице. Я хотела позвонить, а он телефон не дал.
— Он простудился, да? — Лидочка подсознательно выбрала самый безобидный вариант.
— Если бы! — мрачно ответила Женя. Она была не накрашена и потому казалась совсем девочкой. Глаза ее распухли от недавних слез.
Младенец в коляске смотрел на Лиду не мигая, и его взгляд был холодным, змеиным, хотя так говорить о беспомощных младенцах нельзя.
— Ну что же случилось, в конце концов! — В Лидочкином голосе, наверное, звучало раздражение: «В конце концов, я ему не чужой человек!» — что было неправдой.
— В реанимации он, — сказала Женька, не обидевшись на такой тон, — туда не пускают. Наверное, помрет. Я с доктором говорила, с Вартаняном. Он говорит, что надежды мало.
— В какой больнице?
— Туда не пускают, — повторила Женька. — Даже меня не пустили, а я везде могу пройти.
— А что же будет? — спросила Лида, но никто не ответил. И младенцы молчали — не сопели, не плакали, не смеялись. Все понимали и не доверяли Лидочке.
Получилось так, что молодые женщины проводили ее до дома и остановились у арки. Лида попрощалась и побежала прочь. Через несколько шагов ей захотелось оглянуться.
Обе женщины стояли в арке, глядя ей вслед.
Лидочка поднялась к себе, охваченная ощущением нечистоты, — и поспешила в душ. Это была странная форма психоза — врач объяснил бы, что она пыталась смыть с себя иррациональный страх.
Рассказ Сергея, потрясший какие-то опоры ее трезвого сознания, за прошедшие дни стерся, превратился в небылицу — и вдруг ожил вновь в холодных глазах малышей. Взгляд оказался куда более убедительным, чем все доказательства Сергея.
Зазвонил телефон.
Звонок был неожиданным и в пустой квартире показался слишком гулким.
— Лидия Кирилловна? — Высокий голос был знаком.
— Я у телефона.
— Мой псевдоним Фрей. Я помощник Сергея Борисовича. Это вам что-нибудь говорит?
— Разумеется.
— Мне надо встретиться с вами.
— Зачем?
— Разве такие вопросы задают по телефону?
— Что с Сергеем? — Лида сама знала, что он в больнице. Но уж очень у Фрея был лживый голос…
— Он в отъезде. Он оставил для вас пакет. Я прошу вас немедленно его принять.
— Хорошо, — сразу согласилась Лида. — Куда мне подойти?
— Вам следует подойти по известному вам адресу через двадцать пять минут.
Голос звучал издалека, будто не из соседнего дома, а из Конотопа.
Лидочка засуетилась. Почему-то она решила, что Сергей прислал ей записку с поручениями — ему нужны фрукты, а может, надо доставать лекарства. Она вспомнила, что в холодильнике лежат два апельсина, потом доложила к ним коробку конфет, может, врачу подарить, затем отобрала газеты и журналы последних дней — ведь ему можно читать!
Когда она уже оделась и подошла к двери, ее одолело опасение, что забыто нечто нужное. Лида сделала бесцельный круг по квартире, но так и не вспомнила, что же забыла.
Перед особнячком Лидочка была вовремя, но оказалось, что никого нет дома. Не дозвонившись в дверь, она обогнула особняк, но и у фотографов было пусто — приходя в студию, они сразу врубали ослепительные лампы. Сейчас окна смотрели серо и слепо.
Собирался дождь — пока еще не начался, но стало темнее. По листве прокатывались волны лесного шума. Ее обманули — но зачем? Фрею надо было, чтобы она ушла из дома? Может, это банда грабителей? Где же тогда доверчивый Сергей?
И тут в предгрозовой мертвой тишине она услышала голос:
— Вы давно ждете?
Фрей стоял за ее спиной, знакомо, как на портретах, заткнув большие пальцы за жилет. Оттого его небольшой тугой животик выпятился вперед. Кепка скрывала глаза в тени, за дни разлуки эспаньолка подросла и сформировалась. Удивительно, что при виде его люди не ахали: «Ленин вечно жив!»
Но в тот момент Лидочку не так волновала таинственная биография Ильича, как судьба Сергея.
— Вы были в больнице? — спросила она.
— Ни слова, — предупредил, оглядываясь, Фрей. — Какая больница?
Он отпер дверь и, еще раз оглянувшись, пропустил Лиду в знакомую тесную прихожую.
Именно в тот момент она подумала, что ее хотят убить.
Такая нелепая мысль никогда раньше не приходила ей в голову. Да и как она могла возникнуть днем, посреди Москвы, в обществе безвредного, уступающего ей ростом пожилого человека?
Но Лиде стало так страшно, что она отступила к двери в комнату, а темный силуэт Фрея закрыл собой дверной проем… его рука протянулась к ней, она хотела крикнуть, но гортань свело судорогой. Рука старика коснулась ее плеча, Лида молча отбросила ее, и Фрей раздраженно воскликнул:
— Вы мешаете мне зажечь свет!
Оказывается, Лида умудрилась встать между ним и выключателем.
При свете Фрей вовсе не казался страшным.
Он снял кепку, резким жестом кинул ее на полку и принялся вытирать ноги о половик.
— Вы тоже вытирайте, — сказал он. — Мыть тут некому.
— А почему вы не хотите сказать, что Сергей в больнице? — спросила Лидочка.
— Потому что потому. Я вам не справочное бюро! — Фрей вздернул бородку и, отстранив Лиду, прошел в комнату.
Он остановился возле дивана и хотел что-то сказать, но в этот момент издалека донесся детский плач.
— Что? — удивился Фрей. — Этого быть не может!
Лида поняла, что сейчас он, как царь Ирод, убежит истреблять вновь подкинутых младенцев.
Лидочка схватила его за полу пиджачка:
— Где пакет?
— Не знаю, — откликнулся он, вырываясь.
— Тогда я ухожу!
— Черт побери! — Он схватил со стола бумажный пакет и кинул через плечо. — Впрочем, теперь уже все равно!
Лидочка отпустила Фрея и подхватила пакет. Фрей убежал.
Пакет был в печальном виде. Кто-то грубо и в спешке открывал его, надорвал, потом кое-как заклеил скотчем. На конверте было написано знакомым мелким летучим почерком Сергея:
«Лидии Берестовой, тел. 617-17-40. Передать в случае моей внезапной смерти».
— Нет! — вырвалось у Лидочки вслух. — Он живой!
Никто ей не ответил. Из соседней комнаты донесся занудный, напряженный, срывающийся на крик голос Фрея.
И тут Лидочка поняла, что должна спешить. Надо быстро прочесть письмо и принимать меры. Нельзя оставлять нити событий в сомнительных руках девиц и ископаемого большевика.
Она присела на край дивана и вытащила из конверта толстую тетрадь и несколько отдельных листов бумаги. Сначала она прочла верхний лист:
«Дорогая Лида!
Спешу написать Вам, еще не решив, как передам это письмо. Но что бы ни случилось, наш неоконченный разговор требует завершения. Ведь у Вас остался неприятный осадок дурной шутки, жертвой которой Вы стали.
Поэтому прошу Вас — прочтите эту тетрадь. Надеюсь, что Вы согласитесь со мной: мое открытие нельзя предавать гласности, любые руки для него — дурные. И все же я не уничтожил записей и расчетов, оставляя решение за Вами. Когда взбесилась любимая собака, у тебя нет сил самому ее пристрелить. А кроме Вас, у меня нет человека, которому я мог бы завещать мои мысли. Подумайте, прочтя. Решитесь сохранить — возьмите папки и картонку из шкафа. Нет — уничтожьте».
Фрей стоял посреди комнаты — Лидочка зачиталась и не заметила, как он вернулся. Он нервно потирал ладони.
Уловив взгляд Лидочки, он криво усмехнулся и с излишней бодростью воскликнул:
— Чай на подходе! Вам с сахаром или как?
— Погодите, я дочитаю.
— Разумеется, я и не помышляю мешать. Я пока тихо накрою на стол.
Зазвонил телефон. Фрей кинулся к аппарату, будто ждал звонка.
— Что? — сказал он. — Вы ошиблись… А я утверждаю, что вы неверно набираете номер. Здесь нет никакого Сергея Степановича…
Бог с ним и с его выдумками, подумала Лидочка и возвратилась к чтению. Фрей на цыпочках вышел из комнаты.
Глава 2
Январь — июль 1924 г
Такие толстые общие тетради в мягкой, но прочной коленкоровой или клеенчатой обложке у нас обыкновенны и долговечны. Поколения школьников и студентов заполняли их записями и каракулями, а то и карикатурами. И пока люди в России будут уметь писать или хотя бы этому обучаться, такие тетради не вымрут.
Тетрадь была старой. Когда-то на коленкор была наклеена прямоугольная этикетка с надписью «А. Пупкин. Химия» или «2-й курс, 6-я группа. Ираклий Ионишвили», а то и «Маргарита Ф. Дневник», но теперь от этикетки остался лишь пожелтевший уголок.
Несколько первых страниц было вырвано аккуратно, с помощью линейки. Наверное, сменился владелец тетради и новому прежние записи не понадобились.
Затем кто-то иной вырвал из тетради еще страниц двадцать — одним рывком, грубо, остались лохмотья страниц… Лидочка почему-то представила себе человека, согнувшегося над буржуйкой, который, положив тетрадь на колено, выдирает из нее опасные страницы, прислушиваясь притом, не слышны ли шаги в коридоре.
Разумеется, легко предположить, что последний хозяин тетради был человеком неаккуратным и нетерпеливым. Но этого быть не могло, потому что первая из уцелевших страниц начиналась с полуслова, и вся она была покрыта аккуратным, стройным, почти писарским почерком Сергея Борисовича.
Значит, вернее всего, он сам хотел было уничтожить записи, но потом то ли опасность прошла стороной, то ли передумал…
«…шине Михаил Иосифович Авербах рассказал мне об удивительной внутренней организации Л. Летом 1921 года, предположив, что у него начинается прогрессирующий паралич, он попросил Н.К. достать ему все возможные специальные труды, касающиеся этой болезни. Несколько вечеров он провел над английскими и немецкими книгами и специальными журналами, а потом, отдавая их обратно для возврата в библиотеку, сказал Н.К., что теперь знает о своей болезни больше, чем врачи, и, к сожалению, его диагноз пессимистичен. Тогда же он стал рассуждать о смерти супругов Лафарг, которые за десять лет до того покончили с собой, решив, что болезни и возраст более не позволят им приносить пользу делу освобождения трудящихся. Н.К. отшутилась, сказав, что в их семье обязательно найдется дезертир, имея в виду себя. Л. засмеялся и несколько дней после этого называл ее не иначе как дезертиром.
Из английских трудов Л. сделал для себя простой и практичный вывод — знаком приближения смерти служит сильная боль в глазах, не связанная с утомлением. С тех пор и до кончины Л. особо внимательно относился к визитам М.И., потому что был убежден, что из уст окулиста он услышит приговор. Роль вестника беды Михаила Иосифовича весьма огорчала, но он был человеком долга и, несмотря на свою антипатию к большевикам, выделял Л. как удивительную, яркую личность, в которой щедро, но нелогично смешивался высокий идеализм с низменным политиканством, искренняя скромность и невероятное тщеславие, умение прощать и безбрежная мстительность. Я полагаю, что М.И. льстило, что именно он был избран для наблюдения за Л. и именно ему Л. доверял более других.
Летом 1923 года, во время очередного визита к больному вождю, когда я напросился к М.И. в качестве ассистента, не связанного с кремлевской братией, я и услышал от него, что Л. и на самом деле планирует самоубийство, что совершенно невозможно для практически парализованного, почти лишенного речи человеческого обломка. Но так как мы имеем дело с обломком гения, то не исключено, что его план удастся. Я не понял тогда, шутит ли М.И., и решил, что сам погляжу на великого больного и потом постараюсь сделать собственные выводы. (Если, конечно, бывают великие больные и просто больные.)
В памяти у меня сохранилось ощущение чудесного теплого дня, жужжания насекомых и пения птиц, всеобщего мира и покоя. Роскошный, но в то же время очень простой по формам загородный дворец в Горках был окружен щедрым, хоть и порядком запущенным парком. Нас встретила миловидная пожилая женщина, похожая на Л. и оказавшаяся его старшей сестрой Анной Ильиничной. В тот же день мне привелось увидеть также Дмитрия Ильича — младшего брата Л., врача по образованию, еще одну сестру — Марию Ильиничну, а также его жену — Н.К. Должен сказать, что все это семейство произвело на меня самое лучшее впечатление своей деликатностью и в то же время желанием постоять друг за дружку, поддержать и ободрить. Милое российское интеллигентное семейство, не погубленное революцией и сохранившееся как бы вне этого дикого времени, будто осознавшее свой долг: посильно помогать кумиру, самому умному, самому лучшему — брату Володе. Все они — родственники Л. — трудились, и притом бескорыстно, в различных газетах либо учреждениях, принося помощь обществу и по мере сил, как я понял, стараясь не реагировать на реалии мира, созданного Володенькой. Мне показалось даже, что и участие в учрежденческих делах, и присутствие в газетах совершалось родными Л. не из любви к такой деятельности — вся энергия семьи после смерти старшего брата, террориста и убийцы Александра, сконцентрировалась в Володе, — а для того, чтобы служить ушами и глазами брата и знать достаточно, чтобы быть ему полезными не только дома, но и вне его.
Стань Л. присяжным поверенным или мировым судьей, они бы все ограничили свою жизнь домом или его ближайшими окрестностями, превратившись в интеллигентских российских обывателей по Чехову.
Присутствие любящих и преданных женщин было сразу очевидно по тому, как чисто и скромно содержался особняк, как был вымыт, ухожен Л., как аккуратно была заштопана выглаженная сорочка и как тщательно были пришиты к ней пуговицы. Я подумал, глядя на более чем скромную одежду всего семейства, что они так и не приспособились к распределителям и талонам — они помнили, что новую сорочку или кофточку можно было купить в недорогом магазине, оставшемся в том, милом их сердцу прошлом, которое они помогали уничтожить.
Как и предупредил меня М.И., у Л. наступила ремиссия: болезнь — коварнейший из смертельных недугов — временно отступила, как осаждающий крепость неприятель, который высматривает слабые места в стенах, полуразрушенных после предыдущих штурмов. Так что я надеялся — хотя и не было оснований для такой надежды — на то, что увижу вождя нашей страны гуляющим с палочкой в руке, продолжающим борьбу с болезнью. Хоть и знал, что нельзя верить большевистским газетам, создававшим в сознании обывателя именно такой образ Л., я оказался не подготовленным к открывавшемуся передо мной зрелищу, когда Анна Ильинична провела нас к лужайке, где находился Л.
В кресле-качалке с высокой, затянутой соломкой, закругленной поверху спинкой, с приспособленными к ней велосипедными колесами и подставочкой для ног сидел незнакомый старый человек с остановившимся взором, неживой желтоватой кожей лица — лишь рыжеватые с проседью усы и бородка были узнаваемы по портретам и фотографиям.
Анна Ильинична окликнула Л., и тот с некоторым запозданием отреагировал на голос сестры. Его глазам вернулось осмысленное выражение, Л. криво улыбнулся, показывая этим, что узнал М.И., а затем перевел взгляд на меня — обычный просительный взгляд очень больного человека, с которым тот обращается к незнакомому врачу в тщетной надежде, что тот обладает панацеей от его немощи.
М.И. поздоровался — Л. поднял и протянул ему левую руку, еще не окончательно потерявшую подвижность, затем М.И. представил меня как молодого способного терапевта, призванного для независимой консультации.
Мой визит был строго неофициален, так как у меня были собственные сложности с ГПУ. С точки зрения здравого смысла, моя поездка в Горки была верхом легкомыслия. Кстати, когда меня впервые арестовали в тридцать первом, я ожидал, что мне будут шить покушение на вождя мирового пролетариата. Но оказалось, что поездки в Горки не были зафиксированы в моем досье. Видно, в последние месяцы Л. охраняли плохо и нехотя.
Прежде чем вернуться в дом для осмотра, Л., время прогулки которого еще не истекло, немного поговорил с М.И. о семейных делах моего коллеги, что меня расположило к больному. Я должен сказать, что периодически разум Л. как бы выползал из болота, раскрывал глаза, и ты видел, какой громадный, трепещущий, измученный страданием ум бьется в этом немощном тельце.
Во время неспешной беседы появился Дмитрий Ильич, младший брат Л., сам врач из Крыма, человек милый в манерах и более ничем не выдающийся. Я обратил внимание на то, с каким живым интересом Л. обратил свой взор к брату, вопрошая его о чем-то. Тот кивнул. Дмитрий Ильич спросил, не можем ли мы провести осмотр здесь, на свежем воздухе, но М.И. категорически отказался — он привез и уже развесил свои таблицы.
Мы осматривали Л. в главном корпусе, на первом этаже. Затем Л., уставший от общения с нами и вновь потерявший дар речи, покинул нас — его увезли, а Н.К. пригласила нас пообедать.
За скромным летним деревенским обедом все старались не говорить о болезни Л. и почему-то увлеклись воспоминаниями о жизни в Европе, где каждый из нас бывал и жил. Перебивая друг друга, родные Л. и мы с М.И. описывали красоты Германии или Швейцарии, как пресловутые восточные обезьянки, не желающие слышать, видеть или произносить чего-либо, относящегося к неприятной действительности.
За нами должны были прислать машину, но она запаздывала, и мы с М.И. после обеда отправились гулять по дорожкам парка, тогда как семейство Ульяновых разошлось по своим комнатам — благо их в Горках немало.
Помню, как я начал рассуждать о возмездии, каре, которая может проявить себя в неожиданной форме, на что М.И. резко возразил, что как врач он не видит проявления небесного бича в заболевании Л. хотя бы потому, что за свою практику насмотрелся на больных прогрессирующим параличом, которые в жизни и мухи не обидели.
— И все же, — настаивал я, — из всех возможных казней египетских некто всеведущий избрал для Л. специальное наказание — недвижность для шарика ртути, безгласность для граммофона, бессилие для тирана, создавшего новый тип мировой империи. Почему такое совпадение?
— Возьмите судьбу иных тиранов, — спорил со мной М.И. — Правда, помирали они, как правило, рано — мало кто дожил до пятидесяти, вычерпывали себя скорее, чем обычные индивидуумы. Александр Македонский, Наполеон, Петр Великий, Тамерлан… Но ведь то же можно сказать и о поэтах?
— Никто еще всерьез не занимался физиологией гения, — сказал я. — Ведь это аномалия. Гении толкают историю вперед, создают в ней разрывы, дыры, завихрения, их деятельность приводит к колоссальным потерям жизней. Значит, в этом желтом немощном паралитике есть что-то, отличающее его от прочих людей.
— Что вы имеете в виду? — спросил М.И.
— Возможно, это гормон либо иное вещество, стимулирующее особую работу мозга.
— Или особую бессовестность! — улыбнулся М.И., доставая гребенку и расчесывая растрепанные налетевшим ветром вьющиеся волосы — мой старший коллега был элегантен и всегда следил за собой.
— Это не бессовестность, — сказал я. — Это иная мораль.
— Что в лоб, что по лбу.
— Значит, вы не верите в различие между человеком и гением?
— Во-первых, я не знаю, кто гений, а кто нет. Во-вторых, короля, как гласит французская поговорка, играет его окружение. Сложись обстоятельства иначе, не было бы вождя мирового пролетариата, а был бы присяжный поверенный в Симбирске.
— А вот и нет! — возмутился я. — Обстоятельства-то как раз не благоприятствовали Ленину. Он прожил почти полвека до своей революции и все эти годы держался на поверхности радикальной политики силой своего гения. Я убежден, что пройдет время…
— И памятниками ему будет уставлена вся земля российская!
— Нет… я о более отдаленном будущем. Я о том времени, когда взбаламученная Россия успокоится после очередного смутного времени и историки, журналисты, романисты начнут искать слабости в характере Л., провалы в его теоретических работах, роковые ошибки в политике. Вы можете найти миллион ошибок и слабостей, но от этого Л. не перестанет быть гением.
— Гений и злодейство…
— Совместимы, Михаил Иосифович, — перебил я профессора, — еще как совместимы! И гениев злодейства было не меньше, чем гениев добра. В природе все уравновешено.
Мы присели на лавочку в тени старой липы. Солнечные лучи пробивались сквозь густую листву и высвечивали розовые пятна на сиреневой земляной дорожке.
— Вряд ли я смогу вам помочь, — сказал М.И.
Я не понял, в чем он собирался помочь мне.
— Я не смогу оставить вас здесь для наблюдений за Л., — пояснил М.И. — Лечащий врач Осипов, которого сегодня, к счастью, нет, весьма ревниво относится к конкурентам — куда проще выписать профессора из Берлина, чем московского приват-доцента. Штатные медики накинутся на вас как стая гарпий. И вы кончите молодую жизнь в подвалах ЧК.
М.И. полагал, что шутит или почти шутит. Он не подозревал, насколько скоро я пойду по предсказанному им пути.
— Не знаю, — сказал я, — интересно ли мне оставаться рядом с Л. Я его побаиваюсь. Он ведь гений.
— Опять вы за свое! — М.И. рассердился на меня. — Он просто пациент, который просыпается утром и через минуту сладкого неведения в ужасе вспоминает о том, что он парализован, обречен… Какая буря бушует в его душе, каков конфликт между душой и бессильным телом! Он посылал тысячи людей на смерть, а теперь ждет свою…
К нам подошел невысокий стройный — в родню — взволнованный Дмитрий Ильич и, игнорируя меня, увлек М.И., которому, очевидно, доверял, в сторону, оставив меня на скамейке. Они принялись негромко беседовать.
Вскоре после того, как они закончили беседу, за нами прислали автомобиль, и, провожаемые добрыми напутствиями Ульяновых, мы покинули Горки. Тогда вполголоса, чтобы не услышал шофер, М.И. поведал мне продолжение истории с запланированным самоубийством Л.
Оказывается, Л. удалось привлечь на свою сторону брата, а также переведенного с помощью Дмитрия Ильича из Крыма старого большевика Преображенского. Сделано это было затем, чтобы окружить Л. своими людьми, уменьшив влияние агентов Сталина, который не хотел смерти Л., так как от его имени укреплял свои позиции в партии. В то же время Сталин желал контролировать каждый вздох Л. и его родни, видя во всех врагов и заговорщиков. Ему нужен был еле живой, безгласный и потому послушный Л.
Оказывается, предыдущую ночь Л. провел во флигеле, где жил Преображенский. Там до трех часов утра Л. спорил с Дмитрием и Преображенским. Спорил знаками, хрипом, неверными движениями левой руки, отказывался спать и есть до тех пор, пока те не сдались. Было решено, что в тот день, когда М.И. установит, что наступил последний приступ, Л. подаст условленный знак — сложит указательный и средний пальцы левой руки. И тогда Преображенский принесет спрятанный у него во флигеле яд, а Дмитрий Ильич даст его брату.
Мне было трудно поверить в полную серьезность этого заговора. В нем было что-то от декадентской романтической литературы. Но М.И. был совершенно серьезен, и его лишь беспокоила этическая сторона дела. Признавая право каждого человека прекратить свою жизнь, он не желал быть участником такого убийства.
Я спросил тогда М.И., сколько-де еще протянет его пациент. М.И. ответил, что, по общему убеждению всех врачей, жить Л. осталось две-три недели.
— Несмотря на то, что ему сейчас лучше?
— Это не играет роли. Это коварная шутка болезни, как шутка палача, который придерживает ноги повешенного, чтобы тот подольше мучился. Но палачу скоро надоест, он отступит в сторону, и труп медленно завертится на веревке.
Оставшийся путь мы проделали в молчании. Оба были заняты своими невеселыми мыслями.
Когда мы уже въезжали в Москву, М.И. вдруг сказал:
— Но я бы не стал полностью доверяться диагнозу. Пациент меня не раз удивлял и удивит в будущем.
— Значит, вы все же признаете господство духа над плотью?
— Не в случае с прогрессивным параличом, — грустно улыбнулся М.И. — Просто палач нашего пациента может оказаться великим шутником.
В тот момент я не предполагал, что еще увижу Л. живым и даже буду участником загадочных событий, сопровождавших его кончину.
Мог ли я предположить, что в темнеющем сознании Л. отпечатается мой образ и он как-то свяжет мое присутствие с собственной борьбой. Я в то время слишком буквально понял замысел Л., слишком доверился его решимости покончить с собой, не понимая еще, что даже этот акт был рожден его могучим инстинктом самосохранения.
Прошло около полугода, прежде чем М.И. вновь предложил мне сопровождать его в Горки. За месяцы, прошедшие с последней нашей поездки, положение вождя революции ухудшалось и улучшалось — с общей тенденцией к ухудшению.
Мы приехали под Рождество, стоял сильный мороз, нас везли в санях под полостью.
Мы достигли дома Л. в синих морозных скрипучих сумерках. Сыпал редкий сухой снежок. В гостиной стояла елка, и Дмитрий Ильич с сестрой Марией украшали ее — Дмитрий Ильич прижимал к груди картонную коробку с шариками и другими дореволюционными игрушками, а Мария Ильинична, стоя на высоком стуле, вешала шарики на ветки.
Навстречу нам вышли Н.К. и незнакомая мне дама с длинным скучным лицом.
К столу, на котором стоял большой самовар, подкатили кресло с Л. За полгода он ссохся и еще более потемнел — волосы на висках поредели, а бородка и усы казались светлее и желтее вокруг рта. Голова его покачивалась и дрожала на исхудавшей шее, и порой ему стоило труда удерживать ее вертикально.
Но нас он признал, и из невнятных звуков, которые он издавал и в которых разбирались лишь близкие, складывалось мое имя и имя М.И.
Надежда Константиновна, сидевшая за столом рядом со мной, сказала, что Л. не раз вспоминал обо мне — он верил, что я хороший врач, и даже хотел, чтобы я приехал, но доктор Осипов был против лишних медиков в Горках, и вместо меня из Германии выписали Ферстера и Гетье, которые могли лишь констатировать состояние больного и подтвердить роковой диагноз.
После чая М.И. проверил глазное дно Л., не нашел ничего явно тревожного, затем Л. дал понять, что хочет, чтобы и я его осмотрел. Я обратил внимание на то, что Л. за последние месяцы усох и даже уменьшился в росте, словно и кости тоже обладали способностью ссыхаться. Я указал на этот факт М.И., тот улыбнулся и отмахнулся — в тот момент он выписывал рецепт.
В целом же за пределами основного заболевания я не нашел никаких следов разрушения организма, о чем сказал Л., и тот, напрягшись, понял меня и несколько раз кивнул лысой головой.
В те годы я уже увлекался проблемой компенсаторных функций человеческого организма. Упрощенно моя теория заключалась в том, что если в организме есть сильный раздражитель, угроза жизни в целом, то вторичные беды и напасти отступают, затаиваются, ожидая, чем же закончится основной бой. Л. меня интересовал в первую очередь из-за этого. И я был убежден, как бы ни насмешничал М.И., что виной тому необычайно высокая умственная организация Л., сила его необычайного мозга. Все, что было заключено в Л., подлежало мобилизации на войну против паралича, который тем не менее побеждал. Но, побеждая в главном, отступал по второстепенным направлениям.
Некоторые из моих соображений я высказывал вслух, прежде всего для Дмитрия Ильича, который весьма переживал за брата — все члены этого семейства были очень близки друг другу. М.И. меня не слушал. Он даже ушел из спальни, где я проводил осмотр. Л. как будто внимал моим разглагольствованиям и кивал, но, может быть, причиной тому была слабость шейных мышц.
Затем Дмитрий Ильич удивил меня, выказав полное доверие ко мне, подчеркивая, что я, по его мнению, не являюсь чекистом.
В присутствии Л. Дмитрий Ильич спросил меня, готов ли я выполнить личную и очень важную просьбу брата. Затем он пояснил, что речь идет о цианистом калии — сильном яде, с помощью которого Л. намеревался покончить с собой. Но братья сомневались практически во всех обитателях Горок: одни слишком любили Л. и не допускали мысли о его смерти, другие были на службе у Сталина и потому — ненадежны.
Яд для Л. хранился во флигеле у Преображенского. Но тот был убежден, что в его комнате недавно кто-то провел обыск. Пакетик с ядом не был найден, но это не означало, что его не найдут в следующий раз. Поэтому Дмитрий Ильич попросил меня достать и иметь при себе цианистый калий в смертельной дозе для Л.
Мои попытки отшутиться, отговориться невозможностью даже подобной мысли — ибо она означала убийство одного из самых знаменитых людей на нашей планете — наткнулись на холодную стену отрицания.
— Никто не просит вас сыпать лекарство, — Дмитрий Ильич так и сказал: «лекарство», — в рот моему брату. Об этом мы с ним сами позаботимся. Но вы должны достать лекарство и в нужный момент по моей просьбе доставить его сюда.
Не слушая более моих возражений, Дмитрий Ильич, такой милый и мягкий на вид человек, объяснил напоследок, что вряд ли возникнет нужда в моей помощи, но в таком серьезном деле братья Ульяновы не намерены были рисковать.
Слушая наш разговор, Л. пытался улыбнуться одной стороной лица, и пальцы его левой руки шевелились, стараясь наложиться один на другой, как бы репетируя сигнал о смерти.
В те дни М.И. не скрывал изумления перед жизнестойкостью Л., утверждая, что резервы его организма уже давно и полностью исчерпаны, но у меня уже сложилось свое, отличное от авербаховского, мнение. Я скорее склонялся к точке зрения Дмитрия Ильича, который, приехав ко мне в Москву и желая убедиться, что я раздобыл яд, сказал, что вообще не верит в то, что Владимир умрет. «Он придумает выход, — произнес Дмитрий Ильич, глядя в окно остановившимся взором. — Он всегда придумывал выход даже из более сложных ситуаций».
Я не был уверен, что в жизни Л. бывали более сложные ситуации.
В тот приезд Дмитрий Ильич опасался слежки и вел себя как конспиратор дореволюционных времен.
Развязка наступила 20 января, через несколько дней после приезда Дмитрия Ильича. В середине дня мне позвонил М.И. и сказал, что, по сообщению из Горок, у Л. — резкая боль в глазах. Сам Л. убежден, что это — сигнал пришедшей смерти. Он отказался подниматься с постели, отказался завтракать — он требует немедленного приезда М.И.
М.И. спросил, не составлю ли я ему компанию, благо у меня сложились добрые отношения с семейством Ульяновых. Разумеется, я согласился. Сомнения мои касались лишь пакета с ядом — должен ли я брать его с собой. В конце концов я положил пакетик в карман — проблема жизни и смерти Л. решается им и его семьей. Я же не более чем «почтовый ящик».
Пока я собирался, в ушах беспрерывно звучала фраза Дмитрия Ильича: «Он придумает выход». В ней было нечто колдовское, дьявольское — как и в безусловном преклонении Дмитрия Ильича перед братом, и в том, что я сам все более склонялся к мысли, что фигура такого масштаба, как Л., не даст смерти одолеть себя. При этом я оставался вполне трезвым, вовсе не склонным к мистике ученым и полагал, что все таинственные явления проще всего разгадывать с помощью здравого смысла и самой простой арифметики.
В тот, последний приезд обстановка в Горках резко переменилась. Хотя не исключаю, что ощущение это питалось в значительной степени моими собственными предчувствиями.
Мне показалось, что возле дома и в самом особняке в тот день было куда больше народу, чем обычно, словно хозяин дома уже умер и это событие выбросило из привычных уголков и комнат всех обитателей большого дома и привлекло иных — по грустному делу или из обязательного соседского любопытства.
Н.К. встретила нас внизу, глаза ее распухли и были красными. Анна Ильинична, напротив, была бледна и осунулась. М.И. заговорил с доктором Осиповым, а меня попросил забрать из автомобиля таблицы и его саквояж. Я взял требуемое и присоединился к окулисту в гостиной.
Через несколько минут тревожного ожидания нас пригласили в спальню к Л.
Л., вытянувшись, лежал на кровати, покрытый клетчатым пледом. Видно было, насколько он ссохся; мне показалось даже, что на кровати лежит лысый ребенок, умирающий от голода, — фотографии таких детей еще недавно сопровождали в журналах сообщения из Поволжья.
При звуке наших шагов он медленно повернул голову, и после нескольких секунд пустоты глаза начали наполняться соком разума. Губы Л. шевельнулись, он промычал нечто, и Н.К. сказала:
— Он вас узнал.
И тут я увидел левую руку Л., которая лежала на пледе, — средний палец шевельнулся, стараясь покрыть собой указательный палец. И я понял смысл этого жеста — Л. не намеревался сдаваться, он сам решал, когда ему умирать.
Но тут центром внимания стал М.И. и его таблицы.
Авербах склонился к пациенту и стал спрашивать его — медленно и настойчиво, чтобы пробиться к тускнеющему сознанию:
— Вам больно? Больно глазам? Сильная боль…
Я вскоре перестал следить за вопросами и повел взглядом по небольшой комнате, стараясь запомнить в ней все: и как расположена мебель, и как падает сквозь окно свет, и как одета Н.К… Почему-то я посчитал своим долгом все запомнить, словно мне предстояло написать воспоминания о последних минутах жизни вождя и преступно будет что-то упустить.
Как ни странно сейчас, описывая те события, я должен признать, что начисто забыл, как кто был одет, какая там стояла мебель и даже — сколько народу было в спальне.
Дмитрий Ильич тронул меня за локоть и потянул, увлекая за собой, прочь из комнаты.
В коридоре он спросил:
— Надеюсь, вы не забыли?
Повторяю, что перед отъездом из дома я отчаянно боролся с самим собой, не желая брать этот проклятый пакетик, но все же взял, полагая, что не имею права обманывать людей.
Я хотел было передать пакетик Д.И., но брат вождя отказался его принять и сказал, что сначала надо выслушать диагноз М.И.
Он же сообщил мне, что последний и самый сильный приступ начался ночью и сам Л. убежден в приближении смерти.
Мы вернулись в комнату к Л.
М.И. как раз произносил свой диагноз…
— Со стороны глазного нерва и вообще глаз никакого нарушения нормы нет. Все в порядке…
Слова «все в порядке» звучали в этой комнате как тревожный вопль — значит, дело не в глазах, не в переутомлении, на что так надеялся Л. Значит, это — как он и вычитал в книгах — последний звонок приближающейся смерти.
Л. прикрыл веки, давая понять, что понял М.И.
Последующий час М.И. провел с родными Л., он вынужден был признать, что положение Л. совершенно безнадежно и, как бы ни сопротивлялся его организм, исход один и близок…
М.И. совсем не удивился, узнав от меня и стоявшего рядом Дмитрия Ильича, что я по его просьбе остаюсь в Горках на ночь.
М.И. покинул Горки, когда уже было темно. Я вышел проводить его на крыльцо. Стоял жгучий мороз. Снег отчаянно скрипел, будто взвизгивал под каблуками людей. В спину нам бил теплый свет из окон.
М.И. пожал мне руку, словно Пущин остающемуся в ссылке Пушкину.
Вскоре после отъезда М.И. Анна Ильинична обнаружила меня в гостиной и попросила следовать за ней.
— Сейчас приедут разные люди, — сказала она неодобрительно. — Лучше, чтобы они вас здесь не видели. Как мухи на падаль… — И повторила: — Как мухи на падаль, — не ощущая двусмысленности этих слов.
А впрочем, подумал я, может быть, она уже похоронила брата? И я здесь единственный, кто не верит в смерть Л.?
Анна Ильинична оставила меня в небольшой комнатке второго этажа, окно которой выходило на главный фасад. Она зажгла свет и попросила чувствовать себя как дома.
В комнате были диван, письменный стол и старый шкаф с полуоткрытой дверцей. На письменном столе стояла электрическая лампа, переделанная из керосиновой. Анна Ильинична прошла к окну, задернула занавески, потом зажгла лампу на столе.
— Здесь вы будете ночевать, — сказала она. — Я принесу вам белье. Туалет и умывальник в конце коридора. Простите меня. Мне некогда.
С этими словами, не ожидая моего ответа, она вышла из комнаты, и ее сухие частые шаги застучали, удаляясь, по коридору.
Впервые за вечер я остался один. Звуки снизу сюда не долетали. Я почувствовал тишину, которая царила в Горках.
Я подошел к окну и открыл форточку. По дороге к дому приближались огни автомобилей. Наверное, ехали те, кого Анна Ильинична сравнила с мухами.
Я потушил свет, чтобы меня не было видно снаружи, и стал наблюдать за тем, что происходит у входа в особняк. Лестница была ярко освещена электрическими фонарями.
Мое любопытство объяснимо и понятно — ведь я был куда моложе, чем сейчас, и судьбой мне было уготовано присутствовать при кардинальном моменте истории — смерти великого человека.
Из первой машины выбрался Сталин — его мне приходилось видеть в годы Гражданской войны, когда я, недавний студент, вернувшийся с Южного фронта после ранения и продолживший обучение в университете, повадился посещать разного рода собрания и митинги, влекомый свойственным мне любопытством. Тогда для меня он был представителем нового российского начальства, выползшего из глухих уголков империи и плохо говорящего по-русски. Были те начальники грузинами, венграми, евреями, латышами, поляками — людьми ущербными от долгого угнетения и готовыми наказывать всех, кто не был им подобен. Тот Сталин, которого я увидел три года назад и в котором не угадал вождя великой державы и даже сочувствовал его неумению слагать русские фразы, был невелик, сдержан в жестах и этим запомнился — среди крикунов и лицедеев он был бухгалтером.
На этот раз я узнал Сталина лишь по усам — он был в дохе и ушанке. А следом, из второй машины, выкатился, поспешил к Сталину нарком здравоохранения Семашко. На улице им разговаривать было холодно — пар от дыхания стал плотен и непрозрачен. Они нырнули в подъезд, который им пришлось открывать самим, за Сталиным вбежал еще какой-то человек, видно, из охраны, а шоферы отогнали машины в сторону.
Сталин был тогда Главным секретарем партии. И все считали его другом и надежным союзником Л.
Когда они вошли в дом, я тихо вышел в коридор — меня влекло любопытство.
В коридоре было почти темно — лишь слабенькая лампочка горела у лестницы.
Подойдя к лестнице, я мог лишь наблюдать за теми, кто выходил из покоев Л., но нарушить приказ Анны Ильиничны и спуститься вниз я не посмел.
Пробежала Мария Ильинична с кастрюлей горячей воды, за ней одна из секретарш или служанок несла полный графин. Смысл этого действа был мне непонятен.
Из спальни вышел Сталин. Он отошел к стулу, стоявшему у дверей, сел, достал пачку папирос и закурил. В доме никто не курил, и потому запах табака в одночасье отравил воздух. Даже я, относившийся к табачному дыму вполне лояльно, чуть не закашлялся.
Возле Сталина остановилась Анна Ильинична.
— Иосиф Виссарионович, — предложила она, — может, желаете выпить чашку чаю? Самовар в столовой, горячий.
— Спасибо, — сказал Сталин, наклонив голову, чтобы вытолкнуть из себя это слово, — мне не хочется чаю. Я побуду здесь.
У него были тяжелые слова. Анна Ильинична тоже это почувствовала и отступила от Сталина, словно испугалась.
А тот продолжал курить, задумчиво глядя в пол. Затем, словно почувствовав мой взгляд, он поднял голову, и я еле успел отступить назад. Я понял, что он сейчас пойдет к лестнице, чтобы проверить, кто подслушивает. Но, на мое счастье, дверь в спальню открылась и оттуда вышел нарком Семашко.
— И как там у вас дела? — спросил Сталин. Он очень плохо говорил по-русски.
Семашко понизил голос, словно сообщал государственную тайну.
— Владимиру Ильичу дали касторку, — громко прошептал он.
— Зачем? — спросил Сталин.
— У товарища Л. не работает желудок, — сообщил нарком.
— Правильно, — сказал Сталин.
Они замолчали.
Я стоял вне поля их видимости, значит, и сам их не видел. Только мог по шагам и голосам догадываться, кто участвует в разговоре.
Скрипнула дверь. Явление следующее — те же и супруга вождя.
— Мне надо будет поговорить с Владимиром Ильичом наедине, — сказал Сталин.
— Но вы же знаете, он не владеет речью, — послышался голос Н.К.
М.И. говорил мне, что у Ленина произошел со Сталиным конфликт именно из-за Н.К. И якобы он послужил толчком к обострению болезни. Сталин и Н.К. не выносили друг друга.
— Мне не нужно, чтобы он владел речью. Но в свое время он обратился ко мне с просьбой. И я, надеюсь, смогу ему теперь помочь.
— Не думаю, что Владимир Ильич нуждается сейчас в вашей помощи.
— Это решаем мы с ним, а не вы, — тихо произнес Сталин. И мне показалось, что я заглянул в его рыжие глаза.
— Хорошо. — Голос Н.К. дрогнул.
Она скрылась в спальне Л. Семашко куда-то испарился.
Снова наступила тишина. Сталин откашлялся, будто рядом со мной — так тихо было в доме. Потом приоткрылась дверь в комнату Л., и оттуда донеслись голоса. Я осмелился выглянуть и увидел, как Сталин поднялся и, не вынимая изо рта папиросу, заглядывает в приоткрытую дверь. Мне запомнилось, что у него на ногах были валенки и галоши — с галош натекло возле стула, где он сидел.
— Ну что? Что там? — спросил Сталин.
Я понял, что он говорит с наркомом.
— Прослабило, — сообщил нарком.
— Да идите вы со своими клизмами! — рассердился вдруг Сталин. — Почему эта курица не выгоняет всех из комнаты?
— Сейчас, они меняют белье, — сообщил Семашко. — Вы же понимаете, Иосиф Виссарионович.
— Черт возьми, еще этого не хватало!
Поскрипывал рассохшийся паркет. Сталин быстро ходил по залу.
Потом шаги стихли, и я услышал голос Сталина:
— Тогда пойдите к Ильичу и скажите ему в ухо, чтобы он понял, что я привез то, о чем он просил. Я привез.
— О нет! — почему-то возразил Семашко. — Подождите немного, и вы сами ему скажете.
Послышались шаги, шуршание одежды. Я наклонился — из дверей спальни вышли несколько женщин: одна несла ночную посуду, вторая — свернутые в узел простыни, третья — пустой кувшин и таз.
В дверях стоял Дмитрий Ильич.
— Заходите, Иосиф Виссарионович, — сказал он. — И если вы не возражаете, я буду вам помогать.
Не ответив ему, Сталин вошел в комнату к Л.
Ночью, когда все в доме затихло, Сталин и Семашко умчались в Москву, а Л. заснул, Дмитрий Ильич поднялся ко мне и рассказал, как происходила последняя встреча Л. и Сталина.
Сталин, по словам Дмитрия Ильича, был поражен, увидев, как изменился Л.
Л. с трудом воспринимал связную речь, так что Дмитрию Ильичу пришлось выступить в роли переводчика. Сначала С. убедился, что никто их не подслушивает, затем он спросил Л., не изменил ли тот своего намерения. Того самого намерения, помочь в исполнении которого он просил Сталина еще полтора года назад.
Л. долго не мог понять, но, когда понял, глядя на Дмитрия Ильича, промычал слово «убить». Или «убил».
— Вы говорите о самоубийстве? — спросил Дмитрий Ильич.
— Вот именно.
Л. показал бровями, что удивлен, и Дмитрий Ильич истолковал его вопрос так:
— Почему вы изменили свое мнение? Вы ведь были резко против самоубийства?
— Я думаю, товарищ Л., — сказал тогда Сталин, обращаясь к умирающему, — что этим я выражаю вашу волю. Я ведь человек и должен помогать другим людям.
— Ни я, ни мой брат, — сказал мне тогда Дмитрий Ильич, — не поверили Сталину. Я чувствовал, как брат старается сжать пальцами мою руку, лежавшую на его кисти, и взялся истолковать невысказанные мысли Володи. Я сказал Сталину:
«Брат просит оставить привезенное с собой». — «Почему он думает… почему вы думаете, что я привез это с собой?» — «Это понятно», — сказал я.
Сталину не понравились мои слова, но он вынул из кармана и передал мне пакетик. И сказал, что это — цианистый калий.
— И тогда я увидел, что мой брат улыбается. И я понял почему. Теперь у него есть целых три пакета с ядом. Три смерти ждут его, не говоря об обыкновенной… Сталин ушел, недовольный мной и братом. Ему казалось, что его дурачат. Но он не понимал — истолковываю ли я Володю, понимаю его или придумываю от своего имени, тогда как Володя — не более как бессмысленное растение.
— Но почему вдруг Сталин привез яд? — спросил я. — Значит, ему нужен мертвый Л.?
— Почти правильно, — ответил Дмитрий Ильич, не удивившись моей излишней смелости. Даже в те годы рассуждать так с малознакомыми людьми было не принято.
Но, оказавши раз доверие, Дмитрий Ильич как бы позволил мне задавать такие вопросы.
— Раньше он отказывался даже обсуждать эту проблему, — сказал Дмитрий Ильич. — Я думаю, потому что ему нужен был живой, но беспомощный Ленин. Лучший ученик, верный последователь, замечательный организатор — я наслышался этих слов даже здесь. Да и брат полагал, что Сталин оставлен им в роли цепного пса, пока хозяин отлучился. Но цепной пес стал показывать нрав. Брат обсуждал с ним проблему ухода из этого мира — Сталин избегал этого разговора. Как только Володя умрет… — Дмитрий Ильич остановился, прислушиваясь, но в особняке было очень тихо — тревожной тишиной ночного бодрствования. — Как только Володя умрет, Сталину придется отстаивать свое место против сильных ветеранов. А по уму, способностям, силе воли он им не чета…
Как тогда ошибался Дмитрий Ильич! Впрочем, ошибались все. И даже те самые сильные ветераны.
— Так что же случилось?
— А то, что Володя понял опасность. Опасность, исходящую от Сталина, для партии, для всей страны, для мирового коммунизма. Он понял наконец, что Сталин вовсе не коммунист, а политический интриган, рвущийся к власти. И после инцидента с Надюшей Л. перешел в наступление.
— Союз хозяина и цепного пса распался? — неосторожно спросил я. Дмитрий Ильич поморщился; при свете настольной лампы мне было видно, как неприятно ему было слушать эти мальчишеские слова, причем виной тому был он сам — он произнес их первым.
— Простите, — сказал я.
— Ничего, — ответил Дмитрий Ильич. — Накурил он здесь — за два дня не выветришь… Последние шаги брата были направлены против Сталина. И тот должен понимать, что если Володя пошел в крестовый поход, то остановить его может только смерть. И тут Сталин вспомнил о просьбе Володи — когда станет совсем плохо, дать ему яд. Смотрите, Сергей Борисович, с какой скоростью он действовал: не прошло трех часов, как уехал профессор Авербах…
— М.И. не стал бы ему звонить.
— Что мы знаем о страхе? — отмахнулся Дмитрий Ильич. — Правда, не исключено, что Сталина информировала Фотиева или сам Осипов. Наш телефон хоть и плохо, но порой связывает с Москвой. Тут же приезжают Сталин и послушный ему нарком здравоохранения. Вынюхивают, высматривают, а у Сталина в кармане лежит яд. И он предлагает его Володе, как бы продолжая прерванный давно разговор. Значит, Сталин боится, что Володя может не умереть, ему нужно, чтобы он умер как можно скорее, чтобы не успел добиться смещения Сталина, чтобы не успел склонить Троцкого к борьбе… Сегодня Л. стал опасен, и его надо убить…
— Во-первых, Сталин не преуспел, — заметил я. — А во-вторых, вряд ли он прорвется к власти. Вы же сами говорили.
— Но он-то полагает, что между ним и властью лишь одно препятствие — Володя.
Мы замолчали. Внизу загремел таз, донеслись невнятные голоса.
— Что же теперь будет? — спросил я.
— Он завтра умрет. Я так думаю, — сказал Дмитрий Ильич. — Он устал бороться со смертью. Он устал от бесконечной пытки неподвижностью и немотой. Он — самый красноречивый и легкий в движениях человек на земле!.. — Дмитрий Ильич всхлипнул.
— Ну ладно, я пошел, — сказал он через минуту.
— Надеюсь, что если это случится, то не от яда Сталина? — сказал я.
— Почему? Если бы была моя воля, — ответил Дмитрий Ильич, — я бы выбрал яд Сталина. Уж он-то подействует наверняка.
Нет нужды описывать следующий, последний день жизни Л.
Скажу только, что Л. отказался вставать, есть, пить… Он не захотел видеть врачей, хотя Осипов для страховки вызвал из Москвы подмогу. Среди приехавших не было элегантного стройного М.И. В его услугах уже никто не нуждался. В моих, правда, тоже — моя доля яда была лишней.
На большом столе в столовой стоял горячий самовар, был нарезан несвежий хлеб, сыр, стояло варенье. Все, кто был свободен, подходили туда, садились за стол и сами за собой ухаживали.
Со мной вместе была Анна Ильинична. Я спросил ее, как Л.
— Он очень нервничает, — ответила Анна Ильинична. — После вчерашнего визита.
— Я знаю.
— Сталин предложил Володе яд. — Анна Ильинична тоже рассматривала меня как одного из своих близких.
— Дмитрий Ильич рассказывал мне.
— Я представляю, что творится у него в душе, — вздохнула Анна Ильинична. — Его мечта — подняться и приехать на Совнарком. И навести порядок! Вот бы здорово! — Анна Ильинична почти выкрикнула последние слова — это была и ее мечта.
— Ты почему кричишь? — спросила входя Н.К. Супруга Л. двигалась медленно, переваливаясь, за последние годы она, хоть и никогда не была привлекательной, совсем махнула на себя рукой и казалась куда старше своих лет.
— Ты выпьешь чаю? — спросила Анна Ильинична.
— Надо напоить врачей, — сказала Н.К. — Я сейчас их сюда приглашу.
— Тогда мы с Сережей пойдем к Володе, — сказала Анна Ильинична.
— Только не говори никому, что Сергей Борисович тоже доктор, — сказала Н.К.
Мы с Анной Ильиничной прошли в спальню к Л.
У дверей стояли двое врачей, мне незнакомых. Они тихо переговаривались и при нашем появлении обернулись к нам, словно мы могли принести ключи от заколдованной пещеры.
— Товарищи, — сказала Анна Ильинична. — Надежда Константиновна ждет вас в столовой. Выпейте с дороги чаю.
Доктора с облегчением двинулись к столовой. Пришел Преображенский и встал снаружи у двери.
— Володя не хочет их видеть, — сказала Анна Ильинична, открывая дверь.
Я прошел к кровати.
У меня создалось впечатление, что за ночь Л. еще более усох и в то же время словно помолодел. Он меня узнал, приподнял левую руку, приглашая приблизиться. Дмитрий Ильич стоял в ногах кровати.
— Нельзя, — сказал Ленин, — нельзя все отдать ему! Он убьет Надюшу. Он всех убьет.
Он говорил половиной рта, но достаточно внятно — вчера он так говорить не мог.
— Что делать? — спросил Л. у меня.
— Мне кажется, что вам стало лучше, — сказал я. — Возможно, наступит облегчение.
— Нет, — сказал Л. — Глаза болят. М.И. не оставил надежды. Я не маленький… надежды нет.
— Но ваш организм…
— У меня не осталось организма, — внятно ответил Л.
В комнате воцарилось молчание. Потом Дмитрий Ильич сказал мне:
— Мы разговаривали с Осиповым. Он откуда-то уже знает о решении обратиться к яду. Но настаивает, чтобы врачи не принимали в этом участия.
— Как всегда — чистенькие руки, — сказал Л. — Скажите, доктор, как лучше принять его? В чае? В бульоне? Я думаю — в бульоне. Желудок у меня прочищен. Я готов.
— Но почему?
— Потому что сегодня вечером, — сказал он, — я полностью потеряю возможность двигаться… полный паралич… бессмысленное бревно…
— Володя, — сказал Дмитрий Ильич. — Может быть, Сергей Борисович осмотрит тебя?
— Я не возражаю, — сказал Л.
Я не был готов к осмотру — у меня даже стетоскопа с собой не было. Но в доме все нашлось. Я измерил пульс, кровяное давление, прослушал сердце… Ничего утешительного я сказать не мог… Во время осмотра Л. дважды впадал в забытье — давление прыгало… пульс был неровным и нитевидным… Странно, что жизнь еще теплилась в этом организме. В то же время я был крайне удивлен некоторыми несообразностями: участками нежной, юношеской кожи, совершенно очевидным возрождением луковиц волос, исчезновением морщин на лице — словно организм отчаянно пытался удержаться на плаву, пробовал, отбрасывал и вновь искал пути, чтобы обмануть смерть…
По моей реакции братья Ульяновы без труда поняли, что диагноз неблагоприятен.
— Не расстраивайтесь, — сказал Л. — Я иного и не ждал. Только не пускайте ко мне врачей…
Вошла Мария Ильинична. Дмитрий Ильич попросил ее согреть бульон.
— Не очень горячий.
Мария Ильинична без слов покинула комнату.
— Они молодцы, — сказал Л. — Они у меня молодцы…
Он устал и говорить почти не мог.
— Что мы возьмем? — спросил Дмитрий Ильич. — У нас есть выбор.
— Выбор! — Л. попытался засмеяться. Потом сказал: — Только не тот, что привез Сталин. Там может быть дерьмо.
Мне хотелось уйти — от Л. исходил слишком сильный поток неразличимых человеческими чувствами, но обжигающих волн. В бессилии маленького тела, в его капитуляции перед лицом смерти было такое могущество духа, что именно в тот момент я окончательно осознал, как этот человек мог держать в руках партию и громадную империю…
Мария Ильинична принесла поилку с бульоном. Дмитрий Ильич протянул руку, и я покорно отдал ему пакетик с ядом. Л. смотрел на него как зачарованный.
— Господи, спаси и помилуй, — шептали его губы — может быть, лишь я слышал этот шепот, а может быть, мне только казалось, что он шепчет. — За что мне такая мука, Господи?
Вошли Н.К. и Анна Ильинична. Анна Ильинична заперла за собой дверь.
Все мы, в первую очередь родные и случайно — я, были словно присяжные, которые должны будем перед небом свидетельствовать о происшедшем.
— Я не хочу, — шептал Л. — Освободите меня!
— Милый, — Н.К. заплакала — большие тяжелые слезы скатывались по толстым мягким щекам, — не надо, давай будем жить… Мы же справлялись…
Л. отрицательно двинул головой и протянул руку к поилке.
Н.К. не смогла дать ему поилку, и дал ее Дмитрий Ильич.
Л. пил спокойно, сделал несколько глотков, но потом вдруг судорожно, отчаянно оттолкнул поилку так, что вышиб ее из руки брата — она упала на пол и раскололась, — и все мы смотрели не отрываясь, как лужица отравленного бульона медленно растекается по паркету.
Л. откинулся на подушку и закрыл глаза.
Мы смотрели на него. В дверь постучали, но никто не двинулся.
— Ну! — произнес Л. — Скоро?
Н.К. опустилась перед кроватью на колени и положила руку ему на лоб.
— Нет, — прохрипел Л. — Нет, я не позволю! Пустите меня! Я еще живой!
Он начал биться в конвульсиях.
Я кинулся к нему. Почему-то Анна Ильинична протянула мне градусник. Я покорно сунул его под мышку и придерживал косточку правого неподвижного плеча.
Л. бормотал невнятно, выкрикивал тихонько непонятные слова, левая рука махала в воздухе, отбиваясь от невидимых нам злых сил. В дверь стучали. Мария Ильинична подбежала к двери и крикнула, чтобы отстали.
Анна Ильинична вытащила градусник и показала мне: ртуть остановилась на отметке 42,3 — дальше некуда было подниматься.
И вдруг Л. закричал — тонко, прерывисто.
Он мелко трепетал, бился — словно хотел выскочить из жгучей кожи… и я видел, как в дурном сне, и все это видели, как лопалась кожа, обнаруживая внутри под ней другую — розовую, нежную… нечто куда меньшее, чем Ленин, билось внутри его, распарывая оболочку. Ахнула, зажимая себе рот, Анна Ильинична, кто-то из женщин упал на пол, потеряв от страха сознание…
Голова Л., будто из нее изъяли череп, дергалась, сморщенная, и я сделал растерянный шаг ближе, чтобы помочь — не зная уж кому и чем. И тут сквозь лопнувшую на горле кожу прорвалась младенческая рука. Рука дергалась, разрывая кожу, — немного крови появилось на ней, но совсем немного.
Почему-то первой пришла в себя Н.К. Она оттолкнула меня, кинулась к дергающейся кукле и начала рвать кожу своего мужа, стараясь освободить из нее младенца, который выбирался из кокона, — я даже слышал, как рвалась, трещала живая кожа, мне стало так плохо, что я отступил назад и натолкнулся на лежавшую на полу Марию Ильиничну.
Младенец, испачканный кровью и лимфой, квакающий беззубым ротиком, бился в руках Н.К.
Анна Ильинична сорвала со стола белую скатерть — посыпались коробочки с лекарствами и шприцы, — они с Н.К. положили младенца в ногах мертвого, пустого Л., начали вытирать его, деловито и быстро, словно ждали именно этого исхода. Дмитрий Ильич подошел к двери.
— Там кто? — спросил он.
— Это я, Алексей, — ответил голос Преображенского.
— Больше никого?
— Осипов в столовой, — сказал он. — Врачи с ним.
— Жди, — сказал Дмитрий Ильич. — Никого не пускай.
Как будто поняв брата без слов, Н.К. и Анна Ильинична завернули младенца, который молчал, в скатерть, потом сняли с кровати сбитое к ногам одеяло.
Я ничего не понимал и не хотел ничего понимать — я был в тупом шоке.
— Сергей Борисович, — тихо сказал мне Дмитрий Ильич. — Вы сейчас вместе с Алексеем Андреевичем Преображенским отнесете ребенка во флигель. Света не зажигать. Вы отвечаете за жизнь ребенка. Ясно?
— Конечно, — сказал я покорно. — Конечно…
Преображенский, не задав больше ни вопроса, взял закутанного ребенка.
— Возьми на вешалке шубу, — сказала Анна Ильинична. — Я потом к вам приду. Надя останется здесь.
— А я позвоню в Кремль, — сказал Дмитрий Ильич. — Мне надо сказать, что Володя умер…
Мы просидели во флигеле Преображенского до утра. С нами была Анна Ильинична. Я осмотрел ребенка — это был физиологически нормальный новорожденный мальчик.
Как потом рассказал Дмитрий Ильич, Сталин и Семашко приехали вечером. Сталин никому не сказал в Москве, куда едет.
Н.К. показала ему бренную оболочку мужа. Она сказала ему, что от яда часть плоти Л. вылилась горячей водой… Если Сталин и не поверил, он не стал возражать. Он был поражен видом оболочки человека, с которым лишь вчера разговаривал. Он долго стоял возле кровати, но не дотрагивался до кожи — возможно, полагая, что Л. заразный.
Затем он сказал, что возьмет на себя все формальности.
Ночью я не спал — стоял у окна во флигеле Преображенского. Свет у нас не горел. Анна Ильинична сидела с младенцем, который хныкал и отказывался от пищи.
С утра к дому начали подъезжать машины с видными партийными и государственными деятелями. Мы почти не обсуждали, как и почему на наших глазах произошло чудо бегства от смерти. Мы не видели и не искали рационального объяснения. Важнее казалось сохранить в тайне младенца».
Лидочка отложила тетрадь. Бумага в тетради была старой, чернила кое-где стали серыми. Видно, Сергей писал эти страницы много лет назад.
В голове было пусто — не о чем спорить, нечему возражать.
Лидочка пролистала оставшиеся страницы и нашла еще несколько исписанных тем же почерком листков. Это был черновик неоконченного письма или статьи.
«Что же произошло с Лениным во время болезни? Он страдал долго, охваченный постоянным страхом не только за собственную жизнь, но и за судьбу своего детища — Советского государства, ради которого он и прожил на свете чуть более пятидесяти лет.
Лежа в спартанской спаленке Горок и месяц за месяцем втуне надеясь, что вот-вот ему станет получше, что он встанет на ноги и наведет порядок в своре недоучек, вообразивших себя господами великой державы, что добьется своей единственной цели — мирового господства пролетариата, а следовательно, и его, как вождя этого пролетариата, — он терпел, все более ненавидя все человечество и каждого человека в отдельности; подавал знаки врачам, что он их слушается, уважает и очень надеется на их снисхождение, а сам всматривался в их лица, чтобы жестоко наказать тех, кто, на его взгляд, недостаточно серьезно относился к своим обязанностям и смирился с его разложением и смертью. Но сам он не смирился и будет бороться… Думая так, Ленин хмурился, потому что оказывалось, будто и он сам допускает возможность смерти. И по мере того как Ленин изнывал, наполняясь ненавистью к миру, все более готовый взорвать его, чтобы утянуть в ад вместе с собой, его организм вырабатывал все больше гормона Би-Эм, о чем в то время никто не подозревал. И вот наступил тот момент, когда — разумом или желудком — Ленин, или то, что от него оставалось, почувствовал, что стоит на краю гибели, над пропастью смерти. И тогда, спасаясь от нее, он превратился в младенца — и сам не подозревал об этом, потому что его мозг заснул на долгие годы».
«…Мы предположили, что в человеке латентно заложены способности влиять на свое тело куда больше, чем думали ранее. И эти способности проявляются в критические моменты жизни, причем у различных людей по-разному. Люди же выдающиеся, талантливые не только умеют думать и творить лучше прочих, но и обладают большей властью над своим телом. Гений, талант отторгаем серостью, он подвержен опасностям чаще прочих, так что умение управлять своим телом становится компенсацией за слишком большой риск погибнуть, не выполнив своего предначертания.
В 1924–1931 гг. у меня была постоянная возможность наблюдать и исследовать ребенка Л., в физиологическом возрасте от нескольких месяцев до семи лет. Исследуя кровь и выделения ребенка, я искал активный агент, который ответствен за кардинальные перемены в организме. Мною были обнаружены признаки присутствия в крови Л. гормона Би-Эм, ранее неизвестного науке.
Специализируясь в педиатрии, я разработал методику поиска гормона Би-Эм и с этой целью исследовал в периоды 1925–1931, 1936–1938, а также 1956–1980 гг. кровь примерно 40 000 пациентов, и у 26 гормон Би-Эм в крови наличествовал. К сожалению, превратности моей жизни не позволили мне наблюдать этих пациентов регулярно, но по возвращении из заключения я проследил жизнь семерых детей, и все они, независимо от судьбы, показали признаки исключительности, присутствие талантов, но необязательно творческого характера. Тем не менее можно утверждать, что массовое тестирование детей на предмет обнаружения в крови гормона Би-Эм позволит на ранних стадиях развития определять потенциально великих людей. Гормон Би-Эм — клеймо Природы…»
Далее шло несколько вычеркнутых строчек и продолжение было написано иными чернилами:
«Остаются без ответа некоторые важнейшие вопросы. Допустим, что появление гормона Би-Эм в организме человека обусловлено великой случайностью, игрой Природы, нуждающейся для своих высших целей в выдающихся личностях. Но есть ли в том закономерности? Все мои попытки отыскать гормон у родителей тех детей, что были отмечены знаком Природы, не увенчались успехом. Не дали результатов и поиски его в крови потомков тех персон, кто обладал гормоном во взрослом состоянии. Я знаю, что гормон может исчезнуть из крови, но остается открытым вопрос: а не может ли он появиться в уже зрелом возрасте? На все эти вопросы я не могу дать ответа.
Но самый главный вопрос заключается вот в чем: для чего это понадобилось Природе либо Существу, каковое мы можем воспринимать как Природу?
Я могу здесь лишь сделать предположение, которое будет таким же необязательным, как любое другое. Я полагаю, что самая хрупкая и ценная субстанция человечества — гений. Серая масса, из которой состоит человечество и которая является гарантом его живучести, стремится любой ценой избавиться от аномалий. Поэтому человечество всегда уничтожало идиотов и гениев. Причем вторых — куда более безжалостно. Ведь идиота можно пожалеть, а гению остается только завидовать. Мне представляется порой, что вся история рода людского — это борьба серости и крайностей. И без крайностей невозможно развитие. Следовательно, ради сохранения ничтожной, слабой популяции гениев Природа пошла на дополнительные хитрости, снабдив их механизмом выживания — возможностью спрятаться в раковину времени, возможностью избежать смерти от неожиданной болезни… И мало ли может быть иных, неведомых хитростей, которыми Природа одарила своих светлячков?
Причем, когда я говорю о гениальности, охраняемой Природой, я не беру на себя смелость определять морально-этические критерии этих индивидуумов. Боюсь, что и Природа не задается этой проблемой — среди ее детищ должен быть определенный процент гениев. И она их защищает… А гений и злодейство для нее неразличимы».
Далее было снова зачеркнуто несколько слов, и на следующей странице оказалась лишь одна фраза:
«…А может быть, в идеале гений бессмертен? Он, как птица феникс, способен вновь и вновь возрождаться на этом свете?..»
В пакете обнаружилась еще одна короткая записка.
«Первые несколько лет второй жизни Л. скрывали у А. Преображенского. Дмитрий Ильич и дамы ульяновского семейства порой тайком посещали его. Но мне кажется, они так до конца и не поверили, что младенец Фрей (они использовали одну из подпольных кличек Л.) и Л. — одно лицо.
Когда я вышел из лагеря на поселение в 1948 г., я отыскал Фрея, который остался совсем один и бедствовал. С тех пор мы худо-бедно живем вместе. Мне кажется, что гений — это сочетание человека и обстоятельств. В первом рождении обстоятельства благоприятствовали Л. Во втором — они были неблагоприятны для Фрея. Новый, второй, возрожденный Ленин — это существо совершенно аморальное, бездушное, умелое в интригах, но в чем-то беспомощное и никчемное. Очевидно, сочетание личности и обстоятельств — явление редчайшее. Из Володи Ульянова, вернее всего, не должен был выйти правитель России, но ход ее истории сделал это возможным. На это совпадение был один шанс из миллиарда. Он выпал. Второй раз этого получиться не могло. Шанс стал микроскопически ничтожен.
Мне представилась уникальная для ученого возможность — много лет наблюдать феномен всемирного значения, все более убеждаясь, что наблюдаю банальность, воздушный шарик.
Ленин-2 стареет, хворает, трепещет, что его узнают, и ужасается тому, что его не узнают. Он прочел до последней строчки все, написанное им в предыдущей жизни, ему было самое место — служить старшим научным сотрудником в Институте марксизма-ленинизма, но он никогда на это не осмелится. В последние месяцы он нервничает все более, мне даже приходится тайком потчевать его успокоительными, чтобы он не погубил себя стрессами. Он осознал, что на четырнадцать лет уже пережил первого Ленина. Тот умер, то есть родил младенца, шестьдесят восемь лет назад, а было ему пятьдесят четыре года.
Чует мое сердце, что, стоит мне отпустить вожжи, он что-нибудь натворит. Боюсь заболеть. И именно на этот случай оставляю Вам письмо.
Хоть я изучаю этого человека несколько десятилетий, он остается для меня энигмой. Это несбывшийся гений узкого профиля — гений-заговорщик. Я убежден, что ему по силам развернуться даже здесь и вовлечь в заговор кота, девиц или младенцев… Простите, Лида, у меня сегодня тревожно ноет сердце. Лучше я завершу письмо как оно есть, а о младенцах, если еще когда увидимся, побеседуем в следующий раз…
Сергей».
Глава 3
Осень 1991 г
— Вот тут его и шлепнуло, — с каким-то торжеством сказал Фрей. — Он стал конверт надписывать, а мне хрипит: «Вызывай «Скорую»!» Смешно? Другой бы на моем месте труповозку вызвал!
Фрей захохотал высоким срывающимся голосом.
Лидочке было невозможно смириться с тем, что она разговаривает с состарившимся Лениным. Она мысленно продолжала называть его Фреем. И никогда Лениным не назовет, хотя каждая клеточка его тела — ленинская.
Фрей досмеялся и закашлялся. Он старчески вздрагивал и отмахивался, чтобы Лида на него не смотрела. «Интересно, — подумала она, — а хватит ли его гениальных сил, чтобы возродиться вновь, подобно большевистскому фениксу?»
— Чай на столе, — объявил Фрей.
И Лидочка удивилась, увидев, что на журнальном столике не без изящества приготовлен чай: печенье и конфеты в вазочках, синие с золотыми каемками чашки, варенье, которое еще тем летом варила Галина и которое Сергей берег.
— А вы Сергея видели? — спросила Лидочка. Надо же было о чем-то говорить.
— Ни слова об этом недостойном человеке! — Фрей уже одолел приступ злого веселья и снова заговорил «под Ленина», чему, видно, учился по фильмам и картинам. — Все, что вы прочли в письме, — ложь от первого до последнего слова. Он не имеет права вмешиваться в частную жизнь окружающих!
«Господи, — подумала Лида, — чудовище Франкенштейна критикует своих создателей! Хотя Франкенштейн здесь ни при чем. Ленин сам обрек себя на бессмысленное повторение жизни».
— Он не знал, — продолжал Фрей, потирая сухие ладошки, — он не знал, что я готов к великим действиям, — я умею ждать! И вы еще пожалеете о том, что держали меня взаперти.
— Что, броневик подали? — Лида не удержалась от сарказма.
Он сначала не понял, а потом принялся хохотать, закидывая голову. В горле булькало и тоненько клокотало.
— Это смешно! — заявил он, отхохотавшись. — А теперь за стол, моя дорогая, за стол! И вы узнаете немало нового, да-с! Нет-нет, сначала надо помыть руки! Вы помните, где туалет?
Это было необычное в устах Фрея предложение, но он весь был в тот день необычен — мальчик, обретший волю, когда родители отъехали на дачу.
Лидочка послушно пошла в ванную, отделенную от кухни кривой перегородкой, а Фрей, обогнав ее, поспешил к плите снять кипящий чайник, и в последний раз Лида увидела его у плиты; солнце светило в окно, ярко отражалось в желтоватой, как старый бильярдный шар, лысине и ореолом подсвечивало седой пух над ушами.
Лидочка закрыла за собой дверь в ванную и пустила воду. Видно, из-за того, что шумела вода, она не услышала, как он закрыл дверь снаружи на засов.
Лидочка мыла руки и ни о чем особенном не думала, у нее была пустая, легкая голова. Она лишь знала, что хочет поскорее уйти из этого дома.
Потом, уже вытираясь, она отметила, что дети перестали плакать. Наверное, заснули.
Она дернула дверь. Дверь не открылась.
Дверь была старая, плотная, дореволюционная.
Еще не сознавая, что случилось нечто неприятное, Лидочка подергала за ручку.
Никакого эффекта это не дало.
Лидочка потянула дверь сильнее.
— Эй, — сказала она негромко, — я захлопнулась.
Кроме себя, она в этот момент никого не винила.
— Эй! — крикнула она погромче. — Фрей!
И тут она поняла, что не знает, как зовут нынешнего Ленина. Но, вернее всего, ему привычно откликаться на традиционное обращение.
— Владимир Ильич, отворите, пожалуйста!
Лидочка услышала смех. Совсем близко, словно он подслушивал у двери.
— Вы здесь?
— Здесь, голубушка.
— Так откройте же!
— Не открою.
— Я сломаю дверь! Предупреждаю, я сломаю эту чертову дверь! — Лида ничего не понимала. Почему ему вздумалось с ней шутить, да еще в такой момент?
Так как он не отвечал, она принялась колотить в дверь кулаками, но дверь даже не задрожала, а кулакам стало больно. Лида прекратила стучать и прислушалась.
За дверью лилась вода. Словно Фрей решил помочиться. Это поразило Лиду. Она отступила от двери: «Фрей ненормален. Может быть, он — сексуальный маньяк? Сейчас он ворвется… Чем-то надо вооружаться…»
Но она не вооружилась, потому что принюхалась — ей показалось, что она улавливает запах керосина. И не успела подумать, с чего бы вдруг в ванной пахнуть керосином, как лужица, сотворенная Фреем, несмелым язычком устремилась в сторону Лидочки.
Лида вела себя как любопытная кошка — присела на корточки, принюхалась, потом даже коснулась пальцем лужицы и убедилась окончательно, что Фрей мочится керосином.
— Сейчас, — послышалось из-за двери. — Вы потерпите, Лидия. Это совсем не больно. Две-три минуты — так меня убеждали знающие люди.
И тут Лидочка очнулась от шока. Она вскочила и закричала:
— Вы с ума сошли! В доме дети!
— Вот именно, товарищ Лидия, — прокартавил Владимир Ильич. — Все у меня отлично продумано. Планирование заняло годы, вы меня слышите?
— К сожалению, слышу и с каждым моментом все больше убеждаюсь, что вы — псих. Но что вы хотите сделать? — Лида уже догадалась, хотя не смела себе признаться, что Фрей хочет устроить пожар, в котором ей уготована роль Жанны д'Арк.
— Я хочу ликвидировать это логово. И всех, кто в курсе дела.
Лидочке был отлично слышен его надтреснутый, но сильный голос.
— Я ждал этого шанса долгие годы, а годы, скажу я вам, — невосполнимы. Кто знает, сколько лет теперь отпущено мне, чтобы завершить начатое и исправить чужие архиглупости?
— Вы хотите заняться политикой?
Лужица керосина расширилась во всю щель под дверью, а внутри ванной разбилась на потоки. Воняло отвратительно.
— А вы уже списали меня со счетов? Нет, нет и еще раз нет! Именно сейчас, когда с каждым днем ухудшается положение трудящихся масс, народ требует не только и не столько экономических реформ, сколько восстановления социальной справедливости. Но у него нет опытного, закаленного в партийной деятельности вождя.
— То есть вас! — Лида хотела сказать это иронично, но голос сорвался. Она жутко трусила, потому что Ленин-2 был убедителен, как будто уже говорил с броневика.
— Вот именно — меня. И не смейтесь. Я имею все шансы выполнить мою историческую роль. И я ее выполню. У нас уже есть организация. Уже готовы списки. Для начала, голубушка, мы расстреляем пятьдесят тысяч так называемых демократов.
— Но я-то при чем?
— Вы — случайная пешка, которую сдуло с доски порывом ветра.
— Тогда перестаньте издеваться и выпустите меня!
— Не могу, честное слово, не могу. И это не зависит от моих личных симпатий и антипатий. Вы невольно встали на пути исторического детерминизма и погибнете.
— Но почему? — «Я задохнусь от этого керосина», — ужаснулась Лидочка.
— Потому что никто не должен знать о моем прошлом. Иначе я могу показаться обывателю монстром. Я же должен быть человеком-загадкой, воскресшим из мертвых, быть, простите за банальную цитату, «живее всех живых». И тогда я вторично спасу многострадальную Россию.
Все это звучало напыщенно и — главное — пародийно. Ленин старался показаться Лениным. Но тем не менее Лидочке было так страшно, что ее тошнило.
— Судьба заставила меня страдать и ждать в этой дыре. В прошлой жизни я объездил всю Европу, жил на лучших курортах. Теперь же вся моя заграница — ха-ха-ха! — туристическая поездка в Болгарию десять лет назад.
— Зато теперь перед вами открыт путь в шоп-тур, в Швейцарию! — Лидочка была в бешенстве.
— А вот издеваться я вам не позволю! Я уничтожал и буду уничтожать ничтожных лицемеров и критиканов.
— Вы имеете в виду детей?
— Это не дети, не дети! Это выродки! Это чудовища. Они питаются сгущенкой.
Зазвонил телефон. Лидочка с пустой надеждой прислушивалась к звонкам, словно по телефону могли приказать старику, чтобы он прекратил безобразничать.
— Владимир Ильич!
Ответа не было. Лидочка попробовала приподнять дверь в петлях — может, соскочит. Дверь сидела твердо. Лидочка так увлеклась забавами в духе Монте-Кристо, что вздрогнула, услышав сквозь дверь картавый голос Ленина:
— Вы еще живы, голубушка?
— И надеюсь прожить еще сто лет, — сообщила Лидочка.
— Тогда слушайте и не перебивайте. У меня все готово. Я начинаю операцию, которая призвана спасти Россию от гибели и распада. Я беру власть в свои руки.
— В пределах Садового кольца? — Лидочка была ужасно зла на наследника всех вождей.
— Там посмотрим. — Ленин говорил быстро, отчего картавил более обычного. — Вас это уже не коснется. Я, к сожалению, вынужден убрать лишних свидетелей. Тех, кто может мне реально помешать.
— Кого же?
— Я сегодня час, нет, два часа назад убил вашего друга Сергея Борисовича.
— Вы врете!
— Нет, даю вам слово коммуниста. Я был вынужден его уничтожить, несмотря на то что долгие годы испытывал к нему почти сыновние чувства. К счастью, сделать это оказалось нетрудно. Я прошел к нему в палату. Они даже не догадались, от чего он на самом деле умер. Они уверены, что это — сердце!
— Но вы же врете?
— Не надейтесь. Теперь, когда я добровольно признался в уголовном преступлении, ваша судьба решена. Одного вашего слова достаточно, чтобы они выкопали труп Сергея и провели эксгумацию. Моя репутация висит на волоске.
— Я не скажу! — лживым голосом вякнула Лидочка.
— Дура, при чем тут скажешь или не скажешь! Ты все равно сейчас готова меня обмануть. Чтобы спасти свою ничтожную жизнь. А вот я за жизнь не держусь. Главное для революционера — репутация, главное — чистые руки.
— Я вам не поверила, вы никого не убивали.
Лидочка врала неубедительно, и Фрей это понимал.
— Поверила, мамочка, — сказал он. — Таких, как ты, мы ставили к стенке в семнадцатом!
— Вы насмотрелись революционных фильмов.
Фрей шумно вздохнул. Словно устал от спора.
Потом наступила тишина.
Тишина была наполнена действием, беззвучными движениями — Фрей что-то делал.
Вдруг сказал:
— Черт побери, это же не спички, а сырые дрова. Вот именно, сырые дрова!
Он пронзительно засмеялся.
— Вам никто не поверит! — в отчаянии закричала Лидочка. — Все знают, что Ленин давно умер.
— Поверят, куда денутся! У нас на Руси всегда верили в чудеса. У нас любой юродивый или… как их там… экстрасенс может повести население Москвы в речку, подобно крысолову. Вот так, голубушка!
Снова чиркнула спичка, и раздался торжествующий возглас Фрея:
— Ура! Прощайте, Лидочка! Прощайте и простите старика!
И затем по коридору, удаляясь, застучали его ботинки на высоких каблуках.
Лидочка дернула дверь и тут увидела, как робкий огонек скользнул в щель и тут же в мгновение ока потерял робость и кинулся к ней, охватывая желтым заревом лужу керосина, набежавшую под дверь.
Лидочка хотела было затоптать керосин, но, к счастью, поняла, что это — самоубийство.
Она оглянулась. На крючках висели махровые полотенца и махровый синий халат Сергея, который она и выбрала в качестве главного огнетушителя, потому что помнила, что водой заливать керосин недопустимо.
Лидочка кинула халат на керосиновую лужу и, скинув туфли, начала топтать его — ее попытка оказалась удачной, потому что лужа была, в сущности, невелика. Но керосин пылал за дверью, и казалось, что уже слышен треск разгорающегося пожара. Лида начала срывать полотенца и затыкать ими щель под дверью — халат пропитался керосином, намок, и она бросила его в ванну, ощущая глупое чувство победы.
Лидочка заткнула ванну и пустила холодную воду: нельзя или можно, но вода не горит — пускай она потечет под дверь, отгоняя пожар. Ей было куда менее страшно, чем вначале, потому что она действовала. Но все же она понимала, что должна выбраться отсюда — обязательно! Даже не только ради себя, но и ради детей: ведь Фрей был совершенно серьезен, когда утверждал, что вынужден убить и детей — очевидно, не как свидетелей, но как доказательства существования гормона Би-Эм.
За дверью шумело. Трещало. Там был пожар — Лидочка приложила ладонь к двери, она была теплой.
Лидочка стала молотить в дверь кулаками.
Она молотила, кулакам не было больно, но шум пожара становился все сильнее, и тогда Лида направила в дверь струю душа… Стало трудно дышать.
— Я не хочу! — закричала она и сама удивилась тому, что это — ее голос.
Она колотила стену над ванной — там должны были быть фотографы, но их не было.
Лидочка крутила головой в поисках выхода; сунулась под ванну — подумала, что там может таиться подземный ход с дореволюционных времен, но под ванной был цементный пол. Потом она взобралась на край ванны, рванула на себя и выдернула вентиляционную решетку, но отверстие было слишком мало, чтобы просунуть туда хотя бы голову.
В ванную лез дым — черный, удушающий, горячий, ел глаза и мешал дышать. Лидочка вопила, прижав рот к вентиляционной решетке: она хотела протиснуться в нее, стать маленькой — мышкой, птичкой, она уже превращалась в птицу — лишь бы вырваться из смерти, которая осязаемо схватила ее и пыталась сожрать.
Лидочке показалось, что она поднимается и летит в темной трубе вентиляции… Но тут по ней ударили холодной могильной плитой — то ли хотели покрыть, то ли пожалели и дали полежать на прохладном…
— Лида! Ты что, Лида! Ты не помирай, мать твою! — Кто-то кричал Женькиным голосом и мешал Лидочке отдыхать, да еще стал тащить и переворачивать. Только все хорошо кончилось, только она отлежалась и начала приходить в себя — а тут тащат. Лидочка отбивалась, но не очень удачно, потому что они были сильнее и в конце концов ее вытащили — и не один человек, а двое. Лида кашляла, отбивалась от них — чуть не погибла, а уж окончательно пришла в себя, когда эти наглецы, мучители и палачи, сунули под нос нашатырь. Она открыла глаза, слезы катились градом, все в тумане, красная пожарная машина чуть не наехала на нее: когда уже они не нужны — то появляются, давят невинных людей. Милиционер, который, оказывается, ее откачивал, стал материть пожарников, тянувших кабель. Лидочка к тому времени пришла в себя настолько, что успела увидеть, какой славный факел получился из особнячка, так что, когда Сергей вернется из больницы, он жутко расстроится: там все книги, и его картотека, и гормон Би-Эм, и письма Галины — вся материальная сторона его жизни. И тут Лидочка поняла, что если Ленин не врал, то Сергея нет в живых, и она стала громко спрашивать:
— А как Сергей? Скажите, как Сергей? Он его не убил?
Женька, которая сидела рядом с Лидочкой на корточках, была похожа на грязную негритянку — то есть негритянку, которая красила забор белой краской, а может быть, на Женьку, которая черной краской… в голове путались самые обыкновенные мысли, и Лидочка физически ощущала, как они цепляются острыми краями друг за дружку.
— Ты чего? — удивилась Лидочка. — Тебе надо умыться.
Тогда Женька начала реветь. Полухвостый кот Сергея подошел к ней и стал тереться о ее коленку. Откуда-то с неба спрыгнул доктор в белом халате. У него было глупое лицо.
Все объяснилось на следующий день. Первого же дня не было — его сожрали уколы. Лидочка просыпалась, с кем-то говорила и все ждала, чтобы ее оставили в покое. К счастью, ожоги оказались незначительными, у Лидочки был шок и отравление дымом. Ночью она очнулась настолько, что перебудила все отделение, требуя, чтобы спасали Сергея Борисовича, которому грозит гибель.
Фрей рассчитал свою операцию точно.
В больницу вошел пожилой человек с бородкой, похожий на Ленина, но для людей, его не знающих, — на врача. Тут же, в гардеробе, он облачился в белый халат и уверенно направился в блок интенсивного наблюдения, куда в той больнице помещали больных на день или два, переводя из реанимации в общую палату. Фрей появился в отделении в пересменку, которая падала на мертвый час, в коридоре было пусто, а если кто и встретился ему, то не заметил старого доктора. Фрей вошел в палату, присел на стул, о чем-то поговорил, дал Сергею напиться. В поилке уже был растворен цианистый калий. Убедившись, что его воспитатель и опасный свидетель умер, он тщательно вымыл поилку под струей воды в умывальнике.
Потом, не тратя времени даром, возвратился домой.
Там он заманил в ванную Лидочку и запер, зная, что в фотографической половине особняка никого нет. Затем быстро прошел в свою комнату, к младенцам, которых девицы привезли с прогулки, покормили и уложили спать. Младенцев он задушил. Фрей предпочел не рисковать. Облив комнаты керосином, он ушел. Он был уверен, что Лидочке не выбраться, а от младенцев ничего не останется.
Хоть младенцы ему и надоели и терпел он их лишь по настоянию Сергея Борисовича, их Фрею было жалко; однако существование детей и, возможно, какие-то их дьявольские способности подставляли самого Фрея под удар. Может, и не сегодня, а через год они расскажут что-то опасное. Да и вообще — есть младенцы, есть подозрения, есть поиски. Нет никого в сгоревшем домике — о пожаре скоро забудут. Он полагал даже, что Женька с Ларисой не посмеют рассказывать о своих подброшенных старику уродах.
Фрей ушел спокойно, убежденный, что Лидочка сгорела как жертва исторической необходимости. Он купил в ларьке банку пива «Гиннесс», чего раньше себе даже на радостях не позволял, открыл и выпил, сидя в скверике. Горящий особняк был не виден. Пожарные проезжали другим переулком.
Первой затревожилась Женька. Может, потому, что была в том районе и собиралась заглянуть к своему малышу.
Она шла по улице и увидела дым.
Она побежала. Дым вырывался из комнаты, в которой жил Фрей. Она решила было, что Фрей заснул, не заметив, что случился пожар.
Женька кинулась в дом. К счастью, у нее был с собой ключ. Ключ пригодился, потому что, уходя из дома, Фрей аккуратно запер входную дверь.
Женька пробежала в комнату Фрея и увидела, что младенцы лежат в своих кроватках спокойные и мертвые. В комнате было дымно, занялась мебель. Женька, задыхаясь и все еще ничего не понимая, раскрыла окно, вынесла через него мертвых малышей. Тут прибежали и другие люди, стали помогать Женьке. Женька вернулась в дом и стала искать Фрея. Она решила, что он потерял память. Она даже не поняла еще, что ее сыночек мертв. Когда Женька бегала по заполненному горьким дымом дому, она услышала стук и догадалась, что он доносится из ванной. Потом стук прекратился, но Женька все равно добралась до ванной и вытащила Лидочку. Она вынесла Лидочку — люди подхватили ее — и хотела снова кинуться внутрь, но больше Женьку не пустили, а тут уж подъехала пожарная машина.
Женька принялась откачивать своего ребенка, но безуспешно.
Потом она сердилась на Лидочку, так как в глубине души была убеждена, что не вернись она за ней в горящий дом, то успела бы спасти своего младенца.
Если бы Лидочка сгорела, никто не заподозрил бы Фрея. Ну, жил старичок и сгинул. В наши дни многие старички пропадают.
Следователь допрашивал Лидочку долее других, от остальных совсем не было проку.
Конечно же, Лидочка не делилась со следователем своими подозрениями о происхождении Фрея. А девицы о нем и не знали.
В остальном она рассказывала все как было.
Следователь послушно записывал, он был неласков — ему хотелось бы отправить Лидочку на психиатрическую экспертизу, но оснований к этому не было. К тому же вскрытие показало, что Сергей Борисович в самом деле был отравлен, а дети сначала задушены, затем облиты керосином. Следовательно, Лидочка говорила правду?
Но трудно было поверить в столь злобного старика. Он ведь не числился ни в милиции, ни в собесе. И бумаг Сергея Борисовича не сохранилось.
Женька считала, что в наши нелепые дни старик обязательно вылезет — в Томске или Минске. Поведет за собой людей — у него же такой характер!
Лидочка боялась, что Фрей вернется добить ее. Даже вставила «глазок» в дверь.
Ларису Лидочка больше не видела. И не узнала, был ли второй младенец ее сыном, или это какой-то гений недавнего прошлого, старавшийся избежать смерти.
Глава 4
Март 1992 г
В начале февраля Андрею Берестову позвонил из Питера Костя Эрнестинский. Они были едва знакомы, встретившись лишь однажды, на семинаре по научно-популярному кино в Репине. Андрей попал туда случайно, после неожиданного успеха фильма «Миг истории», снятого по его книге, и чувствовал себя в Доме кинематографистов неловко, как человек, который пришел на банкет без билета и опасается, что его разоблачат и выведут. Костя Эрнестинский, «многогранная звезда», как называла его пампушка-хохотушка Ниночка Беркова, приехал в Репино в числе организаторов, занял три номера, потому что привез с собой компьютер с принтером, совсем новенькую, очень беременную жену, а также взрослую дочь от одного из первых браков, которая разошлась с мужем и, прежде чем заняться поисками следующего, немного переживала разрыв.
Как-то, на третий или четвертый день семинара, поздно вечером Эрнестинский встретил Андрея в коридоре, когда тот шел в холл, к телевизору, посмотреть ночные новости.
Эрнестинский знал по именам, фамилиям и занятиям всех горничных, официанток, шоферов и истопников Дома творчества. Ко всем он был одинаково расположен и равнодушен.
— Прости, Берестов. — Костя Эрнестинский одарил Андрея обаятельной улыбкой и погладил себя по выпуклому животу. — Андрюша, у тебя, конечно же, нечего выпить? Правда ни капли?
Эрнестинский колдовал, потому что надежд на выпивку не оставалось — был двенадцатый час и бар уже закрылся.
— У меня что-то есть в холодильнике, — ответил Андрей. — Я сегодня ждал гостей, а они не приехали. Так что бутылка там неоткрытая.
Андрей говорил виновато — неловко показаться странным человеком, который держит в холодильнике непочатую бутылку. Сам себе кажешься извращением.
— Замечательно, — ответил Костя, стараясь ничем не спугнуть небывалого счастья. — Я тебе завтра принесу две бутылки. Первым делом добегу до станции и принесу тебе две бутылки. А если хочешь — три.
— Не надо две, — ответил Андрей. — Дверь ко мне открыта, бутылка стоит в холодильнике. Номер двадцать третий.
— Знаю, — сказал Костя. — Спасибо тебе.
Андрей продолжил путь к телевизору. Когда возвратился к себе, заглянул в холодильник — бутылка исчезла. Костя здесь побывал.
На следующий день было воскресенье, магазин закрыт, а в баре продавали только плохой коньяк по астрономическим ценам. Потом семинар изжил себя, и все стали разъезжаться. В среду уехал Костя — за ним прибыл «рафик», куда и погрузили технику и две семьи.
Разумеется, бутылку Костя не возвратил. Забыл. Он был очень занят. К тому же ему требовалось много бутылок: ему, собутыльникам — тут уж несложно сбиться со счета. Андрей на него не обижался, тем более что его гости, к счастью, так и не приехали.
А почти через год, в феврале 1992 года, Костя Эрнестинский позвонил Андрею из Питера и сразу спросил:
— Андрюш, у тебя загранпаспорт выправлен?
— Выправлен, — ответил Андрей.
Он еще осенью оформлял паспорт на конгресс археологов в Будапешт, но конгресс лопнул, будучи частью системы социализма. А паспорт остался.
— Считай, что нам с тобой повезло, — сказал Костя. — Завтра Алеша Гаврилин едет ко мне в Питер, передай ему паспорт, добро?
— Погоди, — попросил Андрей, чувствуя, что Костя готов повесить трубку. — А что случилось?
— Провожу круиз, — просто ответил Костя. — Скандинавская общественность кипит желанием помочь свободному русскому народу. Создаем Балтийское кольцо — прогрессивная интеллигенция намерена взяться за руки. Частично оплачивают шведы. Частично подкинет валюты Оскар Бегишев. Ты с ним знаком?
— Нет.
— Ну, тогда познакомишься. Славный человечек.
— А когда круиз?
— С первого по двенадцатое марта. Подробности Алеша Гаврилин изложит при встрече.
Лидочка, узнав о разговоре с Эрнестинским, предположила, что тем руководил комплекс вины. Таким образом Эрнестинский хочет отплатить за Андрюшину доброту. Почему-то Андрею такое объяснение пришлось не по вкусу, словно его обвинили во взятке, о чем он и заявил Лидочке. Лидочке стало смешно, она не успела выключить кофе, и тот убежал. К счастью, именно тут позвонил Алеша Гаврилин, который сказал, что проезжает мимо и готов заехать за паспортом Андрея, а тот так растерялся, что не успел возразить.
Алеша приехал через пять минут, большой, мягкий, добрый, и в ответ на возражения Андрея тут же стал уговаривать его, обращаясь к Лидочке: «Ведь начало марта, шелковый сезон, никакой толкучки, бесплатно и в доброй компании…» Лидочка ответила, что она не возражает, даже рада, если Андрей развеется, а то он с утра до вечера пишет свою монографию, словно человечество стоит на ушах в ожидании этого труда.
— А ты, Лидочка? — спросил Гаврилин голосом, известным стране более, чем голос Высоцкого, потому что Алеша зарабатывал переводом видеокассет, делал это легко и, главное, грамотнее прочих переводчиков.
— Ты же знаешь, что я при всем желании не могла бы сейчас вырваться из редакции…
Андрей провел арьергардный бой:
— Если бы не эта чертова бутылка…
Оказывается, Гаврилин не подозревал о существовании бутылки. Узнав, он принялся сдержанно и приятно смеяться.
— Костя мог не вернуть бутылку по рассеянности. Но только хорошему, приятному человеку. Всем мерзавцам он отдает долги в срок. Так что ты ставишь телегу поперед лошади.
Андрей достал паспорт и отдал Гаврилину.
Следовательно, бутылка, желали того действующие лица драмы или нет, провисела на стене три действия, чтобы выстрелить в четвертом.
К трем часам Андрей приехал на стрелку Васильевского острова, к тяжелому, претенциозному новому зданию морского вокзала. Нос теплохода «Рубен Симонов» высовывался из-за здания, словно теплоход спрятался там и затаился, играя со своими будущими пассажирами.
Солнце разогрело воздух, и истоптанный грязный снег на подъезде к вокзалу растаял, превратившись в кашу, глубина которой зависела от неровностей асфальта, так что автобусы и машины, подъезжая к входу, поднимали густую волну, а пассажиры выбирались как могли — тут уж все зависело от милости шоферов.
Андрею было проще прочих — он приехал на такси. Чемодан его был нетяжел, Андрей остановился у дверей, пропуская пожилую чету ленинградских интеллектуалов — вернее всего, участников того же мероприятия, что и он сам. Затем внимание Андрея привлек небольшой автобусик «Тойота», который разбежался было к вокзалу, но тут его водитель, видно, испугался за белизну стенок машины, а может быть, испугался скрытой под снежной жижей ямы, и автобусик затормозил так далеко, что целое море снежного крошева отделило его от дверей вокзала.
Дверца фургона отъехала назад, и оттуда вылез человек в длинном черном пальто и кепке, по движениям которого, по осторожности, с какой он водил ботинком над асфальтом, прежде чем опереться на ногу, Андрей понял, что он уже стар.
Совершенно нельзя объяснить, почему Андрей стоял и смотрел на того человека, почему именно его выделил из десятков других пассажиров. Глаза в таких случаях решают за тебя.
Человек наклонился вперед, внутрь фургона, вытягивая на себя чемодан. Чемодан оказался кожаным, пузатым, туго набитым и, видно, тяжелым. Поставив чемодан на мокрый асфальт, человек вновь наклонился вперед, вытаскивая из фургона что-то еще.
Видно было, что ему трудно дотянуться до нужной вещи, оставленной в фургоне, но вновь забираться в фургон старику не хотелось, а водитель, смутно видный Андрею, сидел неподвижно, не желая помочь пассажиру. Наконец старик выпрямился. Оказывается, он добывал большой черный зонтик, нескладной, с длинным острым штырем. Фургон тут же рванул с места и укатил, а старик остался на берегу снежной лужи и почему-то занялся проверкой зонтика: он раскрыл его, поднял над головой, а затем принялся закрывать.
Поднялся ветер и потянул за собой зонтик, словно парус. Мужчина был вынужден сделать несколько шагов, подчиняясь велению ветра, и в этот момент Андрей потерял его из виду, потому что между стариком и вокзалом деловито и быстро прошел высокий человек в камуфляжной куртке и армейской каскетке. Он прошел, не останавливаясь, и, когда удалился на несколько шагов, Андрей понял, что в картинке, которую он разглядывает, не хватает детали — чемодана. Чемодан старика почему-то оказался в руке мужчины в зеленом полушубке. Все это произошло столь гладко и тихо, что Андрею показалось, будто он наблюдает за встречей двух агентов в шпионском фильме: один из них оставляет чемодан, а второй подбирает, будто это его собственный чемодан.
То, что чемодан украли, Андрей понял, лишь когда старик, закрыв зонтик, обернулся к чемодану и, не обнаружив его, быстро завертелся на месте, не в силах сообразить, что же произошло.
В следующий момент Андрей побежал за мужчиной в зеленом полушубке, так как не сомневался, что это — вокзальный вор. Почему-то ни Андрей, ни владелец чемодана не кричали и вообще не производили никаких звуков, так что люди, занятые своими делами и своими вещами, эту сцену в большинстве своем пропустили или не придали ей значения.
Вор был готов к опасности — он издали услышал, как шлепает по лужам, разбрасывая брызги снежной каши, его преследователь.
Вор побежал от вокзала наискось, к глухому забору, в котором была видна щель — вернее всего, маршрут этот был им отработан. Так что Андрей понимал, что догнать вора ему надо будет до этой щели.
К сожалению, он побежал прямо через лужу и через два шага уже влетел по щиколотки в жижу, промок, а главное, замедлил бег. Но вор тоже бежал не быстро. Видно, он не рассчитывал, что ему попадется такой тяжелый чемодан.
Андрей выбрался на сухое место и побежал изо всей силы. Он видел только спину — широкую прямую спину вора. Какая-то машина взвизгнула тормозами, объезжая Андрея, сквозь стук собственных шагов и гул в ушах донесся крик…
Андрей догнал вора у самой щели в заборе. Он не мог сообразить, как его остановить, и потому, догнав, сильно — по крайней мере самому показалось, что сильно, — толкнул его в плечо, и вор на бегу, не выпуская чемодана, обернулся, покачнувшись, и, задыхаясь, зарычал — он, видно, хотел пугнуть Андрея, но сбилось дыхание.
— Да отдайте же вы!.. — крикнул Андрей, ему тоже не хватило дыхания — последнее слово ушло в никуда.
Вор побежал снова, еще быстрее, и Андрей в отчаянном прыжке схватил его за рукав той руки, в которой был чемодан. Это заставило вора остановиться. Сцепившись, они завалились, теряя равновесие, на бок, но не упали, помешал чемодан. Вору надо бы отпустить чемодан, но он вместо этого ударил Андрея свободной рукой. Андрей почувствовал удар, но боли не было, а было отчаяние, что рукав куртки вот-вот выскользнет: трудно удерживать за рукав вора — такого молодого и здорового парня!
Вор ударил еще и еще. Почему-то не ощущая боли, Андрей постарался схватиться за ручку чемодана… и тут он увидел нож — нож выскочил откуда-то сам. Вор вроде бы его и не вытаскивал — когда же? Он бил той рукой Андрея. Нож был очевидной глупостью — ну кто же машет ножом перед носом…
Наверное, к счастью для Андрея, рукав все же выскользнул из его пальцев, и вор не смог ударить его ножом, потому что, неожиданно освободившись, он почти упал назад и попытался выпрямиться, удержать равновесие и тут же побежал дальше. Андрей, упав на колени, обессиленный схваткой и, главное, неудачей, смотрел вслед и видел, как сверкает нож в правой руке вора. И знал, что ему уже не подняться вновь и не побежать за вором — поздно…
Грубо, словно кошку, его отбросил с дороги коренастый, квадратный человек, форма которого подчеркивалась плечами кожаной куртки. От этого голова его казалась столь маленькой, будто попала на такие плечи по недоразумению.
Вор уже почти скрылся в щели, когда квадрат в кожаной куртке догнал его, и они исчезли за забором вместе, как буйвол со львом, вцепившимся ему в загривок.
Андрей понял, что все еще стоит на коленях. Он поднялся, опершись ладонью на мокрый, обледенелый в том месте асфальт.
Светило солнце. Из щели в заборе вышел квадратный молодец в кожаной куртке, он был пострижен под бобрик, глаза у него были светлые, почти желтые. Он нес в руке чемодан, и видно было, что ему чемодан совсем не тяжел. Молодец прошел рядом с Андреем, не заметив его, и Андрей понял, что голова молодца способна вместить лишь одно событие зараз. Андрей обернулся, глядя в спину молодца. Впереди, в отдалении, к молодцу спешил тот самый старик в длинном узком черном пальто и кепке. У него было знакомое лицо — и не потому, что Андрей видел, как он выгружал чемодан из «Тойоты», нет, он видел его где-то раньше.
Рядом со стариком шагал еще один мужчина — он был толст и шикарен, как могут быть шикарны крупные толстяки, умельцы поесть и выпить, любимцы женщин, которые липнут к ним, но легко покидают, разочаровываясь в их мнимой широте и пустом самохвальстве.
Квадратный молодец поставил чемодан на асфальт рядом со стариком, тот наклонился, проверяя замки. Тем временем толстяк разговаривал с молодцем, и тот в разговоре махнул рукой в сторону забора, возле которого еще стоял Андрей. Андрей не шел вперед, потому что ему неловко было вмешиваться в чужую жизнь либо выслушивать благодарности. Ведь ему все равно ничего не удалось сделать — хорошо еще только брюки промочил да получил пару раз по физиономии.
Толстяк сделал знак рукой, и квадратный молодец подхватил чемодан. Толстяк пошел впереди, у него было шикарное пальто, которое должно было бы скрывать его полноту и в то же время придавало его фигуре некоторую величавость, как мантия, подбитая горностаем, красит любого короля. Старик в кепке шел на шаг позади и старался догнать толстяка, опираясь на зонт, как на трость. Замыкал шествие молодец с квадратными плечами — он нес чемодан.
Они обошли лужу стороной и остановились у вишневого «Мерседеса», перед которым уже стояла полная женщина в манто.
«Какого черта, — подумал Андрей, — я стою и рассматриваю этих людей?» Наверное, потому, что эта группа состояла из особей совершенно несоединимых, и потому, что эти люди повели себя неправильно — хоть кто-то из них должен был подойти к Андрею и поблагодарить его. А его просто не заметили.
Промокли не только брюки, почему-то был мокрым рукав куртки.
«И дернул меня черт бегать за чемоданами».
Ему вдруг захотелось пройти туда, за угол, — ему показалось, что вор, может быть, лежит там мертвый. Нет, не надо, это шалит воображение. Но Андрей подсознательно боялся, что окажется прав.
Он пошел к вокзалу, надеясь, что никто не присматривался к его приключениям, и даже почувствовал облегчение от того, как, завидев его издали, Алеша Гаврилин попросил помочь разгружать «рафик», в котором из Союза писателей привезли тюки с какими-то буклетами и бумагу для ксерокса. Им помогали еще два писателя; одного из них, Кураева, написавшего недавно тонкую, щемящую повесть «Капитан Дикштейн», Андрей встречал в прошлый приезд в Питер, и они обрадовались друг другу. Кураев даже предложил поселиться в одной каюте, но Андрей уже знал, что по внутреннему расписанию он будет жить вместе с Алешей Гаврилиным. На это Кураев вовсе не обиделся, но спросил, глядя на мокрые брюки Андрея:
— А сюда ты на коленях приполз?
И тут Андрей в ужасе вспомнил о своем чемодане. Ведь он оставил его перед подъездом! И если чемодан исчез, то ему придется возвращаться домой — к сожалению, невозможно отправиться в десятидневный круиз вовсе без багажа.
Не ответив Кураеву, Андрей сунул ему в руки тюк бумаги и кинулся к дверям. Чемодана не было…
Андрей и не ожидал его увидеть. Он стоял, глядя под ноги, и ему хотелось сардонически улыбнуться, потому что он как дурак бегал за чужим чемоданом, позабыв о своем… Тут кто-то воскликнул с раздражением:
— Товарищи, но нельзя же так!
Оказывается, пассажир, который волок за собой двухколесную тележку с громадными полосатыми сумками, привязанными к ней, налетел на чемодан Андрея, который стоял на самом ходу перед следующей дверью.
— Простите! — крикнул Андрей владельцу полосатых сумок и кинулся к своему чемодану. Тут его догнал Кураев, который прижимал к груди картонную коробку, и проницательно произнес:
— По-моему, твой чемодан уже занял очередь на таможню.
И Андрей услышал, как вторит добродушному смеху Кураева.
Распределение благ происходило в холле главной палубы, куда попадали, перейдя по мостику, соединявшему ее с верхним этажом вокзала. Холл казался перенесенным сюда из большого, но недорогого отеля. Организаторы конференции кучковались за широкой лестницей, что вела наверх из центра холла. Там, за барьером из стульев, громоздились коробки, ящики и стопки еще не растащенного по каютам имущества. Громогласные дамы, обязательно состоящие при любой конференции или симпозиуме, шустро распаковывали пачки и пакеты, распарывали коробки, составляя наборы предметов.
Отстояв оживленную пятнадцатиминутную очередь — место ожидаемых встреч и нечаянных знакомств, — в которой он чувствовал себя самозванцем, потому что она состояла из людей, часто и привычно участвующих в подобных мероприятиях общественного свойства и потому между собой хорошо знакомых и совместно предвкушающих очередное нетрудное путешествие, Андрей сдал паспорт на регистрацию и получил папку с блокнотом, круглым значком, шариковой ручкой и расписанием деятельности конференции по секциям. И еще ему дали квиток с номером 430 — ключ к этой каюте следовало получить у администратора.
Обогащенный и признанный своим Берестов покрутил головой в поисках Алеши, но того нигде не было видно, так что он отправился к стойке, получил ключ, а потом отнес чемодан в каюту.
Каюта была на той же главной палубе, отданной, как Андрей узнал, делегатам конференции и ее спонсорам, тогда как на других палубах обитали просто пассажиры — туристы, отправлявшиеся в такой вот неудачный по времени, вне сезона, зато недорогой круиз. Шагая по коридору в поисках каюты, Андрей вспомнил пожилого человека в кепке и всю историю с его чемоданом, и снова ему стало страшно от мысли, что вор остался там лежать… Ну почему тебе в голову лезут тревожные мысли? И что положено делать цивилизованному человеку, который стал участником борьбы за чужую собственность? Сообщить милиции, чтобы та поглядела за забором? Сообщить о своих туманных подозрениях капитану корабля? Любопытно устроен человек: ведь пока проходили таможню и погранконтроль, Андрей, хоть и помнил о мокрых брюках и ботинках, хоть вытер платком мокрое лицо, проверив, не повредил ли его вор, дважды ударив в щеку, выкинул из памяти инцидент и совершенно искренне тревожился — не найдет ли таможенник двух лишних бутылок коньяка в чемодане, не заглянут ли в правый карман пиджака, в котором как бы случайно оказались пятьсот долларов. А вот теперь, когда ты уже отрезан от России, сцена у вокзала все настойчивее просыпается в сознании и все более тебя беспокоит…
К дверям кают заранее были прикреплены карточки с именами пассажиров и флажки их стран. Андрей не сразу угадал литовский флажок на соседней каюте, потому что сочетание цветов ему показалось африканским.
К счастью, каюты по левой стороне коридора выходили наружу — они имели самые настоящие прямоугольные иллюминаторы. Каюта оказалась невелика, но удобна. Справа и слева стояли диваны — наверное, их лучше называть койками. Между койками помещался столик — все это напоминало более всего купе в вагоне СВ, если не считать маленького предбанника со шкафами и вешалками и дверцы в туалет и душ слева. Славное место. Оно сразу понравилось Андрею.
Поставив чемодан, Андрей решил, что надо отыскать Алешу.
Дверь к литовцам была открыта, оба литовских интеллигента оказались молодыми, крупными, светловолосыми парнями. Андрей поздоровался с ними. Литовцы внимательно посмотрели на Андрея, но не ответили. Шел бурный процесс национального размежевания, и литовцы не были уверены, могут ли ответить на русское приветствие, а если да, то на каком языке.
Андрей вышел в холл. Очередь не уменьшилась — здесь было самое шумное и оживленное место корабля. Несколько человек толпились у стойки. Ни Алеши, ни того старика не было видно. Может быть, старик с провожавшими его странными людьми направлялся на другой корабль?
По обе стороны от стойки вперед к носу «Симонова» уходили коридоры. В одном из них был магазин. Магазин был валютный, за широким окном лежали зонтики, дамские туфли, кожаные куртки, куклы Барби. Магазин был закрыт, но продавщица — склонная к полноте, привлекательная женщина лет тридцати, с гладко причесанными и разделенными на прямой пробор желтыми волосами — что-то считала на калькуляторе, склонившись над прилавком. Почувствовав взгляд Андрея, она подняла голову. Глаза у нее были светлые, губы полные, улыбка получилась доброй. Женщина сказала так, что по движению губ он все понял:
— Завтра приходите. Принимаю товар.
Улыбнувшись, Андрей кивнул в ответ.
Андрей пошел дальше и тут же столкнулся с Кураевым, который его не сразу увидел, так как был занят разговором с согбенной дамой в толстых очках. Согбенная дама громко говорила на ломаном русском языке о том, как читатели высоко оценили последнюю книгу Кураева. Увидев Андрея, Кураев виновато улыбнулся, как бы прося прощения за то, что его вот так, с первого момента, осаждают иностранные издатели или критики.
— Миша, — спросил Андрей, забыв о деликатности. — Ты не знаешь, где живет Костя Эрнестинский?
— Он сейчас в штабном номере, — ответил Кураев.
— Да, — сказала согбенная дама, оказавшаяся вовсе не старой. — Господин Эрнестинский в номере четыреста шесть.
Штабной номер был двойным люксом. В его гостиной на длинном столе вдоль борта под двумя иллюминаторами стояли дисплеи — перед ними сидели молодые люди, как потом выяснилось, юные родственники Кости: его дочка от первого брака, второй муж этой дочки и сын Кости от первого брака. Все они играючи нажимали на клавиши и заинтересованно глядели на экраны, словно ждали, что оттуда выскочит птичка.
Костя Эрнестинский обрадовался Андрею. Он был искренним и добрым человеком. Он вовсе не притворялся, потому что давно решил про себя, что его собственное мнение о людях никого не интересует и ничего, кроме неприятностей, ни ему, ни людям не принесет. Следовательно, оно должно оставаться вечной тайной, а всем людям надо говорить только приятные вещи и делать для них добрые дела либо вообще с ними не общаться.
Костя потащил Андрея знакомиться со своими родственниками, а также с последней женой, которая кормила грудью младенца, но тут же вспомнил, что они уже знакомы. Жена и дети также вспомнили о том, что знакомы, так что радости Кости не было предела. Он пожелал тут же выпить с Андреем по большой-большой рюмочке, но кормящая жена Ксения категорически возражала, и к ее возражениям присоединилась Бригитта Нильсен — скуластая, почти красивая шведка из оргкомитета, видно, близко знавшая Костю. Ей Костя нужен был для каких-то неприятных разговоров с капитаном «Симонова».
Оказалось, что молодые люди готовят первый номер газеты — конференция в лучших традициях мирового содружества должна была выпускать газету на русском и английском языках, так что все родственники Кости получили не только занятие, но и честное оправдание своему появлению на борту.
— В конце концов, — сказала Андрею очаровательная чернокудрая Дашенька Эрнестинская, — мы с Юликом это делаем не хуже любого другого специалиста.
Андрей не понял, имелся в виду перевод или создание газеты. Впрочем, все они были милыми ребятами, а кормящая Ксения уселась на диван и стала править статью, принесенную Бригиттой.
Эрнестинские рассказали Андрею, что искать Алешу Гаврилина лучше всего в баре «Белые ночи», потому что он намеревался встретиться там с Дилеммой Кофановой, солисткой группы «Райская птица», которая будет веселить участников круиза.
Все немного посмеялись над именем солистки. Потом Андрей вспомнил, как в двадцатые годы в газетах публиковали заявления людей, желавших изменить фамилию. Фамилии тогда меняли как по идейным, так и по эстетическим соображениям. Желтопузов менял фамилию на Ленский, а Нетудыхата — на Толстой. Но как-то Андрею попалось роковое объявление: «Меняю фамилию Иванов — на Троцкий». Все опять немного посмеялись.
Андрей пошел в бар «Белые ночи». Бар был на корме, на одной из верхних палуб, говоря сухопутно — этажа на два выше, чем четвертая палуба. В баре было полутемно и пусто. Белые фонари, которые, видно, должны были символизировать питерские проспекты, висели неподвижно, лучи заходящего солнца пробивались сквозь щели в занавесках и касались блестящих столиков.
Алешу Андрей отыскал минут через десять совсем в другом месте — у стойки администратора.
— Все равно ты бы мимо не прошел, — сказал Алеша. — Пока ты меня искал, я забрал свое имущество. Ключ будем оставлять на стойке, хорошо?
Андрей понял, что получил выволочку за то, что в своем рвении был старателен, но не очень умен.
— Костя послал меня в «Белые ночи» искать тебя с Кофановой.
— Это я так сказал Эрнестинским, чтобы не участвовать в издании стенгазеты. Не выношу самодеятельности, — ответил Алеша. — Дилемма, полагаю, сейчас не в духе. У нее ударника почистили на таможне.
Андрей повел Алешу домой по привычному уже коридору. Достаточно два раза пройти по коридору поезда до своего купе, по коридору теплохода до своей каюты, по коридору гостиницы до номера — и уже возникает чувство дома.
Когда разобрали вещи и устроились, Андрей вышел на палубу.
Надвигался ранний северный вечер, солнце ползло по самому горизонту, лед возле теплохода был в черных полыньях, в которых плавали мелкие льдины. За пределами фарватера лед еще лежал прочно.
— Простите великодушно, — произнес высокий певучий быстрый голос. — Я не имел возможности поблагодарить вас.
Рядом с Андреем стоял человек в кепке, чей чемодан он так отважно и неудачно спасал.
Козырек у кепки был велик, он накрывал лицо тенью. Андрей скорее угадал, чем увидел улыбку. Человек протянул руку. Кисть была узкой и маленькой даже для столь невысокого — Андрею по плечо — человека. Андрею показалось, что он пожимает девичью кисть.
— Иванов, — сказал человек, — Владимир Иванович Иванов. Рад с вами познакомиться. — Он заметно грассировал.
— Андрей Берестов.
— А по отчеству как?
— Андрей Сергеевич.
— Вдвойне приятно.
Этот человек, показавшийся Андрею в первый момент стариком, стариком еще не был. Солнце зашло за облако, легшее на горизонт, и Андрей смог лучше разглядеть своего собеседника. Желтоватая, но не смуглая, а кабинетная по цвету кожа была почти без морщин, лишь в углах глаз сидели паучки, которые вытягивали ножки, когда Иванов улыбался. А он улыбался часто, с готовностью, словно знал, что улыбка оживляет и молодит его лицо. Скуластое лицо, крепкий круглый упрямый подбородок, поседевшие усы. Человек был похож… человек был похож на Ленина. Конечно же, на Ленина. Ему бы приклеить эспаньолку — вылитый Ленин!
— Узнали? — спросил человек радостно. — Меня часто узнают.
— Бороды не хватает. — Андрей не нашел лучшего ответа.
— Смешно говорите, батенька, — сказал Иванов, старательно копируя ленинский говорок. — Владимир Ильич почти всю революцию был бритым. Только об этом забыто. Плохо мы знаем своих героев. Да…
И тут же, словно почувствовав неточность, даже плохой вкус своего монолога, Иванов сменил тон на обыденный:
— Хорошо, шутки шутками, а ведь я вам очень благодарен.
— Я не смог его остановить.
— А это не ваша задача, молодой человек. Каждый из нас выполняет в этой жизни свою функцию. Правильно или неправильно, богато или скудно. Вы меня понимаете?
Андрей промедлил с ответом, и Иванов поднял ладонь, останавливая ответ.
— У нас везде бардак, — продолжил Иванов. — За мной прислали этот самый… японский «рафик». Без охраны, без сопровождения. Вы же понимаете, что я с ними еще серьезно поговорю. Если бы не вы, Андрей Сергеевич, то мы… я бы лишился чемодана с подарками, а история — своего шанса.
— С этим человеком, с вором, — что с ним случилось?
Иванов показал свою сообразительность. Будто прочел второй слой вопроса:
— Я тоже встревожился за его судьбу, когда увидел Алика с моим чемоданом. Алик ведь… как это теперь говорится — крутой мальчик. Да, крутой. Так что грабитель получил по заслугам. Кстати, у него был нож, и вам угрожала смертельная опасность.
— Я видел.
— И не прекратили преследование?
— Поздно было прекращать.
— Молодец, Андрей. Можно я буду вас называть Андреем? Вы благородный человек. А что на щеке? Надо будет обязательно промыть. Обязательно. Глупо, если щеку разнесет — а там и заражение крови. Не дай бог!
Солнце ушло в воду — только треть диска, покраснев, поднималась над горизонтом. Теплоход дал короткий гудок, словно окликнул кого-то.
— Скоро отплываем, — сказал Иванов. — Рад был с вами познакомиться.
Андрею стало зябко.
— Спасибо, мы еще увидимся, — сказал Андрей.
— Я надеюсь. Искренне надеюсь. В наши дни осталось так мало молодых людей, которые готовы прийти на помощь старшему товарищу.
— Я не такой уж молодой, — сказал Андрей.
— А я — куда старше. — Иванов рассмеялся высоким звонким голосом. Молодо и даже задорно. — Вы знаете, в каком купе врач?
— Я спрошу внизу.
— Напротив бара «Белые ночи», — уверенно сказал Иванов, который, возможно, уже побывал там.
— Наверное, сейчас не время, — сказал Андрей. — Когда поплывем, я схожу.
— Вы сильно заблуждаетесь, Андрюша, если думаете, что доктор на корабле поднимает якорь или тянет за канат. Доктор сидит в своем кабинете и ждет пациентов. В этом его долг и обязанность. Пошли, пошли, я прослежу, чтобы вам промыли ссадину.
И Иванов не отстал — он оказался страшно настырным и занудным человечком. Сам довел Андрея до кабинета, где, конечно же, доктора не оказалось, тут же позвонил из кабинета администратору, потому что уже узнал и запомнил внутренний номер телефона. Так что доктор, недовольный несвоевременным пациентом, прибежал минуты через три. Рану промыли, залепили пластырем. Иванов сидел в углу, будто ждал очереди — на самом же деле он ревниво следил за тем, хорошо ли доктор заботится о его новом товарище.
Они расстались внизу; у Андрея неожиданно разболелась голова — как следствие беготни и драки с вором. Но он не стал говорить об этом Иванову, опасаясь, что тот заставит его предпринять новое путешествие к врачу.
Он попрощался с Ивановым и ушел к себе в каюту.
Алеша как раз собирался уходить.
— Где это тебя? — спросил он, только сейчас заметив рану, так как, заклеенная пластырем, она стала очевидной.
— Это я раньше упал, — ответил Андрей, — еще в городе.
— Чем-нибудь могу быть полезен?
— Спасибо, я поваляюсь немного.
— Не будешь смотреть на отход?
— Как скроются в тумане огоньки?
— Понял, — улыбнулся Алеша. — Дверь не запирай, я скоро вернусь.
Вернулся Алеша поздно ночью. «Симонов» уже миновал Кронштадт и вышел в Финский залив.
Андрей слышал, как Алеша раздевается, стараясь не разбудить его. Внутри теплохода царил ровный негромкий гул работающих машин.
Во сне Андрей понимал, что надо догадаться о чем-то важном, и если этого не сделать сейчас, то завтра будет поздно — выступить надо сегодня! Ведь он знает этого Иванова, потому что он и есть Ленин…
Андрей проснулся среди ночи. Сквозь иллюминатор светила холодная луна. Посапывал Алеша Гаврилин. Андрей точно, до слова, вспомнил рассказ Лидочки о прошлогодних событиях в их переулке, об исчезнувшем при столь драматических обстоятельствах младенце Фрее. Ведь он чуть не убил Лидочку и исчез. Подобных сказочных совпадений не бывает. И так как почти все на свете находит в конце концов трезвое объяснение, в данном случае за таковое следует считать возвращение младенца Фрея на историческую сцену. А раз так, то становится крайне интересным узнать, что делает Владимир Ильич Ленин на борту теплохода «Рубен Симонов» во время неспешного круиза петербургской интеллигенции по Балтийскому морю.
Сна ни в одном глазу. Мирно сопит Алеша, в тон ему дышат машины теплохода, сквозь иллюминатор пробивается лунный свет, живой от облаков, пробегающих по луне и заставляющих ее затухать и вновь вспыхивать. Когда ты совсем один в этом мире, воображение, занятое пустяками днем, когда вокруг толчется столько раздражителей, может сконцентрироваться.
Андрей представил себе пожар старого особняка, крики младенцев, ужаснувшихся при виде злобных пальцев убийцы, беспомощные попытки Лидочки затушить керосиновые ручейки, текущие под дверь, черный дым, раздирающий болью глаза и легкие, и отчаяние от безысходности…
Ломброзо — где же ты читал об этом? — полагал, что существует особый тип преступника: преступник политический. Этим людям свойственно крайнее пренебрежение к человеческой жизни и, главное, глубочайшее убеждение в собственной правоте. Грабитель еще может признать, что лишил вас кошелька или имущества, потому что именно он, грабитель, нуждался в деньгах. Преступник политический всегда докажет, что руководствовался именно интересами других людей, сам же оставался бескорыстным. И процент таких преступников среди политиков куда выше, чем, допустим, процент воров среди продавцов магазинов. Честный политик ненавистен коллегам, потому что на его фоне они слишком уж проигрывают. Но в конечном счете он становится отвратителен и собственным последователям, и электорату, потому что не умеет лгать, обещая сторонникам золотые горы в ближайшем будущем. Христа никто не защитил, народного восстания не произошло, потому что он не был преступным политиком и не обещал завтрашней курицы на каждый стол. А рай после смерти — это умеет обещать каждый, для этого и политиком быть не надо. Ради такой перспективы нет смысла бунтовать и проверять эту теорию на собственной шкуре. Ведь в глубине души каждый убежден, что смерти не существует.
Вот и сейчас — через сколько-то переборок похрапывает генетически воссозданный один из самых страшных политических преступников XX века. Который всю жизнь обещал мир народам — и вверг их в самую страшную войну, обещал землю — и лишил даже ее последних клочков, обещал свободу — и до сих пор ужас этого издевательства над словом «свобода» висит над государством. И при всем том он — как и бывает с самыми страшными политическими преступниками — остался благодетелем в памяти миллионов людей. Они и сегодня готовы растерзать любого, кто поднимет руку на светлый образ этого человека. Да и у меня, осведомленного более других и помнящего более других, существуют странные стереотипы положительных эмоций. Может, потому что в отличие от прочих политических монстров он был приветлив в быту, ласков в семье и обходителен со спутниками по купе…
Ведь если бы некий Иван Иванов, грабитель или наркоман, убил двух младенцев, чуть не сжег заживо мою жену, погубил замечательного старика — я бы испытывал к нему презрительную ненависть и был бы не в состоянии разговаривать с этим ублюдком.
Но Фрей не просто человек. И не маньяк. Он — эксперимент природы, созданный вопреки ее собственным законам. Зачем?.. Как завершение цепи случайностей? Или как проба к страшному будущему? Фрей искренне убежден — он успел это объяснить Лидочке в день пожара, — что сам подчиняется исторической закономерности. Он должен освободиться от пут прошлого, чтобы вывести человечество из очередного тупика.
Вот и на борту «Рубена Симонова» Фрей наверняка занимается благородным спасением человечества. И его можно ненавидеть или презирать не более, чем пургу или убивший тебя камень, что свалился с высоты. Хотя надо опасаться и не выпускать из виду, как гремучую змею в доме.
Ресторан на «Симонове» был двухзальным. В первом была сооружена широкая стойка для шведского стола, второй зал был уставлен темными стульями, а стены его сдержанно разрисованы в стиле тридцатых годов. Кажется, это именовалось «артдеко». Завтракали в большом зале, каждый сам выбирал себе колбаску, гренки, сыр, мармелад, кашу, наливал кофе.
Кураев крикнул Андрею, что занял для него место. Андрей был ему благодарен. Казалось бы, пустяк, но в первый день не хотелось садиться за стол с незнакомыми людьми. Зал был неполон — некоторые еще не встали, но главное — половина, если не более, делегатов поднимутся на борт по ходу плавания. В Таллине, куда «Симонов» скоро придет, присоединятся эстонцы и латыши, в Гданьске — поляки, в Любеке — немцы и часть скандинавов.
Кураев был расстроен — ему попался курящий сосед по каюте. Андрей объяснил ему, как отыскать каюту Эрнестинского — может, удастся переселиться.
Андрей пошел к стойке, где один из поваров раздавал горячие сосиски. Он подставил тарелку и увидел второго повара, который вышел из белой двери, неся в руках два кофейника, и направился к столу рядом со стойкой, чтобы поставить их. Проходя мимо Андрея, он кинул на него взгляд.
Лицо не было знакомым — вчера на набережной волосы и лоб вора были скрыты козырьком, но глаза — почти желтые, наглые, кошачьи — Андрей узнал.
Официант остановил взгляд на Андрее, чуть-чуть дольше задержавшись на нем, чем положено — а впрочем, как положено? Официант был в белой сорочке с галстуком-бабочкой. Когда он ставил кофейники на стол, Андрей увидел, что кисть левой руки забинтована и пальцам трудно держать кофейник.
Больше официант не глядел на Андрея, он повернулся и удалился к белой двери за стойкой — именно удалился, потому что он был малоподвижен, как бы скован выше пояса… вчера на набережной этого не было. Может быть, это тоже следы встречи с квадратным молодым человеком?
— Эдик! — громко пробивалось сквозь шум в ресторане. Из кухни вора окликнул юноша в белой куртке с волосами, перетянутыми сзади резинкой: — Возьми сок!
Юноша протянул вору два графина с желтым соком.
Вор принял их, замешкавшись, чтобы получше ухватить, и вернулся в зал. Он отнес графины на столик, где стояла минеральная вода.
Андрей почувствовал облегчение оттого, что злоумышленник жив. Потом пришла тревожная мысль: «Лучше бы он меня не узнал».
Эдик с перевязанной рукой больше не смотрел на Андрея и скрылся за дверью.
И все же странно, что один из моряков — хоть и таких вот кухонных моряков — хватает на площади чемодан пассажира, а затем нагло возвращается на борт.
Миша Кураев доканчивал очередное яйцо всмятку.
— Это первый день, — сказала сидевшая с ними за столом маленькая круглая женщина, как выяснилось, редактор детского журнала по имени Дора Борисовна, — организм боится, что завтра не дадут пищи.
— Организм спешит растолстеть на халяву, — согласился Миша. — Организм у меня холостой и хочет наработать жирку на всю весну. Можно я тебе часть скорлупок переложу? А то официант подумает, что я лучший в мире пожиратель яиц.
— Нет, — строго ответила Дора Борисовна. — Научись наконец отвечать за свои поступки.
— Это не поступок, это преступление, — самокритично признался Кураев и поменялся тарелками с Андреем.
Дора Борисовна ахнула, глядя на такое невоспитанное поведение ведущего ленинградского прозаика.
Владимира Ивановича Иванова Андрей за завтраком не увидел, но вот толстый господин с надутыми младенческими щеками, в модном мешковатом костюме и слишком ярком галстуке к завтраку вышел. Андрея он, конечно же, не заметил. Толстяка сопровождал уже знакомый Алик, стриженный «под бокс», в той же квадратной куртке, и женщина средних лет, с полным красным лицом, взбитыми русыми волосами, крепкая, широкая в кости и мясистая телом. Придай такому лицу и телу маленькие круглые глазки — получилась бы свинья, но глаза у женщины были большие, серые, выпуклые, правда, какие-то сонные.
Толстый господин к стойке не пошел. Он сидел за столом, а квадратная куртка и пучеглазая женщина принесли ему завтрак и потом, по мере того как он наедался — очень быстро, неопрятно и жадно, — подносили ему все новые тарелки с колбасой, омлетом и даже кашей.
«Это мультимиллионер, — предположил Андрей. — Он главный спонсор сборища интеллигенции и за это приказал устраивать за завтраком шведский стол: для него в этом путешествии одна радость — обжорство».
У выхода из ресторана стояла Бригитта Нильсен и раздавала программки. Она каким-то своим, иностранным чутьем угадывала участников конференции, отделяла их, как зерна от плевел, от спонсоров и туристов, заполнявших прочие места на «Симонове». Андрей получил свою программку и выяснил, что первое пленарное заседание состоится в главном салоне в семнадцать часов, после отхода из Таллина.
Валютный магазин на главной палубе был открыт, туда заходили полюбопытствовать, в основном туристы, у которых были свободные деньги. Но туристы ничего не покупали. Они берегли деньги для более важных боев — на чужеземных берегах.
Андрей тоже заглянул в магазин. Продавщица с желтыми волосами узнала его и сказала:
— Я товар еще не подготовила. Я вам потом подскажу, что выгоднее приобрести.
Андрей хотел бы найти «искалку» для ключей — брелок, который отзывается на свист. Но тоже ничего не стал покупать.
Алеша был в каюте. Он дал Андрею такую же программу, как Бригитта. Андрей подошел к иллюминатору. За ним был виден низкий берег и мол с маяком на конце.
— Это уже Таллин, — сказал Алеша. — Костя просил тебя написать статью для газеты.
— Для какой газеты?
— Но ты же был в штабной каюте? Его семейство изготавливает ее.
— Я не знаю, о чем пишут статьи в газетах, — сказал Андрей.
— У тебя щека пухнет.
Андрей провел пальцами по щеке. Щипало. Щека подпухла. Пластырь с одной стороны отклеился.
— Я схожу к врачу, пусть посмотрит.
— И пускай вколет антибиотик, — посоветовал Алеша.
— Ты будешь выходить в Таллине? — спросил Андрей.
— Обязательно. Мне нужны кое-какие пластинки.
«Рубен Симонов» сбавил ход и шел вдоль пирса.
Андрей быстро поднялся к врачу. По крайней мере у него был хороший предлог. На этот раз врач был в кабинете и спросил:
— Земля или грязь могла попасть в рану?
— Это ссадина, а не рана.
— Любая ссадина — повреждение кожи.
Врач был довольно молод, лет тридцати, не больше, но уже огорчительно лыс. Несколько длинных черных прядей пересекали лысину поперек — он еще не отказался от борьбы за шевелюру.
Пришлось Андрею согласиться на укол противостолбнячной сыворотки.
Пока доктор готовил шприц, Андрей сказал:
— По крайней мере я не один раненый на борту.
— Что вы имеете в виду?
— Я сейчас заметил, что у одного из поваров рука забинтована.
— И не только рука, — ответил доктор. — Если бы он показался мне до отхода, я бы его оставил на берегу. Нет ничего святого — напасть на человека практически в порту!
— На него напали?
— На Эдика Пустовойтова? Напали.
— Кто?
— Простите, я не милиция, — сказал доктор. — Ложитесь.
— Не проходит щека? — спросил Владимир Иванович. — Я перед вами виноват, как я виноват, батенька!
«Батенька» у него получился неестественно, отрепетированно, как у театрального актера, играющего роль Ленина.
— Владимир Ильич, — сказал Андрей. — Забудем об этом.
— Владимир Ильич? — лукаво повторил Ленин. — А вы ошиблись, батенька! Меня зовут Владимир Иванович. Владимир Иванович Иванов.
— Как вы считаете нужным, — согласился Андрей, чем порадовал старика, который усмехнулся. — Но я останусь при своем мнении.
— Ну-ну. — Ленин отечески положил руку на плечо Андрею, для чего ему, при невысоком росте, пришлось потянуться вверх, как мальчику в трамвае.
Они стояли в холле, ожидая своей очереди спуститься по трапу в новую страну Эстонию. Но высадка затягивалась, потому что ждали пограничников.
— Вы, батенька, кем будете по специальности? — спросил Иванов.
— Археолог, — ответил Андрей.
— Любопытное занятие, — сказал Ленин.
Он наклонил голову набок, как бы мысленно рассуждая, какую пользу ему и его великому движению может принести один археолог. Лысина у него была желтая, обширная, в пигментных пятнах и очень гладкая. Правая бровь была разрезана тонким шрамом — что было видно только вблизи.
— Значит, будем копать! — сказал он наконец, не придумав Андрею лучшего занятия.
Получилось бодро и громче, чем требовалось. Люди, стоявшие неподалеку, оглядывались.
На голос Иванова прибежала дама с выпуклыми глазами.
Она энергично пробилась сквозь толпу:
— Владимир Иванович, ну куда вы задевались! Оскар Ахметович уже в машине, а вы занимаетесь разговорами.
Она делала выговор Иванову, и тому это не понравилось.
— Откуда я мог знать, где ждет меня товарищ Бегишев, — огрызнулся он.
Он демонстративно протянул руку Андрею, как бы показывая женщине, что не на ихнем проклятом Бегишеве свет клином сошелся. Но та не видела Андрея — она тащила Владимира Ивановича за рукав, показывая всем своим видом преданность Оскару Ахметовичу.
— Я надеюсь, что нас ждут интересные беседы, — обернулся Иванов к Андрею.
— Я тоже, — согласился Андрей.
Женщина увлекла своего спутника к трапу, расталкивая интеллигенцию. Андрей понял, что Бегишев пользуется в Эстонии немалым влиянием — лимузин у трапа не снился даже Косте Эрнестинскому, который здесь главный человек.
Влекомый любопытством Андрей осторожно протиснулся следом за загадочным Ивановым и сверху, через плечо вахтенного, посмотрел вниз. Там, несколькими палубами ниже, стояла черная «Волга». Можно было угадать на заднем сиденье Бегишева, у приоткрытой дверцы стоял костолом Алик, задрав кверху голову и наблюдая за тем, как женщина и Иванов спускаются по бесконечному трапу.
Пограничник, стоявший у трапа, сделал было шаг к ним, но Алик крикнул ему что-то неразличимое за ветром и расстоянием. Пограничник вернулся на шаг назад.
Алик нырнул в машину, а женщина, открыв заднюю дверцу, жестом велела Иванову идти туда, но тот стал отказываться. Андрей понял смысл этой сцены: толстый Бегишев занимал слишком много места, и никому не хотелось оказаться стиснутым в середине заднего сиденья.
Проиграла в результате женщина. То ли по настоянию Иванова, то ли подчинившись окрику изнутри, она полезла в машину. Отступив несколько назад и склонив знакомым жестом голову набок, Иванов смотрел на округлый зад женщины и ее ноги, заголившиеся от неловкой позы. Затем он ястребом залетел внутрь и постарался захлопнуть дверцу. Дверца не желала захлопываться. Прошло с полминуты, прежде чем процедура завершилась и «Волга» тронулась с места. Тут по теплоходу объявили, что можно выходить, и Андрей оказался внизу одним из первых.
В Таллине зарядил мелкий дождик, куда более холодный, чем снег, потому что ледяные капельки умеют острее, чем снежинки, жалить кожу.
Андрей быстро прошел по скучной улице, ведущей к городу, пересек трамвайные пути и оказался перед толстой башней с примыкающей к ней аркой, в которой, как он помнил по прошлому визиту в Эстонию, размещался небольшой, но уютный и хорошо устроенный морской музей.
Он очутился в милом сердцу, неповторимом, сказочном старом Таллине, нашей советской Европе, странной отдушине, как бы приоткрытой форточке в европейский мир. Для студента пятидесятых годов или для голодного до зрелищ, закованного в запреты туриста шестидесятых именно Таллин был тем образом, из которого затем достраивалась воображаемая Европа.
Улицы были романтически кривыми и узкими, звук шагов отдавался до полоски неба, зажатой между смыкающимися над головой крышами. Площадь Ратуши открывалась как картинка на немецкой табакерке. Андрей заглянул в букинистический, но там было мало старых русских книг — лежали модные журналы прошлых лет, торговые каталоги и детективы. Магазин потерял свою исконную солидность, словно бабушка, которая вдруг решила покрасить волосы и намазать губы.
На телеграфе пришлось отстоять громадную очередь за пятнашками.
К счастью, Лидочка была дома.
— Я как чувствовала, — сказала она. — Мне уже два раза звонили из издательства, а я все откладывала и откладывала.
— Дома все в порядке?
— Да, конечно. А что тебя тревожит?
Андрей не удержал смешка — он не умел скрывать от Лидочки ни мыслей, ни настроений.
— Что-то смешное? Ты влюбился?
— И все-таки ты, Лидия, остаешься женщиной, то есть человеком ограниченным и эгоцентричным. Неужели ты полагаешь, что у настоящего мужчины нет других дел, как влюбляться?
— Ну ладно, хорошо, не высмеивай мой слабый разум. Ты доехал нормально, устроился в одной каюте с Алешей, и каюта тебе нравится… Я правильно угадываю?
— Ты, как всегда, проницательна.
— И потом ты встретил одного неприятного человека…
— Ты гениальна, Лидия!
— А чем я могу тебе помочь?
— Ты не догадываешься, какого человека?
— Нет, я не провидец.
— Помнишь историю с младенцем Фреем?
— Еще бы!
— Ты уверена, что это был Ленин?
— Ты видел Фрея?
— Погоди, Лидочка, я первый спросил.
— Я не могу быть на сто процентов уверена. Я же не присутствовала при родах. Но я верю Сергею Борисовичу, что это реинкарнация Ленина, его новое тело.
— Честно говоря, — сказал Андрей, — я тогда слушал твою историю, как Пушкин сказку Арины Родионовны.
Вдруг Лидочка засмеялась.
— Ты что?
— Из трезвых представителей человечества, — сказала Лидочка, — ты лучше всех осведомлен о тайнах и чудесах нашего века. Ты отлично знаешь — фантастического не существует. И вдруг, столкнувшись с мелким в масштабах Вселенной чудом, ты встаешь на дыбы и кричишь, что этого быть не может, потому что не может быть никогда.
— Чудес не бывает, — согласился Андрей. — Мы, волшебники, знаем об этом лучше простых смертных.
— То, что я до сих пор жива, — трижды, четырежды чудо. То, что ты жив, — чудо стократное.
— Ладно, что нам спорить! Я принимаю твою версию.
— Это не моя версия. Это версия судьбы.
— Хорошо, будем считать, что я принял на веру теорию, согласно которой некоторые личности, генетически выдающиеся, не желая помирать, могут каким-то образом избежать смерти, родившись заново в последний момент жизни. Есть предположение, что так случилось с Лениным. И потому ритуальные слова «Ленин вечно жив!» приобретают особый смысл. Ленин на самом деле не умер. Правильно?
— Почти. Не совсем. Ведь настоящий Ленин умер. Вместо него родился его генетический двойник. Но генетическое тождество не означает полного повторения человека. Ведь младенец Фрей рос в другой среде, учился в других условиях, был окружен другими людьми. Так что эксперимент, поставленный природой, имеет лишь теоретическое значение.
— Значит, это все же другой человек? — произнес Андрей.
— Другой. Но с характером Ленина. Я это испытала на собственной шкуре.
— Что в нем главное?
— Главное? Злоба. Или злость — не знаю, какое слово точнее. Он — заложник злости. Он мститель. Но теперь не за брата и не Романовым, а за себя.
— Ты не выносишь его?
— Я не выношу того, что он олицетворяет. Царства зла. Тем более когда оно прикрыто лозунгами заботы о человечестве.
Разыскивая свободную переговорную будку и потому заглядывая во все будки подряд, мимо прошел повар Эдик в сопровождении невысокого мужчины в фуражке таксиста. У мужчины был упорный настойчивый взгляд — Андрей столкнулся с ним глазами, когда мужчина заглянул в будку. Лицо было обыкновенное, но не русское. Его обрамляли полубакенбарды, желтоватые, словно покрашенные.
— Ты что замолчал? — спросила Лидочка.
— Здесь разные люди ходят, — туманно ответил Андрей. — Значит, сейчас твоему Фрею шестьдесят восемь лет?
— Примерно. Но он выглядит моложе. Он высох, но еще не состарился.
— С бородкой?
— Фрей сознательно старается подражать самому себе — то есть Ленину. И с возрастом эта страсть охватила его. Но бородку он носит не постоянно — полагаю, что из инстинкта самосохранения. Ему всегда казалось, что если его обнаружат враги, то убьют.
— И он знал, кто его враги?
— Андрюша, откуда враги у полусумасшедшего отшельника? Он сам себе их придумал.
— Зачем?
— А как же великому человеку без врагов? На кого списывать свои поражения? На предателей?
— Предательство — спутник любой диктатуры.
— Андрюша, расскажи, что ты видел? Что заставило тебя обратить на него внимание?
— Почему ты думаешь, что нечто должно было случиться?
— Иначе бы ты не заметил Фрея. Он достаточно незаметен.
— У него утащили чемодан, и я постарался ему помочь.
— Безуспешно, надеюсь? — Лидочка уже испугалась.
— Почему такое странное заявление?
— Люди, которые крадут чемоданы, не любят, чтобы их останавливали.
— Ты права… Впрочем, все обошлось. Но потом он сам подошел ко мне, и его манера разговаривать, повторение слова «батенька»…
— Он любит ленинские словечки. Специально штудировал собрание сочинений, — сказала Лидочка.
— Скорее смотрел ленинские фильмы. Мне показалось, что он подражает не только и не столько Ленину, сколько актерам, которые изображают его на экране.
— В глазах нынешнего поколения это и есть настоящий Ленин… Он тебя увлек?
— Не понял вопроса.
— Не притворяйся, понял. Ты же любопытен, как кот. Тебе хочется устроить очередные раскопки и найти в нем золотую вазу.
— Ты преувеличиваешь.
— Он тебя не заинтересовал?
— Заинтересовал.
— Тогда будь осторожен. Я не могу тебя отговаривать — это бессмысленно. Но, честно говоря, Андрюша, до этого момента я радовалась, что ты отправился в этот круиз: посмотришь мир, себя покажешь, главное — отдохнешь. А теперь я боюсь.
— Объясни. Может быть, это важно.
— Он уже старался меня убить. Он готов убивать ради себя или ради своих вымышленных идей не потому, что идеи так дороги ему, а потому, что жизни других людей для него ничего не значат. Я думаю, что это главное, унаследованное им от Ленина. А ведь ты обязательно захочешь все потрогать своими руками.
— Я буду осторожен.
— Помни, что он хотел меня убить. И убил бы, если бы не случайность.
— Может быть, это и не Ленин. И я все придумал.
— Ну вот! — обиделась Лидочка. — Только я тебе поверила, как ты начал сомневаться. Или ты меня успокаиваешь?
— Тогда скажи: у твоего Фрея была какая-нибудь особая примета? Ты же его не раз видела. Может, какая-нибудь родинка, шрам?
— Шрам! Правая бровь у него как бы разрезана бритвой. Это не всегда заметно…
— Правильно! Я видел. Тогда никаких сомнений…
Лидочка не ответила.
— Ты почему замолчала?
— Жалко, что я угадала. Мне лучше было бы думать, что тебя подвело воображение.
— Странно. Во мне возникло охотничье чувство. Понимаешь? Как будто я увидел волка, который напал на тебя. Теперь я должен его выследить.
— Вот этого я и боюсь. Он же страшный. А в полицию ты обратиться не сможешь.
— Я не хочу оставить Фрея без присмотра, даже не узнав, зачем им понадобилась Дания или Швеция… Это может плохо обернуться для всех. Не только для нас. Ведь, без сомнения, кто-то догадался, что Фрея можно использовать. Но как Ленина или в ином качестве? Уж очень странная компания.
— Фрей вырос и прожил жизнь паразитом. Может, он нашел себе новых покровителей?
— И они катают его по Балтийскому морю?
— Это коммунисты?
— Они не производят такого впечатления. Скорее это так называемые новые русские. Смесь. Взвесь.
— Уголовники?
— Но профессионалы. Но при них есть охрана.
— Будь осторожен… постарайся…
— Можно. Главная причина моего внимания к Фрею тебе известна. Он хотел тебя убить. Я этого ему не простил.
— Андрей, забудь об этом!
— У меня кончаются пятнашки.
— Хоть скажи, как ты устроился, как себя чувствуешь?
— Последняя монетка улетела!
— Неужели ты не скажешь?
— Я тебя люблю!
— Слава богу, догадался!
На остальные обязательные приветы и поцелуи времени не осталось…
Обратно к «Рубену Симонову» Андрей пошел верхом, через Вышгород. Он словно прощался с Таллином, понимая, что завтра Эстония качнется в сторону от России, обложится таможнями и пограничными отрядами, и образ форточки в Европу для небогатых русских туристов окончательно умрет.
На улицах было оживленно, но туристов немного. Впрочем, не сезон. На смотровой площадке над Вышгородом, откуда открывался чудесный вид на город, порт и море, Андрей оказался в одиночестве. «У меня имперское мышление? Вряд ли это сентиментальность старика, который, в отличие от прочих обитателей страны, помнит, что этот город именовался Ревелем».
Возвращение на корабль прошло без особых приключений. Лишь проходя сквозь вокзал, Андрей снова увидел повара Эдика, в котором он подозревал вора, с типом в рыжих бакенбардах. Они покупали водку в киоске возле вокзала и Андрея не заметили, а он ускорил шаг, чтобы не попасться им на глаза. Что делать, если тебя спросят: «Это не ты ли, козел, бегал за мной по гавани?» Что тогда ответить?
Уже у самого въезда в порт Андрея обогнала черная «Волга». Как ему показалось, в ней сидела компания господина Бегишева. Но уже темнело, да и погода испортилась — ветер нагнал таких плотных туч, что вообще трудно было что-либо разглядеть.
Когда Андрей добрался до своей каюты, подошло время обеда. А в пять они с Алешей отправились на первое заседание конференции.
Председательствовал бывший датский министр просвещения — самый настоящий свадебный генерал, такой розовый, седовласый и добрый, словно подрабатывал на детских утренниках Санта-Клаусом. Рядом с ним за небольшим столом теснились ответственные лица — их набралось человек десять, и мест для стульев за столом не хватило. Стремление человечества разделиться на категории и привилегированные классы прослеживалось на этой вполне демократической и очень общественной конференции не менее четко, чем в ЦК КПСС. Костя Эрнестинский сидел на крайнем стуле и тянулся к столу рукой, как бы показывая этим свое высокое право представлять Советский Союз. А по бокам датского министра, как бы образуя центральную скульптурную группу, жались Бригитта Нильсен и маленький черноглазый эстонец, прямым черным чубом схожий с Гитлером.
К счастью, вступительная часть оказалась не безнадежно длинной — Андрей лишь успел поглазеть по сторонам, приглядываясь к наполнявшим конференц-зал, уютно встроенный в недра «Симонова», делегатам конференции. Никто не был склонен к долгим заседаниям — Андрей по опыту знал, что витии раскроются на секционных встречах, здесь же пока идет лишь декларация о намерениях — золотоискатели с заявочными столбиками в руках выходят на исходные позиции для пробега к золотоносным участкам.
Говорили «от имени» и «по поручению». Досталось слово Мише Кураеву, как и другим, большей частью иноземным, интеллигентам. Когда они выдохлись, слово взяла Бригитта, авторитарно объяснившая делегатам, куда им положено ходить и куда им ходить не положено; когда им следует заседать, а когда веселиться. Все это делалось с иностранной легкостью и стандартным юмором, как и положено на конференции, которую проводят профессионалы. В завершение дали слово и Косте, который выразил благодарность правительствам, организациям и даже фирмам, взявшим на себя заботу о литературе и о дружбе народов.
— Среди нас в этом зале находится господин Оскар Ахметович Бегишев, президент компании «Аркос», стараниям которого мы в значительной степени обязаны тем, что собрались на борту этого чудесного теплохода.
Зашуршали вежливые аплодисменты людей, которые умеют принимать одолжения, не теряя чувства собственного достоинства.
Грузный Бегишев в модном обвисающем костюме лениво поднялся из первого ряда и развернулся боком к залу, не делая попытки поклониться либо как-то иначе выразить свое отношение к коллективной благодарности. Освещение в конференц-зале было хорошее; яркое низкое предвечернее солнце ударило Бегишева в щеку и зажгло на секунду кошачьим блеском его маленький, спрятанный в толстых веках глаз. Бегишев отмахнулся от луча, как от мухи. Потом медленно обвел взглядом зал, поворачивая голову, будто глаза у него не вращались, и сел на свое место.
— Сотрудники СП «Аркос», — завершил панегирик Костя, — находятся на борту среди нас. Они получили путевки от правления компании в знак признания их заслуг в строительстве свободной рыночной экономики в нашей стране.
На это объявление аплодисментов не последовало — вряд ли интеллигенция должна была радоваться такой щедрости фирмы.
«Конечно же, «Аркос» — это «Оскар». Поменяли буквы, и получился Аркос», — догадался Андрей. И понял, что забыл, как называется такая перестановка букв в слове.
— На борту с нами находится ансамбль «Райская птица» под управлением известной певицы и композитора Дилеммы Кофановой.
Не дождавшись аплодисментов от пожилых интеллигентов, которым имя Дилеммы, очевидно, ничего не говорило, Костя объявил первое заседание закрытым и назначил следующее на завтра, когда «Рубен Симонов» покинет польские воды и возьмет курс на Германию.
Ужинал Андрей в малом зале. Место ему занял Алеша. За столом, который, как почувствовал Андрей, будет отныне постоянным его местом, как возникает свое место в любом временном обиталище — доме отдыха, пароходе или пансионате, — помимо Андрея и Алеши сидели уже две дамы, похожие, несмотря на разницу в возрасте. Старшей было лет семьдесят. В ней была очевидна порода — во всем, от глуховатого низкого голоса до манеры прямо сидеть и держать руки над столом, как держат руки над клавиатурой профессиональные пианисты. Лицо старухи нельзя было назвать красивым, но оно было значительным и не лишенным привлекательности. Волосы разделены на прямой пробор и зачесаны назад. Цветом они напоминали серебряные бревна старых церквей. И никаких украшений — только небольшие бриллианты в мочках ушей. Платье темно-синее, с высоким воротником…
Какой старуха была сорок или пятьдесят лет назад, можно было увидеть, приглядевшись к ее спутнице. Спутницу старухи Андрей мысленно назвал внучкой. Это была женщина-катастрофа, женщина-ловушка для мужчины. Все в ее лице было резко и преувеличенно — крупноват нос и великоваты губы, восточные мужские глаза, даже уши, прикрытые, так же как у бабушки, забранными назад волосами, но не седыми, а темно-рыжими, дисгармонировали бы с шеей, если бы шея не оказалась длиннее, чем положено. Но все вместе — сочетание приемлемых, но не красивых черт — создавало образ именно той женщины, ради которой топятся, бросаются с египетской пирамиды, пишут письмо всю ночь перед дуэлью и с которой можно утешиться, лишь увидев ее у алтаря в деревенской церкви — и непонятно, ты ли ее украл, или она тебя похитила на тройке вороных.
Алеша уже успел представиться дамам, узнать, как их зовут и даже сообщить, что Андрей — известный и даже знаменитый археолог и писатель, отчего он был встречен доброжелательно и мило, как встречают на дачной террасе пришедшего к самовару доброго и желанного гостя. Старуху звали Анастасией Николаевной, а ее внучку (впрочем, пока было неясно, внучка ли она) — Татьяной.
Они принялись за салат, когда в зал ресторана вошла вся компания Оскара Бегишева.
Сам он шествовал первым. В предвкушении ужина Бегишев непроизвольно облизывал губы острым кончиком языка, и казалось, словно какое-то шустрое красное насекомое выскакивало из щели рта, обегало губы и пряталось вновь.
За Бегишевым, отстав на шаг, шагала коренастая женщина под высокой золотой прической, третьим семенил Иванов-Фрей, без кепки, но в темных очках, словно певец, опасающийся поклонниц.
Замыкал шествие квадратный шкаф Алик, сходство которого с быком подчеркивалось тем, как сурово и ритмично он перемалывал челюстями жвачку.
В деловитом вторжении этой группы заключался контраст с общим расслабленным настроением пассажиров — все обернулись, глядя на них. Те прошли, не глядя по сторонам, словно боялись сбиться с шага.
Фрей сел так, что оказался лицом к лицу с Андреем. Увидел его и коротко ответил на приветствие Андрея — тот непроизвольно наклонил голову. Дрогнул затылок Бегишева — он наклонился к Фрею, спрашивая его, верно, о том, с кем тот общается. Иванов зашевелил губами — лицо чуть скривилось, он оправдывался.
И тут же все спутники Иванова обернулись к Андрею и поглядели на него строго и даже враждебно.
Лицо Андрея непроизвольно изобразило улыбку — так улыбается заяц, когда на него смотрят любопытные волки.
Лица отвернулись — снова были видны затылок и два профиля. И лишь один фас — Ленина.
Черные очки Ленин положил на стол рядом с собой — они, видно, мешали ему рассматривать пищу.
Андрей спросил Алешу, сидевшего рядом:
— Кого тебе напоминает вон тот товарищ?
— Черт возьми, и на самом деле знакомое лицо. Подскажи, не томи. Такое впечатление, что я его уже встречал.
— А если выйти за пределы разумного?
— Ты имеешь в виду Наполеона? Вечного жида?
— Теплее!
— Постой, постой, как сказал старый еврей, встретив в Одессе Иисуса Христа: «Не будет ли молодой человек так любезен расставить ручки?»
— Совсем тепло.
— Неужели это товарищ Ленин, который сбрил бороденку? — вдруг спросила Татьяна.
— Спасибо, вы меня выручили.
— Ты с ним знаком? — спросил Алеша.
— Меня он заинтриговал, — ответил Андрей.
— А по-моему, весьма неприятная компания, — заметила Анастасия Николаевна и этим как бы приказала остальным выкинуть Бегишева и его спутников из головы и отдать должное салату из крабов.
Андрей не хотел, да и не мог рассказать Алеше о своих подозрениях. Впрочем, трезвый умом Гаврилин и не поверил бы Берестову.
Андрей знал, что Фрей поглядывает на него, он чувствовал этот взгляд и надеялся, что Иванов сам приблизится к нему — менее всего Андрей хотел бы показаться навязчивым и вызвать подозрения.
После ужина многие разбрелись по каютам, устали за первый день, а Андрей отправился в салон «Балтийский», где столики с креслами обрамляли танцевальную площадку и раковину сцены. В углу расположился бар. Андрей взял в баре за талоны бокал виски с содовой, отыскал, к счастью, свободное кресло и решил послушать, как будет петь женщина с диким именем Дилемма Кофанова. Такое имя могло быть сценическим псевдонимом идиотки, но могло оказаться причудой образованных по-европейски среднеазиатских родителей.
Сначала вышел оркестр — четверо молодых людей затрапезного вида долго настраивали инструменты. Эти звуки тонули в рокоте наполнившей салон толпы, но создавали праздничный тон.
Виски кончилось, и захотелось еще, но Андрей опасался покинуть кресло, понимая, что его тут же займут: сусликами среди кресел возвышались, крутили головой обладатели бокалов, не нашедшие места. Придется ждать, пока появится официант.
— Как я вижу, вы все выпили, — сказала блондинка из группы Бегишева, присаживаясь рядом. Андрей мог поклясться, что за мгновение до того в этом кресле сидел некий незаметный человек, лица которого Андрей не смог бы припомнить.
В приглушенном свете торшеров лицо дамы выглядело мягче и моложе, чем днем, когда Андрей дал ей лет сорок. Нет, конечно, ей меньше.
Выпуклые близорукие глаза светились доверчивостью. Но губы были нахально вишневыми, а подбородок упрямо выдавался вперед.
— Добрый вечер, Андрей Сергеевич, — сказала дама, улыбаясь Андрею как старому знакомому. — Гляжу, у вас стакан пустой. Не наполним ли?
— Спасибо, — сказал Андрей.
Быстро они за него взялись. Интересно, происходит ли это по воле младенца Фрея, или, наоборот, группа бережет Ильича и проверяет подозрительные контакты. Вот это мы сейчас выясним. Ведь менее всего вероятно, что эта дама относится к числу читательниц Берестова.
Дама столь спокойно и уверенно подняла полную красивую руку, увенчанную зубцами длинных красных ногтей, что официант, находившийся за секунду до того в другом конце салона, уже склонялся над ней.
— Две водки и два сока, — сказала дама, не спрашивая Андрея, чего бы он хотел.
На низенькую, размером с малогабаритную кухню, эстраду вышла Дилемма Кофанова, крашеная блондинка, склонная к излишней полноте, что пока проглядывалось лишь в мягкости бюста и валике плоти, нависшей над широким ремнем, перехватившим талию певицы.
Следом за Дилеммой на эстраду протиснулись три подпевалы, а оркестру — ударнику, саксу, гитаре и скрипке — места совсем уж не осталось.
Официант подошел к столику и поставил перед клиентами по высокому бокалу водки и графин сока с битым льдом. Андрей достал книжечку талонов, которые купил при посадке за родные деньги.
— Не беспокойтесь, — искренне, не желая его обидеть, сказала дама, — для нас здесь бесплатно.
— Простите, — постарался улыбнуться Андрей, хотя улыбаться в присутствии этой дамы вовсе не хотелось. — Я еще не разорился.
Официант стоял согнувшись и терпеливо ожидал конца спора.
— Как хотите, — сказала дама. Так отделываются от капризного ребенка.
Андрей оторвал три талона и дал официанту. Он боялся недоплатить.
Оркестр Дилеммы затрепетал, словно попал в силки. Музыканты захлопали крыльями и закудахтали, затем на высокой ноте возопила о любви Дилемма. Пришлось прервать беседу.
Свет притушили, лучи прожектора принялись елозить по лицам, стало тревожно и празднично. Даму этот гвалт не смутил, она придвинулась к Андрею, ее горячее сквозь шерстяную кофту плечо коснулось плеча Андрея. Дама коснулась губами его уха.
Андрей почувствовал, словно узкий туннель со скользкими стенками протянулся между его ухом и губами дамы, настолько явственно, раздельно и даже возвышенно в его мозг вторгались ее слова.
— Меня зовут Антониной Викторовной, — сказала дама. — Надеюсь, что со временем вы будете называть меня Тоней. Как близкие друзья. Лады?
А я ломал голову — как к ним приблизиться!
Андрей кивнул, соглашаясь с Антониной Викторовной.
— Тогда за знакомство! — сказала дама.
Выпила она с удовольствием. Она влила водку в широко раскрытые тонкие губы, словно в трубу, — плеснула и замерла, прислушиваясь, как водка проникает, лаская и обжигая пищевод.
— Вы сегодня вечером что делаете? — спросила Антонина.
— Здесь сижу.
— Ну, дипломат! Здесь сижу! А потом?
— Потом спать пойду.
— Нет, Андрюша, ты к нам в гости пойдешь. Пора тебе со своими спонсорами знакомиться. Есть проблемы, которые стоит обсудить. Деловые и личные. К твоей же выгоде.
— Вы уходите? — спросил Андрей.
— Здесь шумно и не по-людски. Русский человек в такой атмосфере себя чувствует неуютно.
И Андрей почувствовал себя не совсем русским человеком.
— Значит, в двадцать один ноль-ноль. Каюта пятьсот двенадцать. Люкс. Удовольствия я гарантирую.
«Все было просто и мило. Круиз, беспечная атмосфера двухнедельного праздника. Ты, Андрюша, выручил пожилого человека. Его друзья хотят с тобой сблизиться, а может, просто пропустить по рюмочке за знакомство».
Но Андрей вдруг задумался, не оставить ли записку Алеше Гаврилину. На всякий случай. Нейтральную записку:
«Я в каюте номер 512. Если что…»
Нет, стыдно.
Алеша Гаврилин позвал Андрея к Бригитте Нильсен, там собирался узкий круг — на каждой конференции есть узкий круг, отбор в который идет годами, от конференции к конференции, от семинара к семинару. Люди познаются в трудах и веселье деловитого безделья; здесь тоже ценятся не только покладистый характер и умение интриговать, не продавая своих, но и определенное трудолюбие, преданность общему делу. Множество факторов, порой непонятных и не важных для человека постороннего, создают стабильную замкнутую элиту в каждой из областей международной деятельности, а уж элита обладает коллективной гениальностью и изощренной хитростью, направленной на то, чтобы не переводились благодетели и кормильцы, поддерживающие нужное направление науки или прогресса, а на самом деле — благополучие и страсть к перемене мест нескольких знатных дам, синхронных переводчиков и стареющих чиновников. При них же либо в их числе обязательно подвизаются шпионы разного толка, которые, подчиняясь собственному начальству, на самом-то деле душой прикипели к своей, лишенной истинных национальных привязанностей элите.
Бригитта Нильсен была типичным порождением и даже жертвой этого мира и не могла позволить себе поставить под сомнение серьезность и чрезвычайную важность любого из ничтожных мероприятий. Ведь из-за этого ушла ее молодость, поблекла красота и были потеряны лучшие из любимых мужчин. Костя Эрнестинский был на пути к такой элите. Причем к ее высшему эшелону — к Представителям. Его уже приглашали на узкие совещания и присылали циркулярные письма на бланках ЮНЕСКО. Алеша Гаврилин мог ко всему относиться со свойственным ему добродушным юмором, потому что как исключительный синхронист был нужен всем и не боялся остаться без работы, но, пока он пребывал в той или иной компании, он соблюдал устав монастыря, может, не столько от свойственной его натуре лояльности, сколько от склонности к неспешным беседам, лицезрению цивилизованных городов и гостиниц. Он мог взять рюкзак (хороший, немецкий, недорогой), забрать с собой худенькую и очень умную жену Юлю, обеих дочек и отправиться пешком по дорогам, допустим, Шотландии. Ни от кого не завися, вольный, как птица, и неприхотливый, как сурок. Но если Алеша решился на такое путешествие, это значит, что в середине или в конце маршрута стоят дома его добрых приятелей-эмигрантов либо искренне расположенных к нему коллег-синхронистов. Ибо неприхотливость Алеши включала хорошую ванну и махровые полотенца.
Когда Андрей сказал Гаврилину, что к Бригитте не пойдет, потому что зван в гости к спонсорам — так они, не сговариваясь, назвали между собой компанию Бегишева, — тот только пожал плечами, показывая этим непонимание и неприятие решения своего соседа. Но принцип Алексея состоял в том, чтобы не навязывать своего мнения никому на свете. Потратив минут пять на приведение в порядок своего туалета, Алеша забрал с собой бутылку виски и отбыл.
Андрей улегся на койку. Оставалось полчаса. Он за день устал.
А может быть, сказывается возраст?
Глупая мысль, вернее, на первый взгляд глупая мысль.
«Мне еще нет сорока лет. Я молод и совершенно здоров…»
Мысль прервалась.
За дверью, громко споря по-литовски, прошли соседи. Затем наступила гудящая тишина корабля, помогающая думать.
…Владимир Ильич Ленин родился в 1870 году. От странной смеси восточных и европейских генов, совокупившихся как раз на границе Европы и Азии — ведь именно Волга являет собой эту границу, а не отдаленная условность Уральского хребта. В благополучной, работящей, многодетной и добропорядочной семье появилось по крайней мере два кукушонка. Когда их качала няня или кормила конфетами мама, мальчиков звали Сашей и Володей. Изображений маленького Сашеньки история не тиражировала, зато курчавый Володя — нежный, мягонький — был частью мещанского быта советских людей. Буржуазный мальчик с буржуазным будущим провинциального адвоката.
Конечно, Ломброзо заблуждался, полагая, что по лицу человека можно определить его пороки и преступное будущее. Братья Ульяновы были респектабельны, как маленький барон Унгерн. Несмотря на различие методов, они оба относились к странному роду преступников, звавших себя борцами за свободу народа. Их аятоллой был холодный Карл Маркс. К народу они не приблизились и, судя по всему, не могли превозмочь к нему, то есть к его представителям, определенной социальной и гигиенической неприязни.
Даже Сталин в своей иконографии смог отметиться полотнами типа «Во главе батумской стачки» или «Возглавляющий демонстрацию рабочих в Баку», но Ленин мог общаться с народом, лишь стоя над ним на трибуне или балконе. И предпочтительно, чтобы этот народ состоял из членов партии или красных командиров.
Следовательно, рассуждал Андрей, лежа на мягкой широкой койке умеренно комфортабельного лайнера «Рубен Симонов», приняв за правду версию, которая чуть не стала трагедией для Лидочки, мы имеем дело с экспериментом, поставленным самой природой. Тот же самый генетический уникум, взращенный на другой почве, в ином окружении и проживший жизнь в неблагоприятных для его роста условиях, сгинет, так и не проявив черт великого злодея, ограничившись убийствами и поджогами. А вдруг все еще впереди?
Где тогда истина? В расчетах ли генетиков, определяющих все наследственностью и отрицающих влияние окружающей среды, или все же в утверждениях лжемарксистов, вплоть до известного Трофима Лысенки, что именно окружающая среда формирует особь. И что если достаточно упорно рубить хвосты у эрделей — родится бесхвостый щенок…
Андрей оказался как бы на краю раскопа. Вот он, пошел культурный слой! Конечно же — разумнее остановиться, и тогда не выпустишь наружу духов прошлого. Проклятие фараонов не настигнет тебя, гробокопатель! Но разве археолога остановишь такой угрозой, хоть и смертельной? Привычный, со стесанным лезвием, широкий нож уже дрожит, готовый хирургически врезаться в ссохшуюся глину, чтобы догрызться до сверкнувшей бусинки или обломка золотых ножен…
«Черта с два он теперь отступит! Не зря же я — младший хранитель времени на этой планете, и долг мой — оберегать будущее Земли от катаклизмов более жестоких, чем она сможет выдержать. И где гарантия того, что под давлением возродившегося гения революции вкупе с темными силами, готовыми использовать его, планета не опрокинется в бездну гибели и войн?»
Понять это можно, лишь находясь рядом с ними, добившись их доверия и став если не одним из них, то кем-то нужным им. А у Андрея было странное чувство, что он им не только любопытен, но и на самом деле нужен. Зачем?
В дверь постучали. Коротко и уверенно, так, чтобы ты не успел спрятать девицу, если таковая имеется, или съесть секретный документ.
И тут же вошел Алик.
На этот раз он был в тонком, обтягивающем покатые накачанные плечи свитере, и дверь он распахнул одной рукой, сам не занимая проема, а вжавшись в косяк и оставляя пространство двери свободным; если бы Андрей начал стрелять, то Алик был бы в относительной безопасности.
— Добрый вечер, — сказал он, широко усмехнувшись и обнаружив золотой клык, что было старомодно и провинциально. — Антонина Викторовна прислала меня напомнить, что вас ждут.
— Вы в армии служили или сами тренировались?
— Что имеется в виду? — спросил Алик.
Он был похож на молодого Муссолини, но вряд ли сам об этом подозревал.
— Ничего не имеется, — сказал Андрей. — Одеться позволите?
— Валяйте, — сказал Алик.
— Тогда закройте дверь, — сказал Андрей.
Алик без слов сделал шаг в каюту и закрыл за собой дверь.
— Послушайте, Алик, — сказал Андрей. — Я вас к себе не приглашал, а вы меня не арестовывали.
Алик был удивлен и чуть приоткрыл рот, чтобы лучше слышать и понимать.
Андрей понял, что Алик в недоумении. Пришлось пояснить:
— Подождите в коридоре, я не люблю переодеваться при посторонних. А еще лучше — идите к себе, я найду вашу каюту.
Алик не догадался, как себя вести дальше. Угрожать, пугнуть, отступить, промолчать — видно, не было инструкций.
Андрей сразу нажал сильнее.
— Я жду, — сказал он голосом лорда, отправляющего дворецкого чистить серебро.
Когда Алик ушел, Андрей понял, что одним недоброжелателем у него на свете больше. Но тем не менее он полагал, что был прав, потому что опаснее всего слуги сильных мира сего — они отождествляют себя с хозяевами, но, как правило, лишены воображения.
Когда Андрей вошел в каюту № 512, встретили его радостно и громко, как запоздавшего родственника. Антонина крупными шагами ринулась к двери, схватила Андрея за плечи, как Тарас Бульба вернувшегося до хаты сынка, и встряхнула:
— Добро пожаловать в нашу скромную компанию.
Бегишев сидел в одиночестве на низком диване, растекшись по нему студенистой тушей, которую не мог удержать воедино синий с белыми полосами спортивный тренировочный костюм. Он изобразил улыбку и гостеприимство, что далось ему нелегко — лицо Оскара Ахметовича не было приспособлено для теплых чувств. Он приподнял пухлую руку и щелкнул пальцами. Андрей увидел, что на руке вспыхнул синим камнем золотой перстень.
Алик стоял спиной у письменного стола и открывал бутылки. Он видел приход Андрея в отражении иллюминатора, так что поза была намеренной. Младенец Фрей был возбужден, щеки горели, будто нарумяненные. Виски и скулы были наверняка подкрашены. Любопытно будет спросить у Лидочки, красил ли Фрей волосы, пока жил у Сергея.
Фрей стоял справа от двери, у занавески, отделявшей гостиную от спального алькова, в компании незнакомого Андрею странного маленького человека со сплющенным с боков лицом, густо заросшим черной щетиной — только острый горбатый нос толщиной в закладку для книги выдавался из этих зарослей. Глазам человека также было тесно на лице, они круглились, а брови были поломаны опрокинутыми галочками. Когда Фрей подвел этого человечка, к которому благоволил, очевидно, потому, что тот уступал ему в росте сантиметров десять, Андрей понял, что незнакомец позволяет волосам столь густо закрывать лицо, чтобы не был виден скошенный подбородок — его место занимали волосяные джунгли.
— Профессор Маннергейм, — представил бородатого мужчинку Фрей. — Борис Анатольевич, экстрасенс, ведущий специалист по Шамбале и Тантре. Член Нью-Аркской академии трансцендентальных знаний.
— Член-корреспондент, — сердито поправил профессор Маннергейм Фрея. — Всего-навсего член-корреспондент.
— Но это немало, — искренне порадовался Андрей.
— Вы так думаете? — спросил профессор.
Андрей ощутил, что Фрей понял издевку, оценил ее и затаил знание о ней.
Произошла пауза — Фрей и профессор внимательно смотрели на Андрея, Антонина стояла рядом с ним, не снимая ладони с его плеча. Все ждали очередного действа. И Андрей догадался, чего они ждут.
— Вы приходитесь родственником генералу Маннергейму? — спросил он.
И ему показалось, что окружающие вздохнули с облегчением. Угадал.
— Мои предки — крестьяне, — сообщил Борис Анатольевич. — Одного из имений пресловутого барона.
— Он несет это как крест, — сказала Антонина.
— Ну уж не сейчас, не сейчас, — вдруг заявил тонким голосом Бегишев. — Сегодня я был бы счастлив иметь такую фамилию. Да на нее такие сделки бы клевали, офигеть.
— А я предпочел бы быть Ивановым, — храбро возразил Маннергейм.
— Никто не мешает — перемени фамилию, возьми псевдоним, я тебе за двести баксов эту процедуру в мэрии в два дня проверну.
— Простите, Оскар Ахметович. — Маннергейм демонстративно и обиженно развел руками. — У меня нет двухсот баксов! — Последнее слово он произнес с искренним презрением.
Бегишев хмыкнул и ответил после короткой паузы, словно не сразу сформулировал мысль:
— Заработай.
Пауза кончилась, потому что Антонина поняла, что пора брать руководство веселой пирушкой в свои руки.
— Усаживайтесь, мальчики, — сказала она, — усаживайтесь. В ногах правды нет.
Кресел и стульев хватило всем. Лишь Алик не занял свой стул — он ставил на большой журнальный столик у дивана бутылки, видно, взятые с собой — родные, российские напитки, без затей. Шампанское и водка. На столе стояли две раскрытые банки датской ветчины, формой напомнившие Андрею печень, кучей громоздились пирожки — такие давали днем к бульону, толсто и неаккуратно был порезан сервелат.
Алик разлил шампанское по бокалам, принесенным из бара.
— За знакомство, — сказала Антонина. Бегишев не спорил с тем, что она взяла на себя роль тамады, — очевидно, ему было жаль расходовать свою драгоценную энергию на столь банальные дела. Он зачерпывал столовой ложкой ломоть ветчины, соединял его с пирожком, делал хватательное движение неимоверно расширившейся пастью, и пища исчезала внутри.
Андрею показалось, что он видит, как добыча ползет по глотке Бегишева, как видишь кролика, перемещающегося по пищеводу удава.
— До дна, до дна! — закричала Антонина, ставя бокал вверх ножкой.
— Но ты же знаешь, — укоризненно сказал Маннергейм, — для меня это исключено.
— Он закодированный, — сказала Антонина Андрею, за что была подвергнута выговору со стороны Фрея.
— Это нетактично по отношению к профессору, — сказал тот. Андрей с интересом стал слушать, какова будет ответная реакция. Его интересовали внутренние отношения в этой стае — она в какой-то форме существует не первый день, и для понимания ее структуры и специфики важно уразуметь, кто здесь вожак формальный, а кто истинный, кто хромая обезьянка, а кто будущий соперник вожака… Впрочем, стая была слишком мала, чтобы законы в ней действовали в полную силу.
— Вы правы, Владимир Ильич, — оговорилась Антонина, и Фрей метнул в нее яростный взгляд, но втуне, потому что Антонина приказала Алику:
— Наливай дальше, без паузы. Есть предложение насосаться.
Она обернулась к Андрею:
— Вы не возражаете, Андрюша?
— Я не профессионал, — ответил тот.
— Обижаешь, — серьезно ответила Антонина, — мы здесь алкашей не держим. Люди мы серьезные, дела у нас серьезные. Алкаш у нас долго не продержится. А насчет Маннергейма — это шутка.
Бегишев к тому времени как раз донес бокал до маленьких красных губ и тихо сказал, как человек, привыкший, что все замолкают, когда он начинает говорить:
— Я предлагаю поднять этот тост за наше знакомство и начало нашей поездки, чтобы она была удачной.
— Ура! — коротко ответила Антонина и потянулась наполнить свой бокал снова, потому что получилось, что вроде бы она поспешила и выпила до команды.
Пили все. По-разному, с разными целями. В иной ситуации Андрей бы этого не заметил, но сейчас он внимательно следил за собутыльниками.
Бегишев пил по обязанности. Возможно, в иной ситуации, в иной компании он получал бы от такого процесса удовольствие. Но не здесь. Здесь он был начальником отдела, вышедшим из своего кабинета к подчиненным, провожающим на пенсию Ивана Никифоровича, и брезгливо думающим, где они умудрились откопать эти подозрительные грибы и этот неудобоваримый портвейн. К тому же ему нельзя показаться подчиненным в подгулявшем виде, а то завтра кто-то из них посмеет ему тыкать или хотя бы шептаться за спиной. Антонина была в себе уверена: она не боялась и напиться, и остаться трезвой — ни в пьяницы, ни в алкоголики ей дороги нет, уж больно здоров ее организм. Она будет всю жизнь есть, пить, совокупляться, выступать на собраниях, копать грядки на огороде — и все с грохотом и плотским наслаждением. Фрей пил умеренно, маленькими рюмками, но не потому, что не хотел, — берег здоровье. Даже закусывал ветчиной с хлебушком, чтобы, не дай бог, не захмелеть или не испортить желудок. Алик не пил вовсе — он был на службе. А вот профессор Маннергейм — из крестьян — оказался безнадежным пьяницей. После третьей рюмки его мокрая нижняя губа начала отваливаться, он порывался что-то сказать, его отодвинули со стулом в уголок, но он не угомонился и все лез в разговор.
— Для отдыха? — допрашивала Антонина Андрея. — Просто для отдыха. Не в сезон. А в сезон отдыхать, ну-ну!
— На халяву, — коротко заметил Бегишев.
Они его здесь допрашивали. Все, кроме Маннергейма, его допрашивали. Такой вот современный вид допроса. Под рюмочку и сервелат.
Ответы Андрея их не удовлетворяли.
— Вы питерский? — доверительно спросил Фрей, точно так же, как спрашивал Ленин у часовых Смольного в ту тревожную ночь: «Вы питерский, товарищ? Путиловец?»
— Я из Москвы, — отвечал Андрей и, чувствуя, что Москва не пользуется доверием в этом обществе, добавил: — Но родился и вырос в Симферополе, в Крыму.
— Я отдыхал в Крыму, по путевке, — сообщил Маннергейм. — В санатории «Красные камни». Кормили по первому классу!
— Люди делятся на тех, кто отдыхает в профсоюзных санаториях, и на тех, кто отдыхает, — изрекла афоризм Антонина и сама ему засмеялась.
— А сам будете из хохлов? — спросил Фрей.
— Нет, не буду, — ответил Андрей.
— Выпьем за дружбу народов! — сказала Антонина. — Хоть и ссорились мы порой, и спорили, но жили, надо признать, дружно. Как в большой семье. Не согласны со мной, Андрюша?
— Вы имеете в виду Советский Союз? — спросил Андрей.
— Виляет, — заметил Маннергейм, — виляет, чувствую я его темную ауру. И не вызывает доверия.
«Чем я ему не понравился? — подумал Андрей. — Я же слова с ним не сказал. А он мне? Он мне понравился? Он мне неприятен с первого взгляда. Мировой газ флогистон, заполняющий пространство, каждого из нас награждает особым запахом».
— Да, я имею в виду Советский Союз — оплеванный, выброшенный на помойку за ненадобностью, проданный западным разведкам! — агрессивно выкрикнула Антонина. — И если кто не согласен со мной, тот может уйти и закрыть за собой дверь.
Андрей не знал, какую линию поведения ему избрать в ответ на психическую атаку. Чего они ждут?
Стало тихо, и все, подняв рюмки и стаканы, смотрели на Андрея.
— Я политикой не занимаюсь, — сказал он. — Я слишком много знаю о том, к чему она приводила и тысячу, и сто лет назад, но в покойном Советском Союзе были свои достоинства. По крайней мере он меня воспитал и сделал таким, какой я есть.
И тут же вспомнился послевоенный, многократно цитированный фильм «Подвиг разведчика», где отважному актеру Кадочникову, игравшему красавца разведчика, фашист предлагает выпить «за победу германского оружия». Встает наш герой и восклицает: «За нашу победу!» Все в зале разражаются аплодисментами, потому что понимают тонкий намек советского разведчика. «Каким сделал меня Советский Союз — это мое личное дело. Им хочется, чтобы я стал одним из их компании, — пускай считают меня таковым».
— Я с тобой не согласен, Антонина, — сказал Бегишев после того, как выпили и закусили ветчиной и сервелатом. — Не для всех Советский Союз был раем земным. Моего дедушку репрессировали только за то, что он был братом муллы. Мой отец не получил образования. И детство я провел в деревне.
— Вон смотри, какой вымахал в своей деревне, — сказала Антонина.
— Это неправильный обмен веществ, — возразил Бегишев жалобным голосом. Видно, и в самом деле в его толщине частично был виноват обмен веществ и упоминание о весе ему было неприятно. — С голодухи.
— Видите, — сказал Андрей Антонине, к которой в этой компании испытывал наибольшую неприязнь, — существуют разные версии о дружбе народов.
— В том-то и диалектика, молодой человек, — радостно ворвался в дискуссию Фрей. — Отдельные проявления громадной системы могут и должны быть отрицательными по своей сути. Именно тогда вы можете осознать благородство и гуманизм системы в целом. Вам понятно?
— Отстань ты от него, — сказала Антонина, которая успела отхлебнуть еще разок. — Если человеку больше нравится дерьмократия, пускай катится к чертовой бабушке. Я понятно выражаюсь, мать твою?
— Антонина, — резко оборвал ее Бегишев. — Еще одно высказывание, и вылетишь ты. И не к матери, а в холодную воду за бортом.
Алик принялся разливать по бокалам, Маннергейм вытащил из кармана стеклянный шарик и стал глядеть сквозь него на настольную лампу.
— А из какой вы семьи, Андрей? — спросил Фрей.
Вот тебе дают шанс остаться своим среди своих. Семейное происхождение для них немало значит.
— Мой отец познакомился с мамой на фронте, — сказал Андрей.
— На каком?
— На Первом Белорусском.
— Нет, — вздохнул Фрей, — я был на Втором Украинском. Мы Берлин брали.
Андрей знал, что Фрей ни на каком фронте не был. Так что их беседа являла диалог двух лукавцев.
— Они живы? — спросил Фрей.
— Отец умер двадцать лет назад. Последствия ранений. Мама — недавно.
— И больше родных нет?
— Двоюродная сестра, — покорно ответил Андрей. — В Измаиле, только отношений почти не поддерживаем.
— Вы сказали — в Израиле? — вроде бы ослышался Маннергейм.
— Попрошу без провокаций! — вступился за арийское происхождение Андрея Фрей.
— Вот видите! — Антонина посмотрела на Маннергейма. Тот, не отнимая шарик от глаза, упорствовал:
— Не вижу фронта. Фронта не вижу! Вижу продовольственный склад и много евреев.
— Выпили еще! — приказал Бегишев.
— Тебе что, — сказала Антонина. — В тебя как в бочку — сколько ни примешь, все равно грамм алкоголя на тонну живого веса.
И она весело рассмеялась.
Бегишев выпил, не глядя на Антонину.
— Может, мы тут производим на вас легкомысленное впечатление, — произнес он высоким, как нередко бывает у толстяков, голосом. — Но каждый человек должен расслабляться. А потом с утра — снова за дела.
— Ну сейчас какие дела? — возразил Андрей. — Мы тут все в отпуске.
— Если бы я так рассуждал, — наставительно ответил Бегишев, — то жил бы на вашу зарплату.
Маннергейм с готовностью рассмеялся.
— У делового человека не может быть выходных и отпусков, — закончил Бегишев.
— Я могу со всей ответственностью подтвердить это, — сказал Фрей. — Моя жизнь прошла в непрерывных трудах. И я счастлив тому, что не знал выходных.
Спорить вроде бы не приходилось. Андрей и не стал.
— Вы верите в переселение душ? — спросил Маннергейм, покачиваясь на стуле.
— Я вообще мало во что верю. Пока не потрогаю руками, — сказал Андрей.
— Вот! — воскликнул Маннергейм. — Я же предупреждал.
— А ты, Андрей, молодец, — сказала Антонина. — Имеешь точку зрения и защищаешь ее. Может быть, и в Бога не веруешь?
— Это мое личное дело, — ушел от ответа Андрей. Ссориться с этой публикой он пока не намеревался и совершенно не представлял, кто они — большевики и атеисты либо христиане и националисты: удивительные сочетания несочетаемых идеологий стали характерной чертой российской жизни начала девяностых годов. Вокруг возникали фантастические ублюдки вроде секты, во главе которой стоял Христос женского рода из числа комсомольских работников, или гуманитарной партии, которую составляли вовсе не филологи, а сторонники «коммунизма с человеческим лицом»…
— А я вот — коммунистка и верую! — заявила Антонина и, оттолкнув Маннергейма, заняла середину комнаты, возвышаясь над Андреем, как некая арийская языческая богиня.
Бегишев, которому ее спина загородила поле зрения, потянулся вперед и с заворотом ущипнул ее.
— Мать твою! — закричала верующая коммунистка, разворачиваясь и выплескивая в лицо Бегишева стакан с водкой.
Бегишев резво для своих объемов поднялся и жирным кулаком попытался своротить своей приятельнице челюсть, в чем ему помогал телохранитель Алик, который ловко заломил Антонине руки за спину, чтобы Бегишеву было удобнее ее бить. Но Антонина не желала, чтобы ее били по лицу, и потому начала лягаться, выкидывая вперед поочередно толстые крепкие ноги в черных чулках.
— Не сметь! Не сметь! — кричал Фрей. — Я запрещаю вам этот мордобой!
Андрей быстро поднялся, так как битва перемещалась в его сторону и Антонина с державшим ее Аликом вот-вот должны были на него свалиться. Он успел вовремя отпрянуть, потому что они все же свалились в его кресло, оставив в тупом недоумении Бегишева, который в очередной раз промахнулся.
Наступила тишина, и хриплый голосок Маннергейма подытожил:
— Посуды-то побили, посуды… не расплатиться.
Посуды побили не так уж много, нечего было особенно и бить. Скорее всего Маннергейм имел в виду бутылки со спиртом и вином — вот они пострадали, как пострадал и ковер, по которому разлилось пахучее озеро с заливами и островами.
— Вы куда? — спросил Бегишев, заметив, что Андрей уже подошел к двери. — Праздник-то еще не кончился.
— Но стал слишком шумным, — сказал Андрей.
— Дружеская вечеринка, как без споров! — сказал Бегишев, широко улыбаясь, вернее, стараясь это сделать — для такого его лицо не было приспособлено. — Мы же еще ничего о вас не знаем.
Андрей хотел было сказать, что это — не его идеал вечеринки, но Фрей почуял неладное и буквально повис на нем, оттаскивая от двери:
— Вы обязаны остаться, просто обязаны. Мы все единогласно избрали вас своим товарищем. Не думайте, что мы такие простые, нет, нам уже многое о вас известно.
Что случилось? Что они могли узнать? И где? Допустим, что на судне у них есть свой осведомитель, даже допустим, что они проверяли списки всех членов конференции. Сто пятьдесят человек. Но ради чего?
— Вы думаете, — Фрей проявил завидную проницательность, — вы думаете сейчас: «Не верю я этим чайникам. С чего бы им проверять личные дела сотни писателей?» А ведь вы не правы! Некоторых мы и без того знаем — с кем сотрудничали, кого читали. Вы знаете, например, что на борту нашего парохода находится известный писатель Михаил Кураев?
Андрей ничем не выразил согласия либо удивления.
— Хороший писатель. Его уже переводят на иностранные языки. Но его творчество вызывает у нас некоторые сомнения. Почему? А потому что в своей повести «Капитан Дикштейн» он с сочувствием описывает Кронштадтский мятеж, восстание оголтелых левых эсеров против нашего рабоче-крестьянского правительства. — Последние слова получились с отличным ленинским грассированием — Андрей чуть было не похвалил Фрея. — А вот про вас, Андрей Сергеевич, мы ничего не знали.
— Плевали мы на тебя, если бы не чемодан, — пояснила Антонина.
— Вы пришли ко мне на помощь, — сказал Фрей. — И вам, наверное, показалось — какие неблагодарные люди!
— Я это пережил.
— А вот мы не пережили, — сказал Бегишев. — Какого черта в наши дни человек кидается за чужим чемоданом? Значит, он дурак или провокатор.
— Дурак, — признался Андрей.
— А где вы работали до института археологии?
— В разных местах, — сказал Андрей.
— И не сидели? — вмешался Фрей.
Они втроем по очереди задавали вопросы, сразу отрезвев. Они с трудом могли дождаться очереди — как будто в тире с одним ружьем на всех: оживившийся Бегишев, помолодевшая Антонина и выросший на голову Фрей. Алик тем временем убрал осколки, откуда-то достал новые бутылки и открыл их. Никто, кроме Андрея, не обращал на него внимания!
— А что вы делали в Бирме? — спросил Фрей.
— Это было давно. Я там участвовал в раскопках.
Хорошо, если они не очень тщательно копали — могли бы узнать нечто лишнее.
— Почему именно вы?
— Потому что я знаю иностранные языки.
— Зачем вам это понадобилось?
— У меня способности к иностранным языкам. И диплом. Не знаю, что вас больше устраивает.
— Не иронизируйте, — заметила Антонина. У нее оказался наибольший опыт (или способности) к допросам. — Мы спрашиваем дело.
— Мы спрашиваем дело, — подтвердил Маннергейм, который не принимал участия в допросе, а подливал себе пепси-колу из большой пластиковой бутылки и заедал конфетами.
— И мы хотим вам доверять, — сказала Антонина.
— Вы слишком добры ко мне.
— Опять ирония?
— Я так неудачно устроен.
— А если бы вы знали, батенька, — сказал Фрей, — что мы ставим себе целью возвращение социалистического общества в нашу страну, как бы вы к нам отнеслись?
Теперь надо было ответить убедительно. Они тебя слушают, они смотрят, они нюхают воздух, который тебя окружает, они — стая, готовая тебя растерзать или отодвинуться, чтобы уступить тебе место у растерзанной антилопы. Ну, отвечай!
— Это никого не касается.
— Но почему? Не стесняйся. — Фрей мог быть убедительным, даже трогательным, когда нужно. — Говори.
— Я рос и воспитывался в коммунистической семье… — сказал Андрей медленно, запинаясь. — Я был комсомольцем, я во многом сомневался… и были сложные времена.
— Так, — согласился Фрей. — Ты прав.
— Перелом мне… перелом дается непросто.
— Нам всем непросто! — сказала Антонина.
Бегишев уже несколько минут молчал. Смотрел на Андрея, словно гипнотизировал, оценивал, проверял, но рта не раскрывал.
Андрей отпил из бокала. Водка у них была хорошей.
— Мне нужно жить спокойно, мне нужно, чтобы на улицах было безопасно, чтобы не царили злость и беззаконие…
— Нам тоже это нужно, товарищ, — сказала Антонина, вложив в слово «товарищ» ритуальное содержание.
Андрей все более увлекался, входил в роль, которая была тем более несложной, что ему почти не приходилось изобретать. Вопрос заключался лишь в том, что же они хотели от него услышать.
— И когда я увидел, как у пожилого человека какой-то мерзавец утянул чемодан… ну, наверное, каждый из вас сделал бы то же самое…
— Нет, — сказал Бегишев, — если ты не провокатор, то тогда мало кто в наши дни так поступает.
— Есть еще люди, — сказал Фрей, и его голос дрогнул.
— А может, это случилось потому… вы меня простите, — продолжил Андрей, — что вы показались мне очень похожим на одного человека.
— И на кого же, если не секрет, товарищ?
— На Владимира Ильича Ленина, — ответил Андрей.
— Правда? — спросила Антонина.
— А разве вы этого не замечали? — пришла очередь удивиться Андрею.
— А в самом деле, — после некоторого раздумья сделал подобное же открытие Бегишев.
— Если бы наш Владимир Иванович не был похож на Ильича, ты и не побежал бы за преступником? — спросила Антонина.
— Не знаю, — признался Андрей.
— Вот теперь самое время выпить, — сообщил Бегишев.
И все с облегчением оттого, что допрос пока закончился и все обошлось, налили себе побольше и выпили по последней, которая вовсе не была последней.
Андрей давно столько не пил, к тому же не был уверен, что его новые знакомые так уж искренне желают напиться с ним наравне. Им он нужен пьяный: может, допрос и закончен, но разговор — нет. Так что не исключено, что неровный самолетный шум в голове и раздвоение предметов в глазах — следствие неких добавок… ну и черт с ними. Главное — помнить урок пана Теодора: «Если тебя испытывают добрыми русскими алкогольными методами — в России всегда предпочитают этот способ иным, — помни, что ты любишь людей, которые тебя спаивают, что они лучшие твои друзья. Конечно же, ты не можешь огорчить их, допуская в тайники своей темной души. Но любовь пускай тебя переполняет. Не мешай ей».
«…Я люблю эту грубоватую, но неглупую и привлекательную Тоню… и Бегишева… Бегишев, я тебя разгадал, ты вовсе не такой злой, каким хочешь показаться… А Ленин — Ленин наш вождь. Он и сегодня мой вождь, как и вождь всех трудящихся нашей планеты…» Разум Андрея знал, что притворяется, и это почему-то нужно… Он хочет поделиться с Антониной своим чувством к Лидочке… «Ого, сколько они в меня вкатили! Пора валиться с дивана, чтобы дать возможность отвести меня домой, в надежде на то, что Алеша еще не вернулся. Им так хочется покопаться в моих вещах… Все, я отключаюсь, не переставая лепетать о любви к России… Где ты, Алик? Ведите меня!»
Вели его, кажется, Алик с Маннергеймом, а Антонина шагала сзади. Время было позднее, депутаты и спонсоры, утомленные первым днем круиза, уже разошлись по каютам, лишь из музыкального салона доносился низкий хрипловатый голос Дилеммы Носатовой… нет, Кафтановой. «Как ее зовут? Алик, как эту певицу зовут? Революция? Спасибо, мальчик».
— Ты сам постучи, — сказала Антонина.
— Нет, — сказал Андрей, — пускай сначала ваш Оппенгеймер скажет, есть там кто-нибудь? Пускай скажет, раз он экстрасенс.
— Еще чего не хватало! — обиделся Маннергейм. — Вы хотите стрелять из меня по воробьям?
— А ты стрельни! — настаивал Андрей и тут же вновь погрузился в небытие.
Так и не выяснив, есть внутри кто или нет, они подтолкнули Андрея вперед, и тот распахнул дверь, рассудив, что Алеша вряд ли стал бы устраивать любовное свидание, не заперев дверь изнутри — в любом ином случае он Андрея простит, потому что Андрей, по правилам игры, смертельно пьян.
Алеши в каюте не было.
Но свет горел.
И еще — в каюте находились два человека.
Они так дружно и стремительно кинулись к двери, что создали в дверях тугую пробку и прошибли ее, словно сами были согревшимся шампанским.
Андрей послушно и безвольно упал, не пытаясь сопротивляться либо участвовать в мимолетном бою, Антонина зарычала, хотя должна была бы визжать, Алик схватился с одним из убегающих, а вот Маннергейму не повезло — он попал под одного из гостей, как кролик под танк. Потом, когда Андрей попытался восстановить последовательность событий, ему показалось, что он помнит звук трещащих ребер экстрасенса, который не только не сумел мысленно заглянуть за дверь, о чем его просили, но и не догадался, что по нему пробегут каблуками.
Далее мысли и воспоминания Андрея путались — он лишь понимал, что его спутники, намеревавшиеся уложить его спатеньки, а потом спокойно обыскать его вещи, опоздали. И это было смешно. Вернее, скажем, забавно.
Поднявшись с пола и ввалившись в каюту, Андрей направился было к своей койке, но остановился и жалобно сообщил Антонине:
— Как же я спать буду?
Спать и в самом деле было негде. Не ожидавшие скорого возвращения хозяина гости свалили на пол одеяло, простыни, подушки, матрас, а потом еще и подняли койку, чтобы проверить, не лежит ли чего в ящике под ней.
Все было перевернуто и на столике. Неясно, искали они там что-то или просто смахнули все на пол, чтобы освободить стол. А стол понадобился, чтобы вывалить на него содержимое небольшого потертого чемодана Андрея.
Такая же судьба постигла и рюкзак Алеши Гаврилина, вывернутый на койку.
Может быть, гости собирались потом прибрать за собой, но скорее всего они ничего не боялись.
Сейчас — самое время Андрею протрезветь. Так и случилось бы, если бы отравление ограничилось тремя-четырьмя рюмками водки. На деле же он был накачан снотворным настолько, что даже нечеловеческие попытки держать себя в руках ни к чему не привели. Неверными руками Андрей рванул на себя койку и свалился на голый матрас.
И больше ничего не помнил. До утра.
Все остальное ему рассказали другие.
И о том, как возмущенная Антонина кинулась к дежурной за стойкой администратора и подняла тревогу, как прибежал старший помощник, как подняли Бригитту Нильсен и Эрнестинского, как гремел международный скандал и как бил себя в грудь пассажирский помощник, как искали по следам виновных, как Антонина с Аликом давали показания разбуженному капитану, но в коридоре было темно, к тому же бандитов разглядел только шедший первым Андрей.
— Значит, так, — сказал Алеша Гаврилин, когда утром Андрей окончательно проснулся, но поднять голову, наполненную совершенно жидкими, вонючими и раскаленными мозгами, был еще не в состоянии. — Что тебе принести из ресторана? Кофе, сок или банальный кефир?
— Зеркало, — ответил Андрей.
— Ты лучше себя пощупай, — сказал Алеша Гаврилин. — Лицо на месте, нос, глаза, щеки — все как у людей. А смотреть в зеркало я не советую.
— Расцветка, да? — осторожно спросил Андрей.
— Расцветка экзотическая.
— Тогда сто граммов кефира, — сказал Андрей и послушно ощупал лицо — до кожи было противно дотрагиваться, словно кое-где она слезла.
— Хорошо, я пойду за кефиром и кофе, — сказал Гаврилин. — Ваши пожелания внушают мне надежды на благополучный исход… сэр.
Пока Гаврилин ходил в ресторан, Андрей вытащил себя за уши из койки и доковылял до туалета. И в самом деле следовало бы послушаться совета мудрого человека Гаврилина и заранее разбить все зеркала. Опухшая голубая рожа тупо глядела на Андрея из зеркала, и, лишь показав ей язык и увидев, как она это делает в ответ, Андрей смирился с тем, что его лицо и рожа в зеркале принадлежат одному телу.
Почистив зубы и изгнав изо рта эскадрон, проведший там ночь, Андрей возвратился к койке. Тут появился и Гаврилин с подносом, на котором был сок, кофейник и кефир, а к ним — нарезанная колбаса и несколько булочек.
— Я составлю тебе компанию, — сообщил Алеша и разлил кофе по чашечкам. — Руководство ресторана резко выступало против разбазаривания посуды по номерам, но сочувствие к твоей нелегкой судьбе, а также заступничество фрекен Бригитты нас с тобой спасло.
— Они раскаиваются? — спросил Андрей.
— Я попросил бы вас быть более конкретным. Чьих раскаяний вы жаждете? Капитана? Пароходства? Правительства нашей советской родины или тех неумелых грабителей, которые забрались к нам в спальню?
— Кого-нибудь поймали?
— Разве без твоей помощи поймаешь?
— Их было двое?
— Говорят, что двое. А чем ты так привлек внимание к своей персоне?
— Я думаю, они начали с моей койки, а потом намеревались заняться тобой, как богатым и знатным человеком.
— Ты оживаешь, Берестов, — заметил Гаврилин, который хотел бы представить предположение Андрея как шутку, но не очень получилось. — Ты уже начал строить гипотезы. Для человека, который насосался так, что не разглядел воров, шуровавших в его пожитках, ты быстро восстанавливаешься.
Андрей был убежден в том, что один из двух грабителей был повар Эдик — даже рука была завязана. И это было плохо для Андрея. Теперь, когда этот Эдик и его покровители наверняка убеждены в том, что Эдик опознан, — они не имеют права игнорировать опасность, исходящую от Андрея. А раз так, то ему надо быть втрое осторожнее.
Но что-то не стыковалось. Ведь Андрей совершенно случайно увидел, как повар Эдик намеревался утащить чемодан. В конце концов — что тут такого? Каждый гражданин имеет право подрабатывать в свободное от рейса время. Затем Андрей встретил повара в ресторане и узнал его. Значит, повар был настолько нахален, что после провала своей операции не побоялся вернуться на борт. А ведь не исключено, что и телохранитель Алик тоже его узнает? Затем начинается совсем уже интересное: сначала друзья Фрея устраивают Андрею допрос, связанный в первую очередь со злосчастным чемоданом. А что тебя, молодой храбрец, заставило бегать за нашим багажом? Потом и сами воры, которые также таятся на корабле, никак не успокоившись, решают повторить ограбление, избрав на этот раз своей жертвой Андрея. И на подвиг снова отправляется Эдик. И вы меня никогда не убедите, что Эдик залез в каюту Андрея только для того, чтобы начался никому не нужный международный скандал, или потому, что Андрея здесь принято считать миллиардером-инкогнито. Нет, просто произошло повторение ситуации. Одни подпаивали и допрашивали из-за чемодана, а другие обыскивали — тоже из-за чемодана. Значит, в чемодане Фрея лежат не только лишние бутылки водки, а что-то еще. Всем интересное. Наверное, книга Андрея Берестова «Миг истории».
— Привидение, которое улыбается, — проницательно заметил Алеша, глядя, как слабая улыбка блуждает по лицу Андрея, столь углубленного в тайные мысли. — Еще есть будешь? А то я обещал вернуть посуду как можно скорее в ресторан, а потом бежать на заседание. Мне переводить. Там есть девочки, но Бригитта просила меня в первый день проконтролировать ситуацию. Ты не боишься остаться один?
— Почему я должен бояться?
— А на самом деле, почему ты должен бояться?
От двери Алеша добавил:
— Запрись на щеколду.
— Ладно. — Андрей вытянулся на койке.
Он чувствовал почти сладкую слабость во всех членах тела.
«Сейчас пойду и закрою…»
Наверное, он задремал, потому что не заметил, как вошла Антонина. Волосы ее были забраны назад, в узел, и оттого лицо полностью преобразилось. Он бы не узнал ее на улице. Лицо стало жестче, серые глаза потеряли близорукую доверчивость, вытянувшись уголками в стороны и вверх, сузившись, как у готовой к прыжку кошки.
— Чего же не заперся, — укорила его она, — мало ли кто войдет.
— Доброе утро, — с трудом произнес Андрей, — мы не на войне.
— Мы, к сожалению, всегда на войне, — ответила Антонина. — Ты мне симпатичен, и я хочу, чтобы ты был с нами. Тебе нельзя оставаться одному… таких пожирают… ам, и все!
Она показала большой, полный зубов рот: спереди зубы были белыми и крепкими — в глубинах рта светились массивным золотом.
— Чем вы меня вчера опоили? — спросил Андрей.
— Ни в коем случае! — возмутилась Антонина. — Ты за кого нас принимаешь? Если мы расположены к человеку, мы его не тронем, понял?
— Не хочешь говорить, не надо.
— Даже думать не хочу. Головка болит?
— Пройдет.
Антонина наклонилась к его голове, коснулась мягкими губами лба.
— Температуры нет, — сказала она. От нее пахло табаком, французскими духами и легким перегаром.
— Я велела врачу зайти, — сказала она.
— Не надо, я скоро встану.
— Нет, ты лежи. У меня к тебе такая просьба: полежи до обеда, будь ласков.
— Зачем?
— Для здоровья. Ты мне обещаешь?
Глаза ее умоляли, ласкали… Но все равно оставались кошачьими. Даже цветом изменились в зелень.
Она дотронулась пальцами до щеки Андрея и легонько погладила ее.
И тогда Андрей сообразил — как же сразу не понял? — им нужно, чтобы он оставался приманкой. В надежде, что те — их настоящие противники — придут сюда выяснить, что он знает…
То ли Антонина догадалась, что Андрей заподозрил ее в очередной хитрости, то ли почувствовала неловкость…
— Ты не бойся, — сказала она. — Мы будем рядом с тобой.
— Вы всегда рядом со мной, — сказал Андрей. — Если бы я знал — зачем?
— Все люди нужны друг другу, — ответила Антонина голосом отличницы. — Одни как друзья, другие как враги. Я где-то в американском фильме это слышала.
— В американском?
— Враги нам тоже нужны. Без них мышцы слабеют.
Она наклонилась и быстро — он не успел отвести в сторону голову — сильно поцеловала его в губы.
Когда она уже была у двери, Андрей спросил:
— Никто не задал мне простого вопроса…
— Значит, не нужно, — сказала Антонина.
— …видел ли я раньше этих людей?
— Значит, не играет значения, — повторила Антонина.
Уходя, в отличие от Алеши она не просила закрывать дверь на щеколду. Тоже понятно. Если он нужен им как приманка, то добыча должна забраться в капкан. А если в капкане заодно окажется и кролик, это уже проблемы кролика.
Лежать было неуютно. Если Эдик или кто-то из его друзей захочет убрать свидетеля, здесь не скроешься. Впрочем, почему кто-то будет на него нападать? Воры редко выходят за пределы своей специальности. Андрей опустил ноги на теплый пол, поглядел в иллюминатор. За иллюминатором было серое небо, и пришлось привстать, опершись о край столика, чтобы увидеть, что волны тоже серые, но темнее неба.
Андрей протянул руку вперед — проверить, как открывается иллюминатор. Это оказалось вполне реальным делом — можно спокойно вытолкнуть человека наружу.
«А какого черта я всех слушаюсь? Почему я должен сидеть в тупике, откуда один выход — головой вниз в холодную воду? Ведь никто не запретит крысе выйти из норы и погулять по коридорам».
Даже голова перестала кружиться — и страхи исчезли. Одеваясь, Андрей решил проверить, не утащили ли чего — ведь вчера было не до этого, — кажется, он сказал им, что все на месте…
Чемодан лежал на полке в ногах. Он был прикрыт, но не заперт. Все вещи некто аккуратный, аккуратнее Андрея — вернее всего, Алеша Гаврилин, — сложил как положено. Вот и фотоаппарат — единственный предмет, который следовало бы утащить, — неплохой «Зенит», правда, до мирового уровня не дотягивает.
За дверью кто-то остановился…
Шел по коридору и остановился.
Нет, не один. Там два человека. Тихо переговариваются.
Сейчас ручка двери начнет медленно поворачиваться — как в фильме «ужасов».
Андрей смотрел на ручку.
Ручка дрогнула.
И ничего, ровным счетом ничего, что можно бы считать оружием! Лишь очень толстая французская книга, которую Алеша читал перед сном.
Неожиданно в дверь постучали. Вполне деликатно, цивилизованно. Словно сначала решили проверить — а вдруг он не один?
Андрей хотел ответить, но голос его не послушался. Оказывается, он перепугался.
— Можно? — спросил Миша Кураев, заглядывая в каюту.
Андрей смотрел на него мало сказать удивленно — глупо, тупо, обалдело, словно действие развивалось по законам трагедии и вдруг в ней появился комедийный, шутовской элемент.
Но Миша Кураев ничего не почувствовал — видно, он шел по обычному теплоходу, по обычному дневному коридору и не представлял себе, что угроза смерти может совершенно реально нависать над Андреем, который прячется в каюте, как в норе.
— Ты что? — спросил Миша.
Из-за Кураева выглянул ленинградский писатель Миша Глинка — жилистый, прыгучий и непоседливый; когда-то они все вместе были в Репине и Миша Кураев бесконечно спорил с Мишей Глинкой о том, что лучше знает флот, любит море и лучше пишет об этом. Глинку Андрей еще не видел на «Симонове», но, увидев, обрадовался.
— Слухами земля полнится, — сообщил Глинка, останавливаясь в дверях. — Нашего московского гостя ограбили, унизили и еще дали ему по голове сахарной свеклой.
— Последнее — выдумка, — ответил Андрей и бессильно опустился на койку.
— Ну, ты — бледный! — сообщил Кураев.
— Вы заходите, я перепил вчера, — сказал Андрей. Это было правдой, и правдой самой подходящей к этой атмосфере — не станешь же рассказывать этим здоровым веселым людям о том, что только что трепетал в ожидании смерти.
Писатели уселись рядком на аккуратно застеленную койку Гаврилина, и Кураев, чуть смущаясь или лукаво делая вид, что смущается, вытащил засунутую под свитер, за матросский ремень, плоскую бутылку коньяка.
— Не примешь для укрепления здоровья? — спросил он.
— Приму, — сказал Андрей. Иначе сказать было нельзя.
Один стакан нашелся на столике, потом Андрей вспомнил, что второй можно принести из туалета, в нем зубная щетка и тюбик… Он прошел в туалет, взял стакан, выложил его содержимое на полочку и вымыл его. Кураев и Глинка молчали, а если и говорили, то так тихо, что за стрекотанием струйки воды не было слышно. С мокрым стаканом Андрей вышел из туалета. Налево была каюта — Кураев стоял спиной к нему, смотрел в иллюминатор, Глинка листал толстый французский том. Андрей посмотрел направо, на дверь.
И увидел, как ее ручка медленно опускается — человек, намеревающийся войти, не хотел, чтобы его услышали.
Надо было позвать, может, со смехом даже сказать Глинке — он ближе, он бывший нахимовец и привык быстро реагировать на опасность: «Миша, погляди, меня хотят убить».
Ничего Андрей никому не сказал. Он смотрел, как ручка продолжает опускаться, словно это движение можно растянуть до бесконечности.
Тут Кураев обернулся от иллюминатора и спросил:
— Тебя, голубчик, за смертью посылать?
Но дверь уже открылась — ринулась внутрь, как будто была не прямоугольником неодушевленной материи, а зверем.
В прямоугольнике образовался человек.
Кураев сразу сделал шаг ему навстречу.
Но человек ахнул и исчез.
Его рванули в сторону — его унесло какой-то резкой силой, как порыв ветра сносит сухой лист.
Глинка поднялся и, сделав предупреждающий жест, чтобы остановить Кураева, на цыпочках побежал к двери.
Выглянул.
Повернул голову в другую сторону.
— Я мог бы поклясться… — сказал он.
Кураев уже стоял за его спиной и выглядывал в коридор.
Потом посмотрел на Андрея с некоторой укоризной.
— Ты его узнал?
— Нет.
— Куда он мог убежать?
— В любую соседнюю каюту, — сказал Глинка.
На самом деле Андрей успел рассмотреть, что это был вездесущий Эдик. Даже не по взгляду, не по лицу — по завязанной руке. «Какого черта его посылают — он же известен… а кого послать? Он известен, ему и ликвидировать свидетеля». Мысли бежали в терминологии дешевого фильма, но Андрей никак не мог отделаться от того, что играет в нем роль — роль простака.
— Ну, у тебя как на вулкане, — сказал Глинка. — Давай выпьем здесь, а потом пойдем на заседание.
— Нельзя выпить, а потом идти на заседание, — поправил его Кураев. — Мы должны показывать пример заграничным писателям, а то они тоже будут сначала выпивать, а потом идти на заседание. Ты выпьешь?
— Выпью, — сказал Андрей.
— А когда будет настроение, пойдем в бар, где нас никто не услышит, и ты расскажешь нам больше, чем мы уже знаем, — сказал Глинка.
Разлил коньяк Кураев аккуратно и точно, как человек, всю жизнь мечтавший стать командиром крейсера, а проведший полжизни редактором «Ленфильма», пока не смог накопить в себе энергии бунта и ворваться в литературу, хотя за его спиной или у его локтя не было ни одной благожелательной критикессы и его первую повесть вежливо отшвыривали друг другу все толстые журналы.
Где сейчас Эдик? Спрятался в соседнем купе? Если он член какой-то группы, в которую входят люди из команды, то он может проникнуть в любую каюту, на любую палубу — как герои повести Шагинян «Месс-менд», которым подчинялись вещи.
— Пошли на палубу, — сказал Кураев. — Подышишь свежим воздухом в нашей неинтересной компании. Только умоляю — оденься потеплее, с перепоя надо беречь тепло.
Писатели повели его на палубу, там было холодно, дул свежий ледяной ветер. Коньяк начал действовать — всем было весело. Потому не хотелось думать о чем-то плохом, выходящем за пределы обычного круиза.
Потом они потащили Андрея в верхний бар «Белые ночи». Там было почти пусто, только Дилемма Кофанова наигрывала что-то на пианино, а один из ее оркестрантов стоял, облокотившись на инструмент, и пальцами, словно грозя, отбивал такт. В глубине, в кресле, с бокалом пива сидел Алеша Гаврилин. Видно, он отработал свое и теперь наслаждался лицезрением Дилеммы, которая ему нравилась, несмотря на дикое имя. Он утверждал, что у нее перспективный голос.
Когда они шли на палубу, а оттуда в бар — Кураев всегда шагал спереди, Глинка сзади и Андрей в середине. Они были как мальчики, играющие в войну. Они были правы. Андрею так было спокойнее.
И все же они упустили его на несколько секунд.
Андрей заметил, как Антонина заглянула в дверь бара, показав половину лица. И исчезла.
— Я сейчас, — сказал Андрей. — Я на минутку.
Глинка сразу поднялся. Но Андрей оказался проворнее.
Он вышел к широкой лестнице. Антонина стояла сбоку и раскуривала сигарету.
— Можешь гнать своих братцев-писателей, — сказала она. — Больше он тебя не тронет.
Глинка выглянул из бара.
— Мы тебе налили, — сказал он.
— Пить надо меньше, — сказала Антонина. — Голова должна быть ясной.
— Спасибо, — вежливо ответил Глинка. — Я передам по цепочке.
— По какой цепочке? — не поняла Антонина.
— По пионерской, — ответил серьезно Глинка.
Антонина пошла прочь. Она шла по-гвардейски — уверенно держась на высоких острых каблуках, словно была в сапогах.
— Не попади в сети любви, — предупредил Глинка, и они вернулись в бар.
Глава 5
Март 1992 г
«Рубен Симонов» стоял у серого мокрого плаца, к которому приставали в Гдыне дружественные корабли. Больше дружественных кораблей в тот день не было, и потому плац казался еще большим, чем на самом деле, и оркестр, человек в пятнадцать, затерялся на нем, как экспедиция капитана Скотта на льду Антарктиды.
— Пускай они не играют, — сказал Алеша, выходя к трапу, который вел к плацу, словно пожарная лестница десятиэтажного дома. — Пускай они останутся живыми. Поляки ведь тоже люди?
— О да! — ответил Михаил Глинка, древний род которого наверняка лет триста назад породнился с поляками, а потом еще двести воевал за какое-нибудь белорусское местечко с паном Туржанским.
Три автобуса, блестящих от дождя, стояли строем, готовые унести туристов из этого страшного места.
Андрей оглядывал любознательных пассажиров. Никого из группы Бегишева он не обнаружил, зато увидел Анастасию Николаевну и ее молодую спутницу Татьяну. Они были в одинаковых плащах и с одинаковыми черными зонтами. Как бы предвидя вопрос Андрея, Таня сказала:
— Мы забыли плащи и зонтики. Обе забыли. В Петербурге была такая зима… что пришлось купить эти вещи в Таллине.
Оправдание было совершенно неубедительным. Если одна из дам и была столь рассеянна, то не могла быть такой же халдой и вторая.
— Понимаю, — сказал Андрей. — Снег и так далее.
Они вместе подошли к крайнему из трех автобусов. Впрочем, хватило бы двух, и то они были бы неполными. Ветер налетал с моря холодным душем и загонял звуки оркестра обратно в трубы. На плац выехала «Скорая помощь». Кому-то на корабле плохо? Впрочем, шансов на то, что ты его знаешь, почти никаких — ведь пассажиров несколько сотен. Если бы такой вот «Рубен Симонов» налетел на скалу или опрокинулся, прогремел бы скандал на весь мир. Впрочем, подобные вещи случаются… Андрей вспомнил ялтинский вечер, полосы бортовых огней «Нахимова», музыку с белой высоты под южными звездами и неожиданное, почти непреодолимое желание сейчас же бросить все и подняться на этот белый пароход, чтобы проснуться завтра утром от шума машин и крика чаек… На следующее утро «Нахимов» затонул в Новороссийской бухте.
Не дожидаясь санитаров, два матроса с «Рубена Симонова» понесли вниз по трапу носилки, на которых лежал накрытый одеялом человек. Нести им его по такой крутизне было нелегко, и больному приходилось самому все время подбирать и подтягивать одеяло. Андрею стало страшно, как бы он не сполз с носилок под собственной тяжестью.
Следом за носилками спускалась уже известная Андрею Дилемма Кофанова. Ее поклонник или телохранитель нес над ней прозрачный пластиковый зонт. Дилемма была недовольна и что-то выкрикивала, а ветер порой подхватывал клочки ее крика и нес над плацем навстречу музыке оркестра.
Когда носилки добрались до твердого асфальта, Дилемма с облегчением ринулась в автобус, а телохранитель бежал сзади, борясь с зонтиком, который желал улететь.
Андрей увидел, что на носилках, которые вкатывали в «Скорую помощь», лежит господин Маннергейм — экстрасенс из бегишевцев. Простудился он, что ли?
Дилемма шумно взобралась в автобус.
— Когда я получу воспаление легких, то судиться буду с пароходством. Они у меня залетят на миллион баксов.
— Дилемма, — обратился к ней Алеша Гаврилин. — Мне так не хочется разочаровываться в вашей интеллигентности.
— А пошел ты… — ответила Дилемма и понесла свое крепкое крестьянское тело, неподвластное шейпингу и аэробике, по проходу, стуча сверхвысокими каблуками. Телохранитель прорычал что-то Алеше, но негромко. Андрей отдал должное вкусу Алеши. Дилемма ему нравилась — она была яркой, наглой, сексуальной, пробивной и соблазнительной бабой, но Алеша никогда не станет унижаться, даже перед принцессой Монако. На этот раз, вернее всего, он проиграл, и проиграл основательно…
Не дойдя двух или трех кресел до хвоста автобуса, Дилемма Кофанова резко развернулась и возвратилась в переднюю часть салона.
Она остановилась около Алеши, который сидел ближе к окну, и сказала:
— Пропусти меня к окну, я хочу смотреть наружу.
Алеша, разумеется, встал и пропустил Дилемму.
— Я промокла, ничего? — спросила Дилемма. Они сидели как раз перед Андреем, и потому, пока машина не тронулась, ему было слышно каждое слово.
Телохранитель — рыжий, туповатый, слишком широкоплечий парень — не знал, какой пост ему занять. Наконец уселся на два ряда сзади. Конечно, он мог бы согнать Анастасию Николаевну и Таню, которые занимали места как раз напротив Дилеммы по ту сторону прохода, но не посмел, потому что не имел инструкций, да и хозяйка его не была такой важной штучкой, чтобы ради нее идти на конфликты. Телохранитель намеревался отрабатывать зарплату, не более того. Если, конечно, Дилемма с ним не спит. Впрочем, какое нам до этого дело? Только бы Алеша не огорчался. Он в душе превеликий авантюрист. И, как все настоящие авантюристы, скрывается за маской наиспокойнейшего джентльмена.
Автобус уже тронулся, когда Андрей увидел, как по трапу спешит Антонина — видно, решила попутешествовать в последний момент, а может, задержалась из-за эвакуации Маннергейма. Она побежала через плац, оркестр как раз выдал последний аккорд, Антонина в черном плаще и черном платке добежала до второго автобуса, отходившего после первого, в котором был Андрей. «Скорая помощь» уехала чуть раньше.
Путешествие сквозь тоскливый дождик по очень прибалтийским, будто взятым с Рижского взморья, улицам между Гдыней и Гданьском, уставленным небольшими виллами и домами отдыха, заняло меньше часа. В автобусе было тепло и сонно. Алеша и Дилемма оживленно беседовали: видно было, как покачиваются их головы — темная, естественно курчавая Алеши и желтая, мелким бесом завитая голова Дилеммы. Телохранитель дремал. Дамы в одинаковых плащах тоже… Так и приехали в Гданьск.
В Гданьске тоже моросил холодный дождь. Автобусы остановились на обширной неуютной площади. За темными кирпичными стенами скрывался старый город, который предстояло восторженно рассматривать.
Старый город был мрачен и состоял из нескольких параллельных узких улиц и одной широкой, как площадь. Шофер велел всем вернуться к автобусу через три часа. Андрею не хотелось следовать за скрывшимся под зонтом экскурсоводом; он заглянул в магазинчик сувениров, потом попал в продовольственный магазин, который был невелик, но произвел на Андрея яркое впечатление зарубежным изобилием — такие магазины в Москве лишь начинали возникать. У Андрея с собой были только русские рубли, он хотел обменять их и купить местных конфет, но продавщица не скрывала презрения к братской валюте и в конце концов уступила коробку слив в шоколаде по цене шоколадного замка в натуральную величину.
Когда Андрей завершал спор с продавщицей, рядом случился инцидент с сумкой Татьяны. Она хотела достать из нее кошелек, но тут длинная ручка оборвалась, сумка упала на пол и раскрылась, вывалив свое содержимое.
Андрей кинулся на помощь — благо в магазине было пусто, — и они принялись ползать по полу, собирая выпавшие предметы. Сумка была дорожная, объемистая, в ней умещалось много нужного в путешествии, включая и предметы, о существовании которых хозяйка давно забыла. Так что весь пол был усыпан карандашиками, кисточками, коробочками, записными книжками, листками из записных книжек, бумажками, кошелечками, косметичками и такими неожиданными вещами, как позолоченный каблук и открытка с видом Сингапура.
Андрей, конечно же, не разглядывал находки, а спешил передать их Татьяне, но невольно удивился карточке, к правому верхнему углу которой была приклеена фотография Бегишева. По краю шла перфорация, под фотографией — несколько строчек текста.
Андрей не успел прочесть текст, как Татьяна вырвала у него фотографию и возвратила в сумку.
Андрей сделал вид, что ничего не заметил. Видно, он — не единственный, кого интересует личность дельца Бегишева.
Когда Андрей, нагулявшись и промокнув до костей, возвращался на площадь к автобусам, мимо пронесся «Мерседес». Люди в нем сидели неподвижно и глядели прямо перед собой, словно были куклами. На заднем сиденье красовался господин Бегишев. Везде у него были свои люди, свои машины, свои развлечения.
К автобусу уже стягивались братцы-писатели и просто туристы, разочарованные увиденным. Алеша Гаврилин доказывал Глинке, что печаль его объясняется не погодой, а лишь тем, что ему не попался погребок, где бы торговали «Будвайзером» в розлив.
Весь следующий день «Рубен Симонов» провел в открытом море, направляясь к Копенгагену.
Конференция разделилась на секции, и судьбы балтийских литератур вот-вот должны были проясниться.
Отпрыски Эрнестинского дома, моргая красными невыспавшимися глазами, под руководством Бригитты Нильсен разбросали по холлам и салонам стопки инструкций, конспектов и расписаний, которыми должны были владеть участники конференции.
Алеша отвел Берестова в секцию публицистики, где собрался народ, профессионально шастающий по круизам.
К удивлению Андрея, среди членов секции он увидел Фрея; тот был одет неформально — без галстука — и старался не привлекать к себе внимания. Там же сидела Татьяна. Она была в сером сиротском платье с ниткой жемчуга на шее.
Сначала выступал грузный рыжий швед, которого Андрей раньше видел только в баре. Там он сжимал в лапе бутылку виски и не сводил пьяных глазок с Дилеммы Кофановой. Он был так похож на тигра, изготовившегося к прыжку, что хотелось посмотреть, как вздрагивает кончик его полосатого хвоста.
Швед был трезв, и его беспокоила судьба озоновых дыр в атмосфере. Он полагал, что корыстное легкомыслие европейских правительств, и в первую очередь советского, погубит человечество.
Вызов шведа приняла, как ни странно, Дилемма Кофанова. Она тоже приплелась на секцию и даже объявила себя писательницей, потому что намеревалась создать мемуары. Ей было на вид лет двадцать пять — самое время для мемуаров. Платье Дилеммы было целомудренно застегнуто сверху и возбуждающе расстегнуто снизу. «Некоторые, — заявила она, — рассуждают здесь о плохой экологии, тогда как африканские народы голодают с утра до вечера».
Дилемма думала, что экология и есть природа.
Фрей не выступал, но несколько раз выкрикивал с места «Вот именно!» и «Давно пора!». Андрей все ждал, что он объявит писателям: «Есть такая партия, партия зеленых!» — но Ильич сдержался.
Когда уже вечерело и солнце, садясь, пронзало горизонтальными ослепительными лучами весь теплоход, Антонина отыскала Андрея в валютном магазине, где он любезничал с продавщицей, и велела следовать за ней в бар второй палубы. Андрей без охоты подчинился.
Там сидела вся бегишевская компания.
Оскар был трезв, деловит, как в кабинете.
— Пить будете? — спросил он. — Оранж? «Байкал»? Кока-кола?
В списке спиртных напитков не было.
— Кофе, — сказал Андрей.
— Есть разговор, — сказал Бегишев. И откинулся в кресле, словно самое главное дело уже совершил, остались детали для подчиненных.
После краткой паузы за дело взялась Антонина.
— Мы к тебе, Андрюша, присмотрелись, — сообщила она. — Реакция, в общем, положительная. Кое в чем ты наш человек, а кое в чем — не наш.
— Но не чужой! — вмешался Фрей. — Нет, не чужой!
«Знал бы ты, голубчик, что именно мою жену старался сжечь в доме убитого тобой человека!»
— Мы лишились товарища, — сказала Антонина. — Хорошего товарища, но физически слабого человека.
Она произнесла эти слова так, что хотелось встать и почтить память Маннергейма минутой молчания.
— И оказались в сложном положении. Без переводчика — как без рук. Конечно, мы можем вызвать нового, нам из Москвы его быстренько доставят. Но формальности, сборы — ты же понимаешь! Можем упустить драгоценное время. И тут мы подумали: есть один хороший человечек — Андрюша. Ему, наверное, не грех подзаработать. И он уже рядом с нами и уже проверен, понимаешь?
Андрюша понимал, что ему, очевидно, повезло. Маннергейм заболел вовремя. Ты ломал голову, как дальше следить за этой компанией, а они сами тебя приглашают к себе. Теперь только не переиграть.
— Ничего тебе, Андрей, — сказал Фрей, — не составит трудности. Как ехал на пароходе, так и едешь. Только в экскурсии ходи с нами, с нужными людьми поговоришь. Я бы сам это сделал, но у меня, понимаешь, историческая роль. Должен держать фасон…
— А вы знаете языки? — спросил Андрей. Вроде бы без ехидства. Не верил он в образованность второго Ленина.
— Разумеется. — Ленин вытащил платок и стал промокать лоб. У него потел лоб, когда он волновался. — Но мой ближайший язык — немецкий. Крупнейшие философы творили именно на этом языке.
— Маркс и Энгельс, — пояснила Антонина.
Она сидела, положив ногу на ногу. Юбка съехала к бедрам, ноги были гладкие, мускулистые, Бегишев смотрел на них.
— Для работы мне нужен был именно этот язык, — сказал Ленин.
Андрея тянуло пошутить: «И в гимназии вы его учили, Владимир Ильич». Но такая фраза могла оказаться самоубийственной.
— В Швеции распространен шведский язык, — сказала Антонина. — И английский, правда, Владимир Иванович?
Она умела блюсти конспирацию.
— А вы английским владеете, — сказал Бегишев. — У меня точная информация?
— Я говорю по-английски.
— Сколько в день? — спросил Бегишев.
— Не знаю, — ответил Андрей. — Я же не думал об этом раньше.
— Интеллигентская глупость, — сказал Бегишев. — Учись отвечать сразу — разбогатеешь.
Все засмеялись, даже Алик. Андрей подумал: а в самом деле, сколько надо попросить?
— Предлагаю, — сказал Бегишев, — за день работы сто баксов. Все равно гулять. Работаем два дня. Пока стоим в Стокгольме. Может быть, еще один день на Готланде. Всего триста. Хорошие деньги. Ты столько своей археологией никогда не накопаешь.
— По крайней мере виской зальешься, — сказала Антонина.
— Пятьсот за все, — сказал Андрей.
Все замерли.
— Ну ты наглец, — сказал через минуту Бегишев. — Ну и наглец. Нам лучше местного нанять.
— А мне лучше остаться писателем, а не вашим служащим, — сказал Андрей. — Я пойду, а то устал сегодня.
— А не выпьешь с нами? — миролюбиво спросил Бегишев.
— Нет, спасибо.
Он ушел. Антонина догнала в коридоре и сказала, что Оскар согласен на четыреста.
Андрей дал себя уломать.
Когда Андрей пришел на ужин, Анастасия Николаевна и Татьяна уже сидели за столом. Одинаковыми движениями близких родственниц они намазывали маслом круассаны.
— Что интересного в мире писателей? — спросила пожилая дама.
По тону было понятно, что ей наплевать на то, что происходит в мире писателей, но она умела придать милому лицу выражение искренней заинтересованности.
«Ах как она была хороша в молодости!» — подумал Андрей. Ее лицо — хоть и не столь роковое и притягательное, как лицо ее внучки, — заставляло думать о старинном помещичьем доме, белой беседке у пруда и карете, остановившейся у деревянных побеленных колонн усадьбы.
— Я бывала в Данциге перед войной, — сказала Анастасия Николаевна. — Во время моих печальных скитаний. Правда, я была молода, и меня не хватало на то, чтобы долго печалиться.
— Тетя Настя, к счастью, не способна долго печалиться, — сказала Татьяна. — Иначе бы она давно померла.
Поредевшая компания Бегишева вошла единым строем. Все четверо кивнули Андрею, тот раскланялся в ответ.
— Вы с ними давно знакомы? — спросила Татьяна.
Зная, что у нее в сумке лежит карточка с фотографией Бегишева, Андрей воспринимал вопрос иначе, чем утром.
— Я познакомился с ними на борту, — сказал Андрей.
— Странная кучка, — сказала Анастасия. — Бывают несовместимые люди. Они — несовместимые.
Она протирала вилку салфеткой, не доверяя чистоплотности корабельных судомоек. Руки у нее были молодыми, изящными.
— Несовместимость еще не грех, — сказала Татьяна. Глаза у нее были совсем иными, чем у Анастасии, — светло-карими, почти желтыми. — Боюсь, что их что-то совместило. А это дурно.
— Странно, что вы их не знаете, — сказал Алеша Гаврилин. — Толстый — это Оскар Бегишев, наш спонсор. Банкир. Стриженый бандит — его телохранитель. Антонина — боевая подруга и бухгалтер. А лысенький — наверное, идеолог.
— Откуда у них идеология? — удивилась Анастасия Николаевна.
— Он на Ленина похож, — сказала Татьяна.
И посмотрела на мужчин, будто проверяя, догадались ли они о том же.
— Вы не едите? — спросила Андрея Анастасия Николаевна. — Нет аппетита?
Андрей не успел ответить, как заговорила Татьяна.
— Вы производите странное впечатление, — сказала она. — С одной стороны, нестарый и даже привлекательный мужчина. С другой — лжец. Слова по правде не скажете.
— Вы преувеличиваете, — постарался улыбнуться Андрей. — Бывает, вырывается нечаянно и правдивое слово.
Татьяна смотрела на него в упор, словно хотела загипнотизировать.
Она сердилась и стала еще красивее. У нее было лицо воительницы. Ей нашлось бы место на полотне Делакруа. В постель с ней можно лечь, только взяв пистолет.
Весь жизненный опыт Андрея, вся выработанная за долгие годы осторожность оленя в краю уссурийских тигров твердили, что Бегишев и интеллигентные дамы встретились здесь не случайно. Но что их связывало или разъединяло — Андрей не понимал и потому был беззащитен перед тем, что затевалось на этом пароходе.
После ужина Кураев сказал, что разговаривал с капитаном — оказывается, без вести пропал один из поваров. Но никто не может сказать, остался ли он в Гданьске или упал за борт. Гигантский теплоход, сотни людей, но если упадешь с верхней палубы, то умрешь от удара о ледяную воду. Даже пискнуть не успеешь.
— Эдик, — сказал Андрей, чем удивил Кураева. — Повара звали Эдик.
— Ты откуда знаешь, как его зовут?
— Случайно подслушал, еще вчера, — сказал Андрей.
Не успел Кураев отойти, как в ухо настойчиво, нагло, горячо зашептала Антонина:
— Ты с этими бабами поосторожнее. Это наши враги. Держись подальше.
— Я же с ними за одним столом, — сказал Андрей.
— Оскар приказал отсесть.
— Пускай Оскар приказывает вам, — ответил Андрей. — Я не хочу быть «шестеркой». И к тому же это подозрительно — с чего я вдруг кинусь от них бежать? Потому что твой Оскар трясется от страха перед двумя женщинами?
— Оскар ни перед кем не трясется.
— Факты говорят об обратном, — возразил Андрей.
— Ну, как знаешь. — Антонина отстала.
«Вот и плакали мои четыреста баксов», — сказал себе Андрей. А жалко. Помимо всего прочего — четыреста долларов честному доктору наук никогда не помешают.
По Копенгагену Андрей пошел погулять с дочкой Эрнестинского, но, к сожалению, потерял ее на улице магазинов. Ждал снаружи и не дождался. Потом спросил у датского дедушки, как пройти к «русалке», — и оказалось, что «русалка» ждет его метрах в трехстах от причала, где стоял «Рубен Симонов».
Русалка сидела на камне в двух метрах от берега и была такой маленькой и несерьезной, что совершенно непонятно, каким образом датчанам удалось сделать ее символом своей страны.
Вокруг носились чайки и ждали подачек от любопытных туристов.
Андрей присел на лавочку — хорошо еще дождик из Гданьска сюда не добрался. Тут же рядом села Антонина. Нигде от нее не скроешься!
О чем Андрей ей сообщил.
Антонина прижала к его бедру свою твердую горячую ногу.
— Ты мне нравишься, — сказала она. — Но у нас — моральный облик в первую очередь.
— У вас — у коммунистов?
— Неточно, но не суть важно.
— А чего ты гуляешь одна? — спросил Андрей.
Если тебе упрямо тыкают, приходится отвечать тем же.
Антонина не заметила этого.
— Мы за тобой следили, — сказала она. — С кем у тебя связь, кому докладываешь.
— И что выяснили?
— Или у тебя нет связи, или ты нас провел.
— Мучительная у вас жизнь, — сказал Андрей. — Никому не верить.
— Ты не прав, Андрюша, мы всем доверяем, и тебе тоже. Но обязаны проверять. Так нас учил Ленин.
— Кто? — Андрей забыл, что Антонина не знает о действительной сути Иванова. Или знает, но не считает нужным признаваться.
— Ленин. Вождь мирового пролетариата.
Она посмотрела Андрею в глаза. Ее зрачки высветлились. Это были яростные, но неумные глаза.
— Ох и положу я тебя в койку, — сказала женщина. — Как кончим задание выполнять, берегись меня, козел!
Она больно ущипнула Андрея за коленку.
Потом вдруг насторожилась.
— А чего ты сюда пришел? На встречу?
— Ага, — сказал Андрей. — На встречу с девушкой.
— Врешь.
— И ты ее знаешь.
— Татьяна?
Андрей не сразу сообразил, кого Антонина имеет в виду.
— Нет, — сказал он, — моя девушка с длинными волосами и живет под водой.
Он показал на русалку.
— Ну ты даешь! — Антонина с облегчением засмеялась. — А то уж взревновала. Ты же здесь единственный мужик. Тебя полюбить можно.
Она положила ладонь на колено Андрею. Ладонь была такой горячей, что прожгло сквозь куртку и брючину.
— Я страшно сексуальная, — сказала Антонина. — Ты от меня не уйдешь. И Лида тебя не спасет.
— Ну, вы меня обложили, — сказал Андрей.
— Отныне зови меня Тоней. Мне так приятнее слышать. Из твоих, блин, уст. А чего они этого железного ребенка тут посадили?
— Это русалка. Такая сказка у Андерсена была — про русалочку.
— Ага. — Антонина не помнила Андерсена. А может, болела, когда его учили в школе.
Подул студеный ветер. Будто она вызвала его, чтобы был предлог прижаться к Андрею.
Порядочный мужчина, который думает о своей жене, должен вежливо встать и отойти, этим признав, что боится прелестей Антонины и в глубине души жаждет их вкусить. Андрей ничего не боялся и потому не двинулся с места.
— Ты держись меня, — сказала Антонина, — во всех смыслах. И никому, кроме меня, не доверяй.
— И Оскару?
— И этому самому… Ильичу, физическому уроду.
— А зачем вы едете в Стокгольм?
— Особенно не доверяй этим двум бабам, которые у тебя за столом сидят. Старуха — настоящая змея. Кончишь в морской пучине.
— Кто же это хочет меня утопить? — Андрей попытался улыбнуться. Получилось не очень убедительно. Но Антонина смотрела прямо перед собой — на лебедя, который горделиво вплыл со стороны залива и принялся разглядывать русалочку, видно, они тут работали вместе, развлекали туристов.
— Найдутся желающие, — сказала Антонина.
— Ты не сказала, что вам нужно в Стокгольме.
— А почему я должна тебе говорить?
Голова ее была не покрыта, корни волос были черными, а остальная часть шевелюры светлая, почти белая.
— Странная вы компания. — Андрей повторил слова Анастасии Николаевны. — Оскар и Ленин.
— Какой из Оскара вождь! Я его пальцем поманю — побежит на полусогнутых. Он мой сексуальный раб. — Второе имя она пропустила мимо ушей.
— А зачем вы Ленина с собой везете? — спросил Андрей.
— Тебе кто сказал, что он Ленин?
— Только ленивый еще не догадался.
— Дурашка, тебе рано знать!
Антонина поцеловала Андрея в щеку. Губы у нее были мокрые, но горячие, видно, внутри ее крупного тугого тела помещался небольшой котел.
— В Мавзолее двойник лежит, — сказала Антонина. — Еще в двадцать четвертом Сталин постарался.
— Не надо меня разочаровывать. Я в Мавзолей еще мальчиком ходил.
— А я из Ростова. У нас Мавзолея не было.
В голосе Антонины что-то дрогнуло. Она на самом деле жалела, что в Ростове не было Мавзолея.
— А что в Стокгольме понадобилось?
— Трахнешь меня тут, на скамейке, — тогда скажу.
— Ты серьезно?
— Шучу, конечно, шучу. А вдруг здесь ихний король будет прогуливаться и зарежет тебя из ревности.
Антонина развеселилась и рассказывала похабные анекдоты, пока они не дошли до «Рубена Симонова».
Стокгольма достигли часов в одиннадцать утра.
Теплоход бесконечно шел по широкому извилистому заливу, на берегах которого выстроились виллы, коттеджи, трансформаторные подстанции, сараи, мебельные фабрики, запасные дворцы, казармы, детские приюты — все то, что не поместилось в самом Стокгольме.
Над строениями и просто на мачтах развевались под свежим и уже нехолодным ветерком желто-голубые флаги.
Пассажиры выстроились на носу, фотографировали, любовались шведской действительностью и ждали, когда же покажется столица.
Андрею не удалось досмотреть подходы к Стокгольму, потому что Алик собрал на палубе всех сторонников Бегишева и отвел в каюту вождя.
— Я собрал вас… — заговорил Бегишев и сделал паузу, будто стараясь вспомнить, где же он уже слышал эти слова. Андрею хотелось подсказать, но раз Гоголя рядом не оказалось, то он не стал высовываться. Хуже нет, как показаться слишком образованным.
Бегишев решил, что этого короткого вступления достаточно, и принялся глядеть в иллюминатор на берега, отмечая короткими кивками проплывающие снаружи бакены и встречные суда, а также радуясь каменным островкам с гущами сосен.
Руководство собранием взяла на себя Антонина.
— Времени у нас в обрез. Чем скорее мы провернем операцию, тем лучше, но некоторый период займет опознание нашего вождя и переговоры на эту тему.
Фрей глубоко вздохнул и произнес:
— Меня порой смущают и даже оскорбляют элементы недоверия, которые проявляются у наших коллег. Или я существую, или не существую!
— Некоторые сомневаются, — сказала Антонина. — Вы же сами знаете, Владимир Ильич.
— Иванович, — поправил ее Ленин. И посмотрел на Андрея.
— Время конспирации миновало, — сказал Бегишев, глядя в иллюминатор. — Пора открывать карты на стол.
— Не рано? — спросил вдруг Ильич. Теперь они все глядели на Андрея.
— А куда он денется? — спросил Бегишев и отвел глаза от переводчика. — Наша длинная рука его хоть за морем достанет.
— Вы меня имеете в виду? — спросил Андрей.
— Нет, Пушкина, — сказала Антонина. — Я тоже думаю, что пора считать Андрея своим. Или вообще не считать…
— Говорите, — сказал Алик.
— Ну, раз служба безопасности так считает, значит, можно, — улыбнулся Бегишев.
Все замолчали. Никто не спешил выкладывать карты на стол.
Потом заговорил Ильич.
— Дело давнее, — сказал он, — но в свое время, вскоре после революции, когда дела наши шли так себе, а этот иудушка Троцкий старался продать дело революции в Бресте…
Дойдя до этих слов, Фрей сильно ударил кулачком по подлокотнику кресла, в котором устроился. Кресло потеряло равновесие и поехало вокруг своей оси. Пока Алик не поймал Ильича, тот все крутился посреди комнаты.
— Наши дела были так себе, — продолжал Ильич, когда кресло остановилось. — Мы как раз переезжали в Москву. Мы направили сначала Радека, а потом и Льва Борисовича в Швецию. Для руководства германской революцией и связи со шведскими социал-демократами.
Ильич замолчал, перелистывая мысленно учебник партийной истории нового образца — детища перестройки.
— С юга наступали калединцы, — продолжал он, — мы теряли все новые губернии. В нарушение достигнутого перемирия немцы двинулись на восток, и тогда мы на заседании округа приняли решение переправить в Швецию часть конфиската на случай поражения революции и перехода к подпольной борьбе. Вы мне скажете, какой же я, к чертовой бабушке, революционер, если думаю о поражении, но наша сила, батенька, именно в том, что мы предусматриваем все возможные варианты. Вот именно!
Последние слова Фрей выкрикнул в полный голос, как ученик, справившийся с заданием и гордый собой за удачный ответ на экзамене. Андрею привиделась даже репинская картина, на которой юный Пушкин, взметнув к потолку руку, читает стихи, а Державин, перед сходом в гроб, привстал за длинным экзаменационным столом, сложил ракушкой ладонь, чтобы лучше расслышать гениальные строки и благословить. А впрочем, Репин ли создал этот шедевр?
Андрей внимательно выслушал небольшую речь Фрея и все в ней понял, потому что знал больше, чем ему было положено знать. Но, разумеется, и виду не подал.
Хотя от него ждали реакции.
— Сколько вам лет, Владимир Иванович? — спросил он с сочувствием, словно только сейчас обнаружил, что любимый начальник на самом деле — неизлечимый шизофреник.
— Давайте не будем заниматься банальными подсчетами, коллега, — возразил Ильич.
— Давайте не будем. — Андрей обратился за поддержкой к Антонине: — Я чего-то не понял?
— Есть рабочая гипотенуза, — сказала Антонина, из которой так и выпирала буйная жизненная энергия, — что нам удалось найти человека, очень похожего на вождя революции.
— Я сам вас нашел, — возразил Фрей. — Как бы вы меня нашли?
— На ловца и зверь бежит, — вмешался в разговор Бегишев. — Для твоего сведения, Андрей, мы, то есть инициативная группа, смогли пробиться к партийным архивам. Не скажу как, не скажу когда — поверь, что это было нелегко. Мы узнали, что руководство нашей страны перевезло в Швецию некую сумму в драгоценностях. И эта сумма до сих пор хранится в верных руках. А взять ее может лишь один их двух: Лев Борисович Красин, давно покойный, или лично товарищ Ленин.
— Тоже давно покойный, — добавил Андрей.
— А вот с этим позвольте, батенька, не согласиться! — Фрей вскочил и сунул большие пальцы под мышки, словно забыл, что пришел без жилета. — Я — это я, и никаких сомнений!
— Наверное, я скоро сойду с ума, — сказал Андрей.
Видно, это были слова, которых от него и ждали.
— И я тоже думал, что офигел, — сказал охранник Алик. — «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» Слышали этот слоган?
— А почему они вам поверят? — спросил Андрей.
Бегишев кивнул Антонине, чтобы пояснила.
— Тогда, — сказала она, — в восемнадцатом году, уже были отпечатки пальцев. Диктилоскопия.
— Дактилоскопия, — брезгливо поправил ее Ильич. Он недолюбливал Антонину — она для него была слишком полнокровной, шумной и энергичной.
— Ценности находятся в шкатулке, мы проверяли. Она запечатана восковыми печатями. На них отпечатки пальцев.
— Моих и Льва Борисовича Красина, — сказал Фрей.
— Без сравнения отпечатков никто нам шкатулку не даст, — сказал Оскар.
— Можно взять, — возразил Алик, видно, продолжая давнишний спор. — Привезем бригаду.
— Провалимся. И окажемся в ихней тюрьме, — сказала Антонина.
— А где она хранится? — спросил Андрей. — Я имею в виду шкатулку.
Действительность была столь откровенно нереальна, что Андрей и не пытался ничего для себя объяснять.
— Шкатулка? В каком-то трасте. Или банке. Кто нам скажет? — произнесла Антонина. Она была главным оратором.
— А вы уверены, что она вас ждет?
— Тебе уже сказали, — заметил Бегишев. — И вообще ты слишком много спрашиваешь.
— Вот именно! — воскликнул Ильич. — Я тоже хотел обратить ваше внимание на его любопытство.
— Учти, — сказал Бегишев. — Может, мы и сделали тактическую ошибку, когда решили тебе все рассказать сейчас, до швартовки. Потому что на берегу некогда будет рассусоливать.
— Я не уверен, что вы правы, — сказал Фрей.
— Заткнись, Ильич! В Швеции у нас везде свои люди. Никуда он не денется.
— Мне плевать, — цинично произнес Андрей, — что вы там будете получать. Мне нужны деньги. Вы обещали.
— Не только обещали. Ты получишь пятьдесят процентов. Сейчас.
Бегишев вытащил из кармана пиджака бумажник, покопался в нем, извлек две бумажки.
Андрей принял аванс.
— Вот и ладушки, — сказала Антонина, — надо вспрыснуть.
— Не надо, не надо! — закричал Фрей. — Мы стоим на пороге важного события — возрождения финансовой независимости моей партии. А вы, гражданка, готовы ради рюмки или мужских, простите, брюк пожертвовать идеалами.
— Раскол! — вдруг засмеялся Бегишев. — Раскол на большевиков и средневиков.
— Ты чего головой качаешь? — спросила Антонина у Андрея, когда они поднялись, чтобы разойтись по каютам. — Не доверяешь?
— Трудно поверить.
Они медленно шли коридором.
— Я тебя понимаю. И пока не увижу этот сундук партии, не поверю до конца. Но люди солидные, на европейском уровне, подтверждают.
— И в этого… Ильича ты веришь?
— Я вообще неверующая. Я из комсомола вышла неверующей.
— Где вы его откопали?
— Сам прибился.
— Взял и прибился?
— Он сам первый про эту историю с золотом партии пронюхал. И с ней к Бегишеву пробился.
— Как же Бегишев мог в такую чепуху поверить?
— Он и не поверил. А Ильич доказал.
— Что доказал?
— Я при этом присутствовала. Он доказал про отпечатки пальцев. У него с Лениным одинаковые отпечатки пальцев. Мы проверили.
— Как это вы проверили?
— Глупый ты человек! В документе было написано — шкатулку может получить тот, чьи отпечатки пальцев совпадут. Ты же понимаешь — они думали, что немцы их республику ликвидируют и они сделают ноги в Стокгольм. Там их денежки ждут — и начинай сказку сначала. Но ведь устояли.
— И не востребовали деньги обратно?
Они вышли на палубу. Солнце стояло низко, море было непрозрачным, лиловым, нос «Симонова» вырезал из него белые полосы пены. Было зябко.
— Подумай сюда. Кто об этом знал? Свердлов, Ленин и Красин. Свердлов откинул копыта сразу после тех событий, Ленина через два года кондрашка хватил, Красин умер через год после Ленина. Думаю, что они больше ни с кем не делились своими партийными ожиданиями. Поцелуй меня, а то что-то стало холодать.
— Здесь люди ходят.
— Мужчина не может придумать оскорбления тяжелее. Ты же стремишься к бабе, переживаешь, мечтаешь, как бы ею овладеть в любом положении, хоть на верхней палубе, хоть в машинном отделении. Ничего я стихи придумала? Ну прямо Пушкин.
Андрей поцеловал Антонину. Она раскрыла губы — поцелуй вышел профессионально страстным и жутко мокрым, как будто Андрей вляпался в горячий кисель. «Ни шагу дальше», — сказал он себе. Антонина осела в его руках.
— Хочу тебя, — стонала она и больно вонзала когти в плечи Андрея.
Мимо прошел Алеша Гаврилин. Андрей принялся рваться из объятий Антонины.
Алеша не удержался.
— Товарищ, — сказал он громко, — вы годитесь этой девушке в отцы. Этично ли насиловать ее прямо на палубе?
Алеша вел под руку Дилемму Кофанову — та сделала вид, что ничего не заметила.
— Глупо, — сказал Андрей. — Мы с вами как дети.
— Взрослые дети, — серьезно ответила Антонина. — И пожалуй, тебе в самом деле не стоило кидаться на меня прямо на палубе. Мог бы подождать, пока стемнеет.
Она была наглой и лживой бабой, профессиональной комсомольской активисткой.
«Рубен Симонов» вошел в город и начал искать себе уголок у причалов, изрезавших улицы самого центра Стокгольма так, что трамваям приходилось бегать над самой водой.
Наконец он отыскал чудесное место у старого города, где узкие, в две ладони шириной, улицы часто сбегали на набережную.
Антонина отпустила Андрея переодеться к выходу, приказала быть в культурном виде и если есть, то при галстуке. Европейцы любят, когда к ним приходят при галстуках.
Галстука у Андрея не нашлось, а Алеши — чтобы позаимствовать у него — не оказалось дома.
Алик постучал в дверь, как только спустили трап.
Вот кого Андрей не выносил!
— Иду, — сказал он.
Пассажиры цепочкой спускались по нескончаемому трапу на набережную. Никаких пограничников или иных стражей поблизости не оказалось. Швеция пока еще не боялась русских. Это придет попозже.
Внизу стоял черный «Вольво». Для наших?
А вот и сам господин Бегишев. Алик на шаг сзади, взгляд кобры. Потом шагает Владимир Ильич, товарищ Фрей.
Милостиво протянутая мягкая ладонь Бегишева, глазки еще отдыхают на подушках щек, смотрят лениво, беззлобно.
Госпожа Нильсен выбежала проводить господина спонсора на шведскую землю. Капитан «Рубена Симонова» маячил где-то неподалеку.
«В славной я компании», — подумал Андрей.
Бегишев ступил на трап. Андрею показалось, что трап зашатался, норовя оторваться от борта, — так ему тяжело нести на себе Оскара. Видение было столь реальным, что Андрей замер.
— Иди же, — сказала Антонина, — ты всех задерживаешь.
— Забыл! — сказал Андрей. — Одну секунду.
И так быстро побежал к своей каюте, что Антонина не успела его остановить.
Алеша Гаврилин оказался в каюте. Он стоял у иллюминатора, глядя на старый город.
— Здесь чудесно, — сказал он. — Мы им грозили, а они живут и кушают хлеб с маслом.
— Мало грозили, — ответил Андрей.
— Ты что-то забыл?
— Не хочется выходить вместе с новыми друзьями.
— Пойдем со мной.
Андрей не хотел признаться Гаврилину в странном предчувствии — будто трап может оторваться. И все, кто будет рядом с Бегишевым, рискуют рухнуть на причал с десятиметровой высоты.
Предчувствие, вернее всего, пустое.
Признаться в нем — обратить против себя подозрения всех, от Бегишева до руководителя конференции. И ничего никому не докажешь.
Лучше подождем, пока все обойдется.
Андрей подошел к иллюминатору.
Бегишев стоял внизу, у машины, запрокинув голову наверх.
Ничего не случилось.
Значит, нервы просто разыгрались. Сам виноват — впутался в шпионские игры…
— Ты чего медлишь? — спросил Алеша Гаврилин. — Пойдем, что ли?
Они вышли к трапу.
— Куда твои бандиты собрались? — спросил Алеша.
— Ума не приложу. Но хотел бы узнать.
— Я тоже хотел бы узнать, — признался Алеша. Но почему это его интересует, не объяснил.
Когда они вышли к трапу, Антонина уже стояла внизу — присоединилась к Бегишеву и Фрею. Увидев Андрея, она принялась грозить ему кулаком.
— Сколько ждать прикажешь? — Голос ее доносился клочьями — дул сильный холодный ветер.
По трапу спускались последние из пассажиров. Кураеву с Мишей Глинкой оставалось несколько ступенек.
Татьяна с Анастасией Николаевной, что стояли в отдалении, уже на тротуаре стокгольмской улицы, махали Кураеву, звали к себе.
Андрею показалось, что на него смотрят тысячи глаз.
Трап был ненадежен! Он это чувствовал. Но и остаться наверху не смог — стыдно.
Алеша задержался, потому что его остановила Бригитта, и Андрей почти бежал по пустому трапу.
Но успел миновать лишь половину пути, как трап двинулся… Андрей замер в странном убеждении, что если не шевелиться, то и трап замрет. Ничего подобного. Трапу плевать было на действия муравьишки, который окостенел от страха.
Но трап не оторвался сразу от борта и не упал со всего размаху на бетон — почему-то он предпочел сначала поехать вдоль борта, как конькобежец, из-под которого убежали коньки и он спешит их догнать.
Движение трапа все продолжалось и ускорялось, так что в тот момент, когда он решил все-таки оторваться от корабля, он вздрогнул, по нему прошла предсмертная судорога… и трап оттолкнулся от «Симонова». Теперь его ничто более не удерживало, и трап рухнул на набережную, предварительно выбросив Андрея.
К счастью, Андрей был уже метрах в трех от бетона, и потому — везет так уж везет, — упав к ногам Бегишева, он лишь ушибся.
Зато Бегишев перепугался.
Ему показалось, что трап обязательно ударит по нему — от страха отнялись ноги. И вместо того чтобы убежать, Оскар сел на набережную. Алик попробовал его поймать и оттащить, но промахнулся.
Он водил руками на уровне плеч, а шеф сидел и дрожал на земле у его ног.
И мычал…
Потом уж Андрей узнал, что Алеша собирался шагнуть на трап, когда тот ушел из-под его ноги.
Алеша замер над пропастью. Одна нога в воздухе.
Чуть было не полетел вниз, но его подхватила и рванула назад находчивая и хладнокровная Бригитта.
Крик поднялся несусветный. Он вырвался наружу, как только трап, с грохотом развалившись, замер вдоль борта.
Кураев и Глинка отделались легким испугом. Андрей получил несколько синяков и царапину на щеке, что сразу превратило его в человека, недостойного доверия. Такие не работают официальными переводчиками. Это сильно расстроило Фрея, который хотел, чтобы его фирма выглядела солидно.
Бегишев не сразу пришел в себя. Антонина отпаивала его валокордином, вокруг носились люди, по запасному трапу спустили врача-шведа и корабельного врача — осетина. Потом примчались «Скорая» и пожарники. Подъехали полицейские. К приезду репортеров компания Бегишева успела погрузиться в «Вольво» и укатить с набережной.
— Это они в меня целились, — сказал Бегишев. Антонина достала карманный тонометр и надела на палец шефу, чтобы выяснить, не угрожает ли ему высокое давление.
— Руки коротки, — сказал Алик. — Ох, я до них доберусь.
Пальцы его рук сгибались, будто он уже держал пистолет.
— Меня хотели убить, — сообщил Бегишев шоферу. Машина была просторной. Алик сидел рядом с шофером, а Андрей с Фреем разместились на откидных сиденьях.
Бегишев откинул голову, и Антонина спросила:
— Кровь носом не пойдет, ты как думаешь?
— Руки коротки, — снова сказал Алик.
— У нас такого еще не было, — заговорил наконец шофер — он оказался русским.
— Представляешь, при всем народе! — сказал Бегишев.
— Меня смущает другое, — сказала Антонина. — Как они могли все так спланировать.
— У них свои люди в команде, мы уже убедились, — ответил Бегишев.
— Доберемся и до них, — сказал Алик. — Как до того повара.
Андрею захотелось спросить: «Значит, это твоих рук дело, мерзавец?» Но тут машину тряхнуло на трамвайных путях, и заболело плечо — он его ушиб.
— Возьми пластырь, — сказала Антонина, — у тебя ссадина кровоточит.
Глядя в зеркальце заднего вида, Андрей наклеил на щеку пластырь.
— До меня добраться захотели! Какая наглость! Чтобы сегодня же прочесали весь пароход!
— Где мы здесь людей найдем? — спросила Антонина, трезвая голова.
— Найми киллеров, — приказал Бегишев.
Никто с ним спорить не стал, но было ясно, что киллеров никто нанимать не намерен.
Машина поехала по набережной, у которой вперемежку с теплоходами стояли каботажные суда, катера и даже плавучие рестораны.
Андрей, стараясь не вслушиваться в бредовый разговор, который шумел вокруг, смотрел в окошко: набережная обтекала классическое здание королевского дворца или, может быть, парламента, за ним был виден мост со львами, а под мостом текла быстрая, почти горная речка, без мусора и бутылок, зато с белыми лебедями.
— Аркадий Юльевич ждет в «Ривьере», — сказал, не оборачиваясь, шофер.
Бегишев кивнул — он, видно, об этом уже знал.
«Вольво» миновала обширный сквер. Посреди сквера стояла статуя — человек, похожий на Карла XII перед Полтавской баталией, указывал перстом на Москву.
Но никто, кроме Андрея, статую в агрессивных намерениях не заподозрил, и она скрылась в морозном тумане.
Автомобиль затормозил у широкой лестницы, дверь в ресторан открылась немедленно, как только изнутри увидели гостей. Небольшого роста, энергичный, подтянутый мужчинка в твидовом костюме выскочил на холод. Казалось, что он старается убежать от большого черного зонта, который гнался за ним, покачиваясь в руке гигантского негра в голубой ливрее.
Мужчинка протянул обе руки вылезшему из автомобиля Оскару, но Бегишев, не ответив на приветствие, заверещал:
— И это называется безопасностью, мать вашу! На меня покушаются фактически у вас на глазах. А где гарантии?
Ловким движением мужчина по имени Аркадий Юльевич подхватил колечком правой руки локоть Бегишева и повлек его наверх, к зеркальной двери.
— А мы разберемся, — повторял он. — Обязательно разберемся, кому это было выгодно и кто направлял руку.
— Нашим врагам! — крикнула сзади Антонина. Она старалась приблизиться к мужчинам, но ее игнорировали.
Они подошли к отлично сервированному столу, причем именно на пять человек — компания минус Алик, которому пришлось остаться снаружи, хотя он так рассчитывал посидеть с барами за столом и был обижен недооценкой его роли. Даже вякнул Бегишеву: «Как же без меня вы будете?» Но тот сообразил, что сидеть за столом с телохранителем неправильно — это тебе не «Рубен Симонов», и ответил: «Подождешь».
Аркадий Юльевич посадил Бегишева рядом и, как бы продолжая давно завязавшуюся беседу, наивно спросил:
— Давай подумаем, против кого была направлена эта идиотская шутка… если это было шуткой?
— Вот именно! — И тут же Оскар, сообразив, что версия шутки его не устраивает, добавил: — Это было покушение. Чистой воды покушение. Вы не видели, а то бы в штаны наложили.
— Оскар! — Антонина решила защитить девичью честь.
— Это открытый вопрос, — вмешался Владимир Ильич. — Ведь я находился в двух шагах, и, возможно, трапом целились в меня.
— А попали в меня, — не выдержал серьезности разговора Берестов.
Он дотронулся пальцем до щеки.
— Не болит? — заботливо спросил Аркадий Юльевич. — А то я могу вызвать специалиста.
— Спасибо, не болит.
— Так что же это было? — добивался Бегишев.
— Допустим, что имело место обычное российское головотяпство.
— Вы хотите сказать, что я выдумал покушение? — Бегишев обиделся.
— Кстати, тебя, Оскар Ахметович, — ответил Аркадий Юльевич, — не только на трапе не было, но даже и в непосредственной близости…
— Только Андрей был на трапе, — сказала Антонина.
— Вот именно! Ваш переводчик Андрей Берестов, я правильно информирован?
— Правильно.
— Но не хотите же вы сказать, что вся эта операция проводилась только для того, чтобы искалечить вашего переводчика?
— О нет! — сказал Бегишев, которому жаль было отказываться от престижного ореола жертвы террористического акта.
— Тогда давайте знакомиться, — сказал Аркадий Юльевич. — Я здесь работаю в совместной фирме, меня зовут Аркадием Юльевичем.
Андрей сразу почувствовал, что наконец-то видит настоящего хозяина. И хотя Бегишев ему не подчинялся и даже в ходе дальнейшего разговора пытался подчеркнуть свою независимость и значение, Аркадий Юльевич явно был птицей более высокого полета.
Как он сам сказал, когда ели горячее:
— Без меня вы вряд ли провернете эту операцию, а я без вас, если очень нужно, управлюсь.
Андрей догадался, что у Аркадия Юльевича был на борту человек, который внимательно следил за группой Бегишева, — иначе откуда Аркадию Юльевичу знать некоторые детали вполне локального, чуть ли не интимного свойства.
Но больше всего Аркадия Юльевича интересовал, конечно же, Фрей.
И Ленину это внимание понравилось.
Наконец-то ему позволили распушить перья и походить гоголем.
Разговор сразу принял сюрреалистический оттенок, потому что собеседники, к раздражению простой души — Антонины, вели разговор так, словно Ленин был настоящим вождем пролетариата, только приболел и таился несколько лет от народа по настоянию врачей.
— А кто вам зрение обследовал? — интересовался Аркадий Юльевич.
— Глазное дно?
— Ведь при инсульте важны показания офтальмолога.
— У меня был лучший, Авербах. Не слышали? У него была квартира у Кировских ворот в доме «Россия».
— Ах, не говорите, там потом на чердаке помещалась мастерская Соостера, эстонского художника, из авангарда. Слышали о таком?
— Ну зачем же мне бывать в доме своего глазного врача? — удивился Фрей.
— А я тогда был в райкоме комсомола инструктором. Нас вызывает третий секретарь, по идеологии, и говорит: надо, чтобы это гнездо разврата и абстракционизма перестало существовать.
— Каленым железом! — поддержал Ильич Аркадия Юльевича. — Именно так!
Здесь не выдержали нервы у самого Оскара.
— Слушайте, мы здесь на вечере встречи, да? Старый большевик и пионерская смена?
— А вот иронии я не терплю! — воскликнул Ильич.
— Иванов, ты потерял контроль, — сказала Антонина. — И что характерно — над собой.
Тут спохватился чуткий Аркадий Юльевич: хоть он и был человеком значительным, но тоже понимал, что нельзя перегибать палку.
— Очень приятно было с вами познакомиться, — сказал он Ильичу. — Что вы желаете на горячее? Мясо или лосося?
— Ах, у нас на «Симонове» тоже подавали лососину, — сказал Ильич. — А оказалось — кета, представляете?
— Здесь таких ошибок не бывает, — откликнулся Аркадий Юльевич. — Надо полагать, мы можем говорить откровенно?
— Все под контролем, — подтвердил Бегишев. — Вся группа прошла проверку.
Аркадий Юльевич уставился на Андрея. Взгляд у него оказался холодным, змеиным.
— Я тоже под контролем, — признался Андрей. — И прошел проверку.
Аркадий Юльевич кивнул. Он был удовлетворен ответом. Поэтому обратился к Бегишеву:
— Отпечатки пальцев не забыли?
— Ой, не говорите! — сказала Антонина. — Такую операцию пришлось провести — Мавзолей брали!
— Это еще зачем? — не понял Аркадий Юльевич.
— А как еще раздобыть эталон? Пришлось снимать отпечатки пальцев с мумии.
— А потом сравнили с моими, — сказал Фрей. — И убедились, что мы — одно лицо.
— Ну и дела, — произнес Аркадий Юльевич. — Значит, вас двое с одними отпечатками?
— Что касается меня, то мои всегда со мной, — по-ленински сказал Владимир Ильич.
Сыграл он эту миниатюру классно, сразил Аркадия Юльевича.
— С отпечатками, — сказала Антонина, — все в порядке. У меня есть конверт с отпечатками пальцев оригинала. Они совпадают.
— То есть накладки не будет?
— Не будет. Я за них в койке с таким хмырем отработала, вы не представляете!
— Учтите, что у них там серьезно. Большие деньги, серьезные люди. Расскажите, как с оппозицией?
— Они меня сегодня убить хотели, — заявил Бегишев таким тоном, будто принес жалобу в милицию.
— Не вас, голубчик, не вас, — возразил Аркадий Юльевич. Он снова холодно посмотрел на Андрея. Не нравился ему Андрей, и чувство было взаимным.
— Кого-нибудь подозреваете?
— Расскажу тебе наедине, — сказал Бегишев. — Кое-какие наработки уже есть.
— Добро.
Мороженое было вкусным, но «у нас лучше», как сказала Антонина, а Аркадий Юльевич, хотя мог бы и защитить местное — сам же платил и выбирал, — возражать не стал.
— Все свободны, — сказал он, когда доели мороженое. — Желающие выпить кофе могут остаться — принесут. Потом погуляйте. До корабля доберетесь?
— Только осторожнее, — велел Бегишев. — Я бы не расставался. Лучше погуляйте группой.
— Как в добрые советские времена, — вырвалось у Андрея.
— Что ж, и оттуда есть что позаимствовать, господин Берестов, — сказал со значением Аркадий Юльевич. Хотя непонятно было, угрожает он или просто так, умничает.
Бегишев с Аркадием Юльевичем удалились. Именно удалились, а не ушли. Уплыли в сторону моря.
Остальные не спешили — в самом деле заказали кофе. Тут и началась служба Андрея. Кофе с пирожными.
Фрей сообщил, что Стокгольм славится своим кофе, «как сейчас помню».
— Помолчал бы, — сказала Антонина, которая никак не могла проникнуться уважением к старику, даже в рамках игры.
— Боюсь, что вы, Антонина Викторовна, — ответил Фрей, — несколько переоцениваете свое значение. Я должен вам сказать, что без вас тут обойдутся. Я же теперь становлюсь центральной фигурой, как вы видели по отношению ко мне товарища из советского посольства.
— Нет, ты посмотри! — Антонина обернулась к Андрею, но Андрей предпочел не принимать ничьей стороны в конфликте.
— Я долго терпел, — сообщил ей Фрей. — Я выдерживал оскорбления и унижения, не соответствующие моему статусу.
— Ах, у него и статус есть! — Антонина сардонически расхохоталась.
Фрей поднялся, опрокинул стул, как показалось Андрею — нарочно.
Он решительно направился к двери. Это напоминало историческое полотно «Вождь революции покидает собрание меньшевиков и соглашателей».
Алик обернулся к Антонине:
— Остановить?
— Пускай погуляет, — сказала Антонина. — Что с ним случится? У него на тебя отрицательная реакция.
— Тогда я тоже погуляю, — сказал Андрей.
— Правильно, — согласилась Антонина. — Погуляйте, интеллигенция. Но чтобы вернуть его на «Рубена Симонова» в одном куске.
Андрей не был уверен в том, что Антонина оставит их в покое. И допускал, что, кроме Алика, чужого в этом городе и потому малоэффективного, здесь есть подручные Аркадия Юльевича. Уж очень Антонина равнодушно отнеслась к тому, что курица, которая вот-вот снесет золотое яйцо, намерена бунтовать на улицах шведской столицы.
Андрей догнал Ильича в двух шагах от ворот, тот как раз закутывал себе горло шарфом — ветер был морозным и сырым.
— Вы на теплоход? — спросил Андрей.
— А вас послали следить за мной?
— Сомневаюсь, — ответил Андрей. — Я не пользуюсь у них доверием.
— А у них никто не пользуется доверием. Кстати, я перчатки не взял. Это легкомысленно.
— Давайте купим вам перчатки, — предложил Андрей.
— Что вы говорите! Откуда у меня деньги? Я работаю за стол и койку.
— Фирма платит, — сказал Андрей. — У меня есть деньги.
— Отлично, я расплачусь с вами, как только все это завершится.
Подходящий магазин попался скоро — это был универмаг, и там было тепло.
Ленин оживился, он долго копался в длинном ящике, куда были свалены недорогие перчатки. Потом вдруг замер и сказал Андрею, указывая на него выхваченной парой перчаток:
— Вот именно в этом и заключается главный порок капиталистической системы, порок, который наши любезные демократы стараются внедрить в Советском Союзе. Вам никогда не приходило в голову, Андрей, как это приятно: схватишь килограмм колбасы по два двадцать и идешь домой, счастливый свершением желания. Здесь же я должен выбирать из двадцати почти одинаковых пар перчаток. Мыслимое ли дело? Я останавливаюсь в тупике и не могу принять решения. Тут и бери меня голыми руками. Именно поэтому, батенька, капиталисты всех мастей навалили на нас так называемое изобилие, и наш народ потерял способность принимать решения.
— Но вас-то они не смогут одурачить, — сказал Андрей.
— Ну, ты дипломат, — рассмеялся Ильич, — ну, ты даешь!
— Какие берем?
— А можно взять две пары? Ведь я обязательно одни потеряю. Вы не представляете, товарищ, насколько я бываю рассеян.
— А Надежда Константиновна жива?
Ильич замер. Почуял подвох.
— Надежда? — получился знак вопроса.
— Вот именно.
— Надежда умирает последней, — туманно сообщил Ильич.
— Я имею в виду Надежду Константиновну.
— Надежда Константиновна умирает последней, — сказал Фрей.
— Вы с ней незнакомы?
— С буддийской точки зрения, если рассматривать существование как бесконечную череду перевоплощений и стремление к нирване, — то да!
— А вы буддист?
— Ни в коем случае!
— Откуда же стремление к доктрине?
— Я ищу понятные для вас формы, — признался Ильич. — И это не означает, что я разделяю заблуждения буддистов. Я — коммунист.
Они остановились на мосту через горную речку, которая неслась посреди города к холодному морю. От нее исходил негромкий, но тревожный шум, как музыка в боевике.
— Странно, — сказал Андрей. — Но спутники ваши не производят впечатления коммунистов.
— Ничего. — Ленин повел в воздухе рукой в новой меховой перчатке, любуясь собственным жестом. — Они станут коммунистами, — продолжил он после красноречивой паузы. — Или погибнут… Но я не теряю надежды.
— Значит, вы нарочно искали таких людей?
— Каких?
— Беспартийных.
— Ах, батенька, как вы еще слабо разбираетесь в людях! Можно ли назвать коммунистами Максима Горького, Савву Морозова или Шмидта? Разумеется, нет. Но для партии, для нашего дела они сделали куда больше иных преданных большевиков. Наша задача, наш талант — использовать людей, даже если порой они об этом не подозревают!
— Это касается и меня?
— В первую очередь вас, Андрей Сергеевич.
Ленин замолчал, словно мог сказать нечто более важное, но пожалел собеседника. Впрочем, Андрею это могло показаться. Лишь возвратившись в каюту, он додумался до простой вещи: если Бегишев добывал сведения об Андрее, то он узнал его фамилию и, конечно же, имя его жены. Тогда Ленину ничего не стоило сложить двух Берестовых и понять, что встречался он с обеими половинками семьи. Причем драматически.
Но в тот момент, ни о чем еще не догадываясь, Андрей спросил:
— Но как же вы с ними заключили союз? Если не хотите, то не надо отвечать.
— Я, Андрюша, никогда и никого не боюсь. Я свое отбоялся. Я только тогда храню секреты, когда мне это выгодно. Со мной все было просто. Я оказался один — без друзей, без дома, без пенсии. Мне надо было на старости лет искать работу.
— А почему у вас не было пенсии?
— А потому что, дурачок ты эдакий, трудно дать пенсию человеку, которому положено лежать в Мавзолее.
— Значит, это все-таки вы!
— Вы медленно соображаете, Андрюша. Надо было бы посоветоваться с товарищами.
— С какими?
— Подумайте.
— Я подумаю, а пока рассказывайте.
— Я был вынужден, чтобы не подохнуть с голоду, присоединиться к странной компании людей, которые выдают себя за великих. Телевизионные двойники.
— Копии Наполеона, Ленина, Майкла Джексона?
— И так далее. Главный там — Сталин! Они неплохо зарабатывают на всяких митингах и фестивалях.
— И вы раньше с ними не встречались?
Получилась пауза. Ленин смотрел на несущуюся воду, сплюнул туда, и Андрею захотелось одернуть его: не смейте этого делать! Вы не дома!
Потом Ленин все же сказал:
— Я с ними уже встречался. Я жил бедно, и в этом нет ничего позорного!
— Кроме того, что вы знаете, что Ленин — жив?
— Жива идея, живо его возродившееся во мне тело. Но не больше.
— Значит, вам грозит инсульт?
— Медицина многого добилась. К тому же я веду умеренную жизнь.
— Вам надоело копировать самого себя?
— Правильно! Копировать можно дворника. Копировать, как вы выражаетесь, вождя мирового пролетариата — достаточно ответственная и даже историческая задача. Необходимо вжиться в образ и постараться соответствовать хотя бы морально величию этой фигуры.
Ильич раскраснелся, забыл о том, что находится на ветру, а ведь немолод — уже пережил своего двойника.
— Может, пойдем посидим где-нибудь в тепле? — спросил Андрей.
— И нарвемся на провокацию? — Ленин не шутил.
— А как вы встретились с Бегишевым?
— Антонина как-то пришла на митинг левых сил, где выступал и я. Под видом Ленина. В образе Ленина… Мы разговорились…
— То есть большевикам вы не подошли?
Фрей настороженно посмотрел на Андрея. Тот понял, что перчатками завоевать доверие вождя ему не удалось.
— Сегодня нет большевиков, — сказал он. — Есть так называемые «коммунисты». Я оставляю кавычки на их совести. Не эти люди приведут к новой победе силы народа, не они освободят нас от власти так называемых демократов. Нет, не они!
Ильич взметнул над горной речкой, что шумит неподалеку от шведского королевского дворца, руку в шведской перчатке. И стал похож на один из своих монументов районного масштаба.
— А Бегишев приведет к победе?
— Ах, Андрей, неужели вы не видите, что Бегишев для меня — только средство достижения цели. Если нам все удастся, я получу значительные средства, которые принадлежат не мне, а партии большевиков. С этими средствами я ринусь вперед, к победе.
Ильич опустил руку и добавил:
— Ведь в наши дни никуда без валюты не сунешься.
— То есть Бегишев знал о золоте партии?
— Да, ему сообщили, что нашли документы в особой папке.
— И тут понадобились вы.
— Вот именно! Ах, как им было трудно поверить в то, что я и есть настоящий Ленин!
Фрей сделал паузу, он ожидал реакции Андрея.
Андрей постарался сделать реакцию адекватной.
— То есть как так — настоящий Ленин?
— Опять — двадцать пять! Я же объяснил!
— Вы говорили о буддизме в переносном смысле. Мы же с вами материалисты.
— Ленин вечно жив, — сообщил Фрей. — Я уже был в Стокгольме. В начале революции. Как сейчас помню.
— Все дело в отпечатках пальцев? Как вы смогли их убедить?
— Не сразу. Сначала они привлекли меня — Бегишев проницательный мерзавец. Только потом, когда наши люди стали выяснять, как можно добраться до денег, какие условия, — они приходят и говорят: все, кранты.
Ильич повторил:
— Кранты! — словно каркнул. Ему нравилось слово.
— Они узнали о главном условии?
— Они узнали о том, что для получения золота нужно сверить отпечатки пальцев. Ведь предполагалось, что золото возьмут в ближайшие годы, когда все еще будут живы я, Красин и Свердлов. Но Свердлов умер, а я исчез…
— Ну и как же Бегишев выпутался из этого положения?
— Он проверил, совпадают ли мои пальчики с пальцами Ленина.
— Бред какой-то, — сказал Андрей. — Разве это возможно?
— Наши люди проникли в Мавзолей и сняли отпечатки пальцев того Ленина, который там лежит.
— То есть там лежите вы?
Фрей впервые улыбнулся. Ему понравился парадокс.
— В известном смысле там лежу я. Ведь не бывает одинаковых отпечатков пальцев у двоих разных людей, а?
— Вот этого я не понимаю.
— И не старайтесь, батенька, не старайтесь. Это выше вашего разумения.
— Это шутка?
— Шутка природы. Шутка великой матери природы. Я окончательно и зверски замерз, Андрей! Пошли, скроемся в каюте от жгучих морозов Балтики!
Ильич поднял воротник. Он шел первым, борясь с ветром, и снежинки били ему в лицо.
Рядом по мостовой проезжали машины. Они ехали медленно, пробивая густеющий снег лучами фар.
Андрей понял, что за ними следят.
Может быть, из машины, которая ехала слишком медленно, словно подстраиваясь под скорость пешеходов.
Андрей остановился, полагая, что, когда машина проедет мимо, он сможет увидеть, кто в ней.
Машина медленно проехала мимо. В ней сидели два человека — но разве разглядишь под снегом, когда уже начинает темнеть?
Вроде бы люди незнакомые.
Взревела другая машина — оказывается, Ильич, дойдя до перекрестка, принялся переходить улицу.
И тут из-за поворота вылетел автомобиль.
Наверное, из него не увидели Фрея.
— Стойте! — закричал Андрей, бросаясь вперед.
Конечно, он не успел бы ничего сделать. Решали секунды.
Фрей увидел машину, попытался остановиться, но сразу сделать этого не смог.
Но успел среагировать водитель той машины, что следовала за Фреем и Андреем.
Она буквально подпрыгнула, рванулась вперед и каким-то непонятным образом коснулась радиатора автомобиля, который должен был вот-вот ударить Фрея.
Это было сделано так ловко, что нападающая машина, не снижая скорости, изменила направление движения и через секунду врезалась в угол дома. К счастью, женщина, проходившая там, миновала смертельную точку за мгновение до удара.
Фрей испугался.
С некоторым опозданием, но испугался настолько, что ноги отказались его держать, и он сел на мостовую. Словно тряпичная игрушка.
Когда Андрей подбежал к нему и подхватил под мышки, вождь пролетариата вяло сопротивлялся и повторял:
— Не надо, пожалуйста, не надо, я не выношу насилия. Я в жизни мухи не обидел.
— Врешь, — неожиданно для себя выкрикнул Андрей. — И в той жизни, и в этой ты всегда обижал слабых.
Ильич наконец поднялся на ноги и понял, что Андрей ему помогает.
Он прижался к его груди — шапка упала, и лысый желтый затылок поблескивал под снегом перед глазами Андрея.
Занявшись с Фреем, Андрей не видел, что происходило неподалеку. А там водитель и пассажир машины, спасшей Фрея, бросились к нападавшей машине, которая стояла, задрав капот. Они отворили дверцу и вытащили потерявшего сознание водителя. В мгновение ока они дотащили его до своего автомобиля, кинули на заднее сиденье и, не обращая внимания на Фрея, рванули с места и скрылись в пурге.
Но оказалось, что Фрей не совсем забыт. Потому что из снежной мглы вышел невысокий человек в длинном, почти до земли плаще, подошел к Андрею и спросил по-русски:
— Не пострадал?
— Я? — спросил Фрей. — Я пострадал! Я ранен, я убит!
— Ну и слава богу, что не пострадал, — сказал человек в плаще.
— Сможете идти? — спросил Андрей.
— Не знаю, — сказал Фрей.
— Я советую немедленно уходить, — сказал человек в плаще. — Скроетесь в ближайшей улице. Вы ничего не видели и не слышали.
— Ничего себе — не видели! — возмутился Фрей. — Я чуть не погиб.
Андрей потянул Фрея к узкому проулку, который убегал вверх.
Человек в плаще пропал.
Слышно было, как кричит напуганная машиной женщина.
Потом завизжала полицейская сирена. Но к тому времени Андрей вывел Фрея на другую улицу. Миновало…
На набережной возле «Рубена Симонова» было спокойно. Трап починили. Но он показался Андрею таким ненадежным, хоть не подходи. Фрей, который тяжело дышал и для которого полкилометра от места покушения до корабля показалось бесконечным восхождением на Эверест, еще больше испугался трапа и вообще отказался подниматься на него.
— Что ж, — сказал Андрей. — Подождите здесь, пока ваши друзья вернутся. Они вам подыщут гостиницу.
Он устал — ведь несколько кварталов тащил на себе вождя пролетариата.
— Только вы первый, — сказал Фрей.
— Чтобы я успел подняться, а трап сломался на вас?
— Не смейте так говорить! — возмутился Фрей. — И не смейте сравнивать свое ничтожество с моим значением для страны и пролетариата.
— Я для себя представляю большую ценность, чем вы, — огрызнулся Андрей.
— Так и лезьте! — ответил Фрей. — Я подожду.
Андрей решительно направился к трапу.
И тут же сзади услышал тяжелое мелкое дыхание Фрея.
Он остановился. Все-таки старый человек… Старый? А кто поджег дом и убил малышей?
— Я доложу о вашем поведении товарищу Бегишеву, — послышался голос сзади.
«Ну вот, — подумал Андрей. — Только собрался его пожалеть!»
Подстегнутый заявлением Фрея, он уверенно вступил на трап и быстро поднялся наверх. Трап стоял надежно. Уж наверное, его проверили.
Наверху ждали два корабельных офицера — они страховали пассажиров, словно боялись, что те будут падать с трапа сами по себе.
Фрей взобрался сразу за Андреем.
И, не прощаясь и даже не поблагодарив за перчатки и за помощь в возвращении на теплоход, уковылял к себе.
Не успел Андрей дойти до своей каюты, как его догнала Антонина.
— Мы только что вернулись, — сообщила она. — Да стой ты, куда бежишь! Неужели было покушение?
Андрей устал, все ему надоело.
— Вам лучше знать, — сказал он. — Вы отвечаете за его безопасность.
— На хрен нам сдалась его безопасность! — отрезала Антонина.
— Вы не правы, Антонина Викторовна. Без него вы ничего не получите.
— Но ведь ничего не случилось! Обошлось?
— Там были люди Аркадия Юльевича, — уверенно сказал Андрей. Он не знал наверняка, но иного объяснения не было.
— Я знаю, знаю. Иди.
— А подробности?
— Подробность одна, — сказала Антонина. — Я там тоже была.
— Разумеется. Ни дня без строчки.
Антонина не угадала цитаты, пожала плечами и пошла обратно, готовиться к встрече с Бегишевым. Еще неизвестно, что выплачет Оскару Ильич, который осознает свое значение и незаменимость. Он-то жалеть Антонину не станет. Судя по всему, ее чары на него не действуют, а темперамент бесит.
Гаврилин был в каюте, он сидел у приоткрытого иллюминатора, сквозь который влетали снежинки и несли с собой холод, но не замечал этого и писал увлеченно, словно сочинял стихи.
— Жертва сионистского заговора! — воскликнул он, увидев Андрея.
— Не выяснил, что же там было? — спросил Андрей. — Мне не хотелось бы еще раз греметь с такой высоты.
— Боюсь, что сионисты сделали все дьявольски хитро. — Алеша отложил лист бумаги, исписанный мелко и неровно. — Вернее всего, спишут на естественные причины. Расскажи, где вы были, что вы делали?
— Встречались с посольским типом — у них тут с Бегишевым дела.
— У наших новых русских всюду дела, — согласился Алеша. — А я хочу теннисных мячей купить. Меня из Питера попросили привезти какие-то особенные, для руководящих органов. Они же у нас теперь все в теннис играют. А кто это был из посольства? Я тут бывал, многих знаю.
Конечно, Андрею куда больше хотелось рассказать о том, как на них с Фреем покушались и как люди Аркадия Юльевича увезли водителя той машины. Но зачем это? Над такими вещами хорошо шутить, когда смотришь соответствующую передачу по телевизору. А тут ты сам ходишь под пулями.
— Забыл имя?
— Нет, не забыл, — сказал Андрей, не желая оказаться приспешником Бегишева. — Его звали Аркадием Юльевичем.
— А фамилия?
— Алеша, ну откуда мне знать его фамилию!
— Он мог представиться.
— А он не представился, они с Бегишевым уже знакомы.
— Конечно, у Оскара здесь деловые контакты… Аркадий Юльевич? Нет, не слышал!
Алеша сложил лист бумаги и спрятал в карман домашней замшевой куртки.
— А как тебе этот старикашка? — спросил он. — Пародийный Ленин?
— Любопытная личность.
— Ты говоришь так, будто знаешь о нем нечто особенное.
— Особенного не знаю, но и пародийным он мне не кажется.
— Пойдем ужинать?
— Сейчас, только умоюсь.
Алеша не удержался, заглянул в тесный туалет, пока Андрей мылся.
— Ты в буддийских странах бывал?
— Почему спрашиваешь?
— Ты веришь в переселение душ?
— Знаешь, мне сегодня об этом говорил Иванов.
— Это еще что за фрукт?
— Это — пародийный Ленин.
— Не было у него такого псевдонима, — сказал Алеша, — Ильин был, Фрей был, а Иванова не было.
Разговор получался странным. Алеша вел себя иначе, чем всегда. Где его вальяжная ирония, умение все превратить в элегантную шутку?
Тут в дверь постучал Кураев, который желал спросить, что чувствует человек, когда совершает полет вместе с трапом с пятиэтажного дома. Хоть он при том присутствовал, но сам ничего подобного не испытывал.
За столом уже сидели Татьяна с Анастасией Николаевной. Но не притрагивались к салату — ожидали мужчин.
— Это было ужасное зрелище, — сказала Анастасия Николаевна. — Можно было умереть только от одного вида.
— Вы легко отделались, — сказала Татьяна.
У нее были глаза как у рыси — желтые, яростные, не соответствующие чертам лица и мягкой манере поведения.
Сколько ей лет? Наверное, под сорок. Такая красивая женщина, а не нашла себе спутника жизни.
— Я вас, мужчин, не люблю, — сказала она, когда принялись за ужин.
— Грубые, волосатые, норовят схватить руками за самые нежные места, — поддержал ее Алеша.
— Ах, я не это имела в виду! — отмахнулась Татьяна. — Я думала о мужской неверности. Почему нужно было в город уходить в компании этого ужасного Бегишева? Неужели Антонина вас привлекает больше меня?
— Антонина доступна. — Алеша пришел на помощь Андрею. — Она тянется к мужчинам всем своим прекрасным телом. А вы уходите в тень.
— Я берегу тело для избранника, — ответила Татьяна.
Она не шутила.
— Андрюша провел день в городе в приключениях и деловых встречах, — сказал Гаврилин. — Он даже обедал с посольским работником.
Никто не оценил иронии Гаврилина.
Анастасия сказала, подбирая ложкой бульон:
— Совершенно противоестественный союз! Что их объединяет?
— А помнишь «Остров сокровищ» Стивенсона? — спросила Татьяна.
— Помню, но не понимаю.
— Там собрались совершенно случайные люди, чтобы искать сокровища.
— Закопанные Петром Первым, а то и новгородскими ушкуйниками на острове Готланд? — догадался Алеша.
— Но зачем им нужен старичок, похожий на Ленина? — спросила Анастасия.
— У него чутье на клады. Бывают же собаки, которые находят по запаху наркотики! — ответил Гаврилин.
— Он шутит, — сказала Татьяна, — ведь наркотики — органические! А он мертвенький.
— Андрюша должен нам помочь, — сказала Анастасия Николаевна. — Ведь он в душе не принадлежит к этому дикому сообществу.
— Как я могу вам помочь?
— Как русский человек русским людям, — сказала старуха. — Вы разделяете взгляды большевиков?
— Ни в коем случае! — ответил Андрей.
— Надеюсь, что, несмотря на вашу молодость, это отношение сложилось на основании жизненного опыта и вы не лицемерите.
— Не обижайся, Андрюша, — сказал Гаврилин. — Анастасия Николаевна бывает излишне эмоциональна.
— Излишней эмоциональности не бывает, — сказала Анастасия Николаевна. — Она бывает искренней и ложной. Меня же искренне волнуют проблемы нашего государства.
Андрей почувствовал, что разговор подходит к важной грани. Наконец-то он узнает что-то об этих дамах.
— Не лучше ли перейти к нам в каюту, у нас есть хорошее вино, — сказала Татьяна, — можем там побеседовать. А то тут слишком много любопытных глаз.
— Но тогда, — улыбнулся Гаврилин, — следует вести себя как настоящие конспираторы, как большевики. Уходим по двое — мы с Андреем сразу после вас. Идем сначала к себе в каюту.
Дамы согласились, что конспирация не помешает, а Гаврилин сказал Андрею, когда они шли к своей каюте:
— Я не знаю, что нам намерены сообщить милые дамы, но мне кажется, что компания Бегишева, куда ты попал по неразумию или недоразумению, — это не детский сад. Это опасные люди. Они ни перед чем не остановятся.
Андрей хмыкнул, соглашаясь.
— Чем меньше они будут знать, тем лучше. Мне даже кажется, что между ними и нашими дамами существует неприкрытый антагонизм.
И с этим Андрей согласился.
— Посидим у нас минут десять, потом пойдем в гости.
За иллюминатором горели окна — теплоход стоял в ста метрах от обыкновенных высоких жилых домов.
— Ты не чувствуешь, что угодил в историю? — спросил Гаврилин.
— Еще как чувствую. Но хотелось бы узнать побольше.
— Любопытство погубило кошку, как говорят англичане.
— Меня особенно не спрашивают, — сказал Андрей.
Он подошел к иллюминатору. Был бы бинокль, можно было бы поглядеть, как ужинают, спорят или укладываются спать прибрежные шведы — благо они не считали нужным закрывать ставни или шторы.
— Если тут есть конфликт, — сказал Гаврилин, — я предпочту быть на стороне дам.
— Ты вообще предпочитаешь быть на стороне дам, — согласился Андрей.
— Шутки — шутками, но Бегишев со товарищи — коммунисты.
— И одновременно спонсоры вашего круиза?
Андрей не поверил Алеше.
— Когда это мешало коммунистам? Особенно если этот круиз — прикрытие для важных дел.
— А кто такие Анастасия с дочкой?
— Ну уж не хуже, чем коммунисты.
И они отправились в гости к Анастасии.
У дам был люкс — двухкомнатный: страшный дефицит, так как начальствующие лица стремились завладеть люксами, как доказательством своей принадлежности к сливкам общества.
Дамы уже освоили его.
Комната была украшена фотографиями в темных рамочках, букетиком высушенных цветов, подносами, чашками и разной посудой, не приспособленной к качке.
— Садитесь, мы сейчас к вам присоединимся, — сказала Анастасия.
Она уплыла в туалет — слышно было, как там льется вода, заглушая голос Татьяны.
Татьяна вышла с подносиком, на котором стояли чашки. Анастасия принесла кофейник и нарезанный бисквит на тарелочке.
— Простите, что не можем принять вас достойно, господа, — произнесла Анастасия.
Она была в длинном гимназическом платье с белым отложным воротничком. Словно выпускница на вечере встречи. Татьяна была в джинсах. Ее резкому характеру и движениям больше подходила мальчиковая одежда. Женщины обычно чувствуют свой стиль.
— Мы очень благодарны вам, что вы здесь, — сказала Анастасия Николаевна. — Нам нужна помощь всех интеллигентных людей.
— Вот именно, — произнесла Татьяна, словно удостоверила принадлежность Андрея к интеллигенции.
— Угощайтесь, — пригласила Анастасия Николаевна. — Печенье мы в Копенгагене покупали. Как вы знаете, Дания славится своим печеньем. У меня в Дании живут родственники, там моя бабушка умерла.
Татьяна вмешалась в монолог Анастасии Николаевны:
— Никого не интересуют твои родственники за границей.
— Ах да. — Анастасия Николаевна повела в воздухе сухой изящной рукой. — Еще несколько лет назад в таком страшно было признаться.
— Сейчас никто ничего не боится, — произнес Алеша Гаврилин. Он держал печенье двумя пальцами, отставив мизинец. Андрей заподозрил Алешу в некоторой иронии, которая и выразилась в этом жесте. — Люди совершенно распустились. Один мой родственник признался в том, что у него дядя в Антарктиде.
— Такого не может быть! — серьезно возразила Анастасия Николаевна. — В Антарктиде живут только пингвины.
— Он утверждает, что его дядя — пингвин. Он обнаружил это уже в зрелом возрасте, подрядился в полярники, со станции «Мирный» сбежал под покровом полярной ночи и присоединился к стае пингвинов. С тех пор счастлив. По крайней мере пишет, что счастлив.
— Как так пишет? — Анастасия Николаевна находилась на зыбкой грани веры и неверия.
— Тетя Настя, — сказала Татьяна. — Вас разыгрывают самым постыдным образом.
— В самом деле?
Наступила неловкая пауза.
Анастасия Николаевна горько вздохнула, ущипнула себя за уголок воротничка, и губы ее беззвучно шевелились, словно она молилась.
— Короче! — сказала Татьяна и поставила на столик чашку. — Мы пригласили вас, Андрей Сергеевич, чтобы рассказать все без утайки. Потому что только так мы можем рассчитывать на вашу поддержку. Только взаимная откровенность рождает союзников.
— Слушайте, слушайте! — воскликнул Алеша Гаврилин, словно в английском парламенте. Он не мог удержаться от склонности к подзуживанию.
Татьяна поглядела на Анастасию Николаевну.
Та кивнула и продолжила речь племянницы.
— В Швеции, — сказала она, — сохранились некие ценности. И притом значительные.
— Вы не взяли клятвы с нашего друга, — предупредил Алеша — то ли шутил, то ли в самом деле напоминал.
— Нам не нужны клятвы. Мы разбираемся в людях, — возразила Анастасия Николаевна. — И полагаем, что Андрей не побежит к нашим противникам с информацией, даже если ему за это хорошо заплатят.
Андрей встретился со взглядом старухи — взгляд был ледяным.
— Я не просился к вам и не рассчитывал на вашу откровенность, — сказал Андрей. Ему уже не нравилось быть в эпицентре сомнительных интриг. Как будто сидишь на раскаленной сковородке, а несколько едоков стараются утащить ее к себе на обед.
— Достаточно, — сказала Татьяна. Кончиком языка она облизнула четко очерченные губы, совсем как пантера, готовящаяся к прыжку. — Андрей предупрежден и будет молчать. Можно обойтись без клятв. Существуют другие способы понимания. Если вам неприятно то, что здесь происходит, вы можете встать и уйти. Никто вас не удерживает, и ничто вам не грозит.
«Ничего, — уговаривал себя Андрей. — И на сковородке можно посидеть с пользой для дела».
Он отхлебнул кофе, зная, что все смотрят на него.
— Продолжать? — спросила Анастасия Николаевна.
Андрей понял, что тактически он эту маленькую битву выиграл. Они не получили от него ни заверений в преданности, ни попытки уйти.
— Говори, тетя, — сказала Татьяна.
— Эти сокровища были отправлены в Стокгольм большевиками в восемнадцатом году.
— В тысяча девятьсот восемнадцатом году, — уточнил Алеша.
«Как же я не догадался, — подумал Андрей, — что он из их компании. Это же очевидно!»
— Тогда только что закончились переговоры с немцами, и те продвигались в глубь России. И никому не было известно, остановятся ли они или возьмут Петроград. Ведь его некому было охранять.
— В те дни, — сказала Татьяна, — революционные части были годны только на то, чтобы сражаться с контрреволюционными бандами. Немцы проходили сквозь них, как нож сквозь масло.
— Ты хорошо училась, — заметил Гаврилин.
— Я еще и много читала. Для себя, — сказала Татьяна.
— Перепуганные диктаторы думали уже о том, как унести ноги, — продолжала Анастасия Николаевна. — Они не верили в победу революции. Они кричали на каждом шагу об этой победе, они готовы были расстрелять любого, кто ставил под сомнение их власть, но сами-то ни во что не верили.
— Еще кофе? — спросила Татьяна.
— Нет, спасибо, — сказал Андрей.
Морщинистые щеки Анастасии Николаевны раскраснелись, словно их покрасили акварелью. А глаза оставались такими же голубыми и прозрачными.
— Долгие годы никто не знал об этом преступлении большевиков, — сказала Анастасия Николаевна.
— Но подозревали. Были слухи, — сказал Гаврилин. — Я сам кое-что слышал. Но ведь в архив Политбюро не попадешь.
— Этих документов не было в архиве, — сказала Татьяна. — Ни в одном архиве. Но нужные выводы можно было сделать из той секретной папки, в которой фиксировались заседания узкого состава Исполкома. Впрочем, вряд ли вам интересны технические детали.
«А сейчас терпи, даже голову не наклоняй, — уговаривал себя Андрей. — Как будто ты и слушаешь, и не слышишь».
— Вы меня слушаете? — спросила Анастасия Николаевна.
«Замечательно — она не уверена».
Андрей молча кивнул. Теперь можно кивнуть.
— И в самом деле, — продолжала Анастасия Николаевна. — Кому какое дело до документов? Но важно другое, и вы должны сейчас быть особенно внимательны. Речь идет о происхождении этих ценностей.
— Одной шкатулки, — уточнил Гаврилин.
— Когда царское семейство находилось в Тобольске, государь узнал, что предстоят обыски и изъятие всего ценного. При аресте и высылке Александра Федоровна успела взять и спрятать немало драгоценностей. Ведь неизвестно было, сколько времени придется провести семейству в ссылке и куда занесет их судьба.
Анастасия Николаевна замолчала, затем вынула из кармашка гимназического платья голубой платочек и промокнула им глаза, как будто опасалась, что слушатели увидят нечаянную слезу.
— Александра Федоровна передала ценности верным, как ей казалось, людям. Но верность проверяется в испытаниях. Священник и его свояченица, которым была доверена шкатулка, к сожалению, передали их властям предержащим, и эти шкатулки завершили свой путь в Москве.
В словах и интонации этой маленькой старушки Андрею чудилась некая Марфа Посадница, которая перед смертью на плахе обязательно должна изобличить гонителей.
— В белокаменной, — сказал Гаврилин.
— Помолчите, Алеша, — прошептала Татьяна.
— Это были ценности мирового значения, — сказала Анастасия Николаевна. — Фамильные драгоценности семьи Романовых.
— И притом нигде не учтенные, а со смертью императорского семейства и никому не ведомые, — добавила Татьяна. — Их привезли из Тобольска в Москву и сдали Свердлову. Среди тогдашних чекистов были не только стяжатели, но и мрачные идеалисты.
— Не исключено, что впоследствии смерть государя и его семейства стала следствием этого грабежа, — сказала Анастасия. — Лучше было спрятать концы в воду.
— Так можно свести к грабежу всю революцию, — возразила Татьяна.
— А я готова это сделать!
— Не надо, тетя, — сказала Татьяна. — Все куда сложнее.
— Мне лучше знать.
Татьяна была не во всем согласна с Анастасией Николаевной.
— Ах, милые дамы, — сказал Алеша Гаврилин. — Вы так эмоциональны! Лучше давайте ограничимся судьбой шкатулки. Судьба Российской империи останется за пределами нашего исследования.
Почему-то Анастасия Николаевна замолчала, а Татьяна стала предлагать мужчинам кофе: «Ну еще по чашечке, разве не замечательный кофе? Анастасия Николаевна знает старинные секреты».
Алеша с Андреем покорно выпили еще по чашечке, хотя кофе был таким крепким, что даже привыкшему к напиткам разного рода Андрею больше его пить не хотелось.
Продолжила рассказ Татьяна.
— Как теперь стало известно, — сказала она, — шкатулка с драгоценностями Романовых недолго пролежала в сейфе Свердлова — злого гения революции. Большевики отправили неучтенные и сокрытые ими даже от товарищей по партии сокровища в нейтральную Швецию, где у них были верные люди. Они были убеждены, что, если им придется бежать из России, спасаясь от народного гнева, эти деньги обеспечат им безбедное существование.
— По крайней мере до начала мировой революции в Германии, — добавил Гаврилин.
— И много людей знало об этой тайне?
— Почти никто, — ответила Татьяна. — Помимо Ленина и Свердлова был один человек из руководства партии — Лев Красин. Ему Ленин доверял.
— И всех их скоро прибрал Господь, — сказала Анастасия Николаевна. — Хотя я полагаю, что дьявол. Все они умерли в течение пяти лет.
— И еще были исполнители. Кто-то отвез шкатулку в Стокгольм, — добавил Гаврилин.
— Был некто, — согласилась Татьяна, — потому что именно его отчет, сохранившийся в секретной папке, и послужил ключом к открытию этой тайны.
— Ну и как найти эту шкатулку? — спросил Андрей.
— Ах, не лукавь, Андрюша, — сказал Гаврилин. — Мы думали, что ты более открыт перед нами.
— Почему ты так думал?
— По воспитанию, по классовому чувству.
— По благородству, — тихо сказала Татьяна. — Мы же проверили вас, Андрей Сергеевич. Мы знаем о вас больше, чем вы бы хотели.
— И что же? — Андрею не нравился такой поворот разговора.
— Вы нас разочаровываете, — произнесла Анастасия Николаевна.
— А вы себе противоречите, — сказал Андрей. — Потому что если я, как вы полагаете, благороден и честен, то я не могу распоряжаться чужими, доверенными мне тайнами.
— Даже если их доверили вам большевики?
— Чем же я тогда буду лучше их?
— Тогда нам больше не о чем говорить! — сказала Татьяна.
— Погодите, — поморщился Гаврилин. — Что за дамские разговоры! Андрюша прав. Если он не может сохранить доверенную ему тайну, то как мы можем ему доверять?
— Надо же делать различие между ними и нами! — не сдавалась Анастасия Николаевна.
— Почему?
— Потому что без жизненной позиции человек становится животным.
Андрей хранил молчание, хотя ему и хотелось поспорить с дамами. Он мог бы заявить, что не делает большой разницы между коммунистами и монархистами, но понимал, что находится среди последних, и, если уж он хочет узнать, чем завершится вся эта история, ему желательно не портить отношения ни с одной из сторон, благо он находится как раз между ними.
— Досказываем Андрею или кидаем его сразу за борт? — пошутил Гаврилин, и всем его шутка не понравилась. Андрею — потому, что он почувствовал в ней изрядную долю правды, а дамам — потому, что она показалась им неуместной и разрушающей образ благородных защитников монархии.
— А нечего досказывать, — мрачно произнесла Татьяна. — Кроме того, что доступ к информации получили большевики. Назовем их группой Бегишева.
— Впрочем, я допускаю, что они такие же большевики, как я фараон египетский, — заметил Гаврилин.
— А я настаиваю, что они большевики! — почти крикнула Анастасия Николаевна.
— Больше того, — продолжила Татьяна. — Они знают, а мы не знаем, как эту шкатулку найти и получить.
— И рассчитывают на твою, Андрей, помощь, — сказал Гаврилин.
— А мы тоже рассчитываем на вашу помощь, — сказала Татьяна.
Анастасия подвела итог:
— Они добыли ленинского двойника. Мы хотим знать, зачем он им понадобился.
— Не знаю, — сказал Андрей.
— Я хотела бы верить в вашу искренность, — сказала Анастасия Николаевна.
— Вы пейте кофе, пейте, — предложила Татьяна.
Они просидели у дам еще минут десять, говорили о Стокгольме, конференции и всяких пустяках.
К шкатулке и кладам больше не возвращались.
— Откуда ты их знаешь? — спросил Андрей Алешу, когда они возвратились в каюту.
— Здесь познакомился. За день до тебя, — соврал Гаврилин и тем окончательно убедил Андрея в том, что его связывает с этими монархистками большее, чем просто знакомство.
— И чего они хотят? — спросил Андрей.
— Очевидно, исторической справедливости.
— Как она тебе представляется?
Гаврилин затянулся. Его шкиперская трубка, которую он умудрялся курить лежа, слегка зашипела, как костер, когда его разжигают тонкими щепочками.
— Наверное, они хотят завладеть шкатулкой. Но это только мое предположение.
— А потом?
— В наши дни нетрудно найти применение деньгам, — сказал Гаврилин. — Анастасия Николаевна откроет музей в Санкт-Петербурге, а Татьяна купит серебряный «Мерседес».
— Они здесь сами по себе или представляют кого-то?
— Оказывается, ты мастер устраивать допросы. — Гаврилин пыхнул трубкой. Табак был хорошего качества, запах — отменный.
— Здесь все устраивают мне допросы, — заметил Андрей. — Могу же я на ком-то отыграться?
— И ты выбрал самого беззащитного человека на борту.
— Я не выбирал, ты сам напросился.
— И то правда.
— Так ты не ответил на вопрос.
— Почему ты мне его задаешь? У тебя была возможность спросить у дам.
Андрей сел на койке. За иллюминатором играла далекая музыка. Луна была большой и желтой.
— Не так просто все сообразить. Во-первых, вопросы возникают во мне не сразу.
— Понятно. Маразм.
— Во-вторых, на некоторые вопросы мне проще получить ответы у тебя.
— Почему?
— Потому что ты не дама.
— Ты меня убедил. Спрашивай.
— Кого представляют дамы?
— Полагаю, что своих родственников.
— Кто их родственники?
— Не знаю.
— Алеша, я не удовлетворен нашей беседой.
— Возможно, — согласился Гаврилин. — Но прошу тебя, не спеши с выводами. Ты не все знаешь, я не все знаю, незнание — верный путь к катастрофе. Мне эти дамы нравятся куда больше, чем твой друг Бегишев.
— Может быть, — согласился Андрей, — но, как ты сам сказал, незнание — верный путь к катастрофе. В поведении этих дам есть некоторые тревожащие меня детали.
— Какие? — быстро спросил Гаврилин.
— Разберусь — поделюсь с тобой, — ответил Андрей.
Гаврилин поднялся, вышел из каюты, не объяснив, куда идет. Андрей снова улегся и стал размышлять, благо было тихо и музыка за иллюминатором не мешала думать.
Возможно, теперь, когда Андрей встретился с конкурентами Бегишева, получат объяснения загадки, которые мучили его в предыдущие дни. Начиная с несчастного повара Эдика, то ли утопленного Бегишевым, то ли неутопленного. Может, он союзник, слуга старухи Анастасии?
Анастасия…
Почему они решили довериться Андрею? Вернее всего, это — инициатива Гаврилина. Он знает Андрея, с которым живет в одной каюте, у них есть основания полагать, что Андрей далек от коммунистов.
Они вычислили, что Андрей не побежит к Бегишеву с отчетом о переговорах с дамами.
А Гаврилин? Он их союзник? Или в самом деле случайный знакомый, допущенный в тайну?
В этом есть неувязка. Выходит, что Анастасия и Татьяна ходят по пароходу и размышляют, кому бы довериться? Нашли Гаврилина: открыли страшную тайну ему. Потом подумали: слишком мало посвященных, — и поделились с Андреем. Простая логика говорит, что Алеша Гаврилин — член клана Анастасии.
Вернее всего, попытка привлечь меня на свою сторону — не последняя. Будут ли меня подкупать, соблазнять или пугать — посмотрим.
Андрей незаметно заснул, так и не раздевшись, но, когда возвратился Гаврилин, он услышал его и спросил сквозь сон:
— А повар Эдик — он ваш агент?
— Какой еще Эдик! — почти искренне ответил Гаврилин.
И Андрей, так и не проснувшись, уверился в том, что и Алеша связывает Эдика со стокгольмской шкатулкой. Значит, есть и третья партия? «Где ты, Эркюль Пуаро?»
— Кто? — спросил Гаврилин, склоняясь к Андрею. — Ты о ком?
От Гаврилина пахло хорошим табаком и коньяком.
— Проводили совещание в баре? — спросил Андрей.
— Только с Татьяной, — ответил Гаврилин. — Бабушке Анастасии пора спать.
И тут в мозгу Андрея нечто щелкнуло, словно открылся замочек.
Все стало простым и очевидным.
А так как открытие пришло в полусне, то Андрей тут же проговорился.
— Понял, — сказал он.
Гаврилин зажег настольную лампу, потушил верхний свет и шумно уселся на койку.
— Чего еще понял, мой друг? — спросил он.
— Анастасия Николаевна, — сказал он. — Энестешиа!
— Что?
— Это по-английски. Вы не знаете, Алеша, но в пятидесятые годы был фильм. Очень популярный, назывался «Энестешиа».
— Где популярный?
— Разумеется, в Америке, у нас его не показывали.
— И что же было в том фильме?
Андрей почти совсем проснулся.
— Ты же полиглот, Алеша, — сказал он. — Так по-английски произносится имя Анастасия.
— И какое это имеет к нам отношение?
— Но ведь тот фильм о великой княжне Анастасии! О том, что она спаслась во время расстрела царской семьи. Жила в Германии, пока ее не признали родственники. А наша Анастасия — тоже Николаевна.
— Очень интересная теория, — сказал Алеша. — За одним исключением.
— Правильно. — Андрей снова засыпал… засыпал…
— Сейчас какой год на дворе?
— Кажется, девяносто второй.
— В восемнадцатом году Анастасии было лет восемнадцать. Значит, получается, что ей сейчас за девяносто?
— Замечательно сохранилась старушка, — сказал Андрей и заснул окончательно.
Хотя и во сне понимал — не ему рассуждать о возрасте великой княжны. Мало ли что бывает!
Глава 6
Март 1992 г
Во сне Андрей наблюдал интересные гонки: Ленин в кепочке убегал по палубе «Рубена Симонова» от яростной Анастасии. Она стреляла на бегу из гранатомета и кричала: «Это тебе за папу! Это тебе за маму! Это тебе за братца Алешеньку!» Ленин увертывался от гранат, те поражали случайных туристов, но туристы не обращали на это внимания — они глазели на Стокгольм, а если кто-то, обливаясь кровью, падал за борт, остальные смыкали ряды.
Андрей проснулся ночью. Из приоткрытого иллюминатора все еще доносилась музыка. Алеша спал на спине, похрапывая, и был спокоен и безмятежен во сне.
Конечно, с бабушкой Анастасией не все совпадает, но вдруг она подвластна тому же феномену, что и Фрей? Ведь не скажешь Алеше о своем диком подозрении! А что? Если есть Ильич, то почему бы не быть царевне Анастасии? Если ее убили в восемнадцатом году, то, значит, ей сейчас семьдесят четыре года — возраст не такой уж почтенный, ни о каких девяноста с лишним годах и речи нет. Да, Анастасия Николаевна выглядит на семьдесят с хвостиком и бодра, как нормальная семидесятилетняя женщина. А уж кого к ней приставили в виде племянницы — это дело организации.
Тогда возникает любопытная и не лишенная логики схема.
Существует определенный физический феномен — инкарнация под угрозой неминуемой смерти. Она возможна лишь для личностей экстраординарных, одаренных невероятной жизненной силой и, скажем, жизнелюбием. Но почему Анастасия?
Что-то в ней есть. Недаром же существует столько легенд о том, что именно она спаслась от расстрела. Почему этих легенд не рассказывают ни о Татьяне, ни об Ольге, ни об Алексее, наконец? Самозванки — все, как на подбор, Анастасии!
Эх, сейчас бы проглядеть все документы, связанные с расстрелом царского семейства. Ведь никто не изучал их под таким углом: а почему история выбрала в кандидаты на выживание именно Анастасию?
«Получается удивительная ситуация, о которой никто, кроме меня, и не догадывается, — думал Андрей. — Есть две группы людей, которые охотятся за действительным или вымышленным сокровищем. В одной находится двойник Ленина, потому что именно у него есть одно ирреальное достоинство — он унаследовал у вождя отпечатки пальцев. В другой группе состоит великая княжна, казненная по приказу того же Ленина. Зачем она нужна? Наверное, она помнит, что было в той шкатулке, куда она была отдана, как она выглядит…»
Алеша Гаврилин забормотал во сне. Невнятно и негромко, словно беседовал с кем-то на зверином языке.
«…А может, мне все это только кажется, — размышлял Андрей. — Может, она просто пожилая женщина, которая… постой, Андрюша, а что пожилой женщине делать в компании явных авантюристов и даже убийц? Зачем ей выпытывать у меня планы конкурентов и даже склонять меня к тому, чтобы шпионить за конкурентами?
Заметим: обе группы охотников за сокровищами сходятся в главном — существует шкатулка, она находится в Стокгольме, ее можно раздобыть.
Господи, как остаться скептиком, разумным холодным человеком, если тебя окружают выжившие из ума вожди и древние царевны!
А завтра надо будет заниматься делами Бегишева.
Ну и что, разве неинтересно?..»
Андрей проснулся, когда Алеша уже включил приемник и слушал какой-то ансамбль.
— Кто это? — спросил Андрей.
— «Машина времени», — ответил Алеша, — очень популярная группа.
— Ого. — Андрей взглянул на часы. — Так мы и завтрак проспим.
Завтрак они чуть не проспали. Во всяком случае, ресторан уже почти опустел и дамы-монархистки его покинули.
Зато Фрей сидел перед горкой сосисок и, насадив на вилку, макал каждую в горчицу и медленно засовывал в рот, оттяпывая по кусочку. Напротив него сидел Алик, который смотрел на вождя завороженно и лишь шевелил губами, подсчитывая, видимо, сосиски.
— А, пришел! — сказал Алик, увидев Андрея. — А то ваши уже ждут.
— Андрей Сергеевич сначала позавтракают, — откликнулся Гаврилин. — У них есть жесткий распорядок.
— А пошел ты, — неуверенно отмахнулся Алик, который терялся, когда наталкивался на сопротивление.
— Спасибо, — сказал Алеша и пошел к стойке, чтобы налить апельсинового сока.
— Ждут ведь, — воспользовался отсутствием Гаврилина Алик.
— А товарищ Иванов? — спросил Андрей.
— Мы кушаем, — ответил Ильич.
— Тебе налить сока? — спросил издали Гаврилин.
— Я сейчас сам подойду, — сказал Андрей.
Когда они стояли возле стойки и ждали свою яичницу, Алеша произнес:
— Запомни, умоляю, когда поедете! Какой адрес, понял? Это может оказаться важным.
— Ты меня уже нанял?
— Не время шутить, — сказал Алеша.
— Неужели за нами не будут следить?
— Обязательно будут. Но они могут вас потерять.
Алик встал со своего места и подошел ближе.
— Мне тоже омлета, — сказал он.
— Омлет кончился. — Повар был другой, незнакомый.
Так и неизвестно, что же стало с Эдиком и жив ли он. И кому он служил. Неужели милой старой даме Анастасии Николаевне?
— Не давай им тобой крутить, — предупредил Гаврилин. — Они хотят сломить тебя, понимаешь?
— А вы?
— А мы? Вопрос поставлен некорректно. Я в это понятие не вхожу. Мне ничего от тебя не надо, мне не нужны драгоценности, но я любопытен, как кот.
— Твои союзники, чего они от меня хотят?
— Эту проблему мы с тобой уже обсуждали. Они хотят «того же, чего хотел мой гимназический приятель Костя Остен-Сакен от его подруги Инги Зайонц, — любви».
Алик был готов воткнуть последние сосиски в рот вождю, но тот нагло делал вид, что его не замечает. И это зыбкое равновесие тянулось до тех пор, пока в ресторан не ворвалась возмущенная Антонина в норковой шубе и павловском платке. Хороша — как солистка ансамбля «Березка». Страшна — как валькирия из «Нибелунгов».
— И долго мы будем, — крикнула она с порога, — прохлаждаться?
И действие ее голоса было таково, что Ильич, протолкнув в глотку сосиску, покорно поднялся и направился к двери, за ним — Алик. Тогда Антонина перевела взгляд на Андрея и спросила:
— А вам что, Берестов, отдельное приглашение? Вы забыли, что состоите у нас на зарплате?
— И аванс взял? — громко произнес Гаврилин.
— Аванс не брал! — Андрей тщетно пытался попасть в тон соседу.
— Тогда никуда не ходи. Поиграем на бильярде. Потом к девочкам поедем, — заявил Алеша.
Андрей улыбнулся ему и пошел к Антонине.
— Ну то-то, — сказала валькирия и больно ущипнула его за бедро, когда он проходил мимо.
Бегишева в машине не было. Зато рядом с шофером сидел Аркадий Юльевич.
— Вас за смертью посылать, — заявил он Антонине. Остальных не заметил. Даже Ильича, чем тот был обескуражен. Фрей громко откашлялся, но это не произвело впечатления на посольского сотрудника. Шофер сразу взял с места, видно, знал, куда ехать.
Ехали молча.
Андрей подумал, что так, наверное, молчат десантники перед прыжком в тыл врага. Сидят в самолете и думают свои предсмертные мысли.
Выехали в какой-то новый район. Дома вокруг были современные, с лоджиями, невысокие — этажей по пять. Вокруг широкие газоны, кое-где сохранились сосны, дальше начинался сосновый бор.
Машина резко повернула на асфальтовую дорожку, что вела к микрорайону. Над ним возвышалась водонапорная башня, похожая на детскую пирамидку из колечек.
За первым же домом свернули налево, поехали вдоль него, затем еще раз повернули, на этот раз за теннисный корт, вдоль которого стояли машины.
Среди них и остановились.
— Выходим? — спросила Антонина.
— Помолчите, — сказал Аркадий Юльевич.
Он сидел неподвижно рядом с шофером. Андрей видел одинаковые крутые затылки обоих мужчин.
Затылок Аркадия Юльевича дрогнул, Андрей понял, что он вглядывается в зеркальце заднего вида.
По дорожке между домами медленно ехала малиновая «Вольво», словно искала места припарковаться, хотя проблем с этим не было.
— Вот и они, — сказал шофер.
«Вольво» проехала метрах в двухстах, но, видно, из нее не заметили машину советника — она удобно стояла в длинном ряду на стоянке и ничем из ряда прочих не выделялась.
— Ну какой дурак преследует на малиновой тачке? — вздохнул шофер. — Мог бы с таким же успехом оранжевый кар послать.
Иронию шофера никто не оценил.
Словно завороженные они смотрели, как малиновая машина остановилась на выезде из микрорайона, не решаясь уехать и не зная, где припарковаться.
Наконец встала сразу за теннисным кортом.
— Нам главное было, — сказал Аркадий Юльевич, — понять, на какой машине нас выслеживают и насколько они опытные.
— Ни хрена не опытные, — ответил шофер.
Остальные продолжали молчать. Потому что одно дело увидеть в американском кино преследование со стрельбой, другое — стать объектом такого преследования. У ограды корта остановился толстый белый кот в ошейнике и смотрел на Андрея, словно знакомый.
Первой нарушила молчание пассажиров Антонина.
— А они вооруженные? — спросила она.
— Нам это без разницы, — ответил шофер.
— Поехали обратно. По крайней мере им выбираться нелегко — минуты три потребуется.
— Что и требовалось доказать, — согласился Аркадий Юльевич. — Теперь держитесь!
И в самом деле последующие несколько минут были заимствованы из американского боевика.
Машина выскочила задом со стоянки и сначала крадучись, а потом набирая скорость рванула к шоссе. По шоссе мчались в город, но через километр свернули на улицу и пошли крутить по ней!
Малиновую «Вольво» они так и не увидели.
Но лишь когда снова оказались в старом городе, Аркадий Юльевич сказал:
— Вроде бы оторвались.
— Может, и оторвались, — согласился шофер.
Антонина не нашла ничего лучшего, чем захлопать в ладоши — так благодарят пилота пассажиры американского самолета после удачной посадки.
— Попросил бы потише! — оборвал ее радость Аркадий Юльевич. Теперь машина ехала спокойно, не спеша, как и все автомобили вокруг.
Через пять минут машина выбралась из потока и свернула на неширокую солидную улицу. Казалось, что она была сооружена в конце прошлого века одним архитектором, небогатым фантазией.
У одного из домов машина затормозила, втискиваясь между двумя «Вольво».
— Слушайте меня внимательно, — сказал Аркадий Юльевич. — Мы идем втроем. Господин Иванов, переводчик и лично я. Антонина Викторовна и охранник остаются в машине, ведут себя тихо, не вылезают.
Вот тебе и дипломатическое образование, заметил про себя Андрей. Он отметил также и еще одну любопытную деталь: вышестоящие товарищи имели отчества и фамилии, а переводчики и охранники на это не должны были претендовать.
Они вошли в подъезд — визитную карточку дома.
Внутри подъезда было чисто до стерильности.
Андрей ожидал увидеть строгого консьержа или швейцара, но никого в подъезде не оказалось. Чистота не была роскошной. Она была небогата и благородна, как гимназическое платье Анастасии Николаевны.
— Кто в этом доме живет? — спросил Андрей Аркадия Юльевича.
— Средняя публика, — ответил тот. — Адвокаты, чиновники, как обычно.
Ильич нервничал. Он вытащил из кармана пальто сомнительной чистоты платок, высморкался и им же принялся промокать обширный лоб. Аркадий Юльевич с неудовольствием посмотрел на вождя пролетариата, поморщился и спросил Ильича:
— Вы помните, что надо делать?
— Слава богу, не маразматик. Мы все в Москве отработали.
— Хорошо бы, ваш подход удался. Мы все кажемся себе молодыми.
Аркадий Юльевич тоже волновался.
— У вас есть опыт синхронного перевода? — неожиданно спросил он у Андрея.
— У нас будет конференция?
— Я имею в виду уровень ответственности.
— Поздно спрашивать, — сказал Андрей, который ощущал к Аркадию Юльевичу открытую неприязнь, и тот платил ему взаимностью. — Но может быть, вы сами возьмете на себя ответственность?
— Не грубите мне, молодой человек, — устало ответил дипломат. — Вы не представляете, что поставлено на карту.
— Меня ввели в курс дела, — сказал Андрей.
Аркадий Юльевич обернулся к Фрею, и тот кивком подтвердил слова Андрея.
— Этого еще не хватало! — возмутился Аркадий Юльевич.
— В случае необходимости мы всегда можем ликвидировать этого товарища, — ответил Фрей.
Если это была только шутка, то неудачная. К тому же Андрею было известно, что вождь революции лишен чувства юмора.
Аркадий Юльевич хихикнул.
— Забавно, — сказал он. — Очень забавно.
Подошел лифт. Он был старинный, в решетчатой оболочке. В зеркале во всю заднюю стенку Андрей с удовлетворением увидел себя. Он не был готов к этому зрелищу.
Когда ты утром подходишь к зеркалу, то твое лицо непременно готовится к встрече с собственным отражением. Подбородок чуть выпятился, глаза стали строже… А сейчас? Кто это взглянул на Андрея? Несколько взъерошенный, почти молодой человек со слабым подбородком, покрасневшими глазами, уши торчат, как у подростка, губы полнее, чем нужно, но недостаточно полные, чтобы стать внушительными. «А что со мной станется в старости! С ума сойти! Доживу ли я до того возраста? Может, уже дожил? Может, и не нужно более цепляться за эту жизнь? Интересно досмотреть? Кто так сказал? И что досмотреть? Разве у этого спектакля есть последнее действие?»
Лифт ехал долго.
Андрей встретился взглядом с Фреем, и тот тотчас отвел глаза. Смутился. Или испугался. Сказал, поспешил, не подумал. Сам-то ты кому-то нужен?
Аркадий Юльевич смотрел в дверь лифта и шевелил губами, словно репетировал текст.
Лифт остановился на последнем этаже.
Лестничная площадка была иной, чем вестибюль внизу. Чистота лишь подчеркивала ее бедность. Словно ее пустили в этот дом из милости, а она обещала при возможности покрасить двери, стереть со стен совершенно неприличные надписи, вставить выбитое стекло и, уж конечно, поменять жильцов.
Жилица стояла в дверях.
Это была грузная черноглазая пожилая женщина с лежащей на животе объемистой грудью. Одета женщина была в вытертый халат и размалевана от подбородка до волос. Спутанные, некогда завитые оранжевые волосы были седыми у корней.
— Еще пять минут, — сказала она по-шведски надтреснутым басом, — и я бы ушла. Нельзя так опаздывать, товарищи.
Андрей понял филиппику, его познания в шведском позволяли это сделать, но остальные были в недоумении, хотя и почувствовали упрек в голосе и жестах раскрашенной женщины.
Они обернулись к Андрею.
Андрей перевел ее слова, потом сказал женщине:
— Если можно, говорите по-английски.
— Ну вот, — сказала женщина по-английски. — У себя дома я должна говорить на иностранном языке. Неужели вы не смогли добыть приличного переводчика?
Женщина повернулась и пошла в квартиру.
Андрей отступил на шаг, пропуская следом за ней Фрея и Аркадия Юльевича.
В квартире тяжело и дурно пахло — чем-то прогорклым, потом, селедкой, пылью; если в таком аромате пробыть часа два — подохнешь.
Женщина вплыла в комнату.
Там запахи были еще тяжелее, хотя и изменились — кухонные пропали, а парфюмерные стали активнее.
— Рассаживайтесь, — сказала женщина. — Что вас привело ко мне?
Не оборачиваясь, она показала на несколько продавленных кресел, что тесно стояли в комнате, будто ждали покупателя, а сама плюхнулась животом на широченный диван, накрытый разноцветным ковром, который как бы поглотил своими красками и узорами ее халат и огненную прическу. И дама исчезла. Но потом перевернулась на бок и возникла вновь.
Гости рассаживались.
И только тогда дама увидела Фрея.
— Господи, — сказала она. — Как живой!
Она указала трясущимся жирным пальцем на Фрея.
— Вот именно, — сказал по-английски Аркадий Юльевич.
Сказал с облегчением. Будто ждал узнавания и боялся, что оно не состоится.
— Папа меня предупреждал, — сказала дама и с трудом стала поднимать себя с дивана, который был так низок, что Андрей понял — надо помочь пожилой женщине. Но не мог заставить себя притронуться к ней.
Видно, те же чувства владели Фреем и Аркадием Юльевичем. Они также не двинулись с места.
Но помощь женщине пришла из-за тяжелой портьеры, что наполовину прикрывала высокое окно. Штора взметнулась, из-за нее выскочил высокий молодой мужчина в теннисном костюме и белой каскетке. У него было незначительное лицо, на котором запоминались черные усики.
— Моя дорогая, — сказал он по-английски. — Не придавай значения внешним проявлениям. Нам нужны доказательства.
Он потянул грузную старуху на себя и ловко перевернул ее так, что она прочно уселась на диване.
— Как точно, Серж, — сказала старуха. — Как точно!
Коротким округлым жестом она отправила молодого теннисиста за штору, и он исчез, лишь тяжелый бархат медленно покачивался, напоминая о скрытом за ним человеке.
Рука старухи продолжала движение по воздуху и замерла перед ее носом.
— Ну же, — приказала она. — Ну же!
Толстые пальцы в многочисленных золотых кольцах были живыми и независимыми от женщины существами.
— Владимир Ильич, — сказала женщина томно. — Вот моя рука.
Фрей подчинился приказу, но, хоть от него ждали поцелуя, отважился лишь на то, чтобы ухватить двумя пальцами кончики пальцев старухи.
— Очень рад, — сказал он. — Передай ей, Андрюша, что я здесь выступаю под псевдонимом Иванов.
Андрей перевел, чем смутил даму.
— И здесь ты тоже намерен скрываться? — спросила она.
— Я не хочу афишировать, — ответил Ильич.
— Сколько же тебе теперь лет?
— Это не важно, — сказал Ильич.
— Но ты настоящий?
— Я настоящий.
— И отпечатки пальцев?
— Все проверено, — вмешался в разговор Аркадий Юльевич. — Нет сомнений.
— Не исключено, — раздался голос молодого человека из-за шторы, — что ему пришили пальцы.
— Чьи пальцы? — не понял Андрей.
— Пальцы той мумии, что лежит на вашей Красной площади.
— С ума сойти! — обиделся Фрей. — Да вы посмотрите! Это мои собственные пальцы.
— Мне хотелось бы, чтобы все кончилось благополучно. Если вас поймают на лжи, то в первую очередь погибнет Владимир Ильич. Но и нам не поздоровится. Вы же знаете компанию моего папы. Они быстро раскусывают подделки.
— Разумеется, мадемуазель… фрекен Парвус, — согласился Аркадий Юльевич. — Но нам важно ваше мнение.
— Мое мнение? Оно мало кого интересует. Зато меня интересует, на какой процент я могу рассчитывать.
— Я полагал, что вы пошли на это ради принципов, ради высокой идеи.
— В эту высокую идею не верит никто, кроме двух или трех мастодонтов. Но у них железные сердца. Сердца коммунистов.
Андрей переводил беседу, осознавая, что меньше всех понимает, о чем и о ком речь. Впрочем, его это не должно интересовать — так больше шансов остаться живым и здоровым.
— Разговор о процентах может идти только после получения шкатулки, — твердо сказал Аркадий Юльевич. — Мы с вами не имеем представления о ее сегодняшней стоимости.
— Двадцать процентов, — сказал из-за шторы теннисист, и Андрей поспешно перевел реплику, получая удовольствие от этой гротесковой сцены.
— В крайнем случае, — сказал Аркадий Юльевич, оттеснив остальных от источника благодеяний, — мы отыщем объект и без вашей помощи, фрекен Парвус.
— А вот этого мы не допустим, — возразил голос из-за шторы. — Вы не дома, вы в Швеции, а здесь не выносят русскую мафию и русских проституток.
— Не имеем чести относиться к этим категориям! — вмешался в беседу Фрей. — Я не проститутка!
Он грассировал, как настоящий Ленин, но этого никто, кроме Андрея, не замечал.
— Спокойно, — остановила спор фрекен Парвус — это имя было Андрею знакомо, но не настолько, чтобы связать с ним конкретные воспоминания. Что-то из области ленинской эмиграции. — Если мы сейчас перессоримся, то вообще упустим единственный и, возможно, последний шанс. У вас есть соперники?
— Серьезных соперников нет, — соврал Аркадий Юльевич, который, конечно же, знал о конкурентах. — Но осторожность никогда не мешает.
— Даже если конкурентов нет, — согласилась с ним фрекен Парвус, — они в любой момент могут возникнуть.
Фрекен, или госпожа, Парвус была неглупой, хитрой женщиной, умеющей вцепиться в ситуацию и, вернее всего, добивавшейся своих целей — свидетельство чему молодой теннисист, явно ей преданный.
— Как же вы такого откопали! — На этот раз госпожа Парвус обращалась к Аркадию Юльевичу, вычислив, что именно он в тройке визитеров принимает решения. Почему-то это не понравилось Фрею, хотя, разумеется, госпожа Парвус была права.
— Я прошу вас, товарищи, — начал Ленин на безобразном школьном английском языке, которым, видно, овладел в задней комнате на Красной Пресне, — уважать лидера партии.
— Ого! — воскликнула старуха. — Заговорил! Скажи наконец, где тебя сделали?
— Я вас покидаю. — Для удобства Ленин перешел вновь на русский язык. — Занимайтесь своими интригами без меня. Я пришел сюда, выполняя волю партии, и не намерен подвергаться оскорблениям со стороны самозванцев и идиотов. Попрошу вас, Андрей, переводите как можно точнее и не стесняясь задеть их чувства.
Андрей с удовольствием перевел как можно ближе к оригиналу. Настолько близко, что Аркадий Юльевич в растерянности заметил:
— Нет смысла называть идиоткой уважаемую даму. Так мы ничего не добьемся.
— Вы перевели, Андрей? — спросил Фрей. — Тогда мы пошли.
Он потянул Андрея за рукав, и тот счел за лучшее подчиниться. Интересно, как большевики и охотники за драгоценностями будут выпутываться из трагикомической ситуации?
— Остановите его! — закричала госпожа Парвус, когда Фрей с Андреем достигли двери. — Кто у вас, в конце концов, хозяин?
— Распоряжаюсь здесь я, — ответил Аркадий Юльевич, который совершил стратегическую ошибку, переоценив свою роль, и не имел сил теперь от нее отказаться.
Аркадий Юльевич поднял руку и, указав перстом на Фрея, крикнул ему вслед:
— А ну немедленно вернитесь и не ставьте под угрозу наше дело! Я кому говорю?
Ленин уже был в передней, он стащил с вешалки свое пальто и, одеваясь, говорил:
— Распустились! Лучше бы я обратился непосредственно в ЦК Российской компартии. Вы как думаете?
— Не знаю, — сказал Андрей. — Вернее всего, вас бы там осмеяли.
— Вот это меня и остановило.
В коридор вылетел Аркадий Юльевич.
— Сколько раз вам нужно говорить! — кричал он. — Вы что тут о себе возомнили?
— Андрюша, он тоже, кажется, думает, что мне пришили чужие пальчики, — сказал Фрей.
— Ну ладно, ладно! Пошутили, и хватит. — Даже в полутьме коридора было видно, как он краснеет.
Фрей двинулся к двери.
Но у двери, закрывая ее спиной, уже стоял теннисист с черными усиками. Уму непостижимо, как он успел туда пробраться!
— Ты никуда не уйдешь! — Аркадий Юльевич в бешенстве потерял осторожность.
И эта ситуация вдруг вселила в Ильича некий, словно проникший в него генетический дух предшественника — настоящего Ленина. Он успокоился.
Он остановился, обернулся к Аркадию Юльевичу, который схватил его за полу пальто.
— Уважаемый, — произнес он тоном дворянина из какого-то фильма. — Уберите свои поганые руки. Я думаю, что мы обойдемся без вас.
— Как ты смеешь!
— А вот без меня вы никогда и никак не обойдетесь.
— Я тебе голову прошибу! — Аркадий Юльевич тяжело и часто дышал. Он все тянул к себе пальто Ильича, и, конечно же, старик уступал ему во всем, кроме уверенности в себе.
И эта уверенность передалась Андрею. Он знал, что Аркадию Юльевичу уже не справиться с вождем.
Аркадий Юльевич пошатнулся, потому что госпожа Парвус всей тушей ударила его сзади.
— Говорят же вам, отпустите Владимира Ильича! — закричала она высоким голосом. — Неужели вы не понимаете, на кого подняли руку!
— На кого? — растерялся Аркадий Юльевич. — Как так на кого? А вы знаете, кто я такой?
— Как вы думаете, — обратилась дама к Ильичу (Андрей послушно и автоматически перевел ее слова), — мы обойдемся без этого клоуна?
— Но он слишком много знает, — голосом мафиози ответил Ильич.
— Теперь он нам уже не нужен, — сказала дама.
— Что вы хотите сказать? — Аркадий Юльевич вдруг потерял уверенность в себе. — Какое вы имеете право!
— Мне стыдно за вас, — сказал Фрей.
Он не мог ничего больше сказать, потому что, как понял Андрей, старуха сделала какой-то знак теннисисту с усиками, и тот застрелил Аркадия Юльевича.
То есть сначала Андрей не понял, что случилось с дипломатом, потому что звук выстрела был тусклым и негромким — его поглотили ковры и гобелены, которыми была завешана вся квартира. Аркадий Юльевич забормотал что-то невнятное и сполз вниз спиной по стене, срывая со стены ковер, а госпожа Парвус вдруг закричала:
— Это мой кармагаган! Осторожнее! Не испачкайте его кровью! Он же три тысячи долларов стоит.
Андрей, потрясенный происходящим, послушно перевел этот крик, а Фрей сказал:
— Так будет с каждым, который…
Кто из них и который, он не придумал.
Аркадий Юльевич улегся на пол и не подавал признаков жизни. Кто-то должен был подойти к нему и пощупать пульс. Андрею этого делать не хотелось, остальным — тоже. К тому же в кошмарах никто не щупает пульса у покойников.
…Все возвратились в гостиную.
Но на этот раз уже не садились.
— Продолжим наше заседание, — сказала госпожа Парвус. — Мы остановились на том, что я претендую на тридцать процентов от общей суммы.
— Только что было двадцать, — сказал Ильич.
— У вас хорошая память, но обстоятельства изменились.
— Не в вашу пользу, — возразил Ильич.
— Почему же?
— На вас повис труп. Труп советского дипломата.
— Разберемся, — возразила дама, но Андрей уловил в ее голосе некоторую неуверенность. — Серж растворит его в кислоте.
Поэтому, когда он переводил слова дамы Фрею, он позволил себе продолжить фразу:
— Жмите энергичнее, Владимир Ильич, уже гнутся шведы.
Ильич кивнул. Он понял.
Дама вдруг завопила:
— Переводчик! Знать свое место! Ты думаешь, что я русский совсем забыла? Не надейся!
— Я цитировал Пушкина, — ответил Андрей. — Поэма «Полтава»: «Ура, мы давим, гнутся шведы!»
— Шведы — это я?
— Все равно вам отступать поздно, — сказал Ильич. — Будем искать свои пути в этом мире.
— Если хотите отделаться от своей мафии, сейчас — лучший момент, — сказала госпожа Парвус. — Но боюсь, что вам это не удастся.
Она решительно вклинилась между Андреем и Ильичом — от нее пахло потом, немытыми волосами и сладким кремом.
— Держите себя в руках, мальчики, — сказала она. — Мы в двух шагах от цели.
— А далеко ехать? — спросил Фрей.
— Возьми у них гарантии, — посоветовал теннисист.
— А им некуда деваться, — возразила мадам. — Они же в Швеции. Повторите, вы действительно уверены, что у вас нужные отпечатки пальцев?
— Увидите на месте, — ответил Ильич. — А далеко ехать?
— Ехать недалеко, — сказала госпожа Парвус.
Она первой пошла из комнаты.
Теннисист замыкал процессию.
Они вышли в прихожую.
Андрей ожидал увидеть тело Аркадия Юльевича. Но на том месте ничего не было — только пятна крови на паласе.
— Его унесли ваши люди? — спросил Фрей.
Мадам выругалась по-шведски. Ударила пухлым кулаком в ухо теннисиста. Тот почесал ухо. Ответил:
— Я же думал, что он мертв.
Андрей догадался о смысле этих слов.
— Значит, его унесли чужие люди. — Фрей тоже догадался.
— Или он сам уполз, — сказал Андрей. На ручке двери и ниже была кровь. Видно, дипломат был лишь ранен.
— И куда он пойдет? — спросил Фрей.
Андрей перевел.
— Нам надо спешить, — ответила мадам.
Она не знала, куда он пойдет.
— Спустимся по черной лестнице, — сказала мадам.
Она развернулась и поплыла по коридору в обратную сторону, пересекла захламленную и дурно пахнущую кухню и стала возиться с замком на белой двери.
Теннисист отстранил ее и быстро открыл дверь. Она заскрипела, поднялась пыль.
Там была черная лестница. Не такая чистая, как парадная, — она заворачивалась почти как винтовая. На улицу выходили узкие окошки. Неясно было, как попали сюда бумаги и консервные банки. Неужели из кухонь?
Они спускались очень долго. Шестой этаж был высоким. Наконец они оказались в гулком узком дворе, окруженном стенами домов.
Небольшая арка, заставленная баками для мусора, вела в переулок — туда выходили задние стены домов.
Теннисист пошел первым, дошел до угла, за которым была тихая чистая улица.
Он остановился и выглянул за угол. Потом сделал жест рукой, чтобы его ждали, а сам ушел. Мадам закурила. Она курила тонкие длинные сигареты.
Андрею не хотелось разговаривать с Фреем при ней — он подозревал, что мадам на самом деле отлично знает русский язык, но ей выгодно казаться безгласной.
— Вы знаете моего отца? — спросила мадам по-английски у Фрея. Словно проверяла — считать ли Фрея Лениным?
— Он мне многим помог, — ответил Фрей. — Хотя подозреваю, что оказался немецким шпионом.
— Ничего подобного! — возмутилась мадам. — Я с ним говорила об этом. Ничего подобного! Он категорически отрицал.
— Это ничего не значит, — сказал Фрей.
Показался радиатор автомобиля. Старая, но вместительная машина остановилась перед переходом, перекрыв выезд на улицу. Мадам пошла первой.
В машине сидел теннисист.
— Скорее, — прошептал он. — За нами могут следить.
— Может, сказать нашим? — спросил Андрей. — Они же нас ждут?
— Пускай подождут, — сказала мадам, втискиваясь в дверцу машины. — Тогда те, кто следит, останутся у моего дома.
Андрей был вынужден признать, что в словах мадам есть резон. Теннисист тронул с места.
Андрей не ориентировался в городе, поэтому ему трудно было бы восстановить маршрут. К тому же он не был уверен, кратчайшим ли путем едет брюнет. Может, он нарочно путает следы?
Ленин полулежал на заднем сиденье, откинув голову. Рядом с ним расплылась госпожа Парвус. Андрей сидел спереди рядом с теннисистом. Место переводчика — на переднем сиденье.
Город постепенно кончился, пошли новые районы, потом отдельные особняки.
Перед ажурными чугунными воротами одного из них машина остановилась и гуднула.
Ожидая, пока ворота откроют, теннисист внимательно глядел в боковое зеркальце — видно, проверял, нет ли погони.
За воротами возвышался трехэтажный гранитный особняк, выполненный в стиле скандинавского модерна. Портик над входом в него поддерживали атланты в шлемах с бородами викингов, опиравшиеся на длинные мечи.
Ворота распахнулись.
Из будки на них глянул охранник в зеленом мундире и каскетке с какой-то сложной эмблемой. Теннисист доложил ему по-шведски. Принимая эстафету от теннисиста, охранник принялся смотреть наружу вдоль улицы.
Дверь между викингами закрылась. Это была деревянная резная дверь, изображавшая заросли папируса. Наверное, тепло одетым викингам было жарко в нильских краях.
В дверях стоял бухгалтер из хорошей фирмы, худой, носатый, расчесанный на прямой пробор, в сером костюме и — завершающая деталь — в шелковых чехлах на рукавах: видно, много приходится елозить локтями по столу.
Он был молчалив и строг.
Говорила мадам, которая с помощью теннисиста вылезла из машины и начала подробно рассказывать нечто, давно знакомое главному бухгалтеру. Тот терпеливо выслушивал ее минуты три, потом сказал, что ему и без того все известно.
Это госпожу Парвус не остановило.
Зато Фрей с Андреем получили от бухгалтера знак покинуть автомобиль.
Они поднялись на несколько ступенек к двери. Викинги косились враждебно.
Фрей тоже почувствовал этот взгляд и неожиданно проявил чувство юмора.
— Жалеют деньги, — сказал он, подмигнув Андрею.
Судя по всему, он волновался, и, когда бухгалтер протянул ему руку, он вытер о брюки ладонь.
Бухгалтер провел всю честную компанию, кроме теннисиста, оставшегося в машине, через мраморный гулкий и неуютный холл с большой фреской на боковой стене, изображавшей все тех же викингов, но на этот раз в цвете и за боевыми буднями — они столпились на носу ладьи и вглядывались во вражеский берег, подобно богатырям на полотне Васнецова.
Пройдя по коридору, абсолютно безлюдному и слишком аккуратному, они оказались в сейфе. А может быть, это была патологоанатомическая лаборатория. В общем, нечто научное и закрытое, номерное, как будто сердце «почтового ящика».
В центре комнаты находился длинный стол, покрытый пластиком, на нем какие-то приборы и два компьютера. За компьютерами сидели молодые люди, не обратившие внимания на вошедших гостей. В углу зала за старинным резным письменным столом с бронзовыми канделябрами по углам и с черным прибором столетней давности, которым столько же лет никто не пользовался, сидел Мистер-Твистер, округлый и лысый буржуй. Когда-то, еще до войны, Андрей прочел одноименную поэму Маршака о капиталисте и миллионере, над которым измываются в Стране Советов, хотя он ничего дурного в виду не имел и приехал к ним в гости с туристическими целями. Андрей проникся сочувствием к капиталисту, чего делать было нельзя, потому что издевательства над капиталистами воспитывали в детях настоящих бойцов.
При виде Ильича и его спутников Мистер-Твистер резко поднялся. Он сразу заговорил по-английски, видимо, узнав где-то или догадавшись, что Андрей не учен шведскому языку.
— Рад приветствовать вас, — сказал он. — Давно ждем. Давно. Уже скоро столетие! — Он рассмеялся и смеялся ровно столько, сколько времени потребовалось Андрею, чтобы перевести его реплику.
Бухгалтер строго высказал ему свои сомнения или просто точку зрения, но Мистер-Твистер только отмахнулся. Он представился как доктор Юханссен, сообщил, что в Швеции, кроме Юханссенов, живут только Нильсоны, сам посмеялся своей шутке, а потом спросил:
— А пальчики привезли?
Ответила мадам, а доктор Юханссен слушал ее вполуха и приглядывался к Ильичу.
— Похож, — сказал он наконец, — состарился, но тем не менее похож на иконографический материал. Но мы и тут вас испытаем.
— Меня не следует испытывать, — обиделся Ильич. — Ты так ему и скажи, Андрюша. Меня сама жизнь испытывала, меня враги испытывали, а также ренегаты из партии.
— Понял, — ответил Юханссен. — Совершенно с вами согласен. Но и вы должны признать, что сложилась совершенно невероятная и даже парадоксальная ситуация. Вклад получает человек, которого не может существовать, хотя бы по причине возраста. Вы же не станете утверждать, уважаемый господин Иванов, что родились в 1870 году?
— Я ничего не стану утверждать, — ответил Ильич. — Надеюсь, вам известен принцип презумпции невиновности? Так что вам самому придется доказывать, что я самозванец. Но учтите, что мои товарищи уже верят мне.
— Но физические законы против вас, господин Иванов!
— А что вы знаете о физических законах? — уверенно возразил Ильич, словно давно уже внутренне отрепетировал ответы. — Мы их изменяем все последние годы. Суть прогресса заключается именно в том, чтобы доказать, что незыблемых законов не существует.
— Есть пределы! — воскликнул Юханссен. — Есть же разумные пределы!
— Когда в ноябре 1917 года мы устроили революцию, — возразил Ильич, — нам никто не верил. Меня именовали кремлевским мечтателем. И что же — моя держава все еще существует.
— Вряд ли это сегодня ваша держава! — нашелся Юханссен. — Россия строится на отрицании коммунизма, который, кстати, рухнул и во всей Восточной Европе.
— Не играйте словами! — возмутился Ильич. — Это временное тактическое отступление, не больше того. Для того, кстати, мы и оставляли у вас некие ценности, чтобы в случае трудностей предусмотренного вами характера с их помощью повернуть ход истории.
— Для того чтобы повернуть ход истории, — улыбнулся Мистер-Твистер, — потребуется куда больше средств, чем мы можем вам предложить.
— Не вам судить, — отрезал Ильич. — Надеюсь, вы не заглядывали в шкатулку?
— А как мы можем заглянуть, если ключа нам никто не давал?
— А без ключа как вы могли узнать, много там средств или недостаточно? — Ильич уткнул перст в тугую грудь Мистера-Твистера.
— В шкатулке такого размера и веса, — сказал главный бухгалтер, который до того стоял молча и совершенно неподвижно, — не может уместиться крупное состояние.
— А мы посмотрим! — воскликнула тут госпожа Парвус, которая помнила о своих процентах. — Мы посмотрим сами, что там лежит!
— Они наивно полагают, — сказал Ильич Андрею по-русски, — что мы со Свердловым стали бы пачкаться ради нескольких тысяч долларов.
— Разумеется, — не удержался Андрей и показал, что информирован лучше, чем от него ожидали. — Если учесть, чьи это драгоценности.
— А чьи? — удивился Ильич, словно ему никто не сказал об этом.
Впрочем, не исключено, что он не знает правды. Ну и пусть не знает.
— Государственные, — уклонился от ответа Андрей.
Бухгалтер спереди, Мистер-Твистер сзади провели делегацию дальше, на этаж вниз, где тоже были коридоры и двери по сторонам, но модерном там уже не пахло — скорее было похоже на военную базу; даже цвет стен, покрашенных шаровой масляной краской, напоминал о бортах военных крейсеров.
В очередном помещении, аскетичном, как анатомический театр, их поджидали две молчаливые женщины, не знавшие личной жизни и радостей материнства.
Они усадили Ильича на жесткий табурет лицом к компьютеру. Экран был черно-зеленым, на нем вспыхивала надпись «FUCK». К счастью, Фрей не был до такой степени обучен английскому, а мадам думала о другом.
Ильич положил ладонь правой руки на матовое стекло.
Под указательным пальцем вспыхнула лампочка.
На экране появилось графическое изображение подушечки указательного пальца.
Все смотрели на экран. В комнате царило глухое тревожное молчание.
Изображение было негативным — белым на черно-зеленом фоне. Затем сбоку на экран въехало еще одно изображение подушечки. Черное.
Андрей догадался, что видит оригинал — отпечаток пальца вождя, сделанный в 1918 году.
Отпечаток поехал к центру экрана и начал совмещаться с белым отпечатком.
Ильич закашлялся, дрожь передалась изображению пальца, и подушечка на экране вздрогнула.
Одна из женщин прикрикнула на вождя по-шведски.
— Я же нечаянно, — сказал Ильич виноватым голосом.
Андрей не стал переводить.
Наконец два отпечатка окончательно совместились, и женщины принялись искать в них различия. Впрочем, они были не одиноки, так же смотрели, но без измерительных приборов, и все остальные.
Затем все повторилось с другим пальцем. Всего, как оказалось, следовало изучить четыре пальца.
Андрею было понятно, что Ильич победил. Конечно же, отпечатки совпадали, и если были различия, то только в малых деталях. Но женщинам был противен столь дилетантский подход к серьезной проблеме. Они удалились в дальний угол комнаты и принялись возиться с отпечатками.
Мистер-Твистер Юханссен занимал гостей разговорами совершенно дикого свойства. Его интересовало, какая в Москве погода и как гостям представляется погода в Стокгольме — не правда ли, она сильно изменилась к худшему за последние десять лет?
Бухгалтер кивал, но так, словно не соглашался.
Никто ни слова не говорил об отпечатках и дальнейших действиях. Андрей пытался понять, последний ли шаг к шкатулке они сейчас совершают, или им скажут, что теперь, после процедуры сравнения отпечатков, они должны будут выехать в город Мальме, где живет столетний ветеран социал-демократической партии, который знает, где зарыта коробочка. Наконец одна из женщин поднялась и протянула Мистеру-Твистеру лист с выводами их небольшой комиссии. Она стала объяснять свою точку зрения, а вторая женщина все кивала и выражала единодушие.
Наконец Мистер-Твистер передал лист бухгалтеру, и только тут Андрей заметил, что бухгалтер прижимает к боку тонкую папочку в цвет пиджака. Лист перекочевал в папочку, а Мистер-Твистер сказал:
— Что касается отпечатков пальцев, то они нас временно удовлетворили.
Почему временно — Андрей не понял.
— Поэтому, — продолжал Юханссен, — мы перейдем в кабинет президента нашего банка.
— Это банк? — удивился Андрей.
— Причем банк с длительной и почетной историей, — ответил Мистер-Твистер. — Мы финансировали и поддерживали шведских социал-демократов с начала этого века.
С этими словами он пошел вперед, к лестнице.
Процессия повторила путь в обратном направлении и поднялась затем на этаж выше, где царила богатая и достойная хорошего мужского клуба атмосфера, пахло сигаретным дымом, мужскими духами, отбивными и хорошей кожей.
— Ах, — сказала прелестная девица с такими длинными ногами, что Андрей — человек выше среднего роста — чуть не уткнулся грудью в ее небольшую крепкую попку, когда девица начала разворачиваться как раз перед его носом.
— Ах, — повторила девица, — прабабушка заждалась. Ей пора пить какао. Сколько можно заставлять ждать?
— Одну минутку, мы уже здесь, — воскликнул Мистер-Твистер. — Сейчас мы проведем сеанс — чистая формальность, клянусь вам, чистая формальность.
— Мы хотели бы понять, — сказала мадам Парвус, — неужели вам не достаточно проведенного испытания?
— Достаточно, — согласился Юханссен. — Это не испытание, а лишь встреча со старым другом.
Он подтолкнул сжавшегося от дурного предчувствия Ильича, и тот первым влетел в роскошную комнату из костюмного кинофильма.
У камина стояло кресло, старинное кожаное кресло с высокой спинкой.
Над спинкой поднималась струйка голубого дыма.
— Вам туда. — Мистер-Твистер подтолкнул Ленина, и тот пробежал по мягкому ковру к креслу.
Когда Андрей следом за Ильичом обогнул кресло, он увидел, что в нем, совсем утонув в мягкой коже, сидит маленькая сухая старушка с большой дымящейся сигарой в лапке.
Старушка была одета в платье начала века, и Андрей понял, что этого испытания Ильич может не выдержать.
Это была какая-то знакомая, приятельница Ильича. И она сейчас его не узнает.
— Нет! — закричала мадам Парвус, которая, видно, рассуждала так же, как и Андрей. — Мы не договаривались. Вам нужны отпечатки пальцев, так вы их получили.
Старушка заговорила по-немецки. Андрей плохо помнил немецкий язык. Он пытался перевести, но Мистер-Твистер остановил его.
— Не вмешивайтесь, — сказал он. — Пускай они сами решат.
— Это нечестно, — сказала мадам Парвус.
— Роза, — сказал Ильич. — Сколько лет мы не виделись!
— Роза? — повторила мадам.
— Разумеется, Роза Люксембург. — Ильич услышал голос мадам Парвус и был готов ей все объяснить. — К счастью, ее не убили, она осталась жива и скрылась в Швеции.
Старушка говорила и дальше, но Ильич не стал ее слушать.
— Я остаюсь на своих старых позициях! — громко заявил он и топнул ногой. — Мы никогда не поймем друг друга, и я уверен, что твоя смерть, хоть ее и считают героической, была заслуженной. Ты сама этого хотела, уклонистка!
Ильич резко повернулся и, обойдя кресло, пошел к выходу. Андрей направился за ним.
Мистер-Твистер догнал его.
— Что говорит ваш джентльмен? — спрашивал он. — Да переведите мне его слова! От этого многое зависит.
— У господина Ленина, — сказал Андрей, — сохраняются идейные разногласия с собеседницей.
— Не может быть! — сопротивлялся Мистер-Твистер. — У них не было идейных расхождений. Фру Цеткин всегда была его сторонницей.
Андрею стоило больших трудов не воскликнуть: «Какая еще Клара Цеткин! Это же Роза Люксембург!»
Он сдержался и спас Ильича. К счастью, Мистер-Твистер не расслышал первых слов Ильича — он совершенно не разбирался в русском языке и плохо в истории Октябрьской революции.
Он не понял, а Андрей не помог ему понять, что Ильич пошел ва-банк, ошибся в попытке угадать старушку, но случайно выиграл.
Андрей догнал Ильича и сказал:
— Шведский господин Юханссен уверен, что у вас никогда не было разногласий с Кларой Цеткин.
— Какая еще Цеткин! — ответил Ильич.
— Подумайте, Владимир Ильич, — настаивал Андрей, опасаясь, что в любой момент кому-то из присутствующих откроется истина, — вы же видели Клару Цеткин, но забыли, что она — ваша союзница по Третьему Интернационалу.
Ильич кинул пробуждающийся взгляд на Андрея и громко произнес:
— Нет, батенька, нет, нет и еще раз нет! Были у нас разногласия с товарищем Цеткин. Я готов вернуться и доказать ей это на простых примерах. Спросите у нашего сопровождающего лица, могу ли я открыто и нелицеприятно объяснить этой Цеткин суть наших разногласий?
— Господин Ленин, — сказал Андрей, — хотел бы возвратиться и завести партийную дискуссию с госпожой Цеткин, которую вы так быстро прервали.
— Ни в коем случае! — воскликнул Мистер-Твистер. — С нас достаточно, мы удовлетворены.
Он вынул мобильный телефон и на ходу принялся быстро говорить по-шведски.
Затем он остановился и, не отнимая телефона от уха, кивал и повторял: «Яйа!»
Затем отыскал глазами Андрея и сказал:
— Шеф ждет вас.
На двери главного кабинета, резной и солидной, как и все на этом этаже, была небольшая вычищенная табличка со словом «President».
Президент сидел за обширным столом, заполнявшим собой треть кабинета, стены которого поблескивали от золота переплетов. Все было как у Мистера-Твистера, но в пять раз внушительнее и крупнее.
Сам президент столу соответствовал — он походил на Мистера-Твистера, но превосходил его размерами и оживленностью.
При виде вошедших посетителей президент поднялся и пошел вокруг стола, изображая гостеприимство.
— Мы ждали этого часа, господа, — сообщил он. — Мы выполнили свой долг перед историей и идеями социал-демократии.
Президент совершил округлое движение рукой, и все увидели на его столе заветную шкатулку.
Она оказалась вовсе не шкатулкой, а железным ящиком размером с небольшой саквояж с железной же округлой ручкой сверху — в таких ящиках по банкам носят деньги и ценные документы. Такие ящики ставят в большие сейфы. Обыкновенные ящики, привыкшие к любым суммам.
— Я не могу сдать вам шкатулку по описи, — сказал президент, предупрежденный, видно, что переводчик гостей говорит лишь по-английски. — Мы сочли возможным ограничиться обусловленными договором испытаниями. Я даю слово, что шкатулку никогда еще не открывали, и не советую вам этого делать, прежде чем вы не достигнете безопасного места. Как вы видите, в шкатулке два отверстия для двух ключей. Один ключ я передаю вам сейчас, второй находится у вас. Прошу!
И президент сделал шаг назад, как бы приглашая взять шкатулку. Произошла забавная пауза, потому что всех охватила нерешительность. К шкатулке ринулись одновременно госпожа Парвус и Ильич. Они столкнулись у стола, но спохватились, что негоже драться на глазах у шведских хранителей.
А Андрей глядел на шкатулку и думал: «А у кого же второй ключ?» Почему он раньше ничего о нем не слышал?
Ильич оказался решительнее, и мадам временно уступила ему. Он потянул железный ящик на себя, ящик оказался тяжелым — он не поднялся сразу, а пополз по столу.
— Ну осторожнее же! — поморщился президент. — Вы мне стол поцарапаете. Он принадлежал королеве Христине.
Ильич поднатужился и понес ящик к выходу.
— Кирпичи в нем, что ли? — спросил он.
Прощаться с президентом и благодарить его пришлось Андрею. Потом Андрей, с которым шли Мистер-Твистер и бухгалтер, догнал их в коридоре.
Ильич шел, согнувшись под углом в сторону, противоположную ящику. Мадам спешила за ним и вытягивала руку вперед, готовая в любой момент перехватить ношу.
— А вы знаете, где второй ключ? — спросил Мистер-Твистер.
— Понятия не имею, — искренне признался Андрей.
Ильич остановился, обернулся и спросил:
— А дверь-то где?
— Давайте понесу, — сказала мадам по-русски.
— Обойдешься.
Но старик запыхался.
Он сообразил:
— Андрюша, возьми ящик. А я тебя подстрахую.
Андрей догнал его и подхватил ящик.
В нем было килограммов пятнадцать. Что же большевики туда положили?
Сзади деловито топали бухгалтер с Мистером-Твистером и другие банковские люди.
— Вы уверены, что правильно поступаете? — спросил Мистер-Твистер.
— А что вы предлагаете? — откликнулся Андрей.
— Оставайтесь у нас. Мы поможем вам организовать безопасную перевозку.
— Это нам обойдется в копеечку! — возразил Ильич, когда Андрей перевел слова Юханссена. — Мадам потребует свою долю, банк потребует свою долю. Что мы привезем домой?
Руки оттягивало до боли.
«Сейчас бросил бы эту проклятую шкатулку. Тем более что это не мое дело и меня не касается. Ведь жалости к Ильичу и его компании я не испытываю…»
— Как вы его довезете, если еще не вынесли отсюда? По-моему, кроме вас, есть немало желающих получить ящик.
— Ах, не надо меня пугать, товарищ Берестов! — возмутился Ильич.
— Потерпи немного, — сказала мадам Парвус. — Сейчас нам поможет мой телохранитель.
— Он такой же телохранитель, как и я. Скажи, что он ее телопользователь или телоутешитель.
— Что он сказал? — закричала мадам Парвус.
— О чем они спорят? — спросил Мистер-Твистер.
— Мы поедем на «Симонов»? — спросил Андрей.
— А тебе зачем знать? — вдруг испугался Ильич. — Ты чего задумал?
Он потянул тонкую руку к ящику, и Андрей был готов его отдать, отчего ящик неминуемо грохнулся бы на пол, но тут его подхватило сразу несколько рук.
— Неси! — крикнул Ильич. — А то отнимут.
— Уйти бы живыми, — откликнулся Андрей.
«Ну и попал я в переплет!»
Дверь в банк была близка, швейцар и два охранника одновременно распахнули ее — видно, у них не было иных указаний, а в приближающейся группе людей они узнали свое начальство.
Андрей прибавил ходу и выскочил на свет Божий.
Викинги по обе стороны двери скосили на него выпуклые гранитные глаза. Мечи были воткнуты в землю между ног.
Теннисист увидел Андрея — видно, он готовил себя к подобной ситуации. Он рванулся ему навстречу, и Андрей с облегчением передал ему тяжелый ящик.
Дверь в машину была открыта.
Теннисист кинулся к машине. Мадам и Ильич — за ним.
Андрей остановился и обернулся к банковским чинам.
— Мы были бы вам очень благодарны, если бы вы дали нам сопровождение до нашего теплохода, — сказал он.
Госпожа Парвус обладала редким слухом.
Услышала.
— Обойдемся! — крикнула она. — Еще чего не хватало. Мы не едем на теплоход. Мы едем ко мне на квартиру.
Вдруг Мистер-Твистер широко улыбнулся и развел толстыми руками. Улыбка получилась вполне добродушная.
— Как знаете, — сказал он, обращаясь к Андрею как к главному в их коллективе. — Наше дело мы сделали. Совесть чиста. Но я очень боюсь, что все это хорошо не кончится. И советую вам держаться от них подальше.
— Я только переводчик, — сказал Андрей.
— Разрешите вам не поверить, — возразил Юханссен.
— Кровь, кровь, вижу кровь на этой шкатулке. С первого мгновения и по завтрашний день. Кровь, кровь… — Это бормотал бухгалтер. Даже не открывая рта.
Кроме Андрея, этих слов никто не слышал.
Андрей чуть не опоздал к машине. Теннисист рванул свой драндулет вперед — видно, решил, что без Андрея ему будет легче справиться с вождем пролетариата. Ильич на ходу открыл дверь машины и махнул рукой, изображая отчаяние.
Андрей в растерянности обернулся к шведам. Бухгалтер смеялся, ухая, как филин.
Мистер-Твистер что-то говорил в мобильный телефон.
Андрей увидел, как открытые уже ворота, готовые выпустить драндулет госпожи Парвус, резко закрылись, как дверца в мышеловке.
— Идите, — сказал Мистер-Твистер, — и будьте предельно осторожны.
Андрей пошел по асфальтовой дорожке к машине, которая стояла, упрямо уткнувшись радиатором в решетку ворот.
Задняя дверца была распахнута. Ильич высовывался и призывал Андрея на помощь.
Андрей не спеша прошел сто метров до ворот.
Охранник у ворот сидел в своей будке и курил, не глядя на машину. Андрей дошел до машины.
Мадам и теннисист сидели рядом на передних сиденьях словно манекены.
Ящик стоял на сиденье рядом с Ильичом. Тот не отпускал его ручки. Андрей обернулся, хотел поблагодарить шведов, но двери банка уже закрылись.
Андрей сел на заднее сиденье, и ворота тут же отворились. Охранник был хорошо информирован, что ему надо делать.
Мадам не обернулась.
— На пароход! — крикнул, картавя, Ильич. — И попрошу скорее.
— Ничего подобного, — сказал Андрей. — Сначала мы должны заехать к дому госпожи Парвус.
Мадам так резко обернулась, что у нее скрипнула шея.
— И не смей так думать! — закричал Ильич.
Но теннисист уже рванул с места. Они чуть не забыли, что перед подъездом мадам Парвус ждала машина, в которой сидели союзники.
Теннисист попытался заехать к черному ходу и направил уже машину к узкому проезду между домами, как воспротивился Андрей.
— Ты куда! — крикнул он по-русски. Ильич тут же включился в перебранку.
Мадам пыталась настоять на своем, но теннисист сдался и остановил машину у главного входа в дом. Рядом стояла машина Аркадия Юльевича. Возле нее маялась Антонина. Она жевала сандвич, голова Алика маячила внутри.
— Вас за смертью посылать! — воскликнула Антонина, указывая сандвичем на вылезшего из драндулета Андрея.
Ильич остался в драндулете — он держал ящик.
— Это такое нарушение конспирации, голубушка! — заверещал он из машины. — Немедленно садитесь в машину.
Антонина не подчинилась.
— А шкатулку достали? — спросила она.
Мадам высунулась из окошка драндулета.
— И сколько это будет продолжаться? — строго спросила она. Ослепительная раскраска старухи заставила Антонину оторопеть.
— Это еще что такое? — спросила она.
— Это госпожа Парвус, — сказал Андрей.
Неприязнь двух дам была взаимной.
— Поднимемся наверх, ко мне, — сказала мадам. — Оттуда возьмем вашего шефа. Надо срочно открыть ящик и привести в порядок наши расчеты.
— Обойдешься! — испугался Ильич. Ему наверх не хотелось.
— Голубчик, — сказала госпожа Парвус. — Учтите, что вы находитесь в Швеции, а не в своей России. Здесь вы гости, туристы, и не более того. Без моего участия вам бы ничего не дали. Вас бы даже в банк не допустили. А теперь подумай, как вы выберетесь из Швеции с драгоценностями, если я этого не позволю? Вы кончите свои дни в комфортабельной тюрьме, с телевизором в камере.
Тщательно подбирая слова, Андрей перевел этот текст соотечественникам. Смысл быстро дошел до сознания Антонины.
— Убедительно, — сказала она.
Антонина закурила. Мадам тоже вытащила сигарету. Антонина щелкнула зажигалкой. Мадам Парвус прикурила. Картина была почти идиллической.
И тут Андрей почувствовал опасность.
Он не был экстрасенсом и не верил в эти игры. Но порой предчувствовал беду или какое-то событие, потому что его органы чувств были устроены тоньше, чем у обычных людей. Они собирали информацию из воздуха и земли, суммировали ее и анализировали без сознательного участия мозга.
Сейчас Андрей был убежден — приближалась опасность.
— В машину! — крикнул он.
— Что? — Антонина выпрямилась.
— В машину… к госпоже Парвус.
Он повторил по-английски и сам открыл дверцу драндулета. Дернул за руку Антонину, втолкнул ее внутрь, к Ильичу. Антонина взвизгнула, ударившись об угол ящика.
Андрей втиснулся следом за Антониной и прошептал:
— Да помолчите вы! — И добавил по-английски: — Серж, вперед!
Дверца так толком и не закрылась, но теннисист тронул с места. Навстречу им, словно таилась за углом, сверкая мигалками, ехала полицейская машина.
В заднее окно они успели увидеть, как она тормознула около машины Аркадия Юльевича.
Выскочили полицейские…
Драндулет свернул за угол.
— Как ты догадался? — спросил Алик.
— Я ждал этого, — сказал Андрей. — А когда услышал сирену, то решил не рисковать. Я понял, что гости к нам.
— Почему? — спросила мадам Парвус.
— Это же машина Аркадия Юльевича! Если он был ранен и выбрался из вашей квартиры, то он сам мог отправиться в полицию, а мог попасть в нее не по собственному желанию. Ведь ему надо было к врачу, а полиция контролирует все несчастные случаи. Значит, они помчались искать машину пострадавшего.
— Но ему это невыгодно, — сказала мадам. — Он же из советского посольства.
— Из посольства России, — поправил ее Андрей. — А теперь в России никого не вешают и не расстреливают по пустякам.
— Подождем, пока они уедут? — спросила госпожа Парвус.
— А вы можете гарантировать, — спросил Андрей, — что они не оставят засаду в вашей квартире? Вы знаете, что Аркадий Юльевич наговорил о вас и вашем юном друге?
Мадам начала было гневаться, но скоро справилась с собой. Более всего ее обидели слова о юном друге. В них была насмешка.
— И куда же? — спросила мадам.
— На корабль! — закричал Ильич.
— Я бы подождал, — сказал Андрей. — Неизвестно, что нас там ожидает.
— Но нам некуда деваться!
— Давайте свяжемся с Бегишевым, — сказал Андрей. — Он ведь на «Симонове». Пускай он скажет, можно нам на корабль или нет.
— И вы там сбросите нас с Сержем в топку, — заявила госпожа Парвус.
— Вряд ли там найдется топка вам по размеру, — возразил Фрей.
Никто не засмеялся.
— Мы все равно не сможем открыть шкатулку без второго ключа, — сказал Андрей.
«Сейчас бы посмотреть на меня со стороны! — подумал он. — Кажется, я превращаюсь в главного заговорщика. По крайней мере они меня слушаются».
— Я в жизни не слышала о ключах! — сказала Антонина.
Мадам обернулась к Ильичу.
— Это для меня полная неожиданность. Может быть, его и не было? Упоминания о нем я в документах не встречал, — откликнулся вождь.
— Вот это неприятно, — сказала мадам. — Придется взрывать.
— И если там драгоценности, то они превратятся в пыль, — заметил Андрей.
— Только не это! — испугался Ильич.
Претенденты глядели на ящик, как дед с бабкой на золотое яичко.
— Андрей прав, надо спросить у Бегишева, — сказала Антонина.
— Осторожнее, могут подслушивать, — предупредила мадам, увидев, что Антонина достала мобиль.
— Вряд ли, — сказала Антонина.
Впрочем, все понимали, что иного выхода нет.
Антонина стала вызывать Бегишева. Тот не отвечал. Ильич с трудом приподнял ящик и встряхнул его, прислонив к боку ухо.
— Постукивает, — сообщил он.
— Ну наконец-то, Оскар! — обрадовалась Антонина. — А то мы тут в осаде.
Последовала пауза, видно, Бегишев что-то отвечал.
— Ничего подобного, — сказала Антонина. — У меня все под контролем. Никто не покушался на коробочку… Нам нужен ключ от ящика… Какой ключ? Открыть ящик нам надо или нет?
Она отняла трубку от уха и сказала остальным:
— Он не знает о ключе.
— Вот именно. — Госпожа Парвус была в гневе. — Этого следовало ожидать. Типично совдеповское поведение. Русская мафия идет на все, чтобы не отдать мне причитающуюся долю. Я сделала для вас многое. Вы сделали для меня пакость.
Госпожа Парвус протянула руку Сержу, широкие рукава упали к плечам, обнажив обвисающую плоть. Серж накрыл ее кисти сильными ладонями.
— Крепись, моя девочка, — сказал он.
— Скажи Бегишеву, — произнес Андрей, — что мы будем на набережной, не доезжая метров триста до «Симонова».
Антонина послушно повторила слова Андрея.
— С какой стороны? — спросила она, выслушав ответ шефа.
— Он увидит, — ответил Андрей. — Набережная освещена.
Бегишев пришел минут через пятнадцать. За это время ничего не произошло, если не считать попыток Сержа вскрыть ящик ключами из своей связки, чем он нервировал Ильича.
Бегишев с трудом втиснулся в машину.
— Ну и теремок у вас, — сказал он, — а я думал, что вас всех повязали.
Все с облегчением рассмеялись.
Шеф шутил, значит, дело еще не так плохо.
Потом он оглядел всех в темной машине и спросил:
— Не вижу Аркаши.
— Он ранен.
— Что? Какой идиот это устроил? Ты? — Почему-то Бегишев обернулся к Андрею.
— Аркадий сам виноват, — твердо ответила госпожа Парвус. — Хуже то, что мы не знаем, где он и заявил ли он в полицию.
Андрей перевел. Мадам добавила:
— Нет худа без добра. Теперь наши доли увеличились.
— Кстати, — Ильич умел вмешаться не вовремя, — со мной никто не удосужился согласовать долю местных товарищей. А я полагаю, что она неоправданно велика. Вот так, батенька!
— Про долю ты ничего не знаешь и не должен знать, — рассудительно произнес Бегишев. — Ты получишь свои двадцать процентов, и устраивай революцию в Камеруне.
— Почему в Камеруне? — удивился Ильич.
— А ближе к Москве тебя товарищи по партии не подпустят.
— Погодите, — сказала госпожа Парвус. — Может, сначала проверим, что там лежит. А потом уж поделим. Где нам искать ключ?
— Раз нет ключа, то нужен хороший слесарь, — сказал Бегишев. — У вас есть надежный человек?
— Я могу позвонить в фирму, — сказала госпожа Парвус. — Но будет ли это надежно?
— Это будет очень ненадежно.
— Что же делать? — спросила Антонина, желая показать, что принимает участие в разговоре.
— А может быть, обратиться в мой музей? — спросил Ильич.
— Зачем? — спросил Бегишев.
Андрей перевел.
— Неужели он действительно думает о музее? — удивилась мадам Парвус. — Он сошел с ума. Это же маразм.
— Это не маразм, — Ильич гордо вытянул вперед бородку, — а реализм, товарищи и господа. Если ключ был в моих вещах, то никто не посмеет его выкинуть.
— Какие еще вещи? — взревел Оскар. — Ты из Москвы их присылал?
— Может, на борту есть слесарь? — спросил Андрей. — Я боюсь, что мы зря теряем время.
— Тогда я иду с вами, — твердо сказала госпожа Парвус.
— Еще чего не хватало! — воскликнула Антонина.
— Или вы не покинете шведских вод.
— Я с вами, птичка, — сказал теннисист. — Без меня они вас выкинут за борт через полчаса после отплытия.
— Разумеется, мой мальчик, — сказала мадам и тут же продемонстрировала прозорливость и знание людей. — Конечно, я тебя возьму, иначе тебе не достанется доля и окажется, что ты зря спал со старой сковородкой.
В ответ на возмущенный возглас теннисиста она спохватилась и перешла на непонятный Андрею шведский язык.
— Чего она требует? — спросил Бегишев, и тут Андрей сообразил, что забыл о своих переводческих обязанностях.
— Она хочет, чтобы мы взяли ее на борт.
— Черт с ней, — сдался Бегишев.
Глава 7
Март 1992 г
Поднялись на борт без приключений, никто не задерживал, никого не было и наверху трапа.
Бегишев даже выразил неудовольствие.
— Всех уволю, — сказал он, — так можно судовую кассу увести.
Прошли в холл.
— Где будем мадам устраивать? — спросил он у Андрея.
— Я не знаю, — сказал Андрей. — Мне нужно к себе сходить, умыться.
— И не мечтай, — сказал Бегишев. — Я тебя ни на секунду не отпущу. Во-первых, я тебе не верю. Я никому не верю. Во-вторых, у нас сейчас нет другого переводчика.
Пришлось всей толпой идти к люксу господина Бегишева.
Там разместились в тесноте.
Бегишев приказал Алику:
— Давай на полусогнутых в машину. Знаешь, кого звать.
— Знаю.
— Сейчас придет слесарь, — сказал Бегишев. — Мастер своего дела.
Мадам поглядела в иллюминатор. Она была напугана.
— А скоро ваш пароход отправится дальше? — спросила она.
— Не бойся, — ответил Бегишев. — Ночью. Время еще есть. — Он обернулся к Антонине: — Кто нас засек или нет?
— Ой, я не знаю, Оскар, — ответила Антонина. — Может, кто-нибудь из-за угла подглядывал. Ты же знаешь, как здесь легко спрятаться.
— Думай, где нам спрятать добро, — сказал Бегишев.
— Как будто ты раньше все не предусмотрел, — улыбнулась Антонина.
— Планы меняются, обстоятельства тоже, — сказал Бегишев.
Говоря, он разглядывал госпожу Парвус.
Забавно, что они были похожи. Две туши: одна помоложе — Бегишев, другая — куда постарше. И друг другу они не нравились.
— Мы договорились на тридцати процентах, — сказала госпожа Парвус.
— На двадцати! — воскликнул Ильич. — Сама же говорила: двадцать!
— Все оказалось куда сложнее, чем мы ожидали, — сказала мадам.
— Для меня тем более все оказалось сложнее! Я же не требую больше моих сорока! — Ильич был искренне возмущен. У него отнимали деньги.
— Получите, сколько я выделю, — сказал Бегишев.
— Может, там ничего и нет, — сказал Андрей.
Это была крамола, ее так и оценила мадам. А когда Андрей повторил свою фразу по-русски, поднялся общий шум, прерванный только появлением чужого нескладного человека с большой челюстью.
— Пришел, — сказал Алик, оставаясь в дверях.
— Вижу, — сказал Бегишев. — Посмотри, Данилыч, как этот ящик открыть. Только быстро, нам некогда чикаться.
— Пустое дело, — сказал Данилыч.
Оба играли в хозяина — работягу. Вернее всего, не был этот слесарь Данилычем, но и был ли слесарем — тоже неизвестно.
Данилыч постучал по боку ящика согнутым пальцем. Ящик отозвался глухо.
Данилыч приподнял ящик и с тупым стуком опустил его.
— Солидная работа, — сказал он. — Старая, может, даже до революции делали. Золинген. Классная сталь.
Андрей отнесся к словам Данилыча скептически. Даже чуть не спросил вслух: а Золинген здесь при чем?
— Открыть сможешь? — спросил Бегишев.
— Инструмент нужен, — сказал слесарь. — Хороший инструмент нужен. Дома есть.
— А здесь?
— А здесь, понимаешь, нету.
— У кого есть?
— Ни у кого нет. Здесь тонкой работой никто не занимается. А ведь ты посмотри, какой ключик был — тютелька не влезет.
Он покрутил ногтем указательного пальца в замочной скважине.
— А если хорошо заплачу? — спросил Бегишев.
— А если ты хорошо заплатишь, то вызывай Левшу. Читал про такого?
— Значит, не можешь?
— И никто не может.
— Если распилить?
— Сталь, — ответил, не задумываясь, Данилыч. — Сталь высокого класса, танковая сталь, хоть и не было тогда танков. Нет у меня инструмента.
— А в баксах заплачу?
— Ищи другого дурака. Чтобы сейфы брал.
— Почему, простите, сейф? — спросил Ильич.
— А потому, что это и есть переносной сейф. Думаете, папаша, почему он такой неподъемный — это сталь столько весит. А внутри его, может, пустота или несколько бумажек. В сейфы странные вещи кладут. Я свободен?
— Пока свободен, — сказал Бегишев. — И учти, что я тобой недоволен.
— Учту, господин механик. Помнишь морскую песню?
Данилыч вышел из каюты, аккуратно закрыв за собой дверь.
— Плохо дело, — сказал Бегишев.
— Я никуда не отойду от коробки, — сказала мадам. — Как только я отойду, меня вычеркнут из компании. Я имею жизненный опыт.
Бегишев поднялся и подошел к открытому иллюминатору.
Он смотрел вдаль. Погода портилась. Шел мелкий дождь. У борта остановился туристический автобус — писателей возили в музей «Вазы».
Писатели вылезали из автобуса, одежду трепало ветром — они спешили к кораблю.
И тут же из облака посыпался снег. Не дождь, а снег, с опозданием напоминавший, что здесь еще не кончилась зима.
— Надо будет поискать на теплоходе другого слесаря, — сказала Антонина. — Не может его не быть — здесь же сотни людей, включая обслуживающий персонал.
— Разумно, — не без иронии откликнулся Бегишев. — И твой слесарь окажется чекистом.
— Или еще хуже, — поддержал его Ильич, — из этой монархической банды.
Значит, они знают, подумал Андрей. Не то его удивило, что знают — невозможно не заметить конкурентов, но то, что Ильич назвал их монархистами, подтвердило подозрения Андрея.
— И что же делать? — спросила Антонина.
— Сначала выбросим с теплохода наших друзей, — сказал Бегишев, показав на мадам и ее Сержа.
— Что он сказал? — спросила госпожа Парвус.
Андрей перевел.
— Попробуйте, — сказала мадам. — Но предупреждаю, что перед вашим приходом я наговорила кассету и она спрятана в надежном месте. Если со мной что-то случится, рука правосудия до вас доберется.
— Как вы смотрите на то, — миролюбиво (ах, не верьте этому миролюбию борова) спросил Бегишев, — чтобы подождать, пока мы реализуем содержимое шкатулки в России и вышлем причитающуюся долю. Мы заключим договор и дадим вам обещания.
— Обещания — пфьють! — запела соловьем госпожа Парвус. — Почему я должна верить бандитам от коммунизма? Да я порядочным людям не верю. Я должна присутствовать при вскрытии гробницы.
Может, она сказала и не то слово, но Андрей перевел именно так. Ему вдруг привиделась известная или виденная когда-то картина: совещание в Египте перед тем, как вскрыть гробницу фараона — и неизвестно еще, ограблена она или цела, фараон там или пустота, тяготеет ли над гробницей проклятие или оно использовано грабителями, которые здесь погибли мучительной смертью. Археологи — люди суеверные. Как люди профессии, успех в которой зависит от везения, от того, как выпадут кости судьбы.
— Гробницы? — вскрикнул Ленин. — Какой еще гробницы?
— Коробки, — поправился Андрей.
— Не шутите так! — сказал Ильич. Он нашел на диване забытую кепочку и натянул ее — словно замерзла лысина. В ней он почувствовал себя уверенней.
— Спроси, какие ее условия? — сказал Бегишев. — Окончательные условия, а не этот треп.
— Мне не хочется плыть с вами в Петербург, — сказала госпожа Парвус так, словно у нее была давно подготовлена речь на этот счет. — К тому же у меня нет русской визы, и вы сразу устроите так, что меня посадят в русскую тюрьму. Ваш пароход завтра утром будет на Готланде. Это шведская территория, но думаю, что там вас полиция вылавливать не будет.
— Будем надеяться, — заметил Андрей.
— Переводи, переводи! — потребовала Антонина.
— Погодите.
— На острове у меня есть знакомые. Там мы сразу откроем ящик. За полдня, которые вы там проведете, мы уладим все проблемы. Потом я останусь на Готланде, а вы проследуете в Финляндию со всеми вашими сокровищами. Надеюсь, этот вариант вас устроит?
Когда Андрей перевел, Бегишев сразу спросил:
— А откуда вы возьмете там слесаря?
— Висбю — небольшой порт. В порту мастерские. В мастерских работает мой… скажем, родственник.
— А как мы вас устроим? — спросила Антонина, видимо, внутренне сдавшись.
— Дайте нам с Сержем каюту, — сказала рыжая старуха. — На одну ночь. Что, у вас на теплоходе каюты не найдется?
— А если вас найдут?
— Без вашего доноса не найдут, — уверенно ответила госпожа Парвус.
— Добро, — сказал наконец Бегишев. — Остаешься на корабле, но с тобой в каюте будет Алик.
— Еще чего не хватало! — воскликнул Алик.
И прямо в тон ему прошипела мадам:
— Еще чего не хватало. У меня уже есть друг!
Она схватила теннисиста за руку. Тот улыбнулся, как не очень умный внучек.
— Я ее не трону, — сказал Алик. — Ни за какие бабки. Если она храпеть не будет.
— Тогда ящик останется в моей каюте, — сказала мадам.
— Никаких кают, — отрезал Бегишев. Он принял решение, и теперь его трудно было сдвинуть. — Я спрячу ящик как следует, и никто этого не будет знать. Вы, наверное, забыли, что у нас на борту есть враги? Причем мы даже не знаем, сколько их и как они вооружены.
— Я не могу вам верить! — сопротивлялась мадам.
— Я иду на компромисс, — сказал Бегишев. — Я устраиваю вас на борту и гарантирую безопасный проезд до острова Готланд. Я даже не прошу у вас гарантий безопасности на Готланде.
— Я не хочу неприятностей. — Мадам внимательно слушала перевод Андрея. — Я заинтересована в том, чтобы получить долю и попрощаться с вами навсегда.
— На это я и рассчитываю, — согласился Бегишев. — Значит, договорились. Я спрячу ящик в месте, которое будет известно только мне. Я его подготовил заранее. А теперь, Антонина, дай-ка мне телефон. — Он протянул лапу, и Антонина вложила в нее телефонный аппарат.
Он набрал номер и сказал:
— Привет, это я, сейчас к тебе зайдет моя подруга Антонина и все объяснит.
Потом он обернулся к Андрею и пояснил:
— Я говорил с помощником по пассажирам. Сейчас Антонина оформит у него каюту для наших дорогих гостей. Ты, Андрюша, проводи их, посмотри, как разместились, вели запереть на всю ночь. Мы не знаем, кто захочет навестить их ночью и немного допросить. Учти, что здесь добреньких не осталось. Жизнь пошла сложная, люди озверели. «Так жить нельзя!» Объясни ей, что это название фильма моего любимого режиссера Говорухина, который был другом Володи Высоцкого. Сможешь объяснить?
— А нужно?
— Не нужно. Ты прав, но я тебе эту наглость, Андрюша, запомню. И когда мы будем делить бабки, ты получишь пулю в лоб.
— Пожалей мальчика, — заметила Антонина. — Он мне еще пригодится.
— А ты, Снегурочка, заблуждаешься, — сказал Бегишев. — Посмотри в глаза своему мальчику. Он постарше нас с тобой будет.
Андрей внутренне поежился. Он не любил, когда люди заглядывали ему в душу.
— Я пойду? — спросил Андрей.
— Смотри, чтобы госпожа Парвус была довольна жилищными условиями.
— Потом, надеюсь, мне можно будет вернуться к себе?
— И ложись спать. Чем меньше будешь общаться с графинями и братцами-писателями, тем лучше для твоего здоровья.
Подходя к каюте, Андрей предвкушал момент, когда вытянется на койке. Он устал. Ничего особенного не делал, а ощущение, будто возил на себе кирпичи.
Но расслабляться нельзя.
Алеша Гаврилин был дома.
— Привет, — сказал он, выходя из туалета и вытирая махровым полотенцем голову. — Как ваши приключения, Рокамболь? Все члены тела в порядке?
— Устал, — признался Андрей.
— Расскажешь, как искали сокровище?
— Вроде бы и рассказывать нечего.
— Плохо обманывать старших. Ой как плохо, юноша!
— Мне в самом деле хочется принять душ и потом чуть-чуть поспать.
— В отличие от остальных лиц этой драмы, — сказал Гаврилин, — я либерален, демократичен и милостив. Хочешь в душ — иди в душ, пока не отключили горячую воду.
— Здесь не отключают, здесь теплоход. — Андрей не понял иронии.
— А ты попробуй, — сказал Гаврилин.
Что ему говорить? Они ведь тоже не отвяжутся. Андрей был уверен, что Гаврилин достаточно тесно связан с дамами и ему поручили следить за Андреем. «Разумеется, я ничем ему не обязан, и мне, в сущности, совершенно все равно, достанется ли добыча монархистам или коммунистам. Нет, впрочем, не хотелось бы, чтобы все досталось коммунистам. Хотя они пока не участвуют в общей драке. Впрочем, никто об этом не рассказывает. Они хотят узнать от меня, ничего в ответ не сообщая. Ведь я наблюдатель и не претендую на другую роль».
События дня казались невнятными, словно события кошмара.
…Рыжая толстая старуха, воняющая потом и плохими духами, выстрел в Аркадия Юльевича, банк с ужасными обитателями… Андрей словно составлял мысленный отчет для Лидочки. Ему не хотелось выходить из душа и снова говорить с Гаврилиным. Хватит на сегодня!
Он тянул время. Не вылезая из-под душа, почистил зубы, решил было постирать носки, но сил не нашлось…
Гаврилина в номере не было.
Ну и хорошо, можно будет поспать до Готланда. А когда мы будем на Готланде?
Андрей взглянул в иллюминатор.
Причал был ярко освещен, за ним — темнота улицы, разрываемая лишь лучами фар, и стена домов с горящими окнами. Мостовая была мокрой. Снег падал и таял — это было похоже на декорацию оперного спектакля.
Андрей улегся на койку, но не стал тушить настольную лампу, чтобы Гаврилину легче было устраиваться ко сну.
Но сам Андрей заснуть не успел.
Сначала за дверью послышались громкие голоса. Соседи выясняли отношения по-литовски. Затем в дверь постучали, и, прежде чем Андрей успел сказать, что спит, в дверях появился Миша Кураев.
— Рано спишь, — сказал он. — У Бригитты Нильсен день ангела. Она тебя приглашает.
— Она меня не знает.
— Чепуха. Ты великий археолог, автор мирового бестселлера. Еще немного, и в Европе тебя будут знать так же, как меня.
Миша немного выпил, но уже спохватился, что его могут счесть навязчивым. Этого он не выносил.
— Я зайду через полчаса, — сказал он. — К тому времени ты или заснешь, или уже будешь при смокинге и «бабочке». Как свободный человек, ты имеешь право выбора.
Дверь за писателем закрылась. «Не пойду я ни на какие именины, тем более что меня на них не звали».
Андрею показалось, что он все еще размышляет об этом, но тут его разбудили — видно, все же заснул и не заметил, как заснул. Люди ведь замечают, как просыпаются, но никто еще не уловил момента, когда засыпает. Видно, потому, что сон — это малая смерть, это ежедневная репетиция смерти.
— Андрей Сергеевич! — Татьяна, племянница Анастасии Николаевны, стояла над ним подобно медсестре над постелью больного.
«Сейчас она предложит мне поставить градусник», — почему-то подумал Андрей.
— Не вставайте, не надо беспокоиться, — сказала Татьяна.
Настольная лампа светила ей на руки, сложенные у живота, тогда как лицо оставалось в тени.
Андрей сел на кровати.
Татьяна положила ему на плечо сильную руку, как бы прерывая его движение.
Он так и остался сидеть на койке, а Татьяна не убрала ладонь с его плеча.
— В чем дело? — спросил он.
— Андрюша, — сказала Татьяна, — расскажите, как они нашли шкатулку. Расскажите мне. Никто об этом не узнает.
— Почему вы так думаете?
— Я — красивая женщина? — спросила Татьяна.
— Разумеется.
— Я буду вашей. Я не обманываю вас. Вы мне нравитесь. Я отдамся вам целиком, но вы должны что-то для меня сделать.
— Смешно. — Андрей опустил ноги на пол. Но Татьяна его плеча не отпустила. — Мне еще не приходилось вступать в подобные союзы.
— Ничего смешного, — обиделась Татьяна, и Андрей понял, что ей еще не приходилось напрашиваться таким образом, потому она и сама чувствует себя неловко. Тем более что никаких чувств к Андрею не испытывает. Как ни горько мужчине это признать.
Что Андрей и сказал молодой женщине.
Татьяна выслушала его отповедь, которой позавидовал бы и Евгений Онегин, покорно, но без улыбки.
Она присела на койку рядом с Андреем и заговорила вполголоса, будто не хотела, чтобы ее услышали из-за двери.
— Вы простите, что я на вас напала, — говорила она, сидя рядом, но не касаясь Андрея. — Это совершенно не моя манера, честное слово. Но передо мной поставили задачу. Честное слово, она так и сказала: «Ставлю тебе задачу».
Татьяна робко улыбнулась, и сверкнули белые крупные зубы.
— Ты имеешь в виду Анастасию Николаевну?
— Она мне вовсе не тетка, — призналась Татьяна, — но мы с ней вместе работаем. Вы простите меня, Андрей?
— В чем?
— В том, что навязываюсь. Мне было приказано отыскать к вам путь. Быстрый и надежный. Пока я шла — поняла, что угрозами вас не испугаешь. И я подумала: может быть, я его соблазню? Вот и попробовала. Но неубедительно.
— Да, наверное, неубедительно, — сказал Андрей. — Хотя если бы вы избрали другой способ соблазнить меня, то не встретили бы возражений.
— Вот именно, я так всегда и думала — все мужики сволочи. Разве у вас жены нет?
— А вы замужем? — ушел от ответа Андрей.
— Это не важно, когда нас окружает Балтийское море и мы вдвоем на борту теплохода.
— А за дверью ваши товарищи по партии ждут результатов вашего визита.
— Вы можете проверить, — уверенно ответила Татьяна, — там никого нет.
— Убежали?
— И не подходили. Они верят, что я справлюсь.
Наступила неловкая пауза. Следовало что-то делать. Андрей почти непроизвольно совершил наглый поступок. Наглый вообще, но не в этой ситуации — ему было любопытно спровоцировать женщину на какие-нибудь неординарные действия.
Андрей положил ладонь на грудь Татьяны — грудь отлично вписалась в чашку пальцев.
— Да вы что? — с секундным опозданием, но вполне искренне возмутилась Татьяна. — Что вы себе позволяете?
Она резким движением оторвала руку от груди и отвела в сторону.
Но не закричала, а возмутилась лишь вполголоса.
Андрей чмокнул ее в щеку и подчинился.
Ладонь упала на колено.
— Где же ваши обещания? — прошептал он. — Так вам никогда меня не соблазнить.
— Я и не собиралась!
— Только говорили?
— Андрей, не надо надо мной издеваться! — Веснушки ярко вспыхнули на щеках, рыжеватые волосы туго завивались. — Мне и без вас тошно.
— Довели соратники?
— Вы, по-моему, ничего не понимаете — вы безобразно аполитичны.
— Вам кажется?
— Андрей, перестаньте притворяться, я вас убью!
— Слишком резкий переход от любви к ненависти!
— У меня нет к вам никаких чувств.
— Тогда дайте мне поспать и идите в бар.
— Не могу.
— Убьют?
— Анастасия ждет ответа.
И тут Андрей понял, что просто тянет время, тянет в разговоре — не зная, что же ему делать?
Признаться?
Татьяна сама помогла ему. Не почувствовала растерянности и готовности сдаться.
— Неужели вы думаете, что никто не видел, как вы вернулись всей бандой на «Симонов»? И притащили тот самый ящик? Я больше того вам скажу: с вами появилась крашеная старуха дикого вида — на борт взошла, а обратно не вышла. И с ней еще какой-то хлыщ. Кто эти люди?
— А может, они уже ушли, пока вы здесь сидите? — спросил Андрей. — Ведь никому не запрещено гостей принимать? Шведских коллег.
— Андрей, вы явно принимаете сторону бандитов и коммунистов, — удивилась Татьяна и убрала руку с коленки Андрея. Роман иссякал на глазах. — Вы же знаете, как плохо это может для вас кончиться!
— Я потеряю ваше расположение?
— Это лишь малая часть ваших неприятностей.
— У вас глаза как у кошки, — сказал Андрей. — И горят.
— Я могу быть страстной, — ответила Татьяна. — Человек, вкусивший моих ласк, никогда меня уже не забудет. Но вам это уже не грозит.
— Я не смогу исправиться?
— Вам будет трудно исправиться.
«У всех этих людей — очевидные провалы с чувством юмора, — подумал Андрей. — Как было бы мило, если бы они умели улыбаться. Но они или хохочут, или строят строгие физиономии».
— Что же мне надо сделать, чтобы просвещенная общественность меня простила?
— Сначала расскажите мне, что оказалось в том ящике? Вы видели сокровища царского семейства?
— Нет, не пришлось.
— Они скрыли это от вас?
— Честно говоря, они и сами туда не заглядывали.
— Почему? Только не лгите мне. Я ненавижу, когда мне лгут.
— Ящик не удалось открыть.
— Почему?
— Ключа не нашли.
— Я тебя убью!
Татьяна со злобой ударила его в висок кулаком. Была бы мужчиной — отправила бы его в нокаут.
Она кинулась его бить, и пришлось схватить ее за кисти рук. Она вырывала руки, глаза были совсем близко.
— Я тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу! — шептала она.
Татьяна дышала часто и неглубоко. Глаза вспыхивали по-кошачьи в свете настольной лампы.
Вдруг она сказала громко:
— Да потуши ты этот свет! Лампу потуши, мать твою!
— Как так? — Андрей не был готов к столь резкому переходу настроения.
— Я хочу тебя, мерзавец, я хочу тебя…
Андрей медлил. И не потому, что женщина была ему неприятна, — Татьяна была очень хороша, но Андрей глупо устроен — он не мог, не умел сдаваться женщине. Он должен был покорить ее. Он должен был ухаживать за ней. «Я люблю украшать елку, а все пляски вокруг нее одинаковы, — как-то говорил он своему приятелю. — Я люблю Лидочку, но не могу поклясться, что всегда был ей верен. И не потому, что столь полигамен, просто жизнь устраивала мне ситуации, в которых я был ведомым. Это не значит, что мужчина должен спешить к любимой жене с признаниями и покаянием. Покаяние оставьте для других случаев. О том, что произошло с тобой в других мирах и в других временах, забудь или помни — с содроганием или сладостью. Пускай это останется в тебе».
Но сказать женщине: а я тебя не хочу — так джентльмены не поступают.
И тут дверь раскрылась — так всегда случается в романах, где автор бережет целомудрие своего героя. Что-то должно случиться и спасти его девичью честь. Наверное, успех многотомной эпопеи шестидесятых годов «Анжелика» происходил оттого, что прекрасная героиня того сериала умела по собственной воле или по чужому настоянию спать с десятками хороших и плохих мужчин, получать от этого удовольствие, но душевно оставаться всегда верной своему первому и единственному мужчине, красоту которого лишь подперчили косметические шрамы, хотя все вокруг кричали: «О, как он обезображен!»
Так как эпопея, в которой главным героем остался Андрей Берестов, никогда не станет столь же популярной, как рассказ о маркизе Ангелов, то его судьба будет решаться за кулисами, где очередная дуэнья воскликнет: «Ну как, мне пора вмешаться?» — «Вмешивайся», — ответит режиссер.
На этот раз режиссер выпустил из-за кулис Анастасию Николаевну.
Она вошла, коротко постучав. Настолько коротко, что Андрей не успел ответить на этот стук, а Татьяна — отпрянуть.
— Таня, — сказала Анастасия Николаевна. — Ну разве так можно? Своих целей надо добиваться цивилизованными методами.
— Как вы посмели! — Татьяна вскочила с койки, как испуганная пантера. — Я же занята делом.
— Вот именно, — согласилась Анастасия Николаевна. — А я все жду и жду — когда же ты чего-нибудь узнаешь? Я не думала, что ты настолько эгоистична. Неужели этот молодой человек так нравится тебе?
— Не в этом дело. — Татьяна стояла близко к Андрею, Анастасия Николаевна перед ней, и Андрей чувствовал, как стало тесно в маленькой каюте.
Теплоход дал гудок — он проник сквозь приоткрытый иллюминатор — и тут же начал двигаться. Дрогнули и медленно поплыли назад дома на набережной.
— Что ты узнала? — спросила Анастасия у Татьяны, не глядя на Андрея.
«Может, и лучше, что я здесь лишний», — подумал Андрей и попытался встать так, чтобы оказаться за спиной Анастасии Николаевны.
Это ему удалось.
Дело решали секунды.
Андрей изловчился, скользнул вдоль стены за ее спину, чуть не упал в открытую дверь туалета — и вот она, спасительная дверь в коридор! Но женщины уже обернулись к Андрею.
— Вы куда? — воскликнули хором.
— Ты куда? — сзади стоял Алеша Гаврилин. Мягкой большой ладонью он затолкал Андрея обратно в каюту.
— Господа, — сказал Андрей. — Хочу полюбоваться Стокгольмом при лунном свете.
— Андрюша, ну что ты несешь! — обиженно произнес Гаврилин. — Ты же еще не все рассказал.
— Я даже не успел обесчестить твою подругу по партии.
— Андрюша, не юродствуй, мы не изверги, нам нужна правда. Мы не можем отдать царские драгоценности этим бандитам.
— Ну и возьмите их. Я в этом не участвую.
— Если ты претендуешь на свою долю…
— Алеша, мы с тобой вроде бы давно знакомы. Ты, наверное, знаешь, что я не принадлежу ни к какой партии или движению, что мне в высшей степени наплевать на это. Я думал, что ты тоже интеллигент.
— Не вам, молодой человек, судить об интеллигентности других, — вдруг заявила Анастасия Николаевна. — Интеллигенту в первую очередь свойственна тяга к справедливости. Деньги как таковые не правят миром. Но деньги в нашем мире — оружие. И оружие в дурных руках ведет к жертвам и угнетению. Интеллигентность — это наличие идеалов. А то, что проповедуете вы, — попытка сесть между двух стульев, закрыть глаза ладонями и делать вид, словно наш мир не сотрясается от отчаянной борьбы между добром и злом.
— Почему я должен считать добром вашу сторону в этой схватке?
— А где у вас голова?
— Не голова, — произнесла Татьяна, — не голова, а сердце.
Андрею стало смешно. Именно от Татьяны услышать эти слова! И стоило немалого труда удержаться от улыбки.
— Посмотри, старик, — сказал Алеша. — Вот тут с одной стороны я, Анастасия Николаевна, Татьяна и другие люди из твоего племени. Мы в одной лодке. А можешь ли ты, положа руку на сердце, сказать, что Антонина твой союзник?
— Или Бегишев? — сказала Анастасия. — С ума сойти — Бегишев как идеал друга и союзника!
Андрей понимал, что если садиться в чашу весов — видно, его чаша с ними. Но он понимал также, что общее дело, которое начинается как нечто святое, освященное идеальными лозунгами, — совсем не обязательно остается таковым и в дальнейшем. Горе идеалистов и интеллигентов заключалось в том, что их легче провести, чем Бегишева.
— Я не союзник Бегишева, — сказал Андрей, — ничей я не союзник, но я не знаю, кто ваш хозяин.
— Как вы посмели! — вырвалось у Анастасии.
— Ты не можешь допустить, что мы обходимся без хозяина? — спросил Алеша. — Неужели ты настолько в плену у стереотипов бандитской жизни?
Андрей пожал плечами. Доказать он ничего не докажет, а друзей по прослойке рассердит.
— Кто эта старуха с оранжевыми волосами? — вдруг спросила Татьяна.
Андрей сделал вид, что не расслышал. Он не испытывал никакой лояльности к Бегишеву, но по складу своего характера не умел и не желал отвечать следователям — даже очень хорошим.
— Где они спрятали шкатулку?
— Не знаю. — На этот вопрос он мог честно ответить — не знаю.
— Но шкатулка есть? И в ней наши драгоценности? — спросила Анастасия.
— Татьяна мне сказала, что шкатулку она видела.
— Но что в ней? — настаивал Алеша. — Андрей, пойми, что сейчас ты оказался в центре очень опасной интриги. Ты можешь погибнуть. Ты должен выбрать сторону.
— Клянусь вам, не знаю, что в этом ящике, не знаю, где лежит этот ящик, даже не знаю, кто на самом деле та рыжая женщина, о которой вы спрашиваете. И большего вы от меня не добьетесь. Я не знаю!
— И правильно, — сказал новый голос от двери. Там стоял писатель Глинка. Стоял и безмятежно улыбался. — Андрюша ничего не знает и знать не может. А я вот знаю, что намерен похитить его у вас — и пригласить на именины госпожи Бригитты Нильсен. Его ждут.
Господи, как Андрей был благодарен добродушному писателю — если бы тот знал, из какой ямы он его вытащил!
— Простите. — Андрей ринулся к выходу, сдвинув тяжелого Гаврилина. И тот уступил ему дорогу.
В банкетном зале было тесно, душно, громко играл оркестр, лично Дилемма Кофанова плясала на махонькой эстраде.
Бригитта Нильсен изобразила невероятную радость по поводу появления Андрея. Словно они дружили домами со школьных лет. Она была сказочно хороша. А может быть, Андрею так показалось, потому что здесь веселились писатели, и им дела не было до каких-то шкатулок, зомби и политических заговоров.
Миша Кураев танцевал с Бригиттой, а Дилемма умудрилась плюхнуться Андрею на колени… Он много пил в ту ночь, но не мог не поглядывать на двери — а вдруг появится кто-то из призраков.
Но призраков не было. Видно, они занимались своими делами и делили наследство, не нуждаясь в услугах Андрея.
Андрею страшно не хотелось возвращаться в каюту. Алеша теперь уже не был Алешей — как будто оборотни, поселившиеся на «Рубене Симонове», забрали в свою стаю милого Гаврилина.
Андрей основательно выпил, потратив почти всю оставшуюся валюту. И старался не глядеть на часы, благо, что атмосфера славного дружелюбия помогала не обращать внимания на движение времени.
Потом он танцевал с Дилеммой, она прижималась к нему, а он думал: «А что, если она тоже принадлежит к одной из партий охотников за шкатулкой?» Сейчас она спросит его: а кто та старуха с рыжими волосами? «Кстати, а кто та старуха? Можете допрашивать меня, но я, честное слово, ничего не помню».
Постепенно праздник истончался — столики ближе к эстраде пустели, упрямые гуляки удерживались в углах и вдоль стенок салона.
Дилемма говорила:
— Только ты не воображай, у меня настоящий роман с Мишей; клянусь тебе, я такого мужика еще не встречала, но его обязательно прирежут, как только мы вернемся в Питер. Жалко его, а правда он роман написал?
— Повесть, — отвечал Андрей. — И не одну. Он хороший писатель.
Потом он все же собрался уходить, но возвращаться в каюту страшно не хотелось, и он вышел на палубу.
Там было холодно, порывами налетал ветер, почти ледяной, вокруг стоял белый легкий туман. Из него выплывали цветные огоньки встречных судов.
Внутри судна что-то глухо бабахнуло.
Как будто кто-то ударил мешком картошки по перегородке.
Мало ли какие звуки рождаются на таком большом судне, но Андрей почему-то сразу понял, что этот звук исходит из каюты Бегишева и что он связан с проклятой коробкой.
Наверное, лучше всего было бы остаться здесь.
Андрей поглядел на часы. Половина второго.
И он побежал вниз, на четвертую палубу, к люксу господина Бегишева, щедрого спонсора писательской конференции. Это заняло минут пять.
Он оказался не одинок.
Несмотря на глубокую ночь, у каюты Бегишева толпились люди — человек десять.
Некто с огнетушителем кричал:
— Пропустите, неужели не видите, кораблю угрожает опасность!
Остальные были просто зеваками.
Андрей пробился к двери, потому что зеваки не были настойчивы — они опасались, не угрожает ли им что-то.
Дверь была открыта настежь.
Изнутри шел дым.
Шипел огнетушитель — человек у двери включил его.
Волосатый, мохнатый, в одних трусах Бегишев, как медведь, медленно кружил в дыму и выкрикивал:
— Я слепой, да? Я слепой?
Андрей заглянул во вторую комнату люкса. Поперек койки лежал Алик. Мертвый?
Дыма там было меньше, все вещи перевернуты, сдвинуты с мест, шкафы распахнуты. Здесь что-то искали…
Дверь в туалет открылась, и оттуда выглянула Антонина.
— Это ты, Андрюша? — спросила она. — Ты почему здесь?
Хлоп! — Дверь закрылась.
Андрея толкнул капитан — его представляли писателям в первый день. Капитан в обычной жизни был похож на начальника главка. Сейчас, в форменных брюках, в кителе, накинутом на майку, он казался скорее домашним соседом, которого вынесло на лестничную площадку на звуки соседского мордобития.
— Спа-койно, — сказал капитан, и голос превратил его в фигуру официальную. — Попрошу очистить помещение. Посторонние, попрошу очистить! Ничего не произошло.
Пена из огнетушителя попала ему сзади на ноги, и он переступил через нее, как купальщик, выходящий из полосы прибоя.
Андрей подошел к иллюминатору и открыл его.
В каюту влетел ледяной мокрый ветер.
Дым, побившись немного между стенками, потерпел поражение и бежал с поля боя.
В первой, большой комнате люкса все было разгромлено.
Бегишев пришел в себя.
Он натужно кашлял и в перерыве между приступами громко повторял:
— Все в порядке, все нормально!
Капитан вторил ему. Человек с огнетушителем обратил свое оружие против зевак и направил струю на пол возле двери.
— Что случилось? — спросил капитан у Бегишева.
В дверях в заднюю комнату появился Алик. Одной рукой он держался за косяк, другую приложил к глазу.
— Хулиганы, — сказал Бегишев. — Пьяные хулиганы.
— Этого у меня на борту быть не может, — твердо заявил капитан.
У капитана были плакучие длинные усы и манера дергать за правый ус, отчего он был заметно длиннее левого.
— Мы разберемся, — сказал Бегишев и тут заметил Андрея.
— Ты чего видел? — спросил он.
— Я только что пришел.
— Тогда будь другом, загляни в тринадцатую, к мадам. Но тихо, без шума, усек?
Капитан настороженно прислушался.
— Это наши дела, Матвей Павлович, — сказал Бегишев и обнял лапой невысокого капитана за плечи. — Мы сами разберемся.
— Это мои дела, — решительно возразил капитан. — На борту вверенного мне судна я не потерплю разборок!
В дверях уже стояли два матроса. Зеваки исчезли. Их оттеснили в глубь коридора, и оттуда доносился только невнятный шум голосов. Андрей вышел в коридор.
Каюта госпожи Парвус была за углом.
Дверь закрыта.
Андрей постучал. Никто не ответил.
Он оглянулся — в коридоре никого нет. Только голоса вдали. Он постучал еще и сказал в замочную скважину:
— Это я, Андрей.
— Вы один? — донеслось изнутри.
— Я один.
Дверь приоткрылась. Там стоял теннисист с палкой в руке. Андрей отстранил руку с палкой и, войдя в каюту, закрыл за собой дверь.
— Это ужас, — сказала в темноте госпожа Парвус. — Я думала, что сойду с ума. К нам ломились неизвестные люди. Ломились и не отзывались на мой вопрос «Кто там?».
— Вы спрашивали по-английски?
— Разумеется.
Приоткрытая дверь была освещена из коридора. Андрей оглянулся. Дверь и на самом деле несла на себе следы взлома. Краска была сбита, у замочной скважины вмятины. К счастью для мадам, взломщик ей попался неопытный, куда слабее того, кто работал в каюте Бегишева.
— Все обошлось, — сказал Андрей. — Здесь уже капитан.
— Но что было? — Голос мадам доносился откуда-то сверху. Андрей никак не мог сообразить, где она спряталась. Света не зажигали.
— Ваши соперники искали ящик, — сказал Андрей.
— Вы уверены в этом?
— Вряд ли они пришли за леденцами. В каюту Бегишева им удалось проникнуть.
— И что?
— А вы как думаете?
— Но ведь ящика там нет. Правда там нет ящика?
— Мне некогда было спросить. Но, как понимаю, там нет ящика.
— Вот видите, как все получается! Какое счастье, что мы остались на пароходе.
Андрей не понял, в чем же заключалось счастье этой старой женщины.
— Что же нам делать? — спросил сонный, всклокоченный и вовсе не такой хорошенький, как вчера, теннисист Серж.
Андрей понял, что указаний на этот счет не имеет. Поэтому он сказал:
— Оставайтесь в каюте и никому, кроме своих, не открывайте.
— Свои — это вы и Бегишев?
— И Владимир Ильич Ленин. — Андрей не удержался от иронии.
— Хорошо.
Госпожа Парвус была на чужой территории и потому потеряла спесь и уверенность в себе.
Андрей вышел из каюты. Сзади сразу же щелкнул замок.
Видно, когда монархисты — а Андрею казалось, что это именно они, — делили объекты нападения, мадам Парвус достались не очень решительные и опытные взломщики.
Он вернулся в каюту Бегишева. Дверь была приоткрыта. Они уже не боялись.
Там восстановился некоторый порядок.
Алик сметал в угол мусор, Антонина приводила в порядок мебель. Бегишев стоял посреди каюты, направив на дверь пистолет.
— Заходи, — сказал он Андрею. — Это так — пукалка.
Он спрятал пистолет в карман.
Бегишев был в атласном халате, подпоясанном витым золотым шнуром, подобным шнуру от портьеры в ресторане.
— Как они там? — спросил Бегишев. — Надеюсь, их не тронули.
— Но ломились в дверь.
— Дилетанты! — с презрением произнес Бегишев. Относилось это к нападающим.
— Но ты хорошо спрятал шкатулку? — спросила Антонина.
— Ты не узнаешь. Никто не узнает.
— Ты уж скажешь! — Антонина обиделась. — Неужели я тебя продам?
— Конечно, как только цену предложат.
Антонина надулась.
Бегишев подошел к иллюминатору. В трудные минуты он всегда замирал, глядя на небо. Видно, это помогало ему сосредоточиться.
— Что ж, — сказал он наконец, — попытка им не удалась. Но они не успокоятся. Наша задача — угадать, куда последует удар. Давайте думать.
Теплоход качнуло. Его уже давно покачивало, но слегка, будто море с уважением относилось к громаде пассажирского лайнера. Но теперь, к середине ночи, когда «Симонов» отошел подальше от берегов Швеции, море принялось покачивать его всерьез.
— Я этого не люблю, — сказала Антонина.
Бегишев приложил ладонь ко лбу. Он вглядывался в туманную темень.
— Будут шуровать по всему кораблю. У нас задача: как вынести ящик с «Симонова», чтобы нас не перехватили. Их ведь, наверное, больше, чем нас.
— Это еще неизвестно, — сказала Антонина. — Я могу вызвать всех, которые нелегалы.
— Я что думаю, — сказал Бегишев. — Не исключено, что нам стоит вообще остаться пока на Готланде. Может, и не идти дальше, в Хельсинки.
— Боишься? — спросила Антонина.
— Это не так называется. Это называется здравым смыслом, — сказал Бегишев. — Мы сделали ошибку — недооценили противника. А это последнее дело. Противника надо уважать. Я думаю, что мы задержимся на Готланде, и я вызову еще людей из Питера.
— Вы кого-нибудь заметили? — спросил Андрей. — Из тех, кто на вас напал?
— Даже если и заметил, — ответил Бегишев, — это уже не играет роли.
— Кто-то знакомый?
— Свет они вырубили, — сказала Антонина. — Как ворвались, мы с Оскаром в спальне лежали, а Алик здесь был, заснул.
— Вот этого я тебе никогда не прощу, — сказал Бегишев.
— Темно было, тихо, — признался Алик. — Тут каждый закемарит.
— Свет мы включить не сумели, — сказала Антонина. — Алик был… в обмороке. Это так у вас называется?
— В отключке, — признался Алик.
Вокруг глаза разлилось синее пятно, щека вздулась.
— Нам бы доставить груз в Питер, там они нас не достанут.
Оскар явно был не уверен в себе и своих союзниках. В дверях появилась мадам Парвус, за ней стоял теннисист.
— Не выдержали? — спросил Бегишев. — Страшно вам, цыплята?
— Что он сказал? — спросила мадам.
— Ничего особенного, — ответил Андрей, ему не хотелось больше играть в переводчика, но приходилось.
— Они будут нас пытать? — спросила госпожа Парвус.
— Вряд ли, — ответил Оскар. — Кроме меня, никто не знает, где ящик. Но самое интересное — я тоже не знаю, где ящик. Я его передал человеку, и тот его спрятал. Но мне говорить не стал, а я не стал спрашивать.
— Значит, вас надо пытать? — произнес Андрей. Это была неловкая шутка.
— Пускай попробуют. Вряд ли у них получится.
Бегишев шлепнул себя по карману халата. Андрей знал, что там лежит пистолет, который Бегишев, справедливо или нет, обозвал пукалкой.
Он обвел своих союзников острым взглядом маленьких свинячьих глазок, уютно лежавших на подушках красных щек, и заявил:
— За меня попрошу не беспокоиться. Корабль этот мой, и люди на нем мои. Больше накладок не повторится. Виноват я сам — забыл, что враги не дремлют. Сейчас ко мне на совещание прибудут руководители круиза.
Как бы в ответ на его слова дверь приоткрылась. Там стоял капитан. Уже при параде, как положено на приеме у морского начальства.
— Заходите, шкипер, — сказал Бегишев. — Сейчас мы с вами устроим небольшое совещание.
За капитаном вошел его помощник, а может, иной важный корабельный чин.
Указав жестом, где им садиться, Бегишев обратился к остальным:
— Прошу всех разойтись по каютам и спать, спать, спать! Чтобы к десяти утра были как огурчики. Прибываем на пиратский остров Готланд, где и проводим последнюю стадию операции. Всем ясно?
И он, довольный, рассмеялся.
Все послушно поднялись. Антонина хотела задержаться, но Бегишев и ее погнал к выходу.
— Отдыхай, — сказал он. — На этот раз в одиночестве.
— Меня тошнит, Оскар, — сказала Антонина. — Я не выношу качки.
— Не надо пить перед сном.
Бегишев сказал Андрею:
— Переведи для своей бабуси, чтобы они без моего приказа каюту не покидали. И запритесь получше. Я постучу вот так: та-та-та-та-спар-так.
Андрей выходил последним.
Перед дверью каюты в коридоре стояли два матроса, в робах, с резиновыми дубинками в руках. Интересно, это так положено на всех теплоходах? Морская полиция?
Андрею так не хотелось возвращаться в каюту, что он пошел в салон. Но там веселье кончилось. Стюард мыл бокалы, в углу вяло пели норвежцы. Может, прикорнуть на диванчике?
— Спокойной ночи, товарищ писатель, — сказал Андрею бармен, который, видно, угадал, что тот вознамерился поспать в салоне.
Пришлось идти в каюту.
Каюта была не заперта, постель Алеши заправлена, его самого нет. Андрей почувствовал облегчение. Сейчас еще не хватало бы объясняться с ним. Андрей не сомневался в том, что Алеша участвовал в налете на каюты Бегишева и Парвус.
Наверняка у монархистов дефицит рядового состава.
Они же теперь знают, что шкатулка у Бегишева. Бегишев мог спрятать ее на борту — тут у него есть свои люди, он даже не позволит снова напасть на свою каюту — как бы монархисты ни собирали силы, официально они слабее магната и всеобщего спонсора.
Значит, они попытаются добыть шкатулку на Готланде.
Хотя у Бегишева есть возможность, пользуясь пограничными послаблениями, вызвать слесарей на борт. И только попробуй сунуться — у него матросы с дубинками!
Если монархисты понимают это, им надо изобрести какой-нибудь оригинальный способ заполучить ящик.
«Что бы я сделал на их месте?»
Андрей разделся, лег на койку. Качало мягко, но размашисто.
Хмель, столь явно туманивший голову, пока он сидел в салоне, и куда-то испарившийся в каюте Бегишева, вернулся в мозг из кровеносной системы и обволакивал мысли, приказывая спать.
И Андрей заснул мирно и глубоко.
Он не слышал, как в недрах корабля происходили какие-то события, да и не мог бы их услышать, так как лишь моряк смог бы сообразить, что характер качки «Симонова» изменился, словно теплоход изменил курс. Конечно, до него не мог донестись голос с капитанского мостика, и невозможно было догадаться во сне, что на борту теплохода произошла революция. Оказывается, монархисты придумали все же рискованный, почти невероятный, но имевший шансы на успех план: как заставить Бегишева вытащить из тайника шкатулку и оставить ее почти без охраны.
Андрей не знал о том, что в четыре часа двадцать минут, в самое темное и туманное время ночи, когда «Симонов» уже покинул стокгольмские воды и шел вдоль шхер, намереваясь повернуть к Готланду, два вооруженных человека, в одном из которых он мог бы угадать Алешу Гаврилина, поднялись на мостик и под дулами пистолетов связали рулевого и вахтенного штурмана. Затем спутник Гаврилина встал за штурвал, а Гаврилин остался рядом, охраняя его.
Стоявший за штурвалом человек средних лет, имя которого было известно Андрею, по своей первой профессии был штурманом и потому представлял, как надо себя вести на мостике теплохода.
Вскоре на мостик поднялась Татьяна, пришедшая на помощь Гаврилину. Похитители теплохода понимали, что именно мостик становится центром борьбы за власть.
Андрей не мог знать, что после совещания у Бегишева, где Оскар с капитаном решили, как обезопасить шкатулку на Готланде, капитан отправился к себе в каюту, потому что давно не спал и ему надо было выспаться — хоть часика три перехватить перед Готландом.
Его помощник по безопасности, который тоже был у Бегишева, задержался у Оскара — они когда-то вместе служили в Афганистане. Они не хотели много пить, но все же выпили. Так бывает со старыми друзьями.
И когда «Рубен Симонов» стал менять курс, первый помощник решил было, что изменился ветер. И даже сказал Бегишеву:
— Смотри, а ветер изменился, теперь в правую скулу бьет, видно, нам дольше придется до Готланда топать.
И они выпили по маленькой за то, чтобы поскорее добраться до Готланда. Помощник знал, что Оскару надо помочь. А в детали он не вдавался.
В четыре утра никто по доброй воле не выйдет на мостик. Так что все, кто не был на вахте, спали, доверившись приборам и опытным кормчим.
А «Рубен Симонов», сменив курс и сделав это осторожно — не явно и не резко, шел уже не к Готланду.
Рулевой отошел от штурвала — все равно приборы поддерживали заданный курс — и склонился над подсвеченной снизу картой, на которой зеленой точкой медленно двигался теплоход.
— Через пять минут, — сказал он, — можно будет начать побудку.
— Но еще не начало светать, — сказала Татьяна. — Может, нам подождать до света?
— И не мечтай. Пока туман и темень, нас никто не поймает. Мы увидим этот чертов ящик, я ручаюсь. Главное — следить за Бегишевым. А на Бегишеве и его бабе есть наши передатчики.
Прошло пять минут.
Ничего не изменилось. Ровно урчали двигатели теплохода.
Морозный воздух врывался в щель иллюминатора. Сквозь сон Андрей подумал: «Встать бы, закрыть иллюминатор, а то можно простудиться».
Но тут же, не додумав, заснул.
Именно тогда рулевой указал ногтем на точку на подсвеченной карте и сказал:
— Татьяна, посмотри на показания лота.
— А где они?
— Господи, сухопутные крысы! — Рулевой подошел к прибору.
— Ну и что? — спросила Татьяна.
— Вы бы все оделись получше, — сказал рулевой. — В море брызги, в море холодно.
— Мне идти? — спросила Татьяна.
— Иди, мы с Гаврилиным управимся.
Если бы осветить мостик да приглядеться к рулевому, Андрей бы узнал в нем Мишу Глинку, авантюриста и монархиста. Но члена Союза писателей. На его долю выпала ответственная работа. К счастью для захватчиков корабля, он с отличием окончил мореходку и имел профессию «штурман».
Показания лота Глинку порадовали: все получилось точно как рассчитывали.
Впереди была банка, за ней промоина глубиной в тридцать метров, затем изрезанные берега прибрежных островов.
Но главное — банка. Судя по всему, она была длинной и широкой — не обогнешь. Ее обозначали бакены, но кто их увидит в такую туманную темень. Увидел их только штурман Глинка. И убедился в том, что правильно ведет теплоход с писателями и прочей отдыхающей публикой.
— В любую минуту, — сказал он Татьяне. — В любую минуту будет удар. Держись как следует.
Он велел машине сбросить ход до малого.
И все равно удар был силен.
И даже страшен.
Потому что большим теплоходам не положено ползать по земле, а тем более по камням.
Самым страшным был скрежет.
Это рвалось днище «Симонова», это прогибался стальной корпус, это изгибались переборки.
Миша Глинка поморщился. Ему бы не хотелось, чтобы кто-нибудь пострадал. Он не был бандитом.
И хоть крушение «Рубена Симонова» придумал именно он и даже выбрал для этого место и время, мысль о том, что он кому-нибудь причинит боль, была ему отвратительна.
Но, к счастью, скорость теплохода была невелика, банка полога и достаточно далека от поверхности, и теплоход влез на нее, накренился и замер, не развалившись, не опрокинувшись — лишь потерпев настоящее крушение.
Глинка мог радоваться — своими руками он совершил кораблекрушение. Это мало кому удавалось сделать.
Постепенно стихал скрежет и грохот погибающего корабля. И чем тише становились стоны «Симонова», тем громче были крики разбуженных и смертельно перепуганных людей.
Господи, он никогда не предполагал, что несколько сотен человек могут одновременно и так отчаянно вопить.
— Ну останови их! — крикнул Глинка.
Татьяна сама замерла, слушая крик.
И сказала невпопад:
— Как на «Титанике».
— Только мы не потонем, — возразил Глинка.
— Это мы с тобой знаем, а они думают, что утонем.
— Включай внутреннюю связь, — сказал Глинка. — Мне надо поговорить с народом.
Андрей проснулся от скрежета, но не настолько испугался, чтобы вскочить. Он лежал и старался сообразить, что же происходит. Ведь такой грохот и скрежет означает столкновение, удар о берег, но не смерть в морской пучине… Впрочем, он не формировал для себя спросонья эти страхи — он просто лежал и ждал, что же будет дальше.
Корабль дергался, прорывался вперед, словно автомобиль, который застрял на плохой дороге и старается выбраться на сухое место, но неожиданно, видно, попав в глубокую промоину, автомобиль принялся крениться, словно вот-вот опрокинется.
Только тут Андрей испугался.
Он вскочил с койки — было темно, лампочка на столике погасла. В темноте он шарил руками, разыскивая одежду — брюки нашлись, но ботинки заехали глубоко под койку…
Корабль вздохнул, рванулся еще раз и замер, косо лежа на дне моря.
Крики снаружи были ужасны — это были крики тонущего корабля, и они многократно усилились, когда корабль-теплоход замер и замолкли его машины.
Крики неслись отовсюду — они прорывались сквозь ярусы и переборки, врывались в каюту из коридора и перемежались с топотом ног и тупыми ударами непонятного свойства.
Наконец ботинки нашлись — а где куртка? Черт побери, он натянул ботинки без носков! А как теперь найдешь носки? Хорошо еще, что ботинки теплые, зимние. А где куртка? Без куртки снаружи делать нечего — Андрей уже не сомневался, что придется выбираться наружу.
Ему однажды в жизни пришлось оказаться на тонущем корабле. Тогда было теплое южное утро, теплоход тонул на Черном море, и светило солнце.
Постепенно ужас вползал в мозг Андрея все глубже.
Может, виной тому были темнота и неизвестность, может — вопли, может — непослушная одежда…
И тут как спасение, как глас Божий, дающий возможность прийти в себя и сориентироваться во времени и пространстве, возник звук. Звук был голосом.
Голос звучал по внутренней связи, по той самой обычной, житейской внутренней связи, которая просыпалась порой, чтобы объявить близкую стоянку в Копенгагене, задержку с обедом или общее собрание писателей в салоне на третьей палубе.
— Вниманию пассажиров, — звучал знакомый голос, вернее всего, Андрей слышал его раньше на этом же теплоходе. — Вниманию пассажиров и членов экипажа. Наш теплоход потерпел аварию и сел на мель. Расстояние до берега несколько сотен метров, жизни и имуществу ничего не угрожает. Однако капитан настойчиво рекомендует пассажирам занять места в шлюпках соответственно шлюпочной тревоге, не рекомендуется брать с собой вещи, так как они останутся на борту в полной безопасности. Шансы за то, что «Рубен Симонов» останется на плаву до подхода спасательных судов, весьма велики. Членам команды занять свои места согласно аварийному расписанию и обеспечить безопасную эвакуацию пассажиров на берег.
Голос оборвался, словно диктор размышлял, все сказано или нет.
Пока он говорил, на теплоходе царила тишина.
Но стоило ему замолчать, как крики и шум возобновились, правда, они изменились, потому что это были уже не крики ужаса, а деловитые, хоть и перепуганные голоса людей, бегущих от смертельной опасности. Но по крайней мере они знали, куда им бежать.
Андрей понимал, как понимали и все остальные пассажиры, что голос его успокаивал.
Такова должность радиоголосов — успокаивать. И чем больше опасность, тем спокойнее и даже веселее должен быть текст по внутренней сети. Мы тонем? Ничего подобного, мы споткнулись о камешек. Нам угрожает опасность? Ни в коем случае! Нам прыгать за борт? Нет, мы совершим легкую прогулку на шлюпках — только оставьте свои пожитки на борту, они помешают вам любоваться окрестными видами!
Из сказанного Андрей извлек для себя такую информацию: «Симонов» сел на камни, которые именуются мелью. Возможно, он тонет, а возможно, еще некоторое время пробудет на плаву. К счастью, берег недалеко, но в море шторм, и вряд ли многие доберутся до берега живыми. Может, он преувеличивал опасность, но лучше преувеличить ее, чем спокойно ожидать смерти.
Андрей поднялся с койки — пол был наклонным, в сторону иллюминатора.
Андрей сделал два шага, чтобы выглянуть наружу.
Если уже светало, то это было почти незаметно. Или иллюзию рассвета рождали проплывающие совсем близко клочья тумана. Когда они расходились на секунду, была видна черная беспокойная вода — короткие волны, с размаху бьющие о борт.
И вот эти злые короткие волны испугали Андрея больше всего, так как он понял, что ему придется прыгать туда, вниз, к ним, и оказаться в их милости.
Что надо взять с собой?
Андрей начал спешить, и его подталкивало к этому происходящее с «Симоновым». Теплоход вздрагивал, дергался, замирал и снова старался вырваться, но не настойчиво, как раньше, а вялыми движениями смертельно раненного животного.
«Черт с ними, с вещами. Слава богу, нашлась куртка. По крайней мере не замерзну на палубе».
Он пошел к двери и чуть не сломал ногу — оказывается, в проход между койками свалились какие-то вещи; пришлось карабкаться через них, пробиваться к двери, к тому же и дверь удалось открыть не сразу — ее придавило вещами.
Андрею привиделось, что он сейчас откроет дверь и оттуда в каюту хлынет поток воды.
К счастью, ничего подобного не случилось.
В коридоре было сухо. И даже горела под потолком лампочка — неярко, но горела.
Дверь в каюту напротив была приоткрыта. Там в темноте возились, спешили, собирались литовцы, негромко переговариваясь или ссорясь.
Андрей поспешил по кривому полу коридора.
Впереди стоял шум.
Вот и площадка перед выходом на палубу.
В обычное время здесь ярко горит свет над стойкой портье, украшенной рекламными плакатами.
Вокруг кипела толпа — даже трудно представить, сколько, оказывается, таилось людей в каютах «Симонова», и все они сейчас оказались здесь. Разумеется, никто не послушался диктора, который просил оставить вещи в каютах. Наоборот, предупреждение как бы подтолкнуло всех тащить чемоданы с бесценным барахлом, сумки с копенгагенскими покупками, драгоценные библиотеки, состоящие из своих произведений.
Люди нажимали на матросов, кое-как одетых и растерянных, которые старались удержать эту дикую толпу от попытки вырваться на палубу в поисках шлюпок.
— Внимание! Нам ничего не угрожает! — снова кричал голос в динамике. — Мы крепко сидим на мели. Желающие даже могут остаться на теплоходе в ожидании помощи, хотя мы рекомендуем на всякий случай перебраться на берег. Члены команды на палубах покажут вам шлюпки, в которых вы будете эвакуированы. Будьте спокойны, товарищи, вашей жизни ничего не угрожает.
Эти слова, этот нарочито спокойный, даже с издевкой голос вызвал к жизни новую волну паники. Толпа засуетилась, как суетятся муравьи, если в муравейник сунуть палку.
Андрей понял, что был единственным, кто подчинился требованию диктора не брать с собой вещей. Даже фотоаппарат он оставил в каюте. Жалко его, хороший «Олимпус», с трансфокатором…
— Ты только скажи мне, — спросил Миша Кураев, одетый тщательно, с сумкой через плечо — словно с вечера готовился к крушению и взял с собой все, что необходимо. — Как может лайнер настолько сбиться с курса, чтобы врезаться в какую-то банку? Я тут не новичок и внимательно изучил карту. Мы должны быть сейчас в открытом море, далеко от берегов. Напились они, что ли?
— В сущности, на нашу судьбу это не повлияет, — сказал Андрей.
— А я человек дотошный и вижу в этом чью-то злую волю. Попробую-ка подняться на мостик.
— Если у нас есть время.
— Пока что «Симонов» не ушел в воду, — ответил Кураев. — Кажется, он действительно сидит на банке.
Кураев исчез в движущемся скопище людей — может, и в самом деле отправиться на разведку, пренебрегая собственной безопасностью, но тут же рядом с Андреем обнаружилась Антонина.
— Ты где пропадал? — кричала она, размахивая полной белой рукой. Почему-то она была в халате и бигуди. — Мы же тонем, а ты гуляешь! Тебя Оскар ждет!
Она выскочила из толпы и потянула Андрея за собой.
— Успеем! — повторяла она. — Успеем, нам специальную шлюпку выделят. Уже все готово.
Она потянула Андрея не к каюте Бегишева, как тот ожидал, а по лестнице вниз, против движения толпы.
Она была вне себя и выкрикивала фразы, вроде бы не связанные между собой, но несшие некий общий смысл:
— Вы только подумайте — капитана нигде не видать, политрук еще в себя не пришел. Это не Готланд, понимаешь? На мостик звонили, всюду звонили, непонятно, кто командует, а политрук — как невменяемый. Матросы есть, ты не беспокойся, матросы найдутся. Главное — ящик доставить на берег, а вся связь, как назло, вырубилась. Только наши и два матроса.
Тут Андрей увидел капитана и еще нескольких корабельных чинов, которые бежали им навстречу, обгоняя пассажиров.
— А вот и ты! — завопила Антонина. — Где тебя носило?
— Да отвяжись ты! — огрызнулся капитан, не останавливаясь. Андрею показалось, что даже усы отстали от капитана и несутся отдельно, вслед за ним.
— Кто это сделал? — требовала Антонина. — Чьих это рук?
Капитан промчался дальше, остановить его не удалось.
На самом деле капитан все еще оставался в неведении. Когда он проснулся полчаса назад, его каюта была заперта, а связь отключена. Он выломал дверь и кинулся на мостик. Там было пусто. Никого. Потом нашлись запертые рулевой и штурман. Они-то и сообщили, что на мостик ворвались какие-то террористы в чулках на головах, как в гангстерских фильмах, избили их и заперли. Вот и все.
Капитану не оставалось ничего иного, как организовать спасение пассажиров и выяснить наконец, грозит ли «Рубену Симонову» гибель, или он останется на поверхности Балтийского моря.
Пока обследовали машинное отделение, трюмы и внешнюю обшивку, прошли ценные минуты, и паника, без того хозяйничавшая на борту, стала неуправляемой.
Тут же на мостике появился и сам Бегишев, который был способен думать лишь о своих проблемах. Утешительным речам капитана, убежденного к тому времени в том, что «Симонову» гибель не грозит, он, конечно же, не поверил. Капитан уговаривал его не торопиться, а Оскар требовал самую большую шлюпку, чтобы срочно плыть к берегу.
Капитан был в бешенстве. Представьте себе — ваш корабль терпит бедствие, а некий толстосум полагает, что распоряжается на борту именно он. Капитан и без того понимал, что придется поплатиться карьерой. Вряд ли оставят ему лицензию, если он умудрился в сносную погоду, на проторенных трассах посадить судно на камни.
Так что первый напор ничего Оскару не дал.
Но Оскар не привык сдаваться. Тем более что весь круиз был затеян именно для него, а капитан был лишь одним из обслуживающих лиц.
Бегишев вызвал на мостик первого помощника. Тот был верным его прихвостнем и не боялся за свою карьеру, которая проходила по иному ведомству.
Помощник серьезно поговорил с капитаном, и тот понял, что есть вещи поценнее карьеры.
В результате капитан согласился отпустить с Бегишевым политрука, выделить ему шлюпку и двух матросов, которые не были матросами, а составляли ближайшее окружение первого помощника.
…Палубу озаряли лишь редкие, тревожные, неверные огни аварийного освещения да бегающие лучи ручных фонарей команды. Матросы пытались распределить пассажиров по шлюпкам, а пассажирам казалось, что шлюпок на всех не хватит.
— Алик мое манто возьмет, — вдруг заявила Антонина, — я ему с самого начала велела. А сама за тобой побежала. Без мадам Парвус на шведском берегу делать нечего. Мы у нее в лапах. И ты как переводчик наших интересов выходишь на первый план.
Люди то встречались толпами, то коридор вдруг пустел — ни одной души, даже страшно.
У разбитой витрины валютного магазина стоял Миша Кураев и курил.
В «валютке» горел свет.
— Ты чего! — крикнула Антонина. — Утонешь!
— Не утонем, я знаю, у меня опыт, — отозвалась изнутри «валютки» продавщица. — А оставить добро я не могу. Подотчетное и в валюте. Мне за всю жизнь не расплатиться.
— Тогда ты беги! — Антонина потянула Кураева за рукав.
Писатель снисходительно улыбнулся.
— Джентльмены не оставляют в беде блондинок, — сказал он.
«Наверное, ему страшно, — подумал Андрей. — Но куда менее страшно, чем прочим, потому что есть человек, который без Миши попросту умрет со страха. А с Мишей они выкарабкаются».
Андрей хотел сказать что-то умное и доброе, но «Симонов» вдруг покачнулся, словно устраивался удобнее на камнях, крен усилился.
Антонина кинулась бежать. Кураев подтолкнул Андрея в плечо, чтобы не отставал от нее.
Блондинки были в беде.
И тут их путешествие по теплоходу завершилось. В лучах фонарей, в свете мерцающей на мачте лампы, в первых робких проблесках рассвета Андрей различил тесную группу людей.
Все свои.
Даже больше, чем все.
Когда Андрей подошел поближе, Бегишев разглядел его и сказал:
— Молодец, Берестов, я в тебе не сомневался. Можешь рассчитывать на премиальные.
Внутри группы люди Бегишева скрывали драгоценность — железный ящик, который требовалось спасти.
Они вели себя как муравьи, которые скрывают от опасности царицу.
Выглядели они внушительно. Два или три матроса в пластиковых куртках и сам их шеф — первый помощник. У них, наверное, есть кое-что получше, чем дубинки. Там же были Алик, Бегишев, механик, который вчера осматривал ящик, и, конечно же, сам Ильич. Он выглядывал из-за плеча Бегишева. Пальто было застегнуто на все пуговицы, шарф обмотан вокруг воротника, кепочка на глаза — Ильич успел приготовиться к эвакуации.
Впрочем, Андрей кого-то мог упустить. Где госпожа Парвус? Здесь! Ее рыжая голова, обмотанная полотенцем, торчит сзади.
По договоренности с помощником все заняли места в шлюпке до того, как ее на талях опустили на воду. Бегишев опасался конкурентов — только когда его рой целиком окружал ящик, он чувствовал себя в безопасности.
Шлюпка ударилась о волны, холодной водой плеснуло внутрь, еще раз, еще… завизжала мадам Парвус. Антонина накрылась шубой с головой. Подобно легендарному страусу, ей было спокойней, если ничего не видишь.
В шлюпке, большой и просторной, оказалось много свободного места, и Андрей вдруг сообразил, что она предназначалась для куда большего числа спасенных.
Это пришло в голову не только ему.
Сверху, с палубы, кто-то кричал:
— Вернитесь! Людей взять надо!
— Давай отчаливай! — крикнул Бегишев. — Нашел кого слушать.
Шлюпку мотало на волнах и даже один раз ударило о борт теплохода, хотя матрос упирался в борт веслом.
Но тут мотор схватился, и, набирая скорость, лодка пошла прочь от «Рубена Симонова».
Капитанский катер, о котором не положено думать до тех пор, пока корабль не ушел под воду, приспособленный для особых поездок и чрезвычайных ситуаций, покачивался с подветренной стороны.
В нем было всего пять человек.
Но в отличие от шлюпки Бегишева, в которой собрался некий небоеспособный Ноев ковчег, все пятеро на катере были вооружены, обладали некоторым опытом, хотя бы потому, что недавно захватили «Рубена Симонова».
Кроме того, существенная разница между экипажами двух суденышек состояла в том, что дюжина обитателей шлюпки была растеряна, если не напугана, и не представляла, куда их вынесет бурное море и почему сел на мель такой большой теплоход.
Пятеро в катере знали, что катастрофа была частью продуманной операции.
Если бы вы задали вопрос Татьяне, почему все произошло, то она бы сухо улыбнулась и ответила примерно так: «А как иначе добраться до шкатулки? Пока она на борту, мы даже не можем ее отыскать. Бегишев так ее спрятал, что потребовалась бы рота таможенников. А в Питере в порту Бегишев организует такую охрану, что мы сможем лишь помахать издали рукой — прощайте, драгоценности короны! Нам надо было отыскать ящик до Питера, в открытом море и как можно скорее. Мы не были уверены, что Готланд не включен в планы Бегишева. А что, если ящик исчезнет на том острове?
В нашем распоряжении было несколько часов. Мы шли на страшный риск. В лучшем случае мы бы оказались в шведской тюрьме, в худшем — могли погибнуть. Но отступать некуда. А рисковать мы уже привыкли. Решено было захватить «Симонова», благо никто именно этого не ожидал, захватить его ровно настолько, чтобы посадить на банку. Важно было лишь точно рассчитать.
Компьютер в каюте Анастасии Николаевны показал нам точку, где все можно сделать, и сообщил точное время — ни секундой позже, ни секундой раньше.
Дальнейшее зависело от цепочки случайностей.
Удалось быстро и без шума обезвредить рулевого и штурмана. Наши люди ушли с мостика, как только «Симонов» сел на камни. Сел, не развалился и не утонул — ведь и это могло случиться.
Теперь надо было успешно провести последний этап нашей безумной операции — узнать, куда Бегишев положит вытащенный из тайника ящик, и проследить за ним».
Может быть, по меркам Тихого океана волнение и ветер не были очень сильными, по крайней мере внутрь шлюпки вода не попадала, но порой она проваливалась между волнами так, что перехватывало дух, а потом начинала карабкаться на следующую волну, словно на Эверест, оттуда падать — удовольствие маленькое.
Антонина закуталась в шубу — темный комок на дне, другие сжались в общую кучку, матрос и первый помощник управляли лодкой — один был у руля, второй у двигателя, третий матрос сгорбился на носу, вглядываясь вперед.
Начало светать, но пользы от этого света было мало — из темноты появились фигуры и лица пассажиров шлюпки, а вот на десяток метров вперед ничего нельзя было увидеть.
Иногда из темноты возникала какая-то другая шлюпка, оттуда окрикивали, спрашивали, куда плыть, — не во всех шлюпках были матросы. Но первый помощник приказывал не отвечать.
У него на руке был светящийся компас, и вроде бы еще компас был прикреплен к мотору. Холод стоял ужасный. Хоть воды в шлюпке не набралось, все промокли, ветер и туман были пронзительно мокрыми, как бывает холоден мокрый лед. Порой из тумана долетали голоса — в шлюпках перекликались. Некоторое время, если оглянуться, можно было увидеть огни «Рубена Симонова». Он так и не утонул.
— Господи, ну почему я не осталась на «Симонове»! — вдруг воскликнула Антонина, высунув встрепанную голову из-под шубы.
— Что она кричит? — раздраженно спросила госпожа Парвус.
— Ей холодно, — сказал Андрей.
Теннисист преданно обнимал мадам Парвус.
— Всем холодно. Мне — холоднее других.
— Что здесь за берег? — спросил Бегишев у госпожи Парвус. — Здесь есть какие-то города?
— Ну как я вам скажу! — ответила мадам Парвус. — Я не имею представления, на сколько километров мы отплыли от Стокгольма. Вернее всего, это место не людное, но цивилизованное. Здесь по шхерам раскиданы охотничьи домики, даже коттеджи. Ничего я не знаю!
— Нам надо где-то укрыться, — сказал Бегишев.
Он перебрался поближе к госпоже Парвус и говорил ей шепотом, так что Андрею приходилось склонять к нему голову, чтобы услышать.
— Вы лучше мне объясните, — не выдержал Андрей. — Все равно без меня она не поймет.
— А ты старайся, — одернул его Бегишев.
Нет, он не был напуган или растерян. Он планировал свои следующие шаги.
— До берега недалеко, — сказал Бегишев, — мне первый сказал, что недалеко. Через полчаса будем там, если не промахнемся. А потом в нашем распоряжении будет не больше часа. Ты переводи, Андрей, переводи, я на мадам надеюсь.
Госпожа Парвус покачала головой, полотенце развязалось, и конец его ниспадал на плечо, как деталь кокетливо завязанной чалмы.
— Значит, за полчаса на берегу надо или надежно упрятать ящик, или найти машину, которая отвезет к финской границе. У нас с Антониной есть финская виза.
— Нет, — возразила мадам. — Финляндия меня не устраивает.
— Что же тебя устраивает?
— Не бойтесь, — сказала госпожа Парвус, — есть выход. Здесь есть маленький курорт. Там живет кузина Сержа.
Серж согласился с тем, что у него есть кузина.
— Мы остановимся у них.
— Может быть… — сказал Бегишев. — Может быть, это выход. Главное для нас — не дать себя спасти.
— Что вы имеете в виду?
— Через час на побережье появятся спасатели, а в небе от вертолетов свободного места не останется. Вы же понимаете, какая сенсация — колоссальный русский теплоход терпит крушение в шведских шхерах. Количество жертв неизвестно и, возможно, исчисляется тысячами!
— Что ты кричишь! — упрекнула Бегишева Антонина.
Она была похожа на какую-то птицу с пышными перьями и голой шеей. Может, на кондора. Проснется, вытянет шею и каркает.
— Я боюсь, что не переживу это ужасное путешествие, — тонким стариковским голосом запел Ильич. — Мне надо сделать политическое завещание.
— Еще чего не хватало! — откликнулся Бегишев. — Ты нам в Москве пригодишься. Мы с тобой еще такие дела прокрутим, ты сам себе не поверишь!
— В самом деле? — Голос Ильича окреп.
— А пока помолчи, Иванов, — приказал ему Бегишев.
Он сделал ударение на последние слова, как бы ставя вождя на место, затем снова обернулся к мадам:
— А где живет эта кузина? Ты сможешь найти ее?
— Если мы высадимся на берег, — сказала мадам, — то я смогу сориентироваться. Ведь у моряков есть карта?
— У вас карта есть? — спросил Бегишев.
— Постараемся, — ответил первый, и неясно было, есть у него карта или только уверенность в своих силах.
— Мне кажется, что впереди берег, — сказал Ильич, который был дальнозорким.
Все стали смотреть вперед. Там было темно. Андрею показалось, что он видит белую полоску прибоя.
Где-то неподалеку постукивал двигатель — наверное, еще одна шлюпка шла в том же направлении.
Бегишев тоже услышал стук мотора и сказал:
— А вот свидетели нам ни к чему.
— Тут деревья, — сказала госпожа Парвус. — Я здесь бывала. Сосны и камни. Тут легко спрятать ящик на время. Под охраной.
— Может быть, — сказал Бегишев. — Пока мы будем искать твоих родственников или местного слесаря.
— Опять слесаря! — проворчал Ильич. — Мы уже искали слесаря.
— А что же делать, если ты простых вещей запомнить не можешь.
— Каких вещей? — удивился Ильич.
— Где ключ спрятал!
— У меня нет памяти предыдущего рождения! — заявил Ильич гордо, словно это было его собственным высшим достижением.
— Он не настоящий Ленин, — сказала Антонина. — Он притворяется.
— А отпечатки пальцев? — возразил Ильич. — Кто подделает отпечатки? Да если бы не я, вы и близко к ящику бы не подошли.
— Сидели бы дома, — вдруг вступил в разговор Алик. — Играли бы в покер. Вся ваша жизнь — игра.
— Тоже мне философ! — рассердился Ильич. — Тебе деньги платят, чтобы охранял.
— Мальчики, мальчики! — прикрикнула на них Антонина. — Впереди берег, точно впереди берег.
Все замолчали, вглядываясь вперед. Белая полоса прибоя стала отчетливо видна, и сосны топорщились черным на фиолетовом небе.
В тишине был слышен звук мотора. Он пронзил туман и тишину, как будто неподалеку крутили старинную швейную машинку.
— Черт побери, — сказал первый помощник. — Это капитанский катер.
— Почему бы не быть тут капитанскому катеру? — спросила Антонина.
— Нет, — ответил первый. — Капитан должен остаться на борту.
— Может, он его покинул, — сказал Бегишев.
Но встревожился.
Затем, как бы желая перекрыть неприятный для себя звук, он сказал:
— Первыми выходят Алик и Андрей. Мы им передаем ящик. Они бегут наверх, подальше от воды. К деревьям. Там кладут ящик и не отходят от него даже под страхом смерти. А мы ищем укрытие.
Было слышно, как волны ударяются о торчащие из воды камни.
— Поосторожнее веди свой корабль, — велел Бегишев первому помощнику. — Не потопи нас у берега.
Он оказался пророком.
Первый помощник не увидел камни, которые скрывались под волнами. Один из них ударил по днищу. Удар был тупой и противный. Шлюпку развернуло и поставило боком к берегу и волне.
Ее тут же накренило. Волной плеснуло через борт. Антонина заматерилась — ей досталось больше всех.
Шлюпка подпрыгнула и помчалась к берегу на следующей волне. Все смотрели вперед и не обратили внимания на то, как близок капитанский катер — даже в полумраке его можно было разглядеть невооруженным глазом.
Шлюпка ударилась о другой камень и вонзилась носом между двумя громадными валунами, не добравшись до линии прибоя нескольких метров.
— Всех уволю! — рычал Бегишев. — Простой вещи сделать не смогли.
Шлюпку било волнами.
— Быстро на берег! — приказал Бегишев.
Белыми полосками кто-то чертил по туману. Андрей понял, что это несутся снежинки.
— Сначала бабы! — крикнул Бегишев.
И тут Андрей увидел капитанский катер. Он хотел сказать об этом Бегишеву, но шум от волн был такой, что трудно перекричать. В конце концов, его сейчас увидят все — мало ли кто пристает к берегу. Скоро здесь и другие шлюпки пристанут. Андрей перевел для госпожи Парвус:
— Сначала выходят женщины.
— Неужели кто-то вспомнил о вежливости? — ответила мадам. Она крупно дрожала — ей пришлось несладко.
За ней кинулся теннисист, и никто не стал его останавливать. Им пришлось прыгать в воду — по колено одним, по пояс другим, — здесь у берега было много камней, дно было неровным и скользким.
Теннисист поддерживал госпожу Парвус и помогал ей выбраться на берег. Антонина рвалась сквозь пену сама, но шуба тянула ее назад и сковывала движения. Ее повело в сторону, она грохнулась в воду, и Андрей понял, что никому до нее сейчас и дела нет.
— Бери ящик! — кричал Бегишев.
Может, он рассчитывал на Андрея, но Андрей уже был за бортом — вода обожгла безжалостным холодом. Сейчас бы выпрыгнуть на теплый — относительно теплый — воздух!
Андрей дотянулся до Антонины и потащил ее на берег — она была вялая, тяжеленная, беспомощная, только чуть шевелила руками. Наверное, глотнула ледяной воды. Андрей подталкивал ее к берегу, а Бегишев сам тащил ящик, прижав его к животу, рядом спешил Алик и поддерживал Бегишева.
Берег был уставлен и усыпан камнями. Между ними текли струйки светлого песка, дальше начиналась редкая трава и в ней сосновые иглы.
Что-то Андрей смог увидеть, что-то домыслил.
Он и не очень-то приглядывался — лишь заметил сосновые шишки и подумал — нельзя класть Антонину на шишки, ей будет больно.
И еще Андрей успел позавидовать Бегишеву. Куда лучше тащить неподвижный и смирный ящик, чем волочить Антонину.
Хоть бы кто-нибудь помог! Но все настолько заняты собственным спасением, что и не видят Андрея.
Впрочем, эти мысли мелькали в мозгу столь быстро, что и сформироваться толком не успевали. Главное — вытащить на сухое место Антонину и кончить это бредовое путешествие.
В какое-то мгновение все вокруг исчезает — кусты, камни, шум моря, удары волн, ветер в ветвях сосен, — ты становишься центром Вселенной и как бы закукливаешься в своих переживаниях.
Потом было бы нелегко восстановить картину происходящего.
Зато на катере был бинокль ночного видения, обычная армейская модель. Так что они, в катере, пристав к берегу, видели, как громоздкий Бегишев зеленой тенью прыгает по камням, а рядом в такт прыжкам движется Алик. Они вытащили и ящик, который Бегишев прижимал к брюху, они видели, как бессмысленно движутся к соснам остальные члены команды Бегишева, не считая матросов и первого помощника, которые пока оставались в шлюпке, потому что иных указаний никто им не дал.
Бегишев, столь предусмотрительный обычно, на этот раз потерял ориентиры — кораблекрушение, шлюпка, темнота, ветер, крики, — в его сознании умещался лишь ящик, в который он вцепился. Об опасности извне он не думал, ему казалось, что противники растеряны, как и он сам, и заботятся лишь о своем спасении.
Мысль о том, что все это крушение, все беды созданы искусственно ради того, чтобы ограбить Бегишева, ему в голову не пришла.
Его широкую спину не выпускали из виду сразу три преследователя. В полутьме он их не заметил и не догадался, что они вооружены и устремлены к цели.
Первой бежала Татьяна.
Она знала, что добудет ящик и ничто ее не остановит; даже если бы сейчас возникла необходимость взорвать детский дом — она не усомнилась бы в своих действиях.
Разумеется, если следовать законам ковбойских или рыцарских историй, Татьяна либо ее спутники должны были крикнуть Бегишеву:
— Кидай ящик, или я стреляю!
Но так поступить — это риск, Бегишев спрячется и сам начнет стрелять. Или к нему на помощь ринутся его дружки.
Поэтому Татьяна не стала рисковать, а когда спина Бегишева приблизилась настолько, что промахнуться было невозможно, она на секунду остановилась, чтобы прицелиться.
Спина была как цель. Как нечто неодушевленное.
Но на самом деле Оскар был не только живым, но и чутким человеком. Он почувствовал смерть.
Он резко обернулся, и, будь Татьяна менее решительна, она могла бы промахнуться… А Татьяна выстрелила.
И выстрелила в глаза Бегишева — они были такие белые и бешеные на темном лице!
Бегишев постарался закрыться ящиком, который прижимал к животу.
Но он уже был мертв.
Татьяна стреляла еще и еще, а Бегишев не хотел падать, словно в этом была капитуляция, а капитулировать Оскар не умел.
Алик кинулся к шефу, решив, что тот споткнулся. Татьяна выстрелила в Алика и ранила его в плечо. Алик удивленно схватил себя за плечо — ему было больно.
— Ты что! — крикнул он. — Больно!
И тогда Алика убил другой преследователь.
Бегишев и после смерти не хотел расставаться с ящиком, поэтому убийцы потратили минуты три, стараясь отвалить в сторону его неподъемную тушу и достать из-под него ящик с драгоценностями.
Они взяли ящик и побежали обратно. Впереди — Татьяна, а за ней двое других, которые несли ящик.
Они пробежали совсем рядом с Андреем, стоявшим на коленях у бесчувственной Антонины. Он старался угадать, что же происходит вокруг.
Похитители ящика спешили и не стали стрелять в Андрея. Им было важнее дотащить добычу до катера.
Одного из них Андрей узнал, это был милый, душевный, интеллигентный Алеша Гаврилин. Второго Андрей не узнал, а может, помешала узнать рассветная мгла.
Странно, но к Андрею вернулось спокойствие. Все для него кончилось. Он может вернуться домой и больше не участвовать в кораблекрушениях.
Антонина застонала и, не открывая глаз, пробормотала:
— Холодно, как ужасно холодно!
— Сейчас за нами придут, — откликнулся Андрей.
— Шведы?
— Шведы.
— А наши, где наши? Что с Оскаром? Где ящик?
Андрей не ответил. Забормотал мотор катера, взревел, и тут же его звук стал удаляться. Катер уходил в море.
Может, к острову Готланд, где живет хороший слесарь, а может, к островку в финских шхерах, где ждут надежные люди.
Снова пошел снег.
— Я умираю, — сообщила Антонина.
— Тогда вставай и пошли. — Андрей больше не смог бы протащить ее ни шагу. — Если будешь сидеть, то или замерзнешь, или простудишь придатки. Давай поищем гостиницу. Здесь на каждом шагу гостиница.
Они пошли вверх от моря и прошли в десяти метрах от тел Оскара и Алика.
Эпилог
Апрель 1992 г
В девяносто втором особняки из красного кирпича, схожие с долговременными оборонительными сооружениями, вылезшими на поверхность земли, подобно каменным грибам, были еще редкостью.
Так что особняк, убивший деревянную довоенную дачку на Школьной улице в Челюскинской, как раз рядом с Домом художника, обоснованно прятался в тени высоких сосен и старых яблонь. Лишь подойдя поближе, можно было увидеть красные стены с окнами только на втором этаже. Что происходит на первом — вам никогда не узнать, потому что владелец особняка обнес его двухметровым непроницаемым забором, а поверху пропустил три ряда колючей проволоки. Этому тоже сегодня никто не удивляется. Значит, у владельца есть что скрывать. Не все же возводить такие заборы вокруг цековских дач или вилл интендантских генералов.
Железные ворота, покрашенные в отвратительную зеленую краску — память о временах социализма, — открылись в три часа дня. Они пропустили внутрь потрепанный «Москвич-412», потом через двадцать минут там появилась «шестерка». Еще несколько посетителей приехали на электричке. Очевидно, люди, которые жили или гостили в особняке, не хотели привлекать постороннего внимания или были небогаты.
Внутри участка многое осталось, как было при старых владельцах дачи, — старые яблони, сливы, давно не дающие плодов, грядки с первой, вылезшей из-под стаявшего снега зеленью. И несколько высоких сосен.
Весна еще только-только пришла в Подмосковье, и потому, если бы не зелень сосен, участок казался бы пустынным и негостеприимным.
Очевидным новшеством была асфальтовая дорожка, достаточная для подъезда автомобиля, и площадка за домом, где эти автомобили могли отстояться.
А так — пустота и тишина…
Внутри особняка все было не доведено до конца — не докрашено, не дочищено, стояли какие-то конторские стулья, явно списанные за ненадобностью, по полу длинного коридора протянулась вытертая дорожка, в спальне первого этажа стояло несколько раскладушек — некоторые были накрыты солдатскими одеялами, некоторые пусты. На тумбочках, навевающих мысли о казарме или пионерском лагере, были забыты немытые тарелки, а из пол-литровой банки торчал высохший букет.
Дом был не то что нежилым, а полужилым. Будто там ютились командированные и уезжали, забыв за собой прибрать, а уборщица всегда пребывала в отпуске.
Но в особняке была одна комната, которая разительно отличалась от остальных.
Там стоял овальный стол, вокруг него — кресла, черные, изящные, приглашающие; на серебристых стенах — старинные гравюры в тонких черных рамках. Эта комната точно подходила если не по стилю, то по крайней мере по уровню благополучия стенам особняка. Она — настоящее, остальное — либо декорация, либо доказательство того, что житейские заботы обитателей или посетителей дома не интересуют.
Посетители того дня сходились в гостиной. Они были одеты различно, большей частью небогато и скромно, вели они себя также сдержанно, и лишь немногие из них подходили к столу в углу гостиной, на котором стояли бутылки с напитками и бокалы.
Можно отметить, что никаких правил поведения там не существовало — каждый вел себя как ему нравилось, но в общем царила сдержанность и, можно сказать, солидность, даже странная для столь разнообразного общества.
Кого-то ждали, поглядывая на часы.
Вошел высокий сутулый усатый мужчина в поношенном сером костюме и предложил садиться.
Рассаживались неспешно, на места, которые, как заметил бы внимательный наблюдатель, уже были давно распределены.
— Не нам заниматься фокусами или удивлять друг друга сюрпризами, — начал свою речь сутулый мужчина, — но сегодняшний день войдет в историю человечества как день большой радости, истинного свершения. Я не буду отнимать время у вас и лавры у тех, кто свершил почти невероятное. Прошу вас, входите.
И тут в дверях появились две женщины.
Старуха, правда, хорошо сохранившаяся и прямая спиной, и молодая, скорее моложавая, рыжая женщина с резкими чертами красивого грубого лица.
— Нам не надо представлять наших героев, — сказал мужчина. — Но я хочу, чтобы все смогли насладиться видом добытых ими сокровищ. — Сутулый мужчина сделал знак, подняв руку и щелкнув пальцами.
Женщины скромно расступились.
Вновь раскрылась дверь, и вошел человек в униформе, судя по всему — охранник. Он нес большой квадратный поднос.
Подойдя к столу, охранник осторожно поставил поднос так, чтобы все собравшиеся смогли разглядеть, что на нем лежит.
А на подносе лежало несколько мешочков и груда бумажных пакетиков. Бумага постарела, пожелтела, кое-где треснула.
— Прошу вас, — сказал сутулый мужчина, словно приглашал друзей к обеду.
Сидевшие за столом протягивали руки к подносу и брали пакетики. Они открывали их и высыпали или выкладывали содержимое пакетиков на полированную поверхность стола.
Две женщины, пришедшие позже, стояли в сторонке и улыбались, получая удовольствие от этого странного зрелища.
Почти в полной тишине, нарушаемой только шуршанием бумаги, дыханием стариков и случайным кашлем, из пакетиков на стол ложились драгоценные камни, алмазные диадемы, изумрудные браслеты, рубиновые серьги — сокровище сказочное, так не вязавшееся со скромностью пакетиков и мешочков, в которых оно до того находилось.
Постукивали о стол кристаллики, позвякивали золотые цепи…
— Вы проводили оценку? — спросил почтенного вида старик в ермолке.
— Частично, — ответила рыжая женщина. — Все еще впереди.
— Это поправит наши дела, — сказал сутулый мужчина. — Мы можем рассчитывать на оживление нашей деятельности и на возобновление некоторых проектов, от которых отказались в связи с нехваткой средств. А сейчас… вы садитесь, садитесь, — слова относились к женщинам, пришедшим последними, — сейчас мы заслушаем рассказ о том, как вам все это удалось.
Начала говорить старуха:
— Я хотела бы сначала отдать должное заслугам и усилиям наших добровольных помощников, скромных монархистов, не знающих, конечно, всей правды, но достойно идущих на жертвы ради своих идеалов. Далеко не все из вас эти идеалы поддерживают…
— Мы обходимся без идеалов, слава богу, — сказал карлик с лицом как моток шерсти — все в длинных тонких морщинах.
— Мы — да. Другие — нет, — сухо поправила его старуха.
— Не волнуйтесь, Анастасия Николаевна, — обратился к ней сутулый мужчина. — Уважение к идеалам — это уважение друг к другу. Продолжайте.
— Когда мы поднялись на борт теплохода «Рубен Симонов», — сказала Анастасия Николаевна, — мы уже знали, что там находятся наши соперники, обладающие информацией не менее полной, чем наша, но информацией другого рода. И главное — у них была возможность получить шкатулку. — Анастасия Николаевна повела над столом тонкой ручкой — там, куда указал ее палец, поблескивали камешки и золото. — У них был один из нас. И не будем сейчас казнить друг друга, упрекать — это был сознательный выбор Владимира Ильича. Мы выходили с ним на связь еще до начала этой эпопеи — он в общих чертах знал о нашем существовании. Но он не захотел трудиться с нами в силу того, что им владеет неизбывная гордыня. Он полагал, что сможет достичь своих безумных целей, опираясь лишь на собственный ум и склонность к интригам.
— Он всегда был таким, — сказала Татьяна, которая стояла за спиной Анастасии Николаевны. — Он неисправим.
— Неисправим, — повторил сутулый мужчина.
— Вы его пригласили к нам сегодня? — спросила дряхлая женщина, похожая на очень старую черепаху.
— Он отказался, — вздохнул сутулый мужчина, — он сослался на нездоровье.
— Ах, какое нездоровье в его возрасте! — засмеялась старая черепаха. — Я жду не дождусь, когда стану такой же молодой, как он.
— Ох, это будет не скоро, — заметила Анастасия Николаевна.
Сутулый мужчина поднялся.
— Во-первых, — произнес он, чуть окая, глухо и медленно, — от имени всех членов нашего союза, союза величайших людей планеты, живущих вновь, ибо смерть отступает перед нами, от имени Союза бессмертных я выражаю глубокую признательность нашим достойным друзьям — Анастасии Николаевне Романовой, наследнице престола Российской империи, которая не пожалела сил и времени, рискуя жизнью ради всех нас…
Раздались аплодисменты.
Бессмертные, в чертах лиц которых можно было угадать величайших негодяев и тиранов, авантюристов и мыслителей нашего века, а также те бессмертные, чьи лица были никому не известны при первой жизни и неизвестны при второй, — все они хлопали в ладоши искренне и без зависти, ибо уже осознали силу своего союза и приветствовали подвиги во славу его.
В своем первом рождении они жили поодиночке и даже порой ненавидели друг друга. Но время почти всех научило мудрости.
— Во-вторых, я прошу вас выразить свою благодарность и восхищение человеку, который руководил всей этой немыслимой и невероятной операцией. Который не только выследил шкатулку, но и смог в ситуации, в которой достать ее было немыслимо, совершить это немыслимое.
— Не говоря о кораблекрушении, — сказала бабушка-черепаха. — По телевизору показывали.
— Где только не показывали, — сказал карлик.
— В шторм, ночью, в рукопашном бою он победил банду мафиози и обогатил наш союз.
— Я только возвратил семье Романовых ее драгоценности, — сказала рыжая красавица.
— Спасибо вам, Иосиф Виссарионович, — с чувством произнес сутулый мужчина. — Спасибо вам, наш дорогой. Простите, что называю вас вашим старым именем.
— Я не обижаюсь, — ответил Сталин. — В конце концов, и в женском теле есть свои прелести.
Все засмеялись и снова захлопали в ладоши. Среди них были и те, кто во втором рождении, по непонятным еще капризам реинкарнации, получил иной пол.
Вошел охранник.
Без предупреждения, без стука. Подошел к сутулому мужчине.
— Алексей Максимович, — сказал он. — Пора. Он испускает дух.
— Вы слышали? — спросил Алексей Максимович у собравшихся за столом. — Нам пора вниз. А вы, пожалуйста, — он обратился к охраннику, — соберите драгоценности и спрячьте в сейф.
Алексей Максимович первым направился в подвал.
Подвал был просторен, чист, разделен на несколько комнат, и, если бы не отсутствие окон, трудно было бы догадаться, что ты находишься под землей.
Алексей Максимович провел всех в запасную комнату, скрывавшуюся за медицинским боксом, стерильным и пахнущим озоном.
— У нас теперь будет настоящая клиника, — сказал он Сталину, пропуская его, как женщину, вперед. — Спасибо тебе, дружище, дорогой мой человечище!
Он стер со щеки набежавшую слезу.
В задней комнате или, вернее, палате на операционном столе лежал старый грузный человек. Он дышал прерывисто и часто, из горла доносился хрип.
— Вы куда? — окликнул появившихся в дверях гостей доктор в повязке, прикрывавшей нижнюю часть лица. — Здесь же стерильно! Вы мне все погубите.
— Остановитесь, остановитесь! — Алексей Максимович закрыл дверь спиной и стал оттеснять бессмертных в пахнущий озоном бокс.
Произошла некоторая сумятица — задние напирали. И вдруг всех заставил остановиться и замереть страшный крик старика.
— О, но! — кричал он и повторял все тише и тише… — Но, но, но-о-о-о…
Врач и помогавшая ему сестра склонились над раздираемым судорогами телом старика.
Бессмертные покорно отступили в коридор.
Но никто не ушел. Прислушивались к звукам, невнятным и страшным звукам, несущим смерть. Звукам, всем известным.
Говорить было трудно. Кто-то закурил, но Сталин вырвал у него сигарету и затоптал ее.
Послышался обиженный голос:
— Вы возвращаетесь к своим штучкам.
Все затихло в операционной.
И потом вдруг — через паузу, может, через минуту — раздался громкий светлый плач ребенка.
— Ура! — негромко сказал Алексей Максимович.
Великая княжна Анастасия широко перекрестилась.
Видно, понимая, что за дверью ждут вестей, акушер, принимавший рождение ребенка из тела умирающего старика, вышел к бессмертным.
Он держал новорожденного.
— Здравствуй, Наполеон Бонапарт! — окая, воскликнул Алексей Максимович. — Здравствуй, великий император. Виват!
Анастасия протянула руку, чтобы дотронуться до ребенка.
Врач отступил в палату, он не хотел, чтобы малыша трогали. Можно занести инфекцию.
— Пятый Наполеон, — сказала Анастасия. — Пятое рождение! Может, это опасно?
— Это может продолжаться вечно, — ответил Сталин. — Скоро и вы, Анастасия Николаевна, снова станете девушкой. И я поведу вас в школу, как младшую сестричку.
Никто не засмеялся.
Над особняком пролетел самолет, недалеко загудела электричка.
Начинался дождик, весенний дождик — он сожрет остатки снега под деревьями.
Внутри особняка, в гостиной, Алексей Максимович откупоривал шампанское.
2000 г.
УСНИ, КРАСАВИЦА
Глава 1
Стрельба на рассвете
Именно случайности, большей частью невероятные, правят нашей жизнью. Хотя мы и делаем вид, что невероятные случайности происходят крайне редко. События понедельника 14 февраля 1994 года полностью подтвердили этот тезис, который Лидочка не хотела выдвигать, но который выдвинулся сам по себе.
Невероятные события начались примерно в шесть часов утра. Лидочке пришлось встать в эту немыслимую рань, потому что Андрюша улетал в Каир на конференцию по коптскому искусству, а любящая жена была обязана приготовить своему рыцарю в дорогу сытный завтрак, проверить, не забыл ли он подтянуть подпругу, поправить перья на шлеме и вычистить «Пемоксолью» железные рукавицы, а потом, услышав, как к дому подъезжает такси, присесть на дорогу, помолчать ровно тридцать секунд и проводить мужа до выхода, нежно поцеловав его на прощание…
Лидочка подошла к окну, отодвинула занавеску, ожидая, когда Андрей покажется из подъезда. Возле машины он остановился, поглядел на кухонное окно и помахал Лидочке. Потом машина уехала, а Лидочка вернулась к столу допивать кофе. Было семь часов двадцать пять минут.
Допив кофе, Лидочка стала рассуждать, лечь ли ей досыпать или, раз уж поднялась, затеять уборку, которую собиралась устроить уже вторую неделю, но за делами, сборами и суматохой все откладывала. К тому же накопилась стирка, но включать стиральную машину, которая шумит, как самолет с четырьмя моторами, в половине восьмого утра нетактично — соседи решат, что началась война.
Лидочка стояла в неуверенности посреди кухни, когда услышала, что к дому подъехала машина. А так как переулок в такое раннее время обычно тих и транспорт без особой нужды сюда не заезжает, то она предположила, что Андрей таки умудрился забыть дома нечто жизненно необходимое. Она кинулась к окну. Оказалось, что подъехало не такси, а белая «Тойота», откуда вылезла Лариска из шестой квартиры, существо глупое, злое и красивое, а из другой дверцы появился толстощекий молодой человек без головного убора, причесанный на косой пробор, одетый в пальто на пять размеров шире, чем следовало. Толстощекий оперся на крышу машины со своей стороны и давал Лариске какие-то указания, а она кивала и переступала с ноги на ногу — очевидно, торопилась в уборную. Все это было мало похоже на расставание влюбленных, но в любви ведь главное — не манера расставаний и встреч, а то, что происходит между этими событиями.
В тот момент, когда Лидочка поняла, что эта сцена ее не касается, и намеревалась отойти от окна, в переулок ворвалась еще одна машина, вишневая «Нива». Толстощекий обернулся в ее сторону. Вторая машина затормозила, поднимая облачко пухового, выпавшего за ночь снега. Когда она, почти остановившись, поравнялась с белой «Тойотой», стекла с этой стороны опустились и оттуда высунулись руки. При свете уличного фонаря Лидочка успела сообразить, что в руках были пистолеты. Это смахивало на американский боевик, и Лидочка догадалась, что за этим кадром неизбежно последует второй — вспышки желтого огня из пистолетов, падающие фигуры, кровь на снегу…
Так и оказалось. Началась стрельба. Толстощекий что-то кричал и отмахивался от вспышек, как от пчел, завопила Лариска и побежала к подъезду. Вокруг Лидочки гремело и звенело, «Нива» рванулась вперед, и Лидочка кинулась было к двери, но, вспомнив, что она в халате и шлепанцах, побежала обратно к окну. На снегу расплылось темное пятно, но возле пятна никого не было. Лидочка увидела, что Лариска тащит толстощекого к подъезду, а его светлое пальто испачкано, рука безжизненно болтается, а с пальцев льется тонкая струйка крови. Лариска, надрываясь, упорно волокла мужчину, понимая, что оставлять раненого на улице в двадцатиградусный мороз дожидаться «Скорой помощи» было для него убийственно.
В кухне резко дохнуло холодом, и Лидочка поняла, что окно разбито — остались лишь острые ножи стекла, которые стремились к середине, в одном из ножей была круглая дырочка с лучиками: в стекло угодило несколько пуль, хотя Лидочка могла поклясться, что стреляли в толстощекого, а вовсе не по ее кухонному окну на втором этаже.
Одна пуля попала в раму и пропилила в ней ровную полукруглую канавку, а когда Лидочка стала обозревать кухню далее, чтобы определить, что же еще натворили в ее доме участники рассветных боев, то увидела, что ее любимый белый кувшин, который она лет шесть назад купила в Таллине, разбился.
Законопослушный обыватель обязан вызвать милицию, если под окном убивают людей. Лидочка смахнула с телефона осколки и белую фаянсовую пыль, набрала «02» и стала объяснять сердитой девице, что звонит со Средне-Тишинского переулка, но девица оборвала Лидочку, сказав, что сигнал уже прошел и оперативная группа выехала.
Именно в тот момент, обозревая кухню, Лидочка подумала о том, насколько обычны в нашей жизни невероятные совпадения.
Во-первых, маловероятно, что настоящее покушение с участием автомобилей, красавиц и миллионеров, а тем более в семь утра, произойдет точно под окном твоей кухни. Еще менее вероятно, что ты будешь стоять у окна, а случайные и неслучайные пули будут летать вокруг тебя, бить твои стекла и посуду. С другой стороны, можно подумать: «Как мне повезло, что Андрюша успел покинуть поле чужого боя за пять минут до его начала!»
Но невероятные совпадения того дня, из которых складывается наша обыкновенная жизнь, еще только начинались.
И они были скорее грустными, чем забавными. Разумеется, спать совсем расхотелось, и Лидочка стала ходить вокруг телефона и ждать, когда любящий муж позвонит из Шереметьева, чтобы сообщить, как хорошо он доехал до аэропорта, и она на это скажет ему, что только что вышла из-под обстрела. Потом Лидочка решила, что из Шереметьева дозвониться нелегко, но продолжала надеяться, только вынесла телефон в коридор и закрыла дверь на кухню, пока из квартиры не выдуло остатки тепла.
Раз телефон молчал, Лидочку подмывало позвонить кому-нибудь из знакомых и сообщить о том, что она пережила перестрелку. Но тех, кого она любила и кого могли заинтересовать ее приключения, было жалко будить. А тем, кого будить не жалко, было плевать на приключения Лидочки. Так что она накинула пуховик и возвратилась к окну, чтобы сверху наблюдать прибытие «Скорой помощи» и милицейского «жигуленка». Их встречала Ларискина мамаша в лисьей дочкиной шубе внакидку. Эта тупая страхолюдина просто лучилась счастьем, потому что оказалась в центре внимания.
К тому времени уже весь дом проснулся и был в курсе событий. Наверху топали, внизу слышались голоса, и все недостатки массового типового строительства в то незадачливое утро стали особенно очевидны. Можно было слышать, как время от времени хлопала входная дверь, и тогда Лидочка приклеивалась к окну, чтобы не пропустить продолжение этого увлекательного фильма.
Через какое-то время медики вынесли из подъезда носилки с раненым. Лариска бежала рядом. Несмотря на сопротивление врачей, она все же залезла в карету «Скорой помощи» и укатила в больницу со своим капиталистом — пожалуй, она решила полюбить его за муки.
Карета уехала. Стало уже совсем светло. В дверь позвонили, и Лидочка почему-то решила, что принесли почту.
Она подошла к двери и спросила:
— Почта?
Приятный баритон ответил вопросом:
— Ну какая может быть почта, гражданка, в восемь часов утра?
Лидочка внутренне согласилась и отворила дверь.
За дверью стоял милицейский лейтенант лет тридцати, высокого роста и самоуверенной красоты, выдававшей в нем не очень умного человека.
— Извините, — сказал он, не делая попытки войти в квартиру или совершить какое-нибудь иное насильственное действие. — Здесь на площадке холодно и дует, а вы практически босиком. Вернитесь, пожалуйста, в квартиру.
Этими словами он растрогал Лидочку, и та сказала:
— Заходите, заходите, вы, наверное, по поводу стрельбы?
Лейтенант вошел и остановился в прихожей.
За его спиной обнаружился ранее не замеченный комендант Каликин в старой боевой шинели с нашитыми на нее орденскими планками. Такие же комплекты были прикреплены к его кителю, пиджаку и спортивной куртке. Лидочка подозревала, что и к халату, но в халате ей видеть коменданта не приходилось.
— Я могу разуться, — сказал лейтенант.
— Не надо, я вас прямо на кухню поведу, — сказала Лидочка. — Они вели стрельбу по окнам.
— Старший лейтенант Шустов, — сообщил милиционер, — Андрей Львович. Из восемьдесят восьмого отделения милиции. Провожу дознание по поводу стрельбы, которая имела место у вашего дома.
Он говорил так, словно заранее составлял протокол. Отрепетирует и перепишет на бумажку.
— Смотрите, — сказала Лидочка и почувствовала, как в ней постепенно растет праведный гнев. — Вы только посмотрите, во что они превратили мою кухню. Вы не боитесь мороза?
Она открыла дверь на кухню. Там стоял жгучий мороз.
Комендант Каликин отпрянул, но лейтенанта холод не пугал.
— Оставайтесь в помещении, — приказал лейтенант Андрей Львович Шустов. — Или наденьте какие-нибудь валенки — на вас смотреть страшно. Верное воспаление легких.
Он прошел к окну и стал разглядывать его разбитую створку.
— Надеюсь, вас рядом не было? — спросил он.
— Вот именно, — ответила Лидочка. — Я тут и стояла.
— Ясно, — сказал Андрей Львович. — На шум побежала. Как мотылек на свет фонаря. Я точно выразился…
— Лидия Кирилловна.
— Вот именно, Лидия Кирилловна. Сотни людей, не менее достойных, чем вы, находили свою смерть по причине любопытства.
— Я больше не буду, — сказала Лидочка. Ей стало спокойно, потому что при таком человеке ничего плохого произойти не могло. Она пошла в спальню и крикнула ему оттуда: — Андрей Львович, вы пока изучайте, а я оденусь. В самом деле, неудобно.
— В самом деле, — согласился Андрей Львович. — И на ноги что-нибудь потеплее. А потом принесите мне плед, пожалуйста.
— Плед?!
— Или одеяло! — закричал комендант. — Мы пока прикроем окно.
Лидочка быстро оделась. Она слышала, как старший лейтенант прошел по прихожей, выглянул на лестницу и кому-то крикнул:
— Ты зайди сюда, Смирнов, ты посмотри, как общественность страдает!
Сразу же по прихожей затопали сапоги, и голос тонкий, вовсе не начальственный, подтвердил из кухни:
— Черт знает что делают.
Второй милиционер оказался капитаном, низеньким, животастым, ему было зябко и не очень интересно. Лидочке показалось, что он больше всего хочет возвратиться в их теплое тесное восемьдесят восьмое отделение, которое было ей известно по всевозможным паспортным делам. В прошлом году она как раз теряла паспорт и восстанавливала его, ожидая своей очереди в узком коридоре, по которому очень деловито проходили парни в штатском — видно, спешили ловить опасных бандитов, а те милиционеры, что в форме, курили на крылечке, рассуждая о ремонте машин.
— Вы сюда не заходите, Лидия Кирилловна, — сказал Андрей Львович. — Обязательно схватите воспаление легких.
«Наверное, у него с этой болезнью связаны какие-то жуткие воспоминания, — подумала Лидочка. — Может быть, она унесла всю его семью».
Лидочка послушно закрыла дверь на кухню. Все равно квартира выстудилась. Даже хотелось надеть пальто и сапоги, но как-то неловко было ходить в таком виде по собственному дому, когда воспитанный Андрей Львович свою шинель снял и теперь терпел на кухне жгучий мороз. Из кухни выскочил комендант Каликин, воротник шинели был поднят, шапка нависла над костяным носиком, нижняя губа отвисла и дрожала от холода.
— Ремонт надо делать, — сообщил он, прикрывая дверь. — Срочно нужен стекольщик, а где его найдешь?
— Вы мне поможете? — спросила Лидочка и обрадовала этим вопросом коменданта.
— Нелегко, — сказал он, — но для вас как пострадавшей я обязан, слово ветерана!
Серые глазки ветерана слезились от холода.
На кухне шел спор и проникал сквозь дверь.
— А я что могу поделать? Он вчера обещал камеру починить. Обещал? — это был голос толстенького капитана.
— Ну почему у вас все ломается именно тогда, когда нужно срочно? — сердился лейтенант Шустов.
— Знаете, у вас, оперативников, все просто — догнал, поймал, пристукнул, — гневался толстенький капитан, отступая из кухни под напором лейтенанта Шустова. Он открыл дверь и вместе с волной мороза выкатился в коридор.
— Ну почему ты ее не задержал? — спросил лейтенант.
— А как ты ее задержишь, если она не в свою смену вышла и ей ребенка в детский садик вести?
Они надвигались на Лидочку и совсем было притерли ее к стенке, но на помощь пришел комендант.
— Товарищи милиция, — сказал он. — Вы мне жиличку совсем замордовали. Она человек случайный, но жертва. У нас как бывает — стреляют, наводят беспорядок, а в результате наблюдаются жертвы из мирного населения.
Лидочке порой казалось, что костеносый комендант начитался рассказов Зощенко и старательно подражает их персонажам.
— А Кацнельсон где? Разве у него камеры нет?
— Кацнельсона я поднимать не буду, он сутки отдежурил, — ответил капитан.
— Но нельзя же, в самом деле, зимой человека с разбитым окном оставлять, — заметил лейтенант Шустов.
— Пускай гражданка часа три потерпит, я в райотделе кого-нибудь попрошу.
— Как так потерпит? — возмутился комендант. — Чего она потерпит?
— Пока придет фотограф, — ответил толстенький капитан. — Мы должны снять следы на кухне.
— А где раньше были? — строго спросил комендант. — Ведь на улице тетка снимала — и в подъезде. Я сам видел.
— Тетка уехала, — ответил лейтенант. Он чуть улыбнулся. Почему-то сравнение фотографа с теткой его развеселило.
— А вы пока и пригрейте вашу соседку, — буркнул толстый капитан.
— Соседку? — комендант вдруг обиделся. — Я здесь работаю, а проживаю в другом районе.
— Так пригрейте в другом районе, — сказал капитан, проталкиваясь к двери.
— Во-первых, — рассудительно ответил комендант, — каждый знает, что у меня третий месяц сестра из Чечни, бежавшая с тремя детьми, живет. Во-вторых, как, простите, гражданка Берестова будет оставлять квартиру без присмотра, да еще с открытым окном?
— Ну, сюда не залезут, — сказал с лестницы капитан.
— На второй-то этаж? — комендант даже обиделся. — На второй этаж запрыгнуть можно. Позову Бубку, он и прыгнет.
«Нет, наверное, он успел с утра выпить, — подумала Лидочка. — Уж очень образно мыслит».
— Да обойдетесь вы без этих фотографий! — рассердился комендант. — Пишите протокол. Пожалейте интеллигентного человека!
Никогда раньше Лидочка не ощущала такой теплоты и заботы со стороны Каликина.
— У нас, — сказал заботливый комендант, — пока что нужного размера стекла есть, а завтра уже не будет.
— Нет, — прогудел баритон Андрея Львовича. — Мы тогда оставим все как есть, а в десять я лично подниму Осипа Давыдовича, и мы его пошлем сюда сделать фотографии.
— Так, — сказала Лидочка. — Мне надоело мучиться. Какой вам нужен фотограф?
— Понимаете, — красивый Андрей Львович попытался донести до ее сознания, что дважды два четыре. — Мы имеем дело с вещественными доказательствами серьезного преступления. Характер повреждений вкупе с баллистической экспертизой могут помочь нам определить преступников.
— И что же вас останавливает? — спросила Лидочка, словно не догадываясь о милицейских проблемах.
— Как всегда, — развел руками лейтенант. — Техника подводит.
— Пока мы все не умерли, — сказала Лидочка, — я вам сделаю нужные фотографии. А вы за это оставите меня в покое.
— Лидия Кирилловна, — вежливо произнес Андрей Львович. — Вы меня не так поняли. Мне нужны не любительские фотографии, а профессиональные. Это нелегкая и специфическая работа. Поэтому я советую вам поехать куда-нибудь к родственникам, погреться…
— А я не советую оставлять квартиру без присмотра, — резко возразил рыцарь Каликин. — Мало ли кто теперь под видом проникает?
— Пожалуйста, выслушайте меня, — произнесла Лидочка, стараясь не стучать зубами. — Я работаю в музее, фотографирую всевозможные специальные объекты, например, насекомых или растения. Для научных изданий. Мои фотографии печатались во многих странах — это не любительские фотографии. Я могу точно воспроизвести на пленке любой предмет, в нужном вам масштабе. А для того чтобы вы поскорее ушли и позволили товарищу Каликину вставить мне стекла, я готова потратить на ваши цели «Кодак» и доставить фотографии по назначению через два часа.
— Нет, спасибо, — ответил твердо Андрей Львович. — В любом деле должен быть профессионал. Одни фотографируют бабочек, а другие — трупы.
— Какое счастье, — не выдержала Лидочка, — что вам сегодня не досталось ни одного трупа, а то пришлось бы их зарисовывать.
— Слушайте, Лидия Кирилловна, — решил помочь ей Каликин, — вы им покажите какие-нибудь журналы. Может, проникнутся?
Лидочка отрицательно покачала головой.
Она взяла с подоконника мокрого Ваню — как-то привезенное с юга и безумно разросшееся растение, о котором в суматохе забыла. Вернее всего, на таком морозе мокрый Ваня погиб.
— Не смейте! — закричал Андрей Львович.
— Оставьте меня в покое, — совсем уж рассердилась Лидочка. — Мы не можем с вами до бесконечности стоять в моей кухне и губить растения только потому, что вы не умеете работать.
— Это мы еще посмотрим! — воскликнул Андрей Львович. Но толстый капитан, вернувшийся от двери, потянул лейтенанта за рукав. Ему не терпелось уйти.
— А пускай она снимет, Андрюша, — сказал он. — А то в самом деле только время теряем.
Андрей Львович изобразил грозный взор. Он никак не мог придумать достойного пути отступления.
Тогда Лидочка, обняв холодный глиняный горшок с поникшими ветвями, ушла к себе в комнату. Ей показалось, что там тепло, как на июльском пляже. Хотя она понимала, что это тепло — лишь видимость и даже здесь температура приближается к нулю, что плохо отразится и на других цветах, стоявших на окне.
Открыв шкаф, Лидочка вытащила «Минолту», в которую как раз был заряжен «Кодаколор» и оставалось еще полпленки. Вспышка на «Минолте» была хорошая, кольцевая.
Ей хотелось произвести впечатление на этого упрямого красавца.
Когда она возвратилась на кухню, Андрей Львович вел телефонный разговор со своим отделением. Капитан исчез, комендант подпрыгивал от холода, и полы шинели ритмично взлетали.
— Что снимать? — спросила Лидочка.
Андрей Львович сдался и доступно объяснил Лидочке ее простую задачу: сфотографировать разбитое стекло, канавку в раме, а потом найденную возле дальней стены пулю и выщерблину на стене. Лидочка спросила, стоит ли сфотографировать осколки белого кувшина, но Шустов ответил, что кувшин его не интересует.
Лидочка приложила к раме прозрачную полуметровую линейку с делениями для масштаба. Никто ее не похвалил за такой научный подход к делу, но никто и не помешал приложить линейку. Когда Лидочка сфотографировала щербину на дальней стене и пулю на полу, Андрей Львович оторвал в туалете от рулона кусок бумаги и, завернув в нее пулю, положил в карман.
Во время работы Лидочка чуть согрелась — но эта иллюзия исчезла через минуту после того, как закончила снимать. Она поспешила к себе в комнату и там стала дышать на пальцы, чтобы их отогреть.
Вскоре заглянул лейтенант.
— Мне надо с вами поговорить, — сказал он.
— Фотографии я вам сделаю к вечеру. Время терпит?
Она знала, что время терпит, и лейтенант знал, что время терпит.
— Не спешите, — сказал он. — У нас бы они раньше чем послезавтра не отдали. То бумаги нет, то фиксаж кончился. Обеднели, стыдно признаться. С этим надо кончать!
С чем надо кончать, Лидочка не поняла.
— Если вам удобнее, — совсем уж миролюбиво закончил лейтенант, — то давайте поговорим в отделении. А потом уж следователь в прокуратуре с вами встретится. Тут пахнет организованной преступностью, а такие дела ведутся там.
Старший лейтенант показал пальцем на потолок, где положено заниматься организованной преступностью.
— А когда вы хотите меня видеть? — спросила Лидочка.
Они стояли в прихожей. Дверь на кухню была закрыта, но из-под нее тянуло холодом.
— Вот комендант вам стекла вставит, вы к нам и заходите. Я еще по улицам пройду — но вряд ли кто-то что-нибудь видел. Может, вы и будете наш единственный свидетель.
— К счастью, я ничего особенного не видела, — поспешила ответить Лидочка. — И интереса для преступников не представляю.
— Не шутите этим, — сказал старший лейтенант. Он был катастрофически лишен чувства юмора.
— Так я пошел за стеклом? — спросил комендант.
— Идите, идите, — велел лейтенант.
— А кто оплатит материал и работу? — спросил комендант у Андрея Львовича.
Тот пожал плечами. И Лидочке был ясен этот жест — «я эти окна не бил, почему меня нужно спрашивать?».
Комендант ушел за милиционером. Он поклялся, что тут же будет обратно — одна нога здесь, другая там. Не успеешь замерзнуть. По крайней мере, до смерти не замерзнешь.
Теперь, когда все убрались из дома, можно либо спрятаться в спальне, либо пойти на лестницу — там теплее. Но там можно встретить кого-нибудь из любопытных соседей. Сейчас бабушки и домохозяйки пошли гулять с собаками, а прогулки с собаками заменяют давнишние прогулки по главной деревенской улице — к середине улицы все новости уже известны.
Придерживая воротник пуховика, Лидочка подошла к окну. Уже совсем рассвело, снег был куда светлее сизого неба. Несколько ворон расселись на ветвях тополей в детском садике на другой стороне переулка. По очереди они слетали вниз, на мостовую, на снег, ходили возле кровавых пятен, разглядывая, но не трогая их. Собака, из непородистых, что развелись за последнее время в доме, — таких дешевле кормить, — потащила Рыжову из второго подъезда к красному пятну, а хозяйка стала оттаскивать собаку и тут же натолкнулась на председателя кооператива Добровольского, в вышедшей из моды пыжиковой шапке пирожком и с толстой тростью, — тот уже, конечно, все знал и занял пост возле кровавых пятен, чтобы популярно разъяснить обитателям дома суть ночных событий.
Лидочка оторвалась от окна, под которым собрались уже человек шесть, не считая собак, и кто-то уже кинул взгляд наверх, на разбитое стекло ее кухни.
Вскоре пришел комендант. Он вел себя как заговорщик, посвященный в страшную тайну. Сразу прошел на кухню, поставил стекла к стенке и выглянул в окно. Потом стал вытаскивать из затвердевшей и замерзшей замазки зубы стекол и притом покрикивал на зевак, чтобы шли по своим делам, нарочно привлекая этим к себе внимание.
Лидочке казалось, что с приходом коменданта сразу стало теплее, и она даже вознамерилась пойти к нему на кухню, чтобы поставить чайник и согреть отважного мастера, но тут зазвонил телефон.
Этот звонок относился к области совпадений, потому что Татьяна Иосифовна Флотская не смогла бы застать Лидочку дома — не будь рассветной перестрелки, она бы уже ехала на работу. Так что пуля, неточно выпущенная из автомата в Средне-Тишинском переулке, послужила толчком к дальнейшим невероятным событиям.
Лидочка прошла с телефоном в туалет, куда не так громко доносились удары коменданта, который отбивал замазку, и спросила, кто звонит.
— Простите, — произнес капризный женский голос, за которым Лидочке почудилась средних лет аристократка в китайском атласном халате. — Правда ли, что я говорю с Лидией Кирилловной Берестовой?
— Это вы? — почти догадалась Лидочка. — Это вы, Татьяна Иосифовна?
— Только не надо утверждать, что ты со мной знакома, — отозвалась аристократка. — Если я тебя и видела младенцем или качала на коленке, то совершенно запамятовала этот исторический момент. Но я рада, что ты меня все же отыскала. Честное слово, рада. И чтобы услышать твой голосок, я прошла больше километра до телефона-автомата — единственного средства связи нашего поселка с городом. И если у нас случится беда, надо будет вызвать «Скорую», то я со всей ответственностью утверждаю, что машина приедет через неделю после смерти больного!
— Но где вы, Татьяна Иосифовна?
— Разве я тебе не сказала?
— Нет еще.
— Я получила зимнюю дачу, от «Мемориала». Слышала о такой организации?
— Разумеется.
— Ты можешь называть меня тетей Таней, правда, если сочтешь это возможным.
— Спасибо.
— Поняла. Я привыкла к обертонам в чужих интонациях. Следовательно, пока я для тебя — Татьяна Иосифовна. Кто там у тебя стучит?
— Окно разбилось, — сказала Лидочка. — Сейчас вставляют новое.
— Ты на каком этаже?
— На втором.
— И, конечно же, без решеток. Одинокая женщина без решеток на окнах второго этажа — верная кандидатка на изнасилование. Тебе кто-нибудь об этом говорил?
— К сожалению, пока что нет. К тому же я замужем, только мой муж в командировке.
— Считай, что ты получила бесплатный совет и поторопишься его исполнить. Или подвергнешься нападению. Ты что молчишь? Ты подверглась?
— Простите, Татьяна Иосифовна, — произнесла Лидочка. — А нельзя ли мне все рассказать вам при встрече?
— Ты хочешь меня повидать?
— Да.
— У тебя ко мне дело или сентиментальные переживания?
— Простите, дело.
— Замечательно! Ненавижу лицемерок. И дело требует личной встречи?
— Да.
— Странно, я не думала, что у нас с тобой могут быть дела. Честно говоря, я вспоминала о твоем существовании раза три в жизни, когда листала семейный альбом и видела фотографию твоей бабушки. Она умерла?
— Да, — ответила Лида. — Она умерла.
Из кухни донесся пронзительный скрип, затем частые удары и треск. Лидочка догадалась, что комендант надрезал алмазом полосу стекла, а затем, постучав по краю ручкой резака, отломил ее.
— Разумеется, Лидочка, я рада, что ты меня отыскала. Так тяжело терять близких… Но я думаю, что ты искала меня не из-за родственных чувств.
Когда-то Маргошка Потапова жаловалась на свою дочку, что растет она — исчадием советской эпохи. Это были слова Маргошки. Маргошка имела все основания так рассуждать, проведя лучшие годы рядом с вершиной власти, и, какие там выводятся исчадия, знала отлично. Таня училась в сто десятой школе, с младенчества знала, что такое персональная машина и почему ей не надо готовить домашних уроков — все равно похвалят и переведут. За это, за маму и папу, арестованных в начале войны, она была жестоко и несправедливо наказана. Ее выслали из Москвы в сорок шестом году, в день, когда она получила серпастый и молоткастый паспорт. Страна успешно завершила борьбу с бесчеловечным нацизмом, комсомольцы совершали все новые подвиги, а девочка Таня Флотская ехала по этапу на восток, потому что на нее давно, уже несколько лет, лежала убийственная разнарядка — как подрастет и изготовится мстить за родителей — тут же изолировать. В последующие годы избалованную пухлую, добрую, хорошенькую девушку Таню Флотскую били, насиловали, морили голодом и холодом. Она под гнетом этой немыслимой жизни коренным образом изменилась и выросла бабой наглой, хитрой, жадной и лживой, она стала тусклым исчадием советской эпохи и научилась в ней безбедно существовать. Но не более того — существовал некий мистический барьер, который вставал на ее пути, как только судьба подводила ее к богатству или к счастью. Миновать этот барьер она так и не смогла.
В лагерях она пробыла недолго, зато несколько лет съела ссылка в Муйнаке, притулившемся с юга к Аральскому морю. Была она кастеляншей, библиотекаршей, санитаркой и даже поварихой в рыболовецкой артели и твердо усвоила, что за пайку надо платить.
Несмотря на тяготы юности, выросла она знойной красавицей, такой, что никогда не догадаешься, что она прошла через гнилые вертепы, а казалось, что это сытое, отмытое и умасленное благовониями балованное дитя гарема.
В Нукусе она окончила пединститут, ей пришлось выйти там замуж за преподавателя марксизма-ленинизма, тоже из бывших, потом ее понесло от мужика к мужику, все они попадались умельцы получать свое и не дать Татьяне заслуженной доли. В путешествиях по стране она сменила несколько мужей и любовников, прижила с одним из них дочку Аленку, сама все толстела от романа к роману. Наконец осела в Москве, подкинула дочь Маргарите, бросила мужа-профессора взамен на деловитого, уставшего от московских интриг корреспондента «Юманите». Это была перспектива заграницы и настоящих денег. Но счастье лишь поманило. В душный день на экскурсии в Сухуми Мишель умер от инфаркта. Бывший муж не принял обратно раскаявшуюся Татьяну.
Бежали годы, и даже косметические вмешательства не могли удержать расползающееся лицо и мягкое тело Татьяны. Каинова печать неудачного брака с иностранцем зарубила маленькую карьеру. Пришлось заниматься переводами по журналам и даже кое-какой распродажей подарков, за каждым из которых скрывалась романтическая страсть прошлых лет. Обнаружилось, что жизнь пролетела слишком быстро и виноваты в том большевики. Когда же большевики начали терять власть, Татьяна догадалась, как можно использовать их падение, чтобы извлечь шерсти клок из губителей ее молодости. Она быстро и крепко прижалась к «Мемориалу», организации бывших политических заключенных и иных жертв сталинского режима. И там, использовав опыт лагерной и ссыльной жизни да многолетних интриг, вскоре достигла определенных высот. По крайней мере, ей досталось почти постоянное место в писательском Доме творчества «Переделкино», достойная пенсия, возможность давать интервью и дважды в год ездить за рубеж в качестве писательницы, так как Татьяна писала беллетризированные мемуары, и первый том уже увидел свет. Ее книга раскупалась потому, что в девяносто первом году откровенные признания дочери Марго Потаповой, любовницы Сталина и жены генерала НКВД, прошедшей лагеря и тюрьмы, утоляли читательскую страсть к темным тайнам прошлого. Со второй книгой дело застопорилось, и Татьяна не могла отыскать издателя — за три года сменилась мода: о лагерях, Сталине и генералах читать не хотели. Но сам факт причастности к разоблачительному процессу и надежда на итальянскую литературную премию для узников тоталитаризма обеспечивали Татьяне Иосифовне некую нишу в мире бывших мучеников. А в то же время Татьяне не хватало именно советской эпохи. В ней она выросла, в ней страдала и в ней прожила все свои взлеты и падения. В новую демократию она не верила, и торгаши ее искренне раздражали, хотя по избранной за нее историей роли ей приходилось избегать дружбы с коммунистами. Когда-то давным-давно она подкинула свою маленькую, прижитую в неудачном союзе дочку Маргошке и умчалась строить личное счастье. Маргошка и Алена не простили ей этого предательства, но и они не были Татьяне нужны. Когда Марго умерла, Татьяна даже не появилась на ее похоронах, а на следующий день уехала к далекой родственнице во Францию читать там перед узким кругом интеллектуалов лекции о Сталине, о тиране, который любил качать ее на коленке и шутя пускать сладкий удушающий трубочный дым ей в носик…
Лидочка Берестова, давно забытая, сразу попала в категорию ненужных родственников, но Татьяна понимала, что отделаться от нее всегда успеет, сначала надо выяснить, зачем та ее разыскивает.
— Я вас искала не только из родственных чувств, — призналась Лидочка. — Мне хотелось с вами поговорить. Я не отниму у вас много времени.
— Это не телефонный разговор? — спросила Татьяна.
— Не знаю, — улыбнулась Лидочка. Но Татьяна, конечно же, этой улыбки не уловила.
— Я не покидаю мою скорбную обитель, — сообщила Татьяна почти серьезно. — Осталось так мало жить, а надо рассказать людям правду.
— Я могу приехать к вам, куда вы скажете.
— Ну что ж, — в голосе Татьяны появились такие знакомые Маргошкины нотки: Лев Толстой рассуждает вслух, когда допустить пред свои очи надоевшую поклонницу. — Ну что ж, давайте заглянем в мою записную книжку…
Лидочка явственно услышала, как на другом конце линии шуршат страницы блокнота. Комендант на кухне вслух выругался, возглас еще не утих, как раздался звонкий грохот. С ужасом Лидочка догадалась, что он уронил на пол только что обрезанное стекло. Обняв телефон, Лидочка бросилась на кухню. Разбилось не стекло — разбилась литровая бутыль с подсолнечным маслом, которая стояла на кухонном столе. Почему Лидочка ее не спрятала — уму непостижимо… Комендант глядел на хозяйку, как кот, застигнутый с ворованной селедкой в зубах, а Лидочка сказала:
— Ну и слава богу.
Она отлично понимала, каково оттереть кухонный пол от разлитого по линолеуму подсолнечного масла, но была счастлива, потому что будет это делать в тепле — стекло цело.
Комендант, конечно, не понял причин радости и принял улыбку за грозный оскал.
— Я сам, — сказал он. — Вы только скажите, где тряпка, и я сам.
— Вставляйте стекло! — сурово произнесла Лидочка, сообразив, что надо воспользоваться обстоятельством и поторопить замерзшего коменданта. И была права.
Возвращаясь в спальню, подальше от двадцатиградусного мороза, она всей спиной чувствовала, как спешно и бережно комендант потащил стекло к очищенной от осколков раме.
— Ты меня слушаешь? — пищала телефонная трубка.
— Одну минуту, — попросила Лидочка, — у меня маленькая авария.
— Авария?
— Стекольщик на кухне вылил на пол литр подсолнечного масла.
— О боже! — воскликнула Татьяна Иосифовна, искренне сочувствуя Лидочке. Трудно отыскать на свете нормальную женщину, которая не пришла бы в ужас от такой новости. — Сначала пожертвуйте губкой, — приказала Татьяна, — и соберите все с пола, как можно тщательнее. Только затем займитесь настоящей чисткой…
— Хорошо. Спасибо, — прервала ее монолог Лидочка. — Расскажите мне, пожалуйста, как и когда мы с вами сможем увидеться?
— А хотя бы сегодня! — ответила Татьяна чуть более радостно, чем можно было бы ожидать.
Лидочка насторожилась. Ничего плохого об этой женщине она не знала, но не доверяла ей. Бывает — человек ничего еще не сделал, но ты ждешь каверзы.
— Ты меня слушаешь, Лидочка? — спросила Татьяна Иосифовна. — Можно тебя так называть?
— Конечно, я буду рада, Татьяна Иосифовна.
— Ведь я куда старше тебя.
— Да, вы старше.
— Значит, тебе нужно со мной поговорить без свидетелей?
— По важному делу.
— Надеюсь, ты не несешь с собой плохих вестей? Плохих гонцов раньше убивали.
Татьяна Иосифовна засмеялась жидким, влажным смехом.
— Честное слово, я не знаю ничего плохого, — поспешила заверить ее Лидочка. — Мне нужен ваш совет по поводу событий, которые случились тысячу лет назад. Когда-то ваша мама приняла у нас на хранение шкатулку…
Краем уха Лидочка прислушивалась к звукам из кухни. И ей даже казалось, что уже становится теплее, хотя надежда на это была наивной.
— Да что я тебя все допрашиваю и допрашиваю, — возмутилась самой себе Татьяна Иосифовна. — Приезжай, конечно же, приезжай. Нынче и приезжай. Я тебе сейчас все расскажу. Бери бумагу и карандаш. Заодно запишешь и расписание электричек.
Лидочка села на край кровати, послушно записала окоченевшими пальцами, как идти, куда поворачивать, какую тропинку выбирать… Но это было не все.
— Да, вспомнила, — сказала Татьяна Иосифовна, убедившись в том, что Лидочка все записала правильно. — Я тут два дня хворала, не вылезала на улицу: мне страшны такие морозы — я тебе как-нибудь расскажу, где и когда я отморозила верхушки легких… Я не выходила, а наш сельский магазин мне недоступен по расстоянию. Лидочка, не в службу, а в дружбу, запиши, пожалуйста, что нужно больной старухе, чтобы не умереть с голоду и накормить тебя достойным обедом. Хорошо, зайчонок? Только ты не думай, я тебе все отдам, мне сегодня или завтра принесут пенсию, так что все до капельки. Мы, бедные люди, всегда щекотливы в денежных расчетах. Ты меня слушаешь?
— Конечно, Татьяна Иосифовна.
— Знаешь что — называй меня тетей Таней. Честное слово, мне как-то теплее, душевнее слышать от тебя такое обращение. Я испытываю страшный дефицит человеческого общения. Иногда хочется выть. Буквально выть… Эта снежная пустыня и эта собственная ненужность никому на земле…
Наступила тягучая пауза, и Лидочка представила, как Татьяна Иосифовна, тетя Таня достает платок, прикладывает его к увлажненным глазам, к носу. И когда Лидочка мысленно досмотрела эту процедуру, Татьяна Иосифовна произнесла:
— Не слушай меня, старую. Не слушай. Это минутная слабость. У меня есть свой долг в жизни… Приедешь и увидишь меня совсем другой. Это я от простуды расклеилась. Так что записывай, что нужно тебе купить. Картошка у меня есть… впрочем, картошки купи килограмма три. У тебя рынок далеко? Три килограмма, не больше, чтобы не тяжело тащить. Ненавижу, когда молоденькие девушки таскают тяжести.
— Татьяна Иосифовна…
— Тетя Таня.
— Тетя Таня, я давно уже не хрупкая и не молоденькая девочка. Я женщина средних лет и привыкла таскать сумки.
— Ах, оставь! Я же знаю, когда ты родилась! Я все помню.
Черта с два ты что-нибудь помнишь, тетя Таня, подумала Лидочка.
— Говорите дальше, — сказала она. — Я записываю.
— Мясо на твоем рынке есть?
— Должно быть.
— Считай, нам с тобой повезло. На обед у нас с тобой свиные отбивные. Купи шесть штук — вдруг судьба принесет к нам гостей. Я так не люблю казаться бедной… если тебе известна моя жизнь, то ты поймешь чудачества старухи.
— Ну какая вы старуха! — возразила Лидочка.
— Каждый из нас стар настолько, насколько он себя таким ощущает. А я состарилась давно. Впрочем, давай кончим эту пустую дискуссию. Слушай меня дальше. Я понимаю, что помидоры и огурчики нам с тобой сейчас не по карману, но если вдруг попадутся чуть подгнившие…
Оставляя жирные следы на паркете, в комнату вошел комендант и сказал, не обращая внимания на то, что Лидочка говорит по телефону:
— Я сейчас вставил без замазки — в такую температуру замазка, сами понимаете… Гвоздиками закрепил. Днем второе стекло достану, сделаем все, как в аптеке.
— Подождите, одну секундочку, — сказала Лидочка. — Не уходите.
— Ты это мне? — спросила в трубку Татьяна Иосифовна.
— Нет, тетя Таня. Я все поняла. У меня тут небольшая авария, и мне надо поговорить с человеком.
Комендант подошел к стеллажам с книгами и стал рассматривать книги на верхней полке, закинув голову так, что был виден тонкий пробор, разделявший редкие пряди — буквально по волоску.
— Все. Я поняла, — ответила тетя Таня обиженным голосом, — у каждого свои дела… да, одну секунду! У меня кончился майонез. Может, встретится… но специально его не ищи, хорошо, Лидия?
Лидочка повесила трубку. Она была рада тому, что тетя Таня решила ее использовать по хозяйству. Потеря времени и денег как бы уменьшали объем благодарности, которую Лидочка должна бы испытывать к тете Тане, если та согласится и сможет помочь.
— Я принципиально не беру денег, — громко заявил комендант. — У меня, конечно, было намерение поживиться от ваших благ, потому что я наблюдаю за внутренней жизнью всех квартир и давно надеялся получить в подарок книгу вашего супруга Андрея Сергеевича. Не удивляйтесь, что простой ветеран войны интересуется исторической литературой. Я ведь тоже не всегда был комендантом. Не всегда… Но получилось так, Лидия Кирилловна, что я нанес вред не меньше, чем принес пользы. И если вы дадите мне тряпку, то я займусь уборкой на вашей кухне, не претендуя на вознаграждение.
Уборкой на кухне он заниматься не собирался, это была дань вежливости, так что Лидочка отдала ему книгу, в которую вложила крупную купюру, а когда дверь за ним закрылась, Лидочка с глухой раздраженной тоской некоторое время стояла в прихожей, медленно поворачивая голову от почти невидных жирных следов коменданта у входной двери к подсолнечным лужам дальше по коридору и масляному морю, которое выползало из кухни и норовило затопить всю квартиру.
Так что ближайшие часы в жизни женщины грозили быть напряженными.
Лидочка дошла было до кухни, от которой уже не так несло холодом, но тут вспомнила — вернулась к телефону, позвонила Алеше в фотолабораторию, объяснила ему, что приедет через час и чтобы тот отменил свой визит к парикмахеру, так как нужны срочнейшие отпечатки.
Потом внутренне собралась, поборола в себе отвращение и, разувшись, направилась прямиком через кухню, стараясь не наступать на осколки бутыли, взяла губку, тазик и занялась уборкой.
Кончила она, и то лишь приблизительно, сбор растительного масла на кухонном полу и в коридоре лишь через полчаса, так что пришлось тут же отмываться и бежать в фотолабораторию.
— Вы наш следователь? — спросила Лидочка у Андрея Львовича, который работал в кабинете не один — помимо его школьного, обтянутого сверху черным дерматином стола, там стояло еще два таких же. День выдался солнечным, и потому кабинет, покрашенный в казенный голубой цвет, чем-то Лидочке понравился — то ли календарем с Гавайскими островами на стене, то ли тем, что на окне стояло три горшка с цветами. В том числе и мокрый Ваня, только пышный, здоровый, не подмороженный, как у Лидочки.
— Нет, я сыщик, — сказал лейтенант Шустов.
Андрей Львович Шустов, который встретил Лидочку в коридоре случайно, возвращался от начальства, но сделал вид, что специально вышел ей навстречу. Вряд ли он был настолько глуп, что надеялся на то, что Лидочка ему поверит, но от людей, обладающих глазами столь непроницаемого черного цвета, можно ждать чего угодно.
Он не скрыл радости от встречи с Лидочкой, и это было неудивительно.
Лидочка, помимо очарования, обладала еще одним странным и полезным качеством — она могла передавать, сама не прилагая к тому старания, свое настроение иным людям. И если у нее было настроение хорошее, радостное — а Лидочка была человеком, склонным к смеху и добрым надеждам, хотя жизнь так редко дарила ей основания для надежды, — она могла создать хорошее настроение у человека и куда менее жизнерадостного, чем Андрей Львович Шустов.
Когда они вошли в кабинет, Андрей Львович кивнул на стол у двери и сказал, перехватив взгляд Лидочки:
— Цветы разводит у нас Соколовская, Инна Соколовская. Она скоро придет. Но я тоже обладаю склонностью к комнатным растениям.
«Господи, только не так красиво!» — мысленно попросила Лидочка лейтенанта.
— Вы хорошо сделали, что пришли, — сказал Андрей Львович, изящно поправляя чуть более длинные, нежели положено милиционеру, кудри. — Вы садитесь, Лидия Кирилловна, выкладывайте, что вас привело.
— А я думала, что мы с вами сотрудничаем, — ответила Лидочка. Но было приятно, что Шустов запомнил, как ее зовут.
Андрей Львович засмеялся. Ему понравилась мысль о сотрудничестве с Лидочкой.
Лидочка положила на стол пакет.
— Что это такое? — спросил Андрей Львович, не дотрагиваясь до конверта.
— Вы же просили, — сказала Лидочка и вытащила пачку фотографий.
Лейтенант стал перебирать их, потом разложил перед собой на столе.
На оконном карнизе прыгали две синички — значит, их здесь подкармливали.
Вошла узкоплечая сероглазая женщина — погоны наполовину свисали с ее плеч. Юбка была слишком длинной и широкой.
Не поздоровавшись с Лидочкой — сыщики не здороваются со свидетелями или подозреваемыми, которые проходят у их соседей по кабинету, — она подошла к окну и коротким накрашенным ногтем потрогала землю в горшках.
— Я поливал, — сказал Андрей Львович. — А ты посмотри, ты сюда посмотри! Ты такое видела?
Лидочкин Алеша постарался — содрал с нее как за выставочные работы, но отпечатки были ясные, цвет — лучше естественного, размер тринадцать на восемнадцать, бумага «Кодак». Что еще может пожелать сотрудник Скотленд-Ярда?
Сыщики отделения милиции и не мечтали.
— Это кто тебе сделал? — спросила хриплым голосом Инна Соколовская.
— Вот, Лидия Кирилловна. Она свидетелем проходит по ночной стрельбе. Это у нее на кухне сделано. В порядке любезности.
— А вы что, работаете в ателье? — строго спросила Инна Соколовская, будто намеревалась тут же обвинить Лидочку в принадлежности к преступной группе фотографов.
— Нет, — ласково ответила Лидочка, хотя Соколовская категорически ей не понравилась. — Я сотрудничаю в прессе.
Соколовская положила фотографии на стол и вытащила из бокового кармана кителя кусок бумаги, в которую были завернуты кусочки хлеба. Она открыла форточку, высунула руку в окно и высыпала крошки так, чтобы они упали на карниз под окном, — Лидочка поняла, что Соколовской хочется видеть, как благодарно птички будут клевать ее подарок.
— А я вам не поверил, — конфиденциально сообщил ей Андрей Львович. — Думал — придется обойтись без фотографий.
— Я пошла к Севостьянову, — сказала Соколовская. — Если мой будет звонить, скажешь.
— Скажу, — согласился Андрей Львович, но Соколовская и не собиралась уходить. Вместо этого она уселась за свой стол, вытащила ящик и стала не спеша в нем копаться, выкладывая на стол бумажки и делая из них стопочки.
— Гражданка Берестова, — сказал Андрей Львович и надолго замолчал. Лидочка уже догадалась, что он жаждет, чтобы его соратница покинула общий кабинет.
Если не считать настенного плаката-календаря с Гавайскими островами, и прибоем, и пачкой «Баунти» поперек пальмовой кроны, кабинет сыщиков был похож на все подобные кабинеты даже дореволюционного образца, вплоть до особенного тоскливого голубого цвета стен в человеческий рост и побелку выше головы, коричневого стального шкафа, застекленных полок с несекретными бумагами и еще одним сейфом — на низкой тумбе. Приметой времени стояли телефоны — на каждом столе по аппарату.
— Как себя чувствует… пострадавший? — спросила Лидочка.
— Состояние средней тяжести, — ответил лейтенант. — Проникающее ранение в области грудной клетки и пуля в бедре.
— Но он будет жить? — спросила Лидочка, все еще полагая себя помощницей милиционеров.
— Мы надеемся, — сказал лейтенант. Он перекладывал фотографии на столе.
— А кто он такой?
— Его фамилия Петренко. Петренко Александр. Приходилось слышать?
Соколовская неожиданно кашлянула. Предупредительно, как кашляют в фильмах о шпионах, чтобы главный герой не проговорился подосланной к нему врагами проститутке.
Лейтенант, как и положено герою, смутился и сложил фотографии в стопку, как бы подводя итог беседе.
— Спасибо, — произнес он. — Спасибо за помощь. Сегодня я занят, но завтра или, в крайнем случае, послезавтра вам придется дать мне показания. Я вам позвоню домой. Или на службу?
— Домой, — ответила Лидочка, — лучше домой. На службе могут неверно истолковать.
— Надо беречь свою репутацию, тогда истолкуют правильно, — наставительно сказала Соколовская.
— Вы меня неверно поняли, — ответила Лида. — Они удивятся, каких я нашла знакомых.
Лидочка поднялась. В конце концов, она выполнила гражданский долг. Соколовская еле кивнула ей. Лейтенант поднялся, ожидая, пока она покинет комнату.
Лидочка вышла в узкий коридор. Петренко Александр. Какая-то украинская фамилия.
Теперь можно было отправляться на рынок. Лидочка была так рада, что наконец-то отыскала Татьяну Иосифовну, что недоверие новых милицейских знакомых ее не огорчило.
По дороге с рынка — она обещала коменданту быть к часу, чтобы он занес стекло, — Лидочка побежала по магазинам. Уважаемая госпожа Флотская на даче для жертв сталинского режима ожидала от нее материальной помощи. И Лидочка должна была предоставить ей эту помощь в гигантских масштабах, потому что с Татьяной Иосифовной она связывала большие надежды.
Комендант маялся перед подъездом, правда, чтобы не терять времени даром, давал какие-то ценные указания дворнику, вяло бившему ломом по наросшим под сточными трубами глыбам льда.
Лидочке он обрадовался. Даже не стал упрекать в опоздании — мужчине, даже самому эгоистичному, неловко упрекать в опоздании женщину, которая волочит сумку чуть меньше ее самой размером.
— Я стекло достал, — сообщил он. — Пошли работать.
— Только, пожалуйста, поторопитесь, — попросила Лидочка, — мне надо за город ехать, уже скоро два часа.
— Один миг, одно мгновение, — сказал комендант.
Квартира согрелась, только на кухне было еще холодно, тянуло от незамазанного окна.
Комендант повесил шинель в коридоре, под ней оказался пиджак с такими же орденскими планками.
— Я вам так благодарна, — сказала Лидочка. — Вы меня так выручили, просто не представляете. Вы простите, что я вам даже чаю не предлагаю, я на самом деле тороплюсь. Мне за город надо, а там днем зимой электрички редко ходят.
— К тому же, — подтвердил комендант, — они даже расписание не соблюдают. Доходит до возмутительных случаев. А что за спешка такая?
— Моя знакомая, старая женщина, просила приехать сегодня, — сказала Лидочка. — Я эту женщину давно искала.
— Долг надо получать?
— Можно сказать, и долг. Но не в прямом смысле этого слова.
— Ну, не надо, — сказал комендант, будто утешая Лидочку. — Не хочешь — не рассказывай. Меня эти ваши дела не касаются. А от станции далеко?
— Минут пятнадцать.
Комендант взял у Лидочки столовый нож. Он накладывал на раму и разравнивал им замазку.
— Я вас не задержу, — сообщил он. — Только вы меня развлекайте. В милицию ходила?
— А как вы догадались?
— А мне приходилось с этим Шустовым встречаться, — сказал комендант, — совсем по другому делу. И должен сказать, что он произвел на меня впечатление типичного карьериста. Спешит запрягать. Ну, вас-то он не стал бы мучить — вы жертва случайной бури.
— Я фотографии относила, — сказала Лидочка. — И оказалась свидетелем. Шустов сказал, что допускает, что и в меня стреляли не случайно.
— Я согласен, — ответил комендант. — Вы же стояли в освещенном окне — типичная цель. Вот вас и пугнули, чтобы не заглядывались.
— Вы правы, — сказала Лидочка. — Оказывается, Лариса даже не заметила, какая у них была машина.
— У бандитов? — спросил комендант.
— У тех, кто стрелял.
— Я могу найти оправдание ее поведению, — серьезно сказал комендант. Он завершил обводку стекла замазкой и теперь осторожно вел ножом вокруг него, чтобы замазка легла гладко и красиво. — Кромешная тьма, вспышки выстрелов, крики, кровь… удивительно еще, что она не уползла. Я помню, как в первый раз под обстрел попал, на Западном фронте. Это же ужас. А вы меня спрашиваете, какого цвета был немецкий танк. А я вам отвечу: серо-буро-малиновый. Честно отвечу. Потом-то уж, конечно, научился различать. Но большинство в первые дни погибало.
— Я сначала не подумала, что в меня стреляли, — сказала Лидочка.
— Это вы только подумали, что не стреляли.
— Уже рассвело, а фонари еще горели — все было как на сцене. Я даже теперь могу закрыть глаза и все вижу. Эта вишневая «Нива» и их лица, конечно, невнятно — они в машине сидели, — но тот, справа, был усатый.
— Со страху чего только не привидится, — усомнился комендант. — Где вишневый — там и малиновый, где усы, там и борода.
— Вы мне не верите? — В Лидочке взыграла спесь. — У меня хорошая зрительная память. Я даже номер этой «Нивы» запомнила.
— Номер? В такой темноте и на таком расстоянии?
— Машина остановилась как раз вполоборота ко мне, под фонарем, — ну почему мне со второго этажа не увидеть номера?
— И какой же номер? — спросил комендант. Нет, он ей не верит!
— Я боюсь ошибиться… Кажется, первая буква «ю», потом «24–22» и «МО».
— Московский номер, — сказал комендант, словно его успокоила эта информация. — В милиции сказать надо. Хотя наверняка машина ворованная.
— Я скажу, — пообещала Лидочка.
— А может, промолчать? — задумался вслух комендант. — Если они найдут, то без тебя, а если не найдут, то тоже без тебя. Не исключено, что бандиты и стреляли по окну, потому что им не нужны были свидетели.
Лидочка пожала плечами. Это был абстрактный разговор. Тем более что она не была до конца уверена в своей правоте. И уже сомневалась, таким ли был номер машины.
— Я пойду, — сказал комендант Каликин, — не буду вас задерживать, так как вам предстоит поездка в Переделкино. Я вас правильно подслушал?
Конечно же, он присутствовал при разговоре с Татьяной.
— Сейчас соберусь и поеду.
— Ваша знакомая в Доме творчества советских писателей проживает?
— Рядом. Там есть участок дач, которые снимает для своих активистов общество «Мемориал».
— Как же, — сообразил комендант. — Жертвы культа личности. Но учтите, что среди них скрывались порой и настоящие враги и шпионы.
— Я учту.
— Вам с Киевского вокзала ехать.
— Знаю.
Комендант натянул шинель с орденскими планками. Шинель была ему узка — видно, в боевые годы комендант был стройнее. Потом Лидочка сообразила, что ни одна шинель полвека не прослужит. Значит, как износится шинель, комендант Каликин покупает себе новую, точно такую же.
Глава 2
Преследователь
Разумеется, электричку в четырнадцать двадцать до Апрелевки со всеми остановками отменили, две следующие в Переделкине не останавливались, и наконец материализовалась электричка до Нары, отходившая в пятнадцать двадцать две, а к тому времени на перроне скопилось несколько сот человек, которые стояли плотно, как на спасательном плоту парохода «Титаник».
Когда состав подполз к перрону, Лидочка не кинулась, подобно остальным пассажирам, к вагонам, а отошла к середине платформы, соразмерила свою позицию с открывающейся дверью и рванулась к ней напрямик, тогда как основная масса конкурентов давилась, вползая в вагон вдоль его стенок.
Правда, пришлось потерпеть, но чего только не вытерпит русская женщина, если спокойна за содержимое сумки, в которой нет ни яиц, ни банок со сметаной, а лежат лишь небьющиеся и немнущиеся продукты, ибо масло, торт и котлеты под влиянием мороза приняли твердый вид — условно можно было считать, что в руке у Лидочки находилась сумка с булыжниками различных размеров и форм.
В вагон Лидочка попала далеко не первой — ее опередили более шустрые и сильные профессионалы разного возраста и пола, штурмующие эти поезда ежедневно. Но все же ей досталось сидячее место посреди вагона, и за десять минут, прошедших между ее прорывом в вагон и отходом переполненного поезда, она даже успела вписаться в своеобразный мирок, образованный двумя — друг против дружки — скамейками. Шесть мест, семь человек, считая трехлетнего малыша на коленях у мамаши. Итак, четверо взрослых, двое подростков. У девицы на плече сидела грустная белая крыса и мешала юным любовникам целоваться. Они все время шептались, он — сердито, она — лукаво. Потом девица стала гладить и целовать крысу. Лидочка понимала, что наблюдает сцену якобы социального протеста. Подростки сидели у окна, мамаша с трехлетним детенышем, который все норовил погладить крысу, рядом, а на Лидочкиной стороне уместились полная интеллигентного вида женщина лет тридцати, а дальше к окну — мужчина с книгой. Периодически он закрывал книгу и, заложив ее пальцем, начинал мечтать, а все, включая малыша, смотрели на обложку, где парочка испытывала какой-то невероятно изысканный и потому совершенно неправдоподобный способ любви. На самого же мечтательного читателя никто не смотрел.
Поезд нехотя набирал скорость, словно предпочел бы еще постоять на вокзале, перекликаясь и пересматриваясь с другими электричками. Но долг есть долг, и ему пришлось тащить эту толпу пассажиров в снежные подмосковные просторы.
Девица с крысой была желтоволосой, лохматой, хорошенькой, и в ней была некоторая первобытная привлекательность. Правда, до того момента, как она открывала рот и сообщала что-нибудь спутнику. Порой даже крыса поднимала брови и ахала. Крысы не приучены к некоторым словам и интонациям.
Юноше удалось как-то обойти крысу и чмокнуть подругу возле рта. Крыса сбежала на колени девице и строго посмотрела на Лидочку, будто та была во всем виновата. А может, это не крыса, а он — крыс? Король подземного царства, а я отношусь к нему так несерьезно?
— Девушка, прибрали бы вашу тварь, — угрожающе пропела полная Лидочкина соседка.
— А она не кусается, — ответила девица, и они с парнем принялись хохотать, потому что ответ, видно, был отрепетирован давно и казался им удивительно забавным.
Но крыса почувствовала нелюбовь к ней со стороны Лидочкиной соседки и беззвучно змейкой взлетела на плечо девице, где и замерла.
— Специальные отряды существуют, — сказала соседка Лидочке, — чтобы их уничтожать, а некоторые их разводят.
— А она умнее вас, — сообщила девица. — Она все понимает.
— Вы не представляете, как я боюсь этих тварей, — сообщила Лидочке ее соседка, краснощекая женщина с добродушным пуговичным носом и маленькими карими глазами, казавшимися еще меньше из-за выпуклых линз. — Мы их травили в институте, ни одной не вытравили, а кошка умерла.
— Ой! — Лидочке стало жалко кошку.
— Впрочем, она сама виновата, — задумчиво рассуждая вслух, произнесла соседка. — Если б она ловила крыс, не пришлось бы их морить, не погибло бы животное, вы со мной согласны?
— Все равно жалко, — сказала Лидочка.
Они беседовали негромко, словно боялись потревожить чувства девицы с крысой или самой крысы. Но это им плохо удалось: подняв глаза, Лидочка встретилась с крысой взглядом. Крыса слушала весь этот разговор, не спуская черных глазок с женщины напротив. И хотя ни выражение глаз, ни выражение крысиной морды нельзя было разгадать, Лидочке стало неловко перед крысой, об уничтожении соплеменников которой они так равнодушно разговаривали, больше того — жалели кошку.
— Москва превратилась в сплошную помойку, — продолжала соседка, словно они уже давно и дружески беседовали. Она была из тех женщин, что легко сходятся в поездах или даже в очереди и обычно бывают столь настойчивы, что случайный собеседник покоряется и не смеет возразить, даже если вовсе не согласен.
Соседка была доверчива, но настырна, ей обязательно надо было донести до Лидочки груз банальных истин — пересказать газетные и телевизионные стенания.
У Лидочки был с собой недочитанный детектив Рут Рендел, в котором толстый инспектор Уэксфорд отправился ночью к тихой загадочной речке, чтобы отыскать труп невинной девушки. Лидочка достала книжку, раскрыла ее, и соседка, разумеется, тут же спросила:
— Вы читаете по-английски? Я так вам завидую! Знаете, в школе мне казалось, что это совершенно никому не нужно, а теперь поздно. Голова совсем не та…
— Сколько же вам лет? — не сдержалась Лидочка.
— Мне тридцать два, но я выгляжу куда старше, не бойтесь меня обидеть.
По правилам игры, Лидочке положено было возразить, сбросить лет десять с объявленного возраста соседки. Но Лидочка не стала ей подыгрывать. Пускай сама выпутывается. Соседка же замолчала, потому что не знала, как вести себя дальше.
И тут случилась неприятность с крысой.
Лидочка первой увидела причину драмы, но все произошло столь быстро, что она, увидев, не осознала значения виденного.
Виноват был парень.
Высокий, в джинсовой поношенной синей куртке и в кепке, низко надвинутой на нос. Глаз не было видно, но конец крючковатого носа разделял пополам густую щетку усов и чуть не касался вздернутой верхней губы. Лицо было, вернее всего, кавказским, по своей преувеличенной карикатурности схожим с иллюстрацией к диккенсовскому роману, где такие носы и острые подбородки встречались у отрицательных персонажей.
В тот момент Лидочка поглядела вдоль вагона и увидела, как усатый парень не спеша вытащил изо рта белый комок жевательной резинки и, скатав шарик между пальцами, запустил его в крысу, которая сидела на плече у хозяйки спиной к молодому человеку и неодобрительно разглядывала Лидочку.
От неожиданности, а может, от боли крыса подпрыгнула и слетела с плеча девочки на спинку скамейки. Вроде бы первой завизжала Лидочкина соседка и попыталась вскочить на скамейку. Лидочка никак не могла сообразить, что надо сделать, чтобы остановить этот визг, заразный и перекрывающий все шумы электрички — и грохот колес, и устоявшийся гул голосов, и даже заунывное нытье младенца.
Испуганная крыса ринулась было на пол, но, остановленная прыгнувшей навстречу собакой, снова метнулась наверх, угодила кому-то на колени, спрыгнула, понеслась между ног и сумок. Никто, разумеется, не понимал, что произошло. Но визг первой из женщин был искренен и страшен в этом замкнутом пространстве, и люди тут же начали вскакивать, спрашивать, перекликаться и передвигаться толпой к выходу — хотя до очередной станции было еще не близко.
Кто-то подхватил визг Лидочкиной соседки.
Сама Лидочка чуть не упала, потому что владелица крысы сообразила, что произошло, и кинулась вдогонку за своей подружкой. Ей было труднее, чем крысе, вырваться из толчеи и растущей паники, но девушка была сильнее и злее, и потому она все же пробилась к выходу из вагона. Люди, стоявшие в тамбуре, лишь догадывались, что в центре вагона что-то произошло, вернее всего, кого-то убили, но сами еще не выработали для себя линии поведения. Наоборот, они тянули головы, вставали на цыпочки, стараясь разглядеть причину паники.
Лидочка встала — она не могла не встать, — иначе все еще пребывавшая в истерике соседка истоптала бы ее: та взобралась ногами на сиденье и сидела на корточках, крупно дрожа и всхлипывая. Лидочка, в отличие от остальных, знала, что искать глазами, и ей повезло: тесная толпа у самой двери на мгновение раздалась, туда отчаянно стремилась девочка. Лидочке удалось увидеть или угадать белый комочек, вылетевший в тамбур, там, где она мелькнула, в ужасе закричал ребенок — и тут же сквозь толпу прорвались девица со своим дружком.
Скорее из стремления сделать что-то для спасения любимицы, чем желая проявить свою власть над событиями, находящимися совершенно вне пределов этой власти, подросток, бежавший за девицей, рванул стоп-кран, чем вызвал вспышку криков и мужских ругательств, но поезд послушался и дернулся, словно пес, которого хозяин осадил на поводке. Возмущенный голос машиниста возник под потолком вагона. Машинист требовал ответить, что происходит, в противном случае грозил какими-то карами, а женщина, сидевшая напротив, стала показывать в окно и кричать:
— Вот они, смотри!
Подобно чуду — такого быть не могло, — Лидочка увидела, как по склону, покрытому девственным глубоким снегом, бежит, утопая, почти невидимая замаскированная, как финский лыжник белым халатиком, крыса, а на некотором расстоянии от нее, размахивая руками, крича и страшно радуясь своей удаче, карабкаются девица и ее спутник. Крыса первой перевалила через хребет насыпи и скрылась в щели забора, преследователи заметались вдоль забора — поезд двинулся вперед рывками, набирая скорость. Лидочка прильнула к окну, заинтригованная драмой и готовая заплатить любую цену за то, чтобы узнать, чем она завершится, и страстно болея за хозяев крысы. Она успела увидеть, как юноша стал подсаживать девицу, чтобы она перелезла через забор, а когда, поняв, что ничего более не увидишь, Лидочка перевела взгляд внутрь вагона, поняла, что все, буквально все, кто мог, — глядели в окно. И теперь один за другим отваливались от живого экрана, усаживались, утрясались, кляли молодежь, а этих, сбежавших с крысой, тем более, и никто не заступился за них, а Лидочка не посмела пойти против течения. Впрочем, ее мнение никто и не спрашивал. Соседка Лидочки спустила ноги, уселась как следует, а места убежавших заняли два старичка, схожие, грустные и немного пьяные.
— Сумасшедший дом, — сказала соседка Лидочки. Она вынула большой несвежий платок и принялась громко сморкаться. Потом извинилась перед Лидочкой, как перед знакомой, и сказала, что это у нее нервное — всегда так случается, если она переволнуется.
— Вы думаете, они поймают то животное? — спросила соседка.
— Это будет ужасное горе, — ответила Лидочка, — если крыса погибнет.
— Вы в самом деле ее жалеете?
— Не крысу, а девочку, — сказала Лидочка.
Соседка отвернулась и стала глядеть в окно. Снег, прошедший ночью, прикрыл простынкой придорожную грязь, накопившуюся за недели, сровнял следы, принес обманчивую тишину и благополучие, словно уговаривал поверить в зимнюю девственность природы.
— Как странно, — сказала соседка. — Совсем нет границы между жизнью и смертью. Даже плакать хочется. — Она уперлась в лицо Лидочки растерянными близорукими глазами, сведенными в точки сильными стеклами очков. — Мне крысу не жалко, но бывает, что страдают люди. А окружающим совершенно неинтересно. Можно быть убийцей, а никто тебя не может в этом обвинить.
Лидочка послушно согласилась, у нее не было никакого желания поддерживать разговор с этой женщиной, и она даже заподозрила ее в том, что та чувствует себя неловко оттого, что стала источником паники в вагоне. Но вскоре она убедилась, что соседка уже забыла об инциденте и собственном в нем поведении, куда более сильные чувства владели ею.
— Наверное, у меня нервы не в порядке, — сообщила соседка, — я буквально как на иголках сижу. У вас бывало такое чувство?
На свете есть немного стран, где ты рискуешь подружиться с соседкой по вагонной скамейке. Россия — первая из них.
Лидочка делала вид, что читает, но некоторые из заявлений соседки требовали обязательного ответа, и тогда приходилось откладывать книгу, чтобы не показаться невоспитанным человеком.
В сущности, для Лидочки было не столь уж важно, кем будет ее считать визгливая соседка, но, однако, их уже связывали эфемерные нити дорожного знакомства.
Соседка ее, Соня, Сонечка, Софья Александровна, так она представилась, говорила, не умолкая. Она была возбуждена, но Лидочка не знала, то ли это свойство характера, то ли следствие переживаний.
Соседка спросила, до какой станции едет Лидочка, но ответа не дождалась — на самом деле ее не интересовало, куда Лидочка направляется.
У этой Сонечки, очевидно, были проблемы с мужчинами, вернее, с их нехваткой: ногти были слишком ярко накрашены, а лицо разрисовано более, чем нужно для того, чтобы соблазнить Шварценеггера. И в то же время она оставалась непривлекательной, как диванная подушка.
Соня поведала о каком-то газетном сообщении — некий муж бросил жену с тремя детьми, а когда та стала жаловаться компетентным органам, то он убил ее и всех детей, а может быть, намеревался это сделать. Почему-то с этой темы разговор переключился на события в институте, где работала Софья Александровна. Там одна молодая и прелестная женщина собирается покончить с собой из-за того, что один мерзавец ее оставил. Лидочке хотелось дочитать до конца главу, и потому она лишь кивала головой, словно соглашаясь с сентенциями Софьи, и подробности мучений сослуживицы Софьи пропустила мимо ушей.
Порой Лидочка исподлобья посматривала на парня в кожаной кепке, как бы желая показать ему, что он виновен в эпизоде с крысой, но, конечно же, ни в чем его не убедила — парень равнодушно смотрел в окно и на взгляды Лидочки не реагировал. А Лидочка понимала, что даже если она сейчас встанет, укажет перстом на молодого человека и обвинит его в маленькой житейской драме, то, во-первых, никто ее не поймет, во-вторых, никто не поверит, и, в-третьих, если даже и поверит, то останется равнодушным к тому, что уже стало древней историей для всех пассажиров вагона.
Но в конце концов Лидочка не выдержала и сказала своей соседке, не глядя на человека в кожаной кепке:
— Я знаю, почему убежала крыса.
— Почему? — Соня обрадовалась, что Лидочка наконец-то вступила с ней в разговор, — ее смущала неотзывчивость Лидочки.
— Вон тот парень у дверей кинул в нее жвачкой.
— Вполне возможно, — сразу согласилась Соня. — Мы живем в обществе, где понятия добра и зла перемешались. Зло правит нами.
Лидочка подумала, что краснощекая Соня похожа на школьную учительницу. У нее был профессиональный тон.
— Чего он хотел? — додумала вслух Лидочка.
— Он мог в меня попасть, — Соня состроила жалобную мину, маленький носик даже покраснел, — своей слюной. А что, если он болен СПИДом?
Это был странный вывод. Лидочка обернулась и встретилась глазами с молодым человеком, который запрокинул голову назад, обнаружив под козырьком черные томные глаза.
Он не отвел взгляд, и Лидочке почудилось осуждение, — может, он обладает таким невероятным слухом, что услышал, о чем они с Соней говорили? Это было немыслимо.
— Они снимают квартиры вокруг Москвы, — сообщила Соня. — Город буквально в осаде.
Лидочка поняла, что соседка имеет в виду «лиц кавказской национальности» — этим гнусным эвфемизмом пользовались даже члены правительства, ибо в нем скрывалась смесь опаски перед организованной сплоченностью чеченцев или, скажем, осетин и презрения великого белого человека к черноволосым кавказцам. Обыватель как бы мстил им за то, что грузины столько лет правили Россией и делали это столь уверенно и жестоко. Может, из-за этого в конфликте грузин и абхазцев многие россияне внутренне были на стороне абхазцев, а наемники из казаков в абхазской армии бились с грузинами не только за хорошие деньги.
Парень кавказской национальности отвернулся и снова посмотрел в окно.
Лидочка подумала: было бы хорошо, если бы он сошел раньше.
— Вам далеко? — снова спросила Соня.
— Мне через одну, в Переделкино, — сказала Лидочка.
— Молодец, — сказала Соня, как будто Лидочка правильно ответила урок, — мне тоже там выходить.
И, несмотря на недавнее желание поскорее отделаться от соседки, Лидочка искренне обрадовалась: Соня выходит вместе с ней, потому что в ней уже созрела внутренняя уверенность, что парень с крючковатым носом тоже едет в Переделкино и что он каким-то образом угрожает Лидочке.
Наверное, десять лет назад, нет, меньше — пять лет, Лидочка не обратила бы внимания на этого парня, по крайней мере, не заподозрила бы угрозы. Какая может быть угроза средь бела дня, когда вокруг люди? Да и кому нужна женщина средних лет и скромного вида? Но пять лет назад людей не расстреливали вот так, запросто у подъезда собственного дома, и в газетах не констатировались очередные убийства очередных банкиров и директоров. Казалось, что даже убийцы перестали бояться кары — масштабы преступлений маньяков стали теперь исчисляться десятками жертв, и это тоже стало привычным.
Лидочка не связывала того кавказского парня с ночными событиями у дома — к тому не было никаких оснований, но существовало какое-то внутреннее сходство безнаказанности. Лидочке показалось даже, что в мимолетном взгляде, брошенном на нее парнем с крючковатым носом, была наглая угроза, с какой кот смотрит на полузадушенную мышь, с которой еще не наигрался.
Поезд затормозил у занесенной снегом платформы — снег был настолько утоптан по краю, что легко было скользнуть под вагон, и углублен тропой по середине открытой платформы. Железные дороги сдавались разрухе последними, но сдавались и они. Платформы перестали убирать, ступеньки лестниц провалились, у единственного телефона-автомата была оторвана трубка, а бетонный забор, за которым тянулся густой высокий лес, частично рухнул — бетонные квадраты углами высовывались из снега.
— Вам с платформы направо? — спросила Соня.
— Да, — согласилась Лидочка.
Сердце сжалось — парень в кожаной кепке сошел с поезда и сразу стал виден, когда несколько человек, также покинувших электричку, потянулись к началу платформы, где была лестница.
Парень и не думал скрываться. Он словно поджидал Лидочку. Но на нее не смотрел.
— Он мне не нравится, — сказала Соня, как будто угадав мысли Лидочки. — Мне кажется, что он за нами следил. Кстати, у меня есть газовый баллончик. Вы не возражаете, если я его приготовлю к бою?
— Нет, не возражаю, — ответила Лидочка. С Соней ей стало как-то спокойнее. К тому же выглянуло солнце — февральское, еще холодное, но совершенно настоящее, светящее с синего неба, цвет которого был интенсивен из-за снежного царства вокруг. Загрохотала, набирая скорость, электричка и скоро унесла с собой не только грохот, но и все остальные звуки, словно высосала их из воздуха. Лидочка обернулась: парень с крючковатым носом стоял на платформе, разглядывая верхушки сосен. Женщины прошли так близко от него, что Лидочка заметила даже наклеенный на его щеке кусочек пластыря.
— Я надеюсь, что нам по дороге, — сказала Сонечка. — Вы меня взволновали этим чеченцем.
— Почему чеченцем? — спросила Лидочка, уже догадываясь об ответе.
— Они все чеченцы. Или азербайджанцы. Им дома не сидится, а мы, лопоухие, — лучшая в мире добыча. Толстые зайчики, грабь — не хочу.
Лидочка хотела было рассказать Соне, что на рассвете она видела, как убили человека, но спохватилась — получилось бы, что она как бы соглашается с Соней, а она не была с ней согласна. И Лидочка понимала, что в иной ситуации была бы даже рада отвязаться от Сони, существа мелкого, завистливого и питающегося не столько колбасой, сколько сплетнями и суевериями. Но сейчас она была даже благодарна Соне за то, что та мелко, как болонка, семенит рядом, — Лидочке хотелось оглянуться и посмотреть, следует ли за ними тот парень, но надо было заставить себя не оборачиваться. Даже если он идет сзади, он не должен догадаться, что Лидочка его боится, потому что, вернее всего, он очень хочет ее испугать. И только ли испугать?
— Вы не в Дом творчества писателей идете? — спросила Соня.
— Нет. Мне нужны дачи «Мемориала», за Домом творчества направо.
— Вот это совпадение! — обрадовалась Соня.
— Какое совпадение?
— Скоро узнаете. Я загадала и раньше времени не могу сказать.
Узкое шоссе, повернув, вывело их к воротам имения, которое, как сообщила Соня, принадлежало патриарху, потом дорога стала огибать кладбище.
— Вы знаете… — Соня показала на поднимающиеся на холм, прижавшиеся друг к дружке могилы.
— Здесь похоронен Пастернак? — угадала Лидочка вопрос Сони.
— Вот именно, — Соня была недовольна тем, что ей не удалось показать эрудицию. Она шмыгнула покрасневшим помидорчиком носа, поправила толстые очки и мелко засеменила вверх — дорога, обогнув кладбище, сбежала к мостику, за которым справа открылось заснеженное поле, а слева потянулся забор, принадлежавший, как сказала Соня, главному питомнику советских писателей. Здесь в творческих муках родились многие шедевры социалистического реализма. Соня явно повторяла чьи-то слова, вернее всего поэта-авангардиста, о котором и принялась рассказывать Лидочке:
— Я здесь позатот Новый год встречала, меня тогда один Борис кадрил, он потом в Штаты уехал. Ему самому путевку не дали, но у него там каждый второй — знакомый, вплоть до Евтушенки. Двое суток гудели. Группен-секс был самым невинным развлечением.
Соня привирала, но Лидочка не стала возражать. Сырой морозный ветер дул с поля.
— Здесь природа обалденная, — продолжала Соня. — Тишина, сосны — правда, компания смешанная. Приличных людей немного.
Видно, с авангардистом ничего не вышло. Даже в пределах группен-секса. В то же время поэт-авангардист, склонный к разврату, и в поклонниках украшает женщину. Это тебе не реалист Некрасов.
Из ворот Дома творчества, за которыми были видны старые дачи и гараж, вышла пара пожилых людей, тепло закутанных. Они придерживали друг друга, чтобы не поскользнуться. Шарфы у них были замотаны под поднятыми воротниками, точно как у первоклассников. Старички вежливо поздоровались с Соней.
— Еще помнят, — сразу сообразила Соня. — Два года прошло. Я с ними о жизни много говорила. Он Чехова помнит.
Лидочка не стала спрашивать Соню, в каком году умер Чехов, потому что Соня ответила бы, что речь идет о другом Чехове, скажем, о племяннике великого писателя.
Вскоре забор кончился, и они свернули на узкую дачную улицу, ограниченную оградами из штакетника. Ветер задувал сюда не так яростно, но все равно было зябко.
— Когда вы со мной рядом сели, — сказала Соня, и ее карие глазки излучали радость, — я подумала, вот бы хорошо, если бы мы с вами сошли на одной станции. Вы мне с первого взгляда понравились. Я подумала, а может быть, вы писательница?
— Я художница… и фотограф. Теперь — фотограф.
— А я что говорю! Это же почти одно и то же. Вот моя любимая писательница Вика Токарева, вы с ней незнакомы? Вика Токарева сама иллюстрации к своим книжкам рисует.
— Вот никогда бы не подумала.
— Вы еще много от меня узнаете! Вы будете благодарить небо, что оно нас свело.
Когда Лидочка сказала, что она фотограф, в том не было притворства. Когда-то она была убеждена в том, что отдала жизнь искусству. Но основным плодом ее таланта стали сотни акварельных иллюстраций к Большому ботаническому атласу СССР, который готовил ее институт. Лидочке пришлось уехать, а оригиналы пропали неизвестно куда. А в последние годы Лидочка увлеклась фотографией, сначала в качестве компенсации призванию, а потом — осознав, что обрела истинное занятие.
Направо вел узкий проулок.
Лидочка остановилась, чтобы попрощаться с Соней. Соня остановилась, чтобы попрощаться с Лидочкой, потому что, как они тут же признались друг дружке, нельзя поверить в столь невероятное, а впрочем, обычное совпадение.
Возвращаясь потом мысленно к произошедшим событиям, Лидочка понимала, что ею управляли чудодейственные совпадения. Ведь и утренняя пуля могла попасть Лидочке в сердце, и потом знакомые бы говорили: «Представляешь, какое невероятное совпадение! Она провожала Андрюшу, подошла к окну, и тут ей в сердце попала пуля рэкетира. В центре Москвы в шесть утра, ты представляешь?»
То, что Сонечка Пищик направлялась именно к Татьяне Иосифовне, а не в любой из домов по Киевской железной дороге — также было удивительным совпадением.
— Сейчас вы мне скажете, — радостно сообщила Сонечка, когда они бок о бок повернули в узкий переулок, — что вам нужна дача номер шесть — бывшего поселка «Чайка», в котором живут ветераны «Мемориала»?
— Дача шесть, — покорно согласилась Лидочка.
— И вам нужна Татьяна Иосифовна Флотская?
— Почему вы так думаете? — частично смирившись с господством случайностей и бессмысленностью здравого смысла, Лидочка все же сопротивлялась слишком обширным знаниям соседки по электричке.
— А очень просто, — глазенки Сонечки за очками сверкали, как в битве, полные щечки алели, а губы бантиком все старались разъехаться в тонкий полукруг — как рисуют дети смеющегося человечка: точка, точка, два крючочка… — Вы же признались, что идете на дачу номер шесть? Правильно?
— Правильно.
— А на этой даче зимой остается лишь одна Татьяна Иосифовна. Она работает над мемуарами. Ей нельзя мешать, ей нужен полный покой и изоляция. А другие дачи вокруг пустуют. Летом за них страшная драка между ветеранами. А зимой живи — не хочу. Вы знаете, эти ветераны лагерей совершенно не отличаются от ветеранов большевизма — такие же склоки и борьба за копейку. Честное слово. Я не выношу всех этих демократов-плутократов и других грабителей народа. Татьяна вам приказала продуктов привезти?
— А вы ее родственница? — осторожно осведомилась Лидочка. Ведь Соня знала даже о продуктах, в которых нуждалась Татьяна Иосифовна.
— Не совсем родственница, — возразила Соня и вытерла варежкой красный носик. — Я — лучшая подруга ее дочери. Это совсем не значит, что она меня за это любит.
— А я когда-то знала ее мать, — сказала Лидочка.
— Бабушку Маргариту? Так я ее еще по школе помню. Я помню, как она Аленку до третьего класса через дорогу водила.
Сумка с продуктами оттягивала руку: там четыре килограмма картошки, капуста, апельсины, отбивные, помидоры — общим весом больше чем полпуда.
Лидочка бросила взгляд на руки Сони — впрочем, этого можно было не делать, ведь они уже минут десять шагают рядом: хозяйственную сумку Соня не несет — только простую дамскую сумочку через плечо.
Лидочке хотелось спросить, почему Соня приехала налегке, но тут ей словно ударили в затылок: она обернулась.
Тот парень стоял у входа в тупик, отделявшийся от переулка, сунув руки в карманы синей, плохо гревшей куртки, кепка еще более съехала на нос. Он стоял и притопывал. Ему было холодно.
Соня тоже обернулась.
— Так я и думала! — громко заявила она. — Мелкий бандит. Сейчас я с ним поговорю.
— Постойте! — крикнула ей в спину Лидочка.
Но Соня уже уверенно направилась к парню, снимая на ходу с плеча сумку, будто это был автомат.
Похоже, что парень тоже решил, что в него сейчас будут стрелять. Он шагнул в сторону — и исчез.
И тут Лидочка догнала Соню.
— Ну что вы делаете! Вы с ума сошли! Чем вы хотели его испугать?
— Гласностью, — ответила Сонечка. — Преступный мир тем и известен, что боится гласного суда.
В переулке возникли быстро шагающие молодые люди — компания, видно, из местных, потому что они громко обсуждали поведение какого-то Степана, но тут же они миновали просвет между заборами, словно сцену, и скрылись за кулисами.
Сцена была пуста.
— У меня газовый баллончик, — сказала Соня. — Я уже вам об этом говорила?
— И все же давайте пойдем к Татьяне Иосифовне, — попросила Лидочка.
Соня похлопала себя по сумке.
— Вот здесь лежит. И знаете — ужасно хочется попробовать, но, как назло, никто на меня не нападает. Я даже жду.
— Едва вы успеете вытащить газовый баллончик, как любой бандит отнимет его у вас прежде, чем вы из него выстрелите. И очень на вас рассердится.
— А вот это мы посмотрим, — сказала Соня, но Лидочке удалось развернуть ее и направить к даче.
За зеленым штакетником густо стояли елки и березы, указывая на то, что участок — не коммерческий, а дача в традиционном понимании этого слова, придуманная еще Чеховым: там пьют чай на веранде, танцуют под граммофон или более современное устройство, флиртуют за сиреневым кустом, стреляются в белой беседке… но никогда не разводят картошку или огурцы. В лучшем случае, крыжовник.
Дач было несколько, от калитки можно насчитать пять. Лишь к двум из них вели тропинки, вытоптанные в глубоком снегу.
— Мы у нее с Аленой два раза были, — призналась наконец Сонечка.
Она просунула руку сквозь доски и нащупывала крючок или засов.
— Алена — это кто? — спросила Лидочка.
— Алена — ее дочка. Вы разве не знаете?
— Я же сказала, что никогда не видела Татьяну Иосифовну.
За ночь поднасыпало снега, и потому открыть калитку было нелегко — пришлось навалиться вдвоем, и на снегу остался очищенный полукруг.
Они прошли к даче гуськом.
Татьяна открыла не сразу, пришлось ждать минуты три. Сонечка, относившаяся к Татьяне Иосифовне скептически, сообщила:
— Думаете, она нас не видела? Она наверняка с утра у окошка стоит. Но надо же гонор показать. К тому же она сейчас вычисляет, почему это черт нас вместе принес? А вдруг мы знакомы?
Наконец за дверью послышались шаги, и оттуда донесся низкий голос:
— Не открывайте сразу, я отойду, чтобы не простудиться.
Щелкнул замок.
— Раз, два, три, четыре, пять, — сказала Соня. — Вышел зайчик погулять…
Так как Соня медлила, Лидочка сама отворила дверь.
Они оказались в прихожей, кое-как освещенной из узкого окна над дверью.
Дверь в комнату приотворилась. Татьяна Иосифовна сопливо спросила в щель:
— Дверь на улицу закрыли?
— Закрыли.
— Как следует? А то она неплотно прикрывается, и из-под нее дует.
— Все в порядке, Татьяна Иосифовна, — сказала Соня. — Мы как следует ее закрыли.
И тут Лидочка почувствовала в голосе своей новой знакомой необычные нотки — опаски, легкого повизгивания, какими встречает мелкая собачонка забредшего на площадку дога.
Дверь в комнату заскрипела, преувеличенно громко, словно в фильме ужасов. Татьяна Иосифовна отпрянула назад, прижимая к лицу носовой платок.
— Я надеюсь, — прогундела она сквозь платок, — что вы не принесли с собой инфекцию.
Это было странно слышать от простуженного человека.
В комнате было жарко и душно, пахло дешевыми духами, под потолком жужжали мухи.
— Здравствуйте, — сказала Лидочка, — моя фамилия Берестова. Я договаривалась с вами о встрече по телефону.
— Заходите, заходите, дитя мое, — сказала Татьяна Иосифовна жеманно.
Она была мягким, расширяющимся к полу существом в лиловом халате. Но как только Татьяна Иосифовна отняла от носа платок, Лидочка увидела, что лицо хозяйки не совсем соответствует столь объемному и текущему к земле телу. Толстощекое лицо было снабжено острым, красным в конце британским носом, тонкими сомкнутыми губами и выступающим вперед острым подбородком. Еще несколько лет, и это лицо станет лицом старой карги, ведьмы, злой колдуньи — пока же будущее в значительной степени скрывалось за дымчатыми очками. Если очки Сони были невелики и безжалостно уменьшали и без того небольшие глазки, то очки Татьяны Иосифовны могли заменить собой колеса старинного автомобиля, и глаза за ними казались карими, в зелень, озерами, что смягчало резкий и неприятный облик пожилой женщины.
Лидочка оглянулась на Соню, не будучи уверена, к кому из них относится приглашение, но Соня оставалась в дверях, всем видом изображая почтение и даже смирение. Значит, приглашали не ее.
Татьяна Иосифовна не замечала Соню.
Даже не поздоровалась с ней.
— Пальто вешайте здесь, — сказала она Лидочке. — Тут же снимайте обувь — мне за вами трудно убирать. Вчера ко мне привели целый класс — познакомиться с настоящей писательницей! — Тут Татьяне Иосифовне пришлось прервать рассказ и шумно высморкаться. Но и без этого Лидочке было понятно, что школьники в передней у писательницы наследили и ей пришлось за ними убрать. Может быть, из-за этого писательница и занемогла.
Лидочка разделась, а все еще незамечаемая Соня повторяла ее движения, и, пока Лидочка, сидя на стуле, стаскивала сапоги, Соня стояла, опершись об этот же стул рукой, и другой тоже снимала сапоги.
Тем временем Татьяна Иосифовна взяла у Лидочки сумку с продуктами и исчезла с ней — видно, пошла разбирать. Лидочка оказалась права, потому что почти сразу справа, где, по всей видимости, была кухня, донеслись возгласы удовлетворения, низкие, басовитые, напоминавшие Лидочке уханье марсиан из «Войны миров», когда те кушали добрых англичан.
— Чего ты ей такого притащила? — вполголоса спросила Соня.
— Что она попросила. Картошки, мяса, еще чего-то…
— С рынка? Мясо с рынка?
— Мясо с рынка.
— Это она ценит.
И Лидочка поняла, что Соня почему-то нуждается в Татьяне Иосифовне, но при том побаивается и недолюбливает ее. И эти чувства взаимны.
— Спасибо, Лида, — произнесла Татьяна Иосифовна, вернувшись в комнату. — Если бы не жестокая простуда, я бы вас расцеловала. Это ничего, что я вас просто по имени называю? Ведь я вдвое старше вас, Лидочка. Вы знаете, что я должна вам сказать? Да вы проходите, проходите в комнату. Шлепанцы нашли? Так проходите. И садитесь пока.
— Я вам помогу готовить…
— Это мы еще обсудим. Соня, поищи получше, там должны быть другие шлепанцы, я не желаю, чтобы ты разгуливала по дому босиком и оставляла всюду следы.
— Какие следы может оставить человек в чулках? — спросила Соня.
— Грязные, — лаконично ответила Татьяна Иосифовна.
Соня присела на корточки у вешалки, возле которой были свалены сапоги, валенки, туфли и даже, кажется, галоши.
— Мне и без того трудно выходить из дома. И некогда, и трудно. И как вы понимаете, люди привыкли тебя использовать, радуются такой возможности, но очень редко сами способны на альтруистические поступки. Вы меня понимаете?
— Если вы обо мне…
— Меньше всего я думала сейчас о тебе, девочка. Ты — счастливое исключение.
— Я к вам приехала, — вмешалась забытая Соня, — чтобы поговорить об Алене.
— Ну что там еще у вас произошло? — капризно спросила Татьяна Иосифовна.
— Еще не произошло, — произнесла Соня так, словно сообщила о завтрашнем наводнении, — но в любую минуту может произойти.
Лидочка последовала за Татьяной Иосифовной на кухню, так как поняла, что ее присутствие там может понадобится. Соня тоже направилась на кухню, к счастью просторную. Продукты, привезенные Лидочкой, были разложены на столе, который никто не вытирал лет пять.
— Я плохой повар, — сказала Татьяна Иосифовна и склонила голову, словно клюнула что-то острым ножом. — Моя жизнь сложилась так, что я почти всегда голодала. Для меня было счастьем съесть целую картофелину. Но приходилось делить ее с ребенком. И ребенку доставалась большая часть.
Лидочка поймала себя на недостойной мысли — ей представилось, как Татьяна Иосифовна делит большую-большую картофелину на две части и себе берет меньшую, но потом добавляет к ней шмат сала и всякие прочие яства, и это называется у нее суп из топора.
— Я распухла еще в ссылке, — сказала она Лидочке, словно угадав, что ее вид неубедителен для новой знакомой. — Я была у сотни врачей, последние годы провела на диете. Даже в Голландию в прошлом году ездила — там практикует удивительный чародей с острова Бали… — Вдруг ее тон изменился. — Это вам не так интересно! Вам кажется, что жизнь еще впереди и вы никогда не станете такой же старой развалиной, как я. И это неправда!
Теперь перед Лидочкой стояла Складовская-Кюри, только что открывшая радиоактивность.
— Вы будете старыми, дряхлыми, немощными. Это неизбежно… Но я провела жизнь в мучениях и тоске по ближним, я была лишена жизни и потому имею право быть уродливой. А вы нет!
— Вы не уродливая, — поспешила возразить Соня.
— Что же вы тогда именуете уродством, мои крошки? — Татьяна Иосифовна усмехнулась. И тут же, не дожидаясь ответа, продолжила: — Я думаю, что мы обойдемся без супа. Но вот мясом и картошкой займется Лидия. Я убеждена, что она отлично готовит. К тебе, Софья, у меня доверия нет, готовишь ты плохо, — сказала она, забыв о Лидии и выходя из кухни с Соней, словно вопрос с обедом был уже окончательно решен.
Уже войдя в комнату, Татьяна Иосифовна крикнула оттуда:
— Я разберусь с Соней и тут же поговорю с вами. Так будет лучше, Лидочка.
«Что ж, — подумала Лидочка, — не будем спорить, ибо если моя миссия удастся, если я приехала сюда не зря, то можно приготовить ей обед».
Кухня была оборудована разномастно, скудно, но посуды было достаточно для троих, только найти тарелки и ложки удалось не сразу, — видно, Татьяна Иосифовна пользовалась только одним комплектом и редко мыла посуду. Ее мало кто навещал, если и навещали, то не кормились. На счастье, в кухне была газовая колонка, и Лидочка пустила воду, чтобы сначала хотя бы вымыть кастрюлю и нож. Потом уж, пока картошка будет вариться, она вымоет остальное.
Несмотря на то, что лилась вода и шумела газовая колонка, Лидочка отлично слышала беседу, что велась за стенкой, — перегородка была фанерной или картонной, да и женщины вскоре после начала разговора повысили голоса. Лидочка не испытывала угрызений совести из-за того, что подслушивает чужие тайны: ведь, в конце концов, Татьяна Иосифовна знает об акустических особенностях ее дома. Да и нет особенных тайн в разговоре, хотя, конечно, он не предназначен для посторонних ушей.
— Ты могла бы чего-нибудь привезти, — это были первые слова Татьяны, услышанные Лидочкой. — Посмотри, Лида — чужой человек, совершенно чужой, но не поскупилась на элементарные продукты для пожилой женщины.
— Неужели вы ей не подсказали, что вам нужны эти элементарные продукты? — спросила Соня, показывая зубки.
— Она — чужой человек, впервые здесь.
— И еще не знает, как вы умеете использовать людей.
— Еще одна подобная фраза, Соня, и ты вылетишь отсюда.
— Лиде что-то от вас нужно, вот пускай и старается. А я к вам притащилась из-за вашей дочки, в этом вся разница.
— Как ты цинична, Соня.
«В таких случаях, — подумала Лидочка, — спортивные комментаторы говорят, что боксеры проводят разминку».
— Вы не спрашиваете, почему я вдруг приехала. Взяла и приехала, — послышался голос Сони.
— Чтобы пообедать? — с иронией спросила хозяйка дома.
У нее был молодой голос, он не состарился вместе с хозяйкой. Когда говоришь с такой женщиной по телефону, рассчитываешь увидеть благородное изящное существо — только таким природа дает звучные с хрипотцой голоса. Здесь же природа схитрила.
— Меня беспокоит состояние Алены, — произнесла Соня.
— Оно всех давно беспокоит, — ответила Татьяна Иосифовна, щелкнув зажигалкой и, видимо, закурив сигарету.
— У меня такое впечатление, что она на грани срыва, — сказала Соня.
— И это заставило тебя бросить все и кинуться ко мне, в глушь, зная, что я давно уже не авторитет для собственной дочки и что мои увещевания вызовут лишь обратную реакцию.
— Но все же вы ее мать. А я ее ближайшая подруга.
— Меня вообще удивляет, что у Алены может быть подруга. Я вспоминаю слова: «И у крокодила есть друзья». Ты слышала?
— Неужели вам безразлична судьба вашей единственной дочери?
В голосе Сонечки задрожали слезы.
— О господи! Почему я родилась в стране демагогов?! — воскликнула Татьяна Иосифовна. — Ты лучше расскажи мне, что вам с Аленой или тебе одной от меня нужно. Только учти, что денег у меня нет и никогда ни для Алены, ни для тебя не будет.
— Мне не нужны ваши деньги, — сказала Соня. — Я приехала, потому что всерьез обеспокоена судьбой Алены. Вы знаете, что она практически перестала принимать пищу. Она похудела на пять килограмм.
— Я мечтаю об этом.
— В ваши годы об этом можно не задумываться.
— Не спеши загонять меня в могилу.
Лидочка хотела отбить мясо, но потом передумала. Ей становился весьма любопытен нечаянно подслушанный разговор о незнакомой Алене, дочери Татьяны Иосифовны, и уж совсем не хотелось напоминать собеседницам, что за стеной стоит невольная слушательница.
— Так что же изменилось? — Татьяна Иосифовна сердилась. — Чем ее состояние отличается от того, что было год назад?
— Она в кризисе.
— Это что означает?
— Это означает, что Алена близка к самоубийству. Я не боюсь этого слова, потому что я стараюсь предотвратить это несчастье, но я не всесильна.
— А чем я могу помочь?
— Вы рассуждаете, будто вы и не мать Алены, а совершенно посторонний человек. Даже соседи по дому беспокоятся о ее состоянии.
Разговор за стеной прервался.
Лидочка представила себе, как Татьяна Иосифовна, вальяжно расположившись на диване, медленно курит, не глядя на Соню, а та нервно примостилась на краешке стула, готовая продолжить свою речь и понимая, что у нее нет слушателя.
Лидочка представила себя на месте Сони — и ощутила бессилие от бесплодной попытки выполнить миссию.
— Ты хочешь, чтобы я позвонила и поговорила с ней? — спросила наконец Татьяна Иосифовна.
— Только при условии, что вы не скажете, что я к вам приезжала.
— Ну уж совсем сумасшедший дом! А с чего это я ей позвоню? Что я ей скажу? До меня дошли слухи?..
— Если она узнает, что я ездила к вам, она меня никогда не простит. Вы сделаете еще хуже. Вы не представляете! Она же как на краю пропасти — неосторожный толчок, и она может сорваться вниз!
Соня громко всхлипнула, Татьяна Иосифовна недовольно произнесла:
— Не надо этих театральных представлений. Они никому еще не помогали.
— Я не представляю…
— Мне пришлось, в отличие от тебя, прожить трудную жизнь, на грани голодной смерти, поминутно всем рискуя. И я научилась эту сволочную жизнь ценить. Ценить каждую ее минуту!
— Татьяна Иосифовна, я все знаю, — устало произнесла Соня. — Мы же сейчас не о вас говорим, а об Аленке. Вы же живете в отдельной даче, водопровод, канализация и так далее. А ваша дочь в Москве готова покончить с собой.
— Но уж не от голода! — воскликнула Татьяна Иосифовна. — А от простой банальной причины, которую я называю распущенностью.
— Вы можете называть это как хотите, но я, как ее ближайшая подруга, официально вам заявляю: Аленушка страдает. Искренне страдает. Из-за этого мерзавца она готова покончить с собой.
— Когда на сцене появляется очередной мерзавец, я это и называю распущенностью. Нельзя метаться всю жизнь в поисках мужских объятий. Нужно уметь сохранить чувство человеческого достоинства.
Лидочка поставила кастрюлю с очищенной картошкой на плиту, потом стала искать, где Татьяна хранит масло, чтобы поджарить мясо. Она опустилась на корточки, открыла дверцы шкафа под кухонным столом. Оттуда выбежали вереницей несколько больших черных тараканов. Лидочка отпрыгнула и чуть не села на пол — она не выносила этих тварей.
— Извините, — бубнила за стеной Соня. — Я приехала к вам не потому, что люблю слушать ваши поучения. Со мной все в порядке. Я не собираюсь травиться или стреляться. Речь идет о вашей единственной дочери.
— Но я же не могу к ней поехать! Я физически не в состоянии.
— Заставьте ее приехать к вам! Прикажите. Вы же умеете.
— Ну, хорошо, хорошо. Я сейчас кончаю шестую главу воспоминаний. Кстати, как тебе название: «Остров ГУЛАГа». Правда, неплохо? Я билась над названием две недели. А в пятницу проснулась ночью и подумала: ведь лагерь — это остров, один из островов — ты меня поняла?
— Татьяна Иосифовна! — Сонечка могла быть упорной. — Я приехала к вам потому, что боюсь за судьбу вашей дочери. Неужели вы не понимаете, что речь идет о жизни и смерти хорошего человека! При чем тут название книги?
— Жизнь нам дается только один раз… — начала было Татьяна Иосифовна и оборвала сразу, узнав, видно, в ней неудачную цитату.
Лидочка чуть было не рассмеялась: уж больно забавно прозвучала цитата в устах Татьяны Иосифовны.
Подсолнечное масло обнаружилось в холодильнике, на дне литровой банки.
— Вы говорите о своей дочери, — голос Сонечки повысился, она перешла в наступление, — словно она вам чужой человек, будто мы с вами не сидели на кухне и не обсуждали ее судьбу после первой попытки самоубийства.
— Ах, ты напомнила! — с сожалением произнесла Татьяна Иосифовна и вплыла на кухню. Лидочка как раз собиралась лить масло на сковороду.
— Нашла масло? А я боялась, что не найдешь. И, пожалуйста, Лидочка, не трать много масла — мне так трудно ходить в магазин.
Соня стояла в дверях, смотрела в спину старой писательницы и старалась привлечь внимание Лидочки гримасами и дать ей понять, с каким чудовищем ей, Сонечке, ратующей за спасение подруги, приходится иметь дело.
— Ты, разумеется, слышала наш разговор, — утвердительно произнесла Татьяна Иосифовна. — Не возражай, здесь перегородки фанерные, каждое слово слышно.
— Я занималась обедом, — ответила Лидочка, но это прозвучало как попытка оправдаться.
— Я ценю твою деликатность, но она сейчас никому не нужна. И раз уж ты оказалась здесь в это время и в этот час, — старая женщина подняла вверх толстый указательный палец, как бы призывая аудиторию к молчанию, — то тебе недурно бы знать, что Алена — моя родная дочь, ей тридцать два года, она ни на что не годна…
— Татьяна Иосифовна, ну как вы можете! — теперь Соня готова была расплакаться.
— Да, могу! Имею на то моральное право! — Она обернулась к Лидочке. — А знаешь ли ты, Лидия, что за последние годы Алена ни разу не удосужилась навестить больную мать, не привезла ей жалкого кусочка хлеба! Ни разу не поздравила с Рождеством. В это трудно поверить? Но это именно так.
— Но речь идет о ее жизни! — вмешалась Соня.
— Хватит! Я знаю, что Аленочка истеричка! — Теперь обе они стояли на кухне, почти прижимаясь к Лидочке, и кричали друг на дружку через ее голову. — Еще в школе она устраивала дикие скандалы — мне пришлось трижды переводить ее в разные школы.
— Но не об этом сейчас речь! Не время выяснять отношения. Вы должны поговорить с ней, иначе будет поздно.
— Она уже пять раз устраивала самоубийство! — кричала Татьяна Иосифовна Лидочке. — Пять раз, и каждый раз весьма разумно! Так, чтобы не повредить своему здоровью.
— Как вы смеете! Это голый цинизм! — кричала Соня в другое ухо Лидочке. — Вы потеряете последнее близкое вам существо на этом свете.
«Господи, они же обе на сцене, а я — зрительный зал. И еще заплатила за билет натуральным продуктом».
— Прекратите бой, — попросила Лидочка. — Скоро ленч будет готов.
— Ленч? — Татьяна Иосифовна как бы переваривала значение слова. Потом поняла, улыбнулась. — Ленч, — повторила она. — Какое сладкое слово. Вот именно, сладкое. Со мной сидела одна болгарка из Земледельческого союза, если не ошибаюсь. Она всегда говорила это слово — сладкая погода, сладкий надзиратель…
На время бой прекратился — женщины принялись помогать Лидочке накрывать на стол, а Татьяна Иосифовна вовсе расщедрилась и достала полбутылки «Мартини», сообщив, что к ней приезжали брать интервью из «Столицы», и она взяла гонорар бутылкой «Мартини».
Перемирие, отвлечение от главной темы спора, было кратким, но продолжение спора приняло несколько иной характер. Татьяна Иосифовна сказала Лидочке:
— Вся моя молодость прошла в лишениях. Мне не на кого было опереться, и прежде чем я осознала себя и свое место в жизни, я уже попала под тяжелый пресс сталинских репрессий.
Татьяна Иосифовна говорила все громче, как бы с трибуны.
— Я старалась дать Аленочке все, что могла. Но много ли могла я? Мне приходилось отрывать от себя последние куски!
— Татьяна Иосифовна! — вмешалась Сонечка. — Не надо об этом!
Татьяна Иосифовна осторожно отрезала кусок мяса, осмотрела его и спросила:
— А у вас на рынке есть санитарный контроль?
Неожиданный переход сбил Лидочку с толку — она даже не сразу сообразила, что же Татьяна Иосифовна имеет в виду?
Но и Татьяна Иосифовна забыла о вопросе, потому что обернулась к Соне и сказала ей:
— Алена может иметь ко мне субъективные претензии. Но никак не объективные. В конце концов, факт наличия у меня собственной личной жизни не должен был отвращать ее.
— Я не говорю о прошлом! — Сонечка посмотрела на Лидочку умоляюще, словно искала у нее поддержку. — Но сегодня вашей дочери очень плохо. Она близка к смерти.
— Ах, оставь, я ненавижу шантаж! — воскликнула Татьяна Иосифовна. — К сожалению, с возрастом у Аленки выработался псевдосуицидальный комплекс. Вы меня понимаете? То есть Алена стремится к самоубийству, но не к самой смерти, а к попытке, чтобы вызвать сочувствие или страх у окружающих. В первую очередь у разочаровавшихся поклонников.
— Татьяна Иосифовна! — взмолилась Соня. — Поймите же, что у Алены, кроме нас с вами, нет близких людей.
— Она сама в этом виновата.
— У нее нет никого! Неужели родная мать от нее отвернется?
Обе женщины удовлетворяли свою страсть к театральности, обеим роли достались трагические, со слезой, и конфликт грозил достичь древнегреческих высот.
— Лучше тебе уехать, — сказала Татьяна Иосифовна. — Пока еще не поздно, тебе лучше вернуться в Москву. Твое присутствие выводит меня из себя.
— Я не уеду, пока не добьюсь от вас согласия позвонить Аленушке. Хотя бы позвонить.
— Ну подожди, сначала поедим, — ответила, подумав, Татьяна Иосифовна.
Она стала быстро и обильно накладывать себе в тарелку картошку и мясо, словно мысленно уже отсчитывала, кому сколько положено, и себе, как старшей, выделила большую дозу.
Она ела шумно, мелко и быстро, как бы стараясь растянуть удовольствие от еды и в то же время насладиться как можно интенсивнее.
Соня ела также с удовольствием, но, поймав на себе взгляд Лидочки и ложно истолковав его, громко сказала:
— Кусок в горло не лезет, честное слово.
— Это от избалованности, — заметила Татьяна Иосифовна. — Ты не знаешь цену сухой горбушке.
— Вы бы радовались, что мое поколение обошлось без этого, — ответила Соня. — А вы как будто злорадствуете.
— Я говорю горькую и нелицеприятную правду. И мало кто любит ее слушать.
Соня вздохнула и отрезала кусочек мяса. Лидочка видела, что Сонечка голодна и с удовольствием умяла бы всю тарелку, но она сама загнала себя в роль несчастной подруги, лишившейся аппетита.
— А кто чайник поставит? — спросила Татьяна Иосифовна. — Лидочка привезла торт, и он уже почти разморозился.
Соня поднялась и спросила:
— А где чайник?
— Синий чайник стоит на плите. Милостями Лидочки даже растворимка появилась в нашем доме.
Сонечка пожала крутыми плечиками и направилась на кухню. Татьяна Иосифовна спросила Лидочку:
— Вы мне рассказали по телефону о шкатулке. Может, вы сможете ее описать?
— Разумеется! — сказала Лидочка. — Эта история началась еще до войны. Моя бабушка дружила с вашей мамой.
— Я знаю, знаю! — радостно ответила Татьяна Иосифовна. — Я даже нашла ее фотографию. Соня, достань альбом. Вон там, на стеллаже. Правее, еще правее. Ну что же ты, слепая, что ли? Синий! Вот именно. Спасибо.
Соня уселась на свое место, а Татьяна Иосифовна раскрыла старый, переполненный наклеенными, а то и просто вложенными фотографиями, альбом. На первой странице оказалась групповая фотография, судя по одежде — тридцатых годов.
— Вот моя мама, а рядом — ваша бабушка, Лида. Мне же мама все рассказывала. Я сама плохо помню вашу бабушку, но мама рассказывала. И я сразу узнала. Я поэтому и вас сразу узнала.
На глянцевой, чрезвычайно четкой фотографии — так и представляешь себе покрытый черным платком, согнутый вперед торс фотографа, как бы приставленный сзади к деревянной, на ножках коробке с пирамидальной гармошкой объектива, — была изображена группа людей на фоне фонтана и пальм. Группа состояла из нескольких обритых либо коротко остриженных мужчин в белых сорочках и светлых мятых брюках, возлежащих у ног легкомысленно хохочущих девиц в сарафанах и панамках. Все эти люди излучали жизнерадостность и беззаботность.
— Тридцать пятый год, — сообщила Татьяна Иосифовна. — Мало кто из них протянул больше двух лет.
— Это точно ваша бабушка, — сказала Соня, показав на молоденькую Лидочку, стоявшую в обнимку с бровастой, пышной, чернокудрой красавицей.
— Правильно, — согласилась Татьяна Иосифовна, — а рядом моя мама. Меня же, как всегда, оставили в Москве.
— А я думала, что вашего папу в честь Сталина назвали, — разочарованно произнесла-протянула Соня. — А он получается старше.
— Нет, когда папа родился, никто не подозревал о том, что один грузинский бандит станет освободителем человечества. Поэтому моего папу назвали так в честь одного плотника.
— Плотника? — удивилась Соня. — А почему плотника?
— Такая была специальность у папы Христа. Иисуса Иосифовича. Поняла?
— Ах, я совсем забыла, — Соня покраснела, даже круглый носик покраснел. Особенно покраснели щечки — казалось, что их незаметно помазали свеклой.
— Тогда считали, — сказала Лидочка, — что с вашей мамой, с Маргошкой, ничего не случится. Она имела большие заслуги перед партией… — Лидочка, произнеся эту формулу, сделала осторожную паузу, опасаясь, что вызовет вспышку гнева у диссидентки, но Татьяна Иосифовна лишь послушно склонила голову. — И ее муж, ваш папа, занимал большой пост.
— Это никому не помогало, — сказала Татьяна Иосифовна. — Сталин с наибольшей яростью уничтожал старые ленинские кадры.
Она вздохнула. Сонечка, как дитя другой эпохи, не подумав, произнесла:
— Что Сталин, что Ленин — один сатана.
— Ах, что ты понимаешь! — вздохнула Татьяна Иосифовна.
Сонечка и в самом деле ничего не понимала.
— Моя бабушка, — сказала Лида, — оставила у Маргошки шкатулку с археологическими находками и дневниками деда. На время. А потом началось…
— И всех арестовали? — спросила Соня.
— Не сразу, — ответила Лидочка. — И это — долгий рассказ.
— Человеческие судьбы — всегда долгий рассказ, — подтвердила Татьяна Иосифовна.
— Все эти годы в нашей семье сохранялась надежда, — продолжала Лида, — что шкатулка с находками и документами хранится где-то в вашем доме. Ведь Маргарита, как я знаю, даже чувствуя опасность ареста, уговаривала мою бабушку не брать у нее шкатулку. Потому что она хранит ее в безопасности.
— Она не смогла сохранить не только себя, но и меня! — с осуждением заметила Татьяна Иосифовна.
— Господи, какая тайна! Как интересно, — прошелестела Соня.
— А поэтому вы можете понять, что мы никогда не теряли окончательно надежды, — сказала Лидочка. — Ведь так хочется надеяться.
— А какая это была шкатулка? — спросила Татьяна Иосифовна. — Если она была в нашем доме, то я бы запомнила, я помню все мамины вещи.
— Вряд ли Маргарита увезла эту шкатулку в тюрьму или в ссылку.
— Но она могла выкинуть все вещи, а шкатулку использовать как ящик, — предположила Соня. Лидочка давно допускала такой вариант и огорчилась тому, что, помимо нее, так же думает посторонний человек.
— У меня есть ее рисунок. Моя мама сделала его по памяти.
Лидочка достала лист, сложенный вчетверо.
Она развернула его на столе, между тарелками. Это была простая шкатулка, формой напоминающая сундучок, из-за того что крышка была немного выпуклой.
Шкатулка стояла на ножках, сделанных в форме деревянных шариков, а рядом аккуратно были проставлены размеры — двадцать на тридцать два сантиметра, а высота — шестнадцать сантиметров.
— Она большая, — сказала Сонечка, отмерив расстояние на столе.
— И тяжелая, — добавила Лидочка.
— Нет, — уверенно сказала Татьяна Иосифовна, — такой шкатулки я не видела.
Лидочка, конечно же, готовила себя именно к такому ответу, но тем не менее была ужасно расстроена.
— Вы говорите об археологических находках, — произнесла Татьяна Иосифовна. — «А может быть, они лежали не только в шкатулке?»
Лидочка подхватила кончик путеводной ниточки.
— Как же я не подумала! Конечно, что-то могло сохраниться и без шкатулки.
— Впрочем, — Татьяна Иосифовна склонила крупную птичью голову, посаженную на моржовое тело, — я могла и видеть шкатулку, но не обратить внимания… В каком году, вы говорите, она была передана моей маме?
— В тридцать восьмом.
— За три года до ареста мамы.
— И вам уже было… — Лидочка запнулась.
— Мне было восемь.
— Но, может, Маргарита хранила шкатулку в другом месте?
— Где? — вскинулась Татьяна.
— На даче?
— У нас тогда была государственная дача. Мама никогда не хранила там ценных вещей. Садовый участок она купила уже в конце пятидесятых.
— Но у родственников…
И тут Лидочка обратила внимание на то, что Соня подмигивает ей. Она даже не поверила сначала своим глазам. Что хочет сказать Соня?
— У нас было мало родственников, и никто не пережил этой кровавой бойни, — заявила Татьяна Иосифовна, подводя итог разговору. — Но я допускаю, что мама могла куда-то спрятать вашу коробку. И затем скрыть от меня сам факт обладания ею. Допускаю… Она не хотела, чтобы я знала то, о чем лучше не знать. Лишнее знание в те годы — лишний риск. Лишний шанс погибнуть. Она и без того меня не уберегла.
— А что она могла поделать? — вмешалась Соня.
— Не мне сейчас судить маму, — ответила Татьяна Иосифовна, и стало понятно, что она давно уже ее осудила.
— Если бы я за мою мамочку взялась, — вздохнула Соня, — на ней бы живого места не осталось. Я уж не говорю о моем родителе. Но у них была своя жизнь, Татьяна Иосифовна. А то тут недолго и вас осудить.
— Это не входит в твою компетенцию, — холодно оборвала ее Татьяна Иосифовна. — Когда у тебя будут собственные дети, тогда мы посмотрим, как ты будешь себя вести. — Сказав так, Татьяна взяла кастрюлю и выскребла из нее на свою тарелку остатки картошки. Потом полила ее соусом с пустой уже сковородки.
— Не исключено, что у Маргариты были драгоценности. Аленка как-то вспоминала, что у бабушки было кольцо с изумрудом.
— Чепуха, — заявила Татьяна. — Маргарита была бессребреницей. Это было ленинское поколение революционеров, которые не думали о выгоде для себя. Вы путаете ранних идеалистов и хапуг тридцатых и сороковых годов.
Татьяна Иосифовна бросила на тарелку кусок хлеба и, насадив его на вилку, стала возить по донышку, чтобы собрать самое вкусное.
— Я думаю, что никогда не избавлюсь от чувства голода, — сказала она, почувствовав взгляд Лидочки.
— Я вас так понимаю, — вдруг поддержала старуху Соня. — Я ночью встаю, иду на кухню, открываю холодильник, достаю кусок колбасы и жую, представляете?
«Интересно, почему Соня подмигивала мне? Имело ли это отношение к шкатулке? Но есть возможность проверить…»
Татьяна выскребла тарелку и спросила:
— А что у нас с кофе, девочки? — Она явно подобрела.
— Я сейчас принесу чайник, — сказала Лидочка.
— Ты, по-моему, хозяйственная, — решила Соня. — А я в чужих домах совершенно не ориентируюсь.
Лидочка не поняла, хвалят ее или осуждают.
— Ну, где же наш торт? — капризно спросила Татьяна. Лидочка принесла из кухни чайник, затем поднос с чашками и торт. И, садясь вновь за стол, как бы невзначай заметила:
— Видно, мне не остается ничего другого, как спросить о шкатулке вашу Алену.
— Конечно, — сразу, с готовностью согласилась Соня. — Именно так. Я вам дам ее адрес. А то, хотите, сама спрошу.
— Спасибо, — сказала Лидочка. — Мне очень хочется надеяться, что хоть что-то от этой шкатулки сохранилось. Клянусь, там не было никаких драгоценностей — только дневники моего деда и археологические находки.
— А какие находки? — спросила Соня.
— Когда-то перед революцией мой дед копал в городе Трапезунде, в Турции.
— А как он туда попал?
— В то время там стояли русские войска.
— И он сделал открытие?
— Да, он сделал открытие.
— А как к этому отнеслись турки?
— Честное слово, не знаю. Но, насколько мне известно, находки связаны не с турками, а с грузинами.
— Я вас потому слушаю, — сказала Соня, — что у меня в памяти все это всплывает, — она и в самом деле будто прислушивалась к собственным воспоминаниям и искренне желала вспомнить. — И мне даже кажется, что я помню рассказ о тетрадях — они были в синих твердых переплетах.
— Правильно, Соня, — в Лидочке проснулась надежда. — И где вы могли их увидеть?
— Я постараюсь вспомнить, — сказала Соня.
— Я все более склоняюсь к тому, что шкатулка была спрятана на маминой даче, — подсказала Татьяна Иосифовна. Она произнесла эти слова с каким-то вторым значением, которого Лидочка не могла разгадать.
— Свежо предание, но верится с трудом, — кухонным голосом отрезала Соня. — Вы же отлично знаете, что дача сгорела.
— Ах, я об этом все время забываю. Это так далеко от меня. К тому же мне «Мемориал» выделил настоящий дом, с газом, ванной, не то что мамина хибара.
— Что ж делать, — съязвила Соня. — У кого-то «Мерседес» по заслугам, а кто-то на мотоцикле всю старость проездил.
— Лучше пойди и поставь снова чайник, — велела Татьяна Иосифовна. — А то кипятку на донышке осталось.
Сонечка послушно поднялась и прошлепала на кухню, отбивая шаги задниками старых тапочек.
— Меня очень беспокоит Алена, — тихо сказала Татьяна Иосифовна. — Я стараюсь не показать это при дурехе Соне, но на самом деле я буду тебе очень благодарна, если ты съездишь к Аленке, не только из-за шкатулки, а как… ну как молодая, но старшая родственница.
— Я же не родственница.
— Ах, какая разница. Ты давно уже родственница. Ты сделаешь это для меня? Ну выслушай ее, помоги ей определить свое место в жизни, убеди ее, наконец, что нельзя мыслить лишь этим самым местом — иначе мужчины не будут тебя уважать.
— А я думаю, что позвонить надо вам. — Оказывается, Соня уже возвратилась из кухни и, конечно же, слышала часть разговора.
— Ты не представляешь — что это для меня означает! — взъярилась Татьяна. — Километр по глубокому снегу человек практически без ног одолеть не может.
«Но одолела, когда заинтересовалась моим письмом», — подумала Лидочка.
— Я не могу привести в порядок дом, хотя для меня это трагедия. Я не хочу жить в грязи, но не могу вымыть пол. Я даже пыль вытираю лишь на уровне живота, — и Татьяна горько засмеялась.
— Тогда давайте договоримся, — неожиданно заявила Соня, демонстрируя Лидочке добрую сторону своей натуры. — Я останусь у вас, вымою полы, вытру пыль, а вы позвоните Алене.
— Честно? — спросила Татьяна Иосифовна.
— Честное пионерское.
Обе теперь улыбались, и Лидочка поняла, что, несмотря на споры и ссоры, эти две женщины знакомы давным-давно и этот стаж, события, которые они вместе пережили, и, видно, любовь к несчастной Алене объединяют их куда больше, чем кажется с первого взгляда.
Они пили кофе, говоря о вещах нейтральных, но близких к теме шкатулки — об археологии и экспедициях, в которые так часто ездил Лидочкин дед, а теперь ездит и муж, Андрей Берестов, о тайнах и последних открытиях — причем Лидочка обрела в женщинах внимательных и благодарных слушательниц. Наконец Лидочка сказала, что ей пора идти. Уже темно, а ей не хочется возвращаться поздно. И, конечно же, ее поняли, потому что хоть Переделкино — относительно спокойное место, все же даже по центру Москвы в темноте женщине теперь лучше одной не ходить.
Так что Лидочку никто не задерживал. С Соней они договорились созвониться завтра с утра. Татьяну Иосифовну Лидочка обещала не забывать и обязательно навестить в самое ближайшее время, а не как только у той кончатся продукты и окончательно откажут ноги.
Сонечка не спешила начинать уборку, а включила старый телевизор и была огорчена тем, что в нем уже не осталось красного цвета и изображение было желто-зеленым. Но шла какая-то серия какого-то бразильского фильма, и потому Соня приклеилась к экрану и обо всем забыла.
Татьяна Иосифовна сделала жалкую попытку вспомнить что-нибудь о Лидочкиной бабушке и этим как бы восстановить древние связи, но, конечно же, ничего не вспомнила. Лидочка оделась. За окном было черно.
Татьяна Иосифовна проводила ее до дверей и, когда Лидочка вышла на крыльцо, с удивлением поперхнувшись ломким морозным воздухом, долго гремела сзади ключами и засовами, чтобы не впустить в дом ни мороз, ни воров.
Лидочка поняла, что в ней забрезжила надежда отыскать если не шкатулку и не предметы из Трапезунда, то по крайней мере тетради Сергея Серафимовича.
Лидочка дошла до калитки, рассуждая о возможном везении и о том, как вещи порой переживают своих хозяев, отворила калитку и несколько секунд постояла, оглядывая улицу и пока еще не сознавая, почему так странно себя ведет. Потом вспомнила: восточный человек в джинсовой куртке.
Вспомнив о нем, поморщилась и тут же постаралась отогнать неприятную мысль разумным уверением о том, что на двадцатиградусном морозе ни один кавказец не сможет продержаться два часа.
Она отправилась по проулку к улице. Снег стал лиловым, отражая по-зимнему черное холодное небо. Он скрипел так, что, казалось, звук ее шагов доносился по крайней мере до поспешившего показаться на небе месяца.
Интересно, станет ли Соня мыть пол или так и останется у телевизора? А Алена ждет родственного участия и не дождется. Впрочем, может быть, она более нуждается в участии какого-то неизвестного джентльмена?
Эта мысль проскочила быстро, как продолжение прежних рассуждений, и тут же оборвалась, потому что, повернув на улицу, Лидочка услышала быстрые шаги.
Она не сразу обернулась, сначала представила себе, что это торопится из школы девочка с портфелем или семенит старушка, опаздывая на электричку.
Но потом она поняла, что шаги мужские и кому они принадлежат. Потому что чеченцы вовсе не боятся морозов, а их сакли расположены на склонах гор выше линии вечных снегов или альпийских лугов… что за чепуха лезет в голову — надо же обернуться и посмотреть, далеко ли этот человек, надо решать, куда бежать спасаться — на пустую платформу или вернуться назад к Татьяне. Впрочем, на платформе могут оказаться нормальные люди… и они не дадут ее в обиду? Но до платформы бежать минут пять. За эти пять минут он ее убьет. Она чувствовала, что он хочет ее убить — только ради этого можно подвергать себя таким мучениям…
Лидочка не заметила, как побежала вперед — жертва всегда убегает вперед, не глядя куда, чем облегчает задачу преследователю.
Но, пробежав несколько шагов, поскользнувшись и потеряв скорость, Лидочка спохватилась — что я делаю? Он же меня сейчас догонит…
И Лида поняла, что больше всего ей хочется остановиться и спросить у молодого человека: «Простите, а что вам от меня надо? Я ведь ни в чем перед вами не виновата».
«А он не для разговоров со мной мерз. Он ждал, пока мы останемся одни…»
Надо закричать…
А то так громко скрипят шаги — ее, сбивчивые, неровные, его — мерные, уверенные в своей силе, в себе, словно он загонял жертву в угол, откуда не было выхода… Однако выход был, он представлял собой улицу, ведущую к железной дороге, но ей никогда в жизни не добежать до железной дороги…
Надо закричать… но почему-то не получается, дальше мыслей о крике дело не идет — рот открывается и закрывается вновь — разве это стыдно: звать на помощь? Но кто придет тебе на помощь? Люди лишь крепче запрутся в домах.
Вроде справа приоткрыта калитка.
Ринуться на участок? Но дом стоит темный, вернее всего, хозяев нет дома… и на затененном соснами участке бандиту будет куда удобнее разделаться с Лидочкой.
Здесь, под редкими фонарями, хоть останется надежда…
Надо обернуться. Он уже совсем близко, а у нее сапоги на каблуках. Это же надо быть такой идиоткой — собраться за город, а сапоги на каблуках. Но она же не знала.
— Лида… Ли-д-да-а-а!
Зачем он зовет ее?
— Лида, постой!
Это не его голос. Это знакомый голос. Надо обернуться, а как обернешься, если страшно.
Все же голова обернулась сама, и тут Лидочка поскользнулась, потеряла равновесие и совершила отчаянное падение в стиле раннего Голливуда, когда комик долго по-куриному машет руками на краю крыши небоскреба, чтобы потом сорваться и повиснуть над пропастью, держась за карниз носком ботинка.
Во время этого гимнастического номера Лидочку развернуло, и она увидела, как молодой человек в джинсовой куртке тормозит у начала ледяной дорожки, но смотрит не на нее, а обернулся, закрывая ее от взора того, кто и звал Лидочку.
— Лида! — донеслось из-за спины, и в это мгновение хлопнула калитка, та самая, в которую Лидочка хотела было нырнуть, и оттуда появился пьяный мужик с рюкзаком за спиной и мощным сверлом в руке — такими пользуются любители подледного лова.
В руке Лидочкиного преследователя что-то блеснуло, а может, ей показалось, что блеснуло, потому что должно было блеснуть, и он кинулся бежать. Он побежал назад, обогнул Соню, которая, уверенно расставив толстые ноги, стояла посреди дороги. Она погрозила ему вслед кулаком, а потом поспешила помочь Лидочке подняться.
— Он тебя испугал, да? — спрашивала Соня. Ее очки аж запотели от сопереживания, а у Лидочки тряслись губы, и она не могла ничего ответить.
— Он тебя преследовал?
— Помочь? — спросил, нависая сверху, мужик с коловоротом.
— Спасибо, не надо. Вы на станцию? — произнесла Соня.
— На станцию.
— Тогда не спешите, — приказала Соня. — Чтобы моя подруга вашу спину впереди видела. Я не хочу, чтобы на нее нападали.
— А как же я спину буду показывать, если поезд через четыре минуты? — удивился мужик. — Спешить надо.
— Тогда иди, — согласилась Соня. — А я выскочила, потому что ты забыла бумажку с адресами и телефонами.
Соня сунула в руку Лидочке смятый листок бумаги и добавила:
— Завтра позвони, все узнаешь о своей шкатулке. А сейчас беги! Чтобы спину не упустить.
И весело засмеялась.
— А ты? Ты не боишься возвращаться? — спросила Лидочка.
— Он сейчас уже к Москве подбегает, — ответила Соня. Она сняла очки и стала их протирать.
Лидочка поспешила за спиной мужика. Она успела на электричку, а когда уже сидела в полупустом холодном вагоне, то ноги отнялись. Лидочка сидела и боялась, что ноги не отойдут до Москвы — как тогда доберешься до дома?
Чтобы отвлечься от печальных мыслей, Лидочка смотрела в окно на пробивающиеся сквозь февральский снег огни все растущих, чем ближе к Москве, домов.
Потом развернула листок с телефонами и адресами. Оказывается, Алена Флотская жила на Васильевской улице, недалеко от Лидочки, пешком можно дойти…
Но избавиться от страха, который укоренился в ней, она не смогла. И если дверь в вагон открывалась, она резко оборачивалась, хотя было безопаснее прятать лицо и делать вид, что спишь. Если ее ищет убийца, то он скорее заметит женщину, которая смотрит на него в упор.
Убийца так и не показался.
Непонятно было, кому могла Лидочка досадить настолько, что ее подстерегал незнакомый и страшный человек. Это не мог быть отвергнутый поклонник, потому что всех своих поклонников Лидочка знала в лицо, и не мог быть наемник поклонника, так как все ее поклонники были самостоятельными людьми. Врагов случайных и сознательных у нее вроде бы не было… Грабитель? Но грабители не ждут два часа на жутком морозе. Сексуальный маньяк — допускаем, но сомневаемся по той же морозной причине: за два часа сексуальные позывы на морозе в двадцать градусов гаснут — это вам любой доктор скажет. Ну, а если без шуток, что это все означает?
Лидочка ничего не придумала и, конечно же, не догадалась связать восточного человека с утренними событиями и выстрелами у подъезда.
Толпа пассажиров внесла ее в метро — каждый третий волочил трехцветную пластиковую сумку размером с молодого бегемота, но больше весом, остальные тащили тележки с двумя-тремя сумками. Притом все спешили и сердились на Лидочку, которая ничего не волокла и не толкалась.
Какого черта он за ней гонялся?
В вагон метро она забралась предпоследней — за ней влез амбал с чемоданом. Он нажал чемоданом Лидочке на живот, и она стояла целую остановку, прижавшись к чемодану.
Он хотел ее убить? За что же можно ее убить?
На «Белорусской» из вагона выплеснулось несколько тысяч мешочников, и все одновременно принялись штурмовать эскалатор метро. Спрятанная в стеклянном стакане у подножия эскалатора дежурная кричала в микрофон, чтобы пассажиры не ставили тележек на ступеньки, потому что их колеса заклинивает между ступеньками и происходят аварии. Когда Лидочка была на полпути к выходу, эскалатор неожиданно остановился, все повалились вперед, и люди начали сердиться на дежурную за то, что она сглазила, другие — проклинать торгашей. Затем все стали подниматься пешком на высоту десятиэтажного дома. Когда до выхода с эскалатора оставалось двадцать ступенек, эскалатор без предупреждения рванулся вперед и снова все, кто на нем были, повалились, но назад.
Лидочка, избитая, на ватных ногах, вышла из метро.
Сколько же можно мучить русскую соломенную вдову? В нее стреляют, за ней бегают, ее сбрасывают с эскалатора. Ну и денек…
Совсем уже стемнело, лед вокруг Белорусского вокзала был покрыт замерзшей грязью и скользкими кусками картонных ящиков. Последние торговки выкрикивали что-то у киосков, милиция уже ушла по домам, мелкие бандиты вытащили на мостовую столики со стаканчиками — завлекать приезжих идиотов игрой в наперстки. Лидочка скользила по буграм черного льда и замерзшим хлопьям картона.
Глава 3
Допрос
Лидочке ничего не снилось. Как провалилась в сон, вымывшись с дороги, так и вывалилась из него, от телефонного звонка.
Красавец Андрей Львович говорил с ней, как со старой приятельницей.
— Проснись, красавица, проснись, — заявил он, — открой сомкнуты негой взоры. Узнали меня?
— Пушкин, — уверенно ответила Лидочка.
— Нет, я серьезно, — сказал лейтенант.
— И я серьезно, Александр Сергеевич.
— Андрей Львович, — поправил ее лейтенант. — Ну ничего, со временем привыкнете к моему голосу.
— Это что, угроза? — поинтересовалась Лидочка.
— Мало ли что может случиться? — ответил лейтенант. — От врачей и милиции не отказываются.
Лидочке хотелось спать, глаза не открывались. Даже угроза постоянных встреч с милицией ее окончательно не разбудила.
— Вы меня слушаете? — спросил лейтенант.
— С трудом, — призналась Лидочка.
— Мне надо с вами поговорить, — сказал лейтенант. — Я сейчас как раз собрался в отделение, по дороге вас захвачу.
— У вас «Мерседес»? — спросила Лидочка, проникаясь отвратительным чувством беспомощности перед роком в лице милиционера. Ее самый сладкий утренний сон вот-вот будет добит.
— Нет, на своих двоих, — сказал лейтенант.
— Тогда я сама найду к вам дорогу. Часа через два.
— Часа через два я буду на другом объекте, — сказал лейтенант. — А мне надо записать ваши показания. Следователь мне не простит, если их в протоколе дознания не будет. Так что вставайте, вставайте. Я у вас через…
— Два часа! — закричала в трубку Лидочка.
— Через двадцать пять минут! — лейтенант дьявольски захохотал и бросил трубку.
Лидочка поняла, что Андрей Львович сдержит свое слово. Пришлось вставать, так и не выспавшись и не изгнав из себя вчерашние страхи и переживания. Причем утром они приняли странную форму. Войдя на кухню, Лида хотела подойти к окну, но не посмела — ей стало страшно. Ноги буквально прилипли к полу — сказалась замедленная реакция на вчерашние события. Голову ломило так, словно Лидочке уже исполнилось сто лет, хотя это было неправдой. Она заставила себя сделать крепкий кофе. И пока была в ванной, кофе убежал.
…В дверь позвонили. Лидочка поглядела в глазок. Никогда раньше не глядела в глазок, а на этот раз поглядела. Подумала, что пора бы Андрею позвонить из Каира, хоть они и не договаривались о таком звонке — жили по принципу много и часто ездящих людей: если вестей нет, это хорошие вести. Как только случается беда, о ней сразу становится известно.
За дверью стоял лейтенант Шустов, в шикарной шинели и ушанке. Только сейчас через глазок Лидочка увидела, что у него есть усы, небольшие черные усы.
Она открыла дверь и сказала, чтобы лейтенант проходил на кухню, кофе ждет.
Лейтенант стал отказываться, ссылаться на то, что им надо спешить, но Лидочка сама еще не завтракала, — так что лейтенанту пришлось подчиниться. Он разбавил свой кофе морем молока и выпил залпом. Пока Лидочка допивала свой кофе, он проверил, хорошо ли вставлено стекло, и спросил, когда комендант принесет стекло для внутренней рамы, а то дует. Лидочка сказала, что комендант ищет стекло. Лейтенант рассеянно водил пальцем по следу от пули. Потом смотрел в окно, как бы проверяя, откуда эта пуля прилетела. Он был серьезен. Лидочка подумала, что когда он говорил с ней по телефону, то был еще дома и вел себя как простой молодой человек, а теперь он уже ощущает себя на службе.
— Вы не женаты? — спросила Лидочка.
— Был женат, — ответил Андрей Львович. — Неудачно. Не сошлись мировоззрениями.
— Да, — сказала Лидочка, — это сложнее, чем не сойтись характерами.
Андрей Львович в очередной раз не понял ее, к тому же он, оказывается, не знал, что женщинам помогают надевать пальто или шубу. Может быть, в этом и заключалось несходство его с женой мировоззрений.
Когда они спустились вниз, было около девяти — невероятно раннее время, если забыть, что вчера она поднялась в шесть. Первой в дверь лейтенант Лидочку не пропустил — но она уже начала привыкать к свойствам его характера. Лейтенант даже задержал ее, выглянув наружу первым и посмотрев по сторонам, как положено делать полицейским из американского боевика. Не увидав никакой мафии, он пошел вперед, правда, придержав дверь для Лидочки. На улице было холодно, как вчера, сразу обожгло щеки.
— Крестный отец спит? — спросила Лидочка.
— А черт его знает, — ответил лейтенант. И Лидочка поняла, что на этот раз ответ лейтенанта следует понимать буквально. По какой-то, еще неясной для Лидочки причине лейтенант Шустов полагал, что ей может грозить опасность. А он вовсе не был похож на человека, который ни свет ни заря приходит за девицей от офицерского безделья…
— А что нового о Петренко? — спросила Лидочка.
— Ему повезло. Пуля пронзила мышцы. Выкарабкается.
— Не нам судить, — сказала Лидочка и смутилась — почему она должна учить морали лейтенантов?
— Судить будет суд, — согласился лейтенант.
Они вышли на площадь Тишинского рынка и направились вдоль сквера. Рынок лишь недавно открылся, но первые белорусские торговцы, что привозят утренними поездами сардельки и сметану, уже располагались на тротуаре.
Лейтенант крутил головой, словно искал злоумышленников, Лидочке он сказал о белорусских торговцах:
— Ну что будешь делать? Они нам своей грязью весь район погубили.
— Вы бы отвели им место, наняли бы уборщиков…
— Ничего не помогает — не хотят за собой убирать. Рынок.
Последнее слово прозвучало ругательно. Свобода торговли, хотя и приносит прибыль, для милиции — источник беспокойства.
В отделении было мало народу. У дверей стоял «газик» с решетками на окнах, туда сажали каких-то сонных оборванцев. В коридоре было пусто и пахло дымом хороших сигарет. Андрей Львович провел Лидочку к себе в комнату, разделся сам и повесил ее пуховик на вешалку в углу комнаты. Она села за стол, лицом к окну. Перед глазами была Васильевская улица. Надо будет сегодня позвонить этой Алене. Жаль, что она не взяла с собой сумку, в которую положила записку с телефоном, а то можно было бы зайти к ней прямо из милиции. Ее дом где-то рядом.
— Я вас пригласил, — заявил лейтенант безличным голосом чиновника, не имеющего ничего общего с галантным ее приятелем, который провожал ее от дома до отделения, — чтобы снять с вас показания относительно перестрелки, имевшей место по Средне-Тишинскому переулку вчера утром.
— Но вы же все знаете.
— Лидия Кирилловна, — сказал лейтенант, — вчера мы разговаривали. А сегодня мне к следователю идти, показывать, что сделано.
— А разве вы не следователь? Я думала, что вы как комиссар Мегрэ.
— Давайте без шуток, — осадил ее лейтенант. — У нас не Франция. У нас следствие ведет прокуратура.
— А вы?
— Мы ей помогаем, — сказал лейтенант, и Лидочка поняла, что его не устраивает такой порядок вещей, он предпочел бы французские порядки.
— Значит, вы как служебная собака, — рискованно произнесла Лидочка. Но лейтенант почему-то не обиделся, а понял ее правильно.
— Вот именно, — сказал он. — Мы прибегаем, берем след, догоняем, хватаем, получаем пулю в живот, а Чухлов разбирает бумажки и проявляет неудовольствие. Все верно.
— Чухлов — это следователь?
— Следователь прокуратуры, — уточнил Шустов. — Мы с вами поговорим, а он прочтет.
— Так, может, ему лучше сразу поговорить со мной?
— Если он сочтет нужным, то он вас вызовет. А может, не вызовет. У него тридцать дел, только и успевает закрывать.
Они помолчали. Этим Лидочка выражала сочувствие своему знакомому милиционеру. Но оказалось, зря.
— И это хорошо, — признался Шустов. — А то бы меня вообще делами завалило. Я же за день два-три раза выезжаю, в городе беспредел. Когда мне все расследовать?
— Значит, он не успевает, и вы не успеваете, — поняла Лидочка.
— Но записать все нужно, — закончил разговор лейтенант. — Вы оказались одной из двух свидетельниц.
— А кто вторая? — Лидочке вдруг стало обидно, что она потеряла монополию из-за того, что какая-то бабуся с шестого этажа выглянула на шум.
— Как кто? Забыли, что ли? Лариса, ваша соседка, — она же тащила его.
— Я думала, что она — потерпевшая.
— А в чем она потерпевшая? Что пальто кровью испачкала?
— Ее могли убить.
— Но ведь не убили.
— Вы жестокий человек, лейтенант.
— Жизнь заставляет… Не улыбайтесь, я даже не шучу. Вы бы насмотрелись на то, что я вижу, — вообще бы в человечестве разочаровались. А я терплю. Жена бывшая меня просто умоляла — Андрюша, уйди из розыска, будем хорошо жить, устроишься, как человек. Чудачка. Я же авантюрист.
— Значит, вами управляет не совесть?
— А вы детективы читали? Наши, совковые?
— И не деньги?
— Теперь за американские принялись. Давайте перейдем к делу. Меня в любой момент могут отозвать. Чует мое сердце, надвигается бешеный день. Итак, начнем с начала: ваше имя, отчество?
— Берестова Лидия Кирилловна.
— Год рождения?
— Тысяча девятьсот пятьдесят девятый.
— Вот бы никогда не подумал.
— А что вы подумали?
— По крайней мере, на десять лет моложе.
— Нет, к сожалению, я гожусь вам в тети.
— Очень любопытно. Только я вас тетей называть не буду.
— Я этого и боялась.
— Проживаете по адресу…
— У вас указано.
— Что можете сообщить по поводу событий, имевших место возле вашего подъезда вчера, в семь часов утра? Почему вы так рано поднялись?
— Я провожала мужа в командировку.
— Куда?
— Это имеет отношение к делу?
— Возможно.
— Он улетал в Каир, на конференцию по коптскому искусству.
— Он что, этим искусством занимается?
Лидочка уловила в вопросе снисходительность настоящего мужчины, который занимается настоящим делом, к недомерку-искусствоведу.
— В частности, он разбирается и в этом. Иначе зачем бы египетскому правительству его приглашать?
— Не знаю, — отрезал лейтенант.
Было очевидно, что на месте египетского правительства он загнал бы Лидочкиного мужа на полуостров Таймыр.
— Расскажите, что вы видели.
— Было тихо, — почему-то Лидочка вспомнила сначала, как было тихо. — И вдруг я услышала, что к дому подъезжает машина. Я решила, что Андрей что-то забыл, понимаете?
— Конечно, понимаю. Самое обидное, — согласился следователь. — Я как-то билет дома оставил. На самолет. Подхожу к стойке для багажа, чтобы отметиться, и вспоминаю, что билет лежит на столе. Дома лежит, понимаете?
— Понимаю, — сказала Лида.
Перед окном проехал троллейбус. Люди поднимались, готовясь выйти на последней остановке. Шустов записывал. Из-за этого возникла пауза.
— Пора вам переходить на диктофоны, — сказала Лида.
— Пленки не подпишешь, — возразил Шустов. Он поставил жирную точку и произнес: — Продолжим наш разговор. Следовательно, вы подошли к окну. Кстати, ваш муж уехал на служебной машине?
— Нет, на такси, — сказала Лидочка. — Я подошла к окну и увидела другую машину, белую «Тойоту». В ней было двое. Один толстолицый в большом длинном пальто, вернее всего, верблюжьего цвета.
— Почему вернее всего?
— Потому что рассвет только начинался, и отличить верблюжий цвет от светло-голубого нелегко.
— Но именно верблюжий, а не серый? Почему? — вскричал Андрей Львович.
И в то же мгновение Лидочка заглянула на много лет назад и поняла, почему он стал именно сыщиком и не мог стать никем иным. Он любил дознаваться. Он уже в первом классе допрашивал своих сверстников: а где ты был, а куда ты пойдешь… от него несчастная жена ушла, потому что он ее замучил допросами. Нет, даже не сами допросы были так сладки Андрею Львовичу, как возможность поймать человека, загнать в угол, заставить его смешаться, сбиться с толку, соврать, а потом вывести на чистую воду.
— Верблюжий цвет я вычислила по фасону, — сказала Лидочка.
Шустов отложил ручку, заглянул Лидочке в глаза и спросил:
— Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под фасоном.
Лидочка искренне ответила:
— Это невозможно, Андрей Львович.
— Вы правы, — признал тогда лейтенант. — Оно было песочным.
Лидочка ему нравилась. Она была женщиной мягкой, доброй и стеснительной. У нее было лицо, которым можно любоваться, — правильный овал, обрамленный забранными сегодня назад пепельными волосами, губы чуть более полные, чем нравилось лейтенанту, зато такого нежного розового цвета, словно никогда в жизни Лидочка не дотрагивалась до них помадой. И глаза у женщины были серыми, большими, а ресницы вокруг темными и густыми. Пожалуй, глаза были очень красивыми. Лейтенант не знал Лидочку и не догадывался, что губы и ресницы были умело тронуты косметикой, хотя Лидочка и спешила сегодня утром, и, уж конечно, он не подозревал, что Лидочкины глаза могут менять цвет и становиться стальными и узкими, если Лидочка гневается.
Помимо симпатии к прелестной женщине, что так остро и недоброжелательно почувствовала Инна Соколовская, которая надеялась женить на себе Шустова, Андрей Львович имел и дополнительные виды на Лидочку. По обстановке в квартире, по количеству книг, по одежде этой женщины, ну и, конечно же, на основе информации, походя выуженной у коменданта, лейтенант Шустов понял, что Лидочка — не простая жиличка и не простая гражданка, а ее муж не какой-нибудь искусствовед, а член-корреспондент Академии наук и член президентской комиссии. В последние месяцы Шустов принялся коллекционировать нужных людей, ибо понял, что пора уходить в большую политику, где чувствуется такой дефицит квалифицированных юристов и решительных молодых людей, готовых навести в стране спокойствие и порядок. А в таком случае Берестовы могли ему понадобиться. Только не следует думать, что Шустов был циничным и на все готовым карьеристом — все его политические планы пока что оставались в его воображении.
Временно признав свое поражение в вопросе о верблюжьем цвете пальто, Шустов сделал вид, что удовлетворен данным ответом, и стал задавать следующие вопросы.
— Что еще вы может сказать о пострадавшем? — спросил он.
— Ничего, — ответила Лидочка. — Кроме того, что он был модно пострижен.
— То есть без головного убора?
— Разумеется, Андрей Львович. Иначе бы я не догадалась, что он толстощекий и модно пострижен.
— Вы его раньше видели?
— Может быть.
— Что это значит?
— Могла видеть его с Ларисой, но не обратить внимания. Он не первый и не последний толстощекий кавалер нашей фотомодели.
Лидочка постаралась не вкладывать в эту фразу никаких эмоций, чтобы не навлечь на себя новых вопросов следователя.
— Откуда вы знаете, что она фотомодель? — сразу вцепился в это слово Андрей Львович.
— Потому что все в доме знают о том, что она — фотомодель. — На этот раз Лидочка вложила в наименование обозначение профессии.
Шустов был цепок, но не чуток. Его удовлетворил ответ.
— На какой автомашине прибыл пострадавший? — спросил следователь.
При ближайшем рассмотрении глаза у следователя оказались не совсем черными, а темно-шоколадными, но все равно совершенно непрозрачными, что смущало Лидочку, потому что она не могла заглянуть внутрь следователя. Пальцы у Андрея Львовича были не очень короткими, но сильно сужались к концам, и ногти были острыми, как у женщины.
— Пока следствием не выяснено, кто в этой ситуации пострадавший, а кто нет, мы с вами воздержимся от оценок, хорошо? — спросила Лидочка исключительно для того, чтобы перехватить инициативу.
— Это не оценка! — Андрей Львович повысил голос, и Лидочка подняла вверх густые брови — чуть растерянно и почти жалобно. Глаза ее излучали беззащитность, и лейтенант смутился.
— Может, вы хотите чаю? — спросил он. — Я могу поставить. У нас плитка есть.
— Нет, что вы, Андрей Львович, — лукаво ответила Лидочка, — вы же плитку от пожарных в сейфе прячете. А вдруг кто войдет?
— Нет, в шкафу, — сказал Шустов, но улыбнулся. — Я повторю вопрос?
— Не надо. Я помню. Он касается машины. Так вот, ваш Петренко приехал в белой «Тойоте». Эту машину два часа спустя увезли на буксире ваши сотрудники. Вернее, я надеюсь, что это были ваши сотрудники, а не просто угонщики.
— Наши, наши, — успокоил ее следователь.
Солнце уже поднялось довольно высоко — февраль звал весну. По подоконнику ходил голубь, ждал крошек от Инны Соколовской.
— Откуда вы знаете, что это была «Тойота»? — спросил следователь.
— У моего начальника такая же, — ответила Лидочка.
— Вы могли ошибиться. Они теперь все похожи. — В голосе лейтенанта промелькнула горечь небогатого человека.
— Нет, я не ошиблась, — сказала Лидочка.
— Хорошо. — Андрей Львович вздохнул, будто Лидочка чем-то его огорчила. — Что вы еще можете мне сообщить по этому делу?
— А потом к дому подъехала другая машина.
— Какой марки?
— «Нива».
— Цвет заметили?
— Вишневая.
— И что сделала эта машина?
— Эта машина притормозила, и я увидела, что окна с моей стороны в машине опустили и в них появились стволы.
— Какие стволы?
— Я сначала думала, что пистолетные, но вы мне вчера объяснили, что стреляли из автоматов.
— Так, — произнес следователь, словно поймал Лидочку на серьезном проступке. — Но вы-то не видели, из чего стреляли.
— Зато я видела их лица.
— Но они же были в глубине, в темноте.
— Нет, они выглянули.
— Вы бы могли их узнать?
— Одного, может, узнала бы. Усатого.
— Но может, ошиблись? — Лидочке показалось, что лейтенант надеется на ошибку. И пошла ему навстречу:
— Может быть, я и ошиблась.
— Хорошо, — сказал Шустов. — Теперь давайте перейдем к следующему вопросу. Вы стояли у окна. Вас было видно с улицы?
— Разумеется. На кухне горел свет, занавеска была откинута.
— Значит, вас могли увидеть из машины, — голос следователя сошел на нет. Он замолчал и стал постукивать концом ручки по листу бумаги. — Вас могли хорошо видеть из машины.
— Вряд ли хорошо, — возразила Лидочка. — Но мой силуэт — да!
— А знаете ли вы, — спросил Шустов, — что выстрелы по вашему окну были не случайны?
— Вы хотите сказать, что они меня заметили?
— Да, вы поставьте себя на их место. Вот они едут медленно, вот они увидели свою жертву. Он же вышел из машины.
— Он вылез и пошел к Ларисе, чтобы проводить ее до подъезда.
— Тут они снизили скорость?
— Почти остановились.
— Теперь представьте себе, Лидия Кирилловна, что все окна в вашем доме были совершенно темными. И лишь в одном окне на втором этаже, как раз над подъездом, горит свет. Там стоит женщина и смотрит.
— Все случилось слишком быстро, чтобы они меня разглядели.
— Так они вас и не разглядывали! Они вас и убивать не хотели!
— Так зачем стреляли?
— А затем, чтобы отогнать вас, чтобы вы их не рассмотрели. Неужели не понятно?
— Понятно.
— Они боялись, что вы запомните их… или хотя бы машину.
— Я и запомнила.
— А еще больше они боялись, что вы заметите номер машины. Ведь бывают чудеса.
— Номер у них был такой, — сказала Лидочка, — «ю 24–22 МО»… Я говорю, что номер у них был…
— Вы не могли его запомнить!
— Но у меня хорошая память на цифры, — сказала Лидочка. — И они проехали под самым фонарем.
— Так чего же вы раньше молчали?
— А вы меня не спрашивали!
По виду Шустова можно было заключить, что он жаждал назвать ее идиоткой, но удержался.
— Ну почему? Почему вы сразу не сказали! Мы же сутки потеряли!
Андрей Львович был глубоко удручен. И Лидочка даже поняла почему. Он ведь должен был допросить ее вчера и выудить информацию. А раз не выудил, значит, сам виноват. О номере машины следовало спросить сразу, когда был шанс эту машину задержать.
Но Шустов не любил признавать поражения.
— Ну как же могли! — сказал он и отбросил карандаш. Карандаш покатился по столу, следователь и свидетельница дружно полезли под стол, чтобы подобрать его, столкнулись под столом головами, а карандаш тем временем укатился под шкаф.
— Честное слово, — сказала Лидочка, стоя на коленях под столом, — я думала, что его не знаю. Но когда меня комендант спросил, я вдруг вспомнила.
— Где ее теперь найдешь, — следователь вылез из-под стола и уселся на свой стул раньше, чем это же успела сделать Лидочка. — Ваше счастье, — сказал Шустов, — если они не догадались, что вы заметили номер.
После чего он покинул кабинет.
На этот раз его не было долго. Раза два звонил телефон, но Лидочка не поднимала трубку. Заглянул человек в синем мятом костюме и спросил, где Вартанян. Лидочка не знала, где Вартанян, но предположила, что он владелец третьего стола в комнате.
— Сейчас мы подняли все силы на поиски машины. Если что — вы наш основной свидетель, — заявил Шустов, возвратившись после долгой отлучки.
— Меня нужно спрятать и сменить мне паспорт. Так всегда делают в Америке, — по мере сил серьезно сообщила Лидочка.
— В Америке нет паспортной системы, — возразил следователь.
— Какой ужас! — заметила Лидочка. — Как они находят друг друга?
— К сожалению, Лидия Кирилловна, — сообщил Шустов, — мы с вами собрались здесь не шутить. Мы имеем дело с серьезными преступниками, для которых ваша жизнь не представляет большой ценности. Это жестокие и беспринципные люди. И сейчас, в период, так сказать, разгула демократии, они потеряли всякий стыд и страх.
Лидочка не стала спорить. Но она не любила выражений типа «разгул демократии» или «Эльцина на плаху!», тем более «Демократов на виселицу!», хотя бы потому, что в этом была некоторая несправедливость. Ведь ей, Лидочке, никогда не придет в голову звать к топору или отправлять на плаху коммунистов. А ее как демократку кто-то желает обезглавить. А с сегодняшнего дня к категории желающих присоединились обитатели вишневой «Нивы» и, возможно, сыщик Шустов.
— Я вам советую, — продолжал между тем Шустов, — не рассказывать знакомым о ваших наблюдениях, особенно о номере машины. Надеюсь, никто об этом не знает?
— Никто, — твердо ответила Лидочка. — Кроме одного человека.
— Это еще кто? Подруга?
— Нет, комендант Каликин.
— Зачем вы ему рассказали?
— Я ему специально не рассказывала. Просто я при нем вспомнила номер «Нивы».
— А он что?
— А он предложил мне сообщить об этом в милицию.
— Правильно. А когда это было?
— Вчера в половине второго. После того как я побывала у вас с фотографиями. Помните, я принесла фотографии, а потом пошла домой. Каликин мне стекло вставлял.
— И почему же вы не пришли к нам?
— А я как-то не составила о вас благоприятного впечатления, — ответила Лидочка. — К тому же я спешила на поезд.
— Могли позвонить. Для этого не надо благоприятного впечатления.
— Мне показалось, что вам все это дело — до лампочки.
— Не знал я, что вы пользуетесь такими выражениями! — зло заметил лейтенант. — Но следовало бы думать, что независимо от ваших предположений у вас есть гражданский долг.
— Извините, очевидно, вы правы, а я не права. Но я очень спешила.
— Ваше счастье, что вас никто не пристукнул по дороге, — заявил милиционер. — А если бы они знали о номере, то точно бы пристукнули.
И тут к Лидочке возвратился вчерашний ужас — ужас, пережитый на поселковой дорожке перед молодым человеком в джинсовой курточке, который бежал за ней. Господи, как все понятно и просто…
— Что вы замолчали? — вторгся в ее страх голос лейтенанта. — Что-то уже было? Да говорите вы!
— Было, — призналась Лидочка.
Она рассказала лейтенанту о ее вчерашнем преследователе. Лейтенант слушал невнимательно, будто мысленно торопил ее, поддакивая и кивая головой, словно говоря: «Ну я же вас предупреждал!»
Лидочка видела это нетерпение, но не могла остановиться и рассказывать короче — словно сидела перед исповедником и должна была выложить ему все свои грехи. Сама на себя злилась за это, но продолжала тонуть в подробностях.
— Ясно, — прервал наконец ее рассказ Шустов. — Он побежал к шоссе, так что в поезде его не было. Значит, послали одного.
— Но, может быть, это совпадение… какой-нибудь сексуальный маньяк?
— Если вам так приятнее думать, — сказал лейтенант, — то пожалуйста.
Наконец-то она услышала в его голосе иронию. Сама виновата — показала себя глупой курицей.
— Но даже если наш дорогой комендант сообщил куда следует, что в моем лице можно ухлопать единственного свидетеля…
— Комендант Каликин вне подозрений, — отрезал лейтенант. — Он — ветеран, председатель ячейки общества ветеранов, трижды ранен. К тому же ему уже семьдесят лет. Давайте вычеркнем его.
— Давайте вычеркнем.
— Другое дело — он мог кому-то проговориться. Ведь старики у нас разговорчивые.
— Мне его спросить?
— Вам следует ни во что не вмешиваться. Спрашивать буду я. А пока мы с вами зафиксируем ваши показания.
— А что мне делать?
— Лучше всего переехать на несколько дней к кому-нибудь из родственников.
— У меня нет родственников.
— Тогда будьте осторожны и не открывайте незнакомым.
Зазвонил телефон. Звон у него был пронзительный и противный.
— Да, — сказал Шустов. — Нет, не могу. Я же сказал: не могу, у меня свидетельница. Мы показания оформляем… Понимаю… А где Петренко?.. Слушаюсь.
Он положил трубку.
— Ну вот, — сказал он виновато. — Этого я и боялся. Совершенно людей нет. Стоим, как спартанцы под Фермопилами.
Лидочка не удержалась и сказала:
— Фермопилы — не деревня, а горный проход. Под ним стоять трудно.
Шустов только поморщился.
— Я оформлю показания после обеда, — сказал лейтенант. — Вы идите. Мы с вами завтра поговорим. Вам в самом деле некуда уехать?
— Лучше уж я буду держать оборону дома, — ответила Лидочка. — В случае чего вам позвоню.
— Хорошо. Будьте осторожны, — сказал лейтенант.
В комнату заглянул милиционер и сказал:
— Поехали. Все тебя ждут.
Лидочка поняла, что она здесь лишняя, и пошла к двери. Но в дверях спросила:
— А вы сегодня утром за мной заходили… потому что заподозрили, что они могут меня испугаться?
— Испугаться или напугать. Но убивать они пока не будут, — обещал Шустов.
Они вместе прошли по коридору. Шустов проводил Лидочку до выхода и вернулся к себе, а Лидочка направилась в сторону рынка.
Комендант стоял на загаженной детской площадке, где в основном прогуливают собак, и ждал Лидочку.
— Ну как? — крикнул он. — Ничего не случилось?
— А что должно было случиться? — спросила Лидочка. В ней уже жило подозрение к коменданту, она размышляла, как бы спросить его, что он сообщил о ней бандитам.
— Лидия Кирилловна, — комендант почти бежал к ней. — А я здесь дежурю. Мне из милиции звонили, предупредили, чтобы я принял меры…
— Какие меры?
— Ну вы же понимаете! — Комендант приблизился к ней и перешел на шепот: — Вам угрожает опасность от бандитов. А я, как ветеран, и если надо, то и мои товарищи ветераны обещали товарищу Шустову обеспечить вашу безопасность.
— Спасибо, — только и могла сказать Лидочка.
Каликин проводил ее до подъезда, но там она попросила его возвратиться к своим неотложным делам.
Комендант согласился с ней, но тут же вошел в лифт следом за ней и, пока за Лидочкой не захлопнулась дверь, стоял в лифте, выглядывая наружу.
Лидочка прилегла на диван, но сон не приходил.
Может, позвонить Алене Флотской и договориться о встрече? Лидочке хотелось надеяться, что следы шкатулки отыщутся — ведь Соня утверждала, что видела шкатулку собственными глазами.
Мысли перенеслись от шкатулки к делам более близким и земным. Сейчас она понимала, нет, даже верила в то, что усатый парень в джинсовой куртке был подослан теми же, кто стрелял по ее окну. И он появился на сцене вскоре после того, как она сообщила коменданту о номере машины. Если эта машина не ворованная, то, конечно же, лучше заткнуть Лидочке рот. Будь она на их месте, непременно бы заткнула.
От таких мыслей стало неприятно.
И тут же (ведь каждый умеет себя успокаивать) пришла спасительная мысль: лейтенант разбудил ее так рано утром, чтобы иметь предлог выйти с ней вместе из дома. И если потенциальные убийцы поджидали ее — то желал пугнуть их своим бравым видом. Хотя мог бы и не пугнуть — тогда бы в ее висок вонзилась роковая пуля, и ее безжизненное тело, выскользнув из рук лейтенанта Шустова, тяжело опустилось в снег… Значит, он успокаивал ее, утверждая, что комендант — ветеран и отличник боевой и политической подготовки, тогда как, кроме коменданта, никто не знал о номере машины. Это был обман. На самом деле Шустов Каликину не верил, он даже обезвредил коменданта, позвонив ему прежде, чем Лидочка вернется домой. Теперь комендант знает, что он разоблачен и не посмеет убить Лидочку.
Рука сама потянулась к телефону — если комендант не бродит вокруг дома, наблюдая за тем, как дворник Тамарка чистит дорожки от снега, и не меняет лампочки во втором подъезде, то он таится в своей комнатке, выделенной для коменданта кооперативом.
Лидочка набрала номер.
Комендант откликнулся сразу — словно сидел и ждал указаний от банды убийц.
— Вас Берестова беспокоит.
— Внимательно слушаю, Лидия Кирилловна.
— Скажите, пожалуйста, когда лейтенант Шустов вам звонил, он дал вам понять, что вы единственный, кто слышал от меня о номере машины?
— Как вы сказали? — комендант откашлялся.
— Как вы слышали, — грубо ответила Лидочка. Грубость заключалась не столько в словах, сколько в интонации.
— Нет, я только просил вас повторить. Слух у меня старческий, не всегда понимаю.
— Значит, предупредил, — сказала Лидочка. — Потому что вы единственный. И если кто-нибудь будет… — нет, слово «покушаться» какое-то безвкусное, надо сказать что-то попроще, — ко мне приставать, угрожать, то ясно будет, откуда идет информация.
Комендант молчал.
Лидочка повесила трубку.
Она была довольна собой — пожалуй, впервые в жизни оскалилась и сама посмела угрожать человеку… А если старик ни в чем не виноват? Если он и на самом деле лишь ветеран и активист, а бандитам не понравилось то, что за ними наблюдают со второго этажа?
Она поднялась, поставила чайник. Никуда она нынче не пойдет. Хоть убейте. Будет отсиживаться в осажденной крепости, то бишь в собственной квартире…
Пора звонить Алене, нескладному чаду Татьяны Иосифовны Флотской, с неудавшейся личной жизнью. Телефон Алены был на листке из блокнота Сони, вместе с Сониным домашним телефоном. Второй листок — служебный телефон Сони. Соня может нравиться или не нравиться, но, по крайней мере, она спасла Лидочку от усатого бандита.
Время бежало незаметно. Шел уже двенадцатый час, когда Лидочка, позавтракав, наконец набрала номер телефона Алены.
Трубку взяли сразу.
Подошел мужчина.
— Вас слушают, — сказал мужчина знакомым голосом. Таким знакомым, будто Лидочка случайно набрала другой знакомый номер.
— Будьте любезны, попросите Алену, — произнесла Лидочка. Чей же это голос?
— А кто ее спрашивает?
Голос был похож на голос лейтенанта Шустова. Это какое-то наваждение. Неужели сейчас окажется, что лейтенант Шустов и есть тот мерзавец, который издевается над несчастной Аленой? А что такого? От милиции до ее дома два шага. Она могла идти домой и встретить бравого волоокого лейтенанта. Тот напросился к своей любовнице на чашку кофе.
— Ее нет дома? — вопросом ответила на вопрос Лидочка.
— Она дома. Но кто ее спрашивает?
— Она не может подойти?
— Да, она не может подойти.
— Тогда передайте ей, что я позвоню позже.
— Хорошо, — ответил после заминки голос милиционера Шустова. — Но скажите, кто звонит.
— Она меня не знает.
— Тем более.
— Ну ладно, — Лидочка поборола желание швырнуть трубку. — Скажите ей, что звонила Лидия Берестова. Я ей позвоню позже. Когда позвонить?
— Лидия Кирилловна? — спросил мужской голос. — А зачем вы сюда звоните?
— Потому что мне надо встретиться с Аленой, Андрей Львович, — ответила Лидочка. «Если ты, голубчик, не хочешь сам хранить инкогнито, то почему я должна больше других за тебя переживать?»
— Лидия Кирилловна, вы находитесь в родственных связях с гражданкой Флотской? Или вы знакомы?
— Это уже допрос?
— Нет, я просто удивлен совпадением.
— Андрей Львович, когда мне перезвонить?
— Я сам вам позвоню, — сказал Шустов. — Вы из дома?
— Нет, с космической орбиты!
— Мне не до шуток.
— Куда же я денусь? Я боюсь бандитов.
— На самом деле? — спросил Шустов. — Тогда повесьте трубку. Когда я освобожусь, то я вам позвоню.
Все милиционеры — хамы. Это не тайна, а банальная истина. Даже лучшие из них.
С досадой кинув трубку, Лидочка вздрогнула, потому что в то же мгновение телефон зазвонил.
«Ну что ж, самое время вам, лейтенант, сменить тон и поговорить со мной по-человечески», — решила Лидочка и подняла трубку.
Голос был женским, высоким, срывающимся.
— Лида? Это ты, Лида? Я тебе уже десятый раз звоню — куда ты исчезла?
— А кто это говорит?
— Это я, Соня. Ты меня не узнала? Это неудивительно… — Соня захлебнулась словами и громко всхлипнула в трубку.
— Что случилось, Соня?
— Я же говорила, я же тебе говорила! — закричала Соня.
И тут же в мозгу Лидочки как бы щелкнул выключатель, и все стало на свои места. Вчерашние сетования Сони на то, что Алена готова покончить с собой. Пребывание лейтенанта Шустова в квартире Алены и его подозрительность к людям, которые звонят туда по телефону. И этот звонок Сони…
— Что случилось с Аленой? — спросила Лидочка.
— Она… она ушла от нас.
Господи, где она подслушала этот эвфемизм? Ушла от нас…
— Почему она умерла?
— Она отравилась… — Соня плакала, потеряв способность членораздельно говорить, но говорить ей хотелось — она, видно, в самом деле искала Лидочку, которая волей случая оказалась свидетельницей вчерашних разговоров.
— Выпей воды, — посоветовала Лидочка.
— Я не могу, я из автомата…
И Лидочке пришлось терпеть, вылавливая между рыданиями отдельные фразы и даже слова. Она поняла наконец, что же произошло утром с самой Соней. Та, оказывается, спозаранку приехала с дачи, но ее беспокоило, как себя чувствует подруга. С вокзала она позвонила ей — никто не подошел. Было еще рано, Алена могла спать. Тогда, движимая тревогой, Соня все же поехала к ней — у нее был свой ключ от квартиры Алены. С дороги она еще раз позвонила и тоже без результата.
Когда Соня вошла в квартиру, она увидела, что Алена лежит на диване, рядом — телефон и несколько таблеток. Видно, отравившись таблетками, Алена попыталась позвонить по телефону. Но опоздала — умерла, лишь подняв трубку стоявшего на тумбочке аппарата.
Соня кинулась звонить в «Скорую помощь», но сначала приехала не «Скорая помощь», а милиция. Молодой черноглазый лейтенант. Он стал разговаривать с Сонечкой, как с преступницей, он ужасно себя вел.
Потом прибыли эксперты и другие люди, и Соня смогла уйти из той квартиры — она все равно не хотела там находиться… Зная, что Лидочка живет поблизости, она стала дозваниваться Лиде. Почему Лиде? А кому же еще?
В том была некоторая логика. Вернее всего, у Сони и Алены не так много друзей — они образовывали некий замкнутый мирок: две подруги и несчастная любовь одной из них. Или обеих?
А Лида — это новое приобретение, это свежо в памяти, это — рядом. Лидочка — нечто, объединяющее Соню с Татьяной Флотской. Ей по крайней мере не безразлично то, что произошло.
— А когда это случилось?
— Можно, я к тебе приду? А то я на улице, совсем окоченела, у меня ни одной силы не осталось.
— Хорошо, иди, — согласилась Лида и стала объяснять дорогу.
Соня пришла через пять минут — видно, звонила с Тишинской площади, от аптеки. За это время Лидочка успела снова позвонить Алене, однако там уже никто к телефону не подходил. Потом она стала звонить Шустову, но на работе он еще не появлялся. Пришлось смириться и надеяться на то, что Андрей Львович вскоре сам объявится — хотя бы из профессиональной любознательности.
И тут пришла Соня.
За прошедшие часы она постарела лет на десять. По красным пышным щечкам побежали лиловые ниточки вен, веки распухли, и под глазами образовались мешки. Кожа была сизой, как у алкоголички. Наверное, у Сони какие-то нелады с обменом или почками…
— Слушай, дай чего-нибудь выпить, — попросила она с порога. — Я так больше не могу.
Лидочка провела Соню в большую комнату, хотя таких вот дневных гостей принято принимать на кухне, но на кухне было холодно. Соня уютно устроилась на диване, а Лида достала из буфета початую по какому-то давнему поводу бутылку коньяка. Она налила коньяк в рюмку, потом пошла на кухню, чтобы нарезать сыр и взять крекеров, а когда вернулась, увидела, что Соня наполняет вторую рюмку.
— Прости, — сказала Соня, — это, наверное, подозрительно смотрится, но я, в принципе, непьющая. Это у меня шок.
— Ничего, ты только закуси. А я тебе сейчас сделаю кофе. Или чай?
— Кофе, растворимку, и покрепче. — А когда Лидочка уже была на кухне, ставила чайник, то услышала: — Сахару два куска!
Соня постепенно оживала.
Кофе они пили вместе, у Сони перестали дрожать пальцы. Она уже обрела способность рассказывать о том, что же произошло. Правда, время от времени сама подливала себе коньяк.
Оказывается, она застряла у Татьяны Иосифовны, они смотрели телевизор, потом снова ругались.
— Ну, ты понимаешь — мы с ней как кошка с собакой, но довольно давно знакомы… Нас Аленка объединяет.
Тут Соня сделала паузу и тихо сказала:
— Объединяла.
Это изменение времени снова вызвало слезы, и Лидочка побежала за валерьянкой.
Не дозвонившись Аленке с вокзала, Соня приехала на Васильевскую и сначала позвонила в дверь. Было уже больше десяти.
«Ага, я в это время сидела у Шустова», — поняла Лида.
Когда никто на звонок не откликнулся, Соня открыла дверь своим ключом.
— Понимаешь, я, честное слово, не подозревала. Я, конечно, все время беспокоилась, но чтобы так на самом деле случилось — это я и представить себе не могла. Честное слово!
— А она пыталась покончить с собой раньше? — Лидочка вспомнила, что об этом Татьяна Иосифовна говорила вчера на даче.
Соня ответила не сразу — Лидочка поняла, что ей сейчас неловко чем-то обидеть погибшую подругу, словно прошлые попытки самоубийства были постыдными поступками.
— Конечно… у нее были попытки. Но они были ненастоящие. Она никогда не принимала смертельную дозу. У нее срабатывало чувство самосохранения. Она сама вызывала «Скорую».
— Извини, что я тебя перебила.
Кофе был каким-то железным на вкус — и Лидочке вдруг показалось странным посмотреть на себя со стороны: вот она сидит, кладет в кофе сахар, хрустит крекером — они обсуждают смерть молодой женщины, а из кухни тянет холодом, потому что комендант Каликин не вставил еще разбитое пулями стекло во вторую раму. Бред какой-то, а не жизнь! И на улицах совершенно не убирают… Бежать бы отсюда.
— Я вошла. А шторы закрыты. Алена любила полумрак, для нее яркий свет — пытка. Она как пантера — сидит в полумраке, а глаза сверкают… сверкали. Ужасно, когда надо поправлять себя. Ты понимаешь, я ей глаза закрыла, я не могла, чтобы она на меня смотрела. Глаза закрылись, а все лицо как мрамор — твердое и ледяное. Куда холоднее, чем температура в комнате. Ты не задумывалась о таком феномене — почему покойники холоднее, чем воздух?
Лидочка пожала плечами.
Она этого не знала.
— У нее однокомнатная квартира. Хороший дом, между сталинским и хрущевским, еще кирпичный, и кухня восемь метров, но одна комната… Прости, куда-то язык мой меня увел…
Соня высморкалась и допила кофе.
— Еще сделаешь? А то у моего организма странная особенность — как только случается несчастье, мне сразу хочется спать. Представляешь!
За второй чашкой Соня снова рассказала, как она вошла в комнату и увидела Алену на диване, рука свесилась… Она, видно, хотела набрать номер, но не успела — и умерла.
— Умерла… я никогда не привыкну к этому слову.
Лидочка молчала — Соне лучше было выплакаться.
Неожиданно Соня переменила тему:
— А как он смел так со мной разговаривать? Представляешь — они приехали, я чуть живая, вот-вот в обморок грохнусь. А он со мной разговаривает, будто я Алену зарезала. Ты понимаешь?
Лидочка поняла, что, вернее всего, эти обвинения направлены в адрес ее милицейского приятеля Шустова.
— У него такая работа — подозревать, — сказала Лидочка. — В принципе, они обыкновенные люди.
— Послушала бы тебя Татьяна, — усмехнулась Сонечка, — для нее любой мент или гэбист — преступники. А для них — мы преступники. У нас полдержавы сегодня преступники, а полдержавы — завтра. Чудо из чудес! Впрочем, этот лейтенант мог бы сначала поговорить, а потом допрашивать.
— Он тебя там допрашивал?
— Фактически допрашивал. Словно он инквизитор, а я — Джордано Бруно или Галилей. Отвратительное чувство.
— Так о чем он спрашивал?
— Сначала накинулся на меня, почему я ее трогала? Ну я ему постаралась объяснить, что я была в истерике, что я сначала вызвала «Скорую», а потом мне показалось, что Аленка еще оживет, — ну как ему объяснить, что я не очень соображала? Мне все казалось, что она еще оживет, что она в шоке! Я ее попыталась раздеть, потом одеялом накрыла, чтобы ей теплее было. Ну неужели это не понятно?
— По инструкции, наверно, нельзя мертвых трогать, — сказала Лидочка.
— Какая, к черту, инструкция, когда передо мной моя лучшая подруга и я не могу поверить, что ее нет! Я же ее звала, я ей искусственное дыхание хотела сделать — ты скажешь, что я дура? Я не дура — у меня нет ближе человека, это все равно что половина меня самой умерла.
Лидочка понимала Соню — и ее ужас в полутемной квартире, и дикую нелепую надежду на чудо, и одиночество, и даже страх перед тем, что еще вчера было близким ей человеком.
— А когда она умерла? — спросила Лидочка.
— Ой, они при мне не говорили. Там приехал еще один, осматривал — я их не знаю. Я ушла, как разрешили, а они — не задерживали. Сказали, потом вызовут. Я знаешь что думаю — я думаю, что она долго не спала и переживала. И наконец решилась. Решилась — ночью. Ночью всегда делаются самые темные дела, правда? Мы с тобой спали, а она глотала эти чертовы таблетки и запивала их — меня бы сразу вырвало, мой организм бы сопротивлялся. А она, наверное, хотела умереть…
Соня допила кофе, отставила чашку и вдруг зарыдала. Сквозь рыдания прорывались слова:
— Ну как же так… ну зачем я уехала? Если бы я рядом была, она бы осталась жить… я убью его!
Лидочка не хотела спрашивать, кто этот негодяй, которого Соня считает виновником смерти подруги. Будет время — расскажет.
— Надо Татьяне Иосифовне сообщить, — сказала Лидочка. — Туда надо позвонить?.. Съездить?
— Зачем ездить? — удивилась Соня. — Там есть сторожка — как бы комендантский пункт. В ней телефон. Оттуда она в Москву звонит. А если не ответит, то в Дом творчества можно позвонить. Там тоже телефон есть. Только давай не сразу позвоним. По большому счету, Татьяне до лампочки — есть Аленка или нет. Я знаю. А мне сейчас говорить об этом — нет сил.
— Соня, тебе надо немного отдохнуть, — сказала Лидочка. — Может, ты поспишь у меня?
— А можно? — спросила Соня.
На нее смотреть было страшно. Не помогли ни коньяк, ни кофе.
— Я тебе постелю на диване. И ты поспишь.
— Ой, спасибо, Лидочка! Ты настоящий человек, с большой буквы.
Сонечка с облегчением налила себе еще рюмку коньяка и выпила.
— Теперь мы, так сказать, не за рулем, — сообщила она. — Имеем право на заслуженный отдых.
Она как будто вылила все слезы и отдала все эмоции, а теперь была пуста, словно шкура, сброшенная змеей, и мысль о сне казалась ей самой сладкой мыслью на свете.
Соня покорно и молча стояла у книжных стеллажей, ожидая, пока Лидочка постелит ей на диване, потом ушла в ванную.
— Я тебе этого никогда не забуду, — сообщила она Лидочке на прощание и тут же заснула — через минуту уже похрапывала. Она спряталась во сне от всех тяжких мыслей.
Через пять минут, Лидочка как раз мыла чашки и рюмки, позвонил Шустов.
— Извините за беспокойство, — сказал он. — Вы меня узнаете?
— Теперь я узнаю вас даже среди ночи по двум словам.
— По каким словам? — не понял сыщик.
— По любым словам, — ответила Лидочка.
— Понятно. Какие-нибудь инциденты были?
— Вы имеете в виду покушения на меня или инциденты вообще?
Шустов не стал уточнять.
— А как комендант? — спросил он.
— Вы его пугнули?
— Я никогда никого не пугаю.
— Но вы сказали ему, что вам известно, что только он знает про номер машины.
— Может быть, — сказал Шустов, словно судьба Лидочки его уже не так волновала. — Но если у вас есть три минуты, то расскажите, что за история с вашим звонком Елене Флотской?
— Какая история?
— Вы давно знаете ее?
— Я ее вообще не знаю.
— Мне что, зайти к вам и взять у вас показания?
— Андрей Львович, мы с вами уже неплохо знакомы, — сказала Лидочка. — Вы же знаете, что я не отношусь к преступным личностям.
— Это мало о ком можно сказать с уверенностью, — ответил Шустов, и Лидочка не знала, шутит он на этот раз или нет.
— Но мне кажется, что я к этой категории не отношусь, — упрямо повторила Лидочка.
— Вам лучше знать.
— Если у вас есть лишнее время, то приходите, снимите с меня показания. Но я думаю, что на этом этапе вам лучше заняться другими делами.
— Почему?
— Потому что мне достаточно двух минут, чтобы рассказать вам всю правду и только правду.
— Хорошо. Говорите, а потом я решу, что с вами делать.
— Вас смущает, что я прохожу сразу по двум делам?
— Это только у меня, — пояснил Шустов. — А сколько еще следователей и сыщиков вами занимаются?
— Вы будете слушать?
— Уже слушаю.
— Мой дед — археолог, — сказала Лидочка. — В свое время, когда вас и на свете не было, он попросил некую Маргариту Потапову, она же Маргарита Флотская, взять на хранение шкатулку с бумагами и археологическими находками, интересными и ценными лишь для моего деда. Вы меня слушаете?
— Внимательно слушаю. Продолжайте.
— Мой муж тоже археолог и занимается теми же проблемами. Так что записи и материалы ему очень нужны. Но Маргариту Потапову арестовали в сорок первом году, и следы ее затерялись.
— Отдали черепки в безопасное место! — фыркнул лейтенант. — Лучше бы обратно в землю закопали.
— Ну вот, они не могли оценить грядущих опасностей. Им казалось, что Маргарита — вне опасности. Ее муж был заместителем наркома и членом ЦК.
— Таких-то в первую очередь и ликвидировали.
— Он был верным сталинцем!
— И что же?
— Я с вами не спорю. Я просто объясняю вам ситуацию. Мы долго искали следы Маргариты Потаповой или ее родственников. И вот совсем недавно мне удалось узнать, что дочь Маргариты — Татьяна Иосифовна Флотская жива и живет под Москвой. И вчера я к ней поехала.
— Куда?
— На станцию Переделкино. Там несколько дач выделено для членов «Мемориала». Кстати, когда я туда ездила, за мной и гонялся этот самый бандит, о котором я вам рассказывала.
— Что же вы мне сразу не сказали, к кому ездили?
— А разве кто-нибудь из нас мог подозревать, что ее дочка покончит с собой?
— Откуда вы знаете, что она покончила с собой?
— Никакой в этом тайны и никакого заговора нет, — ответила Лидочка, которой не хотелось тратить силы на убеждение милиционера. — Вчера на даче я была вместе с Соней Пищик, подругой Алены Флотской. Она как раз приехала к Татьяне Иосифовне, чтобы поделиться своей тревогой. Она беспокоилась, что у Алены… как это сказать?
— Депрессия, — подсказала Сонечка, которая стояла в дверях спальни. Она, оказывается, услышала разговор и поднялась. — Депрессия, только я не думаю, что надо обсуждать мои дела с милицией.
Она явно догадалась, с кем говорит Лидочка, и была настолько разгневана, что густо покраснела.
— Она у вас, — догадался лейтенант: видно, телефон хорошо работал. — Она не велит вам со мной разговаривать.
Почему-то милиционеру это показалось забавным.
Соня хлопнула дверью и удалилась в большую комнату. Лидочке было неловко — хоть она и не сказала милиционеру ничего такого, что могло бы повредить Соне, но, может быть, вообще ничего не следовало говорить?
— Кстати, — сказал лейтенант, — хоть мы с вами еще об этом побеседуем — вы когда вчера уехали с дачи?
— Это не телефонный разговор.
— Мне некогда сейчас оформлять документы. Может быть, от быстроты зависит расследование.
— А разве Алена не покончила с собой?
— Вернее всего, она покончила с собой, но в таких случаях мы всегда проводим экспертизу и допрашиваем свидетелей.
— Даже когда эксперт уволился в коммерческую организацию, а лимитов на пленку не дали.
— Ваша ирония неуместна, — ответил лейтенант, который, видно, подслушал эту фразу в каком-то сериале с претензией на элитарность. — Вы не ответили на мой вопрос.
— Я уехала в темноте, было часов семь, даже больше семи.
— А гражданка Пищик?
— Позвать Соню к телефону?
— Передайте ей трубку.
Лидочка положила трубку на столик и позвала Соню. Та появилась почти мгновенно, словно стояла под самой дверью.
— Лейтенант Шустов хочет тебе что-то сказать.
— Еще чего не хватало! — заявила Соня, но трубку взяла.
Чтобы не подслушивать, Лидочка ушла из комнаты. На столике перед диваном стояли две рюмки — одна, Лидочкина, была лишь пригублена. Лида допила коньяк.
Вскоре в комнату вернулась Соня. Она была еще сердита, но гнев ее угас.
— Завтра просил меня к нему прийти.
— Это его работа.
— Да что ты все о работе, о работе! Они все садисты! Ты не знаешь, какими похотливыми глазами он на меня сегодня глядел. Совершенный козел.
Лейтенант не показался Лидочке совершенным козлом, но спорить она не стала.
— Он еще требует, чтобы я ехала к Татьяне. Еще чего не хватало! Может, ты съездишь?
— Но ведь договорились, что ей можно позвонить.
— А он говорит, что звонить бесчеловечно. А разве человечно, если она услышит эту новость из моих уст? После моих просьб! После того, как я ее умоляла позвонить Алене! Ведь я считаю, что Татьяна — потенциальная убийца своей дочери. Если бы она вовремя поддержала дочь, Алена осталась бы жива. Можно я еще себе налью?
Выпив очередную рюмку коньяку, Соня задумалась.
— Самое обидное — ты даже не представляешь, насколько обидно, — произнесла она, почесывая толстое колено, обтянутое черным шерстяным чулком, — что этот козел почувствовал облегчение. Вот бы не хотела! Ты понимаешь, что Аленка пошла на это, чтобы его наказать. Я клянусь тебе, что она его наказать хотела. Чтобы он зарыдал, понимаешь, опомнился, понял, что он натворил, какого человека убил! А знаешь, что получится? Он утрется и пойдет дальше, даже вздохнет с облегчением. Из всех подлых мужиков — он самый подлый.
— Соня, я же ничего не знаю, — перебила ее монолог Лидочка. — Ты говоришь мне о ком-то, словно я с ним знакома.
— Ты права. Я вижу в тебе подругу, как будто мы тысячу лет знакомы.
— Так о ком ты говорила?
— Об Олеге. Об Осетрове. Об этом партийном ошметке.
— Знаешь что, Соня, — заявила Лидочка. — У меня от вас всех голова идет кругом. Еще вчера утром я была обыкновенной женщиной и не участвовала в смертях, убийствах и покушениях. Сейчас — я в центре какой-то гигантской интриги…
— Не преувеличивай. Никакой интриги нет.
— Лейтенант Шустов другого мнения.
— Твой лейтенант — козел и садист. Я тебе говорю со всей откровенностью. В отличие от тебя я знаю мужчин.
— Меня не интересуют мужчины, — сказала Лидочка. — Мне была нужна шкатулка.
— Лида, я должна тебе сказать, что у тебя типичная вязкость сознания. Для тебя шкатулка важнее человеческих судеб. Стоит твоя шкатулка у Алены. И всегда стояла. Ее Аленке бабка Маргарита отдала. Но я не хотела говорить при старухе…
— При ком?
— При Татьяне Иосифовне. Она жадная, как Гобсек. Если бы я при ней сказала, что шкатулка стоит у Алены на комоде, она бы бросилась получать ее через суд. Все же карельская береза!
— Но ты внутрь заглядывала?
— К сожалению для тебя — заглядывала. И знаю, что шкатулка пустая, как космос. В ней Аленка хранила свои старые пуговицы. Килограмм пуговиц.
— А где же вещи? Дневники? Ты не знаешь?
— Подумай, с чего бы мне спрашивать у Аленки про твои бумаги? Откуда мне знать, что шкатулка не всегда была пустой? Может быть, и Аленка этого не знала. Стоит шкатулка, как всю жизнь стояла, а бебехи из нее еще до войны выкинули.
Лидочка не нашлась, что сказать: Соня была права.
— Я тебе хотела сказать об этом, а потом подумала — ты же все равно будешь Аленке звонить, пускай она тебе сама скажет. Какое мне дело до чужих шкатулок?
— Жалко, — сказала Лидочка.
— Жалко, — поняла ее Соня. — А мне в тысячу раз жальче. Тебе ведь жалко, что Аленка не сможет рассказать тебе про тетрадки, а мне ее как человека жалко. У нее, конечно, были недостатки, но она притом — моя лучшая подруга. А может, и единственная.
— А при чем тут мерзавец?
Соня налила еще коньяку.
— Извини, — сказала она, — но я постепенно у тебя отогрелась. И физически, и душевно. Ничего, что я твое время отнимаю?
— Я не спешу.
— Тогда я расскажу тебе грустную историю жизни моей подруги Алены Флотской.
Наверное, эта формула и даже подзаголовок рассказа уже давно созрели под выпуклым лбом Сони. Лидочка наблюдала за интересным феноменом, как у нее на глазах ужас перед лицезрением смерти и горе от гибели подруги сменялись ощущением участия в важном событии, важном ее собственной ролью в нем, то есть отравилась не просто Алена, а отравилась Подруга Сони.
И, как бы подтверждая мысль Лидочки, Соня заметила:
— Ей уже все равно, а нам, живым, нести бремя. Так могла бы сказать и Татьяна Иосифовна, и нечто подобное она обязательно скажет…
— Не надо так жалеть себя, — не удержалась Лидочка, не терпевшая фальши. — Ты здорова, молода, у тебя все впереди.
— Друг бывает в жизни только один, — наставительно возразила Соня. — Второй может и не попасться на жизненном пути.
— А может и попасться, — заметила Лидочка.
Соня только отмахнулась.
— Это история, достойная пера Льва Толстого, — произнесла она с выражением, словно это был номер, с которым она выступала на детских утренниках. — Представь себе краснопресненскую школу, двух девочек в параллельных классах, обе бедные, но не лишенные способностей и амбиций. У Алены Флотской фактически нет матери. То есть формально она есть, но у нее очередной муж или любовник в Ташкенте или Питере, а ребенка тянет из последних сил бабка Маргарита, отсидевшая по лагерям и тюрьмам. А у меня все похоже, но еще проще. Если кто и сидел, то мой папаша за растрату или хулиганство — я его плохо помню. Он приходил к нам иногда по воскресеньям, от него пахло водкой, он давал мне конфеты, а маму тащил в постель.
— Ты можешь мне все это не рассказывать, — заметила Лидочка, которую вовсе не увлекала жизненная история Сони Пищик.
— Что любопытно, — продолжала Соня, не обращая внимания на реплику Лидочки, — мы в школе не очень дружили. Так, симпатизировали, но компании были разные. Можно сказать, Аленка была романтик и всегда оставалась на бобах, потому что ставила слишком высокую планку. Попрыгает, попрыгает возле нее воздыхатель и бежит к более доступной цели. Аленка же начинает переживать, кидаться вслед, но поезд уже ушел… А я жила проще, у нас была компания, мы знали, что мальчикам надо давать, а мальчики тоже полезны в личной жизни. Без особых иллюзий, но с интересом. Ну что говорить — я в девятом классе аборт первый сделала, а Аленка в институт девственницей поступила. В общем — истеричка.
— Это называется истеричкой?
— Разумеется. — Соня была искренна. Судя по всему, она была грудастой толстушкой с круглыми коленками, рано созревшей и соблазнительной для сверстников. В десятом классе Соня Пищик была притчей во языцех — не шлюха, но девочка с большим жизненным опытом. А к тридцати она уже стала младшей по чину подругой той самой Аленки, к которой в школе относилась снисходительно и даже с некоторым презрением.
— Я все пела, это дело, — продолжала свой рассказ Соня. — А зима катит в глаза. Школа позади, я сделала попытку поступить в институт, но тут наш папочка совсем слинял — нашел себе другую сексуальную партнершу, денег — ни фига. Мои парни готовы были сводить в кабак и даже на концерт рок-музыки. И концы. Я знала, что должна платить. И мне, честно говоря, нравилось так платить. Я ужасно сексуальная. С Петриком у меня такой роман был — ты не представляешь! Он меня раз в такси на заднем сиденье трахнул — представляешь?
Петрика Лидочка еще не знала, так что не смогла оценить значимость этого воспоминания. Разговорчивость Сони ее утомила, но она не могла ее остановить, понимая, что в значительной степени это — реакция на шок, который испытала Сонька, увидев мертвую Алену.
— В институт я провалилась, но мама устроила меня в районную библиотеку. Сначала я думала, что рехнусь в бабском коллективе. Но потом поняла, что если отдавать работе лишь минимум времени и ни грамма души, то можно прожить и на доменном производстве. У меня даже появились кое-какие поклонники, я чуть замуж не выскочила, но он в Израиль уезжал, а я подумала — как я буду жить, когда вокруг одни евреи? Это же точно антисемиткой станешь. А дети пойдут? Как им жить с антисемиткой-матерью?
— Проблема, — согласилась Лидочка. Соня выпила еще коньяку.
— Завершаю эпопею, — сказала она. — В своей карьере я попала в библиотеку Тихоокеанского института. С повышением и в поисках мужика. Было это года три назад. И вдруг вижу — Аленка Флотская, из нашей школы, за книжкой ко мне приходит. Я чуть не расплакалась от радости — все же родной человек! И ей было приятно меня встретить. Она к тому времени кончила институт, поступила в аспирантуру — все же у бабки Маргариты сохранились какие-то связи, да и сама Аленка — голова номер один. И расцвела она как роза. Ты не представляешь. Я тебе покажу…
Вдруг Соня закручинилась, из ее глаз медленно выкатились слезы.
Лидочка поняла недосказанное: я тебе ее покажу… на похоронах.
Соня отдышалась и продолжала:
— У нее как раз тогда кончался роман — трагически. Он женился на другой. У Аленки такое свойство — глупость почти психическая: она всегда любила не тех, кого надо.
Соня поднялась с дивана и, продолжая монолог, начала неспешное путешествие по комнате, как следопыт в джунглях, исследующий пути к логовищу зверя. Ему все важно в пути — и где была лежка, и чем питался зверь, и какую ветку сломал.
— Ты была за границей? — спросила Соня. — Не отвечай. Я сама отвечу. Япония?
— Китай и Бирма.
— Жалко, что не Япония. Китай и Бирма — страны бесперспективные. Мы с Аленкой в прошлом году в шоп-тур ездили, в Эмираты. Честно говоря, пожалели, что ввязались. Доходы мизерные, унижения страшные, а я чуть было в публичный дом не попала — оказалась очень во вкусе турецких гаремов. Не веришь?
— Верю.
Лидочка не поверила. Хотя, честно говоря, вкусы турецких гаремов были ей незнакомы. И откуда взялись турки в Эмиратах, она не знала.
Наконец Соня справилась со своими чувствами и продолжала:
— Институт наш не очень большой, и молодежи сначала было мало. Так что мы с Аленкой оказались в «звездах». И в устном журнале, и в капустниках — нас мужики тянули. Обычная академическая жизнь. Я думаю, что мы даже нашли свое счастье. Все своим чередом. У меня возник один перспективный мужик, немолодой уже, но, сама понимаешь, кому в нашем бальзаковском возрасте нужны молодые? Мне тридцать минуло… Правда, недавно. Никогда не дашь?
— Не дам, — согласилась Лидочка.
— И тут эта трахнутая перестройка. Это не значит, что я против демократов или перестройки вообще. Перестраивайтесь сколько угодно. Тебе надоело?
— Мне скоро уходить.
— Закругляюсь.
Лидочка узнала, как молодые женщины ходили в институт, не столько рассчитывая сказать свое слово в науке, как рассчитывая устроить личную жизнь. Причем они даже ездили два раза на пикники и вместе были в Симеизе, который оказался заштатным местечком, где по кипарисовой аллее бродили шахтеры-туберкулезники, ночевавшие под навесом на пляже, да снобистская компания из какого-то московского издательства. В Ялте они познакомились с Артуром, которому понравилась Соня, но Аленка увела его из-под носа у подруги. Из-за этого они рассорились, но случилось так, что у Артура оказалась другая любовница, с которой он не мог или не хотел порвать. Аленке пришлось сделать аборт, причем в последний момент, она все надеялась. После этого эпизода Аленка с Соней даже не здоровались в институте, но потом, сделав аборт, Аленка попыталась покончить с собой, наевшись таблеток. А когда она поняла, что теряет сознание, то ночью, в три часа, позвонила — кому бы вы думали? Правильно, обманутой и отринутой подруге Соне! Так устроен человек. Соня ей все, разумеется, простила, прискакала к ней ночью, помогала «Скорой помощи» прокачивать ей желудок, доза оказалась неопасной, но в институте кто-то узнал, и это было отвратительно, об Аленке говорили «эта самоубийца». Тогда Соня и познакомилась с ее матерью Татьяной Флотской, они скрывались у нее с Аленкой неделю на даче. Бывает любовь с первого взгляда, а бывает и отвращение с первого взгляда. Так у Сони с Татьяной. Впрочем, и Аленка к маме теплых чувств не питала за то, что та бросила ее на руках у бабушки в самом нежном возрасте, а сама устраивала свою личную жизнь. Этого дети родителям не прощают.
К этой стадии рассказа Соня уже усидела половину бутылки коньяка, чуть опьянела и стала свободнее в выражениях.
— Наступила перестройка, и оказалось, что академическая наука никому не нужна. Честное слово, никому. И тут в отделе произошло событие. К нам перевели из ЦК КПСС пожилого мужика. Еще вчера он заведовал сектором, перед ним сам директор на пузе ползал, а уж о завотделом и говорить не приходится. Господин Ростовский взял его на работу — все понимают, что эта перестройка скоро кончится и тогда коммунисты спросят — а с кем ты был в тяжелую для родины годину? Наш Ростовский тогда ответит — я дал приют и минимальную зарплату гонимому руководителю среднего звена. И в него, в Олега Осетрова, наша Аленка врубилась с лету. Осетрову примерно пятьдесят, у него уже есть маленький внук. Красавец-мужчина, метр восемьдесят, для ЦК — предел, высоко не поднимешься, они длинных не терпят, помнишь, как Ельцина гоняли? А правда, что у Ельцина все-таки мать — еврейка? Мне точно говорили. Я сама было глаз на Осетрова положила, но Аленка, конечно же, меня обштопала. Покойница была с мотором, а фигура как у фотомодели.
Лида отметила про себя, как по мере рассказа Соня все более отстранялась от подруги: она уже называла ее покойницей — так о погибшей сегодня подруге не говорят. Впрочем, отношения двух сравнительно молодых, но засидевшихся в девках подруг не поддаются рациональному описанию. Время утекает меж пальцев, словно песок. Порой страшно проснуться и подумать — а вдруг ты уже опоздала? И ты бросаешься в авантюру, не имеющую шансов на успех и, может, даже теряешь шанс в ином, скромном, но надежном уголке. Но остановиться не можешь. А вдруг выгорит?
Так случилось с Аленкой. Она решила соблазнить Олега Дмитриевича Осетрова, красавца из ЦК, и преуспела в том быстро и красиво, потому что Олег был растерян, устал от нервотрепки предыдущих двух лет — развала и гибели системы и, в отличие от своих начальников и коллег, не проявил склонности и умения в сфере бизнеса. Вот и пришлось ему пересиживать эпоху в оживающей лишь в дни зарплат и компенсации комнате отдела Австралии. Вчера еще наш посол в Австралии приходил к тебе с отчетом и дрожал перед твоим столом. А сегодня ты — старший научный… А вдруг коммунизм не вернется? Или — его возводить молодым?
Аленка всерьез влюбилась в Осетрова, и тот был польщен, в первую очередь именно польщен ее влюбленностью. Он прожил свою жизнь, вечно остерегаясь бдительных глаз врагов и завистников. И романы у него были малочисленны и всегда происходили на юге в санатории, если жена не увязывалась за ним. Так что он порой нарочно выбирал неудобный для нее месяц — ведь происходившая из министерской семьи жена тщательно следила за тем, чтобы у нее была путевка не только в соответствующий рангу санаторий, но и в соответствующий рангу сезон.
Редкие санаторные романы, да один или два случая в командировках были лишь эпизодами, приключениями, необходимыми для самоутверждения. И потому Олег Дмитриевич Осетров был неопытен в любви и даже искусстве служебного романа. Хорошенькая и знающая себе цену Аленка уложила его к себе в постель через неделю после знакомства и сделала это так, что до конца дней своих Осетров будет уверен, что он овладел ею почти насильно.
А потом все это оказалось значительно серьезнее, чем планировалось. Наслаждения от победы над бывшим красавцем из ЦК не получилось — в постели он был скучен, бездарен и по сравнению с прошлыми любовниками Алены — ничтожен. Никакой красивой жизни с ним не было и быть не могло, потому что он по старой партийной привычке больше всего боялся огласки, даже в отделе в присутственные дни старался не замечать возлюбленной, держа ее на расстоянии. Встречались они всегда днем, к шести этот монстр должен был вернуться домой, в семью, желательно по дороге купить кочан капусты или шесть килограмм печенья для его благоверной, которая вот-вот лопнет от жадности и гордыни. За три года романа он умудрился ни разу не съездить с ней ну не то что в Ниццу или в круиз — в подмосковный пансионат не смог. Трудно поверить, но они даже единой ночи вместе не провели. Аленка всегда говорила — я бы ему многое простила, если бы хоть раз проснулась с ним на одной подушке.
Это была банальная история обманутых надежд, которые строились на песке. Лидочка знала о десятках подобных историй, словно их штамповали на небесах, чтобы никого ничему не научить. Товарищ Осетров был недостаточно силен, чтобы разорвать эту связь, к тому же трепетал перед оглаской. Наверное, порой Олег Дмитриевич мечтал, чтобы Аленка угодила под машину или утонула в речке — но она была живуча. И роман тянулся, не принося даже физического наслаждения, потому что Олегу Дмитриевичу не нужна была постоянная любовница, ставшая жалким заменителем супруги — он знал наперечет все недостатки ее тела: и недоразвитость грудей, и плоский зад, и форму родинок, и то, что она скажет, когда он войдет в квартиру, и какие упреки он услышит, раздевшись, и новые упреки, когда соберется уходить…
Соня говорила размеренно и вовсе не то, что случилось на самом деле. Она поведала Лидочке историю любви одной подруги, рассказанную другой подругой, то есть историю, далекую от действительности, но субъективно существующую в мозгу Сони, то есть не придуманную, а прочувствованную. Лидочка же слышала не слова, а воссоздавала ситуацию и знала, что ее понимание куда точнее, чем воспоминания Сони.
В последние месяцы отношения любовников зашли в полный тупик. Алена становилась все агрессивней и требовательней. Ведь она отдала этой скотине три лучших года своей жизни — а что получила взамен, кроме постоянных унижений и двух абортов, один из которых чуть-чуть не кончился трагедией? Ничего. Она заявила ему открыто, что если он не решится на последний шаг — если он не уйдет к ней — ведь тысячу раз обещал — неважно, что делал это все, чтобы заставить замолчать, — то она открыто расскажет обо всем в институте. Она понимала, что другой мужчина лишь усмехнулся бы: какой институт, какой профком в эпоху рынка и базара? Но для Олега Дмитриевича, который жил надеждой на возвращение прошлого, это была не пустая угроза. И в то же время Алена понимала, что одной такой угрозы окажется недостаточно, и решила подкрепить ее угрозой самоубийства.
Разумеется, в изложении верной Сонечки и этот эпизод прозвучал иначе.
Желание получить мужчину себе в личное пользование объяснялось якобы ее детской верой в его клятвы, а угрозы покончить жизнь самоубийством не возникало вовсе — оказывается, Соня просто чувствовала такую опасность, потому что в глазах Алены она увидела смерть. Ну, может, не смерть, а нечто особенное, неземное и потому угрожающее… Именно это и заставило метнуться в отчаянии к жестокосердной матери — если ее уговоры и мольбы не помогали, оставалась одна надежда на авторитет Татьяны.
Слушая ее, Лидочка не понимала — да, впрочем, и не понять ей этого никогда: насколько план с угрозами исходил лишь от Аленки, а насколько он был выпестован тридцатилетними девицами совместно. Тогда и поездка к маме была частью заговора.
Но почему тогда Аленка умерла? По всему судя, никто этой смерти не планировал. И не ожидал. Ни мама, ни Соня. Они вели себя как в театре, ожидая игрушечной дуэли Гамлета с Лаэртом, а не холодного тела на ковре и не милиционеров, которые громко разговаривают, курят и даже матерятся, переступая через труп молодой женщины.
Может быть, она все же обманула Соню? Может, она решила умереть, но скрыла это решение от близких?
Нет, сказала себе Лидочка. Весь этот роман был понятен, и время для самоубийства было давно упущено.
— Хотела бы я посмотреть ему в глаза, когда он узнает, до чего довел Аленку, — сказала, подытоживая монолог, Соня.
— Он еще не знает?
— А кто ему скажет? — отмахнулась Соня.
— Я думала, что ты уже сказала.
— Не надо песен, — отрезала Соня. — Я считаю, что он косвенный убийца Аленки. Неужели я буду с ним разговаривать?
— Ты хочешь рассказать о нем милиции?
— А ты думаешь, что я должна его щадить? Ты что, забыла, что моя лучшая и единственная подруга находится в морге и, может быть, ее уже разрезают — с них станется! — а я должна покрывать ее убийцу?
— Это твое предположение.
— Вот именно об этом предположении я и хочу сообщить, — ответила Соня, и глазки ее, маленькие за очками, стали такими холодными и злыми, что Лидочка даже пожалела товарища из ЦК.
— Я бы на твоем месте не лезла в это дело, — заметила Лидочка.
— Спросят — отвечу. Я не отвечу, Татьяна скажет. Или кто-нибудь из отдела.
— Ах, конечно, — вырвалось у Лидочки. Как же она не подумала — в отделе три года кипит, потом тлеет роман между двумя сотрудниками. Роман, о котором знают все и о значении которого наверняка имели беседы с Олегом Дмитриевичем его товарищи. А может быть, знали, но не придали значения? Махнули на него рукой? Как бы то ни было — весь отдел, конечно же, в курсе дел, вернее всего, привык и смирился, как со скрипящей дверью в комнату, но теперь-то, после трагедии, Олег Дмитриевич окажется под лучами прожекторов, и неизвестно, удастся ли ему выкарабкаться из этой истории. Если Алена хотела отомстить, то, очевидно, ее месть осуществится.
— А Татьяна Иосифовна знала о нем?
— Разумеется, знала. И не выносила его. Да, она плохая мать, она равнодушный, глухой к чужим бедам человек, но когда дело касается мужчин, ее нюх начинает работать. Она давно отговаривала Алену… но разве на нее повлияешь?
— Значит, вчера ты знала, что Алена решила припугнуть товарища Осетрова?
Соня прищурилась, размышляя. Лидочка чувствовала, что права, и видела, что Соне не хотелось признаваться в излишней информированности.
— Я не знала, — сказала она наконец. — Конечно, я не знала. Но догадаться могла. Дурак бы на моем месте догадался.
— Она впервые это проделывала с ним?
— С Осетровым?
— Да.
— У нее такое в жизни уже было.
— А Осетрову она только грозила?
— Лидия! — не выдержало сердце Алениной подруги. — Ты говоришь так, словно не Осетров убил Аленку, а она сама его убила. Теперь легко говорить — она сама во всем виновата. Хотела увести пожилого человека, а когда не получилось, стала шантажировать.
— А разве не похоже?
— Ты бы посмотрела на Осетрова. И тогда бы говорила. Мужику шестой десяток, перспектив никаких, зарплата нищенская — кому он нужен?
— Кто нас разберет, — ответила Лидочка. Она была уверена, что ни размер зарплаты, ни внешние данные не были и не будут решающими факторами в душевных драмах.
— Вот именно! — Соня одержала малую победу и защищала честь погибшей подруги.
День был в полном разгаре. Соня взглянула на часы.
— Мне в институт надо, — сказала она. — Ты же понимаешь. Это я к тебе от шока прибежала, а вообще-то мне надо быть в институте. Там же никто еще ничего не знает.
Соня поднялась.
— Значит, я побежала в институт, а ты, будь другом, доберись до Татьяны. Надо же старухе сказать, что ее дочь отравилась.
Слова были недобрыми, словно Соня сводила счеты с Татьяной Иосифовной.
— А ты пол-то хоть вымыла вчера? — неожиданно для самой себя спросила Лидочка.
— Пол?
— На даче. Ты же осталась, чтобы вымыть пол.
— Но я же, честное слово, хотела пол вымыть, — Соня вдруг покраснела. — Я хотела, но потом был сериал, я совсем забыла, что сериал, а потом мы с Татьяной чай пили, заговорились, а потом уже поздно стало, и мне пришлось у нее ночевать… А утром? Впрочем, я думаю, что она сама тоже забыла о моем обещании. Только ты, Лида, со своим холодным бесчувственным умом помнишь о таких пустяках. И мне вообще непонятно, зачем ты об этом спросила?
— Не знаю, наверное, из-за твоей просьбы. Я подумала, что ты совсем недавно от нее уехала, а я должна позвонить и сказать…
— Можешь не звонить, — отозвалась Соня. — Кто-нибудь обязательно порадует.
Она поднялась и стала собираться. Она была немного пьяна, и движения ее были более размашистыми и резкими, чем следовало.
— Извини, что я спрашиваю в такой день. Но для меня это все равно важно. Ты сказала, что шкатулка стоит в квартире Алены…
— Ну сколько раз мне нужно повторять! Стоит. На комоде.
— И ты эту шкатулку видела?
— И трогала, и открывала, и закрывала — я ее знаю, как собственный унитаз.
И, сделав столь изящное сравнение, Соня покинула Лидочку. Та хотела, правда, опередить ее и глянуть в дверной глазок, но Соня не знала о страхах и опасениях Лидочки и потому оттолкнула ее своим тугим, плотно сбитым телом.
— Я тебе позвоню! — крикнула Соня с лестницы. Голос ее звучал гулко. Лидочка закрыла дверь и поспешила к телефону — кто-то звонил.
Оказалось — Татьяна Иосифовна.
— Лида, Лидочка, неужели это правда? — спросила она вместо приветствия. — Ничего от меня не утаивай, скажи всю правду, какой бы тяжелой она ни была.
— Татьяна Иосифовна, простите, но все, что я знаю, я знаю от Сони и милиционера.
— Она погибла?
— Соня только что ушла от меня. Она ее обнаружила утром.
— Это случилось ночью?
В их разговор вмешался чужой голос и сказал:
— Это шестое стройуправление?
— Повесьте трубку, вы мешаете, как вам не стыдно! — сказала Татьяна Иосифовна. И в голосе ее была такая убедительная сила, что тот, неизвестный мужчина отключился. — Представляете, Лидочка, — сказала Татьяна. — Я сидела и спорила о каких-то не очень важных вещах с этой Софьей, когда моя единственная дочь умирала… я никогда себе этого не прощу.
— Но вы-то при чем?
— Я не уделяла ей должного внимания. Так сложилась моя жизнь.
— Боюсь, что вы вряд ли могли бы что-то сделать. — Лида говорила то, что Татьяне хотелось услышать. — Ваша дочь была взрослым человеком и сама решала, что ей делать.
— Людям кажется, что они решают. На самом деле — они рабы случая. В нашем роду женщины погибали от любви.
Заявление было сомнительным, но Лидочка его не оспаривала. Ей хотелось узнать, каким образом Татьяна узнала о гибели дочери.
Татьяна сама решила эту маленькую загадку.
— Меня вытащили к телефону, который в километре от дачи. Телефонограмма. Это так называется. Коменданту поселка звонили из Аленкиного института. Мне невыносимо думать, что в институте уже знают. А когда я сюда пришла, оказалось, что звонили еще из милиции. Вы не представляете зачем?
— Молодой человек, вежливый? — спросила Лидочка.
— Вот именно.
— Тогда я знаю, что он сказал.
— Даже знаешь, что сказал?
— Он попросил прощения, что действует не по правилам, но он очень занят и выражает свое соболезнование…
— Что-то в этом духе.
— Но ему главное было узнать, когда от вас уехала Соня и оставались ли вы на даче одна.
— Ты чудо — Лидочка. Именно так… — Татьяна сделала паузу. Потом воскликнула: — Неужели он подозревает, что я могла приехать в Москву, чтобы предложить своей дочери снотворные таблетки?
— Нет, лейтенант Шустов любит порядок. И он, на всякий случай, ищет подтверждения показаниям других лиц.
— Ты имеешь в виду Соньку? Но ведь она не уезжала! Мы с ней засиделись — я ее не люблю, но я к ней привыкла. Мы засиделись, а потом она уехала утром, ранней электричкой. Впрочем, что я говорю… не все ли равно, кто звонил и кто уехал! Мне так трудно поверить… я еще в шоке. Меня тут накачали таблетками. Как будто мать может пережить смерть своей дочери, если выпьет флакон валерьянки… Лида, Лидочка, скажи, скажи, в чем я виновата? Что я не сделала? Что я должна была сделать?
— Не казните себя, Татьяна Иосифовна. Ведь, может, и лучше, что это случилось, когда вас не было рядом — иначе вам было бы еще тяжелее.
Лидочка никогда бы не посмела сказать так другой матери — но здесь был особый случай.
Лидочка так и не увидела Аленку живой. Она узнавала ее косвенно, шаг за шагом, из чужих уст. И пока что она не встретилась с настоящим героем, который стал причиной ее смерти. Соня расстроена, но она и торжествует, потому что какая-то справедливость в ее понимании восстановлена. Смертью Алены наведен порядок в мироздании, злодеи будут наказаны. Соня всех предупреждала, била во все колокола, но звон не донесся до нужных ушей. Пусть будет хуже этим ушам.
Татьяна Иосифовна готовится выполнить долг безутешной матери, она будет вполне удовлетворена тем, что трагедийность ее собственной фигуры возрастет: «И помимо всего она потеряла единственную дочь!» Но Татьяне на самом деле спокойнее оттого, что она не присутствует при самом событии. И не участвует в нем.
— А как меня привезут? — спросила Татьяна.
Лидочка не знала, как должны привезти мать Алены.
— Я могу за вами приехать, — сказала она неуверенно. И не потому, что была глуха к страданиям других людей — люди, с которыми она познакомилась вчера, не были ей приятны, и ей не хотелось быть втянутой в круговорот их чувств и поступков.
— Нет, — ответила Татьяна после некоторого раздумья. — Пожалуй, я тебя оставлю в резерве. Сейчас буду звонить в «Мемориал». Должны же они обеспечить транспорт. И, кстати, венок… и материальную помощь. Конечно же, они обязаны предоставить материальную помощь. Я хочу быть уверенной в том, что Алена будет достойно предана земле.
Лидочка хотела сказать, что об этом позаботится институт, но промолчала — не ее дело вмешиваться в эти частности. Хотя, как подумала она, любопытно, что при полном развале Академии, какие-то обязательные функции институты продолжают выполнять — в частности, организацию похорон. На зарплату денег может не остаться, но похороны институт обеспечит, в крайнем случае и Президиум поможет.
— Ты никуда сегодня не уходишь? — спросила Татьяна.
— Еще не знаю.
— Я буду тебе звонить. А ты запиши местный телефон. Если будут новости, немедленно сообщи мне, здесь будут люди — они так добры ко мне. Они добегут ко мне и расскажут. Правда? — Последнее слово относилось к тем, кто стоял рядом с Татьяной. — Вот видишь, — закончила она. — В тяжелые моменты русский человек всегда приходит на помощь слабому и несчастному. До свидания, Лидочка, и спасибо тебе за участие. Я никогда не забуду благородной роли, которую ты сыграла в моей трагедии.
— Ну, что вы, — ответила Лидочка, которая не знала, какую роль она сыграла, она хотела попрощаться, но оказалось, что Татьяна еще не спросила главного:
— Лидочка, а ты не знаешь, какое снотворное выпила Аленка?
— Нет, Соня мне не сказала.
— Ну как же так! Пожалуйста, узнай для меня. Может, милиция знает?
— Я постараюсь, — хотя было совершенно непонятно, зачем ей это узнавать.
— Тогда до свидания, девочка.
Татьяна всхлипнула и повесила трубку.
Лидочка убрала со стола. «Я совсем забыла, что меня саму собирались убить», — подумала она. Отказались они от этой мысли или нет? Надо спросить у коменданта Каликина… Что же не звонит Андрей? Уже давно должен был долететь. Вот он удивится, если узнает, что шкатулка существует, стоит в двух шагах от нашего дома, правда, пустая. А владелица ее, которая, вернее всего, знала, куда делось содержимое шкатулки, покончила с собой сегодня ночью. Как будто судьба погрозила пальчиком и усмехнулась, не желая возвращать Берестовым семейные реликвии.
Странное состояние владело Лидочкой — она не могла заставить себя покинуть надежность квартиры и ступить на лестницу. Как будто была убеждена в том, что нечто страшное ждет ее на лестнице или в подъезде. Она понимала, что в ней накопилось нервное напряжение последних суток. В ней боролись два человека — один требовал действий, утверждал, что, лишь преодолев препятствия, можно возвратиться к нормальной жизни. Так что сначала надо добраться до булочной, затем побывать в издательстве «Наука» и получить там деньги за фотографии… Другой человек, осторожный и запуганный, уверял, что хлеба еще немного есть, гонорар пустяковый, подождет, а вот Андрюша может в любой момент позвонить из Каира, и он очень удивится, что ее нет дома, и будет беспокоиться, к тому же ей самой хочется услышать его спокойный голос…
В результате победил второй, осторожный человек, и Лидочка, убрав квартиру, запустив белье в стиральную машину, села поработать. Телефон она поставила рядом. В течение второй половины дня он почти не звонил — обычно в это время никого дома не бывает, и телефон знает об этом. В шесть позвонил Андрей. Она была счастлива услышать его голос, потому что уже начала строить в воображении ужасные картины авиационной катастрофы, отгоняя их и не в силах отогнать. Слышно было очень плохо. Так плохо, что приходилось кричать, и, конечно, Лидочка ничего не стала кричать Андрею об утренней перестрелке и почти найденной шкатулке — событий было столько, что для объяснений потребовалось бы минут десять. А у Андрея было денег в обрез, и он сам, узнав, что дома все в порядке, закончил разговор. И, только повесив трубку, Лидочка поняла, что даже не спросила, в каком отеле он остановился и какой у него там номер телефона — ведь ей следовало теперь позвонить ему самой.
Ну ладно, подождем следующего звонка.
Почти сразу позвонил комендант. Казалось бы, ему проще заглянуть перед уходом с работы. Но он позвонил и сказал, что не посмел беспокоить, так как еще не достал второго стекла. Что же касается всяких нападений и угроз, о которых говорил лейтенант Шустов, то Лидочка может не беспокоиться. Комендант по своим каналам предупредил бандитов, чтобы они не смели появляться по соседству. Потом он пожелал спокойного вечера и даже поинтересовался, благополучно ли долетел Андрей Сергеевич.
— У вас есть свои каналы? — удивилась Лидочка.
— Москва вся пронизана мафиозными связями, — внятно объяснил ей комендант. — Каждый второй — бандит. А у коменданта большое хозяйство. Неужели вы думаете, что в нашей работе можно обойтись без контактов? Нельзя. Помните, как нам телефоны ставили — тогда нелегко было это сделать. Зато у нас на автоплощадке три места не принадлежат жильцам. Не замечали? Ну ладно, вы не автомобилист. А подвал мы сдаем фирме? Нужно же на какие-то деньги дворника и уборщицу иметь? А фирма какая? Голландская. Из кого состоит? Из трех азербайджанцев. Можно и еще примеры приводить, но довольно и этих.
Говорил комендант вежливо, умильно, как бы по-дворницки. Но Лидочка знала, что он не дворник, а полковник, ветеран и председатель ветеранов, так что в любой момент он может сменить интонацию.
Потом Каликин спросил, правда ли, что она сообщила номер той машины милиционеру Шустову?
— Правда, — ответила Лида с замиранием сердца. Она поняла, как сердится на нее мафия за этот донос.
— Ну и молодец, — сказал комендант. — Я же их предупреждал, не вяжитесь к нашим уважаемым товарищам. Все равно номер ваш в милиции, а примет ваших женщина не помнит. Правда?
— Правда, — ответила Лидочка после короткой паузы.
— Лидия Кирилловна, — настойчивее повторил комендант. — Вы меня, может, неправильно поняли, но мне хочется довести до вашего сознания, что вы не запомнили лиц тех людей, которые были в машине. Для вашего же блага. Так и милиционеру сказали. И зря они беспокоятся. Вы меня поняли?
Только тут Лидочка его поняла и с облегчением, почти искренне ответила:
— Я совершенно не запомнила никаких лиц. Я и так плохо лица запоминаю, а в темноте, в машине тем более — я же специально не приглядывалась.
— Вот и умница, — одобрил комендант. — Значит, я людей не обманул.
На этом он и попрощался.
Лейтенант Шустов позвонил уже в восьмом часу, узнать, как там дела. И вообще, никто не беспокоил Лидочку?
Лидочка ответила, что день прошел спокойно.
— Комендант звонил?
— Он в самом деле знаком с бандитами?
— Откуда мне знать? — в голосе Шустова ей послышалась насмешка. — Если я об этом узнаю, то подберу ему статью.
— Я ему сказала, что сообщила вам номер машины.
— Но, наверное, не запомнили, кто стрелял? Не увидели?
— Почему вы так думаете?
— Я ничего не думаю. Но учтите, что от вас я и не требую, чтобы вы кого-то запомнили. Раннее утро, перепуганная стрельбой женщина… даже суд никогда не рассчитывает на такие подарки. Да и я, как профессионал, ваши показания принимал бы с подозрением.
— Значит, я ничего не видела?
— Ваше дело.
— А как себя чувствует Петренко?
— Пострадавший находится в больнице и просит отпустить его домой, потому что полагает, и притом с основанием, что больница не самое безопасное для него место.
— Вы его прячете?
— Мы не в Америке. У нас для этого денег нет. Но место, где он лежит, не афишируем.
— Если они захотят, то доберутся до Петренко?
— Может быть.
— И убьют его?
— Допускаю.
— И вас не будет мучить совесть?
— Я подозреваю, что сегодня чуть попозже он смоется из больницы. И его не поймают. Вас это устраивает?
— Спасибо. А что известно об Алене Флотской?
— А что может быть о ней известно? Покончила с собой. Думаю, что всерьез она и не собиралась этого делать. Но так получилось. Уже не первый случай в моей практике. Хотят пугнуть, а дозу не рассчитывают.
— Вы так уверены?
— Она не оставила предсмертной записки, но я отыскал ее записную книжку. В ней записи на ближайшие дни, настоящие самоубийцы так не делают.
— Уже известно, почему она это сделала?
— Вы любопытная, Лидия Кирилловна.
— Как и всякая женщина.
— Мы не рассказываем посторонним тайну следствия. Но с вами я могу поделиться. При одном условии.
— При каком?
— Если вы дадите мне слово, что в самом деле раньше не были знакомы с погибшей и позвонили ей случайно.
— Я же сказала! Я ее так и не видела! Мне нужна была шкатулка, вернее, информация о шкатулке, которую мои родственники передали на хранение ее бабушке в тридцать восьмом году.
— А где эта шкатулка теперь?
— Это меня интересует не меньше, чем вас. Ко мне сегодня приходила Соня Пищик, она говорит, что шкатулка хранится дома у Алены.
— Ага, — сказал Шустов.
— Что это означает?
— Разгадку для Шерлока Холмса, — ответил лейтенант. — А я думал, что же стояло на комоде?
— Вы видели?
— Нет, но я могу сообщить ее размеры. Тридцать два на двадцать четыре сантиметра.
— Правильно! Но как вы догадались?
— На комоде пыль. Алена Флотская была большая неряха. А в одном месте пыли нет. Там что-то стояло, примерно тридцать на двадцать четыре сантиметра. Я и решил — коробка с нитками и пуговицами. Зачем она кому-то понадобилась?
— Она пропала?
— Вот именно. И дорогая шкатулка?
— Наверное, не очень. Я ищу дневники, которые в ней когда-то хранились.
— На комоде лежали кучей нитки, пуговицы — всякие пустяки. Кому-то шкатулка понадобилась, вот он все и высыпал. А когда Пищик ее видела?
— Не знаю. Спросите у нее.
— Спрошу, — сказал лейтенант.
— Почему вы замолчали? Это вам кажется важным?
— Не знаю, — сказал лейтенант. — Вообще-то, это не телефонный разговор.
— Разве сейчас слушают?
— У нас всегда слушают.
— Но мы же не обсуждаем важных дел. Одна девушка покончила с собой. Каждый имеет право покончить с собой.
— Если эта шкатулка исчезла два-три дня назад, это меня не касается, — ответил лейтенант. — Но если сегодня ночью, то, значит, кто-то к ней заходил. Может быть, эта встреча и подтолкнула гражданку Флотскую к роковому решению.
«Ну почему он всех называет гражданками? Неужели и меня он именует гражданкой Берестовой? А почему бы и нет?»
— У вас есть подозреваемые?
— У нее были интимные отношения с одним из ее сослуживцев. Но если гражданка Пищик к вам заходила, то она наверняка вам об этом поведала.
— Поведала. Вы его будете допрашивать?
— Наверное, придется, — ответил Шустов. — Но, вообще-то говоря, не хочется. Такие дела, где виноватых не найдешь, я бы закрывал, пусть живут, как хотят. А то у нас бандиты на свободе гуляют, а мы самоубийцами на личной почве занимаемся.
— Но бывает же, что человека довели до самоубийства.
— Боюсь, что гражданка Флотская сама себя довела.
— Вы — женоненавистник.
— Вы так думаете потому, что я развелся? Но мы с Галей и сейчас поддерживаем нормальные отношения.
— Нет, я пошутила.
— В следующий раз осторожнее шутите, а то я не всегда вас понимаю, — признался милиционер.
— Андрей Львович, — Лидочка постаралась говорить ласково и убедительно, — мне на самом деле важно узнать, куда делись те вещи, что когда-то лежали в пропавшей шкатулке. Я очень прошу, если будете спрашивать людей о шкатулке, вы потом мне расскажете, что узнали, хорошо?
— Хорошо. Но у меня нет доказательств принадлежности шкатулки вам или вашим родственникам.
— Андрей Львович, вы можете спросить у Татьяны Иосифовны. Она — мать…
— Знаю. Проживает в дачном поселке на станции Переделкино, где пишет свои воспоминания. Я спрошу ее.
— Заранее спасибо.
— Не спешите. Отдыхайте. Я пойду поужинаю, а то весь день без горячей пищи. И не бойтесь. Никто вас больше не тронет. Но, конечно, никому не открывайте, не посмотрев предварительно в глазок. Никому. Ясно?
— Ясно.
— Спокойной ночи.
Спать было еще рано — половина девятого. Лидочка устроилась с книжкой на диване, но, конечно же, не читалось — слишком много впечатлений.
Потом потянуло в сон.
Лидочка быстро отправилась в ванную — она боялась, что заснет.
Глава 4
Ты никого не видела
Утро началось со звонка в дверь.
Лидочке показалось, что еще ночь — так сумрачно было за окном.
Звонок был настойчив, он сбивал мысли, в нем была угроза, как бы продолжение тут же забытого ночного кошмара. Звонили убийцы… Лидочка кинулась было к двери, как была, в одной ночной рубашке, но потом остановилась в коридоре, замерла, стараясь проснуться и привести в соответствие мысли и окружающий мир.
Для этого сначала надо было посмотреть на часы, но часы остались в комнате. Тогда лучше заглянуть в глазок.
Лидочка заглянула в глазок и обнаружила, что за дверью, опираясь на палку, в меховой широкой шубе и в сером шерстяном платке стоит Татьяна Иосифовна Флотская. Этого еще не хватало!
Лидочка открыла дверь.
— Ты спала? — спросила Татьяна, не скрывая укоризны.
Лидочка знала, что услышит дальше, и потому молча отошла в глубь коридора.
— Я уже дошла до станции, доехала до Москвы, по Москве бултыхалась полчаса или час, еле тебя отыскала, у вас все переулки перекопаны. Думала, что придется звонить.
— Вы бы позвонили из автомата, я бы вас встретила.
— Я подозревала, что ты дрыхнешь, поэтому и дала тебе лишних полчасика поспать. Я-то ранняя пташка — как запоет вертухай, как ударят по рельсе, так я и бегу в сортир.
Татьяна хмыкнула и принялась разматывать платок.
— К тому же, — сказала она, — на улице жуткий мороз. Не стой как скифская баба. Поспеши на кухню, поставь чайник — чашка кофе меня спасет.
Что Лидочка и сделала.
Пока чайник грелся, она быстро ополоснулась, оделась и приготовила нежданной гостье завтрак.
Татьяна объяснила, и это было естественно, что ночью ей стало не по себе. Совсем не по себе. Она начала плакать и поняла, что должна найти каких-то людей. И тут обнаружила, что людей-то и нет. Племянница уехала в Германию, друзья, если они и были, вымерли или покинули эту страну, и вдруг оказалось, что проще и приятнее было поехать к Лидочке, с которой познакомилась сутки назад. Ведь именно Лидочка — не чужая. Они практически родственники, встретившиеся после долгой разлуки, Лидочка того же возраста, что и несчастная Аленка, и именно в ней Татьяна почувствовала родственную душу, ты понимаешь?
— Человек в стрессовой ситуации, — рассуждала Татьяна, большими глотками спеша допить чашку кофе в расчете на добавку, — ведет себя на первый взгляд нелогично, им руководят инстинкты. Инстинкт рода, инстинкт самосохранения. Как ни странно, меня вел к тебе инстинкт самосохранения — раненое животное чутьем понимает, какие травы для него целебны, а какие — ядовиты. Под ядовитой травой я имею в виду Соню. Вот к ней в трагический момент жизни я бы не смогла обратиться, потому что она недобрый человек…
Татьяна Иосифовна продолжала говорить, выговариваясь, видно, за недели одиночества и за вчерашний день, когда это одиночество она почувствовала в полной мере. А Лидочка с безнадежностью размышляла о том, что, вернее всего, сегодняшний день тоже погибнет — Татьяна Иосифовна послана ей злою судьбой, чтобы лишить свободы.
После третьей чашки кофе Лидочка смогла все же вставить вопрос в сплошной поток речи гостьи:
— Какие у вас планы, Татьяна Иосифовна?
— У меня? Планы? Не говори глупостей. Какие могут быть планы у старухи, только что потерявшей единственного родного человека?
— Но ведь вы ехали, наверное, не только для того, чтобы поговорить со мной?
— Если ты думаешь, что я хочу поехать в морг, — испуганно заявила Татьяна, плотно обволакивая кухонную табуретку мягким телом, — то ты ошибаешься. Я не переживу той картины. Нет, ни в коем случае. Ни одна мать не может увидеть свою дочь в таком виде.
Лидочка ничего не ответила, но почувствовала громадное облегчение от того, что ей не придется сопровождать в морг несчастную мать. Впрочем, не исключено, что лейтенант Шустов заставит ее туда поехать — Лидочке приходилось читать в американских детективах, как несчастную мать или жену везут в морг на опознание…
— Но я подумала, — сказала Татьяна, — что мне все-таки надо зайти к себе в квартиру.
— А где это?
— Где Аленка жила. Это же теперь моя квартира! Я — наследница.
Наверное, формально так и было. Некогда, вернувшись в Москву, Татьяна подселилась туда, к Аленке с бабушкой. Потом она купила небольшое кооперативное жилье на «Аэропорте», где почти не бывала, потому что сдавала квартиру одному швейцарцу, предпочитая свежий воздух Переделкина.
Татьяна вытащила мужской бумажник, извлекла из кармашка небольшую фотографию хорошенькой, чернокудрой, с острым носиком девушки. И Лидочка наконец-то увидела Аленку.
— Она была полной? — спросила Лидочка.
— Нет, совсем худой. Чертами лица мы похожи, но должна тебе сказать, что в двадцать, даже в тридцать лет я была как тростиночка, а теперь вот — результат неправильного обмена веществ.
— Вы хотите туда пойти? — спросила Лидочка.
— Разумеется. Ты меня проводишь туда? Это два шага, всего два шага. А то я за себя боюсь. Я одна не выдержу!
— Конечно, — согласилась Лидочка.
Из двух бед ей выпала меньшая — хоть не надо ехать в морг. К тому же ей любопытно было побывать в той квартире.
В том, что в ее быстром согласии присутствовали и корыстные мотивы, Лидочка призналась лишь самой себе: ей хотелось увидеть то место, где стояла шкатулка, и, может быть, случайно заметить, как из-под комода высовывается уголок когда-то завалившегося туда дневника.
— Единственная деталь, — заметила Татьяна Иосифовна, — ключей у меня нет. Я их давно уже потеряла.
— А как же мы туда попадем?
— Я знаю из разговора с лейтенантом Шустовым, что ключи находятся у него. Он мне сказал по телефону. В крайнем случае отберем у Соньки. Ей они уже не понадобятся.
Лидочка позвонила в милицию, подошла Инна Соколовская, Лидочку она не узнала или сделала вид, что не узнала, но призналась, что лейтенант Шустов будет к десяти.
Пока они собирались да шли до милиции, с заходом на рынок — надо купить чуть-чуть зелени: Татьяна испытывает нехватку витаминов, пока отдыхали на скамеечке в коридоре милиции, Татьяна все говорила, но, к сожалению, не сказала ничего достойного запоминания. Мучения и лишения, которые ей пришлось претерпеть, долгие годы оставались лишь ее бедой и собственностью, но, когда она дожила до иных времен, она решила, что государство, общество и каждый отдельный член общества обязаны заплатить за причиненное ей зло. Причем это правило распространялось на всех жителей нашей страны, включая собственную дочь Татьяны, из-за чего и усугубились противоречия, а потом и вовсе вражда между этими женщинами. Так что и теперь Татьяна была убеждена в том, что ее беды, в число которых вошла и смерть дочери, должны разделяться остальными. Ближе всех была Лидочка, ей больше всех и досталось. Причем Татьяна нагружала своими терзаниями представителей человечества не поровну, а в зависимости от их податливости. Лидочка была мягкой и воспитанной, ей достался груз побольше. Соня — невоспитанная грубая эгоистка, значит, с нее и спрос меньше. Татьяна, как опытный сборщик налогов, чувствовала, с кого можно сколько взять, чтобы и по миру не пустить, и лишнего жирку не оставить.
Потому-то постепенно проявилась и главная цель приезда — не желание проводить в последний путь свою единственную дочь, а скорее опасение того, что эта Соня Пищик сегодня же вытащит из квартиры все ценные вещи, если она уже не сделала это с утра пораньше.
Главное — отобрать у нее ключи. И даже, может быть, срочно поменять замок, чтобы обезопасить память о девочке. Почему врезание нового замка называлось заботой о девочке, Лидочка не поняла. Да и не положено ей было понимать.
В отделении милиции было пусто — похоже, сегодня все сотрудники разъехались с утра по заданиям. Лишь в паспортном отделе толпились какие-то люди, приезжие, судя по одежде и смуглости. Лидочка первой сунула голову в кабинет Шустова. Тот сидел за своим столом, положив перед собой квадратный кусочек бумаги, затачивал, уперев концом в бумагу, карандаш. Лидочку он увидел сразу — смотрел на открывающуюся дверь. И был ей рад.
— Привет, — сказал он. — Мне Инна сказала, что вы звонили. Что стряслось? Кто обидел?
— Я к вам по делу.
— К сожалению, — он положил карандаш на стол, смял бумажку и кинул комочек в корзину. — К сожалению, все ко мне идут по делу, а я так хотел, чтобы от безделья.
Он уже увидел вплывающую в комнату тушу Татьяны Иосифовны и потому завершил фразу дипломатично:
— Хорошие примеры заразительны. Не зря я вас вчера так рано разбудил.
Он обогнул стол и вышел к ним навстречу, как делают демократически настроенные министры. Но у министров соответствующие кабинеты, а у Шустова комнатенка в десять квадратных метров, шкаф и сейф. Так что получилось тесно, и пришлось долго топтаться, прежде чем все расселись.
— А я уже догадался, кто вы, — сказал Шустов, приняв серьезный, соответствующий случаю вид. — Вы будете Татьяна Иосифовна Флотская, мать трагически погибшей гражданки Елены Флотской?
Лидочка оценила память Шустова. Тот понял ее удивление и объяснил, словно оправдываясь:
— Так я же это дело веду, мне его следователю передавать. Пока не передам, я всех свидетелей и родственников помню. А потом забуду, не бойтесь.
— Я не боюсь, — сухо заявила Флотская. Кажется, ей не понравился красавчик, словно она уловила в его голосе насмешку. Но насмешки не было. Лидочка уже познакомилась с Шустовым и знала, что он человек серьезный. А если старается шутить, то от напряжения перегорают пробки во всем квартале.
— Татьяна Иосифовна пришла к вам, — начала было Лидочка, и тут Шустов совершил роковую ошибку.
— Не беспокойтесь, Татьяна Иосифовна, — заявил он официально, — я лично отвезу вас в морг. Как раз проведем дополнительное опознание, у нас нет показаний члена семьи. Так что я все устрою. Я думаю, завтра анатомы кончат с ней работать, и мы поедем, добро?
— О, нет! — Татьяна Иосифовна сглотнула слюну. Лидочке показалось, что ее тошнит от страха. — Я инвалид, мне нельзя волноваться, у меня плохое сердце…
Шустов растерялся и обернулся за поддержкой к Лидочке.
— А нельзя обойтись без опознания? — спросила она.
— В принципе можно. Но я решил, что Татьяна Иосифовна специально для этого приехала.
— Нет, — отрезала Татьяна Иосифовна и поглядела сквозь импортные очки на лейтенанта так, что он должен был провалиться сквозь землю. К счастью для лейтенанта, он глядел на Лидочку, ожидая от нее совета, и не заметил убийственного взгляда.
— У Татьяны Иосифовны проблема, — сказала Лидочка и замолчала. А почему она должна работать переводчиком? — Татьяна Иосифовна, объясните все лейтенанту Андрею Львовичу.
— Мне нужно попасть в мою квартиру, — скупо произнесла Татьяна.
— Ради бога, я не имею ничего против, — сказал лейтенант. — Но я при чем?
— Как? — строго спросила Флотская. — А ключи у кого?
— Вы имеете в виду квартиру вашей дочери?
— Приватизированную, — уточнила Татьяна, но тут же сообразила, что взяла неверный тон, и поправилась: — Я мать, в конце концов!
— Да разве я возражаю? — сказал лейтенант. — Простите, Татьяна Иосифовна. Конечно же, квартира опечатана. Но мы почему это сделали? Мы это сделали потому, что вас в городе нет, и мы не знали, когда вы вернетесь, а чтобы посторонние лица приходили, нам не нужно.
— Вы хотите сказать, что квартира опечатана? Моя квартира опечатана?
Лидочка кинулась на помощь Шустову:
— Но так всегда делается. Ведь Андрей Львович не возражает.
— Значит, я не могу попасть в мою собственную квартиру? — Татьяна Иосифовна рвалась к скандалу. Она уже мысленно готовила уничтожающие письма в средства массовой информации.
— Татьяна Иосифовна, — Лидочка повысила голос. Надо было пресечь наступление в самом начале. — Поймите же. Второй ключ есть у Сони, у Сони Пищик. Андрей Львович не хотел, чтобы она, не будучи родственницей, бывала в квартире.
— Вот именно! — закричала Флотская. — Это я и хотела сказать.
Тут она осеклась, и все тоже молчали, потому что никто не понимал, что же она хотела сказать. Пауза затягивалась. Первой опомнилась Татьяна, спросив тоном пониже:
— Она не сможет войти?
— Вот именно, — ответил Шустов.
— Значит, она все вынесла с утра, — заявила Татьяна.
— Что вы имеете в виду? — спросил лейтенант.
— А то, что она была там с утра, увидела тело моей дочери, вынесла все ценное из квартиры, а потом позвонила вам.
— Так, — Шустов уже все понял, а когда он все понимал, то он тоже мог постоять за справедливость. — Простите, гражданка Флотская, но вы упомянули сейчас ценные вещи, которые, по вашему мнению, гражданка Пищик вынесла из квартиры вашей дочери. Вы не могли бы перечислить вещи, имеющие наибольшую ценность?
— То есть как? — Татьяна к такому вопросу не была готова. — Какие ценности?
Лейтенант был на коне. Он взял отлично заточенный карандаш, элегантным движением достал из стола лист бумаги. И по тому, что он решил воспользоваться именно карандашом, который не употребляет в официальной обстановке, Лидочка поняла, что он преподает Татьяне урок поведения, о чем она не должна догадаться. А так как Татьяна была Лидочке несимпатична, она не собиралась мешать лейтенанту проводить урок вежливости.
— В квартире, где прописана ваша дочь Елена, находятся некие ваши ценности. Попрошу их перечислить.
Татьяна растерянно обернулась к Лидочке.
— О чем он говорит? — спросила она так, словно услышала от лейтенанта гнусное предложение.
— Я думаю, — ответила Лидочка, — что Андрей Львович хочет помочь вам выяснить, не пропало ли что-нибудь из дома.
— Какие могут быть ценности у Алены? — строго спросила Татьяна Иосифовна, будто слова о ценностях исходили не от нее, а от лейтенанта.
— Вот именно, — согласился лейтенант.
— Я не была в этой квартире больше года! — воскликнула Татьяна. — Больше года! А вы стараетесь навязать мне чуждое мнение.
— Кого вы подозреваете? — спросил лейтенант, который умудрился пропустить мимо ушей ее слова.
— Именно ее, Софью Пищик, — ответила Татьяна.
— Вы полагаете, что гражданка Пищик взяла в квартире какие-то ценности, наименования которых вы уточнить не можете ввиду того, что давно не были на данной жилплощади. Но назовите хоть один предмет!
— Один?
— Один.
— Магнитофон, — сказала Татьяна. — Магнитофон «Панасоник», который был подарен лично мною Аленке к окончанию института.
— Большой?
— Очень большой.
— Проверим, — сказал лейтенант.
— Проверьте, — повторила за ним Татьяна. Она потеряла свою агрессивность.
— Скажите, пожалуйста, — произнес лейтенант заинтересованно, — а каким поездом уехала от вас гражданка Пищик вчера утром?
— Я не знаю, каким поездом, — ответила Татьяна.
— Приблизительно.
— Это допрос?
— Да никакой это не допрос! Я хочу развеять недоразумения, — сказал лейтенант. — Чтобы вы не беспокоились понапрасну.
— Она уехала… она ушла в восемь часов. Около восьми.
— Допустим, в восемь, — согласился лейтенант. — Электрички у вас в это время часто ходят?
— Откуда мне знать. Неужели вы думаете, что я в восемь утра способна уехать на электричке?
— Я полагаю, что вы способны, — откликнулся Шустов. — Значит, в восемь. Даже если она добежала до станции и сразу села в поезд, то в Москве она была без четверти девять и сколько-то времени потратила, стараясь дозвониться до Алены.
— Никуда она не звонила! — заявила Татьяна, полагавшая, что лейтенант покрывает Соню из каких-то эгоистических соображений.
— Значит, не звонила, — согласился лейтенант, — а прямиком поехала на Васильевскую. И была там, скажем, в половине десятого. А без четверти десять мы расстались с гражданкой Берестовой.
— Расстались с Берестовой? — Татьяна была поражена и охвачена новыми подозрениями. — С Лидой?
— По другому делу, — пояснила Лидочка.
— Как раз без четверти десять меня вызвали в дом к вашей дочери. А звонок в «Скорую» — я проверил — ушел в девять сорок. Через семь минут я был в вашей квартире, там я застал гражданку Пищик в истерическом состоянии. Я даю голову на отсечение, что у нее не было ни возможности, ни сил, ни настроения выносить магнитофон «Панасоник».
— Все может быть, — ответила Татьяна, показывая тоном, что окружена врагами и никому не верит.
— Ну хорошо, допустим, что у нее был сообщник, которому она передала ценные вещи. Но тогда она должна была заранее знать, что Алена умерла. Иначе даже у сообщника, который живет на соседней улице, не было бы времени, чтобы прийти ей на помощь и ограбить вашу квартиру.
— Но она могла вызвать его с дороги.
— Значит, она знала, что Алена погибла?
— Да! Она же мне вчера говорила, что Алена собирается покончить с собой.
— Очень интересно, — лейтенант буквально обволакивал старуху взглядом своих маслин. — Выходит так: к вам приехала гражданка Пищик и сообщила, что этой ночью ваша дочь покончит с собой. И что же вы сделали?
— Не пытайтесь шутить, — грозно предупредила лейтенанта Татьяна. — Это не предмет для шуток. Да, все так, как вы говорите, гражданка Пищик сообщила мне в очередной раз, что моя дочь намеревается покончить с собой. Это уже бывало раньше, и потому я не обратила на это внимания. Потому что это обыкновенная чепуха.
— Значит, гражданка Пищик бросает все дела, едет к вам за город, чтобы предупредить вас о совершенной чепухе.
— Значит, так!
— И вас это не удивляет?
— Удивляет, но не настолько, чтобы выгнать ее за порог. Тем более что она была в обществе вот этой дамы!
Татьяна показала на Лидочку, и этим жестом было ясно сказано, насколько упала Лидочка в глазах Татьяны Иосифовны.
— Затем эта самая гражданка Пищик, которая приехала к вам с чепухой, остается у вас ночевать? Так?
— А куда ей было ехать? Пока мы кончили разговаривать и смотреть телевизор, уходить было поздно. Вашей милостью женщине нельзя появиться на улице после семи вечера.
— Моей милостью? — не понял милиционер.
— Вы умеете воевать лишь с беспомощными женщинами, нищими и лотошниками. Перед мелкими преступниками вы бессильны, а к мафии бежите на поклон.
Лейтенант, вежливо выслушав филиппику Татьяны, возразил:
— Я с вами не совсем согласен. Разумеется, у нас еще много недостатков. И со временем…
— Со временем их станет еще больше, — вставила Татьяна.
Ей стало жарко в шубе, дорогой, но не новой. Лидочка вдруг решила, что шуба подарена какой-нибудь благотворительной организацией — не было у Татьяны денег, чтобы купить такую дорогую, даже не новую шубу. Всю жизнь она просуществовала на грани бедности, и сегодняшняя ее бедность — это богатство по сравнению с тем, что было раньше.
— Даже с нашими ограниченными возможностями мы стараемся защитить жизнь и имущество граждан, — наставительно бубнил молодой лейтенант, а старуха Флотская негромко огрызалась, врезаясь, как топор, в его монолог.
— В общем, так, — сказал лейтенант. — Получите ключи от вашей квартиры и распишитесь вот здесь в их получении. И здесь.
— Бред какой-то! — Проиграв первое сражение, Татьяна взяла верх в войне и потому ворчала, не переставая: — Почему это я должна расписываться в получении своих собственных ключей?
— Тогда подождите, и мы вернем их вам после окончания следствия.
— Ваше следствие никогда не кончится.
Лейтенант пожал плечами. Он кинул на Лидочку несчастный взгляд. У Татьяны оказалось особенное свойство — выматывать людей, которые с ней общаются. Лидочка тоже чувствовала крайнюю усталость.
Татьяна тщательно пересчитала ключи, как будто знала, сколько их должно быть.
— Последний вопрос, — сказала Татьяна. — Когда я получу вторые ключи?
— Какие вторые? У нас одни, — не понял вопроса лейтенант.
— Я имею в виду ключи, которыми завладела гражданка Пищик, — Татьяна старательно подражала лейтенантскому обозначению людей.
Дверца сейфа, из которого лейтенант вынимал ключи, была приоткрыта. Он поднялся, положил в сейф расписку Татьяны и запер его.
— Какие ключи и кому давала ваша дочь, меня не касается, — сухо сказал лейтенант. Он устал от Татьяны и был рад от нее избавиться.
— То есть как так? — Татьяна смотрела на него снизу вверх, как Петр Великий на своего непутевого сына Алексея на картине известного художника Н. Ге.
— Вы поищите ключи у ее друзей, знакомых, может быть, у ее близкого друга, — лейтенант не пытался щадить чувства матери, потому что уже понял, что перед ним сидит не подавленная горем одинокая женщина. По крайней мере, здесь никто не рыдал и рыдать не собирался.
— Вы хотите сказать, что Алена доверяла ключи черт знает кому?
— Вы же сами недовольны, что ключи есть у гражданки Пищик, — заметил лейтенант.
Тут Татьяна была вынуждена признать временное поражение и предпочла прервать переговоры с милицией.
Лидочка была удивлена сначала, что Шустов не воспользовался присутствием Флотской, чтобы допросить ее или хотя бы поговорить о дочери. Но потом поняла, что он настолько не хочет оставаться с Татьяной наедине, что согласен пойти на нарушение милицейского устава и обойтись без допроса. Благо дело было, как понимала Лида, простым и для сыщика неинтересным.
Дом стоял в отдалении от улицы, служа боковой стеной двора. Семь этажей, ранний хрущевский стиль, когда с фасадов уже сняли все украшения и даже штукатурку, но строили еще из кирпичей и по урезанным вариантам сталинских проектов.
Во дворе и в подъезде они никого не встретили. И когда поднимались на лифте, Татьяна с облегчением сказала:
— А я так боялась соседок! Какая-нибудь идиотка должна была нам встретиться, чтобы выразить мне сочувствие.
Но она рано успокоилась. Реальная опасность поджидала у двери. Татьяна, тяжело дыша и опираясь на свою трость, которая нужна была ей, как она сама выразилась, чтобы не хлопнуться и не заработать перелом шейки бедра, начала копаться в связке ключей. Отыскав подходящий ключ, она сорвала пломбочку с двери и сунула ключ в скважину. Ключ в скважину не влез.
Открылась соседняя дверь на той же площадке, и вышла маленькая, чуть ли не карлица, женщина с круглым сморщенным личиком и воскликнула:
— А я думаю, кого черт принес — я специально прислушиваюсь. А тут звуки. И я думаю, кого черт принес, а это вы, Татьяна Иосифовна. Я как раз думала, а где Татьяна Иосифовна? Неужели родная мать не приедет?
Женщина говорила мягко и переливчато, как говорят московские татары.
— Здравствуйте, Роза, — сухо произнесла Татьяна, она перестала выбирать ключ и выпрямилась, ожидая, что соседка уйдет. Та же не выражала желания уйти. Казалось бы — открой скорее дверь и скройся в безопасности квартиры. Но тут Лидочка поняла, что Татьяна не хочет показывать соседке, что забыла, каким ключом дверь открывается.
— Это такой ужас, я просто спать не могу, — сказала Роза. — Мертвые по ночам ходят, особенно если злые.
— Кто злые? — спросила Татьяна.
— Ну, так о мертвых не говорят, правда, — смутилась Роза. — Мы-то с вами знаем, чего же, свои люди, какой был трудный ребенок, просто ужас. А как мне теперь спать? Некоторые считают, что он ее убил. Это может быть? Я милиции ничего не сказала, зачем им всякие тайны знать, еще хуже будет.
— Кто ее убил? — спросила Татьяна.
— Который к ней ходил. Седой такой мужчина, красивый, вежливый, его Олег Дмитриевич звали, всегда здоровался, очень воспитанный. Такие и убивают, правда? Сначала воспитанный, всякие слова говорит, а когда уже жениться нужно, то убивает. Может, боялся, что Алена беременная была? Испугался, что к его жене пойдет, и убил. Правда, так бывает?
— А разве Алена беременная была? — Татьяна растерялась от равномерного тоненького потока слов.
— А кто ее знает, — сказала татарка, — никто не скажет, пока она сама анализ не сделает, только Раиса Семеновна из шестнадцатой квартиры мне сегодня сказала, что у Алены такой вид был, что как будто она беременная. Особенный вид.
— Этого еще не хватало!
— А он к ней ходил, только не было чувства, я же понимаю. Он вежливый был, он вчера приходил, тоже вежливый был. Я милиции еще не сказала, я думала, вот придет Татьяна Иосифовна, и я ее спрошу, что мне говорить милиции, а что не говорить.
— Милиции это все неинтересно! — отрезала Татьяна и тут, видно, вспомнила, какой ключ ей нужен. Она выбрала его в связке и сунула в скважину. Ключ легко повернулся, но дверь не открывалась.
— А они на нижний тоже заперли, — сказала Роза. Лицо у нее было доброе, улыбчивое, но при том малоподвижное. — Алена никогда на нижний не запирала, только когда в Симеиз ездила, а так не запирала.
Роза показала на самый большой ключ в связке. Татьяна открыла дверь.
Роза осталась на лестнице, но заглянула внутрь квартиры, будто ждала приглашения.
— Они ее унесли на носилках, — сказала Роза им в спину. — С головой накрыта, просто ужасно, я как раз встала и думаю, чаю нет, надо чаю у Алены попросить, а тут эта курносая Сонька, в очках, пришла, как домой к себе ходит, и как начнет потом кричать, мне через две двери слышно.
— Спасибо, Роза, — сказала Татьяна и закрыла дверь.
В квартире пахло холодным табачным пеплом, как от неубранных пепельниц.
— Я должна отдохнуть, — устало произнесла Татьяна. — Я сейчас упаду. Это невозможно — до такой степени совать нос в чужие дела. Она раньше дворничихой работала, потом за водопроводчика замуж вышла. И вот — получила квартиру.
— Зато водопроводчик под боком, — попыталась успокоить ее Лида.
— Какой водопроводчик! Он давно уже в префектуре работает, большой начальник.
— Значит, у вас есть знакомый большой начальник, — уточнила Лидочка.
— У меня нет настроения шутить.
Они стояли в коридоре, страшась сделать следующий шаг — в комнату, где недавно лежала мертвая Алена.
Портрет Алены — ученический, пастельный, видно нарисованный недоучившимся поклонником, висел в коридоре над дверью. Глаза на портрете были синими, черные волосы завивались тугими локонами, губы были слишком красными, нос мамин, острый и вытянутый вперед.
На вешалке висело два пальто, одно — дутое пуховое китайское, второе пальто — шерстяное, внизу — сапоги, туфли и шлепанцы…
Не раздеваясь, Татьяна заглянула в комнату. Дверь отворилась с легким скрипом, и в коридоре сразу стало светлее. Комната оказалась больше, чем ожидала Лидочка, она была наполнена вещами пятидесятых годов: и комод, и диван, вернее, тахта, широкая и продавленная в центре, на которой были разбросаны подушки, но белья не было, хотя Алена, без сомнения, спала на этой тахте — другого спального места не было видно, да и негде его поставить. Овальный стол посреди комнаты был накрыт старой вышитой скатертью, на столе стояла высокая синяя ваза с засохшими розами. Над тахтой висел ковер — комната выглядела странно, словно здесь жил пожилой человек.
Татьяна, видно почувствовав недоумение Лидочки, пояснила, все еще не делая шага внутрь комнаты:
— Здесь все вещи, которые покупала мать, когда получила эту квартиру. Тысячу лет назад. По комиссионкам ездила — вот этот комод три рубля на наши деньги, а тахту практически задаром, только пришлось заплатить за перевозку, представляешь? Теперь бы все это стоило миллионы рублей.
Книжный шкаф был застеклен. Но все книги в нем не помещались — часть их как попало была свалена на шкафу, другие лежали стопкой на стуле, придвинутом к шкафу. Но, в общем, книг было немного. И в комнате было мало вещей, указывавших на Алену, на ее характер, на ее молодость.
— Раздевайся, — сказала Татьяна. — Выпьем кофе.
— Мне не хочется, — сказала Лидочка. — Мне пора идти.
Она была искренна лишь наполовину. С одной стороны, квартира подавляла ее тем, что была обманкой — она была призвана окружить заботой и сохранить хозяйку, а хозяйка вот взяла и умерла, и ничем квартира ей не помогла, а теперь делает вид, что хозяйки никогда не было. С другой стороны, Лидочка хотела понять, где могли скрываться вещи из шкатулки.
— И не вздумай меня здесь покидать, — взмолилась Татьяна. — Я же с ума сойду от страха. Ты пока кофе сделай, а я соберу кое-что, посмотрю и уеду.
Лида послушно прошла на кухню. В навесном шкафу было полбанки растворимого кофе. Она зажгла плиту, поставила чайник.
Кухня более соответствовала Алене. Может быть, она больше времени проводила здесь. Одна из стен была увешана разрисованными под народное творчество досками и досочками для резки хлеба. На полке над столом и холодильником стояли гжельские сосуды и чайники, кастрюли были стальными китайскими, видно, недавно купила — Лидочка сама видела такие в магазине у Тишинского рынка, но, пока рассуждала, купить или нет, их уже разобрали. Из-под приемника, стоявшего на столе, выглядывал уголок записки. Лидочка потянула за угол. На бумажке было написано:
«Приду в шесть. В холодильнике котлеты. И огурец».
И подпись:
«Ал.»
Наверное, эту записку она оставила Олегу. Вряд ли Сонечке стоило писать о котлетах.
Лидочка открыла холодильник, заглянула в него. Он был почти пуст, если не считать пакета молока, куска масла, трех яиц и банки майонеза. Из такого набора предметов не сделаешь вывод, собиралась ли хозяйка квартиры покончить с собой или жить дальше. Или собиралась жить, а потом передумала.
Татьяна возилась в комнате, выдвигала ящики комода.
Движимая любопытством, Лидочка вошла в комнату.
— Я вам не помешаю?
— Заходи, заходи, — откликнулась Татьяна. — Нет никаких гарантий, что самое ценное не утащили милиционеры. Ты же знаешь моральный уровень этих людей.
— У них разный моральный уровень, — осторожно ответила Лидочка.
— Конечно, тебе понравился этот смазливый лейтенант, — заметила Татьяна.
— Вряд ли.
— Интересно он говорит о Сонькином сообщнике. Но кто мешал ей без всякого сообщника вытащить все Аленкины драгоценности и унести их в кармане?
— А у Алены было много драгоценностей? — с сомнением спросила Лидочка. Она уже была убеждена в том, что ни Алена, ни ее мать не были состоятельными людьми и были лишены возможности когда-нибудь разбогатеть. И по даче, и по квартире было видно, насколько обе смирились со своим жизненным поражением.
— Ей их дарили, — сообщила Татьяна.
— Может быть, у вас идеализированное представление о ее поклонниках.
— Аленка бывала сказочно хороша. Мужики падали и умирали у ее ног. И это были неординарные люди. Но если что и оставалось, то Сонька знала об этом куда лучше меня. Ведь я не интересовалась Аленкиными драгоценностями.
— Лучше думать, что их не было. Иначе бы она купила вместо них новые зимние сапоги.
— Ты уже подсмотрела? — Татьяна была недовольна.
Она плюхнулась на тахту и стала оглядываться. Потом осуждающе сказала:
— Ни одной новой вещи. Ни одной.
Говоря так, она как бы признавала допустимость Лидочкиной правоты. Они помолчали. Лидочка ждала в дверях, ведущих в коридор, в прихожую и на кухню. Татьяна сидела на тахте. Засвистел чайник, призывая Лидочку. Татьяна крикнула из комнаты:
— Я боюсь, что похороны обойдутся сегодня в дикие деньги. Ты не знаешь, сколько сейчас стоит достойно похоронить человека?
— Соня обещала поговорить в институте. Я думаю, что там должны помочь.
— Хорошо бы…
Татьяна постепенно смирялась с тем, что дочь ее так и не разбогатела.
Пока Лидочка собирала на стол, чувствуя себя неловко в чужом доме, потому что распоряжалась на кухне без разрешения хозяйки, которого уже никогда не получит, из комнаты не доносилось ни звука. Лидочка заглянула в комнату, чтобы позвать ее, полагая, что Татьяна продолжает раскопки, но оказалось, что она так и осталась сидеть на тахте, лишь опустила голову на толстые, распирающие рукава руки и тихо плачет. На самом деле плачет, не на публику и не для того, чтобы ее пожалели. Просто у нее дочка умерла…
Лидочка вернулась на кухню.
Глупая надежда на счастливую находку, вопреки всем соображениям разума, заставила ее обойти небольшую кухню, заглядывая на полки и отодвигая банки с чаем и солью. Конечно, так не положено делать и с точки зрения следствия, и по законам порядочности. Но Лидочке ничего не было нужно, кроме собственных вещей… Значит, шкатулка стояла на комоде, Шустов вычислил это по пятну на его пыльной поверхности. Кто-то взял эту шкатулку. По словам Шустова, Соня этого сделать не могла, потому что сразу вызвала «Скорую помощь» и ждала милицию. Соня утверждает, что шкатулка стояла, по крайней мере, тогда, когда Соня там была в последний раз. Но уверена ли она в этом? А что, если Алена подарила шкатулку своему другу на день рождения?
Пока Лидочка размышляла, руки помимо воли совершали нескромные движения — они передвигали коробки и пакеты, даже приоткрывали некоторые из них. В большой потертой коробке из-под индийского чая оказались бумаги — какие-то квитанции и счета. К археологии они явно отношения не имели, так что Лидочка не стала их и разглядывать.
Она услышала движение в соседней комнате. Пошла навстречу Татьяне Иосифовне, которая тяжело вплыла на кухню и опустилась на табуретку.
— Ну, где твой кофе? — спросила она. Глаза у нее были красные, щеки плохо вытерты от слез. — Давай, самое время подкрепиться.
Лидочка разлила кипяток по чашкам. Такое чувство, словно она это уже делала… но это потому, что она недавно готовила кофе у себя на кухне.
— Вот мы и остались одни, — сказала Татьяна. — Даже поссориться не с кем… Ведь ссоримся мы чаще всего с людьми, которые нам небезразличны. С чужими ругаемся, собачимся, деремся, сражаемся… а в ссоре есть нечто интимное.
Лидочке захотелось разглядеть комод, где стояла шкатулка.
Как будто услышав ее мысли, Татьяна попросила ее принести из комнаты сумочку, чтобы достать оттуда платок.
Лидочка прошла в комнату, схватила с дивана сумку и тут же обернулась к комоду. Комод был старинный, красного дерева, полированный, но, конечно, весь в морщинках царапин. Он был невысок, до пояса, чуть изогнут, и три его больших ящика были украшены изысканными позолоченными ручками-петлями, чтобы удобнее выдвигать.
Лейтенант оказался прав. Если чуть склонить голову, то сразу увидишь, что точно по центру комода есть пятно чистого дерева, от него тянутся в стороны две полоски — Лида догадалась: лейтенант провел пальцем, чтобы выяснить, прав ли он. Но почему лейтенанту захотелось присмотреться к комоду? Ведь так, без особой нужды, к нему не подойдешь и не станешь вглядываться, стояло что-то на нем или нет.
И тут Лидочка сообразила, что же подвигнуло лейтенанта на исследование комода — сбоку грудой лежали мелкие вещи, так или иначе связанные с рукоделием — пуговицы, катушки ниток, крючки и так далее. И было очевидно, что некто в спешке вывалил их на комод так, что несколько пуговиц упало на пол — эта неправильность интерьера и привлекла внимание Шустова. Увидев груду мелочей, он предположил, что их вывалили из какой-то коробки и потому внимательно присмотрелся к комоду. И увидел прямоугольник, чистый от пыли. Все просто и понятно. Решив свою задачку, лейтенант занялся иными делами, но Лидочка, в отличие от него, узнав, что на комоде стояла ее шкатулка, оказалась перед совершенно неразрешимой задачей — куда двигаться дальше? Где искать концы?
Она вернулась на кухню и сказала Татьяне:
— Оказывается, шкатулка, о которой мы говорили на даче, и на самом деле была здесь.
— Да? — Татьяне и дела не было до какой-то шкатулки. Она смотрела прямо перед собой остановившимся взглядом.
— А почему же вы ее не видели? Раньше?
— Значит, ее здесь не было.
— Но где она была? — Конечно же, нетактично так допрашивать несчастную женщину. Но, в конце концов, эта несчастная женщина уже отняла у Лидочки полдня, потому что ей так было удобнее.
— Ну покажи мне ее! — раздраженно откликнулась Татьяна. — Покажи, и я все скажу.
— Ее больше нет.
— Как так нет? — вскинулась Татьяна. — Вот именно в ней и могли храниться все Аленкины вещи.
— Нет, — ответила решительно Лидочка. — Они там не хранились, потому что шкатулка была полной.
— Полной? Как так? — Татьяна резко поднялась с табуретки. — Что ты имеешь в виду?
Лидочка показала груду мелочей. Но Татьяну это не удовлетворило.
— Если бы там ничего не было, тогда зачем они утащили шкатулку?
— Этого никто не знает. И даже никто не знает, когда это случилось.
— Что ты хочешь сказать?
— Шкатулку могли опустошить два дня назад.
— Вряд ли Аленка два дня терпела бы такой беспорядок, — резонно заметила Татьяна, хотя и не до конца убедила Лидочку — по всему видно, Аленка не была аккуратисткой.
Татьяна возвращаться на кухню не стала, а заявила, что очень устала, что у нее нервное переутомление. Так что ей хочется побыть одной.
Она и в самом деле выглядела очень усталой: поездка в Москву, визиты к Лиде, в милицию, сюда — это превышало ее возможности.
Лидочка спросила, не нужна ли помощь, может, вызвать врача или сходить в аптеку, на что Татьяна ответила, что все лекарства у нее с собой, а «неотложку» она вызовет, если станет совсем плохо. Она действительно хотела остаться одна. Что она будет делать: ляжет ли спать или займется поисками драгоценностей дочери — это уже ее дело.
Татьяна не стала провожать Лидочку, сразу же улеглась на тахту.
— Я позвоню тебе, — сказала она Лидочке. Но не поблагодарила — видно, действия Лидочки были для Татьяны естественны. Лидочка вышла на лестничную клетку.
Тут же дверь в соседней квартире открылась, и показалась карлица Роза. Она широко улыбалась.
— Татьяна Иосифовна отдыхать будет? — спросила она.
— Она пока останется здесь.
— Конечно, надо. Мать все-таки. Они хоть и не очень дружные были, все же мать, а вы как думаете?
— Конечно.
Лидочка собралась было спускаться, но вдруг ее посетила неожиданная мысль, и она спросила Розу:
— А позавчера вечером, когда Алена еще жива была, к ней кто-нибудь заходил?
— А тебе зачем знать?
Приходил, поняла Лидочка. Этот самый приходил.
— Он приходил? — спросила Лидочка.
— Он часто приходил, я за людьми следить не умею.
Еще как умеешь, подумала Лидочка. В американском романе сыщик тут же вынимает из кармана десять долларов и покупает информацию у консьержки. Здесь же соседка, наша родная, ей дашь доллар, она тут же в милицию.
— И что-нибудь выносил?
— Ничего не выносил! — Тут же она спохватилась и быстро добавила: — Да откуда мне знать, выносил, не выносил? Я что, под дверью стою, в глазок подглядываю?
Таким образом Роза выдала механику подсматривания. Впрочем, альтернативы у нее и не было. Глазки изобрели не только для тех, кто боится вора, но и для любопытных соседей.
Лидочка поняла, что Осетров, если и вправду посетил Алену вечером, ничего не унес. Шкатулку не спрячешь под пальто и в портфель не положишь.
— Он в семь приходил? — спросила Лидочка настойчиво.
— Нет, он раньше приходил, наверное, в шесть приходил.
— И долго был?
— Нет, недолго был. — Роза смотрела на Лидочку как заколдованная.
— Он был с портфелем?
— С сумкой своей. Как портфель, но мягкая. Небольшая такая сумка.
— Спасибо, Роза, вы мне очень помогли, — сказала Лидочка голосом адвоката Перри Мейсона. Но Роза не знала, что имеет дело с детективом такого класса, ее как бы отпустило, и она сказала горестно:
— И что это я разговорилась?
— А вы и не говорили ничего такого особенного, — успокоила Лидочка Розу.
— Люди же могут подумать, что я за ними подглядываю, — защищалась бывшая дворничиха.
— Люди так не подумают, — заключила Лидочка и побежала вниз по лестнице. Роза осталась стоять на площадке.
Теперь быстрее в издательство — иначе из-за этих уголовных историй она загубит собственную жизнь.
В тот вечер у Лидочки случилась еще одна любопытная встреча — ну прямо из детективного фильма!
Когда она возвращалась к себе часов в семь — уже стемнело, она вдруг испугалась идти по лестнице. Нечто внутри, как короткий звоночек, предупредило ее об опасности.
Но домой все равно надо было возвращаться, а за помощью к коменданту не побежишь — он уже давно ушел домой, а где он живет, никто не знает.
Лидочка пошла сама с собой на компромисс. Она поднялась на лифте на третий этаж, вышла из лифта и некоторое время стояла возле него, затаив дыхание. Она ничего не слышала, хотя ей упорно казалось, что некто стоит возле ее двери этажом ниже и тоже затаил дыхание.
Так продолжалось минут пять.
Затем Лидочка стала спускаться вниз, стараясь сделать это бесшумно.
Она спустилась на пролет и, выглянув из-за шахты лифта, увидела в полутьме своей площадки человеческую фигуру. Фигура сидела на узком подоконнике, сгорбившись и, видно, устав подстерегать Лидочку.
Теперь надо было бежать обратно к лифту, потому что мимо фигуры не пробежишь — она очнется и схватит. Но идти к лифту — значит повернуться к фигуре спиной… Лампочка на площадке, конечно же, не горела. «Господи, ну за что все это валится на меня!»
Лидочка, пятясь, стала отступать, нащупывая ступеньки каблуками сапог и на третьей или четвертой ступеньке она чуть-чуть ошиблась и ударила каблуком о ступеньку — почти неслышно, но все же.
Фигура распрямилась.
Лидочка ожидала увидеть того восточного парня в джинсовой куртке.
Куртка была джинсовая, похожая, и брюки были похожими, но надеты они были на Лариску с шестого этажа, жертву вчерашнего нападения.
Лариса стояла, напряженно прислушиваясь, и, видно, сама боялась.
Лидочка, чуть успокоившись, спросила:
— Лариса, вы меня ждете?
— Ой, — откликнулась Лариса. — А вы почему сверху идете?
— А я тебя испугалась, — ответила Лидочка, сообразив окончательно, что Лариса не представляет для нее опасности.
— А я к вам, — сказала Лариса, опомнившись. — Мне на минутку.
— Тогда заходи.
— Нет, мне два слова только, я могу и здесь.
— Заходи, заходи, я не хочу с тобой разговаривать на лестнице.
— Это правильно, — согласилась Лариса.
Лидочка открыла дверь и пропустила Ларису внутрь. Она зажгла свет.
В домашних условиях, без макияжа, Лариса казалась не такой эффектной, зато была милой простушкой, и в этом было свое очарование — она казалась похожей на германскую молочницу с какой-то старой открытки, ей к лицу была бы широкая яркая юбка до земли, белый передник, пышные рукава, открывающие руки выше локтей. И, конечно, золотые по плечам локоны. На самом деле локоны были туго стянуты резинкой и лежали на спине. Хорошие волосы, еще не испорченные перекрасками и химией. Но это скоро пройдет.
— Заходи в комнату.
— Не буду. Я тут скажу.
— Как твой друг?
— Алик? Петрик? Он из больницы сегодня сбежит. Уже все готово. Вы не настучите?
— Нет. Не настучу. Ему там угрожает опасность?
— Еще какая. Они на него не случайно наехали, вы ж понимаете?
— Наверное, если такую стрельбу подняли. Хорошо еще, что в тебя не попали.
— Я тогда об этом не думала.
— А ты откуда этого Алика знаешь? — Они стояли в коридоре. Лариса не говорила, ради чего пришла, а Лидочка задавала пустые вопросы.
— А Петрика я давно знаю. Он же наш, пресненский. Из нашей школы. Он раньше кончал. А меня он помнил, я рано расцвела.
— Ты себя высоко ценишь.
— А то кто же оценит? Это я так, шучу, вы не обращайте внимания. Я к вам пришла, потому что Алик просил. Ему-то к вам нельзя, мы не знаем, кто здесь наводит.
Лидочка чуть было не сказала, что уверена в гнусных деяниях коменданта, но осеклась — даже если Лариса решит, что это шутка, у кого-то другого может не оказаться чувства юмора.
— Алик просил у вас выяснить: вас милиция допрашивала?
— А зачем ему знать?
— Ему ничего от вас не нужно. Но он не хочет впутываться. Честное слово, он нормальный, не рвань какая-нибудь. Он бизнесом занимается, а на него наехали.
— Со мной говорили в милиции.
— Вы сказали, что видели?
— Я сказала, что запомнила номер машины.
— Но люди?
— А Алику хочется, чтобы я их опознала?
— Нет, что вы! Наоборот! Иначе они вас уберут, точно! Надо их знать, поэтому и в милиции скажите, что никого не узнали. Петрику это до лампочки, потому что он их всех все равно знает, а кого не знает, те по найму работают. И в милиции твердо скажите — не помню. Никому это сейчас не нужно. А Алика могут пришить.
— Но я в самом деле никого не видела.
— Вот и умничка, — сказала Лариса и неожиданно поцеловала Лидочку в щеку.
Лидочка замерла от такой фамильярности, а Лариса уже открыла дверь и скрылась в полутьме лестничной площадки.
Застучали ее каблучки.
Лидочка закрыла дверь. Никому не нужна твоя наблюдательность. Все понимают, что ничего, кроме опасности, она не принесет. Удивительно: все — и милиция, и жертва — просят ее не видеть, не слышать и не замечать. И даже примкнувший к ним комендант.
«Какое счастье, что я и на самом деле ничего не знаю, не замечаю и не вижу».
Глава 5
Что в шкатулке?
Позиция полного нейтралитета дала трещину уже следующим утром.
Движимая совестью, которая жестоко казнила ее за трехдневное безделье, Лидочка заработалась допоздна. В результате проснулась в десять от телефонного звонка, но подниматься не стала, дала телефону отзвонить. Снова задремала — и тут опять телефон! Она понимала, что попала в осаду. Однако терпела, сопротивлялась, но и не могла больше спать.
Она лежала на спине, глядела в потолок и размышляла о том, есть ли какая-нибудь надежда разузнать что-то о содержимом шкатулки. И не требовалось долгих размышлений, чтобы сообразить: она себя вела совершенно неправильно. Она могла выяснить куда больше о судьбе шкатулки, если бы задавала правильные вопросы нужным людям. Раз шкатулка стоит в доме Алены, а ее мать Татьяна утверждает, что никогда этой шкатулки не видела, то не следует ли из этого, что существует еще по крайней мере одно семейное гнездо Флотских или какой-то укромный уголок, в котором могут храниться их ценности? Долгие годы Алена жила с бабушкой, с Маргошкой. Маргошка ее и воспитала. А где жила Маргошка последние годы? Почему Лидочка решила, что в той же самой квартире? Наверняка нет. А это означает, что где-то в Москве… Впрочем, а почему именно в Москве — Россия велика. Как рабочая гипотеза эта картинка годилась. Следовало ее проверить. Надо только позвонить Соне или хотя бы Татьяне — вряд ли Татьяна уехала обратно на дачу. Ведь на днях будут хоронить Алену — зачем старухе снова приезжать, на похороны? Кстати, о похоронах тоже надо спросить Шустова.
Ведь похороны связаны с патологоанатомическими делами. Они должны отпустить тело Алены на свободу. А потом уж профком института может заняться своим прямым делом.
Итак, надо вставать и звонить. Сначала Татьяне о ее маме Маргошке, затем Соне — о родственниках Алены, хотя второй звонок может и не понадобиться. Потом надо позвонить милиционеру Шустову и узнать о похоронах — вроде она теперь не чужая для этого странного семейства. Надо ли говорить Шустову о визите Ларисы и ее просьбе молчать? Пожалуй, пока не надо. Он ведь и не требует, чтобы Лидочка все говорила. Забвение и в его интересах — скорее можно будет закрыть дело. Мало ли теперь в Москве бандитов, которые друг на дружку наезжают?
Особой спешки не было — тем более что Лидочка чувствовала себя разбитой, усталой, вообще состояние было такое, как будто день уже клонился к закату, и Лида весь этот день грузила кирпичи.
Телефон зазвонил снова, когда Лидочка была в душе. Еще раз он позвонил, когда она вытиралась, но не успела до него добежать.
Лидочка поставила чайник, засыпала в кастрюльку «Геркулес» и сама позвонила Татьяне.
Никто не подошел.
Странно, она была убеждена, что Татьяна еще дома. Но, с другой стороны, не исключено, что той стало страшно ночевать в квартире, где только что умерла ее дочь, и она бежала оттуда к себе на дачу. Лидочке стало жалко старуху — лучше бы уж ко мне пришла.
Тогда Лидочка позвонила Соне. Соня обрадовалась звонку и сразу принялась рассказывать, как она пришла в институт, и как она все организовала, и как все теперь смотрят на этого Осетрова. Как на прокаженного!
Соня еще не знала, когда похороны, она сама собиралась позвонить Шустову или следователю, с которым, оказывается, вчера встречалась, и он произвел на нее весьма благоприятное впечатление. Он склонен закрыть это дело и ограничиться моральным осуждением. Хотя она, Соня, привлекла бы Осетрова. За доведение до смерти хорошего человека!
— Соня, скажи, пожалуйста, — попросила Лидочка, когда рассказ Сони выдохся. — Шкатулка, о которой ты рассказывала и которая пропала из квартиры Алены — откуда она у нее появилась?
— Я же тебе сказала: от бабушки Маргариты, — уверенно ответила Соня, подтвердив Лидочкины мысли. — Из хибары.
— Это еще что такое?
— А это прошлое дружного семейства Флотских, — ответила Соня. — Когда наша Аленка подросла и ее мамаша Татьяна добыла квартиру только для себя, то Маргарита вообще уехала из Москвы. И последние годы бывала здесь только наездами. У нее была идея, что Аленке не светит замужество, если она будет существовать в однокомнатной квартире с древней бабусей.
— Ну не такая уж Маргарита была древняя, — вступилась за нее Лидочка.
— Ты не знаешь — молчи! Она померла в восемьдесят пятом. Значит, ей было восемьдесят семь, клянусь тебе. Но никакого маразма!
— А как же Аленка согласилась, чтобы бабушка уехала? Ведь за таким старым человеком нужен уход.
— Маргарита сама за собой горшки выносила. До самой смерти. Она и умерла, как говорится, в одночасье. Правда, перед смертью в больницу попала. Но, может, это и хорошо, померла в цивилизованных условиях.
— Цинизм тебе не идет.
— Цинизм никому не идет, но без него не проживешь. Ты меня будешь слушать или намерена читать мне нотации?
— Говори, я слушаю.
— Когда Татьяна подкинула Маргарите младенца, Маргарита решила, что Аленке нужен свежий воздух. И записалась в какое-то садовое товарищество. Построила там хибару, это называлось финский домик, не слыхала?
— Слыхала.
— Развела малину, салат и несколько лет пасла там Аленку. Потом Аленке это надоело, а Маргарита привыкла к своей хибаре, пропадала там круглый год, морозоустойчивая бабка была. А когда она померла, хибара перешла к Аленке.
— И там была шкатулка?
— Там все Маргаритины вещи были — как склад. А когда Маргарита умерла, Аленка кое-что перевезла в Москву. Вот и шкатулку перевезла. Только, конечно, всякие бумажки из нее вытряхнула. И все это погибло.
— Почему ты так думаешь?
— Я не думаю — я знаю. Два года назад в хибару какой-то дебил залез, мы зимой редко там бывали — только когда на лыжах собирались. Этот бомж там костер развел — и сгорела наша родная хибара. И все, что в ней было. До самого подвала.
— А потом?
— А почему тебя интересует, что было потом?
— Ты думаешь, что дневники тоже сгорели?
— Никакого сомнения. И Маргаритина библиотека сгорела, и все ее письма.
— А потом?
— А потом суп с котом. А на второе кошка с картошкой, как говорит моя легкомысленная мамаша. Откуда у Аленки деньги новую дачу строить? Так и осталось пепелище.
— Значит, ты думаешь, что там искать нет смысла?
— Я убеждена.
— Жалко. А я надеялась… Прости, а не могут дневники храниться где-нибудь в квартире Алены?
— Не будь тупой! Квартира Алены — восемнадцать жилых метров, высота потолка два восемьдесят. Кухня шесть метров — какого дьявола человек будет хранить там чужие тетрадки?
— Не знаю.
— Вот и я не знаю. Оставь надежду всяк сюда входящий. Читала?
— Читала.
— А я не читала. Если по телевизору не показывали — для меня пустое место. Вся мировая литература. Еще вопросы есть?
— К сожалению, нет.
— Тогда я в институт побежала. У нас сегодня должны компенсацию давать. Привет, до встречи…
Теперь оставалось сделать еще один звонок.
Лидочка набрала номер Шустова.
Лейтенанта на месте не было.
Инна Соколовская не могла ответить, когда он вернется.
Лидочка стала решать для себя проблему: то ли сесть работать, то ли пойти по магазинам, раз дома не осталось ничего съестного.
Ее раздумья прервал еще один телефонный звонок. На этот раз она сразу подняла трубку. Это был лейтенант Шустов.
— Ну вот, а я уж волнуюсь — звоню два часа, никто не подходит, хотел патрульную посылать.
— Ничего особенного у меня не случилось. Никто на меня не напал.
— Вы меня радуете, — сказал лейтенант.
— А я вам тоже звонила, но не застала.
— Какие проблемы?
— Мне нужно узнать, когда собираются хоронить Алену. От этого могут измениться мои планы на ближайшие дни.
— Пока что я не могу ответить на этот вопрос.
— Что за трудности? — Лидочка уловила в голосе нечто необычное — следовательское, столь несвойственное лейтенанту, даже когда он старался казаться волком следственной службы.
— Ничего особенного, но тело пока побудет у нас. Кое-что выяснилось.
— Что выяснилось?
— Я же сказал — ничего особенного.
— Если ничего особенного, то зачем вы мне звоните?
— Узнать о самочувствии. В интересах следствия.
— Самочувствие у меня нормальное. Так что же у вас произошло?
— Я не могу сказать.
— Ах, бросьте, Андрей! — Лидочка пошла на известную женскую хитрость. Одним ударом она как бы перевела милиционера в разряд своих приятелей. — Бросьте, Андрей. Что-то произошло.
— Вы должны… вы не должны распространять слухи…
— Вы намерены сообщить мне эти слухи?
— А, бог с вами! Завтра об этом все равно все заинтересованные лица будут знать. Я хотел только сказать, что Алена Флотская умерла не от излишней дозы снотворного.
— А от чего же?
— От цианистого калия.
— Как так? Ведь она же травилась снотворным.
— А вот здесь начинается загадка, которую я хотел бы разгадать. То ли она симулировала прием снотворного, желая на самом деле покончить с собой сразу. То ли кто-то подложил ей гранулу цианистого калия. Оба варианта изменяют картину дела.
— Еще бы! Тем более что в первый вариант вы сами не верите — зачем человеку, который и так решил умереть, притворяться, что он умер не так, как было на самом деле.
— Да, сомнительно, но я должен рассмотреть все варианты.
— То есть у вас есть подозрение, что ее убили?
— Да, понадеявшись на то, что мы удовлетворимся вскрытием, понадеявшись на то, что у нас царит разруха и вскрытия производят чуть ли не ветеринары. Но зря понадеялись.
— Это удивительно и даже страшно.
— И теперь мне очень важно узнать, кто последним видел Алену Флотскую.
— Могу дать вам бесплатный совет, — сказала Лидочка.
— Рад получить хоть что-то бесплатно.
— Поговорите с соседкой Алены по лестничной площадке. Ее зовут Роза, она татарка, сидит дома и смотрит в глазок. Знает все — кто к кому приходил и когда уходил.
— Такая карлица? С круглым лицом?
— Точное описание.
— Воспользуюсь.
— Как офицер и джентльмен вы не должны считать, что мы квиты, а рассказать мне, кто убийца.
— Нет, пока следствие не закончено…
— Тогда и я вам не буду помогать.
— Я испуган, — засмеялся Шустов.
Подозреваемый был всего один.
Лидочка это понимала, а скоро это поймет и Шустов, если еще не понял. А Соня уверена в этом с самого начала. Правда, она не подозревала о цианистом калии, но моральную вину Осетрова считала аксиомой.
Когда его видела Роза? В шесть вечера. И он пробыл у Алены час. Она умерла ночью, часа в два. А в шесть у нее был Осетров, и они с Аленой ссорились. Алена угрожала Осетрову самоубийством, и тогда ему пришла в голову светлая мысль: если ты угрожаешь покончить с собой, то кончай. Только на самом деле, без игрушек. Он возвратился к возлюбленной ночью. Может быть, она как раз собиралась начать свое действо, а может быть, безмятежно спала… Как он это сделал — покажет следствие. Но мотив убийства у него был, возможности — замечательные. Даже Соня пребывала далеко, на даче. Почти идеальное убийство. И если бы патологоанатом не стал копаться глубже, чем принято в наши дни, возможно, она бы уже была предана земле или огню…
К Шустову Лидочка пришла в два часа. Шустов объяснил необходимость в новых показаниях тем, что до сегодняшнего дня велось дело о самоубийстве, и при современной занятости милиции никто бы не посетовал, если какие-то формальности не были бы соблюдены. Человек умер, наследственных сложностей не возникает, все чисто. Захотела умереть — умерла. Но как только этот дотошный патологоанатом отыскал в ней цианистый калий и мы получили на руки еще одно нераскрытое убийство, следователь тут же потребовал оперативной работы, которой Шустову совершенно некогда заниматься. И если бы не его отношение к Лидии Кирилловне, он бы взял бюллетень по поводу язвы — сил больше нет. Еще в прошлом году собирался поступать в Академию МВД, все возможности были. А в этом году сказали — жди, голубчик, жди. Может — год, а может — два, пока не разгребешь авгиевы конюшни. А ведь древние сказочники — хитрый народ. Рассказали, как Геркулес чистил эти конюшни, не прилагая к тому никаких особых усилий. Но хоть кто-нибудь задал себе вопрос, а что делали дальше обитатели этой конюшни, когда Геркулес уехал на свои другие подвиги? А они продолжали гадить под себя, пока не заполнили конюшни навозом по уши, да вот только Геркулес снова не приедет. Поняли аналогию, Лидия Кирилловна? Отлично поняла. И во сколько мне к вам прийти, господин сыщик? Если не хотите со мной пообедать… У меня в три поездка в управление. В два часа, вас устроит?
В маленькой комнате было тесно, потому что на стуле перед столом Инны Соколовской сидела наглого и грозного вида девушка, каждое второе слово ее было матерным. Шустов был зол и сказал Инне:
— Может, вам в КПЗ пойти поговорить?
— Помолчи, падла, — огрызнулась девица.
— Я не могу так работать.
— Товарищ Дзержинский учил нас, — неожиданно возразила Инна, — не давать воли дешевым сиюминутным эмоциям, потому что нам приходится разгребать авгиеву конюшню капитализма.
— Опять авгиеву конюшню! — воскликнул Шустов, но Соколовская, конечно же, не поняла, что имел в виду ее коллега.
— Мы заканчиваем, — уже более миролюбиво сказала Соколовская и велела своей жертве снизить голос на полтона, причем так грозно, что девица стала говорить полушепотом.
— Давайте еще раз пройдемся по вашим показаниям, — предложил Шустов. — Ведь любая деталь теперь может приобрести иное звучание. Пока все думали, что в этом деле участвовал один человек, мы и вели себя соответственно.
— Кто один?
— Пострадавшая, кто же еще? Алена Флотская. А теперь у нас есть и убийца.
— Это тоже ваше предположение. И только.
— Лида, — убедительно произнес лейтенант, забыв произнести отчество свидетельницы. Следовало поставить его на место, но как? — Лида, я сейчас исхожу из презумпции, что он был. Но если мы выясним, что в упаковки со снотворным в качестве бесплатного приложения вкладывается цианистый калий, тогда все претензии будут к аптеке. Я ясно выразился?
Ой, да ты кокетка! Или это называется кокет? Не надо соблазнять меня, лейтенант, я в десять раз тебя старше, я старая мудрая змея, у меня муж в Каире совершает невиданные открытия в области коптского искусства. А впрочем, есть что-то приятное, когда на тебя так смотрит восторженными глазами молодой лейтенант Шустов.
Они вместе с лейтенантом еще раз прошлись по всей ситуации, начиная со встречи в электричке, обсудили ее визит к Татьяне, закончив воспоминания тем, как Соня выскочила с адресом в руке и спасла Лидочку от усатого бандита.
— Вы что же, допускаете, что Соня — лучшая и единственная подруга Алены, могла встать ночью, добежать до шоссе, схватить там попутку, доехать до Васильевской, разбудить подругу, уговорить ее скорее покончить с собой, отравить, вернуться обратно на дачу и с ранней электричкой снова уехать в Москву? Очень сложно.
— Очень сложно, — согласился Шустов.
— Да я твоего Семенова в рот!.. — воскликнула вдруг девица за соседним столом, Лидочка даже обернулась — они сидели с девицей спинами друг к дружке.
Лидочка перевела дух, Шустов постарался не улыбаться.
— Продолжим наши рассуждения, — произнес он. — Получается все же, что Софья Пищик совершить убийство не могла.
— И Татьяна Флотская не могла.
— При условии, что они не находились в сговоре.
— Андрей Львович, одумайтесь!
Проходя, девица толкнула стул, на котором сидела Лидочка. Он мешал ей пройти как королеве. Инна сказала:
— А что поделаешь, с таким материалом нам приходится работать!
Как будто Шустов был виноват в том, что ему достался другой материал.
— Значит, у нас с вами появляются другие кандидатуры, — подытожил Шустов.
— Не у нас с вами, а только у вас, Андрей Львович, — сделала ему выговор Инна Соколовская. — А я пошла обедать. Вернусь через час.
Инна двинулась к выходу и в дверях столкнулась с высоким бледным седым мужчиной в хорошем, но не новом пальто, с рюкзаком в одной руке, пыжиковой шапкой — в другой.
— Могу я видеть Андрея Львовича Шустова? — спросил он.
— Что еще такое? — спросил лейтенант.
— Вы меня вызывали. Я Осетров. Олег Дмитриевич Осетров.
— Подождите в коридоре, я занят, — сухо ответил лейтенант.
— Но вы же меня на четырнадцать часов вызывали. У меня дела, я спешу, сейчас уже половина третьего.
— Я скоро освобожусь, подождите.
— Учтите, — повторил седой мужчина, — я спешу.
Он исчез.
— А вот и главный подозреваемый, — сказала Лидочка. — Чего же вы не сказали, что его вызывали?
— Было бы удивительно, чтобы в этих обстоятельствах я его не вызвал.
— Но у нас с вами все ясно? — спросила Лидочка.
— Лидия Кирилловна, у меня есть соображение, о котором я потом вам скажу, — лейтенант говорил, понизив голос, опасаясь, что его могут услышать в коридоре. — Подождите несколько минут. Я с ним быстренько поговорю, а вы у двери посидите. Потом я вам еще два вопроса задам — и все, расстаемся.
— Какие вопросы?
— В зависимости от результата моей беседы с гражданином Осетровым. Ну подождите, а?
— Ох, что вам будет от Соколовской, если она узнает, что вы так откровенны со свидетелями! А вдруг это я убила Алену?
— Зачем? — совершенно искренне спросил лейтенант. — Ее вы не знали, она бы вас вряд ли пустила ночью к себе. Никаких мотивов не вижу.
— Мотив — шкатулка, которая меня очень интересует. А все возможности у меня были: муж в отъезде, никто меня не контролирует, хоть всю ночь гуляй.
— Кстати, я бы на вашем месте после наступления темноты не гулял, — строго указал милиционер. — Наш район — не самый безопасный.
— Плохо работаете, лейтенант, — отметила Лидочка и поднялась.
— Когда это дело будет раскрыто, — ответил Шустов, — вы сами признаете, что мы работаем профессионально.
Интересно, подумала Лидочка, выходя из кабинета, какая у него биография, что кончал, как живет, — он же для нее теперь стал не просто лейтенант, а самый настоящий Знакомый Лейтенант.
Осетров поднялся, когда увидел, что дверь в кабинет открывается.
— Можете заходить, — сообщила Лидочка и поняла, насколько ситуации в жизни схожи — ведь это больше всего похоже на поликлинику. Вот она вышла от доктора, а следующий зайдет, и его спросят: что беспокоит? И начнут выяснять, что там, в нем, не в порядке.
Лидочка уселась на стул, освобожденный мужчиной, которого и она, и Шустов полагали основным кандидатом в убийцы.
Дверь в кабинет была закрыта. Но дверь-то была фанерной, и со стула, на котором раньше сидел Осетров, можно было отлично слышать все, что говорилось внутри. Голоса звучали настолько явственно, что Лидочка всполошилась, не сказали ли они с Шустовым лишнего, чего Осетрову слушать не положено. Впрочем, лейтенант говорил вполголоса — видно, он знал, что здесь и двери имеют уши.
Голоса изнутри переплетались, наезжали друг на друга, потому что Шустов, заполняя бланк допроса, выяснял имя, отчество и так далее.
Осетров Олег Дмитриевич, тысяча девятьсот тридцать девятого года рождения, старший научный сотрудник Института тихоокеанских проблем, проживает… еще какие-то вопросы.
Лидочка отвлеклась, потому что представила себе, каково сейчас этому немолодому человеку, которого ей так трудно было представить убийцей, точно так же как Татьяну или Соню. Знала она такие ситуации затянувшихся романов, в которых молодая женщина переоценила свои силы или бросилась в последний бой с опозданием — такие романы умирают мучительно, со скандалами и угрозами, особенно если Алена была истеричной натурой. Но никто в нашей действительности не убивает женщин, даже если они угрожают твоему общественному положению. К тому же одного взгляда на Осетрова Лидочке было достаточно, чтобы почувствовать его растерянность и страх. Его поведение выдавало в нем человека, никак не способного к решительным поступкам. Если бы он и положил Алене куда-то, допустим в чай, цианистый калий, потом сам бы вызвал «Скорую»…
— Олег Дмитриевич, я пригласил вас, чтобы получить показания о смерти гражданки Флотской Алены Сергеевны, — произнес голос Шустова. — Вам знакома она?
Осетров откашлялся.
— Да, — сказал он и снова откашлялся, — простите, я немного простужен. Да, мы вместе работаем, в одном отделе.
Мимо Лидочки прошли, разговаривая, два милиционера, поглядели на нее, будто заподозрили в том, что она подслушивает допрос, но, наверное, ей это показалось. Из-за них Лидочка пропустила часть разговора.
— Значит, вы не отрицаете особых отношений с покойной? — спросил Шустов.
— Да, мы были с ней дружны. У нас было много общих интересов.
— И вам приходилось навещать ее в квартире на Васильевской?
— Да, о господи, ну конечно же! — тут Осетрова словно прорвало. Потому что он до этого момента сопротивлялся, как бы исполняя ритуал — если тебя вызвали на допрос и даже если ты заранее решил признаться во всем, все равно первое время, подчиняясь инстинкту самосохранения, ты сопротивляешься, запираешься, словно девушка, добровольно пришедшая на свидание, но оберегающая последние бастионы своей чести.
— Я все вам расскажу, только оставьте меня в покое. Я не менее вас травмирован этой трагедией. Я был дружен с этой женщиной, да, вы можете написать на меня, куда вам угодно, — может быть, я был единственным человеком на свете, который ее понимал! Вот именно! Я все сказал. Теперь пишите, забирайте меня, сообщайте, делайте что хотите…
— Куда писать-то? — спросил лейтенант. Он мог становиться наглым, если человек ему не нравился.
— Как куда?
— А кому есть дело до вашего морального облика? Может быть, вашей жене?
— Только не ей! Она уже столько пережила! Вы не представляете.
— Очевидно, по вашей вине, — заметил лейтенант.
— Скорее по вашей, — отрезал Осетров. Голос у него был злой. — Я лишился любимой работы, я тяну от получки до получки, живу на жалкую зарплату, и вы это полагаете моей виной?
Возможно, лейтенант не знал о цэковском прошлом Осетрова. Он замолчал, чем лишил Осетрова главного оружия — возможности яростно спорить.
В возникшей паузе Лидочка физически ощущала неудобство, которое испытывал за стенкой Осетров. Он пришел сюда в полном смятении — одновременно желая действовать, сопротивляться, жаловаться, понимая в то же время, что его славное прошлое здесь ему лишь мешает.
Первым не выдержал молчания Осетров.
— Так зачем же вы меня вызывали? — спросил он с остатками гонора в голосе.
— Вы приглашены сюда, — вежливо ответил лейтенант, — в качестве свидетеля по делу о смерти Елены Сергеевны Флотской. Я вас уже ознакомил с вашими правами и обязанностями.
— Товарищ следователь, меня сейчас не интересуют права и обязанности. Надеюсь, меня ни в чем не подозревают?
Опять пауза.
Не хотела бы Лидочка оказаться на месте Осетрова.
— Ну? — раздался голос Осетрова.
— Вы о чем? — спросил Шустов.
— Так вы будете меня допрашивать или нет?
— Гражданин свидетель, — Шустов несколько сменил тему, — расскажите мне, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах вы в последний раз видели гражданку Флотскую.
— Алену?
— Если вы ее так называли, то Алену.
— За два дня до ее смерти.
— Как вы узнали о дне ее смерти?
— На следующий день после смерти в институт примчалась ее подружка Соня Пищик, чтобы сообщить о самоубийстве Алены, причем она сделала это так, чтобы все обратили внимание на меня — словно именно я довел ее до самоубийства.
— А это так и было?
— Не повторяйте глупостей, молодой человек, — ответил Осетров. — Наши отношения с Аленой не давали никаких оснований полагать что-нибудь подобное!
Ну вот, подозреваемый приходит в себя — он уже спокойно врет. Словно Шустов ничего не знает.
— Есть другие мнения, — сказал лейтенант. — Продолжайте.
Спокойствие милиционера раздражающе действовало на Осетрова. Если он и был готов сопротивляться, то теперь ему, должно быть, показалось, что все это бесполезно.
— В последний раз я видел Алену Флотскую… в отделе. В явочный день, в среду.
— Да я не о среде спрашиваю, — озлился тут Шустов, — я говорю о дне смерти Флотской. Меня не интересуют ваши отношения дома или на работе — меня сейчас интересует только смерть Флотской. Неужели вам на нее наплевать?
— Ну как вы смеете так утверждать!
— Это вы меня наталкиваете на такую мысль.
Соколовская быстро прошла по коридору, толкнула дверь, вошла. Внутри сразу наступила тишина. Потом голос Шустова произнес:
— Инна Борисовна, я тебя очень прошу, побудь где-нибудь… в коридоре. У нас разговор.
— Еще чего не хватало! — возмутилась Инна и тут же вышла в коридор.
Она уселась на соседний с Лидочкой стул и тоже стала слушать возобновившуюся беседу Шустова с Осетровым.
— У меня есть показания свидетелей, — сказал Шустов, — что вы посетили Елену Флотскую в день ее смерти в восемнадцать часов вечера. Вы подтверждаете или отрицаете этот факт?
Наступила еще одна пауза.
— Это тот самый… любовник? — шепотом спросила Соколовская.
Лидочка кивнула. Соколовская вынула из сумки роман «Роковая страсть» с графиней или герцогиней на обложке и принялась читать.
— Да, я заходил к Алене, — после долгой паузы произнес Осетров. — В тот вечер… два дня назад.
— Ваш визит имел отношение к последовавшему затем самоубийству Алены Флотской?
— Да вы с ума сошли!
— Тогда расскажите, зачем вы пошли к ней вечером?
— Она мне позвонила.
Осетров отвечал теперь ровным, каким-то равнодушным голосом, словно сдался на милость победителя.
— С какой целью позвонила? — Вопрос последовал после паузы, наверное, Шустов записывал ответ.
— У нее было плохое настроение, она попросила меня прийти и поговорить.
— Почему именно вас?
— Я уже сказал вам, что мы были с ней дружны…
— И вас не смущала разница в возрасте?
— Наша дружба не переходила известных границ!
Вот сидит мужчина и предает женщину, гневно думала Лидочка, понимая притом, что никаких оснований гневаться у нее не было. Алена уже мертва, ей все равно, а Осетрову возвращаться домой и в институт. И ему-то страшно.
В коридоре появилась еще одна женщина.
— Вы к лейтенанту Шустову? — спросила она Соколовскую, которая читала роман «Роковая страсть».
— Посидите, — сказала Инна.
Вновь пришедшая оказалась Розой, соседкой Алены. Когда ее успел вызвать Шустов — Лидочка не заметила. Но татарка могла понадобиться ему в любую минуту.
Лидочка уже поняла, что Шустов рассматривает Осетрова как главного подозреваемого. Но для этого ему надо доказать или заставить Осетрова самого поведать о том, как он приходил к Алене ночью. Инна отложила книжку, заложив ее указательным пальцем.
— Расскажите, что происходило во время вашей вечерней встречи с Аленой Флотской.
— Ничего особенного, мы разговаривали.
Роза вдруг узнала Лидочку.
— И вас тоже? — спросила она.
— Потише, — осадила ее Инна, словно они сидели в консерватории.
За дверью продолжался допрос.
— Значит, вы приезжаете вечером, после работы, где вы могли разрешить все ваши деловые проблемы, к своей молодой сослуживице просто поговорить.
— Да, — ответил Осетров. — У людей бывает нужда в беседе, в утешении старшего товарища.
— Надо ли понимать, что вы приехали к ней в качестве старшего товарища?
— Что за странная постановка вопроса? Я не вижу оснований для иронии.
— Вы пожилой человек, у вас семья, у вас есть внук.
— Два внука.
— Два внука… Но вы дружите с молодой одинокой женщиной, посещаете ее квартиру, чтобы она могла побеседовать с вами как со старшим товарищем.
— Я вас понял! — возмутился Осетров. — Понял, что вам удобнее и проще питаться слухами и сплетнями, которые распространяются в институте, в основном с помощью и посредством ее подруги Сони Пищик, которая, к сожалению, работает в нашей библиотеке.
— И никаких оснований к сплетням вы не давали.
— Нет!
— Ой, врет же! — возмутилась Роза. — Ведь врет, он же ходил к ней, они даже в дверях целовались.
— Погодите, — снова оборвала ее Соколовская.
Круглое личико Розы излучало радость кошечки, прижавшей лапкой мышь.
— Хорошо, — произнес сыщик Шустов, — более подробно с вами обсудит эту проблему следователь прокуратуры, который ведет это дело. Моя задача проще — я сейчас как бы собираю мнения, смотрю, кто, когда, где был. Значит, гражданке Пищик доверять не следует?
— Соне? Ни за что!
— Так я ей и передам. Сведения, которые она сообщила, являются чистой ложью. Гражданин Осетров не имел близких и интимных отношений с потерпевшей.
— Не имел.
Опять была некоторая пауза, значит, Шустов записывал ответы Осетрова.
Потом Шустов деловито и как бы между делом спросил:
— А что вы в шкатулку положили?
— Куда?
— В шкатулку. В шкатулку крупного размера, тридцать два на двадцать четыре сантиметра, изготовленную из карельской березы, которая стояла на комоде.
— Я вас не понимаю.
Голос Осетрова звучал настолько неубедительно, что любому понятно было, что он просто тянет время и соображает, продолжать ли запираться или сменить пластинку.
— Значит, все-таки подсмотрела, — сказал он.
— Подсмотрела, — согласился Шустов.
— Это он про меня, — прошептала Роза. Она догадалась и была этим горда.
— Хорошо, я все расскажу. Совершенно честно, но попрошу вас, по крайней мере пока, не записывать мои показания. Примите их в устной форме. Я, в силу своего общественного положения, не могу позволить себе появиться в суде, даже просто свидетелем. Мое прошлое вызывает ко мне вражду со стороны так называемых демократов. Это объективная реальность. До сих пор звучат призывы к ликвидации членов коммунистической партии. Я же был одним из ее руководителей.
— Правда? — тихо спросила Соколовская.
Может, она тоже тайная или явная коммунистка?
— Врет, — ответила Лидочка. — Он был чиновником в ЦК. Таких там пруд пруди.
— Наверное, вы правы, — согласилась Соколовская, — хотя в любом случае интереснее, если ты поймала в чужой постели министра или члена Политбюро.
— Мы тут ни к чему не призываем, — заметил Шустов. — И уж я буду решать, что включать в протокол, а что не включать. Как мне кажется, гражданин Осетров, вы здесь не в таком положении, чтобы ставить мне условия.
— В таком случае я ничего говорить не буду.
— Уж лучше говорите, — возразил Шустов.
— Правильно, — подтвердила его слова Роза, — чего уж там.
— Хорошо, — сдался Осетров. — Я подтверждаю. У меня были интимные отношения с Аленой Флотской, однако я должен вас предупредить, что не являлся их инициатором. Я и не думал ухаживать за молодой женщиной, у меня нет таких склонностей. Но дело в том, что в тот период жизни, три года назад, я находился в подавленном состоянии после разгрома нашей партии и потери места, положения, даже уважения товарищей… Честно говоря, вы можете представить ситуацию, когда еще вчера вы вызывали на ковер директора института, а сегодня должны отчитываться перед заведующим отделом? И еще быть благодарным этим людям за то, что они вас не вышвырнули на улицу… Поймите меня правильно: я остаюсь высокого мнения о моих коллегах. Им ведь тоже было нелегко — пригласить меня, когда идет охота на ведьм, когда само слово «коммунизм» подвергается надругательству…
— Вы могли бы конкретнее? У меня много дел, — прервал его Шустов.
— Я хочу дать вам общую обстановку, в которой произошло мое сближение с Аленой Флотской. Алена была в те дни редким существом, которое, казалось, меня понимало. Я принял ее маневры за чистую монету, потому что моя душа стремилась к какому-то очищению. Я понятно выражаюсь?
— Для меня — понятно, — ответил Шустов. Инна хмыкнула.
Осетров не уловил иронии Шустова. Он слышал только себя.
— У меня было мало женщин, я всегда старался оставаться добрым семьянином, сохранять верность моей супруге.
Еще бы, у вас с этим было строго, подумала Лидочка.
— Но все же бывали исключения? — съязвил Шустов.
— Очень редко. В длительных командировках, вы понимаете?
— И что же произошло с Еленой Сергеевной?
— Мне показалось, что она выгодно отличается от других молодых женщин своей образованностью, чуткостью, открытостью…
— Я вас слушаю, продолжайте.
— Я пытаюсь вспомнить, понять… как это произошло.
— Наверное, на каком-нибудь юбилее, дне рождения, празднике? — пришел на помощь Шустов.
— Почему вы так подумали?
— Потому что обычно интеллигенты выпивают на службе, потом говорят о политике, а потом едут к любовницам, — сказал Шустов.
— Ну, вы упрощаете, — возразил Осетров.
— А если усложнить?
— Усложнить?
— Давно вы стали любовником гражданки Флотской?
— Господи! — вырвалось у Осетрова. Лидочка поняла, как одним ударом Шустов уничтожил и опошлил все еще сохранявшиеся руины романтической любви. От нее ничего не оставалось три дня назад, но теперь она, возможно, начала вновь воздвигаться в воображении Осетрова. И тут на пути тебе попадается прожженный, насквозь циничный милиционер.
— Вы встречались у нее на квартире? — Шустов торопил события.
— Да, — прошелестел Осетров. Женщины под дверью еле различили ответ.
— Это продолжалось…
— Около трех лет.
— Вы ездили вместе на курорты, в круизы, за рубеж?
— Помилуйте! — воскликнул Осетров. — Откуда у меня на это средства?
— Она предложила вам покинуть семью?
— Она этого не предлагала. У нас были отличные отношения.
— То есть вас это устраивало — любовница с отдельной квартирой, куда можно ходить, когда вам удобно, никто не мешает.
— Вы не имеете права вести допрос в таком тоне! Это пытка.
— А ты как ее пытал? — сурово произнесла Роза. — Я все лейтенанту расскажу, я женщина честная, я врать не буду, она на лестницу за ним бегала, она на него кричала, что жить не может.
— Так я и думала, — вынесла свой вердикт Инна Соколовская, поправляя погон.
— Могу ли я записать от вашего имени, — услышали они голос Шустова, — что «наши отношения ничем не омрачались, и мы не намерены были их изменять»?
— Если вам так удобно, записывайте.
— Почему же она угрожала покончить с собой?
— Она? Угрожала?
— У меня есть на этот счет показания различных людей.
— Ложь!
— Я могу устроить вам очные ставки, — пообещал Шустов.
— Как так? Разве меня в чем-нибудь обвиняют?
— Я вас допрашиваю как свидетеля. Но вы свидетель, который говорит неправду.
— Опять подруга Соня?
— Сейчас пойду туда и скажу все, что думаю, — решила Роза.
— Погодите! — попыталась остановить ее Соколовская.
Соколовская была жилистой, как стайер, но и она с трудом удерживала охваченную яростью Розу.
— Не только она, — сказал Шустов.
— Но кто еще? Если вы не скажете, я вынужден буду уйти.
— Тогда я вас задержу.
— Только посмейте!
Слышно было, как подвинулся стул.
— Да постойте вы! — Шустов, видно, тоже поднялся. Но опоздал.
Дверь распахнулась, и в коридор выбежал свидетель Осетров.
Менее всего на свете он ожидал, что именно в тот момент махонькая Роза вырвется из рук Соколовской и бросится к нему с криком:
— Это он! Это он! Не уйдешь, гад вонючий! Убил девочку, такой хорошей, такой доброй была, все за молоком мне ходила, а ты зачем ходил, удовольствие получал, а она потом плакала на всю лестницу. Я, как мама родная, ее утешала…
Осетров стал отступать к двери. Дверь в кабинет оставалась открытой, и в ней, ничего не предпринимая, возвышался лейтенант Шустов.
— Это провокация! — сообщил Осетров Шустову. Он прижимал к груди зеленый рюкзак. — Это гнусная провокация.
— Погодите, гражданка Хуснутдинова, — мягко сказал Шустов. — Мы с вами еще поговорим. Но я вам очень благодарен, что вы узнали этого гражданина и указали нам на его роль в судьбе потерпевшей.
— Это ты говоришь, что потерпевший, — возразила Роза. — А для меня она уже не потерпевший, для меня она уже совсем погибший.
— Хорошо, хорошо, погодите, через несколько минут я вас приму. А вы, гражданин Осетров, уходите или хотите еще со мной поговорить?
— Я ухожу! — решительно заявил Осетров, но вместо того чтобы уйти, отступил в кабинет и даже затворил за собой дверь.
Слышно было, как скрипят, стучат по полу стулья — мужчины вновь занимали свои места.
— Я чего натворила! — расстраивалась Роза.
— Может быть, ты правильно поступила, — сказала Инна. — По крайней мере, он теперь знает, что соврать ему будет нелегко.
— Вы будете дальше рассказывать? — спросил за дверью Шустов.
— Я не несу никакой ответственности за ее самоубийство! — попытался дать арьергардный бой Осетров, но Шустов не обратил на это никакого внимания.
— Записываю, — сообщил он.
— В последнее время, — сдался Осетров, — мои отношения с Аленой ухудшились. Они, разумеется, не стали враждебными, однако ее требования, капризы стали совершенно невыносимы. Я открытым текстом сказал ей, что не могу на ней жениться, не могу покинуть жену, с которой прожил почти тридцать лет, сына, внуков… Иногда она понимала меня и даже сочувствовала. И, наверное, мы нашли бы с ней какой-нибудь путь к мирному расставанию, но ее подруга Соня Пищик делала все, чтобы изобразить мое поведение в глазах Алены в самых плохих красках.
— Подождите, — попросил Шустов. — Я записываю.
Роза энергично кивала головой, подтверждая слова Осетрова.
— Алена — натура нервная, если не сказать истеричная. Причиной тому ее тяжелое детство, когда ее мать, пустившись во все тяжкие, бросила ее на руках у старой бабушки, девочка росла без отца, она хотела ребенка, работой занималась не той, которая ей подходила… Все мои усилия доказать ей, что вся ее жизнь впереди, что она еще найдет себе и мужа, и отца будущего ребенка… все впустую. Тут были и истерики, и угрозы самоубийства, и даже звонки моей жене. Знаете, как звонят, потом дышат в трубку… а то еще и пустят грязное ругательство. Но это уже Сонькина работа. На службе все уже знали, мне было трудно глядеть в глаза людям… Но ведь и не порвешь так вот, бездушно… У вас можно курить?
— Курите, форточка открыта.
Лидочка догадалась, что последние слова были адресованы Инне, которая вознамерилась было ворваться в комнату и прекратить курение в служебном помещении, но сдержалась.
— Что случилось во вторник, 15 февраля?
— Она позвонила мне и просила приехать. Я не мог, у меня день рождения внука, она отлично об этом знала. Тогда она заявила, что если я этого не сделаю, то она обязательно покончит с собой. Это был чистой воды шантаж, и я не принял его всерьез, но потом пожалел Алену и приехал на минутку. Настроение у нее уже изменилось. Она встретила меня сухо, почти враждебно и сообщила, что на самом деле нам пора расстаться.
— Значит, вы признаете, что находились с потерпевшей в интимных отношениях? — как-то удивительно не вовремя вмешался Шустов.
— А вы об этом еще не догадались?
— Я должен это зафиксировать.
— Да погодите, дайте досказать, потом будете фиксировать, мать вашу!
Слова Осетрова возымели действие. Шустов замолчал.
— Честно говоря, я почувствовал облегчение. И даже как-то воспользовался моментом, чтобы подвести черту под нашими отношениями. Я взял с комода шкатулку. У нее давно стояла на комоде шкатулка, в ней лежали всякие там пуговицы и нитки, сложил, разумеется, с разрешения Лены в нее некоторые вещи, которые мне принадлежали.
— Какие вещи? — недрогнувшим голосом спросил Шустов.
Лидочка вздохнула — все тайны имеют рациональные объяснения.
— Она вернула мне некоторые подарки…
— Бьющиеся? — неожиданно спросил Шустов.
— Почему бьющиеся?
— Да вы подумайте: вот вы пришли в дом к близкому вам человеку, и тот говорит: «Возьми свои подарки, возьми то, что оставлял здесь, помнить о тебе не хочу!» Так?
— Приблизительно так.
— Вы берете с комода шкатулку и высыпаете из нее пуговицы и нитки на комод, а потом складываете в шкатулку ценные вещи. Непонятно.
— Что непонятно?
— Зачем вам понадобилась шкатулка? Неужели в доме не нашлось пластикового пакета?
— Да… Но среди вещей были тяжелые, например, пепельница из нефрита.
— Нет, нет, все равно не получается! У вас с собой был портфель.
— Не портфель, а небольшая сумка, потому что я сказал дома, что иду за хлебом. Совсем маленькая сумка.
— У него маленькая сумка была, — подтвердила Лидочке Роза.
— Ну, взяли бы у Елены Сергеевны какую-нибудь ее старую сумку. А тут — шкатулка! И дома как вы объяснили, что шкатулку принесли?
— Ее никто не заметил, — признался Осетров.
— Ну-ну, продолжайте, — сказал Шустов, который не поверил Осетрову.
— А, в сущности, нечего продолжать. Я ушел. Мне было некогда. А на следующий день узнал о смерти Алены…
— И вы не позвонили ей за весь вечер, вы не беспокоились?
— Знаете, я был зол на нее за эту демонстрацию. И за то, как она себя вела. Кстати, я вспомнил, почему я избрал именно шкатулку. Ведь этот ход мне подсказала Алена. Она так и сказала: сложи все в шкатулку, а потом вернешь… Вот именно…
Врет, врет, подумала Лидочка, жалеет, что не придумал эту версию раньше — она бы так легко все объяснила. И, наверное, Шустов это понимает.
— Значит, вы вернулись домой, — гнул свою линию Шустов, — легли спать и ни о чем не беспокоились.
— Не совсем так. Я беспокоился. Я несколько раз звонил ей за вечер, но было занято, подозреваю, что Алена сняла трубку, у нее была такая манера. Я лег поздно, и мне не спалось…
— А потом?
— А потом… я все сказал…
Опять пауза, наверное, Шустов пишет. Сейчас он попросит свидетеля подписать протокол допроса. И Осетров спокойно уйдет.
Но ведь так нельзя! Неужели не ясно, что Осетров виноват во всем?
Видно, эта же убежденность овладела маленькой Розой.
Колобком она скатилась со стула и ворвалась в комнату Шустова, словно пушечное ядро.
— Зачем неправду говоришь? — закричала она. — Я все видела, я все знаю.
От волнения ее акцент усилился, и она путала падежи.
Инна опять попыталась ее остановить. Лида тоже поднялась, но они с Инной остались в дверях, потому что Роза своим появлением так испугала Осетрова, что он отбежал к окну и прижался к нему спиной. Роза чуть доставала ему до локтя, но она была ему страшна, может, потому еще, что готова была разрушить логическое построение, которое только что, казалось, убедило товарища лейтенанта. Осетров еще не был до конца уверен, в чем состоит угроза Розы, но всей шкурой чувствовал, что погиб.
— Врет он, врет он, врет он! — визгливо повторяла Роза. — Зачем врать надо? Какую шкатулку уносил, если руки пустые были — маленькая сумочка была, а руки пустые. Не брал он эту коробку, гражданин начальник, не брал он ее в тот раз.
— А взял он ее в следующий раз, — закончил эту фразу Шустов, словно заранее знал, что скажет Роза. Будто подстроил так, чтобы Роза все слышала, сидя под тонкой дверью и выступила Немезидой, когда преступнику будет казаться, что ему удалось уйти от правосудия.
— Вот этого я не знаю, не смотрела, но в тот раз он с пустой рукой шел, одна маленькая сумка в руке был… Зачем про ящик говорил?
— Ну, знаете, — нашел наконец слова Осетров, — вы могли и ошибиться, вы все подглядываете, подслушиваете — может быть, в это время вы в соседнем подъезде вынюхивали.
Несправедливые обвинения тяжелее всех переносят те, которым свойственны подобные грехи. Надо было видеть, с каким бешенством кричала Роза, перейдя от ярости на татарский язык, и это придавало всей сцене тем более сюрреалистический характер, так как она наступала на Осетрова, почему-то норовя подпрыгнуть, чтобы вцепиться ему в глаза, а тот был вынужден отступать вдоль стены, пока не попал в угол между стеной и несгораемым шкафом.
— Вы нарочно! — закричал он Шустову через голову маленькой татарки. — Я буду жаловаться министру внутренних дел, а вы еще попрыгаете у меня!
— Гражданка Хуснутдинова, — закричал тут Шустов, — уйдите из комнаты, я вас сюда не звал!
— Как так не звал? — искренне удивилась Роза. — А зачем давал слушать, как он тут врет?
— Я не отвечаю за дефекты строителей, — ответил Шустов. — И попрошу посторонних покинуть помещение.
Никто из женщин помещения не покинул. Только Осетров попытался это сделать, но остановился.
— Я не видела, я спала, — сказала Роза, — но все слышала. Я знаю, когда он к ней второй раз приехал. В два часа ночи. Мой муж, Геннадий Петрович, спросил, ты зачем не спишь? Уже третий час, а я сказала, там, на лестнице, человек есть, наверное, опять хахаль к Алене пришел. А мой муж говорит, ты спи, говорит, у них дела любовные, молодежные. А я говорю, какие молодежные дела у Олега Дмитриевича, если он мне в папы годится? У него внук есть.
— И долго он там был? — быстро спросил Шустов.
— Она меня не видела! — закричал Осетров. — Это все подстроено.
— Я думаю, недолго был, — сказала Роза, — может, полчаса был, может быть, побольше был.
— Пускай все уйдут, — с отвращением произнес Осетров.
— Выйдите, — поддержал его Шустов. — В самом деле, выйдите!
Женщины поочередно вышли из комнаты. Лидочка удивилась тому, как покорно вышла с ними Соколовская. Но, видно, она понимала, что при ней свидетель не стал бы говорить.
И вот они снова уселись в ряд. Розочка в середине. Она все еще не могла успокоиться.
— Зачем он так говорит? — повторяла она. — Убил девушку, да?
Лидочка положила ей руку на плечо, чтобы замолчала. Интереснее было узнать, о чем говорят в комнате.
— Расскажите мне о вашем втором визите к Елене Сергеевне, — сказал лейтенант. Голос его был ровным, будто он не прыгал только что по комнате, отлавливая Розу.
Осетров заговорил мертвым голосом, будто был под гипнозом. Наверно, ему стало все равно.
— Она звонила мне несколько раз, — сказал он. — К телефону подходила жена, Алена бросала трубку… как обычно. В конце концов жене это надоело, и она сказала мне… моя жена многое знает. Я взял трубку, и Алена мне сказала, что ей очень плохо, что она намерена убить себя и хочет со мной попрощаться. Я сказал ей, чтобы она ложилась спать, а завтра я приеду. Это было после двенадцати. Через полчаса она позвонила снова… я как раз мыл посуду. Она требовала, чтобы я приехал. В последний раз. Я наотрез отказался… как каждый бы сделал на моем месте.
— Я не был на вашем месте.
— Шантажу нельзя поддаваться, от этого шантажисты только наглеют.
— Ваша… подруга уже умерла, — сказал Шустов. Наверное, хотел таким образом поторопить Осетрова. А тот вместо продолжения рассказа начал всхлипывать, и было слышно, как Шустов наливает из графина в стакан воду, а Лидочка подумала, что у всех следователей на столе должен стоять графин.
— Я не ложился спать, я ждал нового звонка. И он был. Это был странный звонок.
— Во сколько? — спросил Шустов. — Вы заметили время?
— Примерно в половине второго.
— Расскажите подробнее.
— Она говорила невнятно, я почти ничего не мог разобрать. У меня возникло жуткое подозрение, что она все же наглоталась таблеток. И я подумал — что же со мной будет!
— Вы подумали, что же будет с вами?
— Я сказал жене, что мне надо уехать. Она категорически была против. Она предположила, что это какой-то очередной шантаж Алены. Но я очень испугался. Я позвонил еще раз, но никто не взял трубку… было занято…
— Занято?
— Я сам удивился. Позвонил еще раз… Я представил себе, что она лежит без сознания и не может дотянуться до аппарата.
— Вы поехали?
— Да, я поймал такси… У меня был свой ключ. Кстати, вот, я его хотел возвратить… наверное, лучше вам, да?
— Продолжайте.
— Я поднялся наверх, я позвонил… никто не открыл. Это совершенно ужасно, не дай вам бог… Я увидел, что она лежит… Трубка телефона у нее в руке. Дальше я действовал буквально бессознательно.
— Что вы делали?
Лидочка поняла, что Шустов продолжает записывать.
— Я взял трубку и положил ее на место.
— Почему?
— Не знаю. Но помню, как вытер отпечатки пальцев.
— Вы боялись, что вас заподозрят?
— Это наивно, но мне казалось… я был в шоке… мне казалось, что если убрать все следы моего пребывания там, то обо мне не вспомнят. Ведь мало кто видел, как я сюда приходил.
— Дальше.
— Дальше я стал искать, куда сложить все, что связано со мной. Там были мои фотографии, даже мои часы, которые она хотела отнести в починку, наручные часы… там были мои книги, две книги, я как-то занимался у нее. Потом я пошел в ванную, взял свою зубную щетку и пасту. Я очень чистоплотный человек и не выношу, когда кто-то пользуется моими вещами, и сам не люблю чужих вещей… моя щетка для волос… Я брал только свои вещи, клянусь вам.
— Этим вы ввели в заблуждение следствие.
— Но я был в шоке!
— А потом?
— Потом я ушел. Я положил все в шкатулку, которая стояла на комоде, и ушел.
— Но почему именно в шкатулку?
— Потому что я увидел ее, когда искал, куда же мне положить свои вещи.
— А Елена Сергеевна лежала там?
— Конечно, она лежала. Я старался не смотреть на нее. Я же понимал, что она сделала это нарочно, чтобы отомстить мне за то, что я не хочу на ней жениться. И потому мне надо было перехитрить ее — стереть следы. Да, это не очень хорошо, но это не преступление, и вы никогда не докажете, что это преступление…
— Я не собираюсь доказывать. Этим займутся другие. Я лишь веду дознание, — сказал Шустов. — И меня интересует: когда вы были в первый раз в квартире в тот вечер и Алена выразила желание покончить с собой, вы ничего не подкладывали в коробку с ее снотворным?
— Зачем? Я вас не понимаю…
— Хорошо, к этому мы еще вернемся.
— Что это значит?
— А когда вы приезжали ночью, вам показалось, что она мертва?
— Не показалось! Я пощупал у нее пульс! И сердце… она уже начала остывать.
В кабинете воцарилась тишина. Скрипнул стул…
— Гражданин Осетров, — сказал Шустов после долгого молчания. — Я не буду вас задерживать, хотя, с моей точки зрения, вы остаетесь подозреваемым. И надеюсь, что вы не вздумаете скрываться.
— Боже упаси. А что, есть подозрения, что Алена не покончила с собой?
— Я этого не знаю.
Опять пауза. Потом голос Шустова:
— Я попрошу вас подписаться внизу каждого листа.
— Конечно, конечно… Но если вы думаете… то вы ошибаетесь. Я не могу сказать, что в последние месяцы ее любил, но я очень хорошо к ней относился, и ее смерть… ее смерть для меня потрясение.
— Вы можете идти.
— Ах да, я совсем забыл. Я принес шкатулку. Это же чужая шкатулка. Она вам может пригодиться, как вещественное доказательство. Сейчас достану… такой неудобный рюкзак… Вот она! Держите. Это единственная чужая вещь, которую я взял в квартире у Алены.
— Хорошо, — равнодушно произнес Шустов. — Я выдам вам расписку.
— Не надо, зачем?
— Такой порядок.
«Сейчас он уйдет, — подумала Лидочка, — я войду в кабинет и смогу наконец увидеть эту злосчастную шкатулку. Если это та самая шкатулка. Только пустая…»
Осетров вышел, ссутулясь, быстро пошел по коридору, не взглянув на женщин, которые с нетерпением ждали очереди войти в кабинет. Они были возбуждены и полны любопытства, словно только что возвратились с боя гладиаторов и теперь хотели поделиться с императором Калигулой своими впечатлениями.
Убегая от Шустова, товарищ Осетров в волнении не подписал акта о сдаче вещественного доказательства в виде шкатулки карельской березы, полированной, имеющей потертости и царапины, размером тридцать на двадцать четыре сантиметра при высоте в шестнадцать сантиметров. Внутри шкатулка неполированная, пустая, без следов пребывания в ней каких-либо предметов.
Женщины, набившиеся в маленький кабинет, рассматривали шкатулку. Роза клялась, что в семь вечера такой шкатулки у Осетрова с собой не было — она бы увидела. А Инна Соколовская, которая тут же принялась поливать из графина цветы, будто они могли высохнуть от присутствия Осетрова, разумно заметила:
— Твой Осетров шкатулку заранее приготовил и в рюкзак поместил, о чем это говорит?
— А о том, — ответил Шустов, который задним числом оформлял протокол сдачи шкатулки, — что, уходя из дома, он был убежден, что придет и все мне честно изложит. А как вошел в кабинет, то его охватило обычное для преступников чувство — желание не сознаваться.
— Не только для преступников, нам об этом еще Муромский читал, в психологии судебной психиатрии, даже свидетелями овладевает страх, и они начинают отрицать очевидные вещи, даже факты, которые не должны им повредить.
— Надо стены красить другим цветом, — заметила Роза. — Такой цвет нехороший, как в тюрьме сидишь.
Роза была права, синий казенный цвет, коричневые шкафы и серый сейф — это была тюремная палитра, враждебная практически любому человеку, а уж тем более тому, кто чувствовал себя в чем-то виноватым. Он понимал, что ему грозит остаться здесь навсегда, — и тут в его организме включались все системы защиты.
— А я почти сразу догадался, что у него в рюкзаке шкатулка. А то бы его с рюкзаком не пустил — мало ли с чем сюда ходить будут? Завтра пулемет принесут… Но здорово я его расколол?
Это была странная сцена, такой не должно быть в милицейском кабинете. Такие сцены могут происходить в адвокатской конторе мистера Мейсона или в кабинете сыщика Ниро Вульфа. Собрались приятели и сотрудники и радуются удаче…
Со шкатулкой в руках Лидочка отошла к окну. Сейчас она откроет ее и увидит мешочек с кусочками темного металла и камни, привезенные когда-то Полиной из Батума, все, что осталось от ее непутевого брата. Как давно это все было… И главное — дневники Сергея Серафимовича.
Пустое… ты нашла шкатулку, шкатулка же представляет, скажем, только сентиментальный интерес. И вряд ли больше.
— Ваша? — догадалась почему-то Соколовская.
— А я с ними и познакомилась, — призналась Лидочка, — потому что искала эту шкатулку. В ней когда-то были наши семейные реликвии. Не очень ценные материально, но дорогие для нашей семьи и для науки.
— Зачем им отдали? — спросила Роза, наслаждаясь собственной причастностью к большому государственному делу.
— Время такое было, до войны еще. Ареста боялись.
— Вот что значит в Бога не верить, — наставительно произнесла Роза. — Бог вас сохранил, а вещи не сохранил. Раз отдали, зачем ему их хранить?
Сентенция не была лишена некоторого смысла, хотя и не утешала. Лидочка держала в руках шкатулку, ей трудно было с ней расстаться. Шустов заметил ее колебания и сказал:
— Закроем дело, отдадим вам, она вряд ли кому понадобится, ведь вещь ваша.
— Когда все кончится, — заметила мудрая Роза, — тетя-дядя прибежит, наследником назовется. Скажет, всю жизнь о такой коробке мечтал. — Роза искренне рассмеялась.
— Что-нибудь придумаем, — сказал лейтенант.
Лидочка с сожалением вернула шкатулку.
— Что же он в ней унес? — вслух подумала Инна.
— А я ему на этот раз поверил, — заметил Шустов. — Он в панике был, хватал то, что ближе всего, под рукой. Если ты комнату бы представляла, то, как войдешь — налево диван и телефон — там она и лежала. Он, конечно, отпрянул. А тут комод. И шкатулка.
— При условии, что он никого не убивал.
— А я думаю, что убивал, — сказала Роза. — Тихий такой, вежливый. Точно, убивал.
— Пока мы ничего не знаем. Будем вести расследование, — решил прекратить дискуссию Шустов. — Сейчас еду в прокуратуру. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами будем думать, что делать дальше.
Глава 6
Второе покушение
Хоронили Алену Флотскую через два дня, в воскресенье, 20 февраля. Сначала близкие, включая Лидочку — куда уж теперь от этой близости денешься, — поехали в морг Первой градской больницы.
Морозы уже кончились, может, и насовсем, но поднялся неприятный ветер.
В морге народу оказалось мало. Так мало, что некому было нести гроб до автобуса, который кое-как подобрался задом к лестнице. В высоком, граненом, похожем на внутренность стакана, зале ожидания стены на высоту двух метров были выкрашены в поносный цвет. По стенам, по всему периметру зала тянулись царапины. Труп долго не выдавали, а Лидочка мучилась загадкой — кто и почему царапал стену на высоте человеческого роста. Она наконец не удержалась и спросила Соню. Соня была в черном платке, на рукаве пальто — черная повязка. Непонятно, где она откопала такой обычай, возможно, от членов правительства сталинских времен, правда, у тех повязки были красно-черными.
Соня кинула равнодушный взгляд на стену и пояснила без раздумья:
— К ней крышки гробов приставляют. Привозят и приставляют.
Соня была права. Голубая, кое-как обтянутая материей крышка Алениного гроба была прислонена к стене там, где стояла Татьяна Иосифовна с незнакомой Лидочке приятельницей или родственницей. Помимо них, в гулком зале, с промокшими углами потолка и небоскребами паутин, были и несколько человек из института, и Роза, которая сочла своим долгом…
— Это ничего, что я пришла? — шепотом спросила она.
— Ничего, — ответила Лидочка. — Даже очень хорошо.
Осетрова не было.
Когда наконец велели заходить в заднюю комнату, где толстая женщина за столиком заполняла документы и выдавала трупы, Лидочке пришлось помочь нести крышку гроба, а санитары, которых Сонечка просила помочь за деньги, спешили и, перенеся гроб, ушли обряжать следующего покойника.
В главном зале, куда все прошли постоять вокруг гроба и поглядеть на Алену, в нишах стояли две одинаковые гипсовые, в человеческий рост, женские фигуры в классической манере, обнимающие урны. Видно, их поставили сюда лет сто назад, когда строили морг.
Гроб опустили на каменный стол, и Лида впервые смогла разглядеть женщину, с которой чуть было не познакомилась.
Мертвая Алена Флотская была очень хороша. Перед смертью ее не терзала болезнь и не успела тронуть старость. На вид ей было лет двадцать, не больше — такой, наверное, была гоголевская панночка. Даже здесь, на конвейере, равнодушно выплевывающем покойников в зал, кто-то потратил время и проявил старание, чтобы причесать Алену, даже напудрить — может, это только кажется? — сложить воротничок, завернуть валиком край покрывала… На белом, в голубизну, лице особенно выделялись черные длинные ресницы, губы были чуть розовыми, на чистый лоб упал один из локонов, он оторвался от густой массы волос, как будто хотел остаться живым. Если слова «как живая» имели смысл, так именно в этот момент и именно здесь.
Красота и нежность покойной оказали странное воздействие на всех присутствующих. Впервые в жизни Лидочка увидела, как может плакать агентша, которая до того распоряжалась переносками и заполнением нужных бумажек — очевидно, все были потрясены несправедливостью этой смерти и бессилием ее перед мгновением красоты.
Когда гроб закрыли и перенесли в автобус — на этот раз мужчин было достаточно, потому что пришли два санитара и к ним присоединился шофер автобуса, — Соня, усевшаяся рядом с Лидой, не удержалась, чтобы не сказать правду:
— В жизни Аленка была куда хуже, грубее, даже вульгарнее. Не веришь? Мне лучше знать, я говорю объективно, как лучшая ее подруга.
Автобус ехал недолго, минут десять — ему надо было проехать по Ленинскому, потом свернуть к крематорию Донского монастыря. Там у крематория, как узнала Лидочка от Татьяны, похоронена Маргарита Потапова, и потому есть семейное место для урны, а это очень удобно, потому что если надо будет Аленку навестить, то это два шага от метро, а то теперь все эти новые кладбища находятся за городом, надо истратить целый день, пока доберешься.
Площадка у крематория была расчищена и плотно утрамбована автобусами и людьми, которые сменяли друг друга весь рабочий день. Два автобуса ждали своей очереди. Длинный очкарик из профкома Тихоокеанских проблем вместе с Сонечкой побежал в контору оформлять документы. Начал сыпать снег, он поглощал звуки и создавал мирную добрую атмосферу прощения и спокойствия. Лидочка поймала себя на ненормальном желании скорее пройти внутрь, в зал для прощания, чтобы там открыли крышку гроба и можно было вновь полюбоваться нежной чистотой лица Алены. Если писать спящую красавицу, то писать ее надо с Алены. Но этой мыслью ни с кем не поделишься, нет здесь ни одного человека, настолько близкого, чтобы он не счел тебя сумасшедшей.
Когда их автобус подъехал к крематорию, к нему потянулись люди с разных сторон открытой площадки — оказалось, сюда пришло куда больше людей, чем Лидочка ожидала. История с Аленкой для нее была настолько замкнутой в тесноте квартиры, в коридоре милицейского отделения, что интерес многих чужих людей казался неестественным, и Лидочка вдруг испытала чувство, сродни ревности.
Вряд ли можно было объяснить появление всех этих людей лишь заметкой в газете «Московский комсомолец», где с развязностью желтой прессы под заголовком «Усни, красавица» говорилось о том, что некая молодая сотрудница Тихоокеанского института решила взять в свои руки разрешение личных проблем и кончила дни в морге. В заметке не содержалось ничего, за что можно было подать в суд, но даже Лидочке очень хотелось пойти к редактору и сказать ему, что так не поступают.
Но тут же, подумав, Лидочка поняла причину многочисленности провожающих и появления нескольких венков, что было для нее полной неожиданностью. В тридцатилетнем возрасте смерть еще столь необычна и редка, а связи детства и юности еще свежи и не оборваны, что все последние три дня звонили телефоны в квартирах ее соучеников по школе, по институту. Подруг и бывших соседок обзванивала и Соня, для которой смерть Алены стала самым главным событием в ее жизни. В институте смерть молодой и хорошенькой сотрудницы стала не только сенсацией, ибо каждый понимал связь ее с трагическим романом. К сенсации примешивалось очевидное чувство вины.
Пожалуй, за всю свою жизнь Алене еще не удавалось привлечь к себе такого внимания.
Кремация задерживалась, но никого это не расстраивало, потому что многие не видели друг друга помногу лет и были рады встрече. Люди переходили от группы к группе, почти все подходили к Татьяне Иосифовне и выражали ей свое сочувствие. Приехал даже директор института. Соня прибежала из конторы и сказала, что надо подождать еще минут десять — органист ушел обедать, — потом стала сетовать, что никто не рассчитывал на такое количество, думали, что к Алене придут человек десять, а тут…
— Здесь по крайней мере половина нашего класса, — сообщила она с гордостью.
Тут же она покинула Лидочку и пошла туда, где стояли группой молодые люди ее возраста, в основном в кожаных пальто или шубах — Соня среди них казалась бедной родственницей. Среди соучеников Лидочка узнала Алика Петренко с рукой на перевязи и Ларису. Конечно же, Соня говорила, что они учились с Аленой! Как тесен мир!
Лариса помахала Лидочке. Она была в сшитой из кусочков норковых шкурок дорогой модной шубе и льнула к Алику Петренко так нежно, словно пришла с ним не на похороны, а на конкурс красоты, где ей обещано первое место.
Петренко был центром компании. Самый удачливый и рисковый. И даже те, кто избрал иной путь и даже не заработал себе на кожаную куртку, потому что не чувствовал в том нужды, тянулись к нему, подчеркнуто дружески похлопывали его по здоровому плечу, обнимали, говорили с ним, и Петренко позволял себя трогать и обнимать, как большой дог, снизошедший до маленьких собачек. А так как эта тесная и вполголоса оживленная группа роилась недалеко от Лидочки, она могла увидеть Петренко поближе, чего не удалось сделать несколько дней назад, в то злополучное утро.
Петренко обещал с возрастом стать толстяком, но пока был просто плотен, упруг и розов, но никак не схож с поросенком — это было упрямое напористое и быстрое создание человеческой породы, и при взгляде на него становилось ясно, что попробуй его ущипнуть — пальцы соскользнут с кожи. Несмотря на снег, он стоял с непокрытой головой — его русые волосы уже начали редеть, и потому он зачесывал их на косой пробор.
Лидочку он увидел сразу и тут же вычислил ее, понял, кто она такая, а вернее всего, знал ее давно, — это Лидочка за несколько лет жизни в доме могла и не заметить юношу, ставшего богачом, а он молодую, привлекательную, не шикарную, но классную женщину наверняка видел не раз. И имел о ней мнение. И, может, даже знал о ней больше, чем ей самой того хотелось.
Встретив ее взгляд, он впился на секунду в него светло-карими кошачьими глазами, шевельнув тонкими подвижными губами, как бы здороваясь, улыбнулся, и Лидочка наклонила голову — она была и с ним теперь связана какими-то узами личных отношений, которые существовали настолько очевидно, что он счел необходимым послать к ней Ларису с предупреждением об опасности.
Пришлось ждать еще минут десять, прежде чем наступила их очередь.
Гроб выкатили из автобуса, мужчины двинулись к нему, чтобы внести в приземистое здание крематория, которое в конце двадцатых, когда его построили, было одной из достопримечательностей Москвы, и тогда много писалось о том, что наконец-то большевикам удалось добиться по-настоящему гигиенических условий для покойников.
Краем глаза Лидочка наблюдала за Петренко. Его не было среди тех, кто взялся тащить гроб, но он пошел следом за гробом, близко к нему, неся в левой руке венок. И тут Лидочка поняла, что высокий, весь налитой мышцами, которые с трудом умещались в просторной куртке, парень — телохранитель Алика Петренко. Он шел близко к нему и зыркал глазами — в толпе одновременно было и безопаснее, и рискованней, чем на открытом месте. Поняв, что Алик здесь с телохранителем, Лидочка почему-то успокоилась, как будто не хотела, чтобы на него снова покушались. Но, возможно, у мафиози есть правило — не нарушать кладбищенский покой. Рядом не было никого, кого можно было счесть врагом.
Почти весь зал крематория, до бархатного каната, который отделял подставку для гроба от той ямы, куда гроб через несколько минут опустится, был полон народа. Мужчины сняли крышку гроба и отнесли ее к стене, поставив возле бюста летчика, над которым был прикреплен алюминиевый аэроплан. Летчик разбился еще до войны — это можно было угадать по аэроплану. Лиде пришлось встать рядом с другим бюстом — очень серьезный бровастый мужчина оказался автором проекта крематория. Неужели архитектор считал этот проект делом своей жизни?
Гроб был открыт, люди клали цветы и постепенно из цветов образовался холм. Речей не произносили, но под вялую игру органиста близкие стали подходить и целовать Алену в лоб или просто дотрагиваться до нее.
Лидочка тоже приблизилась и остановилась у гроба, чтобы в последний раз полюбоваться Аленой, которой в жизни не удалось побыть такой красавицей, как в мраморном холоде смерти.
Многие плакали, потому что эта красота подчеркивала дикую несправедливость смерти.
Тут Лидочка наконец-то увидела Осетрова. Он стоял в задних рядах и не делал попытки приблизиться к Алене. Он заметил взгляд Лидочки и задом, задом стал выбираться наружу. Он хотел и быть здесь, и отсутствовать.
Соня решила произнести речь, но Татьяна остановила ее. Она стояла, опираясь на палку, и ее поддерживали с двух сторон родственницы. Татьяна принималась рыдать, и тогда ее утешали, а какая-то пожилая женщина в черном платке доставала капли или порошки и предлагала их Татьяне.
Время остановилось, но потом его неожиданно подстегнул резкий голос распорядительницы похорон, которая сказала со лживым участием:
— Торжественная церемония прощания с дорогим нам человеком и гражданкой нашей Родины Еленой Флотской закончена.
Она нажала на какую-то кнопку, и Лидочке стало страшно, что Алену сейчас опустят в подвал и там окончательно уничтожат. Она мысленно рванулась вперед, Татьяна стала просить, чтобы ее опустили туда, следом за дочерью, громко зарыдала Соня.
Створки ада раскрылись, гроб уехал вперед, потом опустился вниз, и люк закрылся.
Еще с минуту все стояли и ждали, словно гроб еще мог возвратиться, но потом пошли к выходу.
Лидочка шла одной из первых, следом за телохранителем Петренко. Сам миллионер выдвинулся вперед.
Лидочке открылась площадка перед крематорием. Приехал еще один автобус, и возле него стояла кучка старичков. Петренко быстро шел по аллее к выходу, за ним в трех шагах — телохранитель. Рядом, отставая на шаг, спешила Лариса и что-то говорила на ходу. А еще дальше впереди, уже у самых ворот крематория, Лидочка угадала фигуру Осетрова.
И тут от ворот, из-за высокого черного памятника вышел парень в джинсовой куртке.
Лидочка уже настолько уверилась в том, что этот парень — ее личный убийца, что присела на корточки, кто-то налетел на нее, она потеряла равновесие и скатилась вниз по ступенькам. Из-за этого получилась суматоха и шум. Лидочке помогли подняться.
Когда Лидочка встала на ноги, она поняла, что никто из окружавших ее не видел происходившего у ворот.
Только она успела увидеть, что Петренко и его телохранитель промелькнули в воротах и исчезли. Куда же делся парень в куртке, она не поняла. Осетрова тоже не было видно.
— Сейчас к нам, к нам, — приглашала радушно и даже весело Татьяна Иосифовна. — В первую очередь это относится к тебе, Лидочка.
— У меня дела…
— Как ты можешь!
Татьяна стояла у автобуса и говорила:
— Желающие рюмкой водки помянуть мою дочь Алену, прошу в автобус.
В большинстве люди подходили к Татьяне Иосифовне, и она всех благодарила за то, что почтили. Но некоторые полезли в автобус — одноклассники, кто-то со службы, наверное, родственники.
Директор института сказал Татьяне:
— Моя машина стоит у ворот, прошу вас.
— Лидочка, ты со мной? — спросила Татьяна.
— Нет, спасибо, — сказала Лидочка, — я в автобусе.
Ей было страшно проходить между тех кустов, в которых недавно таился и, может быть, сейчас таится парень в джинсовой куртке.
Без гроба, стоявшего недавно в ногах, автобус казался пустым. В автобусе сидели Соня и несколько одноклассников Алены. Они не знали, что случилось с Петренко, потому что кто-то из них спросил:
— А Алик где?
— У него дела срочные, встреча, — сообщила Соня.
— С Рокфеллером, — пискнула одна из одноклассниц, и все засмеялись, но тут же спохватились, что смеяться еще рано.
За спиной Лидочки разговаривали две молодые женщины — бывшие одноклассницы Алены.
— А этот был? — спросила одна. Лидочка догадалась, что вопрос касался Осетрова.
— Такой высокий, седой, красивый. Ты не заметила?
— Нет. Как жалко.
— Мне его Сонька показала. Она его ненавидит.
— Еще бы, лучшая Аленкина подруга.
— А я думаю, что дело в ревности.
— Ну как наша Сонька может ревновать? Пора уж отдавать себе отчет…
— Любовь зла.
— Ты перепутала — это коза полюбила.
Девушки засмеялись.
— А он еще ничего, сохранился, — произнесла одна из них.
— Не соблазняй меня. Я его не видела и не увижу. А правда, что он был секретарем ЦК?
— Не исключено.
— Ну, тогда у Аленки не было шансов.
— А что, если он ее убил?
— Ты что, офигела?
— Ты же знаешь Аленкин характер — что схватила, то мое! А тут пролетела. Он понял опасность и убил ее.
— Она таблеток наглоталась. Это медицинский факт.
— Для кого-то факт, а для кого-то и нет.
— Ты что-то знаешь?
— Если бы знала, била бы во все колокола.
— Ты романтик.
Автобус выехал на Садовое кольцо и, застревая в пробках, пополз к площади Восстания. Интересно, ее переименовали или нет? В переименованиях, охвативших Москву в последние годы, чувствовался элемент игры. Почему-то надо было отнять улицы у Пушкина и Чехова или, допустим, разделить улицу Горького на две — Тверскую и 1-ю Тверскую-Ямскую, внеся этим разброд в умы почтальонов и полную растерянность в воображение приезжих, которые не могли понять, на какую же улицу попали. Но эта твердость в возвращении к временам солидным, православным и даже царь-гороховым никак не мешала благополучно существовать могучему кусту Коммунистических улиц, переулков и тупиков на Таганке, Пролетарских, Комсомольских и других порождений большевистского ума. Видно, борьба с Чеховым требовала меньшего гражданского мужества, чем сражение с коммунизмом.
Тем временем разговор подружек на заднем сиденье перешел, как и следовало ожидать, к темам куда более актуальным, чем смерть Аленки Флотской.
— Мне Татушкина говорила, что на Петрика было покушение.
— И что тебе еще эта раззява говорила?
— А что, неправда?
— Об этом лучше не болтать.
— На него наехали?
— На нем висит полмиллиона баксов.
— И не испугался приехать в крематорий?
— Он любил Аленку.
— Значит, наезжали?
— Кто-то, я тебе не буду говорить кто, нанял бандитов. Была разборка, Петрика хотели пришить, но Лариска, та телка, которая с ним сегодня была, его вытащила из-под огня.
— Как Анка-пулеметчица?
Женщины засмеялись. Лидочку подмывало желание обернуться и посмотреть на существ, которые милыми голосами вели такую неженскую беседу. Чувствовалось, они готовы были сами взять автоматы и тут же открыть стрельбу от живота.
— Он собирается рвать на Запад, у него все туда переведено.
— Так он тебе и сказал.
— Каждому жить хочется.
— Тогда они его достанут.
— А может, и не достанут.
Лидочка еле дождалась того момента, когда автобус остановился возле дома на Васильевской. Она поднялась и смогла рассмотреть тех собеседниц, которые только что обсуждали судьбу Петрика. То есть Алика Петренко.
Обыкновенные женщины тридцати с лишним лет, одна из них заметно растолстела и лет через десять станет грузной матроной, вторая, видно, всегда была худенькой, а теперь усохла. Но обе в шубах, перстни на пальцах, схожие сумочки с позолоченными замками и пряжками. Скучные личности, чьи-то жены. Для них самоубийство Аленки и покушение на Петрика — величайшие события года и в то же время обыденность жизни.
В квартирке было чрезвычайно тесно, составили все столы, соединили их досками, скатерти были разномастные, посуду принесли от соседей. Вилки и ножи собирали по всему подъезду, да и обитатели этого подъезда толклись на кухне, зарабатывая право на участие в поминках хозяйственными заботами. Кое-как втиснулись за стол, кому не хватило места, сидели на табуретках в коридоре или теснились в прихожей. Петрик, конечно, не появился. Но все равно Лидочке казалось, что центром внимания остается он — до Алены дела никому не было, за исключением Сони, Татьяны да самой Лидочки.
Роза помогала на кухне, потом носила блюда с нарезанной колбасой, сыром, зеленью и холодными цыплятами. Лидочка сидела напротив большой фотографии Алены над диваном. Ветер взъерошил Аленке волосы, и она пыталась удержать их обеими руками. Очень удачная фотография. Какие у нее были хорошие зубы!
Алена все более становилась абстракцией — это могли быть поминки, а мог быть и десятый юбилей смерти Пушкина, собравший лицейских друзей помянуть великого поэта, хотя никто его таковым не считал, потому что он не сделал карьеры и глупо погиб на глупой дуэли, в которой сам был виноват, о чем можно прочесть в истории Кавалергардского полка.
Бывает такое странное совпадение — «История кавалергардов» лежала на стеллаже, Лидочке надо было только обернуться и протянуть руку. А на открывшейся странице шло описание дуэли другого кавалергарда — Мартынова — и поручика Тенгинского полка Михаила Лермонтова. Авторы «Истории кавалергардов» отдавали должное поэту Лермонтову, но все их симпатии были на стороне Мартынова: «Как поэт, Лермонтов возвышался до гениальности, но как человек он был мелочен и несносен. Эти недостатки и признак безрассудного упорства в них были причиной смерти поэта от выстрела, сделанного рукою человека доброго, сердечного, которого Лермонтов довел своими насмешками и даже клеветой почти до сумасшествия». А на самом-то деле была одна достаточно безобидная шутка о длинном кинжале, который нацепил Мартынов. Об этом Лидочка помнила. Лермонтова надо было убить, и потому для этой роли подошел «добрый и сердечный» Мартынов, который, как вычитала Лидочка из той же «Истории», убив Лермонтова, подошел к нему и по-братски его поцеловал. Из кавалергардов выходили замечательные убийцы.
— Что-то вы зачитались? — спросил мужчина с собачьими, приподнятыми у переносицы бровями и большими брылями — он был либо псом, играющим человека, либо человеком, играющим пса. — Вам положить блин?
Человеку было за сорок, седина тронула его виски и окрасила усы. Он был тяжел, басовит, и Лидочка представила, как он лает — глубоко и редко, а ночью выходит из своей дачи, спускается с крыльца в кусты и там редко и солидно лает, а ему отзываются собаки и собачонки дачного поселка.
Человек положил на тарелку Лидочке холодный блин, на него — столовую ложку кутьи. Лидочка, зажатая между его горячим бедром и острым локтем одной из одноклассниц Алены, извернулась и положила книгу о кавалергардах на место. Загадка — как эта книга могла здесь очутиться?
— Чем вы заинтересовались? — спросил мужчина с брылями.
— Там описано, как убивали Лермонтова, — ответила Лидочка.
— Лермонтова убила тяжелая действительность российского самодержавия, — сообщил мужчина с брылями и представился: — Константин. Просто Константин. И это допустимо, потому что я старше вас ровно настолько, насколько мужчина должен быть старше женщины, чтобы стать ее ровесником.
Лидочке потребовалось несколько секунд, чтобы полностью осознать смысл сказанного.
— Вы вместе работали? — спросила Лидочка.
— Нет, я даже не однокашник.
Соня постучала вилкой о стакан.
— Мы собрались здесь сегодня, — сообщила она, перекрывая тот шум, который возник из-за желания быстрее заморить червячка, — потому что нас объединило общее горе и общая любовь. Мы не могли не явиться сюда, потому что в момент глубокого горя люди собираются вместе, в одну группу, в один рой, в один коллектив…
— Странно, — прошептал одними губами Константин, — бывают же люди, которым обязательно надо подчеркнуть свою монополию на любовь, дружбу, сострадание и даже соучастие в смерти.
— Она была ее лучшей подругой.
— Только не надо это мне объяснять, я это уже знаю, — сказал Константин. — А вы тоже подруга?
— Я на самом деле случайно попала в эту семью за день до смерти Алены.
— Вы ее не знали?
— Нет. Я знаю немного ее мать и знакома с Соней.
— Жаль, вам не повезло. Несмотря на всю истеричность, сумасбродность натуры, несмотря на то, что Алена была искалечена воспитанием, вернее, отсутствием такового, она была личностью незаурядной — ей просто не попался в жизни настоящий мужик, который бы носил ее на руках, но иногда и порол. Так что ей приходилось самой придумывать себе мужчин — одни ее некоторое время носили на руках, но без порки она распускалась, и они бежали от нее быстрее лани, другие старались все чувства заменить поркой — с ней это не проходило.
Сонечка завершила скорбную речь, и все потянулись к рюмкам и поднимали их, разъясняя друг дружке, что чокаться нельзя, потому что пьют за покойницу. Тут кто-то вспомнил, что не поставили рюмки самой Аленке, стали искать пустую рюмку, никому не хотелось жертвовать своей, потом из кухни принесли пустой стакан, наполнили его водкой и сверху положили кусочек черного хлеба.
— Вы так и не представились, — Константин со вкусом выпил свою рюмку, но закусывать не стал.
— Лида, Лида Берестова.
— Очень приятно. А я наследник.
— Я вас не поняла.
— Меня трудно понять без перевода, — улыбнулся Константин, но объяснить ничего не успел, потому что Соня опять стала звенеть по стакану вилкой и объявила, что слово предоставляется любимой учительнице Алены, Клавдии Эдуардовне.
Поднялась физкультурного облика блондинка с волосами, затянутыми назад в пучок с такой силой, что глаза разъехались и омонголились. Физкультурница, которая преподавала литературу, тут же начала рыдать, а ученицы вскочили, чтобы дать ей воды и успокоить.
— Кому и в чем вы наследовали? — спросила Лидочка.
— Я наследовал Маргарите Семеновне Потаповой, это имя вам что-нибудь говорит?
Это имя очень многое говорило Лидочке.
— Извините, я вас не совсем поняла. Вы — родственник Маргариты?
— Нет, даже не родственник.
Тут начала говорить сама Татьяна. Она говорила о безутешной доле матери, потерявшей единственного ребенка. Женщины плакали.
Но уже во время ее речи общий шум за столом, невнятный, приглушенный теснотой комнаты и низким потолком, начал расти так, что к концу речи Татьяне пришлось повысить голос.
— Я бы не приехал, — сказал Константин, — если бы не дурацкая заметка в «Московском комсомольце». Я сначала даже не сообразил, о ком идет речь. А узнал — искренне огорчился.
Татьяна рыдала, ее отпаивали валерьянкой. Разговоры за столом стали громче и веселее. Кто-то вспоминал школьные времена. Лидочка только сейчас поняла, насколько одноклассники перевешивают здесь числом всех других знакомых Алены. Она поняла, что в классе Алена была первой красавицей, а в институте ее первенство уже стало испаряться. На службе круг ее общения ограничивался несколькими сослуживцами. Зато с одноклассницами она поддерживала отношения — благо большинство осталось жить по соседству, и они продолжали бегать друг к дружке на дни рождения и на крестины. Стоило выйти на улицу — кого-то обязательно увидишь. Может, потому Алена так и сдружилась с Соней, что та тоже училась в ее школе.
Константин поднялся, сказал, что пойдет на кухню покурить. К Лидочке тут же привязалась Роза, которая полагала себя Лидочкиной подругой.
Таинственный Константин, которого следовало расспросить, не возвращался. Наконец Лида не удержалась и пошла на кухню его искать. На кухне было тесно, душно и в то же время дуло от открытого окна — как у Лидочки дома во время обстрела. Вокруг шумно говорили, выясняли отношения, спорили, объяснялись в любви — никому уже и дела не было, по какому скорбному поводу они здесь собрались.
Константина на кухне не оказалось. В поисках его Лидочка вернулась в комнату, в дверях столкнувшись с Татьяной. Татьяна Иосифовна была бледна — видно, плохо себя чувствовала или перепила. Соня протянула Татьяне пачку, та взяла сигарету и закурила.
— Я бы сейчас легла, — сказала она, — но это физически невозможно.
— Может быть, пойдем ко мне? — спросила Лидочка.
— Нет, далеко, мне не дойти.
Тут же подвернулась маленькая Роза. Она умела подворачиваться в нужный момент.
— Татьяна Иосифовна, пошли ко мне, баиньки будем.
— Куда? — строго спросила Татьяна, от усталости и горя ставшая еще более объемной и приземистой. Лидочка поняла, кого она ей напоминает — царицу Софью с какого-то исторического полотна, царицу Софью в монастыре. Та же бесформенная фигура и тупое отчаяние во взоре.
— Роза живет на этой лестничной площадке, — сказала Лидочка, понимая, что предложение Розы разумно и спасительно.
— Я никуда не пойду и предпочитаю умереть здесь, — заявила Татьяна.
— Ты поможешь мне ее отвести? — спросила Роза. — А то она меня задавит, как свинья вошку.
— Ах, какое гадкое сравнение! — возмутилась Татьяна. — Проводи меня, Лида, я хочу спать, у меня нет сил. Я хочу спать.
Непомерной тяжестью Татьяна оперлась о Лидочку, Роза без пользы суетилась с другой стороны. Они миновали прихожую и вышли на лестничную площадку. Тут Татьяна начала оседать, ноги ей отказывали. Буквально волоком Лидочка перетащила ее к Розе. Она хотела бежать за помощью, но тут им навстречу вышел невысокий квадратный человек с очень короткими кривыми ногами, затянутыми в тренировочные брюки — муж Розы. Так что теперь у Лиды появился помощник.
Роза постелила Татьяне на диване в большой комнате и велела мужу выключить телевизор, чем он был недоволен.
Муж ушел, а Лидочка, начав раздевать Татьяну, увидела, что той стало плохо. Роза быстро побежала за тазом…
Прошло, наверное, чуть более получаса с тех пор, как Лидочка покинула квартиру Алены, за это время Татьяна Иосифовна заснула.
Лидочка поспешила обратно — она не хотела упустить Константина. Ей казалось, что он может рассказать что-то нужное. На кухне Константина не было, не сидел он и за столом. Некоторое время Лидочка утешала себя надеждой, что он скрывается в ванной или туалете. Но вскоре от этой мысли пришлось отказаться.
Лидочка спросила про Константина у Сони, которая сидела на кухонном подоконнике, обнявшись с подружкой. Они пели в два голоса романс «Калитка», написанный, как известно, великим князем Константином, и никак не прореагировали на Лидочку.
— Соня, — снова повторила Лида, — ты не видела, Константин ушел?
— Какой Константин? — недовольно бросила Соня, которой испортили песню.
— Такой вот… на собаку похожий.
Сонькина подружка хихикнула.
— Лет сорока-пятидесяти, грузный. Он мне сказал, что он наследник Маргариты.
Сонька пожала плечами.
— Неужели ты его не знаешь?
— Никогда не видела. А откуда он узнал про Аленку?
— Говорит, что прочел в «Московском комсомольце».
— С такими надо быть осторожными, — заметила подружка, — такие приходят, все высматривают, а потом убивают.
— Здесь уже некого убивать, — сказала Лидочка.
— Всегда есть кого убивать, — возразила подруга.
— Я спрошу у Татьяны, — предложила Лидочка и тут же вспомнила, что сама только что уложила Татьяну спать.
— Спроси, — равнодушно заметила Соня. — Авантюрист какой-то.
Она слезла с подоконника.
Она тоже будет толстой, как Татьяна, подумала Лидочка.
Лидочка возвратилась в комнату. Там стало свободнее, потому что присутствующие сгрудились по группам — однокашники, соученики по институту, сослуживцы. Каждый говорил о своих делах.
Соня, которой испортили песню, прибежала из кухни и спросила, кто будет пить чай, а кто — кофе. Но на нее закричали, что еще не все выпито и Алена обидится, если они так рано уйдут. Соня выругалась себе под нос и снова ушла на кухню. Ей с трудом давалась роль хозяйки дома — она была большой лентяйкой.
Лидочка не стала ждать, пока допьют водку. Она тихонько ушла. На лестничной площадке тоже стояли люди и пьяными голосами выясняли отношения. На Лидочку никто не обратил внимания.
Шел густой, вялый снег, и оттого было очень тихо.
Лейтенант Шустов поджидал Лидочку на улице. Он курил, Лидочка сначала увидела красный глазок сигареты и потом — темную фигуру. От усталости ей даже не было страшно.
— А я кончил дежурство, — сказал он, забыв поздороваться, — и решил погулять, свежим воздухом подышать. Как прошли поминки?
Лидочка не удержалась и засмеялась.
— Вы чего?
— Так спрашивают о субботнике.
— А как еще спросить? — почему-то обиделся Шустов. — Как вам рыдалось?
— Не старайтесь быть грубым.
Они пошли к площади Тишинского рынка. Лидочка была благодарна лейтенанту, что пришел встретить.
— А сегодня опять на Петрика покушались, — сказала она лейтенанту.
— Знаю, — ответил тот. — На Александра Петренко. — Он не договорил — она поняла: «Поэтому вас и встречал».
— Он уедет?
— Черт его знает. Может, его и там достанут. У него долги. Неплатежи. На него наезжали, но пока безрезультатно. Хотя обычно они не успокаиваются.
— А вы их знаете?
— Заказная работа.
— Мне странно, — сказала Лидочка, — как я попала в эту историю. Как бы с двух сторон, а сошлись в крематории — Петренко и Алена.
— Петренко пока живой, — возразил лейтенант.
Их обогнала медленно ползущая патрульная машина.
Лейтенант увидел, поднял руку, показывая — проезжайте. В тишине сквозь завесу мягкого глухого снега было слышно, как в машине засмеялись.
— А что будет с Осетровым? — спросила Лидочка.
— Прокурор завтра даст ордер на его арест.
— Разве это так нужно?
— У прокурора свои дела, он не уверен в себе, хочет отличиться.
— А вы думаете, что ее убил Осетров?
— Ничего я не думаю. Меня другое интересует.
Несколько шагов они прошли молча — видно, лейтенант надеялся, что Лидочка задаст ему вопрос: что же интересует лейтенанта. Лидочка не задала вопрос, и Шустову пришлось отвечать самому.
— Меня интересует, — сказал он, — почему Алена не оставила прощального письма.
Лидочка отметила, что он тоже стал называть погибшую женщину Аленой, как и все.
— А разве это обязательно?
— Для таких особ, как Алена, практически обязательно. Если кончает с собой молодая женщина, да еще от несчастной любви, она обязательно оставляет письмо. Человечество должно знать, почему и кого оно потеряло.
— Не старайтесь выглядеть циником.
— Я говорю правду, а вы делаете вид, что мир построен из шоколада.
— Я хотела бы, да кто мне даст? И что вы думаете о письме?
— Вернее всего, объяснение самое простое — Осетров приехал к ней ночью, увидел тело, перепугался, потому что в письме, разумеется, говорилось о его вине. «Прошу в моей смерти винить бывшего работника ЦК КПСС, соблазнителя невинных девушек, товарища Осетрова».
Лидочка поморщилась, но не стала снова придираться к словам лейтенанта. Может быть, ему именно этого и хотелось.
За ярко освещенным окном бывшего обувного магазина стояли американские автомобили. Снег перестал, но не растаял и искрился под фонарями — дневная грязь была прикрыта им, как белой простыней. Этот образ преследовал Лидочку и не означал чистоты или непорочности — наоборот, он пугал тем, что скрывается под простынкой.
— Вы не думаете, что он ее убил, — сказала Лидочка.
— Маловероятно. Я и следователю сказал, что маловероятно. Для этого надо придумать душещипательную сцену — он приходит к ней, и она ему говорит, что, мол, больше не могу терпеть двусмысленности своего положения! Я намереваюсь покончить с собой… Вы меня слушаете?
— Разумеется, Андрей Львович.
— Хорошо, говорит тогда Осетров. Кончай с собой, любимая. Но он знает при этом, что на самом деле ей очень хочется жить. И самоубийство будет условным.
— Вас убедила в этом Соня?
— И ее мать. Они обе мне сказали, что Алена и раньше обращалась к таким методам воздействия на мужчин, когда проигрывала битву. Она не знала, что подобные психозы всегда плохо кончаются. Об этом давно известно в судебной психиатрии. В один прекрасный день красавица принимает слишком много таблеток и засыпает навсегда.
— Но с чего вы решили, что она вообще пила эти пилюли? Может быть, они пили чай, и Осетров подсыпал ей яду.
— Я об этом подумал, но наш патологоанатом разрушил эту версию. Помимо цианистого калия она приняла и достаточно снотворных, чтобы проспать двое суток.
Они свернули в переулок. В переулке было очень тихо. Так тихо, что Лидочке сразу вспомнилось раннее утро и звук тормозов машины, подъехавшей к дому.
Лейтенант поддержал ее под локоть. Это было излишней заботой, но глупо вырывать локоть у представителя закона, пока он не начал целоваться.
— Ну и что же, — упрямилась Лидочка. — Она ему говорит: смотри, как я погибну у тебя на глазах. И начинает… Нет, не получается.
— Вот именно.
— Значит, вам кажется, что Осетров тут ни при чем?
— Я так не сказал. Но я с ним поговорил. Это человек холодный и пуганый. Они в ЦК все пуганые. Но он мог ее по голове чем-нибудь стукнуть, даже задушить. Но сыпать ей яд в чашку… кстати, и чашки не было.
— Они что же, чай не пили?
— Вы начитались иностранных романов, Лидия Кирилловна. В шесть он забегает к ней с хозяйственными сумками, на пять минут, чтобы отговорить от глупостей, и просит не звонить ему домой по телефону. Она еще жива. Вы не представляете, сколько мы ее окурков в квартире нашли. Она весь вечер была жива. Ходила по квартире, курила, наливалась ненавистью слабого человека — а как слабый человек мстит? Он обижает, убивает сам себя — смотри, что ты, подлец, наделал! Наконец уже ночью она позвонила ему и сообщила, что она себя убила. Он мчится к ней. Он зол, как последняя собака, — вот тут он мог бы ее пристукнуть или задушить. Может, даже мечтал задушить! Но когда увидел, что она на самом деле мертва, то растерялся — уж этого он никак не ожидал. Даже когда испугался, все равно не верил. И он начал вести себя как обыкновенный неопытный преступник.
— Все же — как преступник?
— Он сам себя таковым считает. Он ее довел до смерти. Ведь не вы, не я, а он довел, значит, он — преступник.
— Но он ее не убивал!
— Это дело второе. Вы сейчас говорите о масштабе преступления. Так вот, будь он христианином или люби ее на самом деле — он бы вызвал милицию, он бы покаялся. А тут мы имеем дело не с христианином и не с моральным человеком, а с работником аппарата ЦК.
— Вы обобщаете.
До ее дома оставалось метров сто, они замедлили шаги. Шустов хотел договорить, а Лидочке было интересно его слушать.
— Как неопытный преступник, он начинает совершать ненужные действия, которые его и выдают. Он стирает повсюду отпечатки пальцев. Так что, когда я попросил Красильникова проверить комнату, оказалось, что все вытерто, будто воры поработали в перчатках. Ну какого черта любовнику стирать отпечатки пальцев, а заодно не только свои, но и Аленины?
— Глупо, — согласилась Лидочка.
— Это сразу же бросает на него подозрение.
— Бросает.
— Потом он решает вообще изъять все следы своего пребывания в доме. А так как он к ней ходит давно…
— Вам и это известно?
— А почему бы и нет? Всей Москве известно, а мне неизвестно?
— Продолжайте, сэр.
— Раз он ходит к женщине три года, а она живет одна, то постепенно в ее доме накапливаются его вещи и вещицы, а может, и его некрупные подарки. Он бегает по квартире и уничтожает следы своей дружбы… — Лейтенант остановился, достал сигареты, закурил и, не двигаясь с места, заметил: — Вообще-то говоря, мне этот Осетров как человек не нравится, холодный, но суетливый.
Лидочка кивнула.
— А куда ему все спрятать? Тут он видит ту самую вашу шкатулку. Как неопытный преступник, он высыпает из шкатулки пуговицы и нитки и сует туда свою зубную щетку, письма и открытки. Вы знаете, что ни писем, ни открыток от него не обнаружено? А это тоже характерный признак. Ну, не может так быть, чтобы он в лучших традициях большевистской конспирации ни строчки ей за три года не написал!
— Значит, он ликвидировал свои следы…
— И обратите внимание, Лидия Кирилловна, он же принес шкатулку — единственную чужую и не нужную никому вещь… Но ведь то, что было в шкатулке, он уже утопил… Или спрятал на нижней полке шкафа.
— Кстати, — заметила Лидочка, чувствуя, что подошло время расстаться — ей уже хотелось поскорее спрятаться в свой домик, где с утра комендант Каликин вставил второе стекло в кухонное окно. Она очень устала за день. Не столько, конечно, физически, как от постоянного и неприятного нервного напряжения. — Кстати, когда вы мне отдадите шкатулку? Тем более что на нее нет хозяина.
— Я должен ее пока придержать, — без особой уверенности в голосе сказал Шустов. — Он же ее добровольно выдал.
— Потому и выдал, что она никакой ценности для него не представляла и ему не принадлежала.
— Но где доказательства, что она — ваша?
— Я об этой шкатулке уже неделю всем талдычу. Я познакомилась с Татьяной Иосифовной и Соней только из-за этой шкатулки. Я даже стала поверенным чувств этого семейства из-за шкатулки. Ну как я могла сообразить, что Алена покончит с собой раньше, чем я успею забрать у нее мою шкатулку?
— Хорошо, я подумаю, — ответил Шустов. — Вы мне завтра позвоните?
— Когда?
— С утра, хорошо?
— И вы мне вернете шкатулку?
— Вообще-то говоря, ее должна опознать Татьяна Иосифовна.
— Она ее в глаза не видела!
— Ну что я тогда могу поделать?
— Поговорите с Соней. Это именно Соня сказала мне о шкатулке. Она помнит ее, она ее узнала по моему описанию…
— В такие моменты жизни женщин волнуют шкатулки, коробки, иголочки… — с напускным презрением заявил Шустов.
— Что ж, так мы, женщины, устроены. Поэтому мы остаемся низшими существами на этой планете.
Шустов неловко засмеялся — ему показалось, что он обидел спутницу. Лидочка не стала его переубеждать.
— Я завтра вам позвоню, — обещала она и убежала в подъезд.
В подъезде Лидочка обернулась — сквозь стекло двери было видно, что лейтенант не спешит уходить — ждет, закуривает.
Поднявшись к себе, Лидочка сразу пошла к кухонному окну.
Не зажигая света, она приблизилась к стеклу и помахала лейтенанту, который смотрел на окно. Тот, угадав Лидочку, поднял руку, помахал в ответ, выкинул в снег сигарету и быстро зашагал прочь.
Глава 7
Где осетров?
Когда Лидочка позвонила Шустову утром в понедельник, Соколовская сказала, что он забегал в самом начале дня, а потом уехал на происшествие. Соколовская сообщила это особенным официозным голосом, призванным дать понять неким много себе воображающим особам, что свет не сошелся и никогда не сойдется клином именно на них — у настоящего мужчины найдутся дела и поважнее. По сути дела, Соколовская была права — смерть Алены Флотской была лишь одним из многочисленных эпизодов деятельности лейтенанта. Тем не менее Лидочка почувствовала раздражение против Соколовской. Ведь Лидочке лишь нужна собственная шкатулка, которую Шустов вряд ли сможет ей отдать, потому что теперь она перешла в разряд вещественных доказательств.
Так и не узнав у Соколовской, когда лейтенант возвратится, Лидочка сгоряча хотела было позвонить Соне, чтобы упросить ту воздействовать на Шустова. Соня же, словно почувствовала, что Лидочка разыскивает ее, и позвонила сама.
— Ну как ты? — спросила она, не представляясь, словно подружка, выясняющая, не ломит ли у тебя голову после вчерашней попойки. Но Лидочка уже начала привыкать к Сониной бесцеремонности. Конечно, можно бы произнести в этом случае сакраментальную фразу о грубой оболочке, которая скрывает тонкую и трепетную натуру, но это было бы бесполезно, так как Лидочка понимала, что Соня предпочитала общаться с миром, выпустив коготки, потому что ничего хорошего от него не ждала.
— Спасибо, хорошо.
— Чего вчера так рано ушла?
— А почему мне надо было оставаться?
— А мы неплохо посидели, — сказала Соня. — Так ведь, без несчастья, и не увидишься. Жалко даже, что Аленки с нами не было — она была бы довольна.
Соня не притворялась. Она и на самом деле предпочла бы увидеть Алену на ее же похоронах — посидели бы вместе.
— У тебя ко мне какое-нибудь дело? — спросила Лида.
— Я не вовремя позвонила? — Соня сразу насторожилась, она уже была готова обидеться.
— Нет, вовремя, я не занята, не надувайся заранее, — ответила Лидочка. — Просто я сама собиралась тебе звонить, потому что надо посоветоваться.
— Давай говори, у меня срочных дел нет.
— Я тебе говорила, что Осетров сдал в милицию шкатулку?
— Ага. Он в ней свои драгоценные подарки и запасные подштанники унес. Знаю, знаю.
— Но как честный человек…
— Как честный коммунист!
— Не перебивай старших. Он принес пустую шкатулку и отдал Шустову по принципу — мы чужой земли не хотим.
— Значит, с концами — теперь этот Шустов ее сопрет, и потом они ее спишут. Так всегда бывает. Только ты свою коробку и видела!
— Иногда милиция не так ужасна, как тебе представляется, — возразила Лидочка. — Шустов рад бы вернуть мне, но не знает, как это оформить. Ведь на шкатулке не написано, что она — моя.
— Ты думаешь, что если я скажу Шустову, чтобы он тебе шкатулку вернул, потому что в частных беседах с покойной мы неоднократно этот вопрос обсуждали и нас останавливало только то, что мы забыли твой адрес, он сразу же тебе шкатулку отдаст?
— Примерно так.
— Черта с два — отдаст! Ведь Аленка не знала, что это твоя шкатулка. Откуда ей знать? Ей от бабушки досталась коробка — я сама об этом узнала, только когда мы с тобой у Татьяны были. И я не спешила признаваться — сначала хотела с Аленкой посоветоваться — отдавать или оставить. Я тебе потом, помнишь, лапшу на уши вешала, будто Татьяна испугалась.
— Извини, я снимаю свою просьбу, — сказала Лидочка. Соня была права. И просить Соню сказать неправду Лидочка не хотела.
— Лида, послушай моего совета. Тебе этот лейтенант симпатизирует. И не спорь — по глазам видно. Красавчик рад был бы тебя трахнуть, пока твой муж в командировке. Так что не теряй времени. Дай ему, и шкатулка твоя!
— Соня!
— Надо шутки понимать. Но дело не в этом. А дело в том, что Шустов придумает что-нибудь, чтобы эту шкатулку тебе отдать — кому она нужна? Включая тебя.
— Но для меня она — символ. Символ того, что я все же отыщу вещи деда.
— Позволь тебе не поверить. Но делай, как знаешь. И Шустову не говори, что со мной разговаривала. То, что знают двое, — тайна. То, что знают трое, — газета. Я ничего не слышала, ничего не видела и ничего не скажу, как Зоя Космодемьянская. Подлизывайся к лейтенанту, говори, что в любой момент можешь получить подтверждение от меня, Татьяны, черта полосатого…
— Может быть, ты и права.
— Я всегда права. У меня жизнь нелегкая.
— Я тебе могу чем-нибудь помочь?
— Беда невелика, но для меня — проблема.
— Расскажешь?
— Вообще-то, не телефонный разговор.
— Нужны мы с тобой кому-нибудь!
— Хотя пускай слушают. В общем, мы с Аленкой собирались в круиз по Средиземному морю: Турция, Греция, Каир, Святая земля и домой. Чтобы на мир поглядеть и немного прибарахлиться. Все мы люди небогатые, я тебе скажу, деньги были очень нужны. Аленка даже к своей мамаше метнулась — та ее послала куда подальше. Ну, сама виновата, я предупреждала — на Татьяну где влезешь, там и слезешь. В общем, я для нее достала три сотни баксов у Петрика. Ну, тогда Петрик был на коне, а теперь он сам хочет смотаться.
— Петрик тебе одолжил?
— Он отстегнул мне деньги, даже не считая. А теперь надо бы вернуть. Как ты сама понимаешь, эти денежки спокойно лежали у Аленки — сдавать их на той неделе, до круиза еще почти месяц. А когда я утром к Аленке попала и увидела, что она померла, я так перепугалась, ну прямо в шоке была, я о деньгах и не подумала. Понимаешь?
— Понимаю.
— А уже вчера утром мне Петрик позвонил и спросил, как баксы. Ну, он в кризисе, его тоже понимать надо. Сейчас я уже себя прокляла.
— Почему прокляла?
— Вчера я сказала Петрику, что я ему деньги верну. Я же знаю, где Аленка деньги держит. У нас с ней тайн не было. Под вешалкой в коробке с гуталином — по принципу Шерлока Холмса — прячь на виду, где грабителю в голову не придет искать.
— А их там не оказалось.
— А откуда ты знаешь?
— Иначе зачем ты мне всю эту историю рассказываешь.
— Их там не было. С ума сойти! Но ты понимаешь, что это не мог сделать чужой?
— Да, наверное, он бы все перевернул…
— Есть три кандидатуры. Первая — твой лейтенант!
— Разве они обыскивали квартиру?
— Насколько мне известно — нет. Я вчера с кладбища прибежала самой первой, чтобы готовить, там двое наших из института были, а Татьяна с нами в крематории. Так что я посмотрела под вешалкой — пусто. Это не оправдывает лейтенанта — конечно, он мог это сделать. Но он должен был догадаться о коробке под вешалкой. И о том, что у Аленки баксы есть.
— Маловероятно, — сказала Лидочка. — Вторая подозреваемая у тебя Татьяна Иосифовна.
— А почему бы и нет? — агрессивно откликнулась Соня. — Чем она лучше других?
— Ей под вешалку не залезть.
— Ты знаешь, Лид, я то же самое подумала — ей надо на пол сесть и ползти. Согнуться эта тумба не сможет. К тому же она видалась с дочкой раз в году, а то и реже. И они друг дружку не выносили как кошка с собакой. Даже если Татьяна что и подозревала… Впрочем, не исключено!
— И подозреваемый номер раз — Осетров, — сказала Лидочка.
— Номер ноль! Ты думаешь, он не знал про коробку? Да я сама слышала, как он уговаривал Аленку найти для ухоронки более достойное место. И наверняка он знал, сколько у нее там спрятано. Да в конце концов — почему ей от него скрываться, если он все время делал вид, что не сегодня-завтра на ней женится. Кинет свою недокормленную галошу и женится на нас, прекрасных, молодых.
— Ты думаешь, что он ночью…
— Я уверена. Я так и вижу — он шастает по квартире, ледяная душа, перешагивает через Аленкин труп, свои подштанники собирает, открытки из Гонконга, чтобы следов не оставалось — в лучших традициях ЦРУ стирает отпечатки пальцев…
Здесь Соня оказалась догадливой, как Нострадамус.
— А потом вспоминает, что под вешалкой лежат баксы. И он спокойненько берет деньги и думает: кто теперь будет спрашивать с Алены? Хотя отлично знает, что это я брала для нее у Петрика, а Петрик — не сахар, не пай-мальчик. Он свое всегда получит. А с кого он будет получать, если у меня такое материальное положение? С девочки по имени Софья-мученица. Скажи, Лида, почему человеку так не везет в жизни?
— Но вряд ли Петренко будет иметь к тебе претензии.
— Дорогая моя Лидия, у меня такое впечатление, что ты провела детство и юность где-то в райских кущах, где мальчики не обижают девочек и даже не таскают их за косички. Почему Петрик будет меня жалеть?
— Ну вы же с ним вместе учились, он твой приятель.
— Слушай, когда это было? В третичном периоде. Романтическое увлечение в десятом классе, когда можно было потискаться на дискотеке. С тех пор прошло миллион лет, и возникло новое поколение любимых женщин.
В голосе Сони звучала искренняя горечь. Видно, для нее миллион лет пролетел слишком быстро.
— Ты боишься, что он тебя заподозрит?
— Ему не нужно меня подозревать. Это его бабки, я должна их вернуть. Все ясно, как в газовой камере. Может быть, эти триста баксов для Петрика сейчас — мелочовка, семечки, а может быть, именно их ему не хватает, чтобы вырвать когти из навоза. Только я об этом никогда не узнаю — удар в сердце, и справедливость торжествует.
— Соня, ты порешь чепуху. Ну хочешь, я поговорю с Петриком?
— О чем? О звездах и луне?
— Я наберу как-то эти триста долларов.
— Чтобы я потом была твоим неоплатным должником? Нет уж, дудки! Лучше пускай меня прирежут в переулке. От руки бывшего возлюбленного… Ах ты, Петрик, ах ты, сукин сын, опять по химии двойку схватил! — Соня говорила, как пьяная, но была не пьяна, а близка к истерике. От злости, унижения и страха. Она в самом деле очень боялась, что с нее спросят пропавшие деньги. И, конечно же, это был не просто долг — какие-то бывшие, а может, и не до конца прошедшие отношения с Петриком, который дал ей в долг значительную сумму, влияли на настроение Сони. Обрати внимание, сказала себе Лидочка, ведь просила у богатого Петрика не Алена, а ее подруга.
— Господи, как она меня подвела, как она меня подставила! — закричала в трубку Соня, и тут же раздались короткие гудки.
Конечно, обидно, очень обидно. Любому было бы обидно, думала Лидочка, кладя трубку на рычаг. Ты несешься к ее матери, чтобы спасти подругу от опасности, от срыва… а та умирает и оставляет тебя расхлебывать ее дела… Лидочка поймала себя на том, что даже думает словами и образами Сони.
Соня позвонила снова минут через пять. Она все еще всхлипывала. Она попросила прощения за срыв, потом выразила желание собственными руками задушить Осетрова. Убить женщину, которая ему отдавала все, и потом ограбить ее. Ну последний подонок, ну самый последний коммуняка!
Лидочка не хотела спорить. Единственно, чтобы восстановить справедливость, возразила:
— Шустов не думает, что Осетров убил Алену.
— С чего это он оправдал его? Однопартийцы?
— Нет, он считает, что Осетров вел себя не так, как должен был вести себя убийца.
Лидочка слышала свой голос и понимала, насколько наивно и неубедительно звучали ее слова.
— Шустов, конечно, лучше меня знает, как себя ведут убийцы. Но пускай он предложит нам другую кандидатуру. Хоть какую-нибудь! Где тот человек, который мог прийти ночью к Аленке, которого бы она, при ее трусости, пустила бы в дом, которому позволила бы подсыпать себе в кофе или чай отравы… нет, ты только представь! Я такого человека не знаю.
— Я уж тем более не знаю.
— Значит, методом исключения, ее убил Осетров. Сначала морально раздавил, измучил, а потом и убил. Все ясно как божий день.
— Слишком просто получается, — возразила Лидочка.
— Слишком просто для тех, кто начитался Рекса Стаута. Ты лучше спроси у своего Шустова — он скажет, что все русские убийства раскручиваются через полчаса. Если они, конечно, бытовые, семейные. Деньги или не уважил. А вот если заказные — они никогда не найдут. Кто в Петрика стрелял — каждая собака знает. Это аварцы, которых Китайчик нанял. И что? А ничего.
— Осетров не произвел на меня впечатления убийцы.
— Ну вот! — Соня тяжело вздохнула. — На тебя не произвел! Да если бы он производил, его бы никогда в ЦК не взяли. В ЦК нужны такие убийцы, которые с первого взгляда не похожи на убийц.
Так как Лидочка промолчала, Соне пришлось довести атаку до конца.
— В любом действии, я скажу тебе, есть человек, которому оно выгодно. В любом преступлении надо искать того, кому это нужно. Из всех знакомых Аленки лишь Осетрову Аленка мешала. Угрожала спокойствию. И к тому же у него была возможность — мы с тобой за городом, даже Петрик, хоть он и ни при чем, — в больнице. Кому нужно убивать беззащитную и безобидную бабу, кроме любовника, которому она надоела? Уж не нам с тобой! Ты свою шкатулку искала, я свои триста баксов ждала с прибылью в тридцать процентов. Дождались, коммерсанты…
С Соней было трудно не согласиться, Лидочка понимала, что ни она, ни лейтенант Шустов всей сложности жизни Алены, всех ее отношений не знают и знать не могут. Может, даже и всезнающая Соня далеко не такая всезнающая, как самой себе кажется.
— Так чего ты мне звонила? — спросила Лидочка.
— Ты не очень вежливая.
— Я рада бы тебе помочь, но не знаю как.
— Но если в самом деле меня прижмет так, что возникнет угроза для моей жизни, ты мне сможешь на короткое время ссудить триста баксов?
— Я постараюсь.
Все это было похоже на дамский роман с переживаниями, хотя переживания — триста долларов, потерянные из-за смерти подруги, — не очень подходили для изящного романа.
— Соня, прости, но я жду звонка…
— Все понятно. Мне предлагают закрыть дверь с внешней стороны.
Соня повесила трубку.
Так как у Лидочки все равно не было сейчас под рукой трехсот долларов, да и не была она убеждена в том, что Соне на самом деле грозят какие-то страшные беды, то Лида выкинула из головы историю с пропажей денег и села работать, время от времени позванивая Шустову, но там никто не подходил. В три часа Шустов взял трубку. Он был озабочен, почти сердит, и Лидочка сразу забыла заготовленные укоризненные фразы. Оказывается, как объяснил лейтенант, в доме на Малой Грузинской местный тихий алкаш озверел без выпивки, залез к соседу по квартире, а тот проснулся, стал кричать, и алкаш зарезал соседа и его жену с маленьким ребенком.
Эту историю Лидочка выслушала еще раз, когда пришла к Шустову через полчаса.
— А он, понимаете, достал из холодильника бутылку и упился до бессознательного состояния. Он и сейчас дрыхнет — а потом будет клясться, что ничего не помнит. А сколько крови — вы бы поглядели…
Лидочка видела, как удручен милиционер, и потому не мешала ему выговориться. И милиционеру порой нужен собеседник, который умеет слушать и, главное, сочувствовать. Лидочка этим качеством обладала.
— Ну ладно, — сказал Шустов. — Хватит. Простите, что я такой сегодня. Все наперекосяк.
Он поднялся, открыл рыжий железный шкаф. Шкатулка лежала в нем на боку, иначе не помещалась.
— Кстати, — сказал Шустов, доставая шкатулку, — прокурор дал ордер на арест Осетрова.
— Для вас это неожиданность?
— Нет. Хотя я остаюсь при своем мнении — не похоже, чтобы Осетров это сделал. Но ряд улик указывают на него. Да и, честно говоря, просто некому больше было на это пойти.
— У него был мотив и удобные обстоятельства, — повторила чужие слова Лидочка.
— Вот именно. У вас мешок или сумка есть? Куда положите свой сундук?
— Мне неловко, что из-за меня вы, быть может, нарушаете какие-то инструкции, — произнесла Лидочка, понимая, что зря она это говорит — сейчас лейтенант спохватится и поставит шкатулку обратно в шкаф.
— Инструкции придумывают люди, — наставительно сказал милиционер, — и они не умнее нас с вами. Что мне с этим сундуком делать? Вы мне расписку оставьте и держите сколько нужно. Обязательно укажите в ней размер и материал. Если объявится другой владелец, тогда и посмотрим. Но чтобы по первому моему требованию возвратить, ясно?
Все-таки он подумал о расписке — доверяй, но проверяй, а она полагала, что Шустов немного в нее влюблен и готов ради ее прекрасных глаз забыть о формальностях.
Лидочка уселась за стол Инны Соколовской, чтобы написать расписку, а Шустов между тем стал сочинять какой-то отчет. Он так углубился в работу, что с трудом оторвался, даже удивился, увидев, что Лидочка стоит перед ним и протягивает ему расписку. Он принялся ее читать, в этот момент дверь отворилась, и в кабинет заглянула женщина.
— Здесь лейтенант Шустов? — спросила она.
— Я лейтенант Шустов, — ответил Шустов, продолжая читать расписку.
— Я Осетрова. Галина Поликарповна Осетрова. Это вам что-то говорит?
Лидочка не сразу сообразила, что видит жену страшного соблазнителя. Потому что придумать более безобидное, серое и даже робкое создание было невозможно.
Жена Осетрова была выше среднего роста, но так худа и сутула, что казалась совсем маленькой, и глаз непроизвольно искал палку или даже клюку, которая бы ей подходила. Когда она говорила, то обнажала золотые зубы, что было уж совсем странно для супруги такого ответственного работника.
— Осетрова? — повторил Шустов, не сразу связав эту женщину именно с тем Осетровым.
— Да. Я — супруга Олега Дмитриевича Осетрова.
— Ах да, конечно, садитесь.
Шустов был настолько удивлен, что забыл о правиле — сначала отпусти предыдущего посетителя, затем занимайся с новым. Лидочка стояла, отступив к столу Соколовской, на котором стояла шкатулка. Она и не могла уйти, потому что Шустов не успел дочитать расписку.
Сбоку ей хорошо было видно жену Осетрова. Когда-то она была хорошенькой официанткой или продавщицей, с незначительным, добрым, простым лицом и чудесными русыми волосами. Теперь волосы стали пегими, седыми в основании — давно не красилась, — глаза выцвели, кожа потеряла свежесть, да и за ногтями Галина Поликарповна не удосуживалась следить — она была российской женой, давно махнувшей на себя рукой и казавшейся старше своего мужа. Впрочем, вряд ли он выводил ее в свет.
— Ничего, — сказала Осетрова, — я постою.
— Что случилось? — спросил Шустов.
— Мой муж исчез.
Разговор звучал деловито и просто.
— Когда исчез?
— Он вчера уехал на похороны этой… этой…
Женщина проглотила слюну. Видно было, что в ее воображении слова, которыми она именовала Алену, были столь ужасны, что она не могла найти среди них достаточно мягкого, чтобы можно было произнести его вслух.
И тогда Лида поняла: вот кто мог убить Алену, совершенно спокойно, без чувства вины, потому что Галина Поликарповна защищала не себя, но семью, репутацию Олега, все святое, чему она отдавала жизнь.
— Вы обратились в милицию по месту жительства? — спросил Шустов.
— Зачем? — сказала она. — Я же знаю, что вы подозреваете Олега Дмитриевича. Он мне все рассказал. У нас секретов нету.
Неправда, у вас секреты есть. И немало секретов — только в самые отчаянные критические моменты вы забываете о секретах.
— Уже сутки прошли. Почему вы не обратились раньше?
— Я не знала, где он — он же пошел на поминки этой… пошел на поминки и выпил лишнего, домой пришел поздно. А сегодня утром его уже не было.
— Так с ним бывало?
— С мужчинами так бывает.
— Откуда вы знаете, в каком отделении милиции ведется дознание?
— Так она почти напротив жила! — Галина Поликарповна показала в направлении дома Алены, и Лида поняла, что она не раз бывала там, может, даже выслеживала мужа и саму Алену, может, даже мысленно планировала ее смерть.
Видно, эта мысль посетила и Шустова. Неожиданно он спросил:
— Вы разговаривали с ней?
— С кем?
— С Еленой Флотской, с гражданкой, которую убили.
— Я видела ее. Мне достаточно.
— А когда вы с ней разговаривали?
— Не нужно мне с ней разговаривать.
— И тем не менее вы с ней разговаривали. Вы просили ее оставить вашего мужа в покое?
— Товарищ милиционер, я пришла к вам, потому что Олег Дмитриевич пропал. Я всех его знакомых обзвонила. Его нигде нет. Случилось что-то ужасное. А вы сейчас обсуждаете, разговаривала я с этой шлюхой или не разговаривала. Да, разговаривала! Я унижалась перед ней! Я умоляла ее сохранить нашу семью!
— Когда это было?
— В тот вторник.
— В день убийства?
— Какое еще убийство! Ее Бог покарал.
— Вы садитесь, пожалуйста, — сказал Шустов, оглядывая визитершу. О Лидочке он забыл. — Садитесь и расскажите, при каких обстоятельствах вы видели Елену Флотскую.
— Вы с ума сошли! Вы обязаны найти Олега Дмитриевича. Он в опасности! Я знаю!
Галина Поликарповна вдруг почувствовала взгляд Лидочки и обернулась к ней.
— Пускай она уйдет! — потребовала Осетрова.
— Лидия Кирилловна, — опомнился Шустов. — В самом деле! Вы мне позвоните?
— Хорошо. Спасибо. — Лидочка взяла со стола шкатулку. — Я расписку вам оставила.
Она двинулась к двери, но у двери ее догнал голос Шустова. Этого она и боялась.
— Лидия Кирилловна, одну минутку. У меня вопрос к Галине Поликарповне. Вы видите шкатулку в руках гражданки Берестовой?
— Вижу, вижу, — нетерпеливо откликнулась Осетрова.
— Приходилось ли вам видеть эту шкатулку раньше? В вашем доме?
— Нет, не приходилось. Когда же наконец вы начнете со мной говорить по делу?
И в ее голосе прозвучали такие особенные советские командные нотки, что Лидочка вдруг поняла, что Галина Поликарповна не простая мышка, а именно женившись на ней, Осетров прорвался в верхние эшелоны власти. И Лидочка даже представила себе, как эта мышка с чудесными волосами, невеста номер один, дочка члена ЦК, обратила свой лукавый взор на высокого красавца, секретаря комсомольской организации факультета… Какого факультета? Философского? Журналистики? А может, это случилось в МГИМО?
Тут Лидочка, заставив себя прервать поток воображения, закрыла за собой дверь в кабинет Шустова.
Она пошла по коридору, все ускоряя шаги. Мимо дежурного у выхода она почти пробежала — тот даже удивленно посмотрел вслед бегущей молодой женщине, прижимающей к груди большую шкатулку. Выбежав из отделения, Лидочка повернула налево, нашла скамеечку в промежутке между домами и, вытащив из сумки большой пластиковый мешок с изображением обнаженной красавицы, засунула шкатулку внутрь.
«Черта с два я вам ее возвращу, — подумала она, уходя проходными дворами подальше от отделения милиции. — Я ее потеряла!»
Дома Лидочка поставила шкатулку на стол. Это было почти чудом. Если бы в шкатулке что-нибудь оказалось, чудо было бы невероятным.
Отлично зная, что шкатулка пуста, Лидочка все же открыла ее и внимательно осмотрела стенки изнутри, будто там могли сохраниться следы или надпись, показывающая, на каком необитаемом острове зарыт клад.
Клада не оказалось.
Шкатулка была пуста и чиста.
И даже теперь Лидочка не теряла надежды. Она рассуждала так: если ты отыскал в старой шкатулке тетради, написанные, скажем, в начале века и повествующие о какой-то экспедиции, то, будучи интеллигентным человеком, ты эти тетрадки не выкидываешь, даже если шкатулка требуется тебе для хранения драгоценных пуговиц и катушек ниток. Ты вынимаешь чужие вещи и кладешь их на книжную полку. А если там есть и черепки, то, вернее всего, ты их не тащишь сразу в помойное ведро, а складываешь в пакет и суешь в чулан. Тем более такой ход событий вероятен, если шкатулку освобождала от вещей сама Маргарита. Маргарита, даже в тяжелые моменты, не стала бы выкидывать вещи, доверенные ей старыми друзьями.
Оставив шкатулку дома, Лидочка побежала в Госстрах по поводу машины Андрея. Правда, перед уходом она сделала странную для непосвященного человека вещь — она спрятала пустую шкатулку в шкаф под белье. Шкатулка заняла так много места, что пришлось часть простыней вынуть. Лидочка не смогла бы и себе объяснить, почему она так бережет шкатулку.
Возвращаясь из Госстраха, Лидочка из метро позвонила Шустову — не удержалась. Она опасалась, что если отложит звонок, то милиционер уйдет домой.
Шустов оказался на месте.
— Как Осетров? — спросила Лидочка. — Вы его нашли?
— Нет, — ответил сыщик, — судя по всему, ваш Осетров в бегах.
— Но его жена считает иначе?
— Его жена может считать, что ей вздумается. Прошли те времена, когда ей достаточно было поднять трубку и наш министр стоял бы на ушах.
— Значит, я правильно догадалась!
— О чем вы догадались?
— Что папа Галины Поликарповны — бывшая шишка!
— Папа Галины Поликарповны работал в хозуправлении ЦК.
— Папа на пенсии?
— Папа выбросился с шестого этажа, когда стали проверять компартию. Он был одним из распорядителей больших денег. Но нам с вами это неинтересно.
— Нам с вами это интересно, потому что это многое меняет. Вы спрашивали себя, кто имел основания желать смерти Алены?
— Да, но Галина Поликарповна не имела такой возможности.
— Чепуха! — почти закричала Лидочка. — За последние три года она имела тысячу возможностей залезть к мужу в карман, достать оттуда ключи от квартиры так называемой шлюхи и побывать там, когда пожелает.
— Вы думаете, это психологически возможно?
— Ну чему вас учат! Это очевидно, вероятно и очевидно. Муж на изломе — еще толчок, еще удар по карьере, и его выкидывают в консультанты или на пенсию. А ему только-только за пятьдесят. И коммунисты скоро возвратятся к власти. Осетров должен быть чист. У него должны быть хрустальные семейные отношения. И если ради этих отношений мы должны убрать какую-нибудь шлюху, тем хуже для шлюхи.
— Вы слишком категоричны, Лида. Я убежден, что она на самом деле не знает, куда девался Осетров. И это ее беспокоит больше всего.
— Она хочет, чтобы вы ей поверили, что он пропал.
— Пускай тогда она признается, что убила Алену, — наивно предложил Шустов.
— Это все равно бы погубило карьеру ее мужа. Представляете, какое поле для сплетен — Осетров хотел уйти от жены, а жена зарезала любовницу.
— Отравила.
— Жена отравила любовницу! Теперь она в тюрьме ждет расстрела, а Осетров убежал в Монтевидео.
— Куда?
— В Асунсьон.
— Лидия Кирилловна, вы уж, пожалуйста, предупреждайте меня, когда вам хочется пошутить.
— Нет уж, вы сами догадывайтесь!
— Хорошо, постараюсь. У вас еще какие-нибудь вопросы ко мне есть? А то мне надо уходить. Меня ждет следователь.
— Объявляете всероссийский розыск?
— Нет, я к следователю по другому делу, об ограблении. Не думайте, что свет сошелся клином на вашей Алене.
— Она такая же моя, как и ваша. Но вы будете его искать?
— Лидия Кирилловна. Мы имеем дело не с профессиональным убийцей, тем более еще зима не кончилась. Ну куда он денется? Поедет к другу в Саратов?
— У него друг в Саратове?
— Ага, вы тоже попадаетесь в банальные ловушки. Не знаю я, есть у него друг в Саратове или нет. Главное, что в лесу ему не продержаться — он же домашнее животное.
— А если он поедет в Сочи?
— Сомневаюсь. По показаниям его супруги, Осетров покинул дом в лыжном костюме.
— Не может быть! И с лыжами?
— Без лыж.
— Значит, друзья и убежище в Сочи исключаются?
— Вернее всего.
— И надо искать его в охотничьей сторожке?
— Не исключено.
— Поэтому вы и не сочли нужным объявлять розыск?
— Следователь Чухлов — мой старый приятель, — пояснил Шустов. — Никому не нужна лишняя беготня. Он понимает, как и я, что Осетров побегает, побегает и прибежит домой зализывать раны. А жена его отправит к нам.
— А не может быть так, что коммунисты его по своим подпольным каналам переправят в Швейцарию?
— В запломбированном вагоне? — тут Шустов засмеялся. — В лыжном костюме?
— Нет, вы не смейтесь. Я знаю, что у коммунистов есть связи с коллегами за рубежом. У них есть деньги в иностранных банках.
— Это все теория. Но к нашему делу она не относится, — возразил Шустов. — Я думаю, что если бы Осетров был очень нужен партии, его бы не сбросили в отстойник.
— В каком смысле?
— В Тихоокеанский институт. На что им засвечивать каналы, если вся-то возня идет вокруг вышедшего в тираж аппаратчика.
— А раньше?
— Пока был жив и у власти его тесть, он мог рассчитывать на помощь. Тогда бы его жене не надо было убивать Алену. Нашлись бы другие методы, получше и поэффективнее.
— Значит, вы допускаете…
— Лидия Кирилловна, я ничего не допускаю. Я даже не следователь, а простой сыщик. Но я, честно говоря, слабо представляю себе ситуацию, как эта самая гражданка Осетрова сидит вместе с Аленой и пьет с ней чай, пока та принимает таблетки снотворного. А потом говорит: вот у меня здесь еще таблеточка нашлась, добавь к своим.
— Ну а что же тогда?
— А тогда, когда убийство выяснится, окажется все просто. Все убийства выясняются просто.
— Что-то пока вы ничего не выяснили.
— Выясним, никуда они от нас не денутся. Если бы это была люберецкая группировка, или солнцевская, или… скажем, организованная преступность, тогда бы мы махнули рукой. А тут бытовуха. Справимся.
— А знаете ли вы… Я это уже слышала.
— Что?
— Ладно, потом расскажу. Сейчас вам некогда.
Сейчас бы рассказать про триста долларов, которые якобы пропали из квартиры Алены. Ей не хотелось втягивать в это дело и без того пострадавшую Соню. Черт знает, что может сделать этот Петрик, если он узнает, что Соня проболталась Лидочке, а та тут же сообщила в милицию. Может, это окажется тот самый случай, когда милиция разведет руками и скажет: «А что делать? Организованная преступность!»
— Хорошо, до свидания, звоните, если что, — сказал Шустов.
Он умчался по своим, совсем уж чужим делам.
Лидочка понимала, что никому уже, в сущности, нет дела до Алены. Соня теперь больше переживает из-за долларов и сорвавшегося шоп-тура, Татьяна получит квартиру и, возможно, будет далее писать мемуары на Васильевской. У Шустова другие дела, Петрику пора убегать в Швейцарию к своим потайным счетам, что не мешает ему собирать долги по России. Да и Лидочке интереснее узнать, где искать следы содержимого шкатулки. А раз Алена уже не расскажет об этом, придется действовать самой. Лидочка представила, как дух Аленки в ожидании девятого дня, когда можно будет отправиться в чистилище, реет над грешною Москвой, неприкаянный и ни у кого не согревшийся в сердце. Впрочем, может, она несправедлива? Может быть, Осетров сейчас сидит в уголке охотничьей сторожки и обливается слезами, раскаиваясь в том, что довел до смерти свою возлюбленную.
Лидочка вернулась к шкатулке.
Шкатулка была теплой, словно ее недавно держали другие руки.
— Свет мой, зеркальце, скажи, — вслух произнесла Лидочка.
Шкатулка должна помнить, где лежат доверенные ей почти шестьдесят лет назад ценности. Но как заставить ее говорить?
И вновь Лидочка стала строить логическую цепочку, как отыскать пропажу. Если шкатулка нашлась у Алены, то не исключено, что и к Алене она попала с дневниками и находками из Трапезунда. Алена, не зная о ценности, которую они для кого-то представляют, спрятала дневники на антресоли, вряд ли бы она выкинула их на помойку. Обычно люди не выкидывают старые дневники, даже чужие, — суют куда-то в угол. А потом… Лида, не утешай себя. Лишенные защитной шкуры шкатулки, камешки и черепки становятся просто мусором, а дневник — макулатурой. Если Алена набила шкатулку нитками и пуговицами, значит, она считала пуговицы более ценными предметами, чем дневники…
Лидочка позвонила на квартиру Алене, надеясь, хоть и без особых шансов на успех, что малоподвижная Татьяна Иосифовна ее еще не покинула.
Конечно, ставить под сомнение слова откровенной Сони, тем более признаваться в собственном излишнем любопытстве, не следовало. И все же в Лидочке теплилась надежда еще на одно чудо: она спросит сейчас у Татьяны, не заметила ли та, разбираясь в квартире дочери, дневники ее Сергея Серафимовича…
Татьяна подошла на пятый звонок, когда Лидочка уже готова была повесить трубку. Она говорила таким слабым, умирающим голосом, что Лидочку сначала охватил глубокий стыд за то, что она вчера вечером не осталась у Татьяны, чтобы помочь ей убраться или вымыть посуду — вдруг молодежь разбежалась, так и не сообразив помочь старухе?
— Как вы там? — спросила Лидочка. — Как вы себя чувствуете?
— Глупо задавать мне такой вопрос, — ответила Татьяна. — Я по ту сторону усталости. Всю ночь я вывозила грязь, которую они оставили, а потом накачалась реланиумом, так что чуть сама не отправилась на тот свет.
— Вы сегодня не выходили?
— Куда я пойду в таком состоянии, моя родная? Я отлеживаюсь. Жду не дождусь того момента, когда смогу захлопнуть за собой эту проклятую дверь и вернуться к своим рукописям… Ты почему молчишь? Ты думаешь, что я притворяюсь?
— Нет, я так не думаю.
Татьяна глубоко вздохнула. Потом произнесла тихо, словно ждала отказа:
— Лидочка, нельзя ли попросить тебя о маленьком одолжении?
— Я постараюсь вам помочь.
— Я в этом не сомневалась. Лидушка, если ты собираешься выходить, только, конечно же, специально этого не делай, но если ты собиралась выходить, то, пожалуйста, будь добра, зайди в молочный — у меня совсем нет ни молока, ни масла, — мне это очень нужно. Не могу же я питаться рыбными салатами и копченой колбасой, которая осталась от этого нашествия. Можно подумать, что все так голодны, что специально шляются по похоронам, чтобы потом нажраться на поминках. Это ужасно — ведь теперь все расходы обрушились на меня.
— Но теперь вы можете жить здесь, не тратиться на дачу.
— На дачу я и так не трачусь. А эту квартиру я намерена сдавать, на нее миллион желающих, стоило мне сегодня кинуть клич, как все буквально ринулись. Очень престижный район. Как ты думаешь, двести долларов в месяц — не мало?
— Я не знаю, я не сдавала.
— А я непременно сдам, мне нужно каким-то образом поддерживать в себе силы для работы — я обязана завершить мой труд… Так ты не забудешь?
— Я сейчас схожу.
— Я тебе верну деньги. Как только расплачусь со страшными долгами, в которые мне пришлось залезть из-за Аленки… Если будет приличный сыр, возьми немножко. Только в самом деле немножко. А я пока поставлю чай.
По ходу разговора голос Татьяны становился живее, словно, найдя в окружающем мире живую родственную душу, она с ее помощью выкарабкивалась из пучины бедствия.
Когда же Лидочка через полчаса позвонила в дверь, Татьяна не скрывала радости, что видит Лиду.
— Это просто счастье, что ты обо мне вспомнила! — воскликнула она, глотая слезы. Ее рыхлое тело колыхалось, затопляя маленькую прихожую. — А я с утра на кухне — я стараюсь привести все в порядок… наверное, мне потребуется для этого еще двое суток… Но ничего, я справлюсь, я и не с такими бедами справлялась. И мне никто не помогал. Согрей молока, будь любезна, мне надо обязательно позвонить моему редактору, минуты не было свободной.
Войдя на кухню, Лидочка убедилась в том, что, уходя, сокурсники и сослуживцы забыли убрать посуду и вымыть ее. Но ложью оказалось и утверждение Татьяны, что она старалась что-то сделать с этой посудой. Может быть, она ждала, что на помощь придут соседи, но соседи, понятное дело, боялись побеспокоить скорбящую мать.
Для того чтобы поставить греть молоко для Татьяны, Лидочке пришлось сначала освободить плиту от блюд и тарелок, которые складывали там, потому что у мойки, на кухонном и обеденном столах места уже не оставалось. Татьяна долго не заглядывала на кухню, делая вид, что занята делами творческими, недоступными воображению Лидочки. Появилась она лишь через полчаса, когда Лидочка позвала ее, сообщив, что молоко согрелось.
Так как обеденный стол был уже чист и клеенка вытерта, то Татьяна уселась за него и сделала вид, что именно так всегда и было. Она разговаривала, глядя в спину Лидочке, которая спешила домыть посуду и потому не оборачивалась на голос Татьяны.
Татьяна сначала высказала свое недовольство хамством подрастающего поколения, потом сказала, что Аленка безобразно запустила квартиру, жаль, что Татьяне некогда было приехать и как следует выговорить распущенному ребенку.
— Вы редко встречались? — вставила Лидочка невинный вопрос.
— Редко. Я оставила ей квартиру. Пойми, Лида, я хотела, чтобы у девушки была личная жизнь. Чтобы она не чувствовала себя в девочках.
— И вам удобнее в Переделкине?
— Я привыкла к лишениям, — сдержанно ответила Татьяна, и Лидочка догадалась, что жизнь в Переделкине тоже входит в разряд лишений.
— И вы сюда не приезжали?
— Зачем? У меня своя жизнь, у нее — своя. Мне были чужды ее интересы, а ей неприятны мои идеалы.
Тут Татьяна соизволила обратить внимание на гераклов подвиг Лидочки.
— Ну зачем ты это сделала! — сказала она укоризненно. — Ты доставила мне искреннее огорчение. Я бы сама, не спеша, за день все бы убрала. Это для меня не представляет труда — мне в жизни пришлось столько перемыть вонючей посуды… нет, тебе этого даже не представить. Горы, эвересты грязной посуды на тюремной кухне…
Татьяна громко отхлебывала горячее молоко.
— Я сдам эту квартиру, — продолжала Татьяна. — Не из-за денег. Я не смогу жить там, где так ужасно погибла моя Аленушка. Это выше сил человеческих.
Рука Татьяны дрогнула, молоко пролилось на темное, в блестках по вороту, по вырезу на груди, платье. Татьяна быстро стряхнула лужицу на пол, потом взяла у Лидочки салфетку, которую та достала из навесного шкафчика.
— Когда-то это платье было у меня вечерним, — сообщила Татьяна. — Но я равнодушна к одежде. И надевала его раза три за последние десять лет. Смешно — я сшила его, когда вернулась в Москву, мне казалось, что теперь у меня всегда будет праздник. Два раза в театр, два раза на торжественные собрания, а потом… похороны. Мамины, дочкины… наверное, и меня в нем похоронят. Надо будет написать об этом в завещании. Да, я оставлю завещание, потому что мы живем в стране, где бумага имеет мистическую силу. Я убеждена, что если после меня останется завещание, то люди будут ему подчиняться, как декрету. Но ты наливай кофе, пей. И мне, кстати, налей полчашки.
— А вы со своей мамой, с Маргаритой, общались редко?
— Мягко сказано! — Татьяна громко и демонстративно рассмеялась. — Мы с ней жили как кошка с собакой.
— Но почему же?
— Пожалуй, потому, что мы обе — властные, сильные натуры, — ответила Татьяна. — Потому что моя мать была абсолютным детищем сталинской системы. Таких, на месте Сталина, я бы не уничтожала и не преследовала, а лелеяла. Впрочем, до какого-то предела он их и лелеял, а потом, когда чувствовал, что они зажрались в своей неприкасаемости, он их пожирал, как Крон своих детей. Ты читала?
— Читала.
— Современная молодежь совершенно оторвана от классического образования. Я писала об этом в «Книжном обозрении».
Лидочка не сдержала улыбки — Татьяна Иосифовна родилась, когда о классическом образовании не мечтали даже в правительственной школе для детей ЦК. И где, когда она прочла про титана Крона, осталось загадкой, да и сама она о том, наверное, забыла.
— И что же случилось? — Лидочка полагала, что подвиги, совершенные ею на кухне Татьяны Флотской, дают ей право выяснить все, что может так или иначе помочь в поисках дневников и прочего содержимого шкатулки. — Что же разлучило вас?
— Лида, я буду с тобой совершенно откровенна. В этом есть и моя вина. Да, надо уметь отнестись к себе критически. Но пойми — я была молода, я была изувечена системой, я стремилась к нормальной человеческой жизни. И мать, старая большевичка, не могла меня понять. Она жила в Москве, в относительном благополучии, получала пенсию, встречалась с подобными ей старыми большевиками и получала к праздникам пайки в столовой при доме на Старой площади. Я же, как оторванный от дерева листок, неслась безвольно по просторам нашей родины… Ведь меня забрали вскоре после войны, я провела три года в лагере, затем четыре года на поселении, а это же были мои самые лучшие, самые продуктивные, самые прекрасные годы! Еще в ссылке я встретила мужчину. Он был значительно старше меня… у него была семья. Это сложная история. Может быть, я сама не была идеалом. Мы сблизились с ним. Я надеялась, что он расстанется со своей женой. Я даже пошла на то, чтобы вопреки его желанию оставить себе ребенка. Родилась Алена… Я была без работы, без средств, у меня была одна надежда — моя собственная мать. Я кинулась к ней. Маргарита встретила меня более чем прохладно. Она совершенно не одобрила мое поведение. Ах, какие жуткие сцены происходили тогда!.. Но я была в безвыходном положении. По своей наивности и душевной доверчивости я надеялась, что этот человек женится на мне — если я буду рядом…
Татьяна закурила. Курила она папиросы «Беломор», и Лидочке показалось, что в этом есть некоторая демонстративность.
— Я уехала к нему. Но там меня ждал жестокий удар. Он меня не принял. Он отвернулся от меня. Наверное, будь я устроена попроще, примитивнее, я бы смирилась, осталась приживалкой при матери и коротала бы свой век в однокомнатной квартире в ожидании улучшения жилищных условий.
Последнюю фразу Татьяна произнесла с издевкой в голосе.
— Но моя страстная натура не желала мириться с поражением. И я совершила еще одну ошибку. Был человек… молодой человек моего возраста. Он давно добивался меня. И я решила отомстить своему любовнику.
— Когда же это было? — Лидочка постаралась восстановить хронологию.
— Начало шестидесятых. Я помню эту эпоху, эпоху надежд и громких обещаний и в то же время эпоху падения жизненного уровня… Я хотела сказать свое слово в жизни, в искусстве, наконец, в любви! — Татьяна закрыла глаза, погасила папиросу о блюдце, вспоминая те тревожные времена. — Мать хотела, чтобы я взяла к себе ребенка. Но куда я могла взять Аленку, если мое будущее было ненадежным? Мать не могла мне этого простить. Ты представляешь — ребенок ей мешал! Я знаю, что она не хотела и моего рождения, — она пыталась сделать аборт. Но почему-то не вышло. Вот я и появилась назло ей. Впрочем, это уже мои страдания, и никому нет до них дела.
Татьяна закурила вновь. Она говорила, глядя мимо Лидочки, куда-то в угол, полузакрыв глаза, покачивая головой вперед-назад. Лидочка вспомнила, что у них дома, давным-давно, был китайский болванчик. Толстый, в шляпе конусом, его тронешь пальцем, начинает качать головой. Потом он разбился.
— Главное, — произнесла Татьяна Иосифовна со значением, затянувшись папиросой, — что ей удалось за годы, пока судьба носила и молотила меня, не давая, как осеннему листу, опуститься на землю, превратить Аленку в моего врага.
Татьяна вдруг замолчала, затянулась несколько раз. Было тихо, только тараканы шуршали в помойном ведре.
— Я устала, — сказала Татьяна. — Если ты хочешь искать здесь черепки и дневники, ты можешь это делать в моем присутствии. Мне ничего не жалко. Но ты ничего не найдешь.
— Почему?
— Потому что я вчера перевернула вверх дном всю квартиру, и антресоли, и даже здесь — ноги хоть и не держат. Я тоже искала… искала то, что оставила моя мать, оставила Аленке, чтобы не досталось мне. Она, Аленка, мне всегда говорила, что все сгорело, все сгорело… Но я не верила.
— Но что сгорело?
— У мамы был маленький участок, шесть или семь соток, где-то во Внукове, в кооперативе Минпроса. Хибара, а может, дом — я никогда там не была. Она меня не приглашала. После смерти мамы туда ездила Аленка. Но и она меня не приглашала.
— Вы там никогда не были?
— Никогда не была. Я только знаю, что эта хибара сгорела. И если бы там стояла твоя шкатулка, она тоже сгорела — фьюить и сгорела…
— Во Внукове?
— Так ты будешь обыскивать мой дом?
— Извините, я ничего не хочу обыскивать.
— Тогда оставь меня. Я так хочу спать… Я так устала от всего.
— Извините, Татьяна Иосифовна, я пойду.
— Иди, иди.
Татьяна не вышла в прихожую проводить гостью.
— Заходи, приезжай ко мне в Переделкино. Я тебе всегда буду рада! — крикнула она из комнаты. Заскрипел пружинами старый диван. Несколько дней назад на нем лежала ее дочь.
Когда Лидочка оделась и открыла дверь, Татьяна вдруг крикнула ей вдогонку:
— Она ненавидела меня. И во всем виновата моя мать! Маргарита! Но я не держу зла.
Соня позвонила ей вечером. Ее сначала интересовало, известно ли что-нибудь новое об Осетрове, а затем стала рассказывать о себе, что не зажигает свет в своей комнате и велела соседке, чтобы та всем говорила, что ее нет дома, — так она боится гнева Петрика. Поэтому просит ее не спускать руку с пульса. Как только Осетрова поймают — тут же сообщить ей. Пускай вытрясут из него баксы. Поняла?
Когда пухленькая близорукая Сонечка думает о баксах и трепещет перед однокашником, трудно узнать у нее, как же складывались отношения между тремя поколениями женщин семейства Флотских.
— Соня, а где был садовый участок? Там Маргарита жила последние годы?
— Все правильно. Ты сечешь все правильно. Только случилась беда — у них, у Флотских, нельзя без беды. Садовый участок накрылся… лопатой.
— Я тебя не поняла.
— Сгорел домик, сгорела хибарка без следа. Целиком.
— А где эта хибара была?
— Думаешь, там, в земле закопано? Если бы закопано, Аленка бы откопала. А так — пустота и глушь.
— Ты не знаешь, где она стояла?
— Точно я тебе не скажу.
— Но если это садовой участок, то там можно было развести огород.
— Ах, не говорите мне глупостей. Аленка — городской человек. Как и я. Нет глупее занятия, чем копаться в грязной земле и портить маникюр. Лучше зарабатывать себе на хлеб на панели. Ты мне позвонишь, если твой Шустов шепнет насчет Осетрова? Мне нужно увидеть его раньше всех и отнять баксы.
— Почему Шустов — мой? — Лидочка не хотела давать никаких обещаний.
— Он к тебе неровно дышит — это очевидно с первого взгляда!
Соня весело рассмеялась. Потом добавила:
— А у меня на тебя вся надежда, Лидок. Иначе Петрик снимет с меня мою нежную шкурку. А шкурка у меня одна.
— Может, тебе интересно, — сказала Лидочка, — что Осетров ушел из дома в лыжном костюме.
— Враки! — возмутилась Соня. — Если ты думаешь, что он собирается в поход на Хибины, не верь ушам своим. Я думаю, он в жизни на лыжи не вставал.
— Честно говоря, намерения Осетрова меня не волнуют.
— В самом деле лыжный костюм надел?
— Так его жена сказала Шустову.
— Эта мымра врет, — возразила Соня. — Она его отправила в Гватемалу, а лыжный костюм — это лапша для наших ушей.
— Может быть, — не стала спорить Лидочка.
Глава 8
Находка во Внукове
Ночью Лидочка много раз пыталась добиться связи с Каиром, но автоматика срывалась на пятом номере, а от девочек-телефонисток слышала лишь: ждите ответа, ждите ответа… срочный? Через три часа… В конце концов Лидочка уснула, не раздеваясь, так и не добившись разговора с мужем. А ведь он знал куда больше ее о шкатулке и вещах, которые в ней хранились. Ей так нужен был его совет, его подсказка! Лидочкой владело странное тягучее предчувствие того, что тайна шкатулки лежит где-то рядом, только догадайся, наклонись вовремя, подними…
В утреннем непрочном сне ей все снились шкатулка, люди, которые старались спрятать шкатулку, отнять ее у Лидочки, потом надо было искать шкатулку по правилам детской игры: «Холодно, теплее, еще теплее… горячо!»
Разбудил телефонный звонок. Не просыпаясь, Лидочка с облегчением нащупала трубку, понимая уже, что потеря шкатулки и жестокие игры вокруг нее — не более как сон. Она была благодарна телефонному звонку.
О, как жестоко она ошибалась!
Звонила Татьяна Флотская. Говорила медовым голосом. И Лидочка сразу поняла, что ее снова пытаются загнать в рабство, ибо Татьяна была прирожденным рабовладельцем, и лишь историческая ошибка позволила ей родиться существом без имения, без рабов, без крепостных. Всю жизнь Татьяна, видно, пыталась отыскать себе рабов, сначала мужчин, потом собственную мать и дочь — и все от нее рано или поздно сбегали. И тут — подарок судьбы! Лидочка!
— Лидочка, ласковая ты моя, я тебя, надеюсь, не разбудила? — И, умудрившись не услышать ответа Лидочки «разбудили», продолжала так же жизнерадостно: — Ты тоже ранняя птичка? Кто рано встает, тому Бог подает! Великое дело — народная мудрость. Так ты уже почистила перышки, моя девочка? Вот и я прилетела к тебе — старая надоедливая ворона. Прилетела и зову тебя подняться со мной в небесные выси! Ты готова, моя добрая?
— Татьяна Иосифовна, переведите, пожалуйста, свой текст на обычный язык.
— Сегодня вторник, — радостно сообщила Татьяна. — И мне пора возвращаться домой, в свое Переделкино. Вдохновение торопит меня.
— А вы не останетесь до девятого дня?
— Ах, какие глупости, неужели и ты разделяешь эти суеверия?
— Вопрос не в суевериях, ведь придут люди.
— Соня справится. Я ей оставляю ключи. Я еще не решила, буду ли сама здесь обитать… вернее всего, мое прежнее решение — сдать квартиру, с которой связано столько всего плохого, остается в силе. Ты согласна?
— Честно говоря, меня это не касается.
— Нет, касается, касается… ты теперь как бы член нашей маленькой семьи.
— Вы уезжаете в Переделкино?
— И ты со мной.
— Почему?
— Потому что сегодня суббота, тебе не надо идти в институт, тебе не надо готовить обед для мужа — ты свободна как птица. И потому мы полетим вместе.
Лидочка лихорадочно придумывала причину, которая не позволит ей тащиться за город с этой рабовладелицей. Но ничего не придумывалось. В голове плавала пустота. Вернее, мозги плавали в пустоте.
— Но я думала, что вы сможете доехать сами. Ведь сегодня — вторник, а не суббота, и народу в электричке не так много, а там вам всего десять минут ходьбы.
— Нет, ты не поняла меня, крошка. Если бы речь шла только о возвращении в Переделкино, я, конечно, не стала бы тебя беспокоить — я бы позвонила в Секретариат Союза, чтобы за мной прислали машину и перевезли меня в Переделкино. Но перед нами с тобой стоит куда более важная задача, и наша поездка входит в круг твоих интересов и устремлений.
— Татьяна Иосифовна, пожалуйста, не говорите так сложно! У меня голова идет кругом.
— Сейчас твоя молодая хорошенькая головка занята задачей — что придумать, чтобы не тащиться с толстой старухой по зимним сугробам к черту на куличики и не потерять целый день. Правда?
— Татьяна Иосифовна, я этого не говорила.
— Но думала, моя милая, думала. Я бы на твоем месте вела себя решительнее — если заниматься филантропией, надо забыть о собственных делах. Но я сейчас предлагаю тебе сделку. Ты провожаешь немощную старуху до Переделкина, но с заездом во Внуково. То есть в Малаховку через Конотоп. Как тебе это нравится?
— Вы имеете в виду что-то очень увлекательное, — ответила Лидочка. — Вы хотите сделать мне какой-то неведомый подарок.
— Ах ты, мой маленький хитрец! — возрадовалась Татьяна Иосифовна. — Ты заставляешь меня открыть карты. И я не буду больше терзать тебя неизвестностью. Дело в том, что я не зря провела дни в этой квартире. Я ее буквально разобрала на молекулы. Ты спросишь — зачем? В силу сложившихся в нашей семье отношений, Аленка унаследовала весь архив моей матери, все ее секреты. Мне так важно было узнать о моем отце, о других родственниках. Мне хотелось все понять — я писательница, а значит, у меня гипертрофированное чувство любознательности. Я хочу восстановить собственные корни, отыскать свое место на этом свете. Ты не поверишь мне, но я до сих пор практически ничего не знаю о своем происхождении и о судьбе моих родственников. И знаешь, что меня потрясло?
— Что?
— Я почти ничего не нашла.
— Но ведь Маргарита провела много лет в лагере. Все погибло.
— Во-первых, моя мать провела не так много лет в лагере. Куда меньше, чем я, ее единственная дочь. У меня есть основания полагать, что мать освободили из лагеря и использовали ее за рубежом, в интересах нашей разведки. Жизнь моей матери — вовсе не жизнь несчастной жертвы сталинских репрессий. У нас в «Мемориале» существуют большие сомнения по вопросу ее поведения в лагерях и неясности, где она находилась во время войны. Следов в деле и в других документах не обнаружено.
— Значит, вы обыскивали дом вашей дочки, чтобы найти следы деятельности вашей матери?
— Слово «обыск» — мне отвратительно.
— Вы выполняли поручение «Мемориала»?
— Не надо обобщать, Лидочка. И я никогда не выполняю ничьих поручений. Хотя у меня всегда есть внутреннее задание — гражданина и человека.
— Ну, и удалось вам разоблачить вашу мать? — спросила Лидочка.
— Мне категорически не нравится твой тон, Лидия! — рассердилась Татьяна Иосифовна. — Я слышу в нем элементы издевательства и насмешки.
— Это исключено, — возразила Лидочка.
— Но я слышу! И я бы сейчас бросила трубку, если бы не забота о твоих интересах.
— Большое спасибо. — Лидочка ничего не могла поделать со своим голосом. Он ее выдавал.
— И все же я не бросаю трубку. Потому что мне ты понравилась, и я верю в то, что в конце концов ты оценишь мое к тебе доброе отношение. За мою жизнь мне приходилось укрощать таких тигров, которых тебе и в зоопарке видеть не приходилось. Молчишь? Тогда молчи. Когда я разбирала Аленкины бумаги, я отыскала среди них письмо от мамы, написанное в восемьдесят четвертом, за год до ее смерти. Содержание письма тебе неинтересно и тебя не касается, но вот обратный адрес может заинтересовать. Звучит он так: «Станция Внуково Киевской железной дороги, садовое товарищество Министерства просвещения «Наставник». Тебе это что-нибудь говорит?
— Что это должно мне говорить?
— Неужели тебе никто не рассказал о том, что моя мать последние годы жизни провела за городом, в своем, условно говоря, имении. Эта операция проходила под лозунгом: «Я не буду разрушать матримониальные планы моей дорогой внучки!» А на деле… на деле мы все, Флотские, большие эгоистки. Маме нравилось жить в загородном доме, одной, независимой и, главное, никому не обязанной. О, как я ее понимаю! Ведь я пошла по ее стопам.
— Вы хотите сказать, что никогда за много лет не бывали на даче у своей матери?
— Я даже не знала ее адреса!
Лидочка понимала, что Татьяна не лжет — только что она с торжеством прочла ей по телефону этот адрес. С таким торжеством, что Лидочка поняла: Татьяне не столько нужны были документы матери, письма отца, дедушки или даже фотография Сталина с Татьяной на коленях — ей нужен был именно адрес дачи Маргариты Потаповой. Именно туда, ее, уже давно состарившуюся женщину, столько лет не пускали, заставляя ограничиваться щедрыми подачками от Союза писателей или общества «Мемориал». И даже ее собственная дочка Аленка продолжала в течение долгих лет после смерти Маргариты наказывать Татьяну, не пуская ее на дачу.
Для Татьяны во всех происшедших событиях была некоторая высшая справедливость. Да, как это, товарищи, ни тяжело, но я пережила их всех! И мою мать! И мою дочь! И все, что им принадлежало, все, что вы так тщательно скрывали от меня, — все это теперь мое и только мое! И я буду жить очень долго, специально для того, чтобы доказать всему миру мое право на владение так называемой Аленкиной квартирой и так называемой Маргаритиной хибарой!
Нужно быть очень близким к Татьяне человеком, чтобы она призналась тебе в действительной причине ее срочного переезда на квартиру к Аленке сразу после смерти дочери. Это было вступление во владение! Теперь, с такой же поспешностью, Татьяна норовит вступить во владение хибарой.
— Вы знаете, что дача Маргариты сгорела? — спросила Лидочка.
— Разумеется. Мне в этом призналась еще Аленка, когда приезжала в Переделкино. Мне об этом все уши прожужжала Соня.
Лидочка чуть было не спросила Татьяну, так почему она не взяла адрес хибары у Сони, вместо того чтобы обыскивать квартиру дочери в поисках какого-нибудь упоминания о давно сгоревшей даче? Но потом поняла и промолчала: Татьяна не могла себе позволить пасть столь низко, чтобы выспрашивать адрес у презираемой ею приятельницы Аленки. Что же тогда получается? Родной матери Алена этого адреса не дала, а какая-то очкастая шлюха таскает туда своих грязных любовников?
Если Татьяне хочется, чтобы Лидочка верила в то, что Татьяну интересует лишь некий гипотетический архив, хранившийся во Внукове, то Лидочка готова в это верить. Пожалуйста. У нее свои интересы. Но раз речь зашла об архиве, то, наверное, Татьяна заведет речь о шкатулке… И Лидочка не ошиблась.
— Лидуша, я не помню, сказала ли тебе, что, когда лейтенант Шустов расспрашивал меня об Аленке, он показал мне шкатулку. Большую такую шкатулку из карельской березы. Оказывается, ее пытался похитить любовник Алены, но потом раскаялся и вернул.
— Да, я слышала об этом, — осторожно откликнулась Лидочка.
— И когда он стал говорить о шкатулке и упомянул о том, что она раньше стояла у Алены, то я сразу вспомнила о тебе, Лидуша.
— Почему же?
— Я рассудила логически. Подумай: ты приезжаешь ко мне в Переделкино и начинаешь допрашивать меня о шкатулке, оставленной на хранение моей маме. Я такой шкатулки не помню. Не видела я ее. Если шкатулка была, значит, ее хранили где-то, куда я не имела доступа. И хранили все годы, пока моей матери не было в Москве. И самое главное — совершенно неважно, где это было — может быть, у маминой кузины Клавдии, а может быть, у верной няньки Анюты в Курской области. Важно другое: если шкатулка в конце концов оказалась у Алены, значит, Маргарита ее взяла у няньки Анюты и перевезла к себе в хибару.
— Совсем необязательно.
— Это моя гипотеза. Моя мать слишком большая собственница, чтобы оставить свои игрушки у чужого человека.
— А были ли игрушки?
— Лидочка, не притворяйся дебилкой. Тебе это не идет. Неужели ты думаешь, что если мама в предчувствии ареста решила спрятать что-то из дорогих ее сердцу вещей вне дома, то она ограничилась чужой шкатулкой? А ее собственные документы, а ее драгоценности?
«Пожалуй, тут ты и попалась, моя дорогая Татьяна Иосифовна, — подумала Лидочка. — Вот что тебя больше всего волнует — дача, квартира и ценности, которые могли бы там храниться». И раз уж Лидочке захотелось тут же разочаровать Татьяну, то она не удержалась:
— Неужели Маргарита хранила какие-нибудь драгоценности, живя так скромно и, главное, позволяя Аленке существовать в бедности?
— Конечно! — тут же заявила Татьяна. — Моя мать была жадной, как Скупой рыцарь. Типичный Скупой рыцарь!
— Но если дача сгорела, — не сдавалась Лидочка, — как там могло что-нибудь сохраниться?
— А вот как она сгорела — мы обязаны с тобой выяснить! — заявила Татьяна.
— Я сомневаюсь, что Алена и Соня лгали.
— Они вполне могли лгать, чтобы не допустить меня на дачу.
— Почему?
— А потому, что они устраивали там вальпургиевы ночи, — ответила Татьяна. — Потому что они превратили якобы сгоревшую дачу в гнездо разврата.
Лидочка не стала спорить. Татьяну явно занесло. Но тем не менее нельзя отказываться от поездки во Внуково. Нельзя, потому что тогда ты отказываешься от чуда. А стоит отказаться от чуда, оно не сбудется… Кроме того, на поминках Алены Лидочке встретился таинственный Константин, который назвал себя наследником Маргариты. Если бы узнать, что это значит?
— Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Константин? В сочетании с именем вашей матери? — спросила Лидочка.
— Никогда. А что это значит?
— Такой человек был на поминках Алены. Лет пятидесяти, массивный, с собачьим лицом.
— Еще чего не хватало! — рассердилась Татьяна. — С собачьим лицом. Скажешь тоже! Так мы едем?
— Не знаю…
— Подумай, моя девочка! Если сохранилась и не сгорела шкатулка, то почему ты считаешь, что содержимое ее обязательно сгорело? В конце концов, это глупо и нелогично!
— Шкатулка попала к Алене до пожара.
— Значит, отказываешься?
Не верит Татьяна, что дача окончательно сгорела! Но боится отправиться туда одна зимой, по скользкой дороге, с опухшими ногами. И Лидочка, с ее стремлением отыскать содержимое шкатулки, — идеальное подспорье! Конечно, шансов на то, что дневники отыщутся, нет. Но шансы на то, что Лидочка примет предложение поехать, реальны, ведь она не удержится, рискнет. Раз она искала шкатулку так настойчиво, что приехала в Переделкино, то она не менее упорно будет искать ее содержимое, пока в конце концов не убедится в том, что надежд не осталось. Пока что Татьяна дает ей такую надежду…
— А вы знаете, где этот поселок? — спросила Лидочка.
— Вот и попалась ты в золотые сети, — восторжествовала Татьяна. — Корысть — движущая сила мировой истории. Значит, едем?
Стоит ли говорить Татьяне, что ты уже несколько дней ломаешь голову над тем, не могут ли нужные тебе бумаги остаться там, откуда прибыла шкатулка, и этим местом, скорее всего, была так называемая хибарка Маргариты Потаповой? Стоит ли говорить, что ты уже отчаялась узнать, где эта хибара находится и была ли она вообще? И стоит ли предпринимать что-либо, чтобы увидеть пепелище двухлетней давности?
Лидочка ничего этого не стала говорить Татьяне. Если ты ничего не ответила человеку, который полагает, что тебя одурачил, то этот человек начинает мучиться сомнениями, не разгадал ли ты его нехитрые комбинации?
Татьяна чувствовала себя неуверенно: раза три заводила разговор о шкатулке и ее возможном содержимом, пока они ехали в такси, за которое, кстати, Лидочка заплатила бешеные деньги, и в электричке до станции Внуково.
Электричка оказалась полупустой. Татьяна расплылась по сиденью, оставив Лидочке лишь краешек скамейки. Она взяла с собой папку с несколькими главами своих воспоминаний, которые готовила для небольшого прогрессивного парижского издательства, и, раз уж делать в дороге все равно нечего, она попросила разрешения Лидочки почитать вслух, проверить, так сказать, свои опусы, за которые мечтала получить премию Букера.
«…Наш дом стоял последним в переулке, ныне уже не существующем, который в этом месте раздваивался: один проезд вел на улицу Кирова (жители упорно продолжали именовать ее Мясницкой), а другой в лабиринт проходных дворов, кирпичных брандмауэров…»[1]
Лабиринт брандмауэров, — отмечало сознание Лидочки, пока еще вслушивающейся в монотонный речитатив.
«…улочек, перегороженных заборами, дошкольных площадок, напоминавших помойки, — дом заслонял своими плечами это живописное безобразие. Дом был старый, даже старинный, с оригинальным узором из кирпичей вокруг окон, который придавал им сходство с почтовыми марками…»
Как жаль, что она не дозвонилась до Андрея. В Андрее погиб следователь. Ему свойственно было искать парадоксальные сочетания незаметных фактов, сцепления ошибок и несуразностей, которые неизбежно появляются при всякой лжи, чтобы обратить внимание на слабое место в постройке, созданной для того, чтобы закрыть собою правду. Кому и зачем понадобилось убивать Аленку? Может быть, произошла роковая ошибка на фармацевтической фабрике — в пачку таблеток снотворного попала таблетка цианистого калия? А разве он бывает в таблетках? Наверное, он — порошок. Ведь Распутину его подкладывали в пирожное.
«…все были нечистыми, все давно махнули рукой на всякие суеверия и проживали не в квартирах, а в комнатах. При этом жители черных лестниц оказывались даже в выигрыше, им было удобнее таскать ведра с мусором и тазы с бельем, тогда как обитавшие на парадных лестницах не знали, куда деваться, не выплескивать же помои на улицу. Некоторые, впрочем, так и делали — вечером выплескивали помои в решетку дождевого стока…»
Лидочка понимала, что за всю дорогу до Внукова ей так и не выйти за пределы тщательного описания старого дома и гнусных обычаев его деградировавших коммунальных обитателей, ибо настоящий литератор должен ввести читателя в тягучую атмосферу плохой предвоенной жизни. На деле же дом, столь ярко запомнившийся Татьяне и задававший как бы тон всему ее литературному труду, давным-давно отошел в прошлое, замененный чередой комнат и квартир, в которых ютились и проживали Флотские. И, очевидно, основная задача бабушки и внучки, Марго и Алены, заключалась в том, чтобы не допустить к себе Татьяну, о литературном таланте которой они либо не знали, либо в него не верили. В действительности же Татьяна Иосифовна обладала определенным талантом составления слов во фразы и абзацы, способные вызвать восторг у дамы-критикессы, которая понимала, что настоящая проза должна быть туманна и не всегда понятна — этот флер и отличал талант от массовой литературы.
Татьяна сделала паузу и, отметив пальцем строчку, произнесла:
— Я не ставлю себе целью писать воспоминания. Это проза, художественное произведение, и я прошу тебя увидеть внутреннюю символику в том, что я несу людям.
— А вы в последние годы не встречались с Маргаритой? — спросила Лида, желая прекратить чтение. Оказалось, что выдерживать монотонное чтение еще хуже, чем беседовать.
— Мы не испытывали в этом взаимной нужды, — ответила Татьяна. — Я не снимаю с себя ответственность, но Маргарита, то есть моя мать, была человеком сухим и как бы замороженным, иссушенным ледяным ветром пустыни Гоби. И, ты можешь это понять, — она отдала всю свою жизнь торжеству партии, победе строя социализма. Она шла ради этого на подлости и убийства…
— Ну уж и убийства…
— Я убеждена в этом! И вот ее мир рухнул — она чутьем понимала, что наш советский социализм катится к упадку. И страшилась этого.
— После смерти Маргариты вы помирились с дочерью?
— Не совсем так. Аленка была очень похожа на свою бабушку. Да, мы виделись, разговаривали, но до определенного предела. Я делала шаги навстречу ей, но не нашла взаимности…
«Странно, — подумала Лидочка, — я только что ехала на подобной электричке, по подобной же железной дороге между бесчисленными, занесенными снегом и от того чуть более опрятными, чем осенью, дачами. Иногда к железной дороге подступали задние стенки коллективных гаражей с мусором, насыпанным у этих стенок под надписями, утверждающими, что Ельцин — еврей и ему место на плахе. Господи, я же это читала на той, Ярославской дороге. Может быть, у коммунистов есть специальные писатели антиельцинских лозунгов? Почему бы и нет? В России всегда любили материться на заборах. Есть же понятие — заборная ругань. Наверное, нет страны в мире, где заборам придавалось бы такое всеобъемлющее значение. Англичанам достаточно живой изгороди, а финну полоски валунов — сосед не зайдет без приглашения».
— Я продолжу чтение? — спросила Татьяна. В роли писательницы она теряла гонор, и в ее голосе появлялись просительные интонации. — Тебе интересно?
— Мы уже скоро подъезжаем.
— Я успею прочесть еще две страницы.
Лидочка кивнула.
И больше она не слышала чтения. Выключилась. Она смотрела в окно, для этого приходилось наклоняться вперед, потому что груда Татьяны занимала все пространство между Лидой и окном. Три дня уже держалась оттепель, и потому окна отмерзли, высохли, и можно было позволить мыслям вяло течь в голове, а самой отмечать, не задумываясь о значении виденного, что вот — бежит собака и лает на электричку, пьяный мужик уронил авоську с бутылками и сидит перед ней на корточках, две девушки спешат, скользят по тропинке, видно, сейчас будет платформа и они хотят догнать электричку и сесть на нее.
А вот и платформа. Мичуринец. Маленькая, пустая, дачная, словно далекий от Москвы разъезд.
— Наша остановка следующая, — сказала Татьяна. — Как тебе?
— Интересно, — сказала Лидочка. — Но еще рано говорить.
— Я читала Окуджаве, — сообщила Татьяна. — Он был в Переделкине и согласился послушать. На него произвело большое впечатление. А моя соседка по комнате в одном месте чуть не заплакала — она сказала, что это и ее детство.
Они вышли во Внукове — это была более крупная станция, она даже не казалась дачной. Близко к перрону подходили двухэтажные бараки, на запасных путях стояли платформы с гравием, никаких дач поблизости не было видно. Они сошли с платформы у переезда и сразу попали на шоссейную дорогу, забитую машинами. Порой приходилось отступать далеко на обочину, потому что, когда поднимался шлагбаум, сразу с десяток машин одна за другой прокатывалось по шоссе.
Татьяна обладала качеством, которому Лидочка всегда страшно завидовала. Она умела задавать вопросы и получать нужную информацию у прохожих. Она трижды останавливала аборигенов и повторяла один и тот же вопрос — где находится поселок «Наставник» и далеко ли до него идти. И так как все отвечали одинаково, что поселок расположен у шоссе, по которому они шагают, а идти до него десять минут, Татьяна успокоилась.
— Значит, идем правильно, — сообщила она.
— Правильно идете, товарищи, — поправила ее Лидочка, и Татьяна, узнав неточную цитату, засмеялась.
Выглянуло солнце, и стало ясно, что скоро придет весна — солнце стояло высоко и ощутимо грело, тени под деревьями и у дач, что тянулись по сторонам шоссе, стали синими и резкими, а снег приобрел золотистый отлив.
— Странно, — сказала Татьяна. — Идти на собственную дачу, которую никогда не видела.
Лидочка внутренне согласилась, что и в самом деле это звучит парадоксально, но вероятнее всего, что Татьяна была сама виновата в том, что ее не выносили собственные мать и дочь, зато она пережила их и теперь законно вступает в права собственности, хотя это противоречит законам природы. И, вернее всего, законам справедливости.
Дорога была скользкой. Лидочке приходилось поддерживать Татьяну под локоть, и она скоро устала, потому что Татьяна шагала все тяжелее и все сильнее наваливалась на Лидочку.
Когда-то вход на территорию дачного поселка был снабжен проходной будкой и шлагбаумом, но теперь и общий забор покосился, и шлагбаум торчал под острым углом из снега, свороченный в сторону пробегавшим мимо носорогом. У открытой двери проходной будки дремал на раннем солнышке рыжий лохматый пес с одним ухом, который собрался было тявкнуть на женщин, потом передумал и не стал тратить сил зазря.
На проходной была прибита вывеска: «Садовое товарищество «Наставник».
— Вот и дошли, — сказала Татьяна. — Давай отдохнем.
В поселке было тихо и пусто. Крики вороны, обозревавшей сверху зимний пейзаж, звучали нагло и вызывающе. Но ворона знала, кто здесь хозяин.
— А какой участок? — спросила Лидочка.
— Участок на письме не был указан. Я думаю, двенадцать лет назад здесь был комендант или сторож. Но и сейчас мы что-нибудь отыщем.
— Почему?
— Потому что поселок большой и кто-то здесь живет зимой или приехал покататься на лыжах.
Центральная дорога поселка была накатана, и на ней были видны углубленные следы автомобильных шин. Но это ничего не значило, потому что в поселок могли приезжать только на выходные. Рядом с колеями тянулась разъезженная лыжня. Домики в поселке были разными, но большей частью скромными, двухэтажными, тянущимися ввысь, чтобы занять поменьше места на маленьком участке, так как место было нужно для огородной деятельности.
— Погоди, — попросила Татьяна, — не спеши.
Как будто Лидочка куда-то спешила.
— Давай смотреть, где идет дым.
Но занятие это все равно требовало передвижения по поселку, так как в поле зрения попадало лишь несколько близких домов — остальные скрывались за соседями.
Миновав метров сто главной улицы поселка и заглядывая в ответвления от нее, вконец измученные дорогой путешественницы увидели следы людей, словно Робинзон следы Пятницы.
На стене недостроенного красного кирпичного замка, который возвышался над фанерными и бревенчатыми старшими братьями, трудились два пьяных каменщика, стараясь укладывать кирпичи так, как им велела их рабочая совесть. А еще один мужчина, приземистый, с лицом римского патриция, в длинной, до земли дубленке, скроенной так, как понимает тулуп модельер из Лос-Анджелеса, материл «рабов», наваливаясь задом на оранжевого цвета джип.
Было очевидно, что приземистый «патриций» — не патриций, а отечественный бизнесмен, а рабочие — не рабы, а свободные труженики.
Когда Татьяна и Лидочка приблизились к ним, рабочие и владелец замка перестали собачиться и принялись разглядывать женщин, вычисляя, видимо, к кому это спешит подкрепление.
Так как женщины оказались нейтралами, то они своим появлением временно примирили стороны, и все вместе стали оживленно выяснять, где находится дача, которая два года назад сгорела и которая принадлежала Елене Флотской, а до нее, когда-то, ее бабушке Маргарите Потаповой.
Сложность ситуации заключалась не в том, что эти люди оказались в этих местах чужими. Наоборот, рабочие были местные, внуковские, и подрабатывали в поселке много лет, а миллионер на оранжевом джипе унаследовал участок от родителей, а свое детство провел именно под этими липами и дубами. Беда была в том, что поселок был велик и дачи в нем горели многократно, так что определить, на какой из сгоревших дач жила когда-то старуха Потапова, у которой была взрослая внучка Алена, оказалось делом непростым — нашлось по крайней мере три варианта.
Рабочие давно уже спустились на землю, владелец забыл, что крепко поссорился с ними из-за кладки кирпичей.
В конце концов Лидочке удалось прекратить дискуссию и разделить всех присутствующих на поисковые партии. В одну, которая направлялась по наиболее вероятному адресу, отправилась Лидочка с рабочим Сашей. Владелец по имени Эдуард поспешил в другой конец поселка, а еще один рабочий, упрямый и крикливый, был отряжен в одиночестве на участок, дом на котором вроде бы не горел, но был ограблен в прошлом году. Татьяна, которая сильно уморилась, заставила Эдуарда открыть машину и устроилась внутри отдыхать.
Когда они расставались с Эдуардом на перекрестке большой дороги, тот сказал с уважением:
— Ваша тетя — с характером.
— Почему вы так решили?
— Чтобы кто-то смог меня заставить машину открыть и в ней остаться, это невероятный случай. Я страшно жадный.
— Она не умеет водить машину, — постаралась утешить его Лидочка.
— А там плейер «Филипс». Знаете, сколько стоит?
— Вернемся, покажете, — ответила Лидочка. — И вообще, нельзя же раскаиваться в добром деле, еще не совершив его!
Она пошла дальше, каменщик Саша шагал сзади след в след и долго еще хихикал, а Эдуард остался на перекрестке, пытаясь переварить слова Лидочки.
Основная дорога, которая разделяла поселок пополам, была более-менее расчищена и накатана. Но по пересекающим ее дорогам на машине проехать было нельзя. По некоторым из переулков, где располагались часто посещаемые угодья, тянулись утоптанные дорожки, слегка припорошенные позавчерашним снегом; в другие, позабытые на зиму хозяевами уголки, тянулись с трудом проходимые тропинки, идти по которым следовало со всей осторожностью, потому что лишь узкая стежка была протоптана и тверда. Сделал полшага в сторону — провалился глубже чем по колено.
По сторонам же дорожек и тропинок, за метровой полосой девственного снега тянулись разномастные заборы, к которым, как правило, жались изнутри голубые ветви кустов — не разберешь зимой, малина это, смородина или крыжовник. Настоящих лесных деревьев в поселке сохранилось немного, то ли их сводили хозяева участков за то, что они затеняли грядки и смородину, то ли с самого начала под поселок было выделено поле с редкими деревьями.
Хозяева домов стремились к определенному стандарту, но этот стандарт менялся от поколения к поколению. Видно, самыми ранними здесь были деревенские срубы, привезенные издалека, да «финские» домики, появившиеся у нас сразу после войны, — некие суррогаты загородных коттеджей. В следующем поколении стали возводить дома из бруса и обшивать вагонкой. Современные нувориши строили кирпичные особняки с крепкими железными решетками на окнах, отчего поселок постепенно превращался в своего рода тюрьмы, ибо по доброй воле человек не выезжает на пленэр для того, чтобы спрятаться в кирпичной крепости за железной решеткой.
Разглядывая дома, окна которых были забиты досками, Лидочка чуть не пропустила дорожку, на которую следовало свернуть.
Лидочка остановилась на повороте, потому что поняла, что совсем недавно, после того, как прошел снег, здесь останавливался автомобиль. Вот он остановился, потом начал разворачиваться и провалился передним колесом в глубокий снег. А вот здесь пассажиры машины вытоптали в снегу глубокую яму, стараясь вытащить машину и вкатить обратно на дорогу. Что им в конце концов удалось. Значит, так и не развернувшись, они подали машину назад и выехали задним ходом.
Может быть, Лидочка не так заинтересовалась бы этой битвой техники с природой, если бы не то, что от машины вели человеческие следы в проулок, отходивший там от главной дороги. Эти следы были многочисленны и, главное, неорганизованны. Это ее и насторожило. Под неорганизованностью она понимала то, что авторы следов никак не могли удержаться на утоптанной узкой тропинке, а все время промахивались, проваливались в снег, пробивались сквозь него спеша, оставляя за собой глубокие рытвины, будто были одержимы сумасшедшим упрямством и спешкой.
Каменщик Саша посмотрел, куда молча показала Лидочка, и сказал:
— Пьяные были. Приехали на дачу к дружку гулять, машину чуть не угробили, а потом с криками и песнями колобродили.
— Вы догадались или слышали?
— Я в пяти километрах живу — не слышал. Но про Шерлока Холмса сериал смотрел с удовольствием.
— А может, было темно? — спросила Лидочка.
— А вернее всего, темно, — согласился Шерлок Холмс. — Пьяные и темно. Ясное дело.
— А на какую же дачу они спешили?
— Хотите поглядеть?
— Обязательно.
— Ну пошли. Только если увидим пожарище, — заметил Саша, — то оно будет совсем свеженькое.
— Снег шел позавчера, — заметила Лидочка.
— Все понятно, Ватсон, — быстро ответил Шерлок Холмс. — Ваше замечание принимаем. Позавчера шел снег. А никакого снега на следах нету. Вам понятен ход моих рассуждений?
Каменщик Саша был усат по-украински, усы струйками стекали к подбородку, на голове вязаная шапочка с надписью «Хибины». На рукаве ватника был нашит суконный красный щиток со стершейся надписью. Более непохожего на Шерлока Холмса сыщика было трудно представить.
— Спасибо, — сказала Лидочка. — Пошли?
— Пошли, — Саше нравилось быть великим сыщиком. — Мы можем продвигаться без опасений, — сказал он, — потому что злоумышленники уже уехали на своем кебе. Знаете, почему я пришел к такому выводу?
— Вы пришли к такому выводу, потому что кеба нигде не видно.
— Молодчина, Ватсон, — похвалил Лидочку Саша.
Следы привели их к последнему в ряду, перед самым лесом, участку. Лидочка остановилась, разглядывая участок. Почему-то стало тревожно. Говорить, а уж тем более шутить расхотелось.
Это был странный участок. Такие бывают в совсем новых дачных кооперативах, по первому или второму году их существования. Потому что небогатый дачник первым делом скапливает деньги на хозблок — любого типа вагончик, металлический или фанерный. Он устанавливается в углу участка с тем, чтобы, когда возведен жилой дом, превратиться в сарай или душевую.
Не считая трех берез, стоявших недалеко от калитки, участок был пуст. Вишневые, сливовые и прочие деревья, превратившиеся на зиму в пучки голых веток, — не в счет.
Но в отдалении стоял хозблок, серый сарай с плоской крышей, окном, забранным ржавой и несолидной на вид решеткой, и с дверью, покрашенной в тот особенный неприятный коричневый цвет, в который принято красить двери во всей России и, пожалуй, нигде более в мире.
От калитки к сараю вели глубокие следы — траншея в снегу, прорытая неаккуратным крокодилом.
Саша толкнул калитку — она была заперта. Саша просунул руку между досками штакетника и откинул крючок. Калитка заскрипела и сама медленно открылась внутрь — этот скрип оглушительно прозвучал в мертвом воздухе поселка, тут же на него откликнулась пролетавшая ворона, и звук оборвался, потому что калитка уперлась в снег.
Саша первым ступил внутрь, в траншею, протоптанную в снегу. Сделал шаг, второй, потом обернулся и поманил Лидочку. Оба молчали.
Снег почти не скрипел — было не холодно, градуса два-три. Набежали облака, и стало сыро.
Перед входом в хозблок было натоптано, как будто здесь танцевали.
Они постояли перед входом, не решаясь открыть дверь. Саша не представлял, чего можно ожидать, — он только почувствовал неладное. Впрочем, и Лидочка не знала, отчего ей было страшно.
И тут она увидела кровь. Кровь на снегу, недалеко от двери. Совсем небольшое пятно крови, снег был в том месте притоптан, а дальше, у стенки, были дыры в снегу, окруженные желтым, видимо, люди стояли у стенки и мочились в снег.
— Ну что? — спросил Саша. — Заходим или как?
Он перестал играть в Шерлока Холмса.
— Давайте посмотрим, — сказала Лидочка. Но Саша не тронулся с места.
— Кого-нибудь ищете? — спросил он.
— Нет, — ответила Лидочка. — Мы же объясняли, что Татьяна Иосифовна, которая со мной приехала, унаследовала здесь дачу. Только документы потеряны.
— Ну, как знаете, — ответил Саша, который не поверил ни единому слову из этого нелепого объяснения.
Саша толкнул дверь в сарайчик. Она открылась послушно и почти без скрипа. Лиде ничего не было видно, и ей не хотелось заглядывать внутрь. А почему, собственно, она обязана туда заглядывать? Кто она здесь? Приехала вместе с гражданкой Флотской Т. И. для выяснения местонахождения ее дачной собственности. А теперь она боится, что нашла эту собственность. А чего она боится?
Саша уже был внутри. Он вглядывался во что-то, потом наклонился — Лиде было видно его, — наклонившись, он сделал шаг вперед, голова и руки исчезли из ее поля зрения, и приподнял с пола серое покрывало.
Потом Саша выпрямился. Он не смотрел на Лиду, а смотрел себе под ноги.
Он достал из бокового кармана ватника пачку сигарет «Мальборо» и зажигалку. Закурил. Обернулся к Лидочке.
— Заходи, — сказал он. — Если мертвых не боишься.
— Не боюсь, — сказала Лидочка. Но не сразу заставила себя шагнуть вперед.
Внутри было полутемно, свет проникал сквозь маленькое окошко, а комната была невелика.
Саша откинул брезент или серое солдатское одеяло, и обнаружилось, что на полу, скорчившись, как будто сильно замерз, лежит человек. Он был в лыжном ярко-синем костюме, сильно измаранном кровью и грязью, а лицо его было настолько залито кровью, что Лидочка лишь по седым, чуть вьющимся волосам, по руке, нелепо изогнутой, с растопыренными от страшной боли пальцами, по одному, дико распахнутому глазу узнала Осетрова. Скорее не узнала, а почувствовала, что это Осетров, ожидала его увидеть.
Уже когда они свернули в проулок и шли по снежному гребню тропинки, между проваленных в снег следов, Лидочка интуитивно начала осознавать, что они приближаются к месту, на котором произошло нечто страшное, насильственное. Ее мозг продолжал работать, принимая и отвергая варианты подозрений, и получалось, что более всего опасность должна была угрожать Осетрову. Если не он убил Алену, то он знал нечто, связанное с ее смертью, и настоящий убийца должен был найти его и убить. И скрывался Осетров вовсе не от милиции, а от опасности куда более реальной и смертельной. Но может быть и другое: он виноват в смерти Алены. И есть человек, который решил отомстить за нее…
— Вы его знаете? — спросил Саша, как будто прочел Лидочкины мысли. Кровь замерзла странно, как замерзает вода на наледи: плоскими лужицами, по мере того, как напор иссякает — и получается как бы невысокая ступенчатая пирамидка.
— Думаю, что знаю, — сказала Лидочка. — Немного знаю.
— Как так немного? — спросил Саша. Он сглотнул слюну. Он старался не глядеть на мертвого. Шерлок Холмс из него никогда не выйдет, потому что настоящий сыщик, который входит в историю, обязательно должен быть чуть-чуть некрофилом. По крайней мере, должен с профессиональным хладнокровием рассматривать покойников, как энтомолог мертвую бабочку.
— Я его один раз видела, — сказала Лидочка. — Он совсем мертвый?
— Давно уже. Наверное, со вчерашнего дня.
— Пойдемте отсюда, — сказала Лидочка.
Они вышли наружу. Там было очень свежо и светло.
— Они мучили его страшно. Ты обратила внимание, что у него руки переломаны?
— Нет…
Лидочку мутило.
— Ты иди первой, чтобы сзади не бояться, — великодушно сказал Саша. А Лидочка спешила по тропинке и спиной чувствовала опасность, исходившую от Саши. Почему он захотел идти сзади?
У калитки она обернулась.
Саша встретился с ней взглядом.
— Дура, — сказал он, — иди тогда сама сзади.
Он сказал это без злости.
— Не обращай внимания, — сказала Лидочка.
Они прошли переулком, и Лидочка почти ни о чем не думала, потому что надо было балансировать на тропинке и не угодить в глубокий снег. Думать было страшно, и Лидочка старалась отвлекать себя, говоря: «Вот вороны летят парой, неужели у них сохраняются пары на зиму, когда не надо выводить птенцов? А может быть, вороны чуют смерть и реют над тем хозблоком?» Она невольно обернулась — хозблок был уже закрыт следующей дачей — и потеряла равновесие. Саша подхватил ее, Лида взвизгнула, чего с ней не случалось с детства, и оттого смутилась.
— Погодите, — сказала Лидочка, — дайте дух перевести.
Чем дальше они отходили от страшного сарая, тем нормальнее становилась жизнь, и та близость, что возникла между ними, как между людьми, потерпевшими кораблекрушение на резиновом плотике, истончалась, потому что оба понимали неизбежность близких событий, в которых каждый будет предоставлен сам себе — надо вызывать милицию, терять время на разговоры с чужими подозрительными людьми, выступать где-то свидетелями — острота свидания с жестокой смертью сменится формальной принадлежностью к ней. Даже показания они теперь будут давать раздельно.
— Дурак он, — сказал проницательный Саша. — Судя по всему, он здесь решил скрываться. А его выследили.
— Почему вы так думаете?
— А потому, что и вы так думаете, — ответил Саша. — Потому что он печку включил, обогреватель. Не заметила?
— А обогреватель горел?
— Нет, видно, в борьбе шнур вырвали. А то бы все сгорело.
— Его могли с осени так оставить.
— Ты не поняла. Обогреватель у стола стоял — провод к нему через всю комнату тянулся. Если ты на зиму уезжаешь, зачем так обогреватель ставить? Потом еще: разве ты не заметила — у него на столе еда стояла. Включал чайник. Хлеб там был с колбасой. Неужели не заметила, Ватсон?
— Ничего я не заметила, — мрачно ответила Лидочка. — Я лицо его увидела, а что вокруг было — не помню.
— Жалко. Ненаблюдательная ты. И даже не заметила, как они там что-то искали?
— Нет.
— Там же все перевернуто, переломано!
— Нет, я не заметила.
— Он что-то с собой привез, а они его выследили. Или вычислили? Не отсиделся.
Они вышли на главную улицу. Теперь идти стало легко. Впереди, совсем близко, стоял оранжевый джип Эдуарда. Самого Эдуарда еще не было. Видно было, что Татьяна Иосифовна спит на переднем сиденье, опустив голову на грудь, отчего казалось, что в машине сидит кто-то пирамидальный и безголовый.
Неужели виноваты триста баксов? Те самые триста долларов, о которых говорила Соня? Нет, человека за это не убивают. Даже в нашем сумасшедшем мире. Им дороже встанет ехать сюда, отыскивать его. Да и не стал бы он держаться за эти доллары. Впрочем, что мы знаем?
Татьяна, видно, почувствовала их приближение. Когда они подошли к джипу, она открыла глаза и театрально медленно подняла голову.
Она открыла дверцу машины и, наклонившись вправо, чтобы высунуть голову, спросила:
— Разумеется, вы ничего не нашли?
— А где Эдуард? — спросил Саша. Видно, он предоставил инициативу Лидочке, посчитав, что она лучше знает, что надо говорить.
— Мы нашли участок…
Что-то ее останавливало, чтобы закричать: «Там мертвое тело!»
— И там все сгорело, да? Ничего не осталось?
Господи, какая у нее противная, хищная рожа с торчащим из нее костяным носом! Ее волнует только одно — что еще удастся наследовать от собственной дочери.
— Там Осетров, — произнесла, сделав над собой усилие, Лидочка.
Подошли Эдуард и молодой парень в бушлате.
— Не исключено, — громко сказал Эдуард, — что мы отыскали участок, который вас интересует.
— Кто там? Где там? — визгливо спросила Татьяна, отмахиваясь от Эдуарда, потому что нутром почувствовала, что главное — в словах Лидочки.
— Там Осетров. Он мертвый, — сказала Лидочка. — Его убили.
— Как так? Какой еще Осетров? Кого убили?
— Любовник Алены. Осетров. Вы его должны знать.
— Ну, я его видела — один раз или два… Он совершенно не пара Алене, — сказала Татьяна. — Кто его убил и зачем?
— Я не знаю, — ответила Лидочка и обратилась к Эдуарду: — Можно я сяду в вашу машину? У меня голова кружится.
Надо отдать должное Эдуарду, он достаточно быстро с помощью Саши сообразил, что же произошло, и отвез Лидочку с Татьяной к милицейскому посту на станции. Оттуда Лидочка смогла дозвониться до Шустова.
Глава 9
Двойное дно
Лидочка возвратилась домой только вечером. Сначала им пришлось ждать местных милиционеров, которые ехали с какого-то объекта и никак не могли доехать, потом, вместо того чтобы мчаться на место преступления, милиционеры, все трое, начали допрашивать Сашу и Лидочку, будто те сами убили Осетрова.
К счастью, тут возникла Татьяна Иосифовна и заявила, что если не будут немедленно приняты реальные меры, она звонит в газету «Правда» с сообщением о том, как местные внуковские бандиты во главе с местной милицией расправились с заведующим отделом ЦК КПСС. Заявление Татьяны ввергло в полную растерянность милиционеров: толстый старшина с лицом хомяка, словно он заложил в защечные мешки по теннисному мячу, намеревался было изматюгать грозную бабу в норковой шубе, но в ответ получил от Татьяны столь изысканный матерный монолог, что на цыпочках ушел из комнаты, а Саша-Шерлок Холмс спросил:
— Где сидела, паханка?
— Не грубите, молодой человек, — сказала Татьяна. — Я политическая.
В комнату заглянул старшина и сказал, что машина будет в исправности через десять минут, но тут приехал Шустов с капитаном и, к великому облегчению местной милиции, сообщил, что Осетров проходит по его делу, после чего старшина с лицом хомяка стал вежлив, предупредителен и даже шустр.
Лидочка отказалась снова ехать в поселок, и Шустов отпустил ее восвояси. Зато Татьяна, отдохнувшая и чувствующая собственную значимость, сказала, что поедет с Шустовым и толстяком из внуковской милиции. С ними же отправился Саша-Шерлок Холмс. Эдуард хотел подвезти Лидочку на своем оранжевом джипе, но тут подошла электричка, и Лидочка от него сбежала.
До дома она добралась на последнем издыхании.
Главное — чтобы никто не беспокоил, никто не разговаривал, никто не звонил в дверь или по телефону… Главное — чтобы наступила тишина. Даже без вороньего крика.
Она разулась, разделась, залезла под горячий душ выгнать из себя неистребимую мелкую дрожь, которая терзала ее с того самого злополучного участка. «Наверное, я заболеваю. Еще не хватало гриппа! А впрочем, почему не хватало? Может быть, в этом и есть выход? Они все суетятся, вызывают тебя свидетелем, убивают друг друга, душат и терзают, а я лежу, больная, и принимаю аспирин…»
Телефон начал трезвонить, как только Лидочка закрылась в ванной.
К счастью, вода шумела и заглушала вопли аппарата.
Дрожь постепенно прошла, Лидочка почувствовала себя человеком. И более того — преследовавший ее образ изломанной окровавленной куклы, которая лишь недавно была испуганным, но спесивым человеком, тоже отступил из сознания, и Лида вновь обрела способность думать.
Почему она решила, что Осетров прячется от милиции? Потому что ему было положено прятаться от милиции, которая его подозревала в убийстве Алены и намеревалась посадить в тюрьму? Но в таком случае он должен был мчаться куда-то за пределы России, по крайней мере за пределы досягаемости лейтенанта Шустова. Если он — видный партийный работник, то его должны были вывезти в Узбекистан или Туркмению, где коммунисты чувствуют себя в безопасности. Правда, это могло быть так только в случае, если он коммунистам нужен. Но если он никакой ценности для реанимации коммунизма в одной отдельно взятой стране не представляет, то, скорее всего, коммунисты будут первыми, кто отшатнется от морального урода, который заводит любовниц вдвое младше себя, да притом на службе, куда его с таким трудом пристроили. И тогда он должен бежать сам по себе, с помощью друга детства или тети, живущей в недоступной для нашего правосудия Нарве. Но вместо этого Осетров надевает лыжный костюм, берет с собой тот же самый старенький рюкзак и отправляется в поселок «Наставник» Наркомпроса СССР, где когда-то была дача бабушки его любовницы. Дача сгорела. Около двух лет назад. Так говорят свидетели.
На даче они бывали на заре своего романа. С ней связаны светлые воспоминания, но это еще не основание для того, чтобы в разгар зимы мчаться на спаленный участок и, сидя рядом с пепелищем, давно и густо запорошенным снегом, предаваться воспоминаниям о любви.
На даче можно скрыться, зная, что там сгорело не все — что там остался хозблок, сарайчик, в котором стоит электрокамин. То есть там можно переночевать, там можно пересидеть три дня. Но почему только три? Чтобы все успокоилось? Но что может успокоиться за три дня? Загадка: пожилой солидный человек, семьянин, вина которого не доказана и сомнительна, бросает все и таится в сарайчике на пепелище, что можно сделать лишь в смертельном страхе…
Лидочка начала вытираться, все еще игнорируя настойчивые вопли телефона.
Нет, ей эту загадку не распутать. Саша-Шерлок Холмс полагает, что убийцы что-то искали в хозблоке. Все перерыли. Что мог отыскать товарищ Осетров на пепелище? Триста долларов, взятых у Алены? Опять — двадцать пять! Не могут эти доллары решить его судьбу! Но что-то ее решило.
Одно совершенно ясно: бежал и скрывался Осетров вовсе не от милиции и правосудия, он бежал туда от убийц. И убийцы его нашли. Но как они его нашли?
И если смерть Осетрова — дело рук жестоких безжалостных садистов — может быть, тех наемных убийц, о которых так робко и с придыханием пишут газеты, то что можно сказать о смерти Аленки? Не связана ли она с теми же причинами? А что, если Осетров знал о настоящей причине гибели Алены? И эта причина была для него настолько страшна, что он хотел от нее укрыться и полагал, что дача, о существовании которой почти никто не знал, — самое надежное для этого место?
Голова кругом идет. И еще этот взбесившийся телефон!
— Кто? — Лидочка, задумавшись, подняла трубку и, продолжая вытирать голову, свободной рукой поднесла ее к уху.
— Господи, я думала, что тебя убили, — это был голос Сони. — Что с тобой произошло? Мне не хватало еще твоего трупа.
Лидочка представила, как Соня ломает в пальцах погасшую сигарету. Господи, она совсем забыла о Сониных бедах!
— Я была на даче, — сказала Лидочка. Она не собиралась ни жалеть Соню, ни проявлять деликатность. В конце концов, Соня спокойно обманывала Лидочку, утверждая, что ничего не знает о садовом участке Маргариты Флотской. Знала она о нем!
— На какой даче? — спросила Соня. Она перевела дух — затянулась. — У Татьяны?
— Теперь у Татьяны. Но раньше это была дача Маргариты, а потом она перешла к Алене. И вы на ней не раз бывали.
— Какая дача? Я ничего не знаю.
— Если не знаешь, то мне с тобой не о чем разговаривать.
Так как Соня молчала, Лидочка повесила трубку и успела вытереть волосы и включить фен, прежде чем телефон зазвонил вновь. Конечно же, эта была Соня.
— Лида?
— Перезвони мне через пятнадцать минут, — сказала Лидочка. — Я сушу волосы и все равно ничего не услышу.
Она положила трубку и спокойно занялась сушкой волос. Она была уверена, что Соня позвонит — куда деваться этой особе, перепуганной, как зайчишка? Сейчас она позвонит и скажет, что не говорила Лидочке о даче, потому что… А любопытно, почему?
Телефон зазвонил через пятнадцать минут без десяти секунд — Лидочка поглядывала на часы.
— Извини, — сказала Соня. — Я понимаю, что у тебя есть основания мне не доверять и даже сердиться на меня. Но садовый участок Маргариты — эта такая древняя история! После того, как дача сгорела, не было смысла туда ездить.
— И не ездили?
— Конечно, почти не ездили.
— Но я сегодня там была. Там остался хозблок — две комнаты, электрокамин, кушетка — явно туда ездили. Там даже жили. Почему ты об этом не знала? От тебя скрывали? Тогда почему ты говоришь, что была лучшей подругой Алены?
Лидочка слышала свой голос — он как будто принадлежал не ей. Как могла она скрыть от Сони смерть Осетрова и упрекать ее во лжи, заманивая в ловушку?
— Нет, я знала, конечно, знала, — мямлила в ответ Соня. — Но зачем тебе знать, это такой пустяк, это так неважно?
— Неважно? — совсем уж рассердилась Лидочка. Тут уж она не притворялась. — Тогда почему Осетров поехал туда? Что он там потерял?
— Значит, он все же поехал туда? — Соня была напугана. Она точно была напугана. — Вот почему он был в лыжном костюме. Ты мне сказала, а я не придала значения…
— Его там убили, — сказала Лидочка.
— Что?
— Его там убили. И не только убили. Его страшно мучили. Когда мы нашли его, он был весь изломан… — Лидочке не хватило дыхания, ее голос сорвался, но Соня не слышала этого — она выла. Когда Лидочка замолкла, смущенная странным звуком, доносившимся из трубки, она поняла, что это именно вой — на одной ноте, тупой, почти звериный, но более высокий по звуку — его можно было спутать с гулом, который издает рой пчел…
— Соня? Соня! Что с тобой?
Упала трубка. И короткие гудки.
Когда Лидочка пришла в себя после этого разговора, ей стало стыдно, что она так разговаривала с Соней. Та и без нее напугана. У нее свои беды — беды, неведомые Лидочке, но общие для всех тех людей — Алены, Осетрова, Сони… Двое из них уже погибли, а Сонечка, запутанная в те же дела, боится смерти. И, наверное, имеет все основания ее бояться. Так что никакого права упрекать Соню во лжи Лидочка, наблюдательница со стороны, не имела.
Лидочка набрала номер Сони, но там было занято.
Интересно, что узнал Шустов о смерти Осетрова? Лучше не думать об этом, потому что тогда сразу перед глазами встает картина мучительной пытки Осетрова. Ни один человек, думала Лидочка, не бывает виноват настолько, чтобы его так замучили. Даже если он убил Алену и это была месть за ее смерть.
Домашнего телефона Шустова Лидочка не знала. И, наверное, хорошо, что не знала, — зачем ей превращать отношения деловые, случайные, в более личные? Может, снова позвонить Соне?
У Сони занято.
Не возвратилась ли Татьяна в квартиру к Алене? Хоть она и собиралась вернуться в Переделкино, но могла передумать.
Телефон у Алены не отвечал.
Несколько раз Лидочка набирала каирский номер, но связь срывалась на пятой цифре — то ли здесь, то ли, как еще недавно принято было говорить, «за пределами Советского Союза».
И тут снова позвонила Соня.
— Расскажи мне, что было, — попросила она.
Говорила она тихо, как всласть наплакавшаяся женщина.
Тихо, ровно и даже умиротворенно.
— Тут мало что можно рассказать, — сказала Лидочка. — Меня туда Татьяна повезла.
— А откуда она узнала адрес дачи?
— Соня, да скажи мне, почему это — тайна?
— Никакая это не тайна, но Татьяну они никогда туда не подпускали. Это было принципом. Поэтому мне интересно, кто ей рассказал.
— Она сама догадалась. Нашла какое-то письмо… Все равно рано или поздно она обо всем бы догадалась.
— А Осетров и в самом деле был совсем мертвый? Никакой надежды?
— Он погиб, наверное, за день до того, как мы его нашли.
— Его Татьяна нашла?
— Татьяна оставалась в машине.
— Зачем? В какой машине?
— Тебе все детали важны или только самое важное?
— Я не знаю, — Соня снова начала плакать. Но при этом она могла говорить.
— Я пошла на участок с одним человеком. Мы увидели много следов. В снегу. И возле хозблока, — рассказывала Лидочка.
— Он был в хозблоке?
— Да.
— Он долго там был?
— Откуда я знаю! Но человек, который был со мной, предполагает, что Осетров намеревался там пожить.
— Дальше, дальше!
— Я увидела его. Он лежал на полу. Они его жутко избили перед смертью.
— Кто они? Их поймали?
— Соня, не мели чепухи. Если кто и знает убийц Осетрова, то я думаю — это ты.
— Нет, нет! Клянусь тебе, нет! Для меня это такая же неожиданность. Как тебе не стыдно!
— Ты вчера еще проклинала Осетрова и говорила, что твой Петрик его за триста долларов достанет.
— Да ты с ума сошла, что ли? Неужели он будет за триста долларов?.. Притом, он вовсе не мой. Я его еще больше боюсь, чем Осетров боялся.
— Тогда ты должна немедленно позвонить Шустову и рассказать, что подозреваешь в убийстве Петрика.
— Я его не подозреваю! Он совсем в другом месте был… — Соня замолчала, и Лидочке показалось, что она слышит тихий неразборчивый голос, словно кто-то шепчет на ухо Соне. — А еще что ты узнала? — спросила Соня. — Какие-нибудь подозрения есть?
— Я уехала, я не стала дожидаться. Там Шустов.
— А ему там что делать? Там же внуковская милиция должна быть.
— Не знаю, меня это не касается.
— Нет, Лидочка, ты только не вешай трубку. Мне так страшно! А что там еще было?
— Тот человек, который со мной был, ты его не знаешь, считает, что убийцы что-то искали — весь домик вверх дном перевернули.
— И нашли?
— Откуда мне знать, если я даже не знаю, что они искали.
— Ну хорошо, — сказала Соня. — Тогда до свидания, я тебе еще позвоню, хорошо?
— До свидания, — ответила Лидочка. Потом она услышала щелчок — кто-то положил параллельную трубку. — Ты здесь? — спросила Лидочка.
— Спокойной ночи, — сказала Соня. И всхлипнула.
— А у тебя два аппарата? — спросила Лидочка.
— Нет, один, — быстро ответила Соня, — спокойной ночи.
Короткие гудки.
Лидочка не поверила Соне.
Разумеется, у нее не было основания строить догадки, но Лидочке показалось, что Соня говорила неестественно, словно задавала вопросы по подсказке. И разговор подслушивали. Может, это тот самый Петрик, охотник за долларами? А может быть, усатый тип в джинсовой куртке. А может, и третий, совершенно неизвестный Лидочке. И что им всем нужно? От мертвой Алены, от мертвого Осетрова, от перепуганной Сони, от Лидочки, наконец.
Никто не ответил на эти немые вопросы.
Как бывает в детективных романах? Загадочная карта, на которой указано место закопанного пиратами или разбойниками клада. Проклятие близнецов — один из них идеальный и жертва — например, Осетров, другой — злодей и убийца, рассчитывающий на наследство… Но все наследство пока что переходит к толстой и немощной Татьяне. А она менее всего похожа на убийцу. Даже если она и захотела кого-то убить, то в ночь Аленкиной смерти она точно была в Переделкине, а к тому же ей трудно было бы пытать Осетрова.
Лида начала дозваниваться на междугороднюю, чтобы заказать Каир. На любое время ночи. Только обязательно. Срочно. Если для этого придется разбудить президента Мубарака, будите президента!
Президента Мубарака разбудить не удалось, в Каире вообще было трудно кого-нибудь разбудить. В три часа Лидочка свалилась без сил и задремала, а в четыре позвонил Андрей, который и не подозревал, что его разыскивает жена, но сам беспокоился, почему несколько дней от нее нет весточки.
— Господи, Андрюша, я уж не чаяла тебя услышать!
— Неужели так плохо? — этот мерзавец даже не встревожился. У него был сытый голос человека, только что слезшего с пирамиды, где он пил портвейн и закусывал омарами.
— Андрей, перестань быть таким довольным жизнью! — взмолилась Лидочка.
— Ты здорова?
— Я совершенно здорова, но уже два человека убиты, и нашлась шкатулка, но пустая. У тебя сколько денег?
— Что ты несешь, мой ангел?
— Мне нужно пять минут, чтобы тебе все рассказать, я не могу тебе не рассказать, я не представляю, что делать дальше, хотя, вернее всего, я и не должна ничего делать.
— У меня хватит денег на твою исповедь. Но лучше начинай без предисловия.
Десяти минут вполне хватило на рассказ, несмотря на то, что Андрей несколько раз перебивал Лидочку, потому что ей казалось, что известное ей, виденное ею должно быть так же очевидно и для Андрея.
Вердикт Андрея был стандартным вердиктом обыкновенного мужа — немедленно собирай сумку и перебирайся к Гале или к Ахметовым.
— Нет, мне не очень страшно, меня охраняет лейтенант Шустов.
— Он может быть лучшим в мире лейтенантом, но сейчас он спит. И будет завтра на службе. А ты одна. Пожалуйста, Лидочка, скройся.
— Но почему ты так настаиваешь на этом?
— Я не верю в то, что это история о несчастной любви. Мне кажется, что за этим стоят деньги или преступление, которое надо сокрыть. А получается, что ты слишком приблизилась к эпицентру событий. Хоть бы тебя не понесло вчера на эту дачу!
— Я там не заметила ничего, достойного внимания.
— Это ты так думаешь. Когда ты стояла у окна на кухне, тебе тоже казалось, что ты не видишь ничего особенного — номер машины, несколько лиц — всего-то делов…
— Это ты во всем виноват, повелитель, — ответила Лидочка. — Кто, кроме тебя, выбирает самолет, к которому приходится вставать в то время, когда по улицам ездят только бандиты?
— Хорошо. Я во всем виноват. Но я не хочу быть виноватым в том, что тебя не предупредил. И предупреждаю, если ты не уедешь немедленно…
— Сейчас? Когда на улицах только бандиты?
— Утром! Первым делом как проснешься. И не говори мне сейчас, куда ты собралась — у них есть замечательные средства прослушивать телефонные разговоры. И никому не открывай дверь.
— Ты говоришь, как мой лейтенант Шустов.
— Отношения с Шустовым мы разберем, как только вернемся в Москву. Ты обещаешь уехать?
— Обещаю.
— Спокойной ночи. Проверь, закрыт ли второй замок?
Лидочка честно проверила второй замок. Он был открыт. Она закрыла его. Но спать не было никакой возможности. До разговора с Андреем Лидочке в голову не приходило бежать…
Телефон зазвонил вновь. И вновь междугородный.
Это был Андрей.
— Я вспомнил, — сказал он, — извини, если разбудил, но я вспомнил.
— О Татьяне?
— О какой еще Татьяне? О шкатулке! Ты не спала?
— Прошло всего пятнадцать минут после твоего звонка!
— Неужели? А у меня ощущение, словно два часа. Потому что я интенсивно думал. Ты уверена, что шкатулка пустая?
— Разумеется.
— Понимаешь, прошло черт знает сколько времени, но у меня есть глубокое убеждение в том, что у шкатулки было двойное дно. И оно открывалось. Я совершенно не помню, как это делалось — хоть убей, не помню. Но чтобы не заниматься пустыми поисками сокровищ, проверь меня: смерь сантиметром высоту шкатулки снаружи, а потом внутри. Если разница сантиметра в два — имеет смысл поискать, что лежит в том пространстве. Может быть, дневники или хотя бы часть их? Ты меня поняла?
На этом связь прервалась. Но Лидочка даже не расстроилась, потому что у нее было занятие, достойное Шерлока Холмса. Каменщик Саша умер бы от зависти.
Следовало определить, есть ли в шкатулке двойное дно, а если таковое обнаружится, то в полости, скрытой веками от человеческих глаз, могут таиться не только дневники Сергея Серафимовича, но и секретный рескрипт Екатерины Второй о даровании дворянства их роду. Впрочем, шкатулка была не такая старая.
Лидочка принесла шкатулку из шкафа, поставила на кухонный стол, взяла с письменного стола линейку и открыла шкатулку. Золотистое сукно, которым шкатулка была обтянута изнутри, потерлось, но не очень. Лидочка приставила линейку к внутренней стенке, глубина шкатулки оказалась тринадцать с половиной сантиметров.
Ничего не получится, уговаривала себя Лидочка, чтобы потом не расстраиваться, не бывает в шкатулках второго дна, это все из плохих романов, зачем второе дно шкатулке, в которой хранились пуговицы и нитки? Однако эксперимент Лидочка продолжила. Она вынула линейку из шкатулки и приложила ее вертикально к стенке снаружи. На линейке было 164 миллиметра. Лидочка повторила упражнение.
Никаких сомнений не было. Если линейка не обрела способность удлиняться или укорачиваться по собственной воле, то, значит, низ шкатулки был необычайно толст. Или Андрей прав — в шкатулке есть второе дно. Конечно, туда не засунешь дневники Сергея Серафимовича, но ведь шкатулка была сделана куда раньше дневников, и там могли таиться другие сокровища.
Лидочка подняла шкатулку. Она была умеренно тяжелой, так что если там и находилось что-то, то не металлическое и не каменное — иначе бы руки подсказали мозгу, что вес не соответствует размерам ящика.
Лидочка легонько встряхнула шкатулку. Шкатулка молчала, не желая подсказывать Лидочке, есть ли в ней тайна. Лидочка простучала рукояткой ножа дно шкатулки — оно отзывалось так, словно там была пустота.
Затем Лидочка отыскала лупу и стала тщательнейшим образом обследовать стенки шкатулки с целью обнаружить в них тонкую щель. Попытки вставить в несуществующую щель лезвие ножа успехом не увенчались. Если какой-то старый мастер и сделал тайник, то он позаботился о том, чтобы Лидочка через двести лет его не увидела.
Отчаявшись увидеть следы тайника, Лидочка принялась искать его замок на ощупь. Но пальцы скользили по гладкому полированному дереву, им не на чем было задержаться.
Лидочка потратила не меньше двух часов, чтобы раскрыть секрет шкатулки, но ничего из этого не вышло. Дозваниваться в Каир было бесполезно, потому что если бы Андрей вспомнил, то позвонил бы сам обязательно.
Заснула Лида под утро, но несколько раз просыпалась оттого, что ей казалось, как во сне к ней пришло решение. Но вокруг царила тишина, и никакого решения наяву не оставалось — оно растворялось вместе со сном.
Проснулась она разбитая, будто и не спала вовсе.
Она вошла на кухню, с ненавистью поглядела на шкатулку, которая тупо возвышалась посреди кухонного стола, и тут все ночные размышления, все попытки догадаться слились в одном незаметном для Лидочки усилии — она сообразила, что второе дно выдвигается проще простого: надо перевернуть шкатулку и, сильно нажимая ладонью на дно, выдвинуть его вперед.
Что Лидочка и сделала.
Шкатулка покорно перевернулась — дно ее было неполированным, шершавым. Лидочка нажала на дно ладонью — точно в центре. Что-то внутри тихо щелкнуло, и Лидочка вовсе не удивилась — она была убеждена, что действует правильно.
Тонкое днище, выструганное из твердого дерева, выехало, словно крышка пенала, и от этого движения пачки денег, которыми был набит тайник, начали вываливаться на стол, а одна даже упала на пол.
Это были пачки стодолларовых купюр. В каждой по пять тысяч, всего семь пачек. Правда, и число их, и количество денег в каждой пачке Лидочка узнала позже, когда пересчитала все деньги. А сначала она решила почему-то, что это старые деньги, пролежавшие в шкатулке сто лет. Потом только увидела, что новые, некоторые даже 1993 года.
Лида сидела, разглядывая купюры. Потом только начала их считать, да и то машинально, чтобы удобнее было думать. Она умела считать и думать. Она раскладывала деньги на стопки по десять бумажек в каждой — по тысяче долларов. Получилось тридцать пять стопок, тридцать пять тысяч долларов.
К тому времени, когда Лидочка кончила считать, она уже успела многое обдумать. Во-первых, она решила, что деньги не могли лежать в шкатулке со времен Маргариты Потаповой. Какой бы богатой бабушка ни была, покойнице никак бы не удалось пользоваться деньгами прошлого года. А раз так, значит, о двойном дне узнал или догадался случайно один из тех, кто имел доступ в квартиру Алены…
Скорее всего, Маргарита рассказала о двойном дне внучке. А та ни с кем, даже с Соней, секретом не поделилась, но сама им воспользовалась.
Кому принадлежат доллары? Алене? Или они получены на сохранение? Сумма достаточно велика, чтобы ради нее пойти на преступление. Она могла возникнуть от финансовых дел, от крупной продажи бабушкиных драгоценностей, но была слишком мала, чтобы оказаться тайным золотом коммунистической партии. Впрочем, и коммунистическую партию нельзя сбрасывать со счетов.
Значит, главная проблема — кому принадлежат тридцать пять тысяч долларов. Принадлежать они могли любому из действующих лиц драмы. Алене — в первую очередь: они хранились в ее шкатулке.
О тайнике никто, кроме Алены, не знал. Соня наверняка искала в квартире Алены триста долларов, которые якобы исчезли после ее смерти. Но, даже зная, что шкатулка стоит у Лидочки дома, совершенно не обращала на это внимания. Вторая жертва — Осетров — сам принес шкатулку в милицию как вещь совершенно ненужную. Значит, тоже о двойном дне не знал. И о долларах не догадывался. Допустим, о деньгах знала Татьяна Иосифовна — недаром она три дня вела раскопки в квартире. Но о шкатулке она не подумала. Тогда остается лишь Алена. Только она знала о секрете шкатулки. Только она могла спрятать туда деньги. Это для следствия важно…
Лидочка в задумчивости зажгла газ, поставила на плиту чайник.
Но если она знала о деньгах и прятала их в месте, неизвестном даже возлюбленному, даже лучшей подруге, значит ли, что она им не доверяла? Нет, она могла прятать эти деньги от неизвестного убийцы и хранила молчание, чтобы не подвергать опасности друзей и любимых. Подумав так, Лидочка тут же сама себя остановила — это маловероятно.
Кофе горчил. Больше, чем нужно. Может, кто-то хочет ее отравить? Но ведь никто еще не знает, что ключ ко всем убийствам лежит у нее на кухонном столе.
Лидочка отодвинула стопки денег.
Что же теперь делать? Впрочем, выбор невелик — дождаться, пока придет Шустов, и отнести ему деньги. Пускай разбирается.
А откуда у Алены такие деньги? Кто их оставил ей, кто доверил? Для кого она их прятала?
Надо позвонить Шустову, чтобы он приехал. Андрей просил не выходить на улицу. Но ведь Лидочку никто не подозревает…
Прежде чем Лидочка успела позвонить в милицию, ей позвонила Соня. Как на работу. Дня не проходило без ее звонка. Этой толстухе до всего есть дело — то она мчится к чужой маме, чтобы та спасала дочку от смерти… Но ведь оказывается права. Если бы Татьяна приподняла свой зад и отправилась в Москву, Алена, скорее всего, осталась бы жива.
— Я тебя не разбудила? — спросила Соня.
— Нет.
— А что ты делаешь?
— Завтракаю.
— Ты счастливая, Лидка, ты можешь спать и есть. А я не могу.
— Почему?
— Мы все для тебя чужие. Совсем чужие. Ну, убьют меня сегодня — ты взгрустнешь на две минуты и пойдешь дальше своим путем.
— Соня, не говори красиво.
— Я стараюсь вообще говорить поменьше. Мой язык — мой враг. Если бы ты знала, сколько раз я себя подставляла. Скажи, можно я к тебе приду?
— Я собираюсь уходить…
— У тебя кто-то есть? У тебя мужчина?
— У меня нет мужчины.
— Но ведь твой муж в командировке.
— Если ты выйдешь замуж, то будешь ждать, когда муж уедет в командировку, чтобы поскорее ему изменить?
— Может быть.
— Тогда тебе нет смысла выходить замуж.
— Вот меня никто и не берет, — Соня засмеялась. — А куда ты собралась?
— К Шустову.
— Что-нибудь обнаружилось?
— Ничего особенного.
— Нет, ты скажи, скажи! Пойми, как мне это важно.
— Я обещала к нему пойти.
— Зачем?
— Ну, потому что я вчера нашла труп Осетрова. Ты что, забыла? — придумав убедительный предлог, Лидочка обрела уверенность.
— Он тебя с утра вызывает?
— С утра. А как ты думаешь, что они искали? — Лидочка перешла в наступление.
— Кто «они»?
— Убийцы.
— Деньги, конечно же, деньги.
— Те триста долларов, про которые ты говорила?
— Нет, про те они не знали. Они их у меня хотят отобрать. Они другие деньги искали.
— Откуда же деньги у старшего научного сотрудника?
— Им всем раздали, когда компартию распустили. Руководящим работникам по несколько тысяч долларов, это всем известно.
— Значит, это твой однокашник?
— Кто? — не поняла Соня.
— Петрик. Он же ссужает деньги.
— Ой, не знаешь, помолчала бы! Петрик — честный мужик. Ему чужого не надо.
— Почему же его боишься? Сама говорила, что он за триста долларов голову оторвет.
— Ты меня не так поняла. Сейчас у Петрика кризис. У него каждый бакс на счету. Он за цент глотку перегрызет. Потому что человек в стрессе меняется.
— И он мог убить Осетрова за триста долларов? — настаивала Лидочка.
— Он вообще никого не в состоянии убить! — Соня встала на защиту своего однокашника. — Он у нас в классе почти отличником был. Если бы ты знала, какое у него было тяжелое детство.
Спор был не по существу, о чем Лидочка и сообщила Соне. Соня обиделась на нее, и тут Лидочка, чтобы остановить поток слез, готовых вырваться из Сони, спросила, как оказалось, ошибочно:
— А сколько ему нужно, чтобы убить из-за этого человека?
— Я тебя не поняла.
— Ну сколько, тысячу долларов, три тысячи, десять тысяч?
— Нет! Нет!
— Двадцать тысяч? — Лидочка вдруг почувствовала себя подобно ведущему телевизионной игры, который спрашивает: «Ну, приз или миллион рублей?», и на очередное «нет» Сони, она произнесла:
— Тридцать пять тысяч?
— Сколько? — спросила Соня.
— Тридцать пять тысяч, — слово уже вылетело.
— Не надо, — после долгой паузы сказала Соня. — Глупый спор, и ничего мы с тобой не вернем. Мне страшно и одиноко. Можно, я приду к тебе погреться? Возле тебя тепло.
— Нет, Соня, давай перенесем встречу на вечер. Сейчас я в самом деле ухожу к Шустову.
— Вечером меня может не оказаться в живых.
— До вечера, — сказала Лидочка и повесила трубку.
Не надо было произносить цифру тридцать пять. Если Соня откуда-то знает о деньгах, именно эта сумма должна ее насторожить. Но вроде бы она не обратила внимания…
Лидочка набрала номер Шустова. Никто не подошел. Было девять часов. Шустов может быть во Внукове. Он осматривает сторожку и ищет следы убийц. А может быть, вчера поздно вернулся и лег спать.
Стоит отнести деньги самой. Именно сейчас, пока тихо и все бандиты еще досыпают последние сны.
Но выйти на улицу было страшно — и Андрею она обещала не выходить. Нет, лучше спрятать как следует деньги, а самой пойти в отделение милиции.
Почему такое странное решение пришло ей в голову, Лидочка понять не могла. Ну сидела бы дома, не подходила к телефону, ждала бы, пока придет на службу Шустов или хотя бы Соколовская. Позвонила бы в крайнем случае в милицию, заявила, что к ней ломятся бандиты, — но не стала бы избирать самую глупую линию поведения.
Лидочка сложила доллары в пачку и направилась к бельевому шкафу.
Открыла нижний ящик и вознамерилась спрятать доллары под белье. И тут же мысленно услышала фразу, сказанную сыщиком в каком-то американском фильме: «Все мужчины прячут деньги в книгах, все женщины — в белье». Раз так, то она спрячет деньги в книгах — никто не догадается.
Она подошла к стеллажу и тут же подумала: а почему кто-то должен искать деньги у меня? Ах да, она сказала о тридцати пяти тысячах Соне, и Соня может сказать кому-то еще. Надует щечки и скажет: «Только не бейте меня!»
А почему надо прятать деньги в стеллаж, если у нас есть замечательный тайник? Одна покойница его уже использовала!
Лидочка стала запихивать деньги обратно под дно шкатулки. При этом она умудрилась поглядеть в окно и увидеть, что на градуснике опять десять мороза и придется надевать пуховку. О чем она думает! Какая еще пуховка?
Она засунула все деньги в шкатулку, защелкнула пенал двойного дна и стала думать, куда ее спрятать. Потом догадалась, что прятать ее не следует — шкатулку все видели, и никто на нее не реагирует. Лидочка взяла сапоги, потом решила, что Шустов, наверное, уже пришел, и направилась к телефону.
И тут позвонили в дверь.
И вдруг Лидочке стало страшно.
Лидочке показалось, что это пришли бандиты.
Она на цыпочках сделала два шага, отделявшие ее от двери, держа в руке так и ненадетые сапоги, наклонилась и осторожно отвела в сторону крышечку глазка.
Она успокоилась.
За дверью стояла одна Соня — расхлюстанная, платок набок, шуба нараспашку. Круглые щечки опять стали вишневыми — столь обильно она орошала их слезами.
Соня словно догадалась, что Лидочка ее видит и приложила палец к губам, призывая Лидочку к молчанию. Этот жест был совершенно непонятен. Но так как Лидочка не спешила открывать дверь, опасаясь, что за лифтовой шахтой могут скрываться злоумышленники, которые держат Соню в лапах, Соня позвонила снова, прерывисто, словно выбивала непонятную Лидочке морзянку.
Убедив себя в том, что Соня на лестничной площадке одна, Лидочка приоткрыла дверь.
— Ты что? — спросила она шепотом.
— Пусти меня! Скорее. Они могут меня выследить, тогда нам обеим кранты!
Лидочка приоткрыла дверь шире, чтобы несчастная Соня могла протиснуться, но Соня оказалась толще, чем Лидочка рассчитывала, и потому застряла в дверях, и пришлось открыть дверь настежь.
Соня протискивалась медленно, боком, она наваливалась на Лидочку в тесной прихожей и говорила быстро, шепотом:
— Меня могут преследовать, ты будь крайне осторожна! Я боюсь!
Но как и откуда появились еще двое, Лидочка тогда не сообразила потому, что они ворвались в прихожую за спиной Сони, как будто пассажиры, кидающиеся в вагон метро, когда двери уже закрываются.
Лидочка потеряла равновесие и упала на спину, не почувствовав сразу боли, потому что те мгновения, когда все это приключилось, были слишком коротки для того, чтобы понять — что же вообще происходит.
Лидочка полусидела на полу, неудобно опершись спиной об угол вешалки, на ней, пыхтя и повизгивая, лежала мягкая горячая Соня, один из ворвавшихся захлопнул дверь, второй наклонился и потащил Лидочку за рукав кофты.
— Что вы делаете? — к Лидочке возвращалась способность говорить и возмущаться, но бандит не желал с ней разговаривать — он упрямо тянул ее из-под Сони и одновременно пытался ногой оттолкнуть Соню, которая ему мешала.
— Ну! — крикнул он Соне и Лидочке, как бы требуя, чтобы они ему помогали. — Ну!
Второй пришел к нему на помощь. Он рванул на себя Соню, и она клушей уселась на пол — толстые коленки в теплых желтых колготках торчали врастопырку.
И тут Лидочка узнала во втором бандите Петрика, Алика Петренко, который так вроде бы заботился о ней после покушения, что посылал Ларису с советом молчать и не вмешиваться. Алика Петренко, предмет гордости его однокашников, с которым они только что стояли рядом у гроба Аленки. Алика Петренко, с которым Лидочка познакомилась чуть раньше, чем с остальными действующими лицами драмы, и чуть не получила из-за него пулю в лоб.
— Алик! — удивилась Лидочка, поднимаясь на ноги, хотя удивляться было нечему — все становилось на свои места. Обо всем надо было догадаться раньше, только заменив несчастные триста долларов, собранные для шоп-тура, на тридцать пять тысяч, оказавшихся во владении Алены Флотской.
Как бы в ответ на возглас Лидочки телохранитель Петренко, а Лидочка тоже его узнала, неожиданно и больно ударил ее по лицу — открытой ладонью, как бьют женщин низкого поведения в классических фильмах. Голова дернулась и ударилась о вешалку. Лидочка больно прикусила язык.
— Вы что…
Больше она ничего не успела сказать. Упершись ей в лицо широкой жесткой ладонью, телохранитель толкнул ее в комнату, и Лидочка ударилась спиной о стул, стул упал, она попыталась ухватиться за что-нибудь, но ничего под рукой не оказалось, и она завалилась на бок. Тут ее ударили сапогом в бедро.
Зазвонил телефон — он стоял на кухне — звонил долго, без перерывов, как будильник.
— Да выключи его! — крикнул Петрик.
И тут же закричал снова:
— Не так, пускай Сонька подойдет. Ты слышишь, сука?
— А что, а что? — Сонька умудрилась подвывать от страха при каждом слове.
— Да скажи ты, что не сюда попали!
Лидочка старалась подняться, но телохранитель, облаченный в ту же черную кожаную куртку, в которой был на похоронах, приказал ей:
— Сидеть!
Лидочке захотелось вдруг стать маленькой и незаметной и проснуться, когда все уже кончится. Главное — не сердить их, тогда они уйдут.
Из кухни было слышно, как Сонька произнесла плачущим голосом:
— Вы не туда попали… нет, это другой номер.
— А теперь сними трубку, — приказал Петрик. — Вот так.
Он вошел в комнату и остановился, глядя на Лидочку.
— Вы что на полу сидите? — спросил он так, как спросил бы любой нормальный человек.
Лидочка послушно поднялась, оглянулась. Стул был опрокинут, никто не собирался ставить его на место. Пришлось сесть на диван.
— Где деньги? — спросил Петрик.
— Что? — от такого вторжения Лидочка вовсе забыла о деньгах. Потому вопрос ее был искренним.
— Где тридцать пять тысяч баксов? — спросил Петрик терпеливо.
— Тридцать пять тысяч? Я не понимаю.
Ситуация возвращалась к нормальному течению жизни. Она была опасна, она была неприятна, но, по крайней мере, теперь все становилось на свои места. Недаром ей показалось еще вчера, что Сонин разговор прослушивают, — видно, Петрик, старый школьный друг, смог запугать Соньку и включиться в поиски таинственных денег, спрятанных перед смертью Аленкой. И во всем виновата сама Лидочка, которая в разговоре с Соней неосторожно упомянула именно эту цифру. Все произошло по законам Фрейда — подсознательно она думала о тех долларах, которые нашла в шкатулке. А Соня или же стояла в тот момент рядом с Петриком, или проговорилась под его нажимом. Впрочем, это сейчас не так важно. Важно убедить Петрика, что она и представления не имеет, о каких деньгах идет речь.
Петрик лениво кивнул — как будто встретил на улице малознакомого человека, и Лидочка не поняла, что означает этот кивок. Но тут же телохранитель, почти не размахиваясь, ударил ее в глаз — никогда еще Лиду так не били: удар был болезненным, и ей показалось, что сместились шейные позвонки.
Лидочка схватилась за глаз, и телохранитель ударил ее в живот, руки у него были длинные, ему почти не пришлось наклоняться.
Лидочка согнулась, не отпуская рук от глаза.
— Ты будешь говорить? — спокойно спросил Петрик. Лидочка не поднимала головы и не открывала глаз, но представляла перед собой эту плотную статную фигуру в широком, верблюжьего цвета пальто, эти розовые детские щеки, эти добрые маленькие глаза. Он был как брат Сони — только Соня вся мягкая, податливая, близорукая и щечки мягкие, тронь пальцем — палец провалится, тогда как у Петрика тело и лицо были упруги, тверды, надуты молодым мясом.
— Я не знаю.
— Тогда слушай меня, курва, внимательно, — сказал Петрик. — Времени у меня мало. Так сказать, на земле меня ждет быстрокрылая птица. Без этих баксов моя жизнь за рубежом осложнится. Мне надо скрываться от плохих мальчиков, моих врагов, мне надо жить и основать свой бизнес. У меня большие планы. Так что мои деньги мне нужны, ты поняла?
Лидочка ничего не поняла. Глаз болел — как бы бандит не повредил его…
— Сейчас ты скажешь мне, где лежат эти бабки. Они все равно не твои, и тебе они не нужны. У тебя муж зарабатывает — тебе не нужно.
— Я не знаю, — произнесла Лидочка, скорее из чистого упрямства, потому что Петрик был совершенно прав — у нее муж хорошо зарабатывал и она сама зарабатывала — зачем ей нужны были эти чужие деньги? Но деньги были грязные, из-за этих денег убили Алену и Осетрова. Эти деньги надо отдать лейтенанту Шустову, и пускай он сам разбирается, кому они принадлежат.
Телохранитель больно ударил Лидочку в бок; оттого что она не ожидала удара, получилось особенно больно — Лидочка даже вскрикнула.
— Кричи — не кричи, — наставительно произнес Петрик. — Тут стены толстые — в соседних квартирах не слышно. В десятом классе я в этом доме одну телку тянул, она вопила, как коза недорезанная, — хоть бы кто услышал.
Петрик говорил серьезно, а телохранитель громко рассмеялся.
— Ты внимательно слушай, — продолжал Петрик ровным и скучным голосом. — Времени у нас нет. Гоша будет тебя мучить. Он тебе сделает очень больно. Он выдавит твои глазки и сломает твои пальчики — и никто тебе не поможет. Подумай, стоят ли чужие деньги таких мучений?
Лидочка не ответила. Ей был отвратителен этот поучающий тон, эта уверенность в себе, ей хотелось, чтобы Петрику было плохо, чтобы он трусил, бесился, и чтобы ему не достались эти деньги, и не улетел он в Австралию-Португалию. Невозможно было подумать, чем это может грозить ей самой, — злость на Петрика была сильнее.
— Неужели ты не понимаешь, курва, что из-за этих бабок уже несколько человек концы отдали? Сначала я.
— Как так? — Лидочка попыталась поднять голову.
Петрик усмехнулся.
— Ты же сама видела, как меня истребляли эти козлы зверские.
— К сожалению, не истребили.
— К сожалению или к счастью, но Алену тоже убили из-за этих бабок.
— Вы убили?
— Убили, и дело с концом.
— Потом Осетрова.
— Лидия Кирилловна, — согласился Петрик, обнаружив, что знает ее отчество, — вы видели этого глупого и жадного человека и знаете, как он умирал? Как раздавленный муравей.
Телохранитель снова засмеялся. У Петрика был очень веселый телохранитель. Петрик подождал, пока Гоша отсмеется, и продолжал:
— Мы ошиблись. Не было у Осетрова денег, не нашел он их. А завладела ими ты — человек совсем уж случайный. Как это получилось?
— Не знаю.
— Гоша, сделай тете больно, — посоветовал телохранителю Петрик. — У нас нет времени на долгие беседы.
Гоша крепко, но почти нежно взял руку Лидочки, и когда она стала рваться, испугавшись этой нежности, он принялся отгибать ее указательный палец назад.
— Не надо! — закричала Лида. Она не собиралась становиться героиней.
— Ой, не надо! — Соня бледная до синевы появилась в дверях. — Пожалуйста, не надо, она все скажет.
— Подожди, Гоша, — сказал Петрик, дав Соне возможность выговориться.
Гоша чуть ослабил давление на палец, и боль отпустила.
— Лидочка, пожалуйста, отдай им деньги. Ну отдай же! Они не отстанут! Они Осетрова убили! Они всех убьют, они такие люди.
— Вот, слышишь голос народа, — подтвердил ее слова Петрик. — А ей лучше знать.
— Не делайте ей больно, она все скажет! — повторяла Соня.
— Поймите, Лидия Кирилловна, — заявил Петрик, облокачиваясь на зеркальную дверцу платяного шкафа, отчего Петрик как бы удвоился и стал каким-то монстром, — меня не интересуют ваши рассуждения или терзания. Меня интересуют мои деньги. Понимаете, мои! Я их дал на сохранение Алене Флотской. Об этом узнал ее любовник, Осетров. Подтверди, Сонька.
— Да, так и было, — скучным голосом сказала Соня.
— Он отравил Аленку: воспользовавшись тем, что она ему пригрозила отравиться, решил, что подворачивается удобный случай… Все подумают, что так и было. Она поиграть хотела, чтобы он от жены ушел, а он воспользовался, — простая история, как в американском сериале про Марию.
Петрик усмехнулся усталой улыбкой делового человека, измученного конференциями, симпозиумами, контрактами, презентациями и организованным развратом в дорогих казино. Усмешка была такой отрепетированной и лживой, что Лидочка на секунду забыла о том, что над ней нависает груда тупых мышц по имени Гоша.
— Но бабки эти — мои! Понимаешь, мои! Их для меня Сонька там спрятала! За процент. Я сам в бегах, меня кинули на большие бабки, очень большие — тебе такие и не снились. Мне кредит не вернуть, теперь они меня кончить хотят — счетчик включен. Я бы ушел неделю назад — но бабки Аленкины пропали. Я тебе честно говорю, кем мне быть… Ты отойди, Гоша, не действуй на нервы, пойди на кухню, приготовь нам кофе. И ты, Соня, помоги Гоше.
У Петрика было не лишенное привлекательности открытое славянское лицо, чересчур полное, чересчур тугое, но ничего преступного в лице не было.
Спутники Петрика вышли из комнаты — впереди Соня, сзади, подталкивая ее, Гоша.
— Вы извините, Лидия Кирилловна, что я разрешил Гоше вас ударить. Это от нервов. Я в таком стрессе живу, голова кругом идет. Честное слово, я не хотел.
А ведь искренне полагает, что ничего особенного не произошло — зашли в квартиру, врезали в глаз, отломали палец — ничего особенного. А теперь поговорим, как культурные люди. Он был даже не мерзавцем, а каким-то обрубком человека, в котором недоставало самых обыкновенных человеческих качеств, чего он не замечал, потому что болезнью этой страдали и люди, которые его окружали. Они так быстро схватили все то, о чем раньше им рассказывали лишь в американских фильмах, что искренне своими динозаврьими мозгами, способными к ограниченным функциям — обманывать, отнимать, пугать, — полагали естественным деление мира на своих — таких же, как они, и неких прочих — ряды которых они так недавно покинули и куда страшились возвратиться. За сумму полученных удовольствий им приходилось платить повышенным риском существования, потому что хищники, питавшиеся ими, далеко превосходили Петрика и Гошу по жестокости и полному отсутствию человеческих качеств сродни жалости, морали и состраданию.
Не дождавшись от Лидочки отпущения грехов, Петрик продолжал, стараясь убедить ее в своей правоте:
— И понимаете, что случилось, — вы обхохочетесь…
Эта перспектива Лидочке не угрожала.
— …Вдруг мы узнаем, что Алена отдала концы. Я лежу на койке в больнице, шлепнутый на разборке, Сонька утром приехала к Алене и видит, что та мертва. Понимаешь? Я не в курсе. Сонька — моему партнеру, ты его не знаешь, — так и так, Аленка концы отдала, понимаешь?
На кухне шумела вода, оттуда доносились неразборчивые голоса. Гошин, резкий, рваный, будто он все время матерился, и Сонькин, плачущий, молящий.
— Эй вы, потише там, уши оборву! — прикрикнул Петрик в открытую дверь. Потом он вновь обернулся к Лидочке. — Аленка концы отдала, а бабок нет. Понимаешь — Сонька знала, где бабки. Аленка держала ее в курсе. Мало ли что случится. В сортире, в бачке, в пластиковом мешке, сечешь? Сонька первым делом туда — она же боялась, понимаешь? И нет бабок. Тридцать пять тысяч баксов.
Словарный запас у Петрика был невелик, и любопытно было, как он смог закончить школу с такими способностями.
Петрик поднял стул и сел напротив Лидочки, чтобы быть ближе и говорить тише. Почему-то он опасался и своего Гоши. А может, не доверял Соньке. Черт разберет его примитивную, но хитрую душу.
— Мне в больнице сообщили. А я там лежал и думал — как рвануть, пока не добили, — они же найдут, сама понимаешь. Только Лариска мне шмотки принесла, Гоша прикрыл, тут мой напарник рапортует — бабки накрылись. Ну, у меня крыша поехала от такой невезухи. Понимаешь?
Петрика смущало отсутствие заинтересованной реакции собеседницы. Ведь он полагал Лидочку именно собеседницей, совершенно не замечая заплывшего глаза и посиневшей щеки.
— Ты хоть слышишь? — спросил он. Но понял, что, конечно же, слышит и счел за лучшее продолжать: — Я сразу вычисляю, кто там был. Понимаю, что Осетров. И вычисляю — просто, как в аптеке. Аленка решила этого Осетрова купить за мои бабки, сечешь? Тридцать пять штук — на это можно начать новую жизнь на острове Гаити или под городком Рига. Но Осетров просек иначе — зачем делиться с телкой, которая надоела? Он ее подкормил чем надо, бабки взял — и долой. Теперь тебе расклад ясен? Ну ладно, молчи, обижайся, хоть и не права. Люди и за меньшие бабки горло перегрызали, а я тебе ничего плохого пока не сделал. Я тебе только ситуацию проясняю. Чтобы ты понимала мою позицию… Значит, бабки у Осетрова, так? А где он их прячет? Надо его брать и колоть. Но он не дурак — он сразу рванул. Но куда? Где его найти? Я уж понял — с концами. Но ты нам помогла.
— Как? — Лидочка настолько удивилась, что нечаянно нарушила обет молчания.
— Ты Соньке сказала, что Осетров в лыжном костюме из дома ушел, чем, так сказать, подписала ему смертный приговор.
И Петрик довольно засмеялся. Вот смеяться ему было нельзя — лицо его не было приспособлено для смеха, оно стало глупым и гнусным. Впрочем, Лидочка вынуждена была себе признаться, что ее суждение необъективно. Она ненавидела эту рожу как воплощение всех современных пороков больного общества и как холодного мерзавца — он не мог показаться ей красивым или привлекательным.
— Я вычислил, — сказал Петрик. — У меня котелок не зря привинчен. Я вычислил, куда он мог рвануть в лыжном костюме — не в Ригу же! Значит, близко от Москвы. А дачи у него нет. Значит, в какое-то такое место, где холодно и неуютно. С целью — отсидеться и спрятать деньги. А может, и не отсиживаться — хрен его знает. Главное, я понял, где он прячется — на сгоревшей даче, у Аленкиной бабки. Во Внукове. Методом исключения. Сечешь?
Конечно же, секу, подумала Лидочка. Ему нетрудно было сделать такой вывод, особенно если рядом, неизвестно в какой роли — жертвы или сообщницы, находится однокашница и лучшая подруга Аленки, которая знает, где расположено бабушкино пепелище. Пепелище, куда и Осетров не раз ездил со своей любовницей, — хозблок, который лишь в бездомной России может служить уютным шалашом для возлюбленных. Все думали, что дача-то сгорела, а про сарайчик никто не подумал. Но Осетров подумал, а потом и Сонька подумала.
— Я только не мог догадаться, — продолжал Петрик, расстегивая пальто — ему стало жарко, — я не мог догадаться, что он сам деньги ищет. Я сам там не был, но люди, которые там работали, говорят, что он нечеловеческие муки выдержал — и не признался, где деньги спрятал. Такие не выносят. Я ятвягов на это дело отправил. Они русских ненавидят. Им мучить русского — одно наслаждение.
Петрик наклонил голову и внимательно посмотрел на Лидочку.
— Хочешь сказать, что я — убийца? Нет, я никогда никого пальцем не тронул. Мне это доктора не велят. Но ты пойми — довести можно любого. Я тоже хочу быть честным бизнесменом, ездить на своем «Мерседесе» и делать деньги. Но мне не дают! Я живу на помойке, в говне собачьем! Как я выбью свои деньги, если никто не хочет играть честно? Я спать ложусь — боюсь, что не проснусь.
Петрик разжигал себя, он говорил все громче. На кухне замолчали, прислушиваясь к монологу.
— Как мне достать Осетрова, если он украл мои бабки — ведь только двое знали про деньги. Сонька слишком меня боится, чтобы утаить — да и как она утаит, куда денет? А вот Осетров, комсволочь, решил меня прокатить. Вот и докатался. Получил, чего хотел!
— Но у него же не было денег! — вырвалось у Лидочки.
— Откуда я знал! Все против него! Может, если бы не исполнители, а я сам туда поехал, я бы поверил ему. А у ятвягов было задание — вынуть бабки. Они и прикончили его. Не поверили. Только удивились, какой упрямый, — ему так больно делали, а он денег не отдал. Его убивают, а он денег не дает… А теперь скажи мне, Лидия Кирилловна, как ты бабки перехватила?
Лида не ответила. Она все еще находилась в глупом, тупом состоянии, когда остатки разума диктовали ей единственный выход — немедленно отдать деньги этому бандиту! Но инстинкт самосохранения или чувство, схожее с ним, подсказывало иное: не сознаваться. Потому что как только ты сознаешься — пользы от тебя ровно грош, а вреда — в тысячу раз больше. Ты опасный свидетель. И тебя лучше и спокойней убить.
— Когда вы улетаете? — спросила Лидочка.
Петрик был удивлен. Светлые редкие брови уехали под космы желтых волос.
— Еще сказать — куда?
— Я спрашиваю — когда вы улетаете? — повторила вопрос Лидочка.
— Зачем тебе знать?
— Я хочу жить, — ответила Лидочка.
— Объяснись.
— Я объяснюсь, и вы ничем не рискуете, сказав мне правду.
— А если не скажу? Если совру?
— Вы же не знаете, что вам выгоднее — врать или не врать, в какую сторону врать…
Петрик задумался. Но не придумал ничего убедительного. Потому сказал, решив, видно, что ему и в самом деле ничего не угрожает:
— Рейс у меня в четырнадцать сорок.
— Куда?
— Неважно. За границу.
— Границ теперь много.
— Границ теперь много, — повторил Петрик. — Зачем спрашивали?
— Осталось четыре часа. Вам пора уже собираться.
— Пора. А я теряю на вас время.
— Тогда я объясню. Честно. Потому что надеюсь, что вы мне не соврали.
Петрик вдруг обиделся.
— Погоди! — приказал он. Он дотянулся до двери в коридор. Толкнул ее и громко спросил телохранителя: — Гоша, во сколько рейс?
— Четырнадцать сорок две. Люфтганза.
— Вот это лишнее, — заметил Петрик. — Когда тебе задают вопросы, то отвечай на вопрос, а не про Люфтганзу.
— Так ты же сказал, когда рейс?
— Ты бы еще номер сказал.
— Семнадцать тридцать два, а что?
Петрик закрыл дверь и сказал, цитируя какой-то фильм:
— Видите, с какими людьми приходится работать.
Он снова опустился на стул и деловито спросил:
— Зачем задавали вопрос?
— Потому что я рассуждала, — сказала Лидочка, — говорить про деньги или не говорить.
— И что рассудила? — Разговор стал совсем уж мирным.
— Если бы рейс, скажем, завтра или сегодня ночью, — я бы предпочла рискнуть.
— В каком смысле?
— Чтобы вы пытались из меня выбить информацию о деньгах. Может быть, вам бы это не удалось. И пришла бы милиция. Или кто-то еще. Мы не в джунглях.
— Мы в джунглях, — печально возразил Петрик. Но глазенки у него зажглись жадной надеждой.
— Если бы самолет был завтра, вы бы меня убили, как только я сознаюсь.
— Почему? Мы никого не убиваем.
— Вы еще можете изображать справедливый гнев?
У Петрика не было чувства юмора. Он очень рассердился, и даже рука сжалась в кулак.
— Успокойтесь, — сказала Лидочка. — Вам нет нужды меня убивать. Потому что до самолета осталось всего ничего. Свяжите меня, и дело с концом.
— Значит, скажете, где бабки?
— Вы должны были давно догадаться. Я знаю, где они. Они у лейтенанта Шустова.
Позже Лидочка не могла себе объяснить, какой черт дернул ее за язык! За секунду до этого она и в мыслях не имела подобной дерзости. И, совершив этот глупейший шаг, Лидочка даже не сообразила сразу, что наделала.
— У какого лейтенанта? — тихо спросил Петрик.
— У Шустова.
— Когда?
— Вчера. В поселке. Они их нашли. Тридцать пять тысяч. Осетров закопал их.
— А ты откуда узнала?
— Шустов сказал. Тридцать пять тысяч. В жестяной банке.
— Почему Шустов сказал?
От двери раздался голос Сони. Ее было почти не видно за прикрытой дверью.
— Шустов к ней неровно дышит.
— Помолчи, — приказал Петрик.
Он поднялся, подошел к окну, он думал.
— А где была закопана жестяная банка? — спросил он.
— Не знаю. Откуда мне знать. Шустов сказал, что была банка и в ней тридцать пять тысяч.
— Нет, — сказал Петрик. — Я тебе не верю. Я ятвягам верю. Я верю, что Осетров сам искал деньги, потому и приехал на дачу, чтобы их найти. Думал, что Алена их там припрятала. Потому и приехал. А не для того, чтобы от милиции скрываться. От милиции так не скрываются, а ради бабок он уже женщину убил, значит, он на все пошел бы.
— Вот и не признался, — сказала Лидочка.
— Нет, не верю. Деньги у тебя.
— А может, их Татьяна Иосифовна нашла? — спросила Соня из-за двери.
— Она бы не стала Лидии Кирилловне говорить. Она бы никому не сказала! Она бы уже на дороге в Израиль находилась, кем мне быть!
Гоша засмеялся.
— Гоша, — попросил Петрик, — будь дружок, покажи этой суке все, что ты умеешь делать.
— В Израиль, — повторил Гоша. У него были прижатые к голове уши и подбородок, убегающий, как у Габсбургов. — Петрик, дай мне ее трахнуть, — попросил он, как будто попросил купить мороженого. — Дай я ее потяну!
— Ой, не надо! — испугалась Соня. — Ой, не надо, мальчики!
— А что, — сказал Петрик, — это идея. Давай.
— Не надо! — завизжала Соня.
Петрик, почти не оборачиваясь, — угадал, куда бить, ударил ее в висок. Соня сползла вниз по двери — толстые руки были растопырены, как у старой куклы.
Гоша рванул к себе Лидочку, от него пахло чесноком, он упал на диван, подмял Лидочку и стал рвать на ней свитер — было тяжело, вонюче, нечем дышать… и страшно… Ей хотелось утешить себя, что у него не получится, он не сможет… это все бред, это снится, — но у Гоши были каменные руки — можно было лишь царапать их — трещала материя, и Петрик, она на мгновение, крутя головой, увидела, как он улыбается, глядя вниз, и с удовольствием закуривает…
Лидочка понимала, что она должна успеть все сказать — сказать прежде, чем Гоша изнасилует ее.
— Я скажу! — закричала она.
— Что?
— Пускай он… пускай отпустит.
— Ни хрена! — рявкнул Гоша.
— Я тебе говорю — отпусти!
Но Гоша не слышал — он сражался с одеждой Лидочки и никак не мог все распутать.
И вдруг он взвыл и освободил Лидочку. Он поднимался, держась за бедро, видно, Петрик ударил его ногой.
Он матерился — тупо и страшно — и пошел на Петрика.
— Стой! — Петрик отступил в коридор.
— Я убью тя! — ревел Гоша. — Убью!
— Стой! — Петрик скрылся в коридоре. Гоша — за ним, и оттуда, из коридора, послышались короткие сухие удары — выстрелы. Крик Гоши оборвался на низкой, контрабасной ноте. Потом что-то мягкое и тяжелое ударилось об пол…
Лидочка догадалась, что это упал Гоша. И ей было радостно и тихо. Как будто все уже кончилось.
Петрик вошел в комнату. Он держал в руке пистолет.
— Ты его убил? — Оказывается, Соня присела за шкафом, в углу. Это она спросила шепотом.
— Он бы меня кончил, — сказал Петрик. — Ну ладно, времени в обрез.
Он наставил пистолет на Лидочку.
— Слушай, Лидия Кирилловна, мне теперь терять совершенно нечего. Или я вырываюсь из этой страны, или мне конец. Ты понимаешь…
— Алик, — просила Соня, так и не поднимаясь с пола, — Аличка, Петрик, не надо.
— Чего не надо?
Соня не ответила, только ныла.
Петрик не обращал на нее внимания.
Он смотрел на Лидочку.
— Говори, где бабки. Иначе я стреляю. И это хуже, чем то, что хотел сделать с тобой мальчик Гоша. Я стреляю тебе в руку. Потом в другую…
— Деньги в шкатулке, в двойном дне. Я их случайно нашла. На кухне, на столе, — быстро заговорила Лида.
Лидочка поняла, что смертельно устала и ей ничего не нужно — ни денег, ни правды, ни торжества справедливости…
— Сонька, проверь, — приказал Петрик.
— Сейчас, — сказала Соня, поднимаясь, — сейчас, одну минутку.
Она поднялась, держась за стену, и так, перебирая рукой по стене, по шкафу, вышла на кухню.
— Переверни, — объяснила ей вслед Лидочка, — и потяни.
— Я не знаю, — откликнулась Соня, — не получается.
— Вставай, — приказал Лидочке Петрик, не опуская пистолета. — Покажешь ей, как надо.
Оказалось, что очень трудно подняться с постели, потому что вся одежда сбилась в какой-то клубок, Лидочка все же смогла оправить свитер. Она застеснялась поправлять колготки, и Петрик понял — сказал:
— Я на тебя не смотрю. Ты для меня все равно что говно коровье. Быстро!
Лидочка поверила, что это так и есть, — он не видел ничего, кроме денег.
— Отойдите, — сказала она. Петрик шагнул в сторону, освобождая ей проход. Лидочку шатнуло.
Она вышла на кухню. Юбка на ней была разорвана. Краем глаза в конце коридора она увидела лежащую груду одежды — это и был Гоша. Но туда не надо было смотреть.
На кухонном столе лежала опрокинутая кверху дном шкатулка, и Соня бессмысленно возила по ней ладонью.
Лидочка спиной почувствовала, что Петрик обернулся и смотрит ей вслед.
Лидочка уже привычно провела рукой по днищу шкатулки, и дно отъехало в сторону. Пачки долларов разбежались по столу.
— Ой! — пискнула Соня.
— Они, — сказал Петрик.
Он подошел к столу — для этого ему пришлось оттолкнуть Лидочку. Она отшатнулась от стола, и у нее мелькнула мысль — кинуться к окну, разбить его и закричать — может, он не посмеет выстрелить? А если посмеет?
— Сумку! — приказал Петрик.
Он стоял в двух шагах от Лидочки, но эти два шага были длинными, как стометровка, — никогда не достать, не выбить пистолет, ничего не сделать.
— А где? — спросила Соня.
Как всегда в моменты нервного напряжения, она покраснела, глаза наполнились слезами и распухли, по щечкам побежали синие жилки. Волосы прядями выбились из пучка и висели макаронами по обе стороны щекастого лица.
— В коридоре на тумбочке. И быстрее!
— Я понимаю, — сказала Соня, — я знаю, нам надо спешить.
Лидочка равнодушно и устало смотрела, как Петрик собирает деньги в пачку, потом он, видно, передумал класть их в сумку — понял, что пачки поместятся в карманах. Сонечка вошла с сумкой, и он сказал:
— Не надо, обойдусь!
— И что? — спросила Соня. Она вела себя, как автомат.
— Что будем делать с Лидией Кирилловной? — спросил Петрик.
Лида обернулась к нему и увидела, что на пальто спереди брызги крови, — попало, когда он убил Гошу.
— Ничего не надо делать! — попросила Соня.
— Дура. Через три минуты она будет в милиции.
— А она пообещает.
— Пообещает? — Петрик даже удивился. — Пообещаешь? — это уже относилось к Лидочке.
А ей было настолько все равно, настолько голова отказывалась работать, что она ответила:
— Нет, не обещаю.
— Вот видишь, — сказал Петрик. — Придется убирать.
— Ой, только не это, уже столько всего…
— Трупом больше, трупом меньше, — философски заметил Петрик.
— Давай ее запрем в комнату.
— Чтобы она выпрыгнула через окно?.. — Петрик почесал пистолетом за ухом, и Лидочка вдруг вознадеялась, что пистолет выстрелит. Ради торжества справедливости. Но пистолет не выстрелил.
— Ладно, — сказал Петрик, — я же не дикий. Только смотри, чтобы хуже не было. Вяжи ее к стулу.
Он сунул руку в сумку, достал оттуда большой рулон серой пластиковой липкой ленты, какой грузчики обматывают вещи при перевозке.
— Садись! — приказал Петрик. — Если не сядешь сразу — пристрелю. Ты же должна понимать!
И Лидочка поняла, что у Петрика в самом деле нет выхода. Он не может оставить ее на свободе.
Она села на стул.
— Руки назад! — приказал Петрик. Потом велел Соне: — Заматывай кисти. Как следует! Не в детские игры играешь.
Соня почему-то сказала:
— Извини, Лида.
Она ничего не ответила. Очень болели глаз и бедро — видно, вывихнула его, сопротивляясь Гоше.
Петрик положил пистолет на стол и сказал Соне:
— Давай сюда ленту.
Он начал мотать поверх повязки, сделанной Соней. Сразу руки стянуло так, что стало трудно шевелить пальцами.
— Вот так, — сказал Петрик. — Именно так. Теперь не брыкайся, а то пострадаешь.
Он был в отличном состоянии духа. И причина тому была раскрыта им тут же:
— Греют баксы, лежат на груди и греют.
Петрик опустился на корточки и принялся приматывать ноги Лидочки к ножкам стула. Соня принесла ему нож из кухни, чтобы не рвать, а резать ленту. Петрик мотал быстро и ловко. Лидочка ощутила себя частью стула — вот такой стул, состоящий из деревянной и мясной частей. Можно сесть и облокотиться.
— А теперь, — сказал Петрик, — последний штрих.
Он начал заматывать лентой и рот Лидочки. Она крутила головой, толкала ленту языком, чтобы оставить себе место перед губами — но Петрик оказался хитрее и сноровистее. Лидочка была закована абсолютно надежно и понимала, что в отличие от приключенческих романов, в которых героине обязательно удастся ослабить узы и скинуть оковы, ее положение безнадежно.
Петрик отступил на шаг. Он был доволен.
— Живи, — сказал он Лидочке. — И благодари меня. Ей-богу, на моем месте другой обязательно бы тебя пришил.
Соня сказала:
— Я боюсь одеваться, он там лежит.
Увидев, что Лидочка связана, она как бы сняла с себя ответственность за ее дальнейшую судьбу — Лидочке ничего не угрожало.
— А тебе не нужно одеваться, — сказал Петрик. Он снова был настороже, пистолет в руке.
— Ты что, Петрик?
— Садись на другой стул, — предложил ей Петрик ровным и даже веселым голосом.
— Ну ты что, шутишь, да? Шутишь? — в голосе Сони вновь возникли хныкающие интонации.
— Хватит, — отрезал Петрик. — Хочешь жить, садись на стул.
— Но мы же с тобой улетаем в Германию, — произнесла Соня, теряя уверенность в себе и в отлете.
— Нет, — сказал Петрик. — Ты не летишь в Германию. Боливар двоих не свезет.
— Какой еще Боливар?
— Надо читать художественную литературу. Вот твоя подруга Лида наверняка читала писателя Джека Лондона.
Лиде вдруг захотелось поправить этого идиота и крикнуть: «О'Генри!», но лента цепко и плотно замотала рот. Ни звука не издашь.
— Петрик, миленький, ты же меня не бросишь? — умоляла Соня. — Я же все для тебя сделала.
— Лучше помолчи. Сама же просила Лиду оставить жить — теперь при ней помолчи.
Но Соня не поняла предупреждения.
— Я не о Лиде! — закричала она, видя, что Петрик взял со стола катушку ленты. — Я о себе. Петрик, ты же обещал!
— Садись!
Самое удивительное, что Соня настолько, видно, привыкла подчиняться Петрику, что она пододвинула второй стул и села на него. Не могла не сесть.
— Петрик, — сказала она. — Я же ради тебя грех на душу взяла. Ты забыл, да? Ты поклялся, что за это меня увезешь! Ты меня любишь, ведь любишь? Ты меня не обманывал?
Петрик стал отматывать конец ленты.
— Петрик, я же твою таблетку ей подложила в бутылочку!
— Подложила так подложила, твое дело. А я думал, что Осетров подложил. А оказывается, ты у нас — отравительница!
— Ну зачем ты так говоришь? Ведь ты мне дал таблетку. И даже посоветовал с Аленкой все спланировать, и письмо мы с ней придумали для Осетрова! Ведь правда, Петрик?
— Не знаю. В первый раз слышу! Руки назад!
— Нет!
Он ударил ее по щеке, голова мотнулась, и Сонечка покорно протянула руки назад, чтобы Петрику было удобнее их связывать.
— Петрик, ты забыл, да? — Она была в тихой тупой истерике, и ей казалось, что если она напомнит Петрику все, как было, он спохватится, попросит у нее прощения и возьмет с собой в Германию. — Я же Аленку уговорила Осетрова вызвать и пригрозить. Я же не хотела ее убивать.
— Но пришлось, правда? — Петрик был занят, приматывая Соню к стулу, и спросил, как бы отвлекая ее от того, что с ней происходит.
— Но ведь тебе нужны были деньги, ты без них бы погиб! — закричала в ответ Соня. — Петрик, я же тебя спасла. Я все сделала, как ты велел. И таблетку в бутылочку подложила, и даже к Татьяне уехала для алиби.
Господи, все получается наоборот, поняла вдруг Лидочка. Они договорились с Аленой, что та устроит сцену с самоубийством для Осетрова, а лучшая подруга Сонечка подложила в бутылочку с таблетками одну лишнюю — поэтому-то Аленка и не смогла, как договорились, вызвать «Скорую»… Сонечка-то, оказывается, любила этого злобного убийцу, и спасала его, и верила, что он возьмет ее с собой в сладкую заграницу. И ей не жалко было подругу — может, она любила его еще со школы и, когда он снова появился в ее не очень богатой поклонниками жизни, она растаяла, как снежная баба весной. Подложить лишнюю таблетку — и кинуться к маме подруги, чтобы уговаривать ее спасти подругу от самоубийства, — замечательное алиби, которое ничего не стоит, но никому не могло прийти в голову, что Сонечка может быть замешана в преступлении. А Петрику были нужны деньги… разве это деньги Петрика, вранье это все, это другие деньги, деньги, которые Петрик намеревался получить, чтобы спасти свою драгоценную жизнь. Значит, это были деньги Осетрова, оставленные ему тестем?
— Петрик, миленький, я же тебя люблю, я никогда никому не скажу…
— Не дергай ногами, — сказал Петрик. — Если тебя здесь найдут, то подумают, что ты тоже жертва.
— Но ведь мы летим в Германию, да?
— Очень дорогие билеты, — ответил Петрик. — Мне твой билет не по карману.
Соня не почувствовала издевки.
— Но у тебя же теперь тридцать пять тысяч лишних…
— Лишних денег не бывает.
— Петрик, отпусти меня, я буду молчать… только отпусти.
— Заткнись, — сказал Петрик и неудачно дернул за конец ленты — она пошла рваться наискосок и потому кусок, который он наклеил на лицо Сони, оказался короток. Но оторвать следующий он не смог — катушка крутилась в руках, и Петрик никак не мог отделить кончик. Он выругался.
— Нельзя меня с Лидой оставлять, — сказала вдруг Соня, смирившаяся с тем, что ее оставляют в Москве. — Она все расскажет. Убей ее.
— Я, как только устроюсь, сразу тебя выпишу. Квартиру тебе сниму. Так что сиди и молчи. Ты сейчас жертва насилия. Тебя никто не заподозрит.
— Да? — Соня схватилась за соломинку, но соломинка оказалась слишком тонкой даже для готовой надеяться Сони. — Но Лида расскажет!
— Кто ей поверит? — сказал Петрик, примериваясь куском ленты ко рту своей возлюбленной.
— Ей поверят, — сказала Соня. — Убей ее.
— Хватит, — рассердился Петрик. — Ты из меня Синюю Бороду какую-то делаешь. Не буду я связанных женщин убивать. Не моя специальность. А если убивать — то обеих сразу. Лады?
— Нет, ты меня не понял… я буду за тебя, а она против тебя… Петрик, миленький, возьми меня с собой…
— Ты меня утопишь. Мне не нужен балласт.
Петрик ловко наклеил ей на рот кусок ленты, и Соня стала крутить головой, стараясь что-то сказать. Она надувала щеки, и Петрику стало смешно…
Женщины сидели на стульях рядом. В большой комнате.
— Никуда не рыпаться, — приказал Петрик. — Мне нужно три часа. Только три часа, а там ищите меня, где хотите. Так что молчите, или моя мстящая рука вас достанет из-под земли.
Он положил пистолет в карман пальто. Он не видел, что у него на пальто пятнышки крови.
— Все нормально, — сказал он, — мы никому не причиним вреда.
Он закрыл форточку и сказал:
— Не хочу, чтобы вы у меня простудились.
Затем прошел на кухню, там тоже хлопнула форточка.
Он вышел из кухни, не закрыв за собой дверь.
— Прощайте и простите, — сказал он. — Было приятно познакомиться.
Соня плакала и крутила головой, стараясь освободиться от ленты.
Лидочка не стала смотреть на Петрика.
Тот перекинул через плечо лямку сумки и вышел в коридор.
— Мать твою, — выругался он, — понакидали здесь трупов.
Это были его последние слова.
Хлопнула дверь.
Лидочка обернулась к Соне. Соня плакала, и слезы стекали по щекам и падали на грудь.
«Ничего, нас освободят, — мысленно уговаривала она Соню. — Я очень надеюсь на лейтенанта Шустова. Он обязательно пожелает меня допросить в десять утра. Довольно скоро. А час или два можно посидеть и так. Ведь Петрик мог нас и убить. Но пожалел. И правильно сделал».
Глава 10
Прилетай скорей!
Наверное, через минуту, не больше, после ухода Петрика Лида почувствовала запах газа. Тошнотворный, мертвый запах.
Где-то ей приходилось читать, что газ специально делают вонючим, чтобы люди не травились почем зря. Пахло не то чесноком, не то варящейся цветной капустой.
Лидочка стала вертеть головой — как же могло получиться, что этот дурак не закрыл газ, когда уходил из дома?
И тут же она поймала себя на том, что мыслит какими-то житейскими категориями: уходя из дома, не забудь выключить газ…
И тут завыла Сонька.
Она тоже почуяла газ и раньше, быстрее Лидочки поняла, что это означает.
Петрик, уходя, проверил, закрыты ли форточки, а потом спокойно открыл газ. Он не хотел рисковать.
С его сволочной позиции, поведение было вполне логичным. Он уже натворил столько, что двумя молодыми женскими телами больше или меньше, не играло особой роли. Правда, некоторую пикантность придавало всему то, что среди новых жертв оказалась Сонька, которая была верной помощницей и исполнительницей замыслов корыстного Петрика. Не исключено, что порой инициатива исходила от нее самой. Впрочем, трудно представить себе, как могла Сонька решиться убить свою подругу, — впрочем, даже это можно объяснить: ведь она ее не убивала, она как бы оставила подруге свободу выбора: хочешь пугать Осетрова, хочешь шантажировать его — погибнешь. Но ведь если бы Аленка не захотела этого делать, она бы осталась жива? Только все равно непонятно — какого черта было все это городить, если в распоряжении Петрика было такое запугивающее устройство, как Гоша, который теперь грудой одежды перегородил прихожую, и те звери, что замучили в сарае Осетрова?
Мысли эти текли в голове Лидочки, как текли бы и в любой другой обстановке, но все усиливающийся запах газа спутывал мысли и рождал страх.
Охваченная ужасом, Сонька рвалась и билась в путах, но, видно, немецкие изготовители липкой ленты делали ее на совесть… «О чем я думаю? Почему я все еще не умерла от страха?»
С жутким грохотом Сонька умудрилась-таки опрокинуть стул и свалиться набок. Но это не освободило ее, стул лишь вывернул, падая, ей ногу, и Соньке было больно, она выла все сильнее — даже странно, что можно так выть, если у тебя открыт только нос. А запах газа становился невыносимым, и Лидочка хотела лишь одного — чтобы ее не вырвало, ей было бы очень стыдно, если ее найдут всю испачканную в собственной рвоте, захлебнувшуюся ею.
Толстая, в рваной одежде Сонька выла у ног и дергалась, как червяк, на которого наступили… А какая она, смерть от удушья газом? Наступит ли сейчас просто туман или будет больно? Как ей хотелось выть, подобно Соньке…
И тут в дверь позвонили.
Самый обыкновенный звонок. Так звонит почтальон.
Сонька оборвала вой. И стало так тихо, что Лидочке показалось — а может, это так и было, — что она слышит шипение, с которым газ рвется из конфорок.
Звонок послышался снова.
— Ы-ы-ы-ы! — завыла вновь Соня. Но Лидочка понимала, что эти звуки слишком слабы, чтобы вырваться на лестничную площадку. Позвонили еще раз. Настойчиво.
И тогда в Лидочке возникла надежда, что люди, которые звонят в дверь, знают, что она там, внутри.
Она вдруг поняла, что рвется и бьется в тенетах, подобно Соне, сама не замечая того, — тело никак не хотело сдаваться, хотя дышать уже было нечем.
Потом звонки прекратились.
Ее охватил ужас, Лидочка поняла, что, не дозвонившись, спасители ушли…
И Соня замолчала — кажется, потеряла сознание.
Стало так тихо, что донеслись звуки с улицы. Нетерпеливый гудок автомобиля, которому кто-то помешал на повороте в Электрический переулок. Даже голоса на улице.
И вдруг Лидочка услышала голоса за дверью. Возможно, это было лишь наваждение, химеры умирающего мозга. А может быть, в таком критическом состоянии и органы чувств на несколько секунд могут приобретать дополнительные качества… И Лидочке показалось, что она слышит разговор за дверью. Голос коменданта Каликина:
— Петренко от них вышел, я видел, да соваться не стал…
Другой голос:
— Газом пахнет.
Комендант:
— И точно, газом пахнет.
И знакомый голос, который Лидочка почти узнала:
— Плохо дело. Надо принимать меры.
Комендант:
— Но вы же понимаете, что я никакой ответственности не несу…
Незнакомый голос:
— Лейтенант, ты что? Сейчас вызовем пожарных. Они с балкона заглянут.
— И увидят трупы?
— Ну не так уж все трагично…
Они продолжали говорить, но Лидочка уже не слышала — оказалось, что смерть от газа отвратительна, но безболезненна… Она вплыла в нее покорно и прекратила сражение…
Но грохот, который потряс квартиру, она услышала.
Еще удар. Еще.
Волна холодного чистого воздуха ворвалась в квартиру вместе с упавшей внутрь дверью — какое счастье, что они с Андрюшей так и не собрались поставить металлическую дверь — а ведь многие уже поставили…
Лидочка даже смогла поднять тяжелые веки… Мимо нее промчался Шустов. Оттолкнул ее стул с дороги, так что она ударилась о стену затылком, и перешагнул через Соньку, скорчившуюся на полу. Затем он сделал странную вещь — сорвал с себя ушанку и надел как перчатку на кулак — он скрылся в кухне, и оттуда раздался оглушительный звон.
— Вот дурак, вот дурак, — сказал комендант Каликин, остановившийся в дверях, — мне же снова стекла вставлять, вы же совсем выморозите Лидию Кирилловну… ну, что за люди пошли!
Никуда, ни в какую больницу Лидочка не поехала. Она лежала на диване.
Соню увезли в больницу — она была в шоке. И сильно отравилась газом — оказывается, его было больше у пола. Удивительно то, что остался жив и Гоша — он был без сознания, но лейтенант, который вернулся к Лидочке через два часа, чтобы навестить ее и проверить, вставил ли комендант стекло, сказал сразу, что этот кусок мяса будет жить. Вот точно будет жить — все человечество перемрет, а он и амебы будут жить.
Лейтенант забежал на минутку.
Он сказал:
— Доктор бюллетень выпишет. Я с ним говорил.
Лидочка улыбнулась лейтенанту. Он был слишком красивенький, но, пожалуй, это и недоразвитость чувства юмора были его единственными недостатками.
— Я бы себе никогда не простил, — сказал он.
Лейтенант стоял в ногах дивана, сжимая в сильных руках шапку, которой он разбил окно, чтобы не порезать пальцы.
— Конечно, лучше было открыть, — крикнул из кухни комендант, который возился там со стеклом. В комнате было холодно, но, к счастью, на улице снова началась оттепель. Лидочка была накрыта всеми одеялами, что нашлись в доме, и ей было хорошо, потому что главное — это когда много воздуха, когда нет окон, дверей — ничего. Только воздух.
— Мы поставим электрическую плиту, — сообщила она лейтенанту.
— Разумно, — согласился тот.
— Как Сонечка? — спросила Лидочка.
— Какая она к черту Сонечка! Сонька — золотая ручка, — мрачно сказал лейтенант.
— Я знаю, что она подложила Алене таблетку цианистого калия.
— Да, Петренко достал ей яд в облатке, которая была точно такой же, как у снотворного. А какая подлость — сначала уговорить подругу совершить видимость самоубийства и даже вместе с ней подсчитать, сколько нужно таблеток, а потом спокойно подложить ей смертельную таблетку и уехать к ее родной матери — к матери, понимаешь, — чтобы добыть себе алиби! Ну ведь сволочь!
— Сволочь, — откликнулся из кухни комендант.
— А вы помолчите, гражданин Каликин. Мне вами тоже хочется заняться.
— Это еще почему?
— А за наводку.
— Такое оскорбление смывается кровью, — Каликин появился в дверях. Он вытирал пальцы от замазки. — И его еще надо доказать.
— Мы докажем, — сказал лейтенант.
— Это конечно, вы что хотите — докажете, — согласился комендант и вернулся на кухню, откуда он продолжал подслушивать разговор.
— И все из-за денег, — произнес Шустов.
— Андрей Львович, — попросила Лидочка, — я так и не поняла, зачем Петренко давал Алене деньги на хранение, а потом ее же и убил.
— Да врали они вам! Лапшу на уши, извините, вешали.
— Это были другие деньги?
— Тридцать пять тысяч баксов?
Лидочка улыбнулась — даже лейтенант употреблял современное словечко.
— Да, тридцать пять.
— А я еще вчера вычислил, откуда эта сумма взялась. Только не догадался, что вы ее у нас перехватили. Тридцать пять тысяч. Столько Алена Флотская получила за свой участок, за так называемое пепелище с сараем.
— Так много?
— Престижный район, хороший старый участок, все коммуникации. Конечно, это незаконно — торговать кооперативной землей, но все так делают. Года два участок пустовал — они с Осетровым, а иногда с Соней туда ездили, и тут недавно получили хорошее предложение — один миллионер, их сосед, решил там строиться. Ну и заплатил… Я с ним вчера говорил — он ничего не отрицал. Его зовут…
— Константин? — спросила Лидочка.
— Вы и это знаете?
— Нет, просто я идиотка! Этот человек был на поминках Алены и даже сказал мне, что он — наследник Маргариты Потаповой, но я не догадалась, в каком смысле. Вот идиотка!
— Ну вот, я вчера же, когда труп Осетрова нашли, пришел к выводу, что Осетров приезжал туда не прятаться от нас, а что-то искал. Что-то настолько важное, что рисковал свободой и всем — только найти!
— А почему вы решили, что он искал?
— Потому что в этом сарае и вокруг него тщательные поиски были произведены два раза — сначала везде свежие отпечатки Осетрова. Везде — и на пустых кастрюлях, и на банках, и в подполе, и под обоями, — везде, понимается? А поверх них — отпечатки тех, кто его мучил и убил. Значит, Осетров едет во Внуково и что-то ищет. Потом приезжают наемные бандиты, которые ищут то же самое, что и он, и думают, что он нашел. А он не нашел. Иначе бы дал — уж очень они сильно его мучили. Вот тогда я и задумался: что им так было нужно? Если догадаюсь, то пойму, почему убили Алену. Правильно?
— Правильно, — похвалила лейтенанта Лидочка. — Вы бы разделись, сделали себе кофе.
— Нет, мне надо бежать, я же на минутку, только отчитаться.
— Ну ладно…
— Я решил — за этим лежат деньги. Большие деньги. У нас в девяноста процентах за убийствами лежат деньги, а остальные проценты — пьянка. Я стал думать — а откуда могут оказаться большие деньги у Елены Флотской? Только от недвижимости. Теперь все недвижимость покупают. Тут же меня посетила идея. И она оказалась правильной — я связался с председателем кооператива «Наставник» во Внукове. Потому что по документам там был участок у бабушки. И он мне сказал, что всего месяц или два назад участок Флотской перешел к гражданину К. М. Абзианидзе. Формально там сумма была невелика — миллионов пять — за сарай и яблони. Но я понял — я на верном пути! Тут же позвонил этому Константину Михайловичу. И он даже скрывать не стал — тридцать пять тысяч! Значит, я на верном пути, потому что трупы есть, а денег нет. Ты меня слушаешь?
— Разумеется.
— Значит, месяц назад он передал ей наличными тридцать пять тысяч долларов. А где они? И я принимаю рабочую гипотезу — они и есть причина смерти Алены. А раз так, то куда они делись? И я вычисляю — преступники их пока не нашли. А кто мог о них знать? Три человека: Соня, Осетров и, может быть, но менее вероятно — Татьяна Иосифовна.
— Она точно не знала, но подозревала, — подсказала Лидочка. — Поэтому она и поехала во Внуково со мной. Ей хотелось узнать — принадлежит ли ей еще участок или он уже продан. Она чувствовала.
— Я тоже так думаю, — согласился милиционер.
В комнату незамеченным вошел комендант и остановился в дверях.
— Значит, — продолжал лейтенант, — остаются два человека. У Сони — железное алиби — она всю ночь уговаривала маму спасти дочь. У Осетрова — ни алиби, ничего. Только шкатулка, которую он притащил мне добровольно.
— Вы знаете, что деньги были в шкатулке?
— Теперь знаю, — сказал лейтенант. — Так что временно я ее снова изъял и понесу наказание за нарушение правил работы.
— Каких правил?
— А какой настоящий сыщик отдаст свидетельнице в подарок ящик с тридцатью пятью тысячами долларов? — коварно спросил комендант Каликин. — Надо быть большим разгильдяем…
Лейтенант громко откашлялся.
Лидочка хотела утешить лейтенанта, но поняла — тут его утешить трудно. И промолчала.
— Смерть Алены нам ничего не давала, кроме одного подозреваемого — Осетрова, которого мне подозревать не хотелось. Но вот смерть Осетрова сразу двинула все следствие вперед. Появилась сумма, ради которой можно целый взвод убить. И хоть подозрение с Осетрова было не снято, денег он не нашел. Раз его убили — значит, у нас есть другие кандидаты в убийцы. Которые знают про деньги и даже подозревают, что Осетров их взял.
— Я сдуру сказала Соне, что Осетров уехал в лыжном костюме.
— Да, не только я ошибаюсь, — сказал лейтенант.
— Ошибаетесь, — подтвердил комендант. — Меня, например, наводчиком считаете.
— Гражданин Каликин, стекло вставил?
— Дай послушать.
— Поставишь второе стекло, приходи слушать.
Каликин ушел, но дверь за собой не закрыл.
— Я и без ваших признаний, — сказал лейтенант, — понял, что искать надо в окружении Сони. Она знала точно сумму, они вместе с Аленой эти деньги получали и домой отвезли, в сумке…
— Но алиби!
— А вот тогда я подумал, — сказал Шустов, — и понял, что алиби совершенно липовое. Если ты знаешь, что человек вечером, есть ты рядом или нет, все равно собирается воспользоваться таблетками, то чем ты дальше от этого места, тем лучше. Что Соня и сделала. А если я ее подозреваю, то вообще вся поездка в Переделкино становится крайне сомнительной. Ну, подумайте, зачем в мороз, среди недели, вдруг кидаться к чужой, не любящей тебя женщине…
— Но если она искренне хотела предупредить?
— Кого? Татьяну Иосифовну? Да она же знала, что мамаша и не приподнимет своего… тела со стула ради Алены.
Лидочка согласилась.
Она устала, голова кружилась, хотелось спать, но лейтенант не видел, как угасает интерес слушательницы. Он был в эйфории сыщика, раскрывшего убийство.
— Итак, вчера вечером я имею два трупа, имею информацию про тридцать пять тысяч и знаю, что эти деньги ищут преступные структуры. Значит, моя задача номер один — найти тридцать пять тысяч и уж от них искать убийцу. Вот этот мой вывод чуть вас не погубил и все дело не засыпал. Знаете почему? Я не вычислил, что за спиной Сони стоит Петренко — он же в ту ночь в больнице был, да к тому же в одном классе с Аленой учился — не убивают девчат из своего класса, не принято это. И уж, конечно, я не сообразил, что собственными руками отдал вам все тридцать пять тысяч.
— А как вы об этом узнали?
— От Андрея Сергеевича.
— От кого?!
— От вашего супруга, — вздохнул Шустов.
— Как? Почему я не знаю?
Коменданту стало так любопытно, что, презрев запреты, он снова появился в дверях.
— Да вы живая, потому что он нас поднял. Если бы не он — я бы к вам через час пришел. И отыскал бы три теплых трупа.
— Как?
— Он позвонил вам — хотел узнать, как дела со шкатулкой. И он волновался, потому что понимал, что вы по наивности залезли в самую гущу событий. Он намного старше вас, да?
Шустов словно хотел примирить себя с существованием мужа у Лидочки. Если тот немолод, то ему и Лидочке многое прощается.
— На год старше, — Лидочка разочаровала милиционера. Он вздохнул, но продолжал:
— Он позвонил, а к телефону подошла Соня и плачущим голосом отшила его. Он как почувствовал, что вам грозит опасность. Как будто телепат.
— Он не телепат, — возразила Лидочка, — но мы живем много лет и друг друга понимаем.
— И вот он из города Каира позвонил в Краснопресненский райотдел милиции. И может, они бы не приняли сигнал всерьез, но все-таки из-за рубежа… Послали патрульную, позвонили пару раз… И дежурный догадался мне позвонить, он знал, что я этим делом занимаюсь. Ну я и бросился сюда.
— А они уже уехали, — сказал комендант. — Я на дворе был: бежит Шустов — лица нет. Я — за ним…
«Интересно, — подумала Лидочка, — а мне показалось, что все наше спасение заняло три минуты. Так сдвинулось время».
— И окно можно было не разбивать, — добавил комендант. — На вас стекол не напасешься.
— Я заплачу, — пообещала Лидочка.
— В общем, главного я не успел вычислить, — признался Шустов.
— Осетров тоже знал, сколько денег она получила?
— Любимому человеку такая тайна раскрывается — она же надеялась, что эти деньги изменят его планы.
— А от Сони спрятала, — сказала Лидочка.
— А от Сони спрятала. И даже никому не сказала про двойное дно шкатулки.
— Значит, вы точно знаете, что Соня Алену убила? — спросил комендант.
— А кто еще?
— Осетров? — допустила Лидочка.
— Нет. Осетров только воспользовался ее смертью, обыскал квартиру и, не найдя денег, кинулся на дачу — решил, что она их там спрятала. И если бы вы не проговорились Соне о лыжном костюме, они бы о даче не подумали. Ведь она уже чужая!
— А я бы отнесла вам деньги с утра. И вы бы никакого преступления не раскрыли.
— Вы не правы, Лидия Кирилловна, — сказал лейтенант, надевая шапку и показывая этим, что визит завершен. — Каждое преступление рано или поздно раскрывается. Закон свое возьмет. Так что отдыхайте, а если позволите, я вам завтра нанесу визит.
— Я буду рада, Андрей, — сказала Лидочка.
Шустов шагнул к двери, но ему загородил дорогу комендант Каликин.
— Нет уж, — сказал комендант, — попрошу сказать самое главное.
— А что главное? — удивился Шустов.
— Где деньги-то?
— Деньги?
— Тридцать пять тысяч. Где они?
— И вы не знаете, гражданин Каликин? — спросил лейтенант.
— Знал бы — не стал бы спрашивать.
— Деньги переданы на хранение в соответствующие органы.
— Их нашли? — вырвалось у Лидочки. — Чего же вы молчали?
— Вы не спрашивали, вот я и молчал, — ответил лейтенант.
— Так скажите!
— К сожалению, та группа преступников, которая совершила покушение на Петренко неделю назад у вашего подъезда, узнала, что он улетает и даже каким самолетом. Мы предполагаем, что они выследили его спутницу Ларису.
— Значит, он с самого начала не хотел брать с собой Соню?
— Еще чего ему не хватало! Она же некрасивая, — простодушно ответил Шустов.
— Но она же из-за него на все пошла.
— По крайней мере, пока она так утверждает.
— Почему пока? — спросил комендант.
— Да потому, что, когда она узнает, что Петренко мертв и нет ни одного свидетеля ее преступления, она наверняка откажется от своих показаний, а если не догадается, то адвокат подскажет. И засудить ее будет ох как трудно! Она обольет слезами весь суд, и ее оправдают… Вот посмотрите.
— Андрей, ты не говоришь главного — что случилось с Петренко?
— На шоссе, по дороге в Шереметьево, его машину остановили. Его и Ларису вывели и расстреляли из автоматов. И стали искать деньги.
— Их не было в машине? — спросил комендант, словно собирался тотчас же бежать за деньгами. — Где они?
— Их повез в своей машине сообщник Петренко. Он должен был передать их ему в аэропорту.
— И что же?
— Его там ждали. Наши люди. Куда ж тут денешься?
— И эти деньги, они чьи? — спросил комендант.
— Если бы не показания гражданина Абзианидзе о передаче им денег Алене Флотской, я бы их, честное слово, оставил бы Лидии Кирилловне.
— И правильно. Как компенсацию. Чуть не погибла. Посмотри на физиономию — половина черная, — согласился комендант.
Только тут Лидочка сообразила, что на ее лице должны остаться следы побоев. Она дотронулась до глазницы — ой, как больно!
— Пройдет, — сказал лейтенант, — небольшая гематома, лучше оставить как есть. Ваш молодой организм сам справится.
— Так чьи деньги? — настаивал комендант.
— Я думаю, их получит по суду Татьяна Иосифовна.
— Разумеется, — согласилась Лидочка. — Только, пожалуйста, вы потом мне отдадите шкатулку?
— Не знаю, — честно признался лейтенант. — Она будет фигурировать на суде, и Татьяна Иосифовна может пожелать оставить ее себе.
— Точно пожелает, — сказал комендант.
Лейтенант шагнул в коридор, потом обернулся и сказал:
— Самое главное всегда забываю!
Комендант обернулся — почуял добычу.
Лейтенант невежливо вытолкнул его на кухню и, вынув из «дипломата», положил перед Лидочкой на одеяло плоский пакет в старой газете и мешочек, полотняный, как кисет.
— Желаю скорейшего выздоровления, — сказал он. — До завтра.
Слышно было, как лейтенант что-то говорит на кухне коменданту. Потом хлопнула дверь. Лидочка развернула газету. Газета была хрупкой от старости. В ней лежали две общие тетради столетней давности — дневники Сергея Серафимовича, а в кисете — черепки и черные слитки из Трапезунда. Все-таки лейтенант отыскал их в сарайчике на пепелище — видно, никому они не пригодились.
И Лидочка, спрятав дневники в тумбочку у кровати, поняла, что хочет одного — спать.
— Будете уходить, захлопните за собой дверь! — крикнула она коменданту.
— Будет сделано! — откликнулся тот.
Теперь — спать.
Но зазвонил телефон. Междугородний.
Лидочка подняла трубку.
— Ну, ты жива! — радостно воскликнул Андрей. — А то знаешь, я утром даже испугался. Ты не сердишься, что я поднял на ноги милицию?
— Я не сержусь, — ответила Лидочка. — Когда же ты наконец вылетаешь?
— Сегодня ночью.
— Пожалуйста, прилетай скорей, — попросила Лидочка.
— А что? Что случилось?
— Мне надоело вставлять стекла на кухне.
ТАКИХ НЕ УБИВАЮТ
Глава 1
Более мирного начала для этой истории нельзя придумать. Лидочка лежала в самом настоящем гамаке и щурилась от пятнышек солнца, которые попадали в глаза, когда слабый ветерок покачивал вершины сосен или подталкивал гамак. Деловитая пчела сделала круг над гамаком, но не стала пугать Лидочку, а умчалась дальше. Синичка давно уже сидела на тонкой ветке и разглядывала Лидочку. Ну и что она могла разглядеть? Женщину лет тридцати, с пепельными, с такими уродилась, умеренно стриженными и чуть волнистыми волосами, синеглазую, именно синеглазую, а не сероглазую или не голубоглазую, что бывает куда чаще, пожалуй, слишком бледную для июля, но так уж получилось, что Лидочке не довелось в этом году побыть на открытом воздухе. Даже к Глущенкам она выбралась впервые за лето, хоть тысячу раз обещала.
На Лидочке был голубой, в белый горошек сарафан, а босоножки она сбросила, когда забиралась в гамак.
«Как хорошо, — подумала Лидочка, — когда ничего не случается. Ты здорова, все родные здоровы, друзья живы, и шумят сосны…»
— Лида, — позвала Итуся, — ты пойдешь или останешься?
Вопрос был риторическим. Глущенки собирались к Сергею именно потому, что эту идею подала им Лидочка. Она приехала утром и в разговоре упомянула Сергея, Глущенки сказали, что не были у него недели две, хоть он и снимает дачу в десяти минутах ходьбы. А теперь, раз Лидочка приехала, можно навестить ее старого приятеля. Лидочка послужила тем камнем, что вызывает, упав, круги в мирном водоеме. Без нее Глущенки провели бы воскресенье в милом безделье, отложив на завтра хозяйственные заботы. Вопрос Лидочки о Сергее напомнил Жене, что в холодильнике стоит невостребованная за отсутствием компании бутылка водки, а Лидочка привезла торт, который все равно втроем не одолеть. Итуся, не признаваясь никому, рада была не готовить обед: все решили, что поход к Сергею — лучшее времяпрепровождение для воскресного, к счастью, не очень жаркого дня.
Так и пошли, впереди Пуфик, неизвестно какой породы существо, имеющее звание тибетского терьера, затем Лидочка с тортом, Итуся с овощами со своего огорода, а потом Женя с сумкой, в которой таилась заветная бутылка и кое-какие закуски, обнаруженные в холодильнике.
Дачные соседи имеют преимущество — не надо созваниваться и сговариваться, чтобы прийти в гости.
Перешли железную дорогу, которая отделяет поселок старых большевиков от зимнего поселка с той стороны, где санаторий. Потом миновали Дом художников, замерший в ожидании обеда, а может, потому, что все его обитатели были на этюдах. От клуба повернули направо, на Школьную улицу. Там в доме пять жил, вернее, снимал дачу у каких-то неизвестных Глущенкам людей Сергей Спольников, потому что у него в то лето было много работы и было желательно оказаться, с одной стороны, близко от железной дороги, чтобы посещать Москву, а с другой — уединиться на свежем воздухе и не отвлекаться на телефонные звонки, разговоры, визитеров, мелкие, но почти обязательные дела и встречи.
Но летнее воскресенье — день святой, так что вряд ли Сергей будет работать. В крайнем случае, решили Лидочка с Глущенками, пожелаем человеку успехов и унесем торт обратно.
Вот он, голубой забор, третий дом от угла, облезлый почтовый ящик, запущенный участок — зелень переплескивает через забор, канава заросла крапивой в человеческий рост.
Калитка была не заперта, они прошли по узкой асфальтовой дорожке и повернули не налево к двери, а направо вдоль фасада, куда выходил мезонин, к террасе, оттуда доносились голоса, и это значило, что у Сергея гости. Тем лучше.
Терраса была небольшой и уютной, стекла на ней были в частых переплетах, и это, как и резные голубки на наличниках, напоминало о почтенном возрасте дачи.
Глущенко, который здесь уже бывал, толкнул дверь, вошел первым, словно втайне опасался, нет ли тигра в пещере, и громко спросил:
— Гостей принимаете?
Женщины вошли следом за Женей.
На веранде стоял стол, накрытый светлой клеенкой, на ней стоял чайник, чашки, бутылки с минералкой, миска с вареной остывшей картошкой, блюдо с нарезанной селедкой. Словно те, кто собирались здесь, не решили еще, то ли им приступить к обеду, то ли ограничиться чаем.
Сергей был рад гостям и сообщил об этом бесхитростно:
— Все равно день погиб. Давайте его используем для чревоугодия.
Обоих гостей, пришедших раньше, Лидочка знала. Главным гостем был Валентин Вересков, уютно журчащий добродушный мужчина пожилых лет, хороший детский поэт. Что бывает редко с детскими поэтами, он был известен и среди взрослых, так как его стихи были коротки, парадоксальны и не лишены юмора. Валентин также знал Лидочку — встречались в Детгизе, запомнили друг друга с какого-то редакционного дня рождения. Валентин сидел за столом и с интересом листал свою новую книжку, которую принес Сергею в подарок.
Итуся взяла у Жени сумку с продуктами, Лидочка пошла за ней на кухню. Получилось как-то так, словно последние гости должны были взять на себя хозяйственные заботы — ведь продукты принадлежали им…
По какой-то причине Сергей избрал кухню рабочим кабинетом. Там, на большом столе, протянувшемся вдоль окна, что выходило к сараям, стояла красная портативная пишущая машинка, рядом лежали двумя стопками, аккуратно, листок к листку, чистая бумага и уже отпечатанные странички.
Второй гостьей была Марина Котова. Марина Олеговна. Она была редакторшей в «Московском рабочем», вернее, в одном из издательств, родившемся из некогда могучего гиганта на Чистопрудном бульваре. Марине было под сорок, но выглядела она моложе. Им с Лидочкой приходилось сталкиваться по работе. Кстати, Лидочка оформляла последнюю книжку Сергея — «Тропами Подмосковья», рисовала в ней акварелью цветы и травы, которые встречаются вокруг Москвы. Книга вышла лет пять назад, и тогда ее невозможно было купить — это было как раз завершение эпохи, в которой хорошие книги доставали, как копченую колбасу. Марина была редактором той книги, она опекала Сергея, который тогда только что разошелся с Ниной, даже что-то стирала ему или штопала — теперь уже не вспомнишь редакторских сплетен.
Впрочем, ничего удивительного в том не было: Марина Котова считалась всеобщей приятельницей. На ее дни рождения собирались, как правило, полдюжины знаменитых и столько же непризнанных талантов, а еще с десяток друзей дома. Особой красотой Марина не отличалась, хотя сохранила к сорока годам девичью фигурку и умела одеваться скромно, недорого и элегантно, правда, элегантность ее современной модной женщине показалась бы старомодной, но такая элегантность и требовалась в редакторско-писательском мире, где Марина существовала. Лицо ее было невыразительно и как бы стерто, лишено ярких красок, волосы неопределенного цвета, а глаза черные, совсем не в тон остальному. Черты лица были правильные и мелкие. Несмотря на многие попытки, ни один художник не смог написать или нарисовать ее похожего портрета. С точки зрения Лидочки, Марина была скуластой мышкой с добрыми глазами, которая всю жизнь занималась чужими делами, кого-то опекала и кому-то подставляла свое узкое плечо, так что даже не успела обзавестись детьми. Да и как обзаведешься, если тебя окружают взрослые дети, требующие внимания и заботы.
Лидочка слышала от кого-то, может, от самой Марины, что первый роман Сергея не вызвал издательского интереса, но Марина организовала кампанию в его поддержку. Ведь у Сергея была в издательстве своя экологическая ниша — он считался отличным популяризатором, автором новелл о природе, знатоком ботаники. Но если такой человек в пятьдесят лет вдруг решает стать Достоевским, то, вернее всего, в нем проснулся графоман, которого надо уничтожить. Марина кинулась в бой, и книгу вставили в план. Правда, без энтузиазма — роман не грозил коммерческим успехом.
Сергей был аккуратистом. Может быть, поэтому он так проникся нежностью к Лидочке — она рисовала акварелью в манере английских дам прошлого века — четко, изящно и достоверно. Когда издательские производственники отказались взять «Тропами Подмосковья», потому что книжка получалась, с их точки зрения, слишком дорогой, Сергей устроил тихий бунт, как он умел делать, раз двадцать ходил к директору издательства, измучил визитами милейшего Ковальджи — главного редактора, добился того, что книга выйдет на офсете, а потом извел типографию, потому что наносил туда частые визиты, требуя соблюдения оттенков в печати, чего типография отродясь не делала.
«Тропами Подмосковья» получила приз на какой-то ярмарке, два или три диплома, каждый раз Сергей звонил Лидочке, серьезно поздравлял ее и обещал пригласить, когда будет делать следующий подобный труд. Но следующего подобного труда не получилось — не нашлось издателя. Тогда Сергей, как давно грозился, сел за роман, настоящий толстый современный роман, чтобы доказать всем этим фаулзам, миллерам, что наши сабли не затупились, а воображение не иссякло.
Разрезая колбасу и укладывая кружочками на бутерброды, Лидочка услышала голос вошедшей на кухню Марины:
— Ты замечательно выглядишь.
Очевидно, Лидочке следовало ответить таким же комплиментом, но Лидочка решила, что он был бы нарочитым и даже пародийным. Так что она спросила у Марины, как дела с романом Сергея.
— Сложная проза, — ответила Марина. — Необычная. Но в русле современной моды. Такая проза идет на Букер-прайз.
— Чего ж он раньше думал! — посочувствовала Итуся. — Давно бы стал знаменитым.
— Подождем, — осторожно заметила Марина, — боюсь предсказывать. Но вещь профессиональная. Двадцать печатных листов.
— И скоро мы его прочтем? — спросила Итуся.
— Я сегодня привезла ему внутренние рецензии, — сказала Марина.
С террасы донеслась вспышка голосов — словно что-то случилось.
— Как бы они Пуфика не обидели, — сказала Итуся.
Итуся раньше работала дрессировщицей собак в цирке. Лидочке всегда казалось, что за много лет общения с собаками они должны бы Итусе надоесть. Но, уйдя из цирка, Итуся обрушила на приблудного Пуфика всю свою любовь к живым существам, а Пуфик специализировался на том, чтобы доставлять хозяйке постоянное беспокойство.
Сергей заглянул на кухню и сказал:
— Смотрите, кто к нам пожаловал!
Он был растерян, но старался изобразить радость.
Итуся с Лидочкой пошли на террасу. Приехала Нина Спольникова, бывшая жена Сергея. Только теперь ее было совершенно недопустимо называть Ниной, без отчества. Она вела себя, как Нина Абрамовна, и головой поводила, как Нина Абрамовна. А вот Сергей к пятидесяти годам так и не дорос до Сергея Романовича. Его называли Сергеем даже студенты пединститута, в котором он вел какой-то курс или семинар. И это было странно, потому что небольшой ростом Сергей был почти лыс, одутловатое лицо окаймлено небольшой, демократического вида пегой бородой. Лицо у Сергея было грустное, собачье, ностальгическое, как выразилась Итуся. Сергей к пятидесяти раздобрел, но не весь, а отрастил животик и брыли. Нина же за те семь-восемь лет, которые Лидочка была с ней знакома, вдвое усохла, даже череп уменьшился, может, потому что Нина теперь причесывалась гладко на прямой пробор и жестоко оттягивала назад вороные с проседью волосы.
Судя по всему, приезд Нины был для Сергея неожиданным.
Когда Лидочка вошла на террасу, Нина как раз протянула прямую ладонь Верескову и представилась:
— Нина Абрамовна Спольникова.
Вересков почувствовал учительскую строгость, смутился, будто его уличили в незнании урока, и ответил:
— Меня зовут Валентин Дмитриевич. А вы работаете в школе?
— Я руковожу лицеем, — ответила Нина. — И веду там коллоквиумы.
Тут она увидела Лидочку и сделала вид, что обрадовалась.
— Кого я вижу? А что ты здесь делаешь? Вот уж не думала, что в этом, как мне было сказано, скромном уюте встречу такое изысканное общество. У вас какой-нибудь праздник?
И Нина наморщила гладкий высокий лоб, словно встревожилась, что запамятовала какую-нибудь дату.
— Мы здесь все случайно оказались, — успокоила ее Лидочка. — В основном по-соседски.
— А я по делу, — с вызовом заявила Марина, которая никогда не жаловала жен своих авторов, полагая их лишним приложением к литературе.
— Вот и отлично, — сухо засмеялась Нина, — а то я решила, что забыла Сережин день рождения. У тебя ведь день рождения двадцатого мая?
Сергей кивнул. Он был удивлен и не догадался, что Нина лукавит: они прожили пятнадцать лет и после такого срока день рождения мужа не забывается.
— Я тоже по делу, — сказала Нина Марине, как бы показывая, что она выше развлечений.
— Надеюсь, ваши дела подождут, пока мы не поедим, — заметила Марина.
— Не может быть, что вы, завершив свои дела, сразу уедете обратно, — сказал Женя Глущенко. Ему казалось, что Нина чувствует себя лишней, и ему хотелось ее ободрить.
Нина благосклонно кивнула, принимая предложение. Затем она подвинула к себе сумку и достала из нее настоящий мужской портсигар, серебряный, массивный, с барельефом конской головы, в обрамлении подковы. Нина громко щелкнула кнопочкой, портсигар раскрылся. Нина щегольски вытащила папиросу, привычно постучала мундштуком о конский нос, заломила мундштук и сунула в рот. Лидочка ожидала, что следующим движением Нина достанет откуда-то зажигалку, сделанную из гильзы. Тогда образ боевой подруги образца сорок второго года был бы завершен. Но Нина ограничилась тем, что закурила от обычного «Ронсона».
Портсигар показал новую черту в ее характере. Никогда бы не догадаться, что Нина таит в себе желание вызова, спора, фронды. Представьте себе, как она открывает этот портсигар на педагогическом совете и как вздрагивают молоденькие учительницы, услышав его щелчок.
Закурив, Нина сообщила Глущенке:
— Мне от Сережи нужна одна безобидная подпись. Вернее, доверенность. Пустяк, но тормозит мои дальнейшие планы. Иногда даже думаешь, что проще убить человека, чем оформить документы на его смерть.
После этого она огляделась, усмотрела свободный стул рядом с поэтом Вересковым, в котором уже распознала единственного здесь человека своего масштаба, способного пригодиться лицею. И начала его разрабатывать, словно провела лучшие годы в разведке.
Итуся с Лидочкой возвратились на кухню, к делам хозяйственным.
— У меня мама такие папиросы курила, — сказала добрая Итуся. — Я и не подозревала, что их сейчас делают.
Лидочка начала было рассуждать о том, что в каждом человеке смешаны мужское и женское начала. Бывают чистые мужчины, бывают чистые женщины, но чаще в мужчине живут женские черты, а в женщине сохраняются мужские. В Нине, очевидно, мужского начала больше нормы, и она его даже подчеркивает.
— Ты думаешь, что она лесбиянка? — буквально поняла монолог Лидочки Итуся. Лидочка рассмеялась и перевела разговор на другую тему. Потом они кончили готовить новую партию закусок и отнесли на террасу тарелки с бутербродами и банки со шпротами, оказавшимися в холодильнике. Вересков все хотел сбегать за грибами, которые так чудесно солит его жена, но Нина его не пустила.
На всех была бутылка водки и бутылка вина, которую привезла с собой Марина. Все расслабились, стали разговорчивы и добры друг к другу. Вечерело. Женя незаметно встал из-за стола. Лидочка поняла, что он собрался в магазин. Ей надоело сидеть и болтать о политике, она присоединилась к Жене, они пошли к шоссе, к продуктовому магазину.
У соседнего дома в огороде копалась Ольга, женщина крупная, полная, дебелая, прекрасная красотой восемнадцатого века. Такими красавицами были Екатерина Великая и Мария-Антуанетта — мода на подобный тип женщин вроде бы миновала, но на свете всегда находятся достойные мужчины, которые готовы на любой подвиг, чтобы заслужить их любовь. К сожалению, в сердце таких женщин слишком большое место занимает женская жалость, и потому дебелые императрицы и королевы приближают к себе алкашей и скандалистов, а потом с ними мучаются.
Прелестная и вполне современная Ольгина дочка Катерина, шестнадцати лет от роду, томилась рядом, держа корзинку, в которую Ольга кидала огурцы. Всем видом она показывала, что рождена для более значительных дел. Рядом с грядкой вытянулся утомленный жарой, лохматый, грозный на вид пес.
Ольга увидела дачников и выпрямилась.
— Здравствуйте, Евгений Александрович, — сказала она. — Не забыли, что обещали в нашей библиотеке провести беседу?
— Приду, — ответил Женя, непроизвольно ускоряя шаг.
Когда они отошли подальше, он с чувством воскликнул:
— Кто меня за язык тянул? В прошлый раз она пришла к Сергею по какому-то соседскому делу, а тот сказал, что я работаю в Институте Африки. Она и вцепилась. Неужели кого-то в этом поселке интересует положение в Нигерии?
В магазине была небольшая очередь.
— Они давно развелись? — спросил Женя.
— Лет семь назад. — Лидочка догадалась, что он имеет в виду Сергея.
— Почему, если не секрет?
— Из-за Лизы Корф.
— Чудесное сочетание! Графиня?
— Она работала препаратором в институте ботаники. Сережа тогда еще там числился. Потом ему пришлось уйти на вольные хлеба.
— Он изменил Нине Абрамовне с Лизой Корф? Как я его понимаю! — воскликнул Глущенко.
— Чудак, — сказала Лидочка. — Тебе свойственна мужская категоричность. Не все так просто.
— Погоди, расскажешь.
Подошла их очередь. Они взяли бутылку водки «Белый орел», буханку хлеба и кило «Одесской» колбасы, чтобы поджарить, без этого условия Лидочка отказалась санкционировать покупку, полагая, что летом в поселковом магазине часто ломается холодильник.
Затем вышли на улицу.
Наступило то чудесное завершение летнего дня, когда солнце уже скатилось к верхушкам елок, ветер стих, из-за заборов пахнет флоксами и спелой зеленью. Образ подмосковного рая нарушали лишь вороны, которые носились невысоко, деля добычу либо территории и оглушительно крича. Поселок девятиэтажных домов, принадлежавших институту усовершенствования, наступал на дачи. Было ясно, что, когда наступление города станет слишком чувствительным, дачники отъедут в другие края.
— Доскажи, Лидочка, — попросил Женя.
— Ты о Сергее?
— Да. Мне он понравился, по-моему, достойный человек. Значит, Нина Абрамовна узнала о его романе с благородной Елизаветой Корф…
Женя чуть улыбнулся, поправив очки. Он принадлежал девятнадцатому веку и сам ощущал порой свою неприспособленность к веку нынешнему. Все у него было в порядке, но душа к нашему времени не лежала. Лидочке куда легче было представить его в строгом вицмундире с расшитой золотом шляпой в руке, стоящего, чуть выгнув назад спину, в осознании дворянской гордыни.
— Я сама удивилась, что Нина приехала к нему на дачу. Наверное, какое-нибудь важное дело. Насколько я знаю, их отношения давно уже утряслись на нулевой температуре. Тем более что и на Лизе Корф Сергей не женился.
— Почему?
— Потому что к тому времени все уже перегорело. Роману Сергея с Лизой, наверное, уже лет пятнадцать. Надо было принимать решение сразу. Нина хлопнула дверью, когда роман был на излете. Вернее всего, у нее самой в то время возникла надежда на новый союз.
— Они не любили друг друга?
— Не любили.
— А с Лизой Корф? Что было дальше с Лизой Корф?
— Лиза Корф где-то существует. Если хочешь, я спрошу о ней Сережу.
— Нет, не надо.
— У Лизы должна быть совсем взрослая дочь, ей больше двадцати. Даша Корф. К Сергею она отношения не имеет.
— Но почему Корф?
— Ее когда-то звали в институте барышней-крестьянкой. Она Иванова, но недолгое время была замужем за неизвестным нам Корфом и даже успела родить ему наследницу. Корф исчез без следа, никто его не видел.
— Я покорен твоей информированностью, — сказал Женя. — Ты могла бы работать в отделе светской хроники. Познакомь меня с Лизой Корф.
— С мужчиной надо быть настороже, — сказала Лидочка. — Он использует твою откровенность тебе же во вред. Это дискриминация по принципу пола.
— Лидочка, — заметил Женя, — прекрати смотреть американские сериалы. Ты на глазах превращаешься из милой и покорной российской дамы в американское чудовище равноправия.
Их обогнал на гоночном велосипеде маленький сухой старичок в больших очках. Ехал он быстро, был пьян, его ноги неравномерно нажимали на педали, и чуткая машина совершала неверные движения, катилась по синусоиде.
Неожиданно выдержанный и хладнокровный Глущенко возопил:
— Николай! Стой, я тебе говорю!
И кинулся под велосипед. Велосипед постарался его раздавить, врезался в забор, и Глущенко легко подхватил вылетевшего из седла старичка.
— Николай, — сказал он, успокаиваясь. — Я тебя жду уже четыре дня. Ты взял аванс и дал мне слово — так или нет?
Старичок вяло, как заморенный сом, бился у Жени в руках.
— Это электрик, — сообщил Женя Лидочке. — Ты иди, я тебя догоню, только поговорю с ним как мужчина с мужчиной.
— Ты мне щенок, а еще не мужчина, — гордо ответил старичок.
Опасаясь, что беседа может выйти из цивилизованных рамок, Лидочка поспешила по улице. Не успела она пройти и ста шагов, как натолкнулась на стоявшего в неуверенности очень толстого краснощекого мужчину. Мужчина был одет в гигантский обвисший свитер, серые шорты до колен и самодельные сандалии — последнее было понятно, так как ступни мужчины были настолько велики, что трудно было бы подобрать для них обувь в магазине.
Пегие, немытые волосы мужчины были собраны на затылке черной резинкой и падали на спину. Тонкие пряди, выбившиеся из-под резинки, пересекали лоб и щеки. На вид мужчине было лет двадцать пять. Его было трудно назвать юношей или молодым человеком. Для себя Лидочка окрестила его слонопотамом.
Слонопотам спросил высоким, почти женским голосом:
— Где здесь Школьная улица?
— За вашей спиной, до конца дорожки и налево.
Не поблагодарив, толстяк затопал прочь. Лидочка обернулась. Оставив старичка в живых, к ней спешил Женя Глущенко.
— Он обещал, — сказала Женя. — Завтра с утра придет с инструментом.
— И ты ему поверил?
— В качестве альтернативы — придется его убить, — сказал Женя. — Но я к этому не готов.
— Нет, — согласилась Лидочка, — такие, как ты, не убивают. Такие, как ты, подвергают остракизму.
— А такие, как он, плевать хотели на мой остракизм, — признался Женя. — Ты тоже электрика встретила?
— Ты имеешь в виду толстяка?
— Черт его знает, я не разглядел. Только обратил внимание на то, что он одет для исполнения арии обжорства в опере нищих.
— Мальчики склонны к беспорядку в одежде, — заметила отличница Лидочка.
— Между нами существенная разница в возрасте, — ответил Глущенко, — я провел детство в серо-синем тюремном мундирчике советской гимназии. Это меня мобилизовало на достижение высоких результатов в учебе и общественной деятельности.
— Но потом, после школы?
— Я помню, на первом курсе института у нас было большое дело против стиляг, — вспомнил Женя. — Они откуда-то доставали брюки дудочкой.
Женя и Лидочка повернули за угол, на Школьную улицу.
Толстое существо в свитере и с грязным волосяным хвостом к этому времени как раз достигло пятого дома и остановилось перед калиткой. Оно прислушивалось.
Потом слонопотам толкнул калитку и вознамерился шагнуть внутрь.
— Молодой человек! — не выдержала Лидочка, ее голос нарушил тягучую тишину теплого июльского вечера. — Вы к нам в гости?
Голос спугнул молодого человека. Он замер. Затем отпрянул от калитки. Повернулся и быстро пошагал прочь. Через тридцать шагов он свернул на перпендикулярную улицу.
— Кто это? Ему кто-то был нужен? — спросил Женя.
— Он спрашивал меня, где Школьная улица, — сказала Лидочка. — Неприятный тип.
— Может, ошибся, — сказал Женя.
Диспозиция на даче изменилась. Марина Олеговна с Итусей собирали в миски красную смородину. На это получили разрешение Сергея, так как хозяева дачи уехали больше чем на год и вряд ли вернутся, чтобы полакомиться ягодами. Нину Абрамовну Лидочка увидела на террасе, когда проходила на кухню, чтобы подготовить второе действие пира. Нина Абрамовна старалась узнать взгляды поэта Верескова на современное положение в начальном образовании. Поэт Вересков вертелся под ее настойчивым взглядом и уходил от прямых вопросов. Поэту Верескову хотелось домой, но его деликатная натура не позволяла прервать беседу.
Пуфик увидел Женю и помчался навстречу.
Сергей стоял на кухне и, запустив пальцы в бороду, читал страничку, вытянутую из пишущей машинки.
— Мы тебе мешаем? — спросила Лидочка.
— Нет, что вы! Я задумался…
— О чем?
— Надо будет вставить новую ленту в машинку. Еле видно — лента износилась.
— Мы встретили молодого человека, — сказала Лидочка. — Он спрашивал Школьную улицу, а потом хотел пройти сюда.
— Какого еще молодого человека?
— Совершенно дикого вида, — сказала Лидочка. — Толстый, ножищи от слона, коса от Аленушки.
— А лицо? Какое лицо? — Сергей был встревожен.
— Красное, красная рожа, щеки наружу.
— Странно, — произнес Сергей. Голос его дрогнул. — Что он тут делает?
— Ты его знаешь?
— Вроде как-то видел… да, видел, и он удивил меня своими габаритами. — Сергей ответил неохотно.
— Я удивилась, встретив здесь Нину, — сказала Лидочка. — Вы помирились?
— Нет, ничего не изменилось. Мы вроде бы и не ссорились. Сейчас ей нужна заверенная у нотариуса моя подпись, что я не возражаю против продажи дачи. Когда мы разводились, я отдал ей дачу, помнишь?
— Да.
— Но она осталась у нас в общем владении… впрочем, я точно не знаю.
— Она продает дачу?
— Да, она, кажется, решила уехать и теперь собирает деньги. Тебе помочь?
— Я сама. Мне тут осталось только колбасу поджарить и хлеб порезать, а ты иди на террасу к гостям.
— Мне не хочется туда, где Нина. — Сергей говорил серьезно. — Я до сих пор не могу отделаться от страха перед ней, от детского страха перед воспитательницей в детском саду. Она всегда хотела мною руководить. Даже в постели. И я всю жизнь ждал, что она сейчас задаст мне вопрос, а я не смогу ответить. Мне даже во сне снился кошмар: Нина вызывает меня к доске, а я не могу ответить. И она велит привести родителей. А как я их приведу, если они умерли столько лет назад?
— Неужели и сейчас ты ее боишься?
— Она постарела, — произнес Сергей. — У нее другие подопечные.
«Голубчик, — хотела сказать Лидочка, — а ты ведь тоже постарел и, главное, сдал. Наверное, устал. Может быть, когда писатель кончает очередной труд, он выкладывается до конца. Но сейчас он видит лишь, как безжалостно годы обращаются с его бывшей женой».
— Она старается соответствовать своей должности, — сказала Лидочка.
— Ты ее никогда не любила?
— А почему я должна была ее любить?
— Да, — согласился Сергей. — Вы и не могли полюбить друг друга. Ты — воздух. Она — земля. Но ты знаешь, социально я чувствовал себя за ней как за каменной стеной.
— Поэтому чуть не ушел к Лизе Корф?
Лидочка была достаточно давно и близко знакома с Сергеем, чтобы позволить себе такую реплику.
— Наверное, — согласился Сергей. — Мужчине нужен кто-то, кого он мог бы опекать, о ком он мог бы заботиться. Нина никогда не давала мне такой возможности. Это невозможно. Для нее есть лишь одна жизненная роль: она — наседка, заботница, все остальные цыплята, которых надо воспитывать. И ушла она от меня не потому, что нашей семье что-то грозило. К тому времени мой роман с Лизой Корф сходил на нет; роману уже было несколько лет. Это много. И я уже знал, что не женюсь на Лизавете. И Лиза знала об этом и не искала этого брака. У нее своя гордость… Нина ушла, потому что я слишком долго ее не слушался. Это было наказание. Я должен был покаяться, но не покаялся.
Лидочка порезала хлеб. Колбаса скворчала на сковороде. Лидочка знала, была уверена в том, что Нина оставила Сергея потому, что дождалась своего часа — на ее горизонте появился человек, крупный врач, доктор наук, который увлекся ею. И тогда Нина решилась на то, чтобы избавиться от Сергея, младшего научного, подрабатывающего статьями в «Знании — силе» или брошюрами. Но доктор медицины сорвался с крючка… На этом Лидочка прервала течение своих мыслей, ибо немое злословие ничем не лучше высказанного.
— Ты о чем задумалась? — спросил Сергей.
— О том, как быстро бежит время, — солгала Лидочка. — У Лизаветы дочь студентка? Вы с Лизой встречаетесь?
— Не в том смысле, как ты понимаешь…
— А я ни в каком особом смысле не понимаю, — отмахнулась Лидочка. — Просто спросила.
— Даша уже совсем взрослая, — сказал Сергей.
— Когда мы виделись, она была еще девочкой.
— Ты ее не узнаешь. Ей через неделю двадцать два года. Очень похожа на Лизавету.
— Что она кончает?
— Полиграфический. Будет художником книги. Как ты. Ты ей поможешь на первых порах?
— Ну, я не профессионал… — сказала Лидочка.
— Ты никогда не любила Лизавету…
— Ну вот, оказывается, я не любила Нину, не любила Лизу. Может, потому что была влюблена в тебя?
Сергей не сразу сообразил, потом неуверенно засмеялся. И спросил:
— А если серьезно?
— Нет, ты не герой моего романа. Возьми поднос и иди на террасу.
Уже начало темнеть. Сборщицы смородины возвратились из сада, жужжали комары, вокруг уютного желтого абажура крутились тяжелые бражники и мотыльки.
Итуся разливала чай. Пуфик путался под ногами. Вересков незаметно поглядывал на часы. За террасой зашуршали кусты. Сергей вздрогнул и посмотрел в ту сторону. Лидочке подумалось, что он тоже вспомнил о неприятном толстяке.
Некоторое время за столом шел общий разговор. Потом кто-то вспомнил, что через сорок минут отходит электричка, пушкинская, не переполненная.
Лидочка оглядела сидевших за столом, и вдруг ее посетила странная мысль: кто же первым из нас умрет? Вот мы сидим за столом, все здоровые, не очень старые и не совсем юные. Но в ком-то уже таится порча, кто-то обречен на болезнь, кто-то, может, попадет под машину… так кто же первый?
Лидочка ничего не могла с собой поделать. Она переводила взгляд с одного лица на другое.
Нина Абрамовна, она морщится, что-то ее беспокоит. Валентин Вересков, он здесь старше всех, но в нем ощущается устойчивая жизненная сила. Итуся убирает за ухо пышный рыжеватый локон, сейчас она спросит, кому еще чаю. Женя Глущенко украдкой, чтобы Итуся не сердилась, наливает себе на посошок. А может, первым будет Сергей, чем-то встревоженный сегодня, недовольный, хотя у него больше всех оснований для радости, он закончил свой роман. Двадцать авторских листов… Или Марина? Она глядит на упорного бражника, который бьется о шелк абажура, и ее тонкие губы чуть шевелятся. Кто еще у нас остался? Лидочка Берестова? А чем я лучше других? Что ждет меня завтра?
Все пошли к станции. Глущенки уговорили Лидочку остаться ночевать у них на даче, тем более что дома ее никто не ждал — Андрей был в экспедиции. Надо было только посадить на электричку Нину Абрамовну и Марину. Вересков раскланялся со всеми у соседней дачи.
Сергей шел впереди с Ниной Абрамовной, они негромко обсуждали свои имущественные проблемы. Один раз Нина остановилась, щелкнула своим портсигаром и закурила. Марина и Лидочка, которые брели рядом, тоже остановились.
— Странно, — подумала Марина вслух, когда Спольниковы снова пошли вперед, — если не знаешь, никогда не догадаешься, как семь лет назад она обливала его грязью, писала заявления в партком и грозила кинуться с восьмого этажа.
— Я плохо помню эту историю, — уклончиво ответила Лидочка.
— А я хорошо. Он тогда часто ходил к нам в издательство, — сказала Марина, — у нас его книжка шла, какой-то путеводитель. И он всех держал в курсе событий. Знаешь, как бывает, когда мужик совсем расклеится.
Лидочка кивнула.
Пуфик обогнал их и стал прыгать, изображая кенгуру, что было трудно сделать из-за его комплекции.
Вышла луна. Стало светло, но лунный свет спорил со светом редких фонарей, освещение получалось театральным, неестественным, экзотичным. Далеко впереди шагал толстый человек в длинном свитере. Разглядеть его было трудно, но Лидочке показалось, что это тот самый молодой оборванец.
— Сергей еще долго здесь будет? — спросил сзади Глущенко.
— Не знаю, — сказала больше других информированная Марина, — я сегодня привезла ему замечания по рукописи. Как быстро он управится, не знаю. А так как сейчас все делается быстрее, чем раньше, боюсь, как бы нотариальные походы не выбили Сережу из колеи.
— А что вас смущает? — спросила Лидочка.
— Его роман — современная проза. Хоть там есть все — и фарс, и трагедия, но в принципе это роман о большой любви, и вставить его в план производства было нелегко. Это же не Чейз и не Стивен Кинг. А знаете, как быстро у нас меняется обстановка — исчезнет бумага, появится какой-нибудь соблазнительный американский боевик… и перенесут Спольникова на будущий год, а там, глядишь, и забудут о нем… Вы меня понимаете? А книжка достойна того, чтобы выйти в свет, уж поверьте моему редакторскому чутью.
На плохо освещенной платформе скопилось много народу, была и обязательная компания с гитарой. Воскресный вечер означал расставание с московскими гостями, с отцами семейств, возвращавшимися к трудовым будням, с подружками, с соседями по даче… Вечер выдался тихим, приятным, воздух хотелось традиционно сравнить с парным молоком, а картину увенчивала луна. В такой вечер кажется, что сейчас услышишь шум прибоя, что там, внизу, расстилается море, и вот-вот в кустах запоют цикады.
В ожидании электрички все стекли в кружок.
— Споем, что ли, товарищи? — иронично спросил Глущенко. Таких вот, прощальных кружков на платформе было не меньше дюжины. В некоторых пели: несколько рюмок и теплый лунный вечер — вот и рождается сладко тянущая за душу любовь к ближнему и выражается она у нас по-язычески, в общей песне…
Электричка ослепила, взревела и тяжело затормозила. Стало ясно, что дамам придется до Москвы стоять.
— Почему ты не купил машину? — это были последние слова Нины Абрамовны, обращенные к бывшему мужу. Сергей не нашелся, что ответить: он только беспомощно развел руками — он все еще чувствовал себя виноватым перед этой строгой женщиной и никак не мог научиться соответствовать ее высоким стандартам.
Глущенко, отвернувшись, улыбнулся. Итуся кинулась ловить Пуфика, который тоже было полез в электричку, ему захотелось в Москву.
Компания с гитарой втиснулась в вагон следом за Ниной Абрамовной. Невысокая Марина сразу исчезла в толпе пассажиров, но голова Нины Абрамовны, затянутая на прямой пробор волосами так туго, что глаза приобрели китайский абрис, гневно покачивалась среди лохматых молодых голов. Электричка глубоко вздохнула, рявкнула и быстро набрала скорость.
— Ну вот, остались все свои, — сказал Женя Глущенко. — Пошли к нам водку пить…
— Женя! — возмутилась Итуся.
— Хоть мы все знаем, — завершил фразу Женя, — что водки дома не осталось.
— Кстати, я забыл ей сказать, — вдруг нашелся Сергей, — что в таком состоянии мне все равно нельзя было бы садиться за руль.
Он был огорчен собственной несообразительностью. Лидочка его понимала — в спорах с Ниной годились только банальные, но доказательные аргументы.
Электричка исчезла, лишь гудели провода. Провожающие потянулись с платформы.
— А в самом деле, зайдете к нам, посидим? — спросила Итуся.
— Нет, спасибо, — сказал Сергей. — Я еще немного поработаю. Сейчас приятно работать.
— Работать никогда не бывает приятно, — заметил Женя.
Сойдя с платформы, они начали прощаться.
— Вы завтра рано уезжаете? — спросил Сергей у Лидочки.
— Я хотела выспаться досыта. А что?
— Если завтра будет такой же день, не грех бы искупаться.
— Но тут далеко идти.
— Нет, от нас минут двадцать, — сказал Женя.
— Я могу зайти за вами, — предложил Сергей.
— Вот и отлично, — сказала Итуся с облегчением. Пуфик опять убежал, и мысленно она уже мчалась за своим сокровищем.
Так и договорились. В одиннадцать Сергей зайдет к Жене, и они все пойдут купаться.
Теперь можно было с чистым сердцем попрощаться.
Итуся с Женей побежали налево к главной улице поселка старых большевиков, потому что где-то там носился неугомонный Пуфик. Лидочка задержалась и глядела вслед Сергею, зная, что он обернется.
Сергей обернулся шагов через двадцать. Поднял руку, прощаясь.
Глава 2
Ночью пошел мелкий дождик, он нагнал в комнату комаров, которые воспользовались случаем напиться людской крови.
За окнами тревожно поскрипывали сосны, словно тщились шагнуть. На рассвете начала каркать сумасшедшая ворона, и ее крики подхватывала безродная собачонка у соседей. Проснулся Пуфик и отчаянно залаял, чтобы навести порядок. Слышно было, как поднялась Итуся и принялась успокаивать Пуфика, и, не успокоив, открыла дверь, выпуская его в мокрый теплый воздух.
Лидочке казалось, что она всю ночь не спала, но это было неправдой. Конечно, она спала, но время от времени сон прерывался. Потом уже она подумала, что тревога той ночи вызвана смертью Сергея. И хоть капитан Голицын из милиции говорил, что Сергея убили в два часа ночи, не позже, вся тревожная ночь в памяти Лидочки была связана с Сергеем.
Утром она поднялась поздно. Глущенки уже встали. Женя читал на веранде нечто очень научное, в кожаном переплете, посвященное освобождению крестьян, а Итуся пропалывала заросшие грядки с клубникой. Они еще не завтракали, дожидались гостью. Пуфик первым угадал, что она проснулась, будучи существом корыстным, он дежурил возле дивана, на котором спала гостья, порой трогая ее локоть жесткой лапой. Очередное прикосновение разбудило Лидочку, та вскочила, не сразу поняв, кто и почему ее будит, потом попыталась отогнать песика, что было нелегко сделать, потому что Пуфик был счастлив оттого, что наступает светлое время завтрака добрых хозяев, во время которого можно славно поживиться.
Лидочка накинула халатик и, еще сонная, сползла по лестнице на веранду. Женя отложил том в кожаном переплете и сообщил, что принес парного молока.
— Такое впечатление, — сказала Лидочка, — будто я вчера гуляла на свадьбе. А потом взобралась на Эверест.
— Свадьбы у нас обычно кончаются драками, — заметил Женя.
— Я сейчас! — крикнула Итуся. — Через пять минут.
Завтракали не спеша, ждали, когда придет Сергей.
Глущенки знали его неблизко: как-то встретились на платформе, нашли общих знакомых — мир невелик, потом Сергей позвал Итусю собрать ягоды, которые иначе пропали бы, а Итуся подарила ему банку варенья. Случилось, что у Сергея сломался телевизор, и он приходил к Глущенко смотреть футбол — благо пятнадцать минут неспешной ходьбы; обнаружилась общая их с Женей любовь к российской истории прошлого века… Так и катилось дачное знакомство и, вернее всего, оборвалось бы с концом лета.
Сергей задерживался. Они сидели на веранде, пили кофий с молоком, как настоящие господа. Осы пикировали на баночку меда. Дождь перестал, запели птицы, стало парить. Сергей все не шел.
— Видно, заработался вчера, теперь спит, — сказала Итуся.
Но так как спешить было некуда, они и не волновались.
— А теперь он женат? — спросил Женя.
— Вот видишь, — засмеялась Итуся, — знакомы второй месяц, а мой Женечка не удосужился спросить.
— Ты тоже не спросила, — возразил Женя.
— Меня эта проблема не интересовала, — сказала Итуся, — к тому же об этом нетрудно прочитать между строк. После развода с Ниной Абрамовной семь лет назад Сергей так и не женился, хотя все ожидали, что он женится на своей многолетней любовнице — ведь из-за нее и заварился весь сыр-бор.
— Это Лиза Корф? — спросил Женя. — Я знаю.
— Вот видишь, какой ты сообразительный. Еще что-нибудь рассказать? — спросила Итуся.
— Расскажи.
— С тех пор Сергей продолжает поддерживать милые отношения с Лизой. Если мужик не женился сразу, через десять лет он на это уже не пойдет.
— Почему?
— Потому что десять лет спустя мы, женщины, многое теряем. А мужик хорошо помнит момент первой встречи. А сегодня ему показывают даму совсем иной комплекции и выражения глаз.
— А почему он снова не женился? На ком-нибудь еще? — спросила Лидочка. Почему-то раньше она, хоть и знала Сергея ближе Глущенок, об этом не задумывалась.
— Можно уйти от жены к любовнице, но от живой любовницы к новой жене? Для кого-то это возможно, но для Сергея перебор. Он, как кошка, привыкает к месту. Он бы и с Ниной не расстался, если бы она не проявила инициативу, — заявила Итуся.
…Лидочка собралась было позагорать, но передумала. Все равно пойдем купаться, значит, и загорать будем там. Лидочка согласилась сопровождать Итусю в магазин, надо было чего-нибудь купить к обеду, ведь Сергей останется с ними, и за столом будет четверо.
По дороге они не спеша беседовали о жаре, о нравах собак, о трудности квартирных ремонтов и о том, как неплохо бы сдать московскую квартиру богатому иностранцу и переехать на дачу и не знать проблем…
Когда возвратились из магазина, было уже двенадцать.
Тогда решили идти на водохранилище одни, но вдоль канала, чтобы, если повезет, встретить Сергея на полдороге.
Стало жарко, хотелось, чтобы дождь собрался снова, но он не собрался, солнце растопило неплотные тучи, оставив от них только легкую дымку, которая не ослабляла жару.
Шли медленно, большей частью молчали, даже Пуфик не бегал, а брел. Женя тащил корзинку с полотенцами, подстилкой, газировкой в баллонах, еще чем-то, тащить ее ему не хотелось, и он пригрозил: если они встретят наконец этого бездельника Сергея, он сдаст ему корзину — пусть таскает.
На Жене была белая кепочка, и она придавала его облику какой-то довоенный вид.
Дошли до спрятанного под землю водопровода. Близко, у самой железной дороги поднималась насосная станция. От нее до Сергея оставалось всего семь минут ходьбы. Конечно, можно было бы о нем забыть — ведь он о них забыл, но ведь договорились купаться вместе, и было как-то неловко забыть об одиноком мужчине.
— Вы идите купаться, — сказал Женя, — а я загляну к Сергею, узнаю, почему он опаздывает.
— Нет, — возразила Лидочка, — я без груза, я сбегаю быстрее.
— Ах да, корзина, — вздохнул Женя.
Лидочка поняла, что он надеялся сплавить корзину дамам.
— Вместе пойдем, лишние пятнадцать минут ходьбы никому не повредят, — сообщила Итуся. — Я, кстати, сбрасываю вес.
Появился повод завернуть к Сергею — моцион, и все дружно зашагали к переезду через железнодорожное полотно.
Солнце окончательно разогнало хмарь, и начало печь как следует.
— Только очень молодые и рисковые люди ходят купаться в июльский полдень, — сообщил Женя. Лидочка была с ним совершенно согласна.
От жары все примолкло, птицы забрались в листву, собаки лежали в тени помойных баков. Дом художников замер, словно последний его обитатель сбежал к морю.
Как странно было увидеть, свернув за угол, сразу три машины. Две милицейские и «Скорую помощь».
Машины стояли, перегородив Школьную улицу у пятого дома, но они не могли иметь отношения к Сергею, потому что только вчера он был здоров, собирался купаться… конечно же, он собирался с нами купаться!
Им бы идти быстрее, но Лидочка замедлила шаги и поняла, что Глущенки тоже с трудом переставляют ноги. Справа к своей калитке вышел поэт Вересков. Это обрадовало Лидочку — не надо расспрашивать милиционеров.
— Здравствуйте, — сказала Лидочка, — что-нибудь случилось?
— Сергей… умер, — сказал Вересков.
— Не может быть! — сказала Итуся.
Пуфик зарычал и остановился. Он все понял раньше людей. Лидочка пошла дальше. У приоткрытой калитки стоял милиционер.
— Вы куда, гражданка? — спросил он.
— Там наш знакомый живет, — сказала Лидочка, которая упрямо не желала согласиться с возможностью смерти Сергея.
— Ну и что? — спросил милиционер. Ему было жарко, он не снимал фуражки, и струйки пота тянулись по щекам.
— Мы договорились купаться вместе, — сообщила Лидочка. — Можно мне пройти?
— А эти с вами?
— Эти со мной, — сказала Лидочка. — Мы все — знакомые, друзья Сергея Романовича.
— Капитан! — крикнул милиционер. — К Спольникову пришли.
Крик застрял в листве, растворился в жарком воздухе. Но так как все окна и двери были раскрыты, капитан услышал призыв.
Он оказался низкого роста, плотным молодым чернявым человеком в голубой милицейской курточке и синих брюках. Верхние пуговицы рубашки были расстегнуты.
— Заходите, заходите, — позвал Лидочку и Глущенок капитан. — Вы мне и нужны!
— Ну вот, видите, — с упреком заметил милиционер у калитки, как будто Лидочка сопротивлялась и ее пришлось вести в сад под конвоем.
Пуфик не хотел идти в сад и куда-то убежал. Итуся — за ним.
Капитан пригласил Лидочку и Женю на террасу. Лидочка увидела, что Сергей так и не помыл посуду. Ей стало неловко, что она вчера этого не сделала.
— Что случилось? — спросил Женя. Видно, он понимал, что наступила его, мужская, очередь задавать вопросы.
Но здесь спрашивал капитан.
— В каких отношениях вы состоите с Сергеем Романовичем Спольниковым? — спросил он.
— Я его старая знакомая, — сказала Лидочка.
— А вы?
Женя почему-то нахмурился, словно счел вопрос нетактичным. Но ответил:
— Мы же собирались пойти купаться! Мы ждали Сергея…
— Вы тоже будете его знакомый?
— Я его знакомый и хочу знать, на каком основании вы меня допрашиваете и что здесь случилось?
— А где вы были сегодня ночью? — спросил капитан совершенно равнодушно, будто только ждал, когда Женя кончит говорить, чтобы уличить его в каком-то преступлении.
— Я с женой спал.
— И вы тоже с ним спали? — спросил капитан Лидочку, видно приняв ее за жену.
— Я не жена Евгению Александровичу, — сообщила Лидочка, чем немного, самую чуточку, сбила капитана с толку.
— А где же жена?
— Кто жена? Я жена, — сказала Итуся. Она поймала Пуфика и принесла его на руках. Видно, они с Пуфиком поняли, что пора спешить на помощь.
— Я была в гостях у Глущенок, — сказала Лидочка.
— Ваши паспорта, прошу, — сказал капитан.
— Простите, но в такую жару… — ответил Женя. — Кто будет надевать пиджак?
— А вот это лишнее, — сообщил милиционер. — Я вот всегда паспорт с собой ношу.
Он хлопнул себя по заднему карману.
— Вытащат, обязательно вытащат, — сказал Женя.
— У меня не вытащат, — сказал капитан, но больше не стал настаивать на том, чтобы Глущенки и Лидочка предъявили ему документы.
— Так что же случилось? — спросила Лидочка. — Что случилось с Сергеем?
— Вот именно, — сказал капитан и пошел внутрь, поманив Лидочку за собой, как будто звал ее поиграть в мячик.
Лидочке не хотелось входить в дом, но надо было так сделать.
— Узнаете? — спросил капитан.
…Лидочка глядела на лежавшего на полу, возле небольшого круглого стола, Сергея и понимала, что он совершенно мертв.
До того момента она была убеждена, что с ним случился инфаркт или инсульт, что он лежит на постели…
Но Сергей был убит. В виске у него было черное пятно, а от пятна по щеке и на пол стекал подсохший ручеек крови. Лежать Сергею было неудобно, он упирался согнутыми ногами и плечами в ножки стола и диван. Видимо, он опрокинул, падая, стул, и Лидочке трудно было убедить себя, что Сергею совершенно все равно, как лежать. Ей больше всего хотелось убрать стул и стол и дать возможность Сергею лечь по-человечески. Но трогать тело нельзя, об этом она где-то читала.
— Узнаете? — повторил капитан.
Это был лишний вопрос. В ответе никто не сомневался, но чтобы поддержать правила детективной игры, Лидочка произнесла:
— Это Сергей Спольников.
— Господи, — сказала стоявшая сзади Итуся. Пуфик бился у нее в руках и повизгивал, ему было страшно. — Мне сейчас станет плохо. Женя, ну чего же ты стоишь!
Женя тут же отвернулся от Сергея, с видимым облегчением подошел к Итусе, взял ее под руку и повел прочь из комнаты.
А Лидочка оторвала взгляд от тела и оглядела комнату, стараясь понять ее расположение в доме.
Комната находилась в центре первого этажа. Торцом она примыкала к кирпичной стене, разделявшей дом пополам — на половину, в которой жил Сергей, и на ту половину, за забором, где жила какая-то Маргарита, о которой Лидочка, кроме имени, ничего не знала. И даже не помнила, кто назвал ей это имя. Справа от комнаты находились две небольшие горницы или спаленки, слева кухня и прихожая, а за спиной Лидочки была дверь, ведущая на веранду и в туалет. Здесь, в комнате, служившей гостиной, не было окон, и потому звуки, раздававшиеся внутри ее, наружу не вырывались или, по крайней мере, были очень приглушенными.
Эти необязательные сбивчивые мысли крутились в голове Лидочки, словно она не просто смотрела на своего убитого знакомого, а приступала к расследованию. Слышен был выстрел или нет — это важно для сыщика, а не для приятельницы погибшего.
— Как вы думаете, кто его убил? — спросил капитан.
Лидочка четко расслышала вопрос, но он к ней как будто не относился, и в ответ произнесла фразу, которую ей самой придется не раз выслушать в ближайшие дни:
— Таких не убивают.
Лидочка не хотела обидеть Сергея. Но насильственная смерть подразумевает определенный накал страстей, отношений, когда убийство — едва ли не единственный способ разрешить противоречия. В кругу, к которому принадлежала Лидочка, конфликты разрешались в худшем случае скандалом или судом. Муж мог ударить жену, жена могла замахнуться на мужа. Но сама мысль об убийстве никому из знакомых просто не могла прийти в голову. И если вчера Нина Абрамовна сказала в сердцах, что проще убить человека, чем оформлять документы на его смерть, это не имело никакого отношения к убийству. Такая мысль Нине и в голову бы не пришла. Убийство оставалось в каком-то чужом мире, о котором знали из газет и телевидения. Из этого мира глухо доносятся выстрелы и взрывы, но в своем кругу насильственная смерть просто немыслима. Случается, напали по дороге домой, избили и ограбили, к кому-то влезли в квартиру. Но все это вторжение извне, из злого внешнего мира.
— Он давно мертв? — спросила Лидочка.
Капитан даже не стал отвечать.
— Кто же мог его убить?
— Вот я и думал, что вы мне поможете, — мрачно ответил капитан.
— Как же я вам помогу? Меня здесь не было.
— Вы были недалеко.
Лидочка промолчала. Капитанам милиции положено подозревать всех знакомых убитого и в конце концов найти корыстного наследника. Или обнаружить связь с преступной бандой на овощной базе.
— Пойдемте на кухню, — попросил капитан.
На длинном, прислоненном к стене столе еще стояли неубранные следы вчерашнего обеда. Открытая банка с огурцами, половина буханки, стопка грязных тарелок. Ага, Сергей собрался было начать уборку, но тут это и случилось.
— Садитесь, — сказал капитан осторожно отодвигая портативную пишущую машинку Сергея. В ней был заложен лист, вроде бы вчера его не было — значит, Сергей успел попечатать. Бледные буквы толпились тесно, и Лидочке не было видно, о чем Сергей писал.
Капитан взял лист из аккуратной стопки чистой бумаги рядом с машинкой. Достал из кармана рубашки шариковую ручку.
На кухне была открыта только форточка. Было душно. Жужжали мухи, пахло прокисшей пищей. Рюмки, стоявшие в ряд по краю стола, издавали неприятный сладковатый запах вчерашнего пьянства. Наверное, милиционер думает, что мы здесь устраивали оргии.
— Не было никакой пьянки! — с некоторым раздражением возразила Лидочка на невысказанный вопрос.
Капитан поднял бровь. Бровь была темно-рыжей, что было странно при черных волосах, словно капитан красил голову. У него было мучнистого цвета блестящее лицо с неровной кожей. Глаза были маленькие, зеленые. Неприятное лицо. Тяжелое и неумное.
— Простите, — сказала Лидочка.
Итуся заглянула в окно снаружи, стараясь понять, что происходит на кухне, даже приложила руку лопаточкой ко лбу. Но видно было плохо.
— Я открою окно? — спросила Лидочка.
Ей было гадко от духоты и запахов.
— Открывайте, — согласился милиционер.
На зиму и в дни отъездов хозяева ставили на окна решетки — добротные решетки, на болтах. Но летом решетки мешали открывать окна и сейчас стояли в прихожей, прислоненные к стене.
— Давайте поговорим, — сказал капитан.
— Прямо здесь?
— А чего мы будет откладывать, — сказал капитан.
Теперь, сидя за столом, он не казался столь официальным и строгим.
— Чего откладывать, — повторил он. — Чем скорее мы разберемся, тем лучше. Скажите мне свои данные. Имя, фамилия и так далее.
— Но у меня нет паспорта.
— С паспортом зайдете ко мне в отделение, официально, — сказал капитан. — Сейчас изложите самое главное.
— Но вы не представились! — сообщила Лидочка. И добавила смущенно: — Мне неудобно обращаться к вам «господин капитан».
— Можете говорить «гражданин капитан», — сказал тот и тут же смилостивился. — Голицын, — представился он. — Анатолий Васильевич. Как нарком культуры, довоенный, слышали?
— Тогда записывайте, Анатолий Васильевич, — сказала Лидочка. — Берестова Лидия Кирилловна, год рождения по паспорту — тысяча девятьсот шестидесятый.
— Никогда не дашь, — заметил тезка наркома и этим перевел Лидочку из разряда подозреваемых в нормальные свидетели.
В дверь кухни сунулся милиционер, который встречал их у калитки.
— Свидетелей отпускать или пускай ждут?
— Тех двоих с собакой? — спросил капитан. — Подождут.
— Мы были все вместе, — сказала Лидочка. — Всю ночь и все утро.
— Не спешите, — перебил ее Анатолий Васильевич. — Давайте по порядку. Где проживаете, как сюда попали. По порядку. Мне же для дела нужно.
Лидочка изложила по порядку причины, приведшие ее на место преступления, сказала, кто здесь был, кроме нее, рассказала в двух словах о событиях вчерашнего дня. И лишь когда кончила говорить, а капитан все медленно писать, он отложил лист и спросил:
— Подпишитесь или отложим до отделения, когда паспорт принесете?
— Как хотите, — сказала Лидочка.
Она вдруг почувствовала, что устала, хоть просидела на кухне всего сорок минут.
— Теперь будете Глущенок допрашивать? — спросила она.
За стенкой слышались голоса, толкотня, шум. Голицына позвали оттуда. Он ушел, оставив Лидочку одну.
Она заглянула в комнату за капитаном и увидела, что Сергея уже положили на носилки и собираются уносить. Анатолий Васильевич что-то вынюхивал вокруг тела. Потом стал шептать на ухо второму милиционеру. Санитары понесли носилки прочь из гостиной, доктор в белом халате, совсем молоденький, шел сзади. Рука Сергея вдруг сорвалась с носилок и бессильно свалилась. Пальцы задевали доски пола. Лидочке захотелось рвануться, поправить руку, но она не посмела, что-то остановило ее. То ли страх перед Сергеем, перед смертью, то ли страх перед Анатолием Васильевичем Голицыным, милиционером, который имел право задавать вопросы и обвинять людей. А почему бы мне и не вернуться ночью, не пройти в дом — окна, наверное, были открыты, почему мне не убить Сергея? Бред какой-то! Таких, как Сергей, не убивают. Представь себе любого человека на земле, который накопил в себе столько ненависти к Сергею, чтобы убить его? Застрелить? А где покупают пистолеты, чтобы убивать знакомых популяризаторов ботаники, написавших современный роман? В телевизоре это выглядит так просто — подошел к эстонским мафиози, купил пистолет и еще пулемет. А на самом деле?
Анатолий Васильевич, проводив носилки на террасу, быстро вернулся, широкими плечами чуть не застрял в двери и, увидев Лидочку, произнес непонятную фразу:
— А сейчас будем смотреть.
За ним вошли Глущенки. Так и остановились — капитан и Глущенки у двери, ведущей на террасу, а Лидочка в дверях на кухню.
— Давайте теперь вместе будем смотреть, — сказал капитан. — Что могло пропасть из этого дома.
— Пропасть?
— Вот именно. Что могли украсть.
— Вы хотите сказать, — произнес Глущенко с явным облегчением, — что могло иметь место ограбление?
Лидочка подумала, что все они, включая Женю, говорят с капитаном на чиновничьем жаргоне, словно тот ему более понятен.
— Могло иметь место, — мрачно согласился капитан. — Вы видели, как он был одет?
— Нет, — ответили они вразнобой.
— Но он был одет, — сказала Итуся уверенно.
— Так же, как в момент вашего ухода?
Никто ему не ответил.
— Убитый был босой, такие вещи надо замечать. Босой, в джинсах и в сорочке. — Тезка наркома был разочарован невнимательностью интеллигентов.
Конечно же, на Сергее не было никакой обуви. Но, наверное, от жары, оттого, что положено ходить босиком, Лидочка не обратила на это внимание.
— Ночь была теплая, он вернулся со станции и разулся, — сказал Анатолий Васильевич. И тут же обернулся к Лидочке: — А вы вчера на кухне были?
— Да, я готовила.
— Постарайтесь вспомнить — в машинке у него бумага была вставлена?
— Я уверена, что не было ничего, — ответила Лидочка.
— Я тоже обратила внимание, что машинка была пустой, — подтвердила Итуся.
— А теперь лист вставлен, — сообщил капитан. — Значит, он пришел, разулся, сел за свою машинку, решил поработать. Заработался до двух, а тут влез убийца. Может, он что-то сказал, стал ругаться, а в наши дни с грабителями лучше не ругаться, понимаете?
— А почему вы думаете, что это случилось в два часа ночи?
— Это не я думаю, а соседи. И медицина должна подтвердить.
— А что говорят соседи? — спросил Глущенко.
— Потом, потом, — отмахнулся капитан. — Мне сейчас важнее другое: кто из вас тут бывал, видел вещи. Я хочу понять, что здесь было. Деньги, валюта? Драгоценности? Что он здесь хранил? Что нужно было убийце? Понимаете? Ведь так просто не убивают.
Лидочка кивнула, соглашаясь.
— Ну как? — обернулся капитан к Лидочке.
— Я тут практически не бывала.
— А вчера? Что вчера заметили? Было видео?
Лидочка поглядела на Женю.
— Я смотрел у него видео, — сказал Женя.
— Американский фильм, — сказала Итуся. — «Вспомнить все!» Позавчера смотрели.
— Вот видите, — обрадовался прогрессу следствия капитан. — Другие вещи?
— Я думаю, особых ценностей здесь не было.
— А компьютер?
— Компьютера я не видел.
— Я бы заметила, — сказала Итуся.
— Думайте! Ильинские могли оставить ценные вещи, на сохранение.
— Кто-кто?
— Ильинские, хозяева дачи.
— Сомнительно, — сказал Глущенко. — Представляете, люди уезжают на год и оставляют на даче в распоряжении жильца какие-то ценности.
— Всякое бывает.
— Я вам советую, — сказала Итуся, — поговорить или с поэтом Вересковым, он снимает домик напротив, или с соседкой — с той стороны. Ольгой, библиотекаршей. Они тут чаще бывали, они знают, какие вещи могли исчезнуть.
— Так и сделаем. Новый вопрос, — сказал капитан, загибая указательный палец. — Что вы можете сообщить о его ближайших родственниках?
— Вчера здесь как раз была его бывшая жена, — сказала Лидочка. — Нина Абрамовна Спольникова.
— Они в разводе? Зачем она приезжала?
И тут Лидочка поняла, что капитан спешит, он сам уже не рад, что ввязался в этот разговор, который трудно назвать допросом, но и трудно придумать для него другое название.
— Какие-то хозяйственные дела, по разделу имущества, — сказала Итуся.
— Давно в разводе?
— Семь лет, — сказала Лидочка.
— А новая жена есть?
Итуся молчала, глядела на Лидочку, оставляя ей инициативу. Но вроде бы капитан этой паузы не заметил.
— Сергей Романович не женился.
— Дети есть?
— Насколько я знаю, нет, — сказала Лидочка.
— Родители?
— По-моему, умерли. Я вам дам телефон Нины, его бывшей жены, она все объяснит.
— Отлично. Давайте телефон. И оставьте мне ваши адреса и телефоны, вы мне понадобитесь… Вернее всего.
И тогда Лидочка поняла, что капитан знает нечто об убийстве Сергея, что резко снижает его интерес к прочим свидетелям. И вернее всего, он и не намеревается вызвать бывшую жену. Подумав так, Лидочка спросила:
— Почему вы думаете, что это был грабитель?
— Он через окно влез, земля на подоконнике и на полу, я думаю, что он искал деньги. Может, наркоман, может, бандит.
— Но у Сергея ничего не было!
— Относительно, — возразил Анатолий Васильевич. — Видак — вполне достаточный повод для убийства. У нас за полсотни долларов убивают. А на даче был не только видак, это я вам гарантирую.
Последние слова были полны укора, словно капитан показывал Лидочке и Глущенкам, что они знают о ценностях, но запутывают следствие, скрывая от него очевидные вещи.
Потом капитан сделал шаг в сторону и сказал Глущенке, которого он выделял:
— Вы поглядите, гражданин, в комнату, может, вспомните о вещах, которые пропали?
— Мне тоже можно взглянуть? — спросила Лидочка.
— Не надо, натопчете. А там следы остались.
Лидочка подумала, что, вернее всего, натоптали сами милиционеры.
Глущенко заглянул в комнату. Он стоял, чуть покачиваясь и внутренне решая задачку «найдите десять различий между двумя картинками». Лидочке не было видно за ними, но тут Женя сделал шаг назад в сторону, и Лидочка увидела, что дверцы шкафа раскрыты, белье выброшено на пол, а на полу валяется один из ящиков.
— Тут искали, — сказал Женя не столько милиционеру, как Лидочке и Итусе.
— Вот именно, — подтвердил Анатолий Васильевич. — Значит, подозревали, что искать.
— Простите, но я хотел бы возразить, — сказал Женя. — Если бы знали, что и где искать, то им не было бы нужды выворачивать ящики и копаться в белье. Взяли бы, что нужно, и ушли.
— Ладно уж, — не согласился милиционер, — по-разному бывает. Он мог знать, чего надо брать, но не знал, где спрятано. Не исключено, что приходил знакомый.
— Почему?
— Соседи шума не слышали.
— Нет! — твердо ответил Женя. — Знакомый вошел бы через дверь. Или, в крайнем случае, через дверь на веранду. Она была открыта?
— А черт ее знает! — в сердцах ответил капитан. — Соседка бегала туда-сюда, натоптала, впрочем, это и не играет сейчас роли.
Капитан пошел на кухню, где заставил свидетелей записать свои адреса и телефоны, обещал вызвать. Потом выпроводил всех из дома, сам вышел последним, закрыл дверь на ключ. Подождал, пока Итуся поймает Пуфика, и проводил всех до калитки. Захлопнув калитку за собой, просунул крепкую волосатую руку сквозь штакетник, чтобы задвинуть засов.
— Все, — сказал он, словно закончил тяжелую работу, — теперь можно и пообедать.
— Задержались мы, Анатолий Васильевич, — поддержал его потный милиционер. — Я чуть с голоду не помер.
Лидочка подумала, что милиционеры могли бы и не обсуждать сейчас обеденные проблемы, а потом отогнала эту мысль — они же каждый день находят трупы, что ж теперь, голодать из этических соображений?
Милиционеры быстро пошли по улице к отделению, а Глущенки с Лидочкой остались у калитки. Ведь они так ничего и не узнали от Анатолия Васильевича. Было странное чувство — словно перед тобой поднялся занавес, за которым стояли в разных позах люди на фоне декораций, и тут же опустился, зажегся свет, и дамы в униформе торопят скорей идти в гардероб, а то гардеробщицам пора по домам.
Солнце пекло нещадно, воздух был влажным, тяжелым, еще и суток не прошло с той минуты, как Лидочка входила в эту калитку и Сергей встретил ее на террасе.
— Хоть бы дождик пошел, — попросила пощады у природы Итуся.
Пуфик стоял у ее ноги, покорный и терпеливый. Женя так и держал в руке несчастную корзину.
— Я сегодня видела отвратительный сон, — сказала Итуся, — но не придала ему значения.
Итуся явно намеревалась рассказать этот сон, но обычно терпимый Женя оборвал ее:
— Давай дома будем рассказывать. Сейчас я хочу увидеть Верескова.
Женя был прав. Нельзя уходить, не узнав по крайней мере того, что знают соседи.
Они побрели к дому, где снимал флигелек Вересков, стали звать его от калитки, но вышел не он, а Ольга, соседка Сергея, и сказала:
— А Валентин Дмитриевич срочно в Москву уехал.
— Оля, — обрадовалась Итуся, которая знала соседку ближе остальных. — Мы вообще-то к вам хотели. Мы вовсе ничего не знаем.
Крупная, массивная Оля, само добродушие, подошла к забору. Разговор продолжался через штакетник.
— Это я во всем виновата, — сказала Оля. Она начала говорить сразу после вопроса Итуси, видно, она специально стояла тут в ожидании расспросов. Грустно потерять статус главного свидетеля, когда свидетельскому полку пришло пополнение.
Ольга, по ее словам, проснулась часа в два от какого-то звука. Звук пришелся на сон — так что она даже не поняла, что же ее разбудило. Теперь, после того как она побывала в соседнем доме, Ольга поняла, что ее разбудил звук выстрела. Было тихо. Только очень тревожно. Она встала, подошла к окну, посмотрела в сторону окон Сергея. Именно в ту сторону, а не в другую — что-то, значит, чувствовала. Она стояла довольно долго, и ей показалось, что там горит настольная лампа. Сергей Романович часто допоздна работал — кухня-то с ее стороны, ей видно было, как он сидит у окна и печатает на машинке. В жаркие дни все открыто настежь, правда, участки разделены сараями, но сараи стоят не вплотную.
Потом Ольга легла и спала часов до девяти утра. Встала, были какие-то домашние дела, ей сегодня выходить после обеда. Ольга собиралась на почту и еще вчера договорилась с Сергеем, что заглянет к нему в первой половине дня и возьмет несколько писем, которые он написал, — специально идти за километр к почтовому ящику ему не с руки.
Она пошла к Сергею в одиннадцатом часу, как раз кончился дождик.
Дверь на террасу была открыта, но когда Ольга вошла, никто не отозвался. Может, заработался вчера и заснул поздно, решила она, а так как отношения в поселке были простыми, деревенскими и Сергей эти отношения принимал, Ольга негромко позвала его, чтобы не будить, если спит. Тут она и увидела его на полу. Сначала она решила, что сосед напился и свалился под стол — она такого натерпелась с прошлым мужем. Потом испугалась, что у Сергея случился припадок. И хоть было светло и она увидела кровь, сознание не соглашалось с насильственной смертью — иначе как объяснишь, что она даже присела на корточки и стала трясти его за плечо, чтобы очнулся.
А потом уже окончательно поняла, что сосед мертв.
— А из чего он был застрелен? — спросил Глущенко.
— Не знаю, — сказала Ольга. — Может, из ружья, может, из пистолета. Не все ли равно?
— Оружия вы там не видели?
— Нет, оружия не было. Да я и не искала.
— А потом милиционеры не находили оружия?
— Женечка, ну что ты пристал к Оле со своими вопросами? Вы продолжайте, Оля, — попросила Итуся.
— А больше нечего продолжать. Я испугалась, — сказала Ольга. — Выбежала, а тут Валентин Дмитриевич идет. Я сначала не хотела его в это дело впутывать, он такой впечатлительный. Но он по моему виду угадал, буквально кинулся ко мне, спрашивает, что у вас произошло? Я и говорю, что не у меня, а с Сергеем Романовичем случилось несчастье. Я его попросила подежурить, чтобы никто не вошел в дом. Почему-то мне показалось важно, чтобы до милиции никто в дом не вошел. А сама побежала в милицию — тут пять минут…
— И приехал капитан Анатолий Васильевич, — подсказал Женя, который хотел установить всю картину, полностью.
— Сначала Толика не было, — сказала Ольга. — Меня на патрульной машине подвезли, там сержант был, он ко мне в библиотеку ходит. Вересков у террасы стоял. Весь бледный, как полотенце. Он мне потом сказал, что ему казалось, Сергей выходит, весь в крови… вы представляете?
— Представляем, — сказал Глущенко.
— А потом Толик прибежал, — сказала Ольга.
— Какой Толик?
— Уполномоченный, Анатолий Васильевич: мы с ним в одном классе учились, он такой романтик раньше был, а отец заставил его в милицейское училище пойти. А то, говорит, всех грабят, но без образования не защитишь. У него отец — типичный ветеран.
Лидочке показалось, что Ольга шутит. Но Ольга не улыбалась.
— Вы с ним осторожней, — сказала она. — Он на вид все еще безопасный, а в самом деле у него развилась хватка. Он, как бульдог, вопьется, не оторвешь. Он знаете, на ком женился? На Люське Мамедовой, ее на конкурс красоты выбирали, из кино режиссер приезжал на «Мерседесе», честное слово, он Толик, он только в науке нолик.
Лидочке послышалась старая школьная шутка.
— Толик все ждет своего звездного часа. В десятом классе он книжку прочел — «Звездные часы человечества». Немецкого писателя…
— Стефана Цвейга, — подсказал Глущенко.
— Стефан Цвейг про великих людей написал, а Толик теперь ждет своего часа. Ему надо, чтобы его заметили.
— Из-за Люси Мамедовой? — спросила проницательная Итуся.
— А вот Люся Мамедова уже ни при чем, — вдруг рассмеялась Ольга. — Я вам ее покажу, если хотите.
— Ну что, все? — Итуся устала от переживаний, ей хотелось уйти, но Женя медлил, и Лидочка понимала его: еще было не сказано нечто важное, что все объяснит и расставит по местам.
— Все неправильно, — сказал Женя.
— Я тоже так думаю, — быстро согласилась Ольга. — Все неправильно, не должны были Сергея Романовича убивать. Да и что брать-то у него?
— Видик, — сказала Лидочка. — Ваш Толик спрашивал, что пропало. Он думает, что там еще были деньги.
— Вряд ли.
— Убийца не мог приехать на машине? — спросил Женя.
— Мы бы услышали. В два часа кто-нибудь да услышал — с той стороны Школьная перегорожена, она как тупик. Если бы кто заехал, мы бы обязательно услышали. Нет, убийца пешком шел. За видиком?
— Происходит нарушение шкалы ценностей, — заявил Глущенко. — Человека можно убить из-за пятидесяти рублей, причем из гранатомета, потому что именно гранатомет попался тебе в лапы. Масштаб добычи и масштаб нападения никак не соотносятся.
— Правда, — согласилась Ольга, хотя не было уверенности, что она вслушивалась в эту сентенцию.
Лидочка глядела на зеленую крышу дома, поднимавшуюся над кронами яблонь, и представляла себе прошлую ночь, шаги в саду — наверное, Сергей услышал шаги, может, ему стало страшно. Он спросил: «Кто там?» — ему не ответили. А тому, кто следил за Сергеем из сада, был хорошо виден силуэт хозяина, неуверенно подошедшего к окну… Нет, Сергей услышал, как грабитель ходит по маленькой комнате, разыскивает этот самый видик, который стоял на телевизоре, а телевизор был большой и старый, брать его не имело смысла… Может, вор и не хотел стрелять?.. Почему он не забрался вечером, когда все ушли на станцию?
Они вернулись на дачу к Глущенкам, там Лидочка взяла свою сумку, Женя проводил ее до платформы. Они молчали, ожидая электричку. Солнце все еще жарило, и они прятались в тени высоких кустов, прижимавшихся к платформе с тыла. В кустах кишели мухи — наверное, нашли там добычу, — мало ли что кидают с платформы. Но в тени было не так жарко.
— Ты позвонишь Нине? — спросил Глущенко.
Лидочка не стала отвечать. Она устала, словно весь день дрова рубила, хотя до вечера было еще далеко. Она и ехала в Москву, потому что надо было что-то делать — кому-то звонить, что-то организовывать. Толик исчез, неизвестно было, звонил ли он родственникам — вернее всего, милиционер не звонил никому, потому что Сергей для него был чужим человеком, пришлым.
Пока Лидочка с Женей маялись на платформе в ожидании электрички, Толик Голицын прошел к себе в комнату, которую делил с бывшим одноклассником и недругом Васей по прозвищу Мордоворот. В комнате было душно. Василий сидел здесь до обеда и, пользуясь отсутствием Толика, курил, а форточку, конечно же, не открывал.
Первым делом Толик открыл окно, затем положил на стол свою папку, с которой всегда выезжал по вызовам и считал ее счастливой, потому что ее подарила Люда на первую годовщину свадьбы.
Сев за стол, Толик вытащил из папки двойной лист бумаги, найденный в доме погибшего, и разложил его на столе, расправив и разгладив ладонями. Этот лист Толик приложил к следу, который обнаружил на полу маленькой спальни. Предполагаемый убийца сначала наступил на грядку, испачкал подошву, и след отпечатался на бумаге. На всякий случай Толик обвел его карандашом.
Именно находка этого следа, о котором Толик не стал говорить Лиде и Глущенкам, вызывала в его душе бурю надежд. Толик жил в ожидании славного громкого дела, которое он раскроет столь блестяще, что на него обратят внимание в Управлении по борьбе с организованной преступностью. Он получит повышение, Люда сразу и навсегда перестанет жаловаться на вечное безденежье и бездарность мужа, не умеющего брать взяток.
Обведенный на бумаге след был невероятно велик. Под него подходил ботинок сорок восьмого, а может, и сорок девятого размера. Обладатель такой ноги должен превышать два метра в высоту, и намного превышать. А как известно, в поселке нет ни одного гиганта, вряд ли такой есть в самих Мытищах. Здравый смысл подсказывал Толику, что двухметровые люди никогда не идут в грабители и охотники за видиками. Значит, за делом об убийстве писателя Спольникова может скрываться тайна и драматические события, которые прославят Голицына Анатолия Васильевича. Поэтому уверения Толика, что за убийством Сергея стоит простое ограбление, были маскировкой, камуфляжем, туманом, который он сознательно напускал перед свидетелями, чтобы никто не догадался о действительных мыслях и надеждах оперуполномоченного из поселка Челушинский.
Теперь следовало ждать, когда же из небытия возникнет гигант в ботинках сорок девятого размера. И тщательно вести следствие, никому не показывая, каким оно может стать сенсационным!
А пока пускай все думают, что случайный грабитель с пистолетом в кармане залез за легкой добычей и пристрелил дачника. Пускай думают…
Толик, который любил предавать бумаге свои надежды, правда, в зашифрованном виде, написал перед отпечатком следа: «Дело о гигантской ступне». Так было лучше.
Теперь следовало выяснить, кто знает такого баскетболиста и кто видел гиганта в районе Челушинской прошлой ночью…
Пока Толик подводил итоги первых часов расследования, Лидочка с Женей томились на раскаленной платформе. К счастью, электричка пришла почти пустая — кто едет в Москву в четыре часа пополудни в понедельник?
Усевшись у окна, Лидочка видела, как Женя прошел несколько шагов следом за тронувшимся поездом и вскоре отстал.
Глава 3
Приехав домой и приняв душ, Лидочка долго сидела перед телефоном, прежде чем решилась взять трубку. Одно дело, если умер знакомый и тебе звонят другие знакомые, а ты звонишь третьим — это все ужасно, это несправедливо, но об этом можно говорить, ты лишь посредник. Теперь Лидочке, пожалуй, впервые в жизни, пришлось выступать в роли гонца несчастья.
Ей предстояло сообщить о смерти Сергея двум женщинам.
Поэтому Лидочка выбрала первым звонком тот, который ей самой грозил меньшей душевной болью.
Она позвонила Нине.
Нина была в школе. У нее шел урок.
Конечно, можно было вызвать ее с урока — благо, к телефону подошел кто-то молодой и вежливый. Но Лидочке показалось нетактичным сообщать Нине: «Я не могла дождаться звонка с урока, так спешила поставить тебя в известность!»
Она попросила, чтобы Нина Абрамовна, как вернется с урока, срочно позвонила ей, и оставила свой телефон. Она знает. Лидия Кирилловна, вот именно.
Конечно, за пятнадцать минут, пока кончится урок, можно было бы позвонить и Лизе Корф, но Лидочка предпочла все же пойти на кухню, сварить себе кофе, сделать бутерброд… Было уже не так жарко. Шел шестой час, солнце ушло за крыши высоких домов напротив, душ освежил Лидочку. Впрочем, она сейчас даже не ощущала жары — ее колотила мелкая нервная дрожь.
Вдруг она вспомнила, что надо сделать еще звонок — Марине Котовой. Он по крайней мере не грозил быть таким внутренне трагическим — для Марины смерть Сергея будет горем, большим, но, дай бог, не личным. Ее горе сравнимо с горем Лидочки: исчезновение из жизни собеседника, товарища, будучи утратой, не изменяет кардинально твою собственную жизнь. Для Нины или Лизы Корф потеря Сергея означала потерю части самой себя.
Но Лидочка зря убаюкивала себя, полагая, что Марина воспримет смерть своего автора просто как печальную новость. Поэтому она не стала готовить Марину к известию — ведь нельзя подготовить к вести о смерти так, чтобы она стала менее печальна.
— Марина, — сказала Лидочка, — ты прости, пожалуйста, что я тебя беспокою, но Сергея сегодня ночью убили.
Марина поверила сразу. Как будто она ждала такой новости.
— Боже, — сказала она упавшим голосом, — это слишком ужасно. — И повесила трубку. А может быть, выронила ее. И тут же телефон затрещал.
— Нас разъединили, — автоматически сказала Лидочка, полагая, что это Марина.
Звонила, однако, Нина Абрамовна.
— Здравствуйте, — сказала она. — Что случилось? Только, пожалуйста, не рассусоливайте, я тороплюсь.
Лидочке захотелось огрызнуться — бывает же такая безапелляционность, которая вызывает ответную агрессию.
Но Лидочка взяла себя в руки.
— Нина Абрамовна, простите…
— Лидия Кирилловна, — оборвала ее Нина. — У меня считаные минуты. Я должна подготовиться к следующему уроку.
— Убили Сергея Романовича, — послушно сказала Лидочка.
— Чепуха, — ответила Нина Абрамовна. — Таких, как он, не убивают. Это сердечный приступ. Сережа всегда страдал аритмией.
— Господи, — вскрикнула Лидочка. — Я же вам правду говорю! Какой-то бандит забрался в дом к Сергею и убил его.
— Куда его повезли? — спросила после паузы Нина, опустив приличествующие случаю слова. — В какой морг?
— Не знаю, — сказала Лидочка, понимая, какую глупость она совершила, не спросив об этом у Толика. — Но у меня есть телефон милиции, которая расследует это дело.
— Вы будете у себя? — спросила Нина Абрамовна.
— Да.
— Тогда будьте любезны, узнайте, в какой морг повезли Сережу. А я должна идти на урок. Какими бы ни были мои переживания, окружающие не должны страдать.
— Я буду дома, — повторила Лидочка.
Снова зазвучали короткие гудки.
Получалось как-то неладно. Никто не собирался снять с Лидочки груз. Обе, знавшие Сергея женщины, разговаривать не стали.
Оставалась Лиза Корф.
Сколько же они не виделись? Кажется, года три — тогда они встретились в Ялте. И встречались ежедневно в течение недели. Все было мило и ни к чему не обязывало. Лиза ездила туда каждый год, у нее был как бы свой дом в Гурзуфе, где с тебя берут денег больше, чем со случайного постояльца, и к тому же зимой присылают к тебе в Москву переночевать проезжающего через Москву дальнего родственника с двумя детьми. Сергей был там на конференции, Лидочка вырвалась из института на две недельки отдохнуть, а Андрей Берестов копал неподалеку. Сергей ходил за кумысом, вечером все вместе отправлялись в открытый кинотеатр в парке. Даша была длинноногой, нескладной, рыжей, конопатой девочкой, которая никак не могла превратиться в женщину, отчего была капризна, излишне смешлива и склонна к домашнему хамству.
— Лиза? — спросила Лидочка и, не дождавшись ответа, сказала: — Это Лидия Кирилловна! Лиза, вы должны помнить меня, мы вместе отдыхали в Гурзуфе. Вы помните?
— Да, — ответил женский голос, — я помню. Только я Даша.
Даша не успела, не сообразила сказать, что мамы нет дома. Она только собралась это сказать, как Лидочка, продолжая уже готовый текст, быстро произнесла:
— Я звоню, чтобы сказать, что убили Сергея, Сергея Романовича, ты его должна знать… — Ну что же я несу? Дашка называла его Сережей, они были с ним дружнее, чем с прочими взрослыми, вместе уплывали далеко в море. А Лиза оставалась на гальке и все тянула шею, стараясь угадать их в волнах.
— Даша, ты меня слышишь, ты сможешь передать маме? Я там случайно оказалась.
Даша молчала, не переспрашивала и не прерывала Лидочку.
В трубке было тихо. Только замолчав, потому что не знала, что сказать далее, Лидочка поняла, что Даша плачет. Плачет беззвучно, даже не всхлипывая, и Лидочка сразу вспомнила, как Даша плакала в Ялте: лицо ее бледнело, становилось неподвижным, на нем выступали веснушки, дрожали губы и большие слезы скатывались по щекам.
— Даша, прости, — сказала Лидочка. — Наверное, я не так сказала… Опять я виновата? Лучше бы я вчера не ездила туда!
Даша молчала.
Потом повесила трубку.
Такая вот была у всех манера — выслушать сообщение и повесить трубку.
«Лидочка, не сердись, — сказала она себе. — У людей шок, они не могут осознать смерть Сергея: особенно смерть насильственную… только не говори, что таких не убивают».
Лидочка пошла на кухню, налила себе еще кофе, хотелось закурить, но ведь мы бросили курить окончательно? Телефон зазвонил снова.
— Простите, Лидия Кирилловна, — сказала Даша. — Я просто ничего не соображаю. И мамы нет. Я буквально в оцепенении…
— Не надо, — сказала Лидочка. — Я все понимаю. Ты хочешь знать, как это случилось?
— Это правда, да? Может, вам неправильно сказали?
— К сожалению, правда.
Голос у Даши был другим, низким, словно вовсе не с ней Лидочка говорила несколько минут назад. Даша покорно вздохнула.
— Это случилось ночью, — сказала Лидочка. — Мы вечером были у Сергея в гостях, а сегодня собирались пойти купаться. Ждали, ждали, его нет, мы с Глущенками пошли к нему. А там милиция…
Даша хмыкала, как бы соглашаясь со словами Лидочки.
Потом откашлялась.
Лидочка продолжила:
— Кто-то застрелил его. Наверное, из пистолета. Говорят, что грабитель.
— Из пистолета? — Даша была поражена. — Этого быть не может!
— Да, конечно, это странно, так бывает с банкирами, но милиция считает, что грабитель лез за видео, а Сергей его спугнул.
— Лез с пистолетом?
Даша перестала слушать ее, всегда чувствуешь, когда человек перестает тебя слушать.
— Пистолет пока не нашли, — сказала Лидочка и осеклась.
— Большое спасибо, — сказала Даша, — только мне нехорошо, я вам потом позвоню, хорошо? Или мама позвонит. Она скоро придет. Я ей сама расскажу. И потом мы вам позвоним.
Лидочка ненавидела телефон. Сейчас телефон зазвонит снова, и снова придется обжигаться о чужое горе. О горе Даши… Но помимо горя, было и другое — какое-то дополнительное знание, понимание причин и обстоятельств смерти, понятное только самой Даше.
Телефон заверещал.
Это была Марина Котова.
— Ты извини, — сказала она, — что я трубку кинула. Это от неожиданности. Понимаешь, для меня Сергей — это нечто постоянное, почти вечное. Другие люди могут умирать, уходить, болеть, а с ним ничего не случалось. Я прямо оторопела от твоих слов. Это ничего, что я тебе звоню?
— Ничего, — сказала Лидочка.
— У меня ведь его рукопись. Он всю жизнь писал только популярные книжки, ты же знаешь. И вот почувствовал себя созревшим для прозы. Это редко бывает с популяризаторами. Они не могут вырваться из своей шкуры. А вот Сергей смог. Честное слово, он написал неожиданную вещь! И я добьюсь, что она увидит свет. Знаешь, как бывает — нет человека, нет проблем. Но я обязательно добьюсь, чтобы роман вышел. Это дело чести.
«Каждый кулик хвалит свое болото, — подумала Лидочка. — И Марина, хоть и опечалена смертью Сергея, видит его и понимает сквозь призму романа, который уже не имеет смысла для Сергея, если сам он погиб. Теперь роман остался реальностью лишь для его редактора, для Марины. Вот этим она и обеспокоена. А потому сама смерть Сергея — это вторично, это не так важно, если есть Произведение… Может, я несправедлива к ней, может, она действительно взволнована смертью Сергея…»
— А как это случилось? — спросила Марина. — Мне страшно спрашивать. Ведь, кажется, только-только попрощались, правда?
— Правда. Его убили из пистолета. Грабитель забрался в дом, окно было открыто, он видео…
«Я уже твержу заученный текст, как нищенка в метро».
— Господи! — воскликнула Марина. — Из-за жалкого видео убить такого человека! Ты не представляешь, какая это была светлая голова! Ты не представляешь… — Марина всхлипнула.
Лидочка ждала, пока она заговорит снова.
— Ты продолжай, — произнесла наконец Марина. — Забрался в дом и выстрелил. А что, разве никто не слышал, не видел?
— Это было в два часа ночи, — сказала Лидочка. — Соседка говорит, что проснулась от выстрела, но не догадалась в тот момент, что это был выстрел. Ты знаешь, участок угловой — с двух сторон улица, а соседний сад Ольги отделен сараями и деревьями.
— Может, он потом испугался и кинул пистолет? — с надеждой спросила Марина Олеговна. — Пистолет найдут и убийцу поймают.
— Ничего он не испугался! — возразила Лидочка. — Ведь он потом все-таки забрал видео и ушел. Спокойно ушел. Ольга говорит, что там горел свет. Она видела после того, как проснулась от выстрела.
— Ты только что уверяла, что с Ольгиного участка дом не виден, — упрекнула Лидочку Марина.
— Зачем ей врать?
— Мало ли кто и почему забрался к Сергею. А они, местные, друг друга все знают. И если твоя Ольга…
— Она не моя! — воскликнула Лидочка.
— Ну, не твоя… Если твоя Ольга видела кого-то знакомого, она в жизни никому не признается. Ей же в поселке жить. А там каждый второй бандит, а остальные бывшие бандиты.
— Ты преувеличиваешь, Марина.
— Как? Убивают человека. Интеллигентного, милого, совершенно безобидного, губят талантливого писателя — ты, по-моему, еще не осознаешь, что же произошло! Это же продолжение беспредела! Беспредела во всем! В политике, в экономике, в армии! Знаешь, я иногда просыпаюсь ночью и думаю: боже, пошли нам генерала Лебедя! Пускай он скрутит железной рукой всех преступников, жуликов, паразитов! Мне так надоело существовать на нищенскую зарплату, бояться выйти на улицу в темноте, бояться, что тебя могут избить… И это кончается смертью хорошего человека.
— Я не верю в панацеи, — сказала Лидочка. — В лекарства, о которых все кричат, что они вылечат от всех болезней. Чаще всего они оказываются смертельными для большинства больных. Особенно для тех, кто так горячо в них уверовал. Я не знаю, кого в первую очередь положено скручивать генералам, но исторический опыт не вселяет в меня оптимизма.
— Исторический опыт — чепуха собачья! Прости, Лидия, но сначала в истории бывает первый раз. А от него и начинается опыт… Что я несу чепуху… над Сережиным гробом… прости меня, Лидочка. Я просто очень устала от нашей неладной жизни. Лучше скажи мне, что еще известно? Он сильно мучился перед смертью?
— Не знаю, но мне кажется, что его убили сразу, в голову.
— Ты права, если было несколько выстрелов, соседи бы проснулись и всполошились.
— Там ни у кого нет телефона. Если нужно позвонить, бегут на почту, а ночью — в милицию. Благо недалеко, — сказала Лидочка.
— Я не могу поверить в то, что ты говоришь, я не могу, понимаешь?
— Нам некуда от этого деться.
— Мы же с ним договорились на неделе, чтобы обсудить замечания рецензентов.
Марина сказала последнюю фразу с напором, словно ей обязательно нужно было донести до сознания Лидочки важность их общей с Сергеем работы.
Лидочка, как бы признавая внутреннюю правоту Марины, сообщила:
— В машинку была вставлена страница. Наверное, после нашего отъезда он сел работать.
— Сережа говорил, что любит работать ночами, когда никто не мешает. А где он сейчас? Куда его повезли?
— Наверное, в морг.
— В какой?
— А ты собиралась туда поехать?
— Ой, что ты, я боюсь мертвых!
Как будто граница проходила именно у порога морга — до этого Сергей оставался для Марины живым человеком. С этого момента он стал чужим, страшным мертвецом.
— Извини, Марина, — сказала Лидочка, — я жду звонка от Нины Абрамовны.
— От кого?
— От жены Сергея. Ты видела ее вчера на даче.
— А, от Нины! Конечно. Она заберет его из морга?
— Нина Абрамовна еще ничего толком не знает. Она сказала, что позвонит мне, когда кончится урок.
— Конечно! Делу время — потехе час. Я ее немного знаю, и мне порой кажется, что господь бог обделил ее человеческими чувствами. В ней есть только расчетливость, свойственная этой нации.
— Я с ней совсем мало знакома, — ответила Лидочка.
— Твое счастье.
— Я позвонила Лизе Корф, — призналась Лидочка.
— Вот это — зря, — сказала Марина. — Ты впутываешься в скандал, до которого нам с тобой дела нет. Они же ненавидят друг дружку — Лиза и Нина.
— Кто-то же должен его похоронить.
— У Нины больше формальных оснований, — отрезала Марина.
— Может быть.
— Я тебе позвоню вечерком, если чего еще узнаешь, сообщи.
Лидочке оставалось дождаться еще одного звонка, прежде чем можно будет уйти из дома.
И телефон, подчиняясь мыслям Лидочки, тут же ожил.
— К тебе невозможно дозвониться, — сердито начала Лиза Корф. — Я полчаса звоню.
— Здравствуй, Лиза. Я рассказала о смерти Сергея только Нине Абрамовне и Марине Олеговне.
— Это кто еще такая — Марина Олеговна?
«Господи, о чем мы говорим!» — подумала Лидочка. И ответила:
— Марина — редактор Сергея.
— Это та, из «Московского рабочего»?
— Та самая. Ты позвонила мне из-за Сергея?
— Теперь это уже не играет роли, — резко произнесла Лиза.
— Почему?
— Потому что ты дозвонилась до Нинки. Какого черта ты ей дозванивалась?
— Во-первых, потому что она его бывшая жена. Во-вторых, потому что я разговаривала с Дашей, а тебя не было дома.
— Могла бы обойтись без нее, — сказала Лиза.
«Господи, — подумала Лидочка, — таких не убивают, но из-за таких случаются бесконечные скандалы и совсем уж бесконечные выяснения отношений. Даже смерть вызвала последнюю вспышку перетягивания давно уже растрепавшегося каната. Вернее всего, Сергей не был нужен обеим этим женщинам, но инерция поддерживалась соперничеством, хоть и обветшалым, традиционным, но вспыхивающим в моменты перемен. Смерть — самая основная из перемен. Теперь это соперничество перейдет в область воспоминаний и останется ревностью к памяти о нем».
— Меня даже на могилу не пустят, — сказала Лиза. — Но мне-то, честно говоря, плевать на это, Дашку жалко, она его любила.
— Я дам телефон капитана милиции, который ведет это дело.
— Нет, — отрезала Лиза, — я лучше тебе позвоню. Завтра. А то мне этот капитан милиции ничего не скажет. Только заподозрит, что я Сергея застрелила.
— Зачем тебе его стрелять?
— Не знаю зачем. Его хоть ограбили?
— Взяли видео, что еще — не знаю.
— В следующий раз будет закрывать окна! — сердито сказала Лиза.
И только тут Лидочка с чувством внезапно нахлынувшей вины поняла, что Лизе Корф этот разговор ужасен и что, может быть, из всех людей на Земле именно эта женщина потеряла больше всех.
— Это не шутка, — сказала Лиза, — это нечаянно получилось. Я оговорилась, прости.
Лиза, не прощаясь, повесила трубку, и тут Лидочка подумала: Лиза не задавала вопросов из породы тех, что принято задавать. Потом она спохватилась — ну конечно же, все уже рассказала Даша.
«Ну вот, — сказала сама себе Лидочка, — смерть человека из разряда людей, которых не убивают, вызвала соответствующую волну тревоги, теперь волнение расширяющимися кругами побежит по озеру, куда как более обеспокоенному политическими проблемами и тревогами наступающей осени. Где-то вскоре после похорон волнение исчезнет». Лидочка допускала, что из чувства ревности в последнем действии своего соперничества две считающие себя самыми близкими к нему женщины устроят соперничающие поминки, между которыми разделятся немногочисленные друзья и знакомые, а вот на девятый день собираться будет негде. От Сергея вроде бы осталась однокомнатная квартира — кому же она достанется? Нина с ним разведена, а Лиза так и не вышла за него замуж… Эти мысли преследовали Лидочку в течение часа. Все время звонил телефон — к ней стекались ручейки любопытства…
— Лидочка, это правда, что Сергея Романовича убили?
— Лидушка, немедленно расскажи, что случилось с Сережей!
— Лидия Кирилловна, вас беспокоит знакомый Сергея Романовича…
Наконец Лидочка вытащила шнур из розетки. Телефон молчал, но она внутренним слухом ощущала, как он надрывается от звона, стараясь преодолеть навязанную ему немоту. Нет, так больше продолжаться не может, надо уходить… И тут она, на счастье, вспомнила, что уже вторую неделю обещала навестить Инну Генриховну, мать подруги, уехавшей в какую-то дико отдаленную страну.
Лидочка позвонила Инне Генриховне, и та сначала отказывалась от визита, потому что не хотела отнимать драгоценное Лидочкино время, а потом еще минут пять не хотела сказать, что Лидочке купить по дороге к ней. Пока длилось это единоборство, закончившееся победой, Лидочка носила телефон по квартире, стараясь вспомнить, что еще следует захватить с собой: счет за междугородные разговоры — забегу по дороге на почту. Неотправленное письмо Исмаилу Ахметовичу — сколько ему лежать у зеркала в прихожей? Проволочную авоську для яиц — надо купить хотя бы десяток… Наконец Инна Генриховна призналась в том, что ей хотелось бы чего-нибудь сладенького, а дома нет масла. Ну вот, можно идти.
Но едва Лидочка отворила дверь на площадку, она тут же испуганно отшатнулась — прямо перед ней стояла высокая бледная девушка.
Лидочке потребовалось несколько секунд, чтобы, отпрянув в прихожую, прийти в себя. А девушка между тем вошла за ней, не прикасаясь к Лидочке, но в то же время как бы отталкивая ее.
— Здравствуйте, — сказала девушка, и Лидочка тут же узнала ее по голосу. И первое ее чувство было разочарованием. Ну вот, вырваться из дома она не успела, ее поймали.
— Здравствуйте, Даша, — сказала Лидочка. — Проходите.
— Я ненадолго, — сказала Даша.
Лидочка забыла, что Даша — рыжая. Настоящая рыжая, с веснушками на белом, никогда не загорающем лице и глубокими кошачьими зелеными глазами. Лидочка вспомнила, что когда-то очень давно они с Андреем жили в коммуналке, и там обитала рыжая девочка, которая более всего любила часами прыгать так, что вздрагивал весь дом, — соседи чертыхались, но не пойдешь же в милицию жаловаться, что тебя выводит из себя пятилетний ребенок.
А пятилетний ребенок получал, таким образом, все, что желал, — взрослые подлизывались к этой девочке, только бы она перестала прыгать.
На Даше были джинсы, в меру вытертые и в меру дорогие, и легкая белая блузка с глубоким разрезом, которая и не пыталась скрыть небольшую грудь.
Даша остановилась в прихожей и двинулась к кухне, как бы подчеркивая, что ее визит вызван необходимостью.
На кухне она села за стол и положила на него полные белые руки с длинными пальцами и коротко стриженными, как у медика, ногтями.
— Надо поставить кондиционер, — сказала Даша. — У вас помереть можно.
— Второй этаж, — извиняющимся голосом произнесла Лидочка. — Но обычно получается сквозняк. — Она показала в сторону спальни.
— Водички не найдется? Вы меня извините, что нагрянула, но это особый случай… Спасибо. Мать уже звонила?
— Звонила.
Дашенька вытянула сильные прямые ноги.
— В джинсах, наверное, жарко, — мелко отомстила Лидочка.
— Ничего, они из коттона. А мать рыдает. Она боится, что ее не пустят на похороны.
— Кто ее может не пустить? — удивилась Лидочка.
— Нина, конечно. Нина Абрамовна. Она-то, наверное, уже торжествует. Квартира ей достанется.
— Это еще неизвестно. — Лидочка старалась говорить так, чтобы сохранять дистанцию между собой, женщиной средних лет, и этим юным переростком. — Если Сергей Романович не оставил завещания…
— Он хотел оставить, — сказала Даша. — Честное слово, хотел. Он говорил. Но у нас как-то неудобно оставлять завещание. Не принято, правда?
Лидочка кивнула.
— И знаете, кому он хотел оставить квартиру? — спросила Даша.
— Наверное, вам, — догадалась Лидочка.
— Разумеется, — сказала Даша. — Он думал хоть что-то оставить мне. Если у человека нет миллионов, если его работа позволяет лишь сводить концы с концами, остается совковое имущество — однокомнатная нора в трущобе. Все, что человек нажил за жизнь! И это теперь уйдет к Нине Абрамовне.
— Даша, вы знали об этом всегда.
— Как вы думаете, может, имеет смысл пригласить юриста?
— Не имею представления, — сказала Лидочка. — Но боюсь, что если завещания не было, то все благополучно отойдет государству.
— Но это же несправедливо! Я маме так и сказала, а она говорит — пускай квартирой пользуется Лужков и его чиновники. Мы ничего не брали от Сергея, ничего не брали, и обойдемся без его подарков!
Даша замолчала. У нее были чудесные рыжие волосы.
«Желательно понять, — подумала Лидочка, — зачем мы пожаловали к тете Лиде. Что нам нужно узнать?»
— Он любил нас… и я его любила, — сказала Даша. — Для меня он был больше, чем дядя Сергей, а может, больше, чем отец. Знаете, почему? Я всю жизнь панически боялась, что он нас бросит, и тогда мы с мамой останемся совсем одни. Папа — это от природы. Я моего папу уже лет десять как не видела. А Сергей — это настоящее… Ну зачем я так говорю — вы все равно не поймете!
Даша резко поднялась из-за стола, звякнула о стол стаканом, отошла к окну.
— У вас курят? — спросила она.
— Курите, — сказала Лидочка.
Даша вернулась к столу, взяла со стула свою сумочку, достала сигареты, закурила.
— Сегодня дикая жара, — сказала она. — Наверное, гроза будет. Интересно, сколько градусов?
— Вон там градусник, — автоматически ответила Лидочка, но Даша не стала смотреть на градусник, и Лидочка сама отправилась к окну. Окно было распахнуто внутрь, и Лидочке, чтобы увидеть градусник, пришлось прикрыть одну из створок.
— Двадцать восемь, — сказала она.
Окна кухни выходили в переулок. Переулок был пуст — день, жара.
На той стороне, скрываясь в тени тополей, окружавших детский садик, стоял молодой человек в майке, широких коротких шароварах и сандалиях, еле налезших на громадные, слоновьи ступни. Сам он был грузен, большие черные очки закрывали глаза, а волосы, длинные, грязные, были связаны резинкой сзади. Это был неприятный человек. И знакомый человек. Лидочка встретила его вчера на Школьной улице.
— Вы кого-нибудь увидели? — спросила Даша, подходя сзади и пуская сигаретный дым на улицу.
Лидочке показалось, что молодой человек смотрит на нее, она отпрянула от окна в спасительную глубину кухни. Ей вдруг стало страшно, как будто она, королева, открыла заговор против себя, убийцы уже близко, и никто не спасет от кинжала.
Сказать ли?
— На той стороне стоит парень, — произнесла она, освобождаясь от тягостной тайны, — очень толстый. Вы его видели?
— Видела, — сказала Даша, тоже отходя от окна. — И что?
— Вы его знаете?
— Первый раз вижу.
— Странный парень, — сказала Лидочка. — Я встретила его вчера, он спрашивал Школьную улицу, потом он остановился у Сережиной калитки… но пошел дальше.
— Ой, что вы говорите! — испугалась Даша. — Если это тот человек, я никогда не выйду от вас! Давайте вызовем милицию!
— Погоди, может быть, это простое совпадение…
Лидочка возвратилась к окну и выглянула, прижимаясь к стене, таясь за створками.
Толстяка на старом месте не было. Он уходил по улице, в сторону Тишинского рынка.
Лидочка высунулась в окно, чтобы лучше его разглядеть.
— Ну и что? — спросила Даша. — Ложная тревога? Может, я тоже погляжу?
Лидочка пропустила Дашу к окну.
— Жалко, я толком его не разглядела, — сказала Даша. — Но вы, Лидия Кирилловна, будьте осторожнее. В наши дни это так опасно. У нас одна девочка на курсе, Семенова Галина, нечаянно увидела, как машину угоняли. Совершенно случайно. Ее в милицию вызвали и сделали свидетельницей. Вдруг ей звонят по телефону и предупреждают: молчи! Она, глупенькая, не поверила. В общем, вышла с собакой погулять — и с концами: нашли в Москве-реке. Так что лучше молчать.
Глаза у Даши были зеленые, отчаянные, кошачьи, будто, того и гляди, прыгнет. Лидочка почувствовала себя мышью.
— А впрочем, что вы можете сказать… На ваше счастье, вы не знаете, что это за парень, откуда пришел, зачем пришел.
— Я бы на твоем месте тоже была бы осторожной, — сказала Лидочка. — Если я не ошиблась…
— Вы наверняка ошиблись, Лидия Кирилловна.
— Может быть, но он очень необычный.
— Таких необычных хоть пруд пруди. А он там тоже в черных очках был?
— Без очков. И одет совсем иначе.
— Ну, тогда другой человек, — сказала Даша.
Она возвратилась за стол и допила воду.
— Странная какая-то история, — сказала она. — Я совершенно не могу в это поверить. Мама хочет поминки устраивать. У нас дома. Вы придете к нам?
— Спасибо, — сказала Лидочка. Можно было ожидать, что она получит подобное же приглашение от Нины Абрамовны.
— Как вы думаете, может, мне позвонить ей и открыто поговорить?
— Позвонить Нине Абрамовне?
— Да, позвонить и сказать — я дочь Лизы, я любила Сергея, давайте не будем делить его после смерти.
— Это разумно, — согласилась Лидочка. — Наверное, это разумно.
Даша легко меняла тему разговора — перелетала с одной на другую так неожиданно, что порой Лидочка не успевала за ней.
— А он был обычный? Вчера он был обычный? Может, его что-то тревожило, может, он предчувствовал?
— На мой взгляд, он ничего не предчувствовал, — ответила Лидочка, — мы договорились с утра идти купаться.
Неожиданно Даша поднялась и стала прощаться.
Проводив ее, Лидочка поняла, что так и не знает, зачем та приходила. Выяснить отношение Лидочки к похоронам? Подчеркнуть право собственности на Сергея?
И тут еще этот странный парень. Может, он выслеживает Дашу? Какая чепуха начинает лезть в голову! И кажется, что прошла тысяча лет с того момента, как они попрощались с Сергеем у платформы. А ведь миновало меньше суток.
Лидочка поглядела на часы. Еще нет пяти. К Инне Генриховне она успевает. Вроде ей пока больше не грозят тяжелые разговоры.
Лидочка вернулась домой только часов в десять, когда уже темнело. Гроза так и не собралась, хотя солнце село в тучи, и оттуда, из темной груды облаков, доносились раскаты грома и порой вспыхивали зарницы. Вечер был душным.
От усталости Лидочка не чуяла под собой ног, она сразу побрела в душ, а потом рухнула в кровать. Конечно же, телефон сразу же позвонил. Подряд несколько звонков — от людей любопытствующих или сочувствующих. А в половине двенадцатого позвонила Нина Абрамовна и сразу заговорила о деле.
— Простите, что тревожу, — сказала она, — но несчастье, я думаю, нас сблизило. К тому же вы знаете всех нас, действующих лиц драмы. И были в хороших отношениях с Сергеем… Мне неожиданно позвонила дочка этой женщины.
— Даша? — сообразила Лидочка.
— Вот именно. Она разговаривала со мной агрессивно, будто я в чем-то перед ними виновата. Я так растерялась… я и без нее себе места не нахожу. У них возникла идея войти со мною в долю… на похоронах. Я не нашлась сразу, что ответить. Но сейчас я пришла в себя и поняла, что я не желаю их видеть. Нигде! Ни на кладбище, ни в морге — нигде! Они сделали все, чтобы ускорить смерть моего мужа!
— Нина Абрамовна, чего вы хотите от меня?
— Я не желаю иметь ничего общего с этой семейкой. И прошу вас, Лидочка, умоляю, пожалуйста, позвоните им и потребуйте от моего имени, чтобы они мне не показывались на глаза! Я ей выцарапаю глаза, буквально! Сломать всю мою жизнь, запутать, обобрать Сережу и сейчас иметь наглость делать такие предложения! Лидочка, я вас умоляю!
Нина Абрамовна бросила трубку.
Господи, еще этого мне не хватало!
Если бы кто-нибудь повторил сейчас, что таких, как Сергей, не убивают, она бы убила говорившего.
Почему же ты, Лидочка, ничего не ответила ей, не отказалась сразу, а молчала и кивала покорно, будто ты нерадивая ученица из школы, которой руководит Нина Абрамовна?
Лидочка не стала звонить Лизе Корф, а легла пораньше спать, тем более что смертельно устала за день — так мирно начавшийся и будто растянувшийся на несколько дней.
Сон долго не шел. Звонил телефон, упрямо, как будто тот, кто звонил, был уверен, что Лидочка дома, и обязательно желал вытребовать ее к аппарату. Лидочка понимала, что надо встать, отключить телефон, потому что звон был связан с несчастьем. Но когда Лидочка уже твердо решила подняться и выключить телефон, пришел сон, незаметно, мягко… она провалилась в него и догадалась, что спит, когда телефон затрещал вновь.
Лидочка вскочила на постели, посмотрела на часы. Половина третьего! Может, случилось что-то еще?
Она взяла трубку. Ее голос звучал хрипло и испуганно.
— Ты ничего не помнишь, — сказал в трубке высокий мужской или низкий женский голос. — Ты никого не видела. Ты поняла?
— Кто говорит? Что вам нужно?
— Если хочешь жить, будешь молчать! — ответил голос. — Ты никого не видела на улице. А то одна девочка увидела на улице, как угоняли машину. И сказала чужому дяде.
— Перестаньте хулиганить! — сказала Лидочка и на этот раз не только положила трубку, но и выключила телефон.
Теперь заснуть оказалось еще труднее.
Конечно, это был тот толстяк с большими ногами. Откуда-то узнал ее телефон. Впрочем, мало ли какими путями можно выйти на твоих знакомых. А почему у толстяков часто бывают высокие голоса? Может, потому что в них меньше мужчины, мускулистого самца, а большая доля мягкой женской плоти? Если это толстяк, то он круглый дурак. Конечно же, дурак! Она бы и не вспомнила о нем! А может, вспомнила? А Женя? Надо предупредить Женю. Если этот толстяк имеет отношение к смерти Сергея, он может быть опасен. Опасен? Но ведь таких, как мы, обывателей, не убивают? Женя шел сзади, толстяк мог его не заметить.
О чем я думаю?
Лидочка поднялась с постели, пробежала босиком к двери и закрыла ее на цепочку. Когда-то давно, они только переехали сюда, Андрей привинтил цепочку и сказал:
— В годы моего детства женщины не открывали дверь, не набросив цепочку. Ты поняла?
Глава 4
Утром позвонил Анатолий Васильевич, капитан милиции из Челушинского.
— Вот и ладушки, — сказал он голосом человека, который только что пробежал два километра и выкупался в речке. — А я боялся, что вы уже на службе. Ну и что будем делать? Так приедете или повестку послать?
— Зачем посылать повестку? — спросила Лидочка.
— Может, вам надо оправдание для вашего начальства, — объяснил Толик. — Я ее вам с собой дам и еще припишу два часа лишних, чтобы вы по лесу погуляли.
— У меня сегодня трудный день, — сказала Лидочка.
— У меня тоже, — сказал капитан. — Я хочу это дело поскорее закрыть. Пока все свеженькое, пока следы не просохли. Так сможете приехать?
— А когда?
— Чем скорее, тем лучше. Я вас долго не задержу, честное слово. Но без вас нельзя, сами понимаете — вы у меня главный свидетель.
— Боюсь, что у вас нет свидетелей.
— Придете, расскажу.
День начинался такой же жаркий, как вчерашний, солнце светило сквозь жаркую дымку, оттого тело наполнялось истомой и не хотелось вылезать из-под душа. И кофий сегодня утром пила без всякого аппетита! — это у Чехова. В какой-то пьесе. Опускаться в метро, ехать в электричке, там идти до милиции — ужасно не хотелось. Но Лидочка понимала, что Толик от нее не отвяжется. Впрочем, ей было не безразлично то, что происходит в милиции. Даже если там спешат закрыть дело, чтобы не вешать на себя лишнее убийство, за прошедшие сутки должны обнаружиться какие-то новости. Ведь убийство произошло в центре оживленного поселка, и наверняка уже приходил новый свидетель… А может, нашли убийцу?
Электричку пришлось ждать больше часа, на платформе накопилась густая толпа, и от дыхания и тесноты температура, казалось, поднялась еще на несколько градусов. Почему-то все ехали с сумками на колесиках и с полосатыми баулами, при этом норовили толкнуть или ткнуть Лидочку в бок своим багажом. Потом пришлось втискиваться в электричку и полчаса стоять на одной ноге в тамбуре…
Лидочка хотела по дороге заглянуть к дому Сергея, но потом передумала и пошла прямо в милицию.
К Толику Лидочка вошла еле живая и страшно сердитая.
Тот сразу же это понял и вскочил ей навстречу.
Воздух в комнате был застоявшимся. Открытая форточка не давала прохлады.
— Здравствуйте, — сказал Толик. В небольшой комнате он был один, а столов и шкафов, по два. — Мы окна не открываем, потому что мухи летят. Страшно летят — тут помойка недалеко.
Лидочке уже было все равно.
Толик доставал Лидочке до плеча — бывают такие квадратные мужчины, которые не производят впечатления очень маленьких, потому что у них широкая кость и много мышц.
— Мы с вами быстренько, — успокаивал он Лидочку. — Вы мне изложите на бумаге, как прошел вечер воскресенья и как вы договорились встретиться утром, потом изложите обстоятельства вашего прихода. Можно вкратце, мне для отчета. Я не думаю, что вы с пистолетом ночью на убийства ходите.
— А разве можно так говорить? — спросила Лидочка. — Разве на мне написано, что я безвредная?
— Такие, как вы, редко убивают. А если убивают, то так себя не ведут. Вы же совсем не нервничали, вы просто расстроены, а так не волновались. А я потом про вас всех у Ольги спросил. Она, может быть, некоторых из вас по разу видела, по два, но запоминает и какие характеристики дает — вы не представляете. Зря она после восьмого класса в библиотечный техникум пошла, по пути наименьшего сопротивления. Ей бы следователем быть, честное слово!
— Давайте на чем писать.
— Только сначала оформим все, как полагается, у нас ведь тоже отчетность своя есть. Паспорт не забыли?
— Вот мой паспорт.
— Сейчас данные перепишем, — сказал Толик.
В дверь сунулся скучный человек в такой же голубой рубашке, с мягкими погонами, как у Толика. Только погоны были не офицерскими, а сержантскими.
— Ты занят? — спросил он.
— У меня человек по делу Спольникова, — сказал Толик солидно.
— Ладно, я тогда в район съезжу, — сказал сержант.
Они снова остались одни.
Толик быстро переписывал данные из паспорта, даже высунул кончик языка, совсем как мальчик.
Потом Лидочка принялась описывать события того вечера и вчерашнего утра. Толик сначала сидел за столом, потом отошел к окну.
— Вы что-нибудь новое узнали? — спросила Лидочка.
— Не отвлекайтесь, гражданка Берестова.
— Не бойтесь, я не отвлекаюсь.
— Мы выяснили, какие предметы взял из дома убийца.
— Как?
— Мы Ольгу пригласили и потом поэта Верескова. Они оба там часто бывали, и наблюдательность у обоих развита положительно.
— И что же украли?
— Честно говоря, не стоило из-за этого Спольникова убивать. Маленький транзистор, он у него в комнате на столике стоял, потом видео, часы настольные, электронные импортные, небольшие такие с зелеными цифрами…
— Знаете, что я вам скажу? — заметила Лидочка.
— Говорите!
Толик стоял руки в боки, темный силуэт на фоне окна, черные курчавые волосы закрывали уши.
— Ваш убийца не спешил и не очень волновался. А это странно.
— Почему вы так решили?
— Эти вещи лежали на разных местах и даже в разных комнатах.
— А вот я сделал другой вывод! — возрадовался собственной догадке капитан. — Я сделал вывод, что убийца бывал в этом доме, знал, что где лежит, брал вещи уверенно и не так уж много потратил времени. Если ты случайный убийца и влез, не зная куда, конечно, трудно в доме шуровать, а он ничего не опрокинул, двигался бесшумно, понимая, что ночью каждый звук далеко разлетается. А спешить ему было не нужно. Куда спешить?
— Вы думаете, что убийца был знаком Сергею? Тогда зачем он лез в окно?
— Он был знакомый, но делал вид, что незнакомый, понимаете? Сергей перепугался, кинулся выяснять, кто там лезет, а знакомый тоже испугался — понимаете, чего испугался?
— Чего?
— Он испугался, что его узнают!
— Знакомый полез к Сергею с пистолетом?
— Эх! — Толик рассердился. — Мало ли какие знакомые бывают! Некоторые таскают с собой пистолеты.
Лидочка снова принялась писать. Прошло несколько минут. Толик ходил по комнате, открыл сейф, покопался в нем, закрыл, потом решительно подошел к окну и растворил его, решив, видно, что лучше мухи, чем смерть от духоты. Лидочка была ему признательна. По крайней мере ветерок несмело заглянул в кабинет, и пыльные тюлевые занавески чуть заколыхались.
— Не нравится мне этот грабитель с пистолетом, — сказал милиционер. — Чего он в дом полез, если ясно, что там живут? Грабители в наших краях предпочитают высмотреть дом, где никого нет. Получается, что это был пришлый грабитель. Шел, шел, к двум часам ночи дошел до поселка и думает — а ну, кого бы мне пристрелить? Наступает на грядки, как слон топает — и вот тебе!
Толик кинул на стол перед Лидочкой большой лист бумаги с обведенным следом.
По крайней мере, сорок девятого размера.
Нет, если тот молодой слон хотел заставить Лидочку забыть о нем, он избрал худший из возможных путей.
Лидочка отложила ручку. Она заговорила, не думая о том, правильно ли поступает. Так свидетель на месте преступления рассказывает милиционеру, в какую сторону побежал вор и как он был одет.
— По-моему, я видела этого человека, — сказала Лидочка.
— Что?
Изумление на лице Толика было искренним.
— Позавчера вечером мы с Евгением Александровичем Глущенко, вы его вчера днем видели, пошли в магазин, который напротив вашего отделения.
— Водка кончилась?
— Вы догадливый.
— Продолжайте, Лидия Кирилловна!
— Евгений Александрович немного отстал, а я встретила молодого человека, очень толстого, среднего роста, он был в длинном свитере и каких-то штанах, волосы собраны в пучок на затылке, у него были удивительно большие, несообразно большие ступни, они мне бросились в глаза, и этот молодой человек спросил нас, как пройти на Школьную улицу.
— И он пошел?
— Я подождала Евгения Александровича, а когда мы с ним повернули на Школьную, то увидели, по крайней мере я увидела, этого толстяка у калитки пятого дома. Но при виде нас он поспешил прочь и свернул за угол.
— И все?
— А разве этого мало? Спросите Глущенок.
— Обязательно спросим, не беспокойтесь. Но вы лучше еще что-то вспомните! Ну что он сказал, какой голос?
— Голос высокий… Я вам могу нарисовать этого человека.
— Рисовать, конечно, можно, но мне хотелось бы чего-нибудь посущественней.
— Это не все, — сказала Лидочка как мать, вытаскивающая из сумки коробку шоколадных конфет. — Я его еще раз видела!
— Вот это дело! — Толик похвалил Лидочку, словно она выследила убийцу.
Лидочка рассказала ему, как увидела толстяка на улице, из окна. И тому была еще одна свидетельница, Даша Корф.
Тут Лидочке пришлось объяснять, капитану, причем тут Даша и Лиза Корф. Толик кивал головой, и какие-то милицейские мысли кружились в его небольшой голове, а глазки поблескивали, хотя неясно было, имеют ли мысли отношение к Корфам или он думает о грабителе… а может, он считает Лидочку вздорной выдумщицей?
— Ясно, — сказал Толик, когда Лидочка закончила рассказ. — Значит, он ушел, и с концами?
— Нет.
— Он вернулся?
— Он позвонил мне по телефону.
— Зачем?
— Чтобы я о нем забыла.
— Бред какой-то. Объясните!
— Он позвонил мне.
— Это был он? Как представился? Толстяком? Грабителем, как?
— Никак не представился. Но я уверена, что это он. У него был высокий голос.
— Постарайтесь вспомнить его слова!
— Точно не вспомню. Но примерно он сказал: «Если хочешь жить, будешь молчать… Ты никого не видела на улице». Да, вроде и все. По крайней мере эти слова я запомнила.
— А нога у него такая? — неожиданно Толик ткнул коротким пальцем в лист бумаги с обведенной ступней.
— Нога у него может быть такой. Очень большая нога.
— Мало, — сказал Толик с упреком, — очень мало вы знаете. И еще меньше говорите.
— Вы хотите, чтобы я его вам привела? — спросила Лидочка.
— Конечно бы, не отказался. Приводите на поводке, — сказал Толик и засмеялся.
— Ну тогда ловите его сами, а я допишу свои показания.
— Когда допишете, — приказал Толик, — нарисуйте мне его портрет и желательно с фигурой. Я сейчас схожу за настоящей бумагой.
Толик проверил, заперт ли сейф — он был настоящим сыщиком, не доверял даже дружественным свидетелям. Потом махнул рукой — пиши, мол, и ушел.
Не было его минут десять. Лидочка как раз кончила излагать свои приключения. Написала она эту детективную новеллу коротко и, как ей показалось, понятно для человека, незнакомого с событиями и людьми. Тут и возвратился Толик. Под мышкой он нес рулон ватмана, который сразу же расстелил на своем столе. Оказалось, что на нем выклеена юбилейная стенгазета «За порядок» «Десять лет нашему отделению». Газета состояла из двух машинописных заметок и бравых цветных вырезок. Толик перевернул лист чистой стороной кверху, разгладил, положил на угол «Уголовно-процессуальный кодекс».
— Только черного карандаша нет, — сообщил он виновато.
— Мне такой большой лист не нужен, а то получится: «Не проходите мимо» или «Их разыскивает милиция».
— Если вы художница, то должны сделать. Я условия обеспечил. — Толик широко улыбнулся.
Ручка у Лидочки с мягким шариком, вполне годилась, но ее вдруг охватила робость: в жизни не рисовала по памяти слонопотамов. А вдруг она нарисует кого-нибудь другого, этот другой может пострадать. Арестуют его по ее рисунку…
Так что рисунок вышел лишь с третьей попытки. Дважды она рисовала круглое лицо, затянутые назад волосы, влажную нижнюю губу… потом зачеркивала… На третий раз лицо получилось похожим. Потом она набросала отдельно его фигуру — грузную, великостопную фигуру слонопотама.
— Знаете, что я вам посоветую? — сказала Лидочка.
— Не знаю, но догадываюсь, — ответил Толик. — Я этот рисунок скопирую на ксероксе, и мы его по нашим соседям разошлем. Я вам поверил!
— Я другое хотела сказать. Вы можете проверить: покажите его Евгению Александровичу Глущенке, дача номер тридцать два по улице Урицкого. Я могу к нему сейчас зайти и предупредить.
— Это я сделаю обязательно. И эту девушку вызову. Дарью Корф.
— Ой, может, не стоит ее впутывать?
— Еще как стоит, — резонно возразил капитан. — Если она ни в чем не замешана, то она подтвердит вашу картину или скажет, что совсем не похоже нарисовали. А если она знает больше, чем вы думаете, я с ней поработаю.
— Что вы имеете в виду? — насторожилась Лидочка.
— А то имею в виду, что уж очень близкое совпадение получается: вечером перед убийством вы видите молодого человека в поселке, он чуть было не забрался на участок. На следующий день он стоит перед вашими окнами, а в гостях у вас сидит девушка, которая была знакома с убитым. Разве не странное совпадение, Лидия Кирилловна?
— Честно говоря, мне это не кажется… нет, так быть не может!
— Вы просто гоните от себя неприятные мысли, — сказал Толик. — Это бывает с интеллигенцией. Вы думаете о том, о чем удобно думать. А мы, сыщики, думаем, как полезно для следствия. Чувствуете разницу?
— Ладно, — сказала Лидочка. Она была расстроена. — Вот мои показания. Мне на электричку надо.
— Успеете на электричку, — сказал Толик. — Сейчас как раз перерыв до тринадцати сорока. Мне же надо прочитать, потом мы с вами подпишем ваши показания. Время есть…
— Хорошо, — сказала Лидочка.
— Да перестаньте вы изображать из себя несчастную доносчицу! — вдруг рассердился Толик. — Может быть, в первый раз в жизни сделали правильное дело, помогли правоохранительным органам в борьбе с преступностью. И уже в кусты! Вы, я чувствую, были бы рады сейчас свою картинку разорвать. А картинка даже с художественной точки зрения отличная. Я целый год в изокружке занимался, потом меня футбол отвлек. Но помню и понимаю, как трудно живого человека рисовать.
Оформление бумаг заняло еще несколько минут. Потом, отпуская Лидочку и взяв предварительно телефон и адрес Даши Корф, Толик сказал:
— Если будут еще угрожающие звонки, советую вам сказать правду.
— Какую правду?
— Такую, что описание субъекта и даже его портрет переданы вами в милицию. Так что он опоздал со своими предупреждениями.
— Но мне страшно…
— Нет, вам не страшно, вы просто еще не поняли, — сказал Толик. — Ведь она к вам его привела, чтобы проверить, запомнили вы его или нет, узнаете его в новой одежде или так просто… надеялась, что не узнаете. А когда вы его узнали, то началось давление. Все элементарно. Давление — это чисто психическая атака. Смысл в атаке пропадает после того, как враги залегли, не добежав до наших позиций. Чего вас пугать, если уже поздно? Лучше уйти на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать.
— А вдруг он захочет отомстить?
— Насмотрелись фильмов про мафию! Не до вас ему — он помчится на Северный полюс, как только я вашу Дашу вызову и допрошу.
— А может, она его не знает.
— Не знает? Ее счастье. Только я в это не верю.
— Она будет отпираться.
— А мы проверим. У бабушек. У каждого подъезда бабушки сидят, а они обожают, скажу я вам, оказывать помощь нашей родной милиции. И вообще вам пора на поезд собираться, а то потом снова полтора часа электрички не будет. Спасибо за содействие.
— Вы мне позвоните?
— Обязательно.
— Нет, в самом деле?
— Позвоню, позвоню! Бегите на электричку.
По дороге домой Лидочка собиралась позвонить Даше и предупредить ее о визите Толика. Она мучилась, стараясь понять, лояльна ли она к Даше.
Звонить она не стала. И поехала не домой, а в фотолабораторию, где Борис обещал сделать отпечатки. Если, конечно, не запьет.
Борис не запил. Это было большим облегчением.
Лидочка поехала бы еще и по другим делам, но жара достала ее — ощущение, какая ты потная, несчастная, с мокрыми, прилипшими ко лбу волосами, было отвратительно. Нет, сначала все это надо смыть.
И Лидочка поехала домой, стараясь не прижимать к себе большой пакет с отпечатками.
— Это правда? — спросила Даша, позвонив Лидочке тем же вечером. Голос у нее был осуждающим, как голос Савонаролы или прокурора Вышинского.
— Вы о чем? — осторожно ответила вопросом на вопрос Лидочка.
Она не ожидала такой оперативности Толика. Оказывается, он не зря подался в Шерлоки Холмсы.
— А я о том, — заявил голос Вышинского, — что только что от нас ушел ваш друг капитан Голицын. Или это поручик Голицын?
— Анатолий Васильевич? Но я всего три часа назад была у него.
— И поделились с ним множеством интересных наблюдений, — сказала Даша.
— Неужели он приехал искать толстяка?
— Он заявился с вашим дрянным рисунком! — сердилась Даша. — И нет того, чтобы спросить у меня, так он показал его бабкам у подъезда. Вы же знаете, они готовы упрятать в тюрьму половину России.
— И бабки его узнали?
— Кого узнали?
— Молодого человека, который мне дважды позировал!
— Их показания ничего не значат. Но, как назло, мама пришла домой раньше меня. И этот Анатолий Васильевич показал картинку сначала ей…
— И она его тоже узнала?
— Разумеется! Ее же не предупредили!
— Значит, моя картинка не такая уж и плохая, — сказала Лидочка, — бабуси узнали, мама узнала.
— Мама в таком состоянии, что вы не имеете права ее беспокоить!
— Значит, теперь только вы не знаете этого молодого человека?
— Почему вы так решили?
— Да мы с вами только вчера на него из окна смотрели. И вы тогда его не узнали.
— С тех пор многое что изменилось.
— Тогда расскажите мне, Даша, что он за явление такое! А то получается, что все уже в курсе дела, только мне никто ничего не рассказывает.
— Я не для этого вам позвонила!
— А для чего?
— Чтобы высказать вам свое презрение. Я не выношу доносчиков!
— На кого же я донесла?
Даша, конспиратор не лучшей школы, тут же попалась:
— На кого? На Руслана!
— Вот и познакомились.
— Я вам ничего не говорила.
— Вы мне вообще ничего не говорили. Приходится действовать без вашей помощи. Подождите, не фырчите, как львица. Представьте себе мое положение: сначала, перед смертью Сергея, я вижу этого Руслана возле дачи, и он спрашивает, как пройти на Школьную улицу. Проходит день, и я вижу его под моим окном. Притом что я знаю — некто с громадными ножищами влезал ночью в дом к Сергею. Вы убеждены, что я доносчица?
— Разумеется, убеждена!
— Кто из вас придумал испытать мою зрительную память?
— Руслан. Я с самого начала думала, что он зря рискует. Он сказал, что если в будущем поднимется разговор, то он сможет сказать: как же, как же, я видел эту женщину, она стояла в окне на втором этаже, когда я проходил по переулку. Он меня уверял, что на даче вы его не запомнили. А в черных очках никогда не узнаете.
— И вы меня подманили к окну?
— Не подманила, вы сами подошли.
— Такая конспирация обеспечила бы вам почетное место в партии большевиков.
— Не смейтесь, этот Анатолий Васильевич увез Руслана с собой. Они его бить будут.
— Ничего не понимаю. Как Анатолию это удалось совершить?
— Он к нам на «газике» приехал. Я не знаю, что там Анатолий Васильевич маме говорил про Руслана. А мама его не любит, она думает, что Руслан — преступник и наркоман. Вот она и выманила Руслана к нам… будто ей надо с ним поговорить. А там его ждал Анатолий Васильевич. Он вышел и ждал у подъезда.
— Руслан сопротивлялся?
— Зачем ему сопротивляться? Он же ни в чем не виноват.
— Если он ни в чем не виноват, что он делал вечером на Школьной улице?
— Он хотел поговорить с Сергеем, но увидел гостей и не стал.
— О чем?
— У них были дела.
Лидочке хотелось сказать Даше, что спрашивала Сергея о толстяке, а тот ответил, что не знает его. Но промолчала.
— А что Руслан делал ночью в доме Сергея?
— Его там не было! Слово даю, не было. Это совпадение! Мало у кого большая нога?
— Знаете, что я скажу, Даша, — ответила Лидочка. — Я не совсем вам верю. Вы вчера мне говорили неправду и сейчас говорите не всю правду.
— Почему вы так думаете?
— Потому что Руслан очень боялся, что его кто-то там заметил. Он даже едет ко мне в надежде, что его я не узнаю — нет, не вяжется это с версией о желании поговорить.
— Но если его заподозрят, его могут выдворить из Москвы. У него нет постоянной прописки.
— А что он делает?
— Он очень талантливый… А скажите, его посадят в тюрьму?
— Не знаю.
— А я знаю. Для этого следователя он просто находка. Без прописки. Никому не нужный, беззащитный! Если надо быстро закрыть дело, он первый кандидат в убийцы.
— Вы говорите его словами?
— Я говорю правду.
— Вы его любите?
— Еще чего не хватало! Он совершенно неэстетичен. И вообще попрошу не вмешиваться в мои личные дела. Я люблю другого мужчину.
— Тогда скажите мне, Даша, почему вы мне сейчас позвонили? — вздохнула Лидочка.
— Я надеялась, что вам станет стыдно. Раз в жизни!
— Мне не стало стыдно.
— Тогда мне стыдно за вас! Человек попал в тюрьму из-за вашего доноса.
— Чепуха! Если он и попал в тюрьму, то потому, что залез в дом Сергея в ночь убийства. И как только он признается, где и куда бросил пистолет, все станет на свои места.
— Он никогда не скажет.
— Почему?
— Почему? Может, вы еще скажете, что он украл видик? Что часы утащил?
— Я ничего не говорю.
— Тогда до свидания!
Даша повесила трубку.
Что делать, если ты неожиданно для себя попала в центр событий, которые тебе тягостны? И теперь окружающие, куда более близкие к покойному, имеют к тебе претензии. На тебя все обижаются. Жаль, что у меня нет домашнего телефона Толика. Мог бы по знакомству намекнуть, признался ли этот Руслан в убийстве.
Вернее всего, разгадка убийства простая. Неустроенный и озлобленный толстяк Руслан знает, что бывший любовник Дашиной матери, может, знакомый и ему, живет один за городом, и решает его убить и ограбить. Но делает все неуклюже, неудачно… впрочем, почему неудачно? Кто поручится, что у Сережи на даче не было ничего ценного? Странно, мы решаем наши проблемы за счет мифов о чужом богатстве. Нет, у Сергея никогда не было больших денег. Он, наверное, сделал ставку на роман, он рассчитывал, что разбогатеет, но в наши дни на первом романе не разбогатеешь.
И тут зазвонил телефон. Это был сам капитан, собственной персоной.
— Я тут задержал Руслана Киренко, — сообщил он небрежно. — Того толстяка, которого вы мне рисовали. Все оказалось точно, как в аптеке.
— Спасибо, Анатолий Васильевич, что вы помните обо мне. Даже во внерабочее время.
— Мы и ночью работаем, — ответил Толик. — Такая у нас работа.
— Я об этом читала, — сказала Лидочка. — Так что же с Русланом? Он во всем сознался? Я могу больше не опасаться?
— Вот я потому и звоню, — сказал Толик. — Я его отпустил под подписку о невыезде.
— Почему?
— Вы недовольны?
— Я не могу сказать, что рада или расстроена. А что у вас случилось?
— Ничего не случилось, — ответил Толик. — Но мы теперь действуем в рамках законности. Этот Руслан Киренко признался, что был на Школьной улице, хотел попроситься к Сергею пожить, у него проблемы с квартирой. Но потом застеснялся, что у того были гости, и уехал.
— А след! След его?
— Может, его, а может, и не его, — сказал Толик. — Но вы не думайте, мы с него глаз не спустим. В случае, если вам будут угрожать, вы нам сразу звоните. Но теперь они вам угрожать не посмеют.
— Значит, вы его отпустили?
— Как только появятся дополнительные данные, мы его обязательно задержим снова.
— Он москвич, вы — подмосковная милиция, — сказала Лидочка. — Конкретных улик против него у вас нет. Кто даст вам санкцию на арест?
— В принципе вы правы.
— Тогда я одного не понимаю, зачем вы мне звоните в восемь часов вечера?
— Я звоню, чтобы вас проинформировать, — сказал Толик, — на случай принятия мер личной безопасности.
— Ах, вот в чем дело! — воскликнула Лидочка. — Он сообразил, что выследили его по моему рисунку, и очень осерчал?
— Ну, в некоторой степени…
— Теперь я не должна открывать дверь незнакомым мужчинам!
— Никогда не надо открывать дверь незнакомым.
— И это единственное, что вы могли сделать для меня? Кроме букета на мою могилку?
— Не шутите так, Лидия Кирилловна, — возразил Толик. — Я принял и другие меры. Серьезнее, чем предупреждение.
— Что же за меры?
— Отдыхайте спокойно.
— Спасибо, — сказала Лидочка. — Спокойной ночи.
Ни вечером, ни ночью Руслан не пришел сводить счеты с доносчицей.
Зато утром, в несусветную рань, часов в семь, позвонила Ольга, соседка Сергея по Челушинской.
— Вы простите, Лидия Кирилловна, что я вас беспокою, но я обещала, что, если что случится, я вам обязательно позвоню. Вот пришла на работу и звоню.
— Вы уже в семь библиотеку открываете?
— А то как же? Люди на службу идут, заглядывают.
— И что же случилось?
— Можно сказать, что я видела привидение, — сообщила Ольга, правда, без трепета в голосе.
— Именно этого мне не хватало! И что оно делало?
— Привидение ночью было в том доме.
— Почему вы так уверены?
— Я какой-то шум слышала. Несильный шум, но доносился он оттуда.
— Во сколько?
— Уже на рассвете, — сказала библиотекарша. — Какое-то шуршание… или треск. Не знаю что. Я вышла из дома. Пошла по саду, к забору поближе. Самый рассвет начинался. Там одно место есть между сараями, я поглядела — вроде бы в доме слабый огонек. Кто-то там был.
— А дом заперт?
— Дом, конечно, заперт. И окна закрыты.
— И опечатан?
— Опечатан, но одна дверь опечатана, а другая нет. Они же формально к этому относятся. А если вам хочется, можете залезть в окно. Я Толику говорила, что это безобразие.
— А вы не пошли на тот участок?
— А вы бы пошли, Лидия Кирилловна?
— И в милицию позвонить…
— Телефона у меня нет, а в пять утра кто побежит в милицию?
Лидочка согласилась с Олей, что бегать ей было не с руки.
— А утром вы на участок к Спольникову не заходили? Из любопытства?
— Я Валентину Дмитриевичу Верескову сказала, мы вместе с ним ходили. Но ничего не увидели — всюду трава, если кто-то и был, то ушел.
— А капитану вы скажете?
— Толику? Обязательно скажу. Только он ругаться будет, что я не подняла тревогу. А вернее всего, мальчишки забрались чем-нибудь поживиться.
— В пять утра мальчишки по домам не лазят.
— Я скажу Толику, обязательно скажу.
Только Лидочка положила трубку, как в дверь позвонили. А вдруг это злобный Руслан?
Лидочка босиком подбежала к двери, спросила: кто там? Оказалось, что принесли журналы.
Так начался третий после убийства день.
Глава 5
Лидочка вышла на улицу, оглядываясь, как затравленный сицилийский свидетель, посмевший поднять голос против мафии. Она даже метнулась было обратно в подъезд, увидев мирно гуляющего с собакой толстого кинорежиссера из соседнего подъезда. Потом, уже ближе к Большой Грузинской, ей показалось, что Руслан стоит за стволом дерева. Лидочка остановилась и стала смотреть на ствол. Вскоре от ствола отделился мужчина алкашного вида, который справлял за деревом малую нужду.
Нет, так нельзя! Ты попадаешь в какой-то несуществующий мир, извлеченный сознанием из телевизионного ящика, и начинаешь жить по его идиотским правилам. Сейчас я закричу на всю улицу: нас не убивают! И тут же с перебежками, с воображаемым автоматом в руке брошусь к ближайшей подворотне.
Да плевала я на эти опасности и угрозы! Я иду в Дом кино, у меня там свидание с Алексеевским, я должна передать ему фотографии для сборника памяти Ильи Авербаха, я сейчас загляну в подвальчик, чтобы купить конфеток для внучки Калерии Ивановны из Союза, я обыкновенный человек, окруженный подобными мне маленькими человечками…
Лидочка миновала 88-е отделение милиции с доской, на которую были пришпилены фотографии разыскиваемых преступников. Преступники внимательно проводили Лидочку зловещими взорами.
День готовился стать снова жарким и влажным — сколько это может продолжаться? Люди уже перестают говорить о политике, науке и личных делах — все говорят о том, что такого климата раньше не было.
Когда Лидочка, купив конфет, поднималась из подвального магазина, она увидела на той стороне знакомую фигуру. Знакомая фигура метнулась за угол.
К счастью, это был не Руслан, а его сообщница Даша Корф. Неужели она наводит Руслана на несчастную Лидочку? Нет, немыслимо, хотя бы потому, что Руслану это не нужно.
Лидочка уверенно поспешила к углу дома, чтобы поймать Дашу.
Даша почему-то не догадалась, что ее будут ловить, и осталась стоять у качелей, между Домом кино и итальянским супермаркетом. Она была в изумрудном, чересчур коротком платье, и глаза ее, углубив свою зелень отсветом ткани, блистали как тигриные.
— Даша, что вы здесь делаете? — спросила Лидочка голосом тети, встретившей во дворе малышку из соседнего подъезда.
— Ой, здравствуйте, — сказала Даша.
— Вы не ожидали меня увидеть?
— Нет.
— Ложь не украшает, — сказала Лидочка.
— Честное слово…
— Давайте посидим на лавочке, — предложила Лидочка. — Поговорим. Если вы, конечно, не очень спешите.
Даша оглянулась, словно искала пути к бегству, но не нашла и покорно опустилась на скамейку.
Она достала сигареты, предложила Лидочке, та отказалась. Даша закурила, Лидочка не торопила ее. Она понимала, что, чем дольше длится молчание, тем неувереннее чувствует себя Даша. Сейчас она не выдержит и заговорит первой.
— Вы не думайте, то есть не думайте так, как вы думаете, — сообщила Даша, затянулась, махнула рукой и закончила: — Я просто за вас боялась.
— Почему?
— Потому что он совершенный псих. Такому место в Кащенке, а не среди нормальных людей. Я его всегда боялась. Даже когда он клялся, что я его госпожа, что мне достаточно мигнуть, чтобы он кинулся со Спасской башни… Я знаю, что он непредсказуемый.
— Дашенька, я ничего не понимаю, — сказала Лидочка. — Поставьте себя на мое место. Что бы вы сейчас подумали?
— На вашем месте я бы подумала… ну что я вас охраняю, что я за вас боюсь.
— Как же вы меня охраняете?
— При мне он не посмеет на вас напасть, — сказала Даша.
— Он — это Руслан?
— Конечно, Руслан.
— И давно вы меня охраняете?
— Как только вы из дома вышли. Вы не заметили меня. Хоть и оглянулись. Вы его боитесь, да?
— Вы не первый человек, который предупреждал меня об опасности, — призналась Лидочка. — Мне звонил Голицын и сказал, что Руслана освободили под подписку о невыезде.
— Я знаю, он вчера уже у меня побывал.
— И он все еще злится на меня?
— Он считает, что вы его выдали. Он боится, что его посадят в тюрьму, чтобы не искать настоящего убийцу.
— Даша, скажите мне, только честно, вы всегда можете отказаться от своих слов — вы думаете, что Руслан убил Сергея Романовича?
— Нет, я так не думаю. Хотя поклясться не могу.
— Если бы возникли обстоятельства, он бы мог убить?
— Он никого не убивал. Но от страха все может случиться.
— Чего же он боялся?
— Он боялся… он боялся за пистолет.
— Какой еще пистолет?
— Тот самый. Из которого убили Сергея.
— А где был этот пистолет?
Даша кинула окурок на землю, наступила на него. Ей было трудно решиться на признание, но она внутренне уже сделала его, да и не могла она так долго хранить страшную тайну.
— Я не могу сказать, — неожиданно произнесла Даша. — Если он узнает, он и меня убьет.
— Тогда я буду вас охранять, — сказала Лидочка.
Даша даже не улыбнулась. Затем она поднялась. Лидочка попыталась сохранить принятый ею тон:
— Вы отказываетесь меня охранять?
— Это чепуха, — сказала Даша. — Конечно же, он вас не убьет. Просто мне очень страшно. Может, мне самой хотелось спрятаться. Самой страшно… Но он вчера так плохо о вас говорил — он говорил, что вы единственная свидетельница, что отпечаток следа — это несерьезно, а вот вы — единственная свидетельница. Может, это черный юмор?
— Ну, его и Глущенко видел, мой приятель, который сзади шел.
— Он был далеко, он ничего не сможет доказать.
Даша была права, Женя был далеко.
— Пока вы живы, он находится под гильотиной.
Лидочка заподозрила, что последняя фраза была цитатой из школьного учебника истории.
— Зачем же он у меня дорогу спрашивал?
— А откуда ему знать, что вы с той же дачи? Разве на вас написано? Он потом проклинал себя… такое вот невезение! Ну я пошла, хорошо?
— Нет, — сказала Лидочка, — нехорошо. Вы меня испугали, а теперь уходите. Если вы были настолько обеспокоены моей судьбой, что с утра приехали меня защищать, значит, опасность существует не только в вашем воображении.
— Уезжайте куда-нибудь, — предложила Даша. — Уезжайте хотя бы к своим приятелям, к Глущенкам. А мне пора…
Но Даша продолжала сидеть. Даже достала из пачки новую сигарету и закурила.
— Тогда расскажите мне о пистолете, — обыденно попросила Лидочка.
— О каком пистолете? — Даша сделала вид, что удивилась. Хотя, видно, ждала этого вопроса.
— Наверное, о том, из которого убили Сергея и теперь хотят убить меня.
— Вас? А где же он найдет пистолет? — это прозвучало искренне.
— Вы как-то связываете Руслана и пистолет. Разве не так?
— Так, — убитым голосом произнесла Даша.
— Вы сказали, что он на меня зол и хочет избавиться от свидетеля, так?
— Но у него нет пистолета! — воскликнула Даша.
— А раньше был?
Даша опять замолчала. Она не решалась на последний шажок. Кого она выгораживала? Себя, Руслана или кого-то еще? И насколько она правдива?
— У него давно нет пистолета, — сказала Даша.
— Даша, милая, объясните мне хоть что-нибудь. А то получается глупый разговор: ах, я такое знаю, но вам не скажу! Как в пятом классе средней школы!
— У него на самом деле не было пистолета, — сказала Даша. — Вернее, у него был пистолет, но я отобрала. Мне стало страшно, что он что-нибудь натворит. Тогда он твердил, что не хочет убивать Сергея, лучше сам застрелится. Ну, я ему не верила — у него не поймешь, в самом ли деле он хочет застрелиться или застрелит Сергея.
— Ты отобрала пистолет?
— Я украла пистолет. И мне его надо было выкинуть. Но он был такой настоящий и тяжелый, что я не посмела его выкинуть.
— И что ты сделала?
— Отдала его Сергею.
— Почему Сергею?
— А кому бы вы отдали на моем месте?
Лидочка не стала выспрашивать Дашу о ее отношениях с Сергеем. Ее сейчас больше интересовало другое:
— А Руслан узнал, куда делся пистолет?
— Он догадался. Когда Руслан хватился, он набросился на меня, чуть не задушил. И я призналась, что пистолет у Сергея.
— И что дальше?
— Дальше он поехал на дачу, чтобы отобрать пистолет. Оказывается, он брал пистолет взаймы, и его надо было вернуть.
— Неправда!
— Почему? — Даша удивилась. Ей, видно, не пришло в голову поставить под сомнение слова Руслана.
— Если он собирался застрелиться, как бы он возвратил пистолет?
— Наверное, он думал, что, когда застрелится, все будет до лампочки.
— Вы украли пистолет и отвезли его Сергею. А что сказал Сергей?
— Сергей испугался за меня. Испугался, что я ездила по железной дороге с пистолетом. Он обещал его спрятать. И к тому же ему очень не нравился Руслан.
— Я его понимаю, — сказала Лидочка.
— Вы ничего не понимаете, — отрезала Даша, сверкнув зелеными глазами.
— Чего я не понимаю?
— Самого главного. Человеческих отношений!
Убедившись, что одержала моральную победу, Даша решилась наконец уйти. Она легко поднялась. Лидочка хотела ее удержать, но опоздала. Даша быстро удалялась.
— Подождите!
Даша остановилась на безопасном расстоянии и сказала:
— Я вас очень прошу — уезжайте куда-нибудь, на пару дней. Я же не могу его удержать! Он обезумел от страсти ко мне!
— А если его не посадят?
— Тогда всем будет хуже! — сделав еще три шага, Даша снова обернулась. — Я хочу надеяться, что убил не он. Но очень боюсь, что убил другой человек.
— Так кто же? — Лидочка растерялась перед таким сложным логическим построением. Даша пожала плечами.
— Я не желаю об этом думать!
— Разве кто-то еще знал о пистолете?
— Не знал, но мог узнать. Сергей совершенно не умеет хранить тайны!
Они стояли метрах в шести друг от друга. Приходилось говорить в полный голос. Но когда Лидочка шагнула к девушке, та быстро отступила, как щенок, не желающий возвращаться с прогулки.
— Но его же застрелили!
— А разве один пистолет на свете?
— В этом случае похоже, что один, — сказала Лидочка. — Если он был на даче, а потом исчез, то, вернее всего, выстрелили из него. Кто еще знал о том, что пистолет у Сергея?
Даша заплакала. Нос ее дернулся, губы задрожали, и глаза стали наполняться слезами.
— Кто? — почти крикнула Лидочка.
Даша всхлипнула.
— Мама… — И голос ее сорвался. — Мама не могла этого сделать!
И Даша побежала прочь. Она бежала, отталкиваясь ногами в стороны, она, видно, никогда не была хорошей физкультурницей. Но фигура у нее была отличной. Особенно ноги.
Лидочка отнесла фотографии Алексеевскому, который уже отчаялся ее дождаться, и от радости, что все-таки дождался, стал подробно рассказывать о макете альбома. Лидочка слушала его вполуха, потому что думала о том, как пойдет обратно домой, и представила себе, что с ней может случиться, — вариантов было немало. Она решила было бежать в восемьдесят восьмое отделение и просить защиты без всякой надежды ее получить — вряд ли ее опасения там примут всерьез. Можно вот отсюда, с автомата попробовать дозвониться знакомому сыщику Шустову, которого перевели работать в управление на Петровке. Но как отыскать человека в каком-то управлении? Может быть, взять машину и умчаться на вокзал, а потом на электричке под защиту Толика Голицына?
А могу ли я доверять Даше? Не была ли встреча разыгранным представлением? Ведь Даша уже устроила одно представление на кухне у Лидочки, когда проводила эксперимент, узнает ли Лидочка Руслана.
— Ты меня слушаешь? — спросил Алексеевский, и Лидочке пришлось отвлечься от невеселых мыслей, чтобы несколько минут изображать профессиональное внимание и удивляться при том, насколько можно стать равнодушной к любимой работе, если тебе угрожают пистолетом.
Разговаривая с Алексеевским, Лидочка все же отвлеклась на планы собственного спасения и решила пойти на компромисс: она зайдет сейчас в отделение милиции и спросит у дежурного, куда переведен Шустов. Придумает какой-нибудь предлог. Может, он собирался поступить на вечерние курсы… английского языка? А вот теперь она смогла его устроить, и надо ему об этом сообщить.
Нет, с курсами получается не очень убедительно. Может, придумать Шустову желание купить дачу? А она вот так продает садовый участок? Главное — дозвониться Шустову и напомнить о себе — два года назад мы с вами встречались. Больше у меня нет знакомых сыщиков. Скажите, пожалуйста, что мне делать, чтобы меня не застрелил один злобный убийца?
Лидочка настолько углубилась в воображаемые поиски Шустова, что, выйдя из Дома кино, остановилась на Васильевской, пытаясь сообразить, что же ей надо сделать на самом деле?
И поняла, что ей лучше всего вернуться домой. Забрать свою рабочую сумку и ехать в Ботанический сад, где распустились орхидеи. Работа отвлечет от неприятных опасностей, а дела уголовные пускай подождут до завтра.
Лидочка дошла до дома, никто за ней не следил и не преследовал.
С каждым шагом бестолковые речи Даши скатывались в прошлое и все меньше отношения имели к ней, к Лидочке. Их место занимали мысли деловые, трезвые и обыкновенные.
Дома Лидочка собрала камеры, на метро доехала до Ботанического сада и пошла к оранжерее.
День выдался терпимый, чуть свежее и прохладнее предыдущих. По небу, изображая каравеллы Колумба, плыли кучевые облака.
Лидочка загляделась на одну из каравелл. К сожалению, уже через минуту паруса умчались вперед, обогнав на корпус сам корабль…
Чувство опасности, не раз выручавшее Лидочку, заставило ее быстро обернуться.
По дорожке, догоняя ее, старательно вышагивал слонопотам — Руслан Киренко.
Он не пытался скрыться — видно, был уверен в своей безнаказанности.
И в этом были свои резоны: в жаркий летний день сад был почти пуст — по крайней мере была пуста аллея, ведущая к оранжерее. Напав на человека, даже убив его, ты можешь ступить в сторону и скрыться в кустах — никто не догадается тебя поймать.
Лидочка припустила вперед и готова была уже скрыться в оранжерее, как замерла. Она представила себе, что слонопотам настигнет ее в жарком сумраке оранжереи и там задушит.
На аллее появились две мамаши с колясками, Руслана обогнал мужчина бухгалтерского вида с серой папкой под мышкой… Словно подчиняясь неслышному приказу, на обширной сцене появились свидетели. Впрочем, неизвестно, остановит ли их присутствие Руслана. Он так далеко зашел на своем криминальном пути: убийством больше, убийством меньше — для него не играет роли.
Разумеется, можно было кинуться бежать. Более того, у Лидочки были основания полагать, что она бегает быстрее толстяка. Но Лидочка пошла навстречу Руслану. Она решила перехватить инициативу, в глубине души не веря, что Руслан пожаловал в Ботанический сад, чтобы с нею расправиться.
— Руслан! — громко окликнула она молодого человека, потому что думала, что теперь свидетельницы и свидетели запомнят его имя, — попробуй убей, когда столько народу уже с тобой знакомо.
Руслан оторопел. Он замер на месте, и даже на расстоянии в несколько метров было видно, что он совершенно не представляет, что же ему теперь делать.
— Руслан, подождите меня! — почти кричала Лидочка, привлекая внимание мамаш, бухгалтера и парочки подростков, которые несли скамейку.
Руслан стоял, опустив руки.
— Мне Даша Корф все рассказала! — заявила Лидочка для свидетелей. — Вы слышите, Руслан?
Лидочка подошла к молодому человеку так близко, что он смог вполголоса, но грозно задать вопрос:
— Зачем кричите? Думаете, они милицию позовут?
— Нет, — Лидочка постаралась улыбнуться. — Они запомнят, как вас зовут. А разве я сказала что-то неправильно?
— Только не думайте, — толстяк был обижен, — только не думайте, что я пришел сюда, чтобы вас прикончить. А то у вас даже руки дрожат от страха.
— Вот уж об этом я не подумала.
— Вы ни о чем другом думать не можете, — ответил Руслан, мстя Лидочке за ее выкрики. — Я догадываюсь, что вы сегодня с Дашей поговорили и она вас в панику привела. Это еще удивительно, что вы сюда без милиционера пришли.
— Почему мне надо вас бояться?
— Потому что я вас не люблю. Потому что я грозил Даше, что расправлюсь с вами за предательство. Потому что вы доносчица.
— Нет!
— Погодите, Лидия Кирилловна, — сказал молодой человек, — с вами поговорить надо. Если вы в самом деле боитесь, то можете меня обыскать…
Толстяк начал хлопать себя по бокам и груди ладонями, показывая, что ничего опасного с собой не принес.
— Прекратите, — попросила его Лидочка. — Я верю, что вы не хотите меня убить. Потому что вы со мной разговариваете и даже спорите.
— Разумно, — согласился слонопотам. — Так оно и есть. А вы не испугаетесь сесть со мной на лавочку?
— Если ненадолго, — сказала Лидочка. — Я в самом деле очень занята.
Она говорила виновато, словно лишала Руслана права на монолог.
Лавочка нашлась недалеко, на ней дремала бабушка, положив узловатые пальцы на вязание, лежащее на коленях. Бабушка Руслана не смутила.
— Простите, что я за вами гонялся, — сказал он. — Может, я и напрасно это делал.
— Если вы хотите меня упрекать, то зря стараетесь, — сказала Лидочка. — Я не вижу своей вины перед вами.
— Я не о вине! — воскликнул толстяк.
Он как бы оплыл, потерял форму и стал меньше ростом. Когда он ходил, его поддерживал костяк, а когда садился, кости складывались, а мышцы не могли удержать центнер жира. К тому же Руслану было жарко, он вспотел, и пряди, выпавшие из схваченного резинкой пегого хвоста, были мокрыми и приклеивались ко лбу.
Руслан поерзал, устраивая тело на лавочке. К счастью, лавочка была крепкой, с чугунными лапами.
Наконец-то Лидочка могла разглядеть его как следует.
Он не производил впечатления негодяя или человека жестокого. Скорее он был растерян. Небольшие прозрачные карие глаза смотрели доверчиво. А может, я читаю в них то, что и быть не может? Откуда я взяла, что его взгляд доверчив?
— Я попал в дикую историю, — сказал Руслан, — и теперь не знаю, как из нее выпутаться.
— Чем я могу вам помочь?
— Только не смейтесь. Мне показалось, что вы можете выслушать меня. Если вы мне поверите, то не будете больше меня топить… А потом хочется, чтобы тебя кто-то понимал.
— А у вас наверняка есть друзья…
— Можно вычислить, — возразил толстяк. — Я живу один в общежитии. У меня не было друзей, вернее, они были, но в Воронеже, откуда я приехал. А здесь, в институте, у меня друзей нет, ко мне равнодушны, другие посмеиваются, третьих я раздражаю… Над вами ведь никогда не посмеивались?
— Посмеивались, — уверенно ответила Лидочка, потому что толстяк ждал от нее такого ответа.
— Сомневаюсь. Но не в этом дело. У меня еще есть Даша, которая иногда мне сочувствует, а иногда меня ненавидит. Она кое-что знает, но многого не может понять. Есть ее мать. Вы знаете Елизавету Ивановну.
— Я ее видела несколько лет назад.
— Она меня не выносит. Я думаю, что не соответствую ее эстетическим идеалам. А скорее всего, потому, что я беден и не имею в Москве постоянной прописки. А может, и потому, что люблю Дашу, а мне, с ее точки зрения, не положено любить Дашу. Вот я и подошел к логическому концу. Остался лишь милиционер Анатолий Васильевич, который был настолько человечен, что отпустил меня на свободу, хотя против меня уже есть немало улик. Но не пойду же я к нему раскрывать душу. Раскрывать душу можно человеку, который и старше, и умнее тебя, недаром всех священников изображают с бородами. Им даже приказывают отпускать бороды. Остались только вы. Я должен вас убедить или уничтожить как самого опасного и злейшего врага.
Лидочка отмахнулась от прилетевшего из кустов слепня. Руслан принял жест на свой счет.
— Подождите, не гоните меня.
— Я гоню не вас, а слепня, которому в Москве нечего делать, — сказала Лидочка. — И мне не хочется становиться вашим злейшим врагом. Лучше я отпущу бороду.
— Вы не только единственный свидетель, но вы единственный человек, к которому я испытываю доверие, — сказал Руслан. — Вы располагаете к себе.
Господи, как он разговорчив!
Он на самом деле оказался разговорчив, а рассказ его был интересен и многое расставил по местам.
Руслан Киренко, родом из Бутурлиновки, под Воронежем, не был обижен судьбой. Может, над ним и посмеивались на уроках физкультуры, но только до тех пор, пока он не придавил тушей самого сильного бездельника в 6-м «А» классе. Он был неповоротлив, медлителен, но силен, и потому его прозвали Слоном, и в этом прозвище был элемент уважения. Учился Руслан так себе, одевался кое-как, потому что мама-санитарка воспитывала его одна после того, как заведующего отделением, соблазнившего девушку на ночном дежурстве, перевели с повышением в Воронеж. Мама же, подобно любой нормальной матери, была уверена, что Русланчик — лучший из сынов. Он и вправду был лучше многих, так как с раннего детства проявил склонность к рисованию, а с десяти лет мать, опустошая на краски и кисти и без того скудный семейный бюджет, отдала мальчика в художественную студию, которой руководил спившийся бутурлиновский гений Соломон Чувпилло. Спившийся гений полюбил Слона, полагал его своим наследником и утверждал, что Руслану суждена великая судьба, которую враги и завистники отобрали у Соломона. Однако после восьмого класса Руслан был вынужден покинуть школу и пошел в училище мебельщиков. Мать полагала, что художник и мебельщик — специальности схожие. Училище Слон закончил едва-едва, он учился спустя рукава, он не любил столярные инструменты, которые платили ему взаимностью и норовили ударить, порезать или ущипнуть. Жил он скудно, был мрачен, все более подвержен вспышкам ярости, но никогда не пил — ни рюмки: он боялся спиться, как его учитель.
Закончив училище и поработав год в мастерской, отказывая себе во всем, скопил немного денег. Руслан отправился в Москву, чтобы поступить в Суриковский институт. И провалился там на экзаменах. Он был коряв, плохо учен и не смог написать сочинение. К счастью для Слона, он, взяв документы в Суриковском и подав их, почти отчаявшись чего-нибудь добиться, в полиграфический, попал в институт, так как на профессиональном экзамене там увидели, что он талантлив, и не обратили внимание на тройку по сочинению. Первый курс он провел на вечернем, в армию его не взяли из-за плоскостопия. Как он жил в ту первую зиму, Руслан предпочитал не вспоминать. Но весной его полюбила кассирша из булочной возле института, стала подкармливать и в отпуск увезла с собой на Черное море. Осенью Руслан перешел на дневное отделение, получил место в общежитии и бросил кассиршу — его полюбила красивая и претенциозная жена одного дипломата. Ее тянуло в ночные компании, она дрожала при слове «хеппенинг», а Руслан смутил ее сердце странной молчаливостью, рассеянностью, свойственной гениям, грубостью и, главное, невниманием к ней.
На втором курсе любого института уже известно, кто талантлив, кто умел, а кто умен, но ни на что не годен. У Руслана была репутация таланта, что позволяло ему прогуливать скучные лекции, проваливать зачеты и даже экзамены. Никому в наши дни не хочется прослыть губителем таланта. Каждый преподаватель настолько интеллигентен, чтобы понимать, как неважны для художника в будущем отечественная литература или типографское дело. Завтра вы будете ломиться на выставку Руслана Киренко, скорее всего, в Париже, так пусть же этот Киренко с теплотой вспомнит своих учителей.
Руслан Киренко отлично пользовался снисходительностью преподавателей, но живописью занимался увлеченно, ездил на этюды, освоил нелегкое гравюрное дело, бросился в скульптуру… В институте никто не звал его Слоном, в компаниях он был звездой, так как умел молчать и казался умным, девушки его обхаживали, потому что девушки, живущие в мире искусства, питаются отблеском тех, о ком говорят.
После жены дипломата Киренко некоторое время жил с натурщицей Марксиной, что было как бы пропуском в мир настоящих живописцев, затем в январе сбежал в Ялту, потому что хотел писать зимнее море. Там его обокрали и избили, он не успел вернуться к экзаменам и чуть не вылетел из института — даже для талантов существуют пределы допустимого.
Когда Руслан вернулся в Москву, он впервые увидел в коридоре института Дашу Корф, которую, может, встречал и раньше, но не замечал. Даша Корф была рыжей, крупной, веселой девушкой, она только вернулась из байдарочного похода, была окружена спортивными поклонниками, говорила она громко, и при виде Руслана сказала что-то настолько непочтительное, что ее подпевалы закудахтали от подобострастного восторга.
Руслан уже привык не обращать внимания на шутки и насмешки чужих людей. Он лишь пожалел, что эта девушка не знает о том, какой он талантливый и необыкновенный. Он уже привык относиться к себе не шутя, готовясь к судьбе великого человека, и потому насмешка молоденькой девицы не могла его по-настоящему смутить.
Еще через месяц было открытие выставки молодых художников в салоне «Венера». В основном там были работы авангардистов, уже отбузивших свое и упавших в цене, но в виде исключения там повесили три работы Руслана. Руслан пришел позже других, речи уже были отговорены, все расплылись по залам, хозяйка салона Оксана Окунь, составленная из нескольких упругих шариков женщина средних лет, потащила Руслана в угол и начала возбужденно шептать: «Ты, дурак, где шлялся? Я тебя с та-а-кими людьми хотела познакомить! Они твои вещи хотели купить. Почти купили». Оксана была сердита на Руслана, потому что жила на проценты с продаж и с трудом сводила концы с концами.
На выставке было несколько студентов из Полиграфа, друзей одного из авангардистов. Там Руслан во второй раз увидел Дашу Корф. Он уже знал, что она — Корф, и очарование имени заставляло видеть в Даше не совсем то, кем она являлась на самом деле. Дашу вообще переоценивали и преподаватели, и мужчины, отчего ей приходилось разочаровываться в жизни не менее тех, кто разочаровался в ней. Порой Даша жалела, что не поменяла в детстве фамилию на Спольникову, но теперь это оказалось к лучшему.
Внизу в подвале было кафе. Руслан был при деньгах, он подошел к столику, уже занятому студентами, с бутылкой виски, за что был встречен аплодисментами.
Даша сидела рядом. На этот раз она не шутила — теперь она тоже знала, что Руслан — институтская знаменитость. Пока местная, но с перспективой.
Тут подошла Оксана и закричала: «Ребята, с меня пол-литра!» Она изображала из себя свойскую бабу, и ей это удавалось: «Ничтожную мазню Руслана какой-то идиот купил за триста баксов!» Все начали хлопать в ладоши и поздравлять Руслана. Потом они пили. Руслан авансом спустил половину гонорара на угощение — он бы этого не сделал, если бы не Даша. И Даша понимала, что художник пошел в загул ради нее, а не ради той Сухоруковой, которая повисла на Руслане, как самка французского бульдога. Все были пьяные и веселые. Руслан пошел провожать Дашу домой, он хотел поцеловать ее у подъезда, но Даша ему не позволила.
— Когда это случилось? — спросила Лидочка. Руслан как раз сделал паузу, прикуривал, он курил «Приму», мало осталось охотников до плохих и крепких сигарет.
— Это было в марте, меньше чем полгода назад.
На следующий день Руслан занял сто долларов под проданную картину и как бы случайно столкнулся с Дашей в коридоре.
Правда, для этого ему пришлось попасть к нужной аудитории в нужный момент.
Поговорили о том о сем и, сделав вид, что для него это самое обычное времяпрепровождение, он позвал Дашу в ночной клуб. Даша постаралась сделать вид, что для нее это тоже привычно, и согласилась. Она давно мечтала там побывать, чтобы как бы приблизиться к элите богатства — такая тоже существовала в институте и каким-то образом смыкалась с элитой таланта.
В ночном клубе было скучно, душно, Руслан чуть не подрался, и Даше пришлось вытаскивать его оттуда. Зато, оказавшись на улице, оба поняли, что домой им не хочется, и пошли гулять по ночному городу. Они горячо целовались в кустах возле Новодевичьего монастыря, говорили о Бунине и прерафаэлитах. Потом долго шли пешком, взявшись за руки, и порой останавливались, чтобы поцеловаться. Начинался рассвет, Даше было страшно подумать, что подумает мама, она не видела, что Руслан толст, некрасив и неуклюж — он был гением, а в гении женщина видит принца.
Все очарование ночи рухнуло дома, потому что Лиза и в самом деле не спала и уже подняла на ноги Сергея, а тот оттягивал звонок в милицию, уверяя, что Даша загуляла, ибо каждой двадцатилетней девушке надо раз в жизни загулять, чтобы было в чем раскаиваться, наслаждаясь воспоминаниями. По крайней мере так он все объяснил Лизе, когда приехал, вытащенный ею из постели. Так они и сидели — Сергей и Лиза, как потрясенные родители. А когда Даша заявилась, Лиза выгнала Сергея домой, чтобы он не стал свидетелем скандала. Лиза устроила допрос с пристрастием и допрашивала до тех пор, пока не поверила, что Дашина девичья честь не опорочена. Тем не менее Лиза не простила Руслану той бесконечной ночи и, когда познакомилась с ним — а вскоре он проник в дом, — не могла преодолеть к нему неприязни.
Как понимал Руслан, неприязнь складывалась из трех причин: Руслан был иногородним, то есть охотником за пропиской и жилплощадью, Руслан был неэстетичен, толст и неопрятен, тогда как Елизавета была аквафилом, а может, даже и мылофилом. Наконец, Руслан заставил ее пережить самую страшную ночь, когда она едва не похоронила свою девочку. И еще неизвестно, какая из причин была главной.
До лета роман Даши с Русланом, оставаясь платоническим, протекал в меру бурно. Нападающей и при этом страдающей стороной был Руслан. Даше льстило его внимание, как льстило и то, что в институте говорили: «И что она в нем нашла!» В любом случае ее статус в институте значительно поднялся. А Руслан выходил из себя, устраивая сцены, водя Дашу по дорогим ресторанам («Домой возвращаемся не позже одиннадцати, и я должна буду в восемь позвонить маме») или делая ей подарки, совершенно не свойственные бедному студенту. Работал Руслан как сумасшедший, и этот роман, как решат его будущие биографы, помог ему стать настоящим сильным художником, потому что Руслана наконец-то посетило большое и трагическое чувство — говорят, оно полезно творческой личности.
У Даши летняя практика была в Москве, а Руслан поехал во Львов. Прошастав две недели с этюдником, Руслан, никому ничего не сказав, примчался на аэродром, взял билет до Москвы и появился с букетом львовских роз.
Был вечер. Руслан еще позавчера говорил с Дашей по телефону и поэтому был уверен в том, что она в Москве. А Елизавета, как он знал, уехала на неделю в Латвию к подруге. Так что Даша дома одна, рассудил он… Руслан множество раз представлял себе эту встречу и даже убедил себя в том, что растроганная его прилетом Даша станет его любовницей…
Черт знает что иногда останавливает человека в двух шагах от цели. Но, подойдя к дому, где жили Даша с Лизой, Руслан не отправился, как намеревался, к двери и не позвонил, а сначала решил поглядеть на ее окна на третьем этаже. Он отлично знал эти окна.
Свет в окнах не горел.
Сначала это не встревожило Руслана. Он решил, что Даша задержалась где-то и скоро приедет. Было более десяти, начало июня, еще не темно, но уже стали зажигать свет.
Конечно, Даша могла сидеть и без света, может, она смотрит телевизор? Руслан чего-то ждал. Сам проклинал себя за нерешительность, за подозрения, но стоял за кустами и, когда поблизости проходили собачники, прятал лицо за букетом.
В одиннадцать свет зажегся. Окно было желтым на фоне сиреневого в сумерках дома. К окну подошел мужчина, он был в одних трусах. Свет освещал мужчину сзади, и Руслан не сразу узнал Сергея. И, узнав, почувствовал облегчение, потому что понял, что Сергей пришел к Лизе. А Даши, значит, дома нет…
И тут Даша вышла из глубины комнаты, она была в халатике, она подошла к Сергею сзади, обняла его за плечи и стала целовать в ухо и висок. И Руслан уже не мог убедить себя, что это Елизавета. Ведь Елизавета брюнетка, а Даша рыжая, белая, на полголовы выше матери, вся в барона Корфа, так по крайней мере считали в семье.
Если бы у Руслана в тот момент была на то возможность, он, без сомнения, убил бы любовников. Но он стоял неподвижно и глазел, не думая о том, как выглядит со стороны. Он видел, как их фигуры то выплывали из глубины комнаты к окну, то вновь исчезали в глубине комнаты. Вот Сергей надел майку, потом постоял перед окном, натягивая рубашку. Зажегся свет на кухне. Возникла Даша, она подошла к плите и поставила чайник. Волосы ее были распущены. За ней вошел Сергей и сказал что-то смешное, Даша засмеялась, он походя поцеловал ее в щеку и открыл холодильник.
А Руслан все стоял.
Одетым Сергей казался Руслану таким же отвратительным, как и обнаженный. Борода его сбилась набок, сквозь редкие волосы поблескивала лысина, мягкий нос свешивался к усам — отвратительная физиономия! И как же он раньше этого не замечал?
Впрочем, он и видел-то Сергея раза два-три во время цивилизованных визитов, когда Лиза не скрывала своей неприязни к Руслану. Сергей старался как-то сгладить вырывающиеся у Лизы грубости, а Даша уводила маму на кухню, и там они ругались вполголоса.
Вернее всего, понял Руслан, Сергей не останется там на ночь. Иначе не было смысла повязывать галстук. Но он долго не уходил — возлюбленные уселись пить чай. Руслан уговаривал себя, что все ему померещилось, — ведь это кровосмешение… ну, не кровосмешение, но наверняка это моральное преступление. И Даша ни в чем не виновата. Но то, что он видел в окне, подрывало его надежды, потому что Даша не раз подходила к Сергею, ластилась к нему, словно не была уверена, что Руслан все достаточно разглядел.
Руслан понял, что он сделает: он дождется, когда Сергей будет выходить, и тогда убьет его. Задушит, загрызет — убьет.
Ждать пришлось еще полчаса. Лишь в двенадцать свет на кухне погас, потом любовники перешли в большую комнату и исчезли из глаз — возможно, сели на диван у дальней стены…
Руслан тупо воображал, что они сейчас делают…
Потом вдруг увидел, что Даша подошла к окну, совсем одна, задернула штору, и вскоре зажегся верхний свет.
Руслан кинулся вокруг дома к подъезду.
И у подъезда понял, что упустил Сергея — тот ушел.
Руслан бросился к метро. Он бежал по улице Аксакова, по широкой пешеходной дорожке вдоль невысоких саженцев. Дважды в темноте он принимал за Сергея других мужчин, ликовал, как охотник, настигающий добычу, и оба раза оказывалось, что он ошибся. Так он и не догнал Сергея.
Руслан возвратился к дому Даши. В ее окне все еще горел свет.
После получаса пустых попыток он отыскал работающий автомат.
— Ты откуда? — спросила Даша. — Ты в Москве?
— Я у твоего дома, — сказал Руслан. — Можно к тебе подняться?
— Нет, — сказала Даша, — я не готова тебя принять.
— У тебя другой мужчина?
— Не будь глупым, у меня никого нет.
— Он ушел?
— Руслан, ты хочешь скандала?
— Я хочу поговорить с тобой.
— Позвони завтра, ты пьян.
— Я пьян?
— Я сказала — позвони завтра!
Она бросила трубку.
Руслан вернулся во двор. Окно горело. Даша стояла у окна и смотрела на темный двор. Руслан решил, что она его не видит. Потом Даша отошла от окна.
Руслан спохватился, что все еще таскает с собой веник из роз.
Выкинуть?
Нет, влюбленные так не поступают. Влюбленные поднимаются пешком на третий этаж и кладут отвергнутый букет, подобно своему кровоточащему сердцу, у ее дверей. Что Руслан и сделал.
За бессонную ночь, которую Руслан бродил по улицам, он понял, что лишь с холодным сердцем можно спастись. Холодным сердцем и твердой рукой. Он должен стать снежным королем.
До половины следующего дня он не звонил Даше, потом позвонил, и Даша разговаривала с ним веселым и ровным голосом.
— Я все знаю, — сказал Руслан. — Я видел, кто от тебя выходил ночью.
— Кто бы ни выходил, тебя это не касается.
— Я его убью.
— Не говори глупостей.
— Мне надо тебя увидеть.
— Сначала приди в себя.
Все же Руслан добился встречи. Не на первый и даже не на второй день. Даша боялась его. Он подстерег ее у дома, и она согласилась посидеть на скамейке в соседнем дворе.
Даша была холодна. Она призналась ему, что не только любит Сергея, но уже второй год как позволила ему себя соблазнить. Вот именно, я сама этого хотела. И я хочу, чтобы он женился на мне. Да, я понимаю, что он — мое проклятие. Но он самый милый, самый добрый человек, и я буду любить его и заботиться о нем. Он старше тебя на тридцать лет! Для меня это не играет роли. А я? Ты же целовалась со мной! Я даже думала, что ты мне нравишься… У нас был конфликт с Сергеем… Он боялся маминой ревности. Не ты один догадался о нашей связи. Мама тоже узнала об этом с опозданием. Почему? Потому что ей не хотелось такое допускать даже в самых страшных фантазиях. Она была в бешенстве — ей было оскорбительно увидеть соперницу в дочери. И хоть Сергей перестал с ней… жить после того, как это случилось у нас, она все равно была потрясена… Она бы выдержала его измену с чужой женщиной, но не с собственной дочерью. Я ее понимаю! Мама выплакала все глаза, и мы с Сергеем обещали, что не будем связывать наши жизни, как мы того хотели… мама даже согласилась, чтобы я вышла за тебя, Руслан. Смешно, правда? Ты в самом деле так его любишь? Я никогда больше никого не полюблю!
Как ни странно, они продолжали встречаться. Руслан вернулся было на практику, но потом снова сбежал в Москву. И может быть, утешился бы, успокоился, как почти успокоилась Лиза Корф, но тут случилось, что один знакомый пьяница предложил ему купить пистолет с обоймой. И Руслан купил.
— Зачем вы это сделали?
— Я ничего плохого не имел в виду… Дешево предложил, я и купил. Каждый мужчина хочет иметь оружие. Купил и положил… а потом взял его с собой на свидание с Дашей.
На одно из тех безнадежных свиданий, которые ничем, кроме нервотрепки, не кончаются, которых он добивался, сам не зная, на что рассчитывал, и готовил к ним убедительные монологи, которые рассыпались раньше, чем он начинал их произносить. И она ходила на эти свидания то ли из жалости, то ли из какого-то девичьего мазохизма, подсознательного стремления к страданию… Как-то он взял пистолет с собой почти случайно и в запале вытащил его, уверяя, что покончит с собой. Да, да, именно покончит с собой. И тогда Даша отобрала у него этот пистолет. Он отдал его покорно, как будто пистолет уже выполнил свою функцию. Даша взяла его, потому что испугалась за Сергея, а не за Руслана. На следующем свидании Руслан попытался получить оружие обратно. Он расхотел оставлять его Даше. Мало ли что может случиться — кому тогда отвечать?.. А она призналась, что отвезла пистолет Сергею — боялась вернуть его Руслану, боялась выкинуть, боялась держать дома и отвезла на дачу Сергею.
Узнав об этом, Руслан пришел в бешенство — еще этого не хватало! И он вспомнил, что слышал в каком-то разговоре, что Сергей живет в Челушинской на Школьной улице. Дом пять. Разговор о его отъезде туда происходил давно, в начале лета, еще до всех драматических событий. Руслан отправился в Челушинскую, чтобы отыскать дачу и потребовать обратно свой пистолет. И столкнулся с Лидочкой.
Он остался там, он ждал, пока все разъедутся, конечно, он не мог стоять возле дачи — кто-нибудь бы его заметил. Он ушел в лес, где с горя, усталости и волнений заснул. Проснулся в два часа ночи. Комары заели. Он снова отправился к дому Сергея. Свет там не горел. Но ночь была лунная, светлая. Руслан забрался через открытое окно и в гостиной наткнулся на тело Сергея. Сергей был убит. Руслан чиркнул зажигалкой. Он вдруг испугался, что убийца мог воспользоваться его оружием, и тогда по пистолету выйдут на Руслана и заподозрят его… Но пистолета нигде не оказалось — значит, тот, кто застрелил Сергея, унес пистолет с собой.
— Почему вы уверены, что это был тот же пистолет?
— А какой же еще? — Для Руслана подобное предположение было новостью. Он уже свыкся с мыслью, что Сергея убили из его пистолета. — Разве много пистолетов по дачам лежит?
— Вряд ли пистолет лежал на видном месте. А о том, что он есть на даче, знали только Даша и вы.
— Клянусь, я его не убивал!
— Тогда это был грабитель, и он мог залезть со своим собственным пистолетом.
— А где же мой пистолет?
— Не знаю.
Руслан выдохся. Он был бледный, потный, усталый.
— Простите, что я отнял у вас так много времени, — сказал он.
— Ничего. Вам надо было выговориться…
— Нет, не это! Мне важнее другое. Мне важнее, чтобы вы поверили, что если я и хотел убить Сергея, то потом это прошло. Остались горечь, оскорбление, обида, что меня держали про запас, для развлечения. Убивают только сгоряча, правда? А потом уже не убивают.
— Может, вы и правы.
— Мне нужно, чтобы вы мне поверили. Милиции я очень гожусь: не москвич, бродяга, волосы нестриженые, и пистолет могут отыскать. Я не уверен, что Даша будет молчать. Она может и сказать… Кто я ей, в конце концов?
— Может, теперь вы для нее значите больше?
— Нет, мы уже чужие! — Это было сказано с излишним пафосом, и Лидочка Руслану не поверила. Тем более что помнила, как Даша старалась выгородить Руслана.
— Я хочу, — повторил Руслан, — чтобы вы были моим союзником. И если этот Голицын будет вас допрашивать, вы не настаивайте, что видели меня вечером у дома, хорошо?
— Разве это поможет?
— Я так не хочу в тюрьму! Я же хороший художник, честное слово. А меня они в тюрьме убьют, я же толстый!
— Мне хочется вам верить, — сказала Лидочка.
— Я знал, что так будет… Даша — мое проклятие. Но это несчастье… оно так сблизило нас. Вы меня понимаете?
Глава 6
День похорон, пятница, 21 июля, после ночного дождя выдался парным. Природа несколько раз вспоминала, что не выполнила дождевой нормы, и дождь начинался вновь, но вскоре заканчивался на полукапле. Похоронами распоряжалась Нина Абрамовна, впрочем, это всем было ясно заранее, а Лиза Корф, полагавшая, что у нее больше прав на посмертные отношения с Сергеем, сдалась уже в первый день. Нина мобилизовала неизвестных Лидочке родственников Сергея, они доставали, организовывали и принимали меры. Нина же хозяйничала в квартире Сергея. Лиза неистовствовала, потому что там были ее письма и подарки, и она понимала, что Нина из ревности все уничтожит. И потом наживется, захватив квартиру. Смерть Сергея стала теперь для Лизы особенно несправедливой, словно он сделал ей гадость, нарочно погибнув, когда от него еще столько всего ожидалось. В омраченном горем сознании Лизы все перепуталось, и она даже заявила:
— Я ему этого никогда не прощу! — К счастью, слышала ее одна Даша.
— Мама, что ты несешь! — сказала Даша. Даша была спокойна, подтянута, ничем не выказывала своего горя, и Лидочка даже усомнилась, правду ли рассказал ей Руслан, а может, это плод его необузданного творческого воображения? Даша успокаивала мать, разговаривала со знакомыми и вела себя, как воспитанная наследница имения на званом вечере.
Лидочка почему-то решила, что где-то в густых кустах Донского крематория должен прятаться несчастный слонопотам, но его не увидела.
Произошло неизбежное разделение групп, в зависимости от отношений с Ниной или Лизой. Лидочка оказалась на нейтральной территории, они с Мариной выразили соболезнования Нине, затем, стараясь не выглядеть демонстративно, подошли к Лизе. Именно тогда у Лизы и вырвалось это неудачное восклицание.
Долго ждали очереди на кремацию, произошла какая-то накладка с оформлением документов. Лидочка с Мариной отошли на боковую аллею.
— Ты знаешь, что у Сергея был роман с Дашей, с дочкой Елизаветы? — вдруг спросила Марина.
— Почему ты так думаешь?
До этого момента Лидочка полагала, что она — единственный хранитель взрывчатой информации.
— От Сергея, — сказала Марина. Она обернулась — кто-то прошел по аллее, разглядывая памятники. — Я ему поверила, хоть и не одобрила.
— Странно, — сказала Лидочка, не зная, как реагировать на такую новость. Одно дело — услышать ее от полного эмоций участника событий, а тут к тебе приходит с такой же новостью отдаленный свидетель.
— Ты не веришь?
— У меня нет к этому отношения, — сказала Лидочка. — А как он тебе сказал об этом?
— Я прочла. — Марина чуть улыбнулась, и ее глаза вдруг блеснули, как будто она заглянула невзначай в шкатулку и увидела там сверкающее ожерелье. — Я прочла об этом в его романе.
— В романе Сергея?
— Я не могла об этом говорить, пока он был жив, хотя роман — это роман, и ты не сможешь долго хранить секрет. Но пока роман не напечатан, выдумка, лежащая в его основе, остается собственностью автора. Ты меня понимаешь?
Марина говорила как отличница из провинциальной школы. Она старалась строить фразы как можно правильнее, так, ей представлялось, говорят лучшие люди столицы, а порой получалось курьезно, потому что лучшие жители столицы не следуют нормам.
Марина вытянула тонкую шейку и поглядела поверх кустов.
— Ждут, — сказала она. — Еще не начали.
В очередной раз заладил дождь. Тяжелые капли застучали по листьям. Женщины отошли под укрытие старой липы. Солнце решило не прятаться за тучку ради столь короткого дождя и продолжало светить. Капли сверкали в его лучах.
— Мне так неловко говорить об этом, — сказала Марина.
Она была одета скромно, но не в траурное. Серый костюм, черная сумка через плечо, лаковые черные туфли. Марина потянулась, сплетя перед собой пальцы. Пальцы хрустнули. Она боролась между необходимостью деликатно молчать и почти физиологическим стремлением выговориться, крикнуть тростнику, что у царя Мидаса ослиные уши.
— Я тебе доверяю. Это не означает, что я нарушаю слово или обманываю кого-то. Тайны здесь нет. Если есть, то редакторская. А скоро об этом будут знать все. В книге он написал о своем романе с Дашей. Правда, не в реалистическом, а в эзотерическом разрезе.
— Почему ты решила, что это имеет отношение к действительности?
— Когда человек, разменяв полсотни, пишет эзотерический роман, можно ожидать, что он вложит в него свой жизненный опыт.
— Он мог написать роман о событиях тридцатилетней давности, — возразила Лидочка, стараясь припомнить, что означает слово «эзотерический».
— Нет, все слишком совпадает. Когда будет верстка, я тебе ее покажу, и ты мне поверишь. Это роман о том, как мужчина полюбил дочь своей любовницы. Конечно же, все имена изменены, обстоятельства тоже… это художественная проза. Очень необычная, не всем по зубам… — Марина заговорила быстрее, потому что они увидели сквозь листву, как люди, пришедшие проститься с Сергеем, стали подтягиваться к автобусу. Уже открыли заднюю дверцу, и к ней подкатили тележку для гроба.
Среди друзей и близких мужчин было мало. Анатолий Васильевич Голицын помогал вытаскивать гроб из автобуса. Сначала Лидочка отметила в сознании этот факт и только через минуту сообразила, что этого быть не должно. Что делать сыщику на кладбище?
Гроб поставили на тележку. Толику кто-то вручил венок из института, где раньше работал Сергей. Толик нес его за гробом. Он был в черном костюме и, несмотря на жару, при галстуке. Видно, специально оделся к похоронам. Положительный человек.
Если он здесь, то у него, должно быть, возникли какие-то соображения. Знает ли он о романе Даши с Сергеем? Ведь эта информация проливает совсем другой свет на возможное поведение Руслана. Его рассказ, если отнестись к нему без эмоций, почти признание в собственной вине. Руслан — единственный человек, заинтересованный в том, чтобы Сергея не стало. Правда, остается еще Нина Абрамовна. Возможно, ей удастся унаследовать квартиру или хотя бы мебель — наверное, она уже об этом позаботилась. Но не станет же она из-за этого убивать Сергея? Тем более что муки ревности давно уже рассосались. Что же здесь делает Толик?
— Кто это? — спросила Марина, перехватив внимательный взгляд Лидочки.
— Наверное, и тебе еще предстоит с ним встретиться. Если дело не закроют раньше.
— Не поняла.
— Это уполномоченный, милицейский сыщик.
— Следователь?
— Следователь будет потом. Это просто Толик…
— Толик?
— Анатолий Васильевич Голицын собирает все сведения, а потом они решат, передавать ли дело следователю.
— Ты у него уже была? — спросила Марина.
— Была. Не только из-за Сергея, но еще из-за одного человека.
— Из-за кого?
— Я потом тебе расскажу, хорошо?
— Только не забудь.
Они прошли в здание крематория следом за Лизой и Дашей. Уже в дверях Марина не удержалась и прошептала на ухо Лидочке:
— А если меня вызовут, можно не говорить про роман?
— О чем не говорить?
— Про роман Даши и Сергея.
— Говори, если хочешь, только это же, наверное, выдумано. Но не хочешь, не говори!
— Я сохраню спокойствие Даши, правильно?
Они вошли в светлый, обжитой зал крематория. В нем было столько маленьких вещей, бюстов, табличек, надписей, цветов, что казалось, будто люди приходят сюда не ради похорон, а как бы в краеведческий музей странного, нереального края.
Когда похоронная процессия, большая или маленькая, вливается в этот зал, даже самые случайные и равнодушные люди спохватываются — это же конец! Вон там, впереди, раздвинутся плиты в полу, и гроб уйдет вниз, в геенну огненную. Лидочке вдруг кощунственно показалось, что она находится в процессии восточной древности, в Карфагене или Финикии, в храме Ваала, готового поглотить очередную жертву.
Нина Спольникова встала у гроба так, чтобы помешать подойти к нему тем, кого она допускать не хотела. Но Лиза обошла гроб с другой стороны, и они с Ниной оказались лицом к лицу над телом Сергея. Их руки, протянутые к его лицу, чуть было не встретились.
И тут, оттолкнув мать, к гробу кинулась Даша, она стала истерически целовать Сергея, рыжие волосы рассыпались по белой простыне… Лиза принялась оттаскивать Дашу, ей на помощь пришел Толик, подбежала неизвестная бабушка с таблетками и стаканом воды, Дашу отвели в сторону, она рыдала, захлебываясь слезами.
Речей не было — представитель института хотел было сказать нечто официальное. Расправляя и складывая бумажку, он вышел к изголовью гроба.
Нина обернулась, заметила его и сухо велела отойти.
У Сережи было умиротворенное, «как положено», лицо, словно он прислушивался к тому, что происходит вокруг, но не мог открыть глаза.
Когда гроб опускался в пропасть, Даша попыталась снова рвануться к нему, но теперь Толик, уже как бы на правах родственника, крепко удержал ее за локоть. Даша была на голову выше приземистого милиционера. Но, конечно же, Толик был сильнее, к тому же он знал, как надо держать людей.
Все потянулись к выходу. На солнцепеке, у ступенек стоял Руслан. Словно знал, что может понадобиться. Он сделал шаг навстречу Толику и его пленнице. Толик не удивился, он поздоровался с Русланом и передал ему Дашу. Даша тут же повисла на Руслане.
Лиза остановилась на нижней ступеньке, глядя вслед дочери, словно раздумывая, куда же ей самой теперь идти, хотя на самом деле все было не так — Лидочка знала, что Лиза приготовила, накрыла у себя дома стол. Институтские, общие знакомые Лизы и Сергея потянулись к ней.
Затем вышла Нина Абрамовна. Она была бледна, но отлично владела собой. Лидочке было неприятно ее хладнокровие.
Лидочка с Мариной пошли по аллее к выходу. И было несправедливо, какой чудесный стоит день, как вымыты дождем деревья и памятники, а от асфальта поднимается легкий пар. Солнце стояло посреди неба, чтобы как можно скорее высушить землю.
— Здравствуйте, Лидия Кирилловна, — сказал Толик, догоняя их.
И Лидочка вдруг поняла, что в нем естественно живет ощущение причастности к этому грустному событию. Он здесь не чужой, не милиционер из Подмосковья, а как бы дальний родственник.
Они пошли рядом.
— Как Дарья плакала, — сказал он неожиданно. — Так переживала!
Лидочка не поняла, остается ли он сострадающим членом семьи, либо в нем уже проснулся сыщик.
— Еще бы, — сказала она. — Даша знала Сергея почти с пеленок.
— Это преувеличение, — Толик вдруг обнаружил глубокое знание семейных отношений Сергея, — знакомство Сергея Романовича с Дашиной мамой произошло, когда Даша уже ходила в школу.
Марина подняла брови. Она еще не имела чести беседовать с сыщиком и не знала, какой он методичный и тщательный в поступках человек. Лидочка сообразила, что дело смерти Сергея не закрыто и Толик не намерен от него отказываться и не верит в случайного грабителя. Иначе зачем ему ехать из-за города на похороны? Просто он полагает, что сможет чего-то разузнать, приглядевшись к людям, которые и не подозревают о присутствии милиционера.
Толик обернулся к Марине и спросил:
— А вы кем приходитесь покойнику?
Слово «покойник» выдало недостаточное знакомство капитана с русским литературным языком. Обычно в таких случаях употребляют более благородное слово «покойный».
Марина растерянно обернулась к Лидочке. Она смутилась оттого, что знала, кем и где служит Толик.
— Марина Сергеевна работает редактором в издательстве, где должна выйти книга Сергея. Она готовила к печати его предыдущие книги, — сказала Лидочка.
— Мы были с Сергеем Романовичем хорошо знакомы, — произнесла Марина дрогнувшим голосом, словно опасаясь, что ее выгонят со сцены трагедии как случайную прохожую.
«Да не смотри ты, капитан, на мышку так строго, — мысленно приказала ему Лидочка. — Человеку и без тебя тошно. Смотри, у нее следы слез на щеках».
— Я была там, на даче, — сказала Марина, словно решила наконец-то сознаться в страшном преступлении. — В последний вечер его жизни.
— Очень интересно, — согласился Толик. — Может быть, мне придется с вами побеседовать. Как вас найти?
Марина остановилась, достала из висевшей через плечо сумки маленький кошелек с визитными карточками. Марина, в отличие от Лидочки, была цивилизованным человеком. Она протянула Толику визитную карточку с золотым обрезом.
— Спасибо, — сказал Толик. Его мнение о Марине резко выросло, а в голосе вдруг прозвучали виноватые нотки: — Я все собираюсь карточки заказать и даже начальнику говорил. Очень современно.
— А они помирятся, — сказал Толик, неопределенно кивнув вперед, куда удалились остальные.
— Если они ссорились, — ответила Лидочка.
— Если не ссорились, незачем ему было на дачу лезть и притом таиться. Ну, подумайте, Лидия Кирилловна.
Лидия Кирилловна не ответила, признала правоту капитана.
Они дошли до ворот. Там стояли две кучки людей. Та, что окружала Лизу, была многочисленной.
Нина стояла ближе, и Лидочка подошла к ней попрощаться.
— Я не приглашаю на поминки, — сказала Нина. — Я не признаю этих варварских обрядов. Умер человек и умер. Главнее — наказать виновного.
Она посмотрела на остановившегося в стороне Толика, словно угадала в нем вершителя правосудия. Толик послушно кивнул.
— Кстати, — продолжила Нина и сделала знак рукой, как бы щелкнув пальцами, но в самом деле не щелкнув. Молодой человек в очках и модном черном костюме, стоявший частью фона за ее спиной, сделал шаг вперед и передал Нине большой пластиковый пакет. Пакет был тяжелый.
— Передайте, пожалуйста, этой… — имени «этой» Нина выговорить не могла. И никогда не выговорит.
— Я передам, — сказал Толик, протягивая руки.
— Я была на квартире у Сергея, там всякие вещи, которые мне не нужны, — продолжала Нина. — Они не имеют ко мне отношения.
Нина повернулась и ушла. За ней последовала группа ее родственников и друзей. Среди них, наверное, были и родственники Сергея, хотя он никогда Лидочке о них не говорил. Впрочем, жили они не в Москве — Сергей был родом откуда-то издалека.
Теперь пришла пора переходить к другой группе. Оттуда ревниво наблюдали за общением Лидочки с Ниной и ждали.
— Это вам, Лиза, — сказала Лидочка, она давно не видела Лизу, но та почти не изменилась. Такая же цыганистая, кареглазая соблазнительница, которая сбила с пути истинного немало мужчин, но своего счастья так и не отыскала. Теперь уж вряд ли отыщет.
— Что это? — Лиза не решалась взять пакет у Толика, словно в нем могла таиться бомба.
— Ничего, — сказал за Лидочку Толик. — Я посмотрел. Я так думаю, что это ваша переписка и всякие сувениры, которые Нина Абрамовна собрала и не стала выбрасывать. Наверно, вам это интереснее. Честно говоря, я от нее этого не ожидал. Редкая жена, даже бывшая, стала бы думать о вас.
Резким движением Лиза вырвала у Толика пакет. Лидочка сообразила, что Лиза считает Толика спутником Лидочки или Марины, которая остановилась в шаге позади.
— Это милиционер, Анатолий Васильевич, — объявила Даша. — Я вчера у него на допросе была.
— Вот это да! И никто мне ни слова, — почему-то обиделась Лидочка. Хотя капитан милиции имел полное право выбирать себе собеседников, не советуясь с Лидочкой.
— Вам было не до этого, — сказала Даша.
Лидочка поняла, что Даша уже взяла себя в руки и теперь будет утешительницей и поддержкой матери. Лиза же полностью расклеилась, руки ее дрожали, она никак не могла сообразить, что же делать дальше, кажется, она даже забыла о пакете… Нет, не забыла. Лиза вдруг обернулась к дочери и спросила:
— Я пойду скажу ей спасибо, хорошо?
— Ты ей скажешь спасибо по телефону, завтра, если она захочет с тобой говорить, — разумно ответила Даша.
— Правильно, — тихо заметил Толик. — Нина Абрамовна человек интересных решений.
Лидочка поняла, что он косвенно обвиняет Нину в возможном убийстве Сергея. Ничего подобного Толик, конечно же, не сказал, но Лидочка именно так его поняла.
Даша произнесла слова, которые должна была сказать ее мать.
— Попрошу вас к нам, — сказала она. — Будем рады, если помянете с нами Сергея Романовича.
И тут Лидочка сообразила, что они стоят в окружении дюжины или более людей, ожидающих приглашения. Так как автобус заказывала Нина, все пошли к машинам на стоянке.
— Ты поедешь? — спросила Марина.
— Да.
— А я не поеду.
— Почему?
— Я никогда ее раньше не видела, для меня это чужой дом… и даже как-то нехорошо, что я приду в чужой дом, а я чужой человек…
— В такой день не бывает чужих, — заметила Лидочка.
— Я себя буду чувствовать чужой. И не уговаривай меня. Мне надо побыть одной, честное слово… Я ведь еще не смирилась с этой потерей.
Марина пошла к автобусу. Остальные расселись по машинам, еле поместились. Толик оказался с Лидочкой в одной машине. Он твердо вознамерился присутствовать на поминках.
Он сидел рядом с Лидочкой, локоть упирался ей в бок. Лидочка тихо спросила его:
— А вам можно, Анатолий Васильевич?
— Не понял вашего вопроса, — вежливо прошептал в ответ капитан.
От его костюма попахивало нафталином и пылью. Видно, его редко вытаскивали из шкафа.
— Вы же находитесь при исполнении, а едете в гости.
— Я не еду в гости, — строго поправил Лидочку милиционер. — Во-первых, просто хочу посидеть, отметить память о хорошем человеке. Я же его знал, мы с ним встречались, разговаривали. Я к Ольге часто захожу, вот и познакомились. Я Сергея Романовича очень уважал. У меня есть его книга с дарственной надписью.
— Чего же вы мне раньше не сказали!
— Почему я должен все вам говорить? — удивился капитан. — Я вам расскажу, а вы с ума сойдете от удивления.
— Простите, вы правы, — согласилась с ним Лидочка.
— А во-вторых, — продолжал шептать ей на ухо капитан, — я нахожусь на работе, я наблюдаю. Мне люди интересны. Это дело, скажу вам, не такое простое, как вам кажется.
— Мне оно и не кажется простым.
— Тем более, мне нужно на людей посмотреть в другой обстановке, может, они раскроются.
— А пить будете?
— Пить не буду. Одну рюмку за память Сергея Романовича.
Лидочка вдруг сообразила, как молод ее собеседник. То есть она знала об этом и раньше, но иногда, как сейчас, его молодость бросалась в глаза. Бывают такие мальчики, чрезмерно серьезные, прямо маленькие дедушки. И рассуждают, и спорят, как взрослые. А потом, когда никого рядом нет, начинают прыгать или кувыркаться через голову.
Лиза с дочерью жили далеко, на улице Аксакова, в одном из скучных новых домов, которые за какие-то десять-пятнадцать лет состарились, не испытав зрелости. Одинаковые дома в одинаковых кварталах на одинаковых улицах — память о постхрущевском мире очередей за колбасой и дешевого общественного транспорта.
Народу набралось не так много, человек двадцать, все разместились за столом, не пришлось устраиваться в коридоре.
Руслан сидел рядом с Дашей, но был тих и незаметен, насколько это ему удавалось. Лиза занималась хозяйством, уходила на кухню, ей помогали две незнакомые женщины, ее подруги. Раз Лидочка встала из-за стола, чтобы достать носовой платок из своей сумки в прихожей, она увидела Лизу, сидящую на кровати в маленькой комнате. Перед нею лежал тот самый пакет, а рядом его содержимое — большей частью разные бумаги. Лиза рассеянно перебирала листки. Лицо у нее было заплаканное. Лидочке стало неловко подглядывать, и она ушла.
Толик сидел рядом с Лидочкой. Все выпили по рюмке, потом еще по одной и стали закусывать, так как проголодались. В комнате было жарко. И Лидочка представила себе, как Сергей стоял возле этого окна, а Руслан смотрел на него снизу… А ведь это было совсем недавно…
Толик, наверное, угадывал ее мысли.
— Тут что-то странное в отношениях, — сказал он. — Между Дарьей и этим Русланом. Она мне показала, что Руслан ее жених и он хотел поговорить с Сергеем Романовичем об их женитьбе. Вы в это верите?
Так как Лидочка не отвечала, он продолжал, будто получил подтверждение своим мыслям.
— А почему он сам не захотел об этом сказать? И чего он испугался при людях зайти? Испугался, но домой не уехал, а шатался вокруг дачи до темноты. Только для того, чтобы спросить совета? Не верю я им! Дарья его, конечно, выгораживает, каждая девушка своего парня будет выгораживать… А сегодня он вел себя не как жених. Я же больше всего ради этого и приехал — мне надо было посмотреть, как будут себя вести жених и невеста на похоронах маминого друга. А они, обратите внимание, встретились только после похорон. А где этот Руслан был до этого? Почему не пришел попрощаться как человек с человеком? Вроде бы уважал его, ездил к нему советоваться. Эх, мне бы найти пистолет, тогда бы они перестали у меня врать. Как вы думаете?
— Разумеется, — испуганно сказала Лидочка. — Но сейчас, наверное, не время говорить об этом?
— Это я думаю вслух, — сказал милиционер. — В вашем присутствии. Как бы ищу ваших советов. А вы их мне не хотите давать.
— Мне кажется, что Руслан не убивал Сергея.
— Почему? — вопрос громко вырвался у Толика.
Соседи за столом обернулись. Но почти никто не знал, кто этот молодой человек в таком жарком черном костюме.
Лидочка пожала плечами.
В комнату возвратилась Лиза. Глаза у нее были красные. Постепенно гости теряли горестное состояние — водка возвращала всех к жизни, к воспоминаниям. Какой-то человек с длинной черной бородой начал рассказывать, как они с Сергеем лет тридцать назад ходили в поход на байдарках. Следующий оратор ждал своей очереди, чтобы поведать о кандидатской Сергея, за которую следовало бы дать докторскую, но Слонимский ее зарубил из зависти. Кто-то стал защищать давно усопшего Слонимского. Руслан наливал Даше минеральную воду, а та требовала водки.
— Вы ко мне на днях заедете? — спросил Толик. — Поговорить треба.
— Я буду очень занята, — сказала Лидочка.
— Я вас надолго не задержу. Я бы за вами машину послал, но у нас «газик», и он… не дадут его мне в Москву гонять. У нас скандал недавно был: ребята ездили на «газике» в Москву по своим делам, а подполковник у нас резкий, своенравный человек, а так ничего. Он это дело раскрыл. Теперь вам придется на электричке.
— Давайте договоримся, — сказала Лидочка, — я к вам приеду, когда вы что-нибудь раскроете. Чтобы не только я вам рассказывала, но и вы мне.
— А вам есть что мне рассказать? — сразу вцепился в нее капитан.
— Не знаю. — Вокруг смеялись — кто-то рассказал забавную историю, в которой Сергей вел себя храбрецом.
— Эх, мне бы интересно, — сказал Толик, — поговорить с Елизаветой Ивановной. Если бы я был московский, завтра бы ее вызвал. А сейчас надо проявлять деликатность, понимаете, все же у нее потеря.
— Зачем вам нужна Лиза?
— Чтобы она рассказала мне обо всех отношениях. Тут были современные отношения, а я их не понимаю. Может, вы мне расскажете?
Лидочка не стала отвечать — милиционер все равно своего добьется. Но Лидочке не хотелось говорить об отношениях Даши и Сергея. В них был элемент инцеста. Они в самом деле таили в себе взрывчатку… Тогда Руслану не выпутаться.
Наконец Толик сказал, что ему надо уходить, видно, понял, что больше ничего ему не узнать. Но сначала он пошел на кухню договориться с Лизой о допросе. Лидочка воспользовалась этим, чтобы уйти. Ей не хотелось уходить вместе с Толиком.
На следующее утро Лидочка с опаской посматривала на телефон.
Она понимала, что Толик обязательно вспомнит о своем желании поговорить с ней. И настоит на том, чтобы она приехала. И будет выжимать из нее все, что она знает об отношениях этих людей. Но лучше бы он вспомнил о ней спустя несколько дней, чтобы не тащиться по жаре на электричке в проклятую Челушинскую.
Но сначала позвонила Марина Котова. Она была расстроена, оказывается, Анатолий Васильевич уже добрался до нее, поднял с постельки и пригласил к себе на понедельник.
— Я сама виновата, — печалилась она. — Ну что мне стоило промолчать относительно того, что я была в тот вечер у Сережи.
— Он бы обязательно об этом узнал. А может, уже знал, когда говорил с тобой. Не надо его недооценивать. Ему в самом деле хочется распутать это дело. А он маленький упрямый танк.
— А что я должна ему говорить?
— На допросах говорят правду, — ответила Лидочка, — наверное, ты об этом читала.
— Даже редактировала книжку на эту тему, — ответила Марина. — Но мне все равно страшно. Меня еще никогда не вызывали на допрос.
— Не воспринимай Анатолия Васильевича как врага, — сказала Лидочка. — Господи, что я несу!
— А можно умолчать о Даше?
— О Даше?
— Об их романе? Я ведь только читала об этом в рукописи.
— Если только читала, то молчи, — ответила Лидочка. — Впрочем, это твое дело.
Почему-то Лидочка была уверена, что Толик обязательно узнает об отношениях Даши и Сергея. Уж очень много людей знают об этом. И чем дальше они будут таить эту историю от капитана, тем острее он будет чувствовать ложь. Ведь он дал понять Лидочке, что версия с грабителем его не устраивает.
Утро обещало жаркий день, несмотря на редкие дожди, температура все поднималась и поднималась…
Лидочка стояла у окна и соображала, какие дела ей непременно нужно сделать. Профессия вольного художника плоха тем, что дела то идут косяком, не продохнуть, то вдруг все о тебе забывают, и ты живешь, словно в вакууме. Сейчас как раз наступил сумасшедший период, в который смерть Сергея врезалась, как гвоздь в часовой механизм.
«Значит, сначала я еду…»
Ничего она не успела додумать, потому что телефон зазвонил снова.
Этот звонок оказался куда более неожиданным, чем звонок Марины.
Слышно было плохо, и Лидочка не сразу узнала Ольгу, соседку Сергея по даче.
— Лидия Кирилловна, мне с вами поговорить нужно, — сказала Ольга. — У меня есть новости. А Толик сегодня не работает и уехал к брату в Серпухов крышу класть.
— Куда?
— Крышу, говорю, стелить, в Серпухов. А мне надо кое-что сказать!
— А разве нет других следователей?
— Другие люди в милиции есть, но они не поймут. Такое дело, что не поймут. А я вас знаю. И Валентин Дмитриевич уехал на встречу в детский дом.
— Я сейчас очень занята, Оля. Может быть, я приеду на той неделе?
— На той неделе поздно будет. А это очень важно!
— Но ведь сегодня суббота!
— Вот и отдохнете на свежем воздухе. Вы же, наверное, весь день на жаре, даже вредно для организма. — Обычно спокойная, Ольга задыхалась от волнения.
— Ольга, у меня дел по горло!
— Лидия Кирилловна, разве бы я стала вас беспокоить, если бы не особые обстоятельства? Вы даже не представляете.
В конце концов Лидочка капитулировала и снова, как на пытку, как будто в повторяющемся кошмаре, залезла в электричку, на этот раз набитую субботним народом.
Она взяла с собой недочитанный детектив, но почитать в вагоне не удалось, так было тесно и жарко. Хорошо еще, что ехать до Челушинского всего полчаса.
Пока Лидочка добралась до Школьной улицы, уже наступил полдень. Лидочка проклинала себя за то, что не может отказать чужим требованиям. Ну почему она сюда потащилась! Потому что в голосе Ольги звучала тревога? А что она знает об этой Ольге? Может, у нее всегда звучит в голосе тревога? И при чем тут поэт Вересков, уехавший в детский дом?
Ольга стояла у забора и глядела на улицу. Русые волосы были растрепаны, лицо бледное от влажной жары. При виде Лидочки она широко и облегченно улыбнулась.
— Я по расписанию смотрела, — призналась она. — Через десять минут после каждого поезда выхожу глядеть.
— Жарко, дайте чего-нибудь напиться.
— Заходите, — сказала Ольга. — Я чай вскипятила. Еще не остыл.
— Мне бы чего-нибудь ледяного.
— Специально, чтобы потом ангиной заболеть? Ангина в жару — самое гадкое заболевание, Лидия Кирилловна. Давайте я вам сначала полью, умойтесь с дороги. А потом мы с вами чайку на верандочке попьем.
Ольга поплыла к дому.
— А где же наш детский поэт? — спросила ей вслед Лидочка.
— Валентина Дмитриевича на встречу с детдомовцами в Калугу увезли. Утром на черной «Волге» за ним приехали. Честно говоря, это, может, и к лучшему. Потому что вы всех этих людей знаете и можете разобраться, а я не понимаю.
Больше Ольга ничего не сказала. Лидочка умылась. Овчарка ходила за ней из комнаты в комнату и следила, чтобы она не взяла чего хозяйского.
Чай был с вареньем, только что сваренным, клубничные ягоды несказанно благоухали.
— Ольга, — взмолилась Лидочка. — Откройте же мне вашу тайну. Ведь мне было совсем нелегко сюда выбраться…
— Сейчас покажу, — сказала Ольга.
Она ушла с веранды. Стало очень тихо, слышно было, как жужжат осы. Лидочке стало уютно и потянуло в сон.
Вернулась Ольга. Она несла сверток.
В мокрых газетах, намотанных в несколько слоев, лежало нечто, покрытое подсохшей желтой грязью.
— Узнаете? — спросила Ольга.
— Нет.
Ольга колупнула грязь ногтем, и под ней обнаружилась черная блестящая поверхность и краешек стеклянной вставки. Ольга повозила пальцем вокруг, и тут Лидочка сообразила, что видит покрытый грязью портативный транзистор.
— Ничего не понимаю, — сказала Лидочка.
— А я думала, вы сразу сообразите. Я этот приемник на столике у кровати Сергея Романовича видела, — сказала Ольга.
— А почему он такой грязный?
— Не только приемник, — сказала Ольга. — Поглядите.
Из той же кучи грязных газет она вытащила складной будильник — квадратный черный экран, на нем зеленые светящиеся цифры. Было странно видеть, что будильник показывает правильное время, а цифры секунд равномерно меняются.
— Что ему сделается, — сказала Ольга. — Там же электроника.
— Это вы нашли на даче? — домогалась Лидочка.
— Не, не на даче.
— А почему это… здесь?
— Потому я вас и попросила приехать, — сказала Ольга. — Из-за Виктора. Если бы Толик не уехал, я бы ему объяснила, а как этому мордовороту объяснишь?
Для Лидочки этот монолог был загадкой.
И тогда Ольга, вспомнив, что Лидочка не знакома с родственными и соседскими отношениями в поселке, рассказала ей подробнее о появлении в ее доме вещей, принадлежавших Сергею.
Неподалеку жил некий Виктор, трудный подросток. Ольга так и назвала его «трудный подросток» — словно это было его врожденное свойство, он как бы родился трудным подростком.
Виктор был близким знакомым Кати — единственной дочери Ольги. Виктор попался на хулиганских действиях в прошлом году, но так как ему надо было идти осенью в армию, его не стали сажать, как других хулиганов. Впрочем, это было не хулиганство, а всего-навсего взлом коммерческой палатки, после чего взломщики благополучно распили добычу и побили не вовремя вернувшихся владельцев торговой точки. Виктор получил условный срок и потому должен был вести себя образцово, что ему давалось с трудом. Все, кроме Кати, которая питала к нему нежные чувства, не могли дождаться, когда он уйдет в армию и там наберется ума-разума. Вчера вечером этот самый Виктор, возвращаясь домой после кино в санатории, перебирался через глубокую, залитую водой траншею — там укладывали какие-то трубы, в траншее он заметил край пестрой тряпки. Это заинтересовало подростка, который никуда не спешил, а потому не поленился вернуться в лес за суком и подцепил тряпку. Тряпка оказалась пледом или небольшим одеялом. Когда он вытащил ее на сухое место, то обнаружил, что плед первоначально был завязан в узел, но развязался и часть содержимого, видно, утонула в грязи. Однако остались две вещи — приемник и будильник. Виктор сначала хотел их продать, но потом вспомнил, что Анатолий Васильевич вызывал его по поводу смерти мужика из пятого дома по Школьной и допытывался, не слышал ли он что-нибудь о краже или убийстве. Виктор даже не обиделся, потому что уже привык — как в поселке что случается, вызывают первым делом его.
В общем, он вещи в милицию не понес и не стал их продавать, а отдал Катьке: домой нельзя, мать помрет со страха, что он снова ворует. А пойдешь в милицию — как потом докажешь, что это не твоих рук дело.
Катька перепугалась, она же еще цыпленок, ей шестнадцати нет. И позвала Ольгу. Та тоже перепугалась. Правда, Виктору поверила и сама пошла в милицию на разведку. Но Толика Голицына не застала, он уехал брату крышу крыть, а был в отделении Верчихин, мордоворот, который Виктора уже как-то исколотил за мелкую провинность полгода назад. Верчихина все боятся. Он очень подлый. Тогда Ольга решила, что надо с кем-то посоветоваться. Хотела с Вересковым, но он уехал на встречу в детдом. Осталась только Лидия Кирилловна.
Лидочка была в растерянности. Она никак не могла сообразить, почему потребовалось вызывать ее из Москвы.
— Вы хотели со мной посоветоваться? — неуверенно спросила она.
Ольга сидела за столом напротив, подливала Лидочке чай. Она была похожа на королеву Марию-Антуанетту, которая, как и ее благородные предки, много и хорошо питалась, радовалась жизни, но тут нежданно нагрянула Французская революция. На самом-то деле Ольга была королевой в первом поколении.
Когда-то природа запрограммировала предков Ольги на каждодневный изнурительный труд на земле. Предки рождались, жили и умирали, не обретя ни грамма жира. А потом народилось революционное поколение, которое бросило деревню и переселилось в города или пригороды. Лет до двадцати, а то и тридцати дети крестьян умещались в молодежных платьях. А потом, особенно после рождения единственного чада и перехода в длительный декретный отпуск, здоровый, крепкий жир брал свое. И они присоединялись к обширной армии толстых женщин, детей пролетариата, в которых и не угадаешь трудового происхождения. А вот Ольгина дочь Катюша была сказочно хороша еще потому, что, не дотянув до шестнадцати, обрела женственность линий, высокую грудь и круглые бедра, так как ее предки выходили замуж в пятнадцать, а к двадцати уже рожали своего третьего-четвертого. Правда, Катюша, понимала Лидочка, может и не стать такой же, как мама, — она будет следить за фигурой, делать гимнастику и употреблять гербалайф. Так что Катя выросла сиреной, сиреночкой, чистой воды соблазном, который себе цены еще не знает и может даже влюбиться в трудного подростка Виктора.
Как бы в ответ на размышления Лидочки, хлопнув дверью, в дом влетела сиреночка Катя, пес радостно залаял и принялся молотить хвостом по мебели.
— Вы правильно сделали, что приехали! — вместо приветствия заявила Катя. — А то мама совсем растерялась.
Ольга налила дочке чаю, размышляя вслух:
— Вообще-то я придумала отнести все в милицию и сказать, что шла из санатория и увидела одеяло.
— Но почему нельзя сказать, что все нашел Виктор? Милиция будет ему благодарна…
— Как бы не так! — возмутилась Катя. — Да мордоворот спит и видит, как Витьку в лагерь засадить.
— Катя, так нельзя о взрослых говорить!
— Может, подождем до понедельника? — предложила Лидочка. — Приедет Анатолий Васильевич, и мы ему расскажем.
Внезапно Лидочка сообразила, как тревожно все оборачивается… Если грабитель спокойно отошел от дома на триста метров и затем выбросил свою добычу в траншею, значит, он не нуждался в этой добыче. Имитация кражи была призвана запутать действие.
Катя допила чай, отставила чашку и сказала:
— Ждать до понедельника невозможно.
Из ее глаз выкатились две жемчужные слезы и покатились по персиковым щекам.
Лидочка поглядела на ее мать.
— Ждать нельзя, — подтвердила Ольга. — Потому что моя дура вчера же вечером Виктору про пистолет рассказала.
— Что?
— Я не зна-а-ал-а…
— Она, видите ли, не знала! — Ольга была в ярости. — Услышала наш с Толиком разговор, что пистолет не нашли… ну кто тебя просил этому уголовнику все выкладывать?
— Он не уголовник! Он все нам принес.
— Катя, он тебе не пара!
— Да объясните же, пожалуйста! — попросила Лидочка.
— Витька обязательно к траншее вернется, будет искать пистолет. Может, не сейчас, а попозже, вечером, но вернется. Как он тебе, Катерина, сказал?
— Он обещал, что Владимиру расскажет.
От расстройства Катя говорила хриплым басом.
— Владимир — старший брат Виктора, — разъяснила Ольга, — фактически настоящий уголовник. Тюрьма по нему плачет.
— Я его ненавижу, — пояснила Катя.
— Положение безвыходное, — сказала Ольга. — Чаю еще налить?
— Они темноты дождутся и полезут, — сказала Катя, — я вам слово даю.
— Я пойду в милицию, — сказала Ольга. И в ее утверждении заключался небольшой вопросительный знак.
— А что вас беспокоит, Ольга? — спросила Лидочка.
— Если я принесу вещи, мордоворот все сделает, чтобы нам насолить.
— Почему же?
Ольга молчала, перебирая пальцами край скатерти.
— Мама за него замуж не пошла, — сказала Катька. — Он ей всю жизнь мстит. Как цыган Алеко. Как только мама скажет, он сразу сообразит, что это Виктор виноват.
— Почему? Почему именно Виктор?
— Я его знаю, — вздохнула Ольга, соглашаясь с дочерью. — Он решит, что это Виктор, а я его выгораживаю ради Катьки.
— Ну уж очень сложно…
— Нет, не сложно, у нас все не сложно, — сказала Катька.
— И что же вы предлагаете? — спросила Лидочка. Ей не хотелось лжесвидетельствовать, но все шло к этому.
— А может, вы скажете? — спросила Катька. — Вы приехали сюда, шли через траншею и увидели. Вы же Витьку даже не знаете.
— С какой стати мне идти через лес и через траншею? — удивилась Лидочка. — И вообще, что мне делать здесь в субботний день?
— Это неудивительно, — рассудительно ответила Ольга. — Вы к своим друзьям приехали и решили ко мне зайти, спросить, что у нас нового. Да не будет он допрашивать! Он вас уважает.
— А через лес вы шли потому, что короче, — подсказала Катька.
Лидочка выпила еще чашку чаю. Собака положила ей на колени тяжелую слюнявую морду.
— Судьба Виктора у вас в руках, — сказала Ольга.
— И моя проблема, — пробасила сирена Катя.
Ольга осталась снаружи, в теньке у магазина, откуда было удобно наблюдать за входом в милицию, а Лидочка прижала к себе газетный сверток и шагнула внутрь.
Милиция располагалась на первом этаже стандартного девятиэтажного дома, у входа стояли два «газика» и серая «Волга». Пожилой усатый милиционер курил в дверях. Он посторонился, пропуская Лидочку, но сделал это через силу, так как находился во власти полуденной истомы.
За барьером сидел дежурный. Он был похож на комсомольского ангела, правда, чуть потрепанного, с мешками под глазами.
При виде Лидочки он провел рукой по пшеничным волосам, показал золотые зубы. Алый румянец расплылся по крутым скулам.
— Что за проблемы, гражданочка? — спросил он мужественно и кокетливо.
Вот он каков, наш враг мордоворот Верчихин!
— У меня к вам сообщение, — сказала Лидочка. — Мне кажется, что отыскались важные улики по делу об убийстве Спольникова.
— Как же, — еще шире улыбнулся мордоворот, — это дело Анатолий ведет. А где у нас Анатолий?
Он раскрыл густо исписанную амбарную книгу и повел пальцем по странице, но вошедший следом за Лидочкой усатый милиционер испортил пантомиму. Он хмыкнул и сказал:
— А ты не знаешь, что Голицын выходной?
— Правильно, — сказал мордоворот, словно радуясь, как все хорошо разрешилось. — Нет сегодня товарища Голицына. В понедельник приходите, с утра. Он с утра выходит?
— С утра, — ответил усатый милиционер.
Зазвонил телефон, и Верчихин взял трубку. Лидочка терпеливо ждала, пока он подробно обсуждал с кем-то проблему ларька, который вчера сожгли у Мамонтовки. Было душно, жужжали мухи.
— Вы садитесь, — сказал усатый милиционер.
— Спасибо, я постою, — сказала Лидочка.
— Голицына сегодня точно нет, — сказал милиционер. Лидочка кивнула. Верчихин кончил разговаривать.
— Я же сказал, — произнес он вежливо, но нагло. — Идите, отдыхайте, в понедельник мы вас ждем.
— Я не могу уйти, — сказала Лидочка, — потому что могут пропасть важные улики. Я не могу брать на себя такую ответственность. Вы меня не хотите даже выслушать?
Верчихин поглядел на нее, и глаза у него стали бешеными, холодными, как будто он сейчас вскочит на стол и начнет отплясывать на нем «Яблочко».
Верчихин принялся писать. Он был большим начальником, который не мог отвлекаться на мелочи.
Лидочка повысила голос:
— Неужели вы думаете, что я пришла к вам от нечего делать?
Верчихин кивнул, не прекращая писать.
— Но вам это неинтересно?
— Интересно, интересно, — ответил Верчихин.
— Часть этих вещей я принесла сюда.
Так как мордоворот не изъявил желания на них посмотреть, Лидочка развернула на деревянном барьере газетный сверток и осторожно показала дежурному желтые под слоем грязи транзистор и будильник.
— Заверните, — брезгливо сказал мордоворот, не поднимая глаз. Верчихин привык иметь дело с людьми, от него зависящими и потому заранее испуганными.
— Где ваш начальник? — спросила Лидочка.
— Я здесь начальник, — сказал мордоворот.
Правильно Ольга сделала, что его бросила! Нельзя быть такой самоуверенной дубиной.
Жара, наполнявшая дежурку, была такой густой, что Лидочка физически ощущала, как накаляется мордоворот, бесясь от упрямства этой дачницы. Не любит он дачниц, не выносит.
— Товарищ милиционер, — Лидочка обернулась к усатому, — позовите, пожалуйста, начальника отделения.
— А его нет, — виновато ответил милиционер.
— Ну кто у вас старший офицер?
— Вот, — сказал милиционер, — старший лейтенант Верчихин.
— Тогда разрешите мне позвонить в Москву, — сказала Лидочка.
— Зачем? — осведомился мордоворот.
— Дайте мне телефон вашего московского начальника, — сказала Лидочка. — Я поговорю с ним!
— Я вам, гражданочка, открою страшную тайну, — улыбнулся Верчихин. — Все наше начальство находится на дачах, на отдыхе, ловит рыбку. Так что не надо беспокоить людей, они в трусиках.
И Верчихин засмеялся легким, воздушным, ядовитым смехом. Лидочка стала быстро заворачивать в газету Ольгины находки, чтобы скорее уйти подальше от человека, который может так смеяться.
— Хорошо, — сказала она, — я позвоню в Москву из автомата, но учтите, я этого так не оставлю. Я пришла к вам не ради собственного удовольствия, а желая помочь следствию. Я сегодня буду в Москве и расскажу все на самом высоком уровне.
Лидочка поймала себя на том, что говорит с милиционером суконным языком.
А Верчихин продолжал улыбаться светло и широко. Он не говорил ни слова. Даже не двигался.
— Хорошо, — продолжала Лидочка, — я последний раз прошу вас пойти со мной или послать вашего милиционера, чтобы помог мне достать вещественные доказательства.
— В понедельник, — сказал Верчихин.
Лидочка завернула улики в газету, руки у нее тряслись от бешенства.
Ей хотелось ударить милиционера, но до него не дотянуться, а он продолжает вежливо улыбаться.
— Молодец Оля, — сказала Лидочка, — правильно сделала, что бросила такого!
С этими мстительными словами она покинула отделение милиции, а Верчихин, вернее всего, не понял, что она имела в виду. Так что Лидочкин выстрел пропал даром.
Выйдя под ослепительное солнце, она зажмурилась. Жаркий воздух улицы показался ей свежим, словно она вышла из тюрьмы на волю. Где же Ольга?
Лидочка махнула рукой, предлагая Ольге следовать за ней, и пошла к дому, не дожидаясь ее.
Ольга быстро догнала Лидочку.
— Ну что, он придет?
— Он никуда не придет. Он не желает поднять свой зад. И я ему не понравилась.
— Вот именно, — вовсе не удивилась Ольга. — Теперь вы понимаете, почему я отрицала его ухаживания? Он и Толику завидует. Только я так надеялась, что он с вами не посмеет!
— Я сейчас же еду в Москву! — сказала Лидочка. — Я им там все покажу. Они обязаны будут послать сюда людей.
— Ой, не знаю, — сказала Ольга. — Боюсь, что тогда случится трагедия.
— Почему?
— Сегодня суббота. Ну, приедете вы туда уже после обеда. Начнете доказывать, объяснять. Даже если вы найдете человека, который вам поверит и согласится послать сюда машину или хотя бы позвонит сюда, будет уже вечер… Вернее всего, вам все будут говорить, что надо подождать до понедельника. Ведь все же отдыхают на дачах!
— Но нельзя же оставить все без охраны! Ваш Виктор вытащит видео и пистолет.
Лидочка уже верила и в видео, и в пистолет.
— Давайте мы сами все вытащим из траншеи, — предложила Ольга. — Раз уж так получилось. — Верчихину вы все сказали. Ведь парень под суд пойдет.
— С чего вы решили, что он обязательно полезет за пистолетом?
— Брат его заставит, — уверенно ответила Ольга.
Глава 7
К траншее подошли втроем: Ольга, Лидочка и Катя, которая несла хозяйственную сумку для возможной добычи.
Лидочка была в Катином купальном костюме. Костюм был ей мал, жал в груди. Сверху она накинула Ольгин халат, который, наоборот, был страшно велик.
— Если воду в траншее не бурлить, — сказала Катя, — то она вполне пристойная, чтобы в ней купаться. В такую жару куда деваться? Вот мы вроде и пошли купаться, правда?
— Все равно, если кто-то увидит, хохоту будет до самой Москвы, — сказала Лидочка, которая чувствовала себя полной идиоткой, ввязавшись в эту историю.
— Ничего особенного, — сказала Катя, которая смотрела телевизор и была в курсе модных увлечений. — У нас с вами такой хеппенинд.
— Что?
— Это английское занятие. Люди собираются, словно что-то случилось. А что случилось — все равно до лампочки. Вот и у нас будет хеппенинд в траншее.
Они пересекли лесополосу, отделявшую путепровод от шоссе. Перед ними тянулась широкая полоса по-разному раскопанной земли. Кое-где были вырыты траншеи, так и не просохшие после дождей, кое-где были полузасыпанные ямы, между ними лежали штабеля широчайших, в человеческий рост, труб и труб потоньше, оставленных строителями бетонных плит, котлов и пришедших в негодность машин — создавалось впечатление, что строители страшно устали класть новые трубы, а устав, плюнули на все и отправились отдыхать, ничуть не заботясь, что строительство не завершено.
— Как операция у чукчи, — сказала Катя, угадав Лидочкины мысли.
— А что случилось с чукчей? — спросила Оля. Она была в голубом платье и разношенных лодочках на босу ногу.
— Он операцию делал, а потом кинул скальпель и говорит: «Опять не получилось».
— Моя мама — гуманистка, — сказала Катя, — все по ней должно быть правильно, но в столкновении с правдой жизни она всегда страдает.
— А ты циник? — удивилась Лидочка.
— Как вы угадали? — спросила Катя. — Многие не догадываются. Я отличница и никогда не спорю с учителями.
Вокруг стояла пустынная субботняя жара. Никто по доброй воле не пошел бы гулять на строительную площадку. Дачники ходили дальше, на пруд в санаторском лесу или уезжали на водохранилище.
За траншеями и ямами, наполненными желтой водой, стеной стоял лес, на вид совершенно девственный, на самом же деле служивший парком кардиологическому санаторию.
Через него можно было срезать дорогу к станции, но немного. Лидочка поглядела, где можно пройти. На случай, если в милиции спросят.
Выйдя к траншеям, они остановились в растерянности. Потому что Ольга не сообразила спросить у Виктора, из какой траншеи он вытянул узел с уликами. Но не искать же его и не ждать темноты, когда Виктор приведет сюда непутевого брата, чтобы поживиться. Разделись.
Лидочка пошла налево, Ольга с дочкой — направо. Солнце жгло немилосердно. Пользуясь тем, что никто не смотрит, Лидочка сбросила необъятный халат и повесила его через плечо. Сначала стало прохладнее, но тут же горячие лучи добрались до кожи.
Лидочка остановилась над траншеей, вырытой в желтой глине. Ширина ее достигала метров трех, а местами была больше из-за оплывших и осыпавшихся стенок. В длину же она была почти бесконечна. На несколько метров вокруг трава была срезана так, что, еще не дойдя до траншеи, Лидочка испачкала туфли желтым порошком. Хорошо еще, что давно не было дождей и глина вокруг траншеи была сухой.
Вода, которая неподвижно стояла в траншее, казалась темной и чистой, Лидочка подняла камешек и кинула его в траншею. Камешек взбаламутил воду, навстречу из глубины поднялись желтые протуберанцы, и вода в траншее постепенно пожелтела.
Справа закричала Катя:
— Идите сюда, сюда! Я нашла плед!
Страшно было называть пледом большую, желтую, непросохшую толком тряпку, свисающую с отвала в воду.
Им повезло — они уже стояли на пороге тайны. И раз милиция не хочет разгадывать преступление, три слабые женщины возьмут это на себя.
Правда, лезть в траншею, предчувствуя, какая грязная и даже липкая жижа ждет там, не хотелось.
Лидочка не спеша разулась, ожидая, что сейчас Ольга или Катя скажут ей: «Не стоит, Лидия Кирилловна, мы все сами сделаем!» Ведь не ей, а им так важно уберечь от неприятностей трудного подростка Виктора!
— Ольга, — сказала Лидочка. — Может, все-таки вы поищете?
Ольга была готова к такой просьбе и быстро ответила:
— Весь поселок будет смеяться, если я в грязь полезу. Мне тогда здесь не жить. А на мне же библиотека — центр культурной жизни!
— В самом деле, вы же представляете, Лидия Кирилловна, — сказала Катя. — У нас с мамой есть только доброе имя.
Большие сиреневые глаза Кати были холодны, как ледниковые озера. И Виктора не спасет, и маму не даст в обиду.
— А я — городская, — обреченно сказала Лидочка. И если она хотела, чтобы в ее словах прозвучала ирония, то ее никто не заметил.
— Вы хотите нам с мамой помочь? — спросила Катя. — Тогда помогайте скорей.
«И в самом деле, — подумала Лидочка, — я здесь пришлое существо — никто не смог бы заставить меня совершать идиотские поступки без моего согласия. И если я решила помогать чужим людям, то почему надо останавливаться на середине? Почему? По крайней мере, я не простужусь — сейчас температура воздуха под тридцать, и, наверное, многие мечтают выкупаться. Вы мечтаете, а я сейчас нырну».
Уловив ее отважное движение, Катя вдруг крикнула:
— Волосы не намочите!
Лидочка и не собиралась нырять вниз головой. Она посмотрела по сторонам — кроме Ольги и ее дочери, никого в пределах видимости не было.
Лидочка села на край траншеи и, тормозя ладошками, постаралась элегантно соскользнуть в траншею, словно нимфа в озеро.
Желтая глина оказалась недостаточно плотной, чтобы удержать ее. Увеличивая скорость, Лидочка поехала по крутому склону и громко взвизгнула — это случилось непроизвольно.
Вода, такая прохладная и даже нежная на ощупь, послушно раздалась, впуская в себя Лидочку, и взлетела вверх желтыми фонтанными струями.
Сверху взвизгнули Ольга и ее дочка, потому что им на мгновение почудилось, что они никогда больше не увидят Лидию Кирилловну.
Траншея оказалась глубже, чем Лидочка рассчитывала, но, к счастью, наполнена водой наполовину — метра на полтора. Дно ее было покрыто толстым слоем нежного желтого ила. Падение Лидочки подняло вверх всю жижу со дна, и вода тут же превратилась в желтый бульон.
Сначала Лидочка окунулась с головой, затем распрямилась, и ее охватило восхитительное чувство купальщика в жаркий день — чувство облегчения, мгновенного очищения тела от пота и скверны знойного дня.
Лидочка помотала головой, жалея, что не взяла с собой купальной шапочки. Она стояла на мягком дне траншеи, ступни утопали в мягком теплом иле. Откинув голову, Лидочка пригладила ладонями волосы, чтобы стряхнуть с них воду.
Себя не видишь — поэтому Лидочка посмотрела на своих спутниц, глядевших на нее с берега. Честное полное лицо Ольги изображало неприкрытый ужас, а Катины брови уехали к линии волос — она была вовсе удивлена.
— Ой! — сказала Ольга.
— Ни один враг, — сообщила Катя, — ни один друг не узнает вас, тетя Лида, в этой маскировке. Жалко, что зеркало не взяла.
— Помолчи, — оборвала ее Ольга. — Человек из-за нас в грязь полез, а ты позволяешь себе смеяться.
— Как над малым народом чукчами! — вспомнила Катя и захохотала.
Лидочку охватил гнев, и если бы траншея не была столь глубока, она, наверное, выбралась бы сейчас наружу и закатила издевательнице подзатыльник. Сейчас же она ограничилась неосознанным движением вперед к откосу траншеи, чтобы дотянуться до босой ноги Катьки и стянуть подлую девицу в страшную глубь!
Катька отскочила, продолжая смеяться.
Лидочка подняла руку, рука была умеренно желтой и умеренно грязной, и мутная вода, стекая с нее, оставила следы, какие оставляет селевой поток на зеленых альпийских лугах.
Лидочка потянула себя за прядь волос и поглядела на конец пряди — волосы пострадали больше, чем кожа: желтая краска густо покрывала их.
— Хватит, — сказала Лидочка голосом христианского мученика, уже вышедшего на арену, который обращается к замешкавшимся единоверцам. — Не будем терять времени. Мне не хочется, чтобы сюда сбежались дачники посмотреть, как мы принимаем грязевые ванны.
— Надо было грабли взять, — сказала Ольга. Она встала между Лидочкой и солнцем, отчего снизу казалась гигантской фигурой, вырезанной из черного картона и окруженной сиянием.
— Тетя Лида, ногами возите, — воскликнула Катя. — Ходите и ногами возите! Как наткнетесь на твердое, ныряйте, а просто так не ныряйте!
Лидочка, не отрывая ног от дна, пошла поперек траншеи и через два шага, не дотянувшись до противоположной стены, ударилась пальцами ноги обо что-то твердое так, что ушибла пальцы. Она наклонилась, чтобы потереть ушибленное место, но головой ушла под воду. Выскочив из воды, Лидочка принялась вытряхивать воду из ушей.
— Нашла? — радостно закричала откуда-то сверху Ольга.
В конце концов, если ты уже перемазалась, терять нечего.
Лидочка зажмурилась и присела в траншее. Пальцы нащупали какую-то палку. Рука с палкой осталась под водой.
Лидочка хотела показать Ольге и Кате свою первую добычу, но тут она обнаружила, что на краю траншеи ни Ольги, ни Катьки нет.
— Оля, — крикнула она.
— Слиняла твоя Оля, — ответил мужской голос.
К краю траншеи согласно шагнули два парня: подросток и взрослый, похожий на первого, но с более грубыми чертами лица. И Лидочка сразу поняла, что их выследили братья Виктор и Владимир.
Так вот ради кого она пожертвовала своими чудными волосами, ради кого она копошится в грязи!
— Ты чего? — спросил тот, что постарше. — Давай, ныряй, ищи, нам вещи нужны! Лезь, желтая вошь!
Странно, но, видно, молодые люди первоначально собирались на вернисаж или на танцы, иначе трудно объяснить, почему оба были облачены в костюмы и белые сорочки, правда, без галстуков.
Братья заливались смехом, но добраться до Лидочки не могли. Впрочем, и Лидочка была беспомощна. Лидочка поняла, что братья собирались обследовать содержимое траншеи попозже, когда стемнеет и не будет опасности встретить ненужных свидетелей, но тут проведали, что женщины пошли к траншее сами — поселок невелик и прослушивается насквозь. Разумеется, они осерчали и кинулись туда, но, будучи существами недалекими, поспешили. Что бы им дождаться, пока Лидочка обшарит дно и все найдет, а потом спокойно все отобрать.
— Ищи! — кричал трудный подросток Виктор. И что только Катька нашла в этом прыщавом создании с жирными пшеничными волосами и подбритым затылком?
— Давай, а то сделаю, — Владимир рассказал Лидочке, что намеревается с ней сделать, и это ее так рассердило, что она привела в исполнение мгновенно созревший план.
Она вытащила из воды палку, липкий, скользкий толстый сук, и занесла его над водой. Владимир решил, что она хочет его ударить, но не может достать. И еще более развеселился. Лидочка изо всех сил ударила суком по воде с таким расчетом, чтобы брызги накрыли обоих парней.
План удался даже лучше, чем она ожидала.
Более всего братьев можно было сравнить с двумя ягуарами: желтые пятна и потеки на черных костюмах светились как на арене цирка.
Виктор и Владимир отпрянули от траншеи, но было поздно.
Лидочка видела, как они, матерясь, старались оттереть с костюмов, волос и рук желтые потеки, но лишь размазывали грязь. Они готовы были плакать, и их ненависть к Лидочке была столь велика, что сильный Владимир схватил с земли кусок бетона весом в несколько десятков килограммов и метнул его в траншею, целясь в свою обидчицу, ни о чем другом его разнузданная натура и думать не могла.
Громадный столб желтой жижи поднялся над траншеей и целиком накрыл Лидочку. Братья-разбойники еще более промокли. Владимир кинулся было искать новый метательный снаряд, но его остановил высокий, резкий голос.
Детский поэт Валентин Дмитриевич стоял на краю траншеи, метрах в десяти от них. В руках у него был фотоаппарат «Полароид».
— Стоять! — приказал Вересков. — Я вас запечатлел, хулиган и убийца!
— Я до тебя, падла, доберусь. — Пятнистый Владимир переключил гнев на пожилого поэта, а появившаяся в поле зрения Лидочки Катька схватила кусок глины и ловко метнула его, угодив Виктору в лоб. Виктор плачущим голосом закричал:
— Ты что, Катька, озверела, что ли? У меня же завтра синяк будет!
— Сейчас еще один поставлю! — Катька уже подняла следующий кусок глины. — Вы с братцем готовы убить беззащитную женщину, которая спасает тебя же, дурня, от тюрьмы!
— Убью! — закричал Владимир, но не двинулся с места.
— Слушай, Владимир, — громко произнесла Ольга, — по тебе в самом деле лагерь плачет. Ты сейчас на глазах у свидетелей хотел убить знаменитую женщину, лауреата Лидию Кирилловну. Твои преступные действия зафиксировал товарищ Вересков. И завтра этот снимок в случае чего ляжет на стол начальника милиции. Твой брат и соучастник тоже пойдет по этому делу. Так что лучше вам, негодяи, убираться туда, откуда пришли. Ясно?
Владимир молчал, лишь губы его безмолвно перебрасывали через траншею непристойные фразы. А братишка Виктор выкрикнул:
— Куда мы пойдем, тетя Оля, если у нас костюмы испорчены? Мы же на поминки по тете Нюре собрались в Мамонтовку.
— Ой! — удивилась Ольга. — Да что ты говоришь! Неужели Анну Григорьевну уже похоронили?
— Сегодня утром схоронили. А сейчас на поминки едем.
— А я-то, глупая, думала, что завтра хоронят. И все из-за тебя, паразит! Ты меня с вечера отвлекал своими визитами. Ты почему вчера не сказал про похороны?
— А вы не спрашивали, тетя Оля, — ответил Виктор.
Лидочке, которая стояла по шею в желтой воде под ногами у беседующих, этот разговор представлялся отрепетированным диалогом из пьесы абсурда. Тем более что все о ней забыли. Катька — потому что слушала маму, а Вересков полагал нетактичным прерывать чужие разговоры.
— Пошли, Витька, — приказал Владимир, который до этого молча счищал носовым платком с пиджака большое желтое пятно, все глубже втирая его в ткань.
Витька послушно пошел прочь за старшим братом. Они не оборачивались. «Какое счастье, — подумала Лидочка, — что траншея такая широкая и глубокая, иначе они в гневе сиганули бы в нее».
— Так их и видали на поминках, — трезво предположила Катька. — Адью — прощай шикарная жизнь.
— Помолчала бы, — оборвала ее мать. Но голос матери был встревоженным. Она подошла к краю траншеи и посмотрела вниз: — Вы простите, Лида, что вас бросили. Мы увидели в леске Валентина Дмитриевича, какое счастье, что он вернулся, и решили, что нам свидетель нужен, настоящий свидетель, солидный, не то что мы с Катькой.
— Свидетель чего? — не удержалась Лидочка.
— Свидетель того, как они над вами измывались, — ответила Катька, почувствовав, что мать замялась с ответом. — Прежде чем в грязи утопить.
— Катя!
— Шестнадцатый год Катя!
Валентин Дмитриевич подошел близко к краю, и Ольге с трудом удалось в последний момент ухватить его за талию и оттащить на безопасное расстояние от траншеи.
— Простите, — сказал он. — А если не секрет, могу ли я узнать, чем занимается Лидия Кирилловна?
— Лида что-то обронила, — сказала Ольга. — И мы ведем поиски.
Лидочка почувствовала, что отныне они с Ольгой на «ты». Общие испытания, как ничто другое, сближают людей.
— Простите? — Валентин Дмитриевич был вполне земным и трезвым человеком. — Верится с трудом.
Поскольку Ольга ничего не ответила, а Катя даже отошла в сторону, он добавил:
— Ваши… раскопки имеют отношение к несчастному случаю с Сергеем Романовичем?
— Как хорошо, что вы вернулись так рано, — сказала Ольга. — И с фотоаппаратом. Может быть, ваш фотоаппарат спас кому-то из нас жизнь.
Поэт понял, что больше ничего ему не скажут, и сам переменил тему:
— Здесь так красиво цветут ромашки… на краю леса. Я хотел их сфотографировать для моей жены. Вот и забрел сюда. Вам помочь вылезти?
— Нет, — сказала Лидочка, — я еще немного здесь побуду.
— А разве вода не холодная?
— Вода хорошая, теплая, хоть и прохладная, — светски ответила Лидочка.
— Значит, вы без меня дальше справитесь?
— Постараемся, — сказала Лидочка. — Спасибо за помощь.
— Спасибо за помощь, — повторила Ольга. — Вы не обижайтесь, что мы пока ничего не рассказываем. Мы сейчас совершаем… как это сказать?
— Мы совершаем противоправные действия, — ответило из траншеи желтое чудовище, в котором по голосу можно было угадать Лидочку. — И нам не хотелось вас впутывать.
— Хорошо, — согласился поэт. — Тогда, может быть, вы мне подскажете, кому сдать фотографию, на которой молодой человек кидает в Лидию Кирилловну кусок бетона?
— Давайте мне, — сказала Ольга. — Спасибо. Жалко, что мелко получилось.
Вересков с неохотой ушел. Ему так хотелось помочь женщинам. Но в нем не нуждались. А настоящий мужчина всегда уходит, если чувствует, что в нем не нуждаются.
— Вряд ли эта фотография тебе поможет, мама, — сказала Катька, заглядывая матери через плечо. — На этом снимке Фархад строит плотину.
— Кто?
— Это узбекский такой герой, ты мне в детстве книжку читала. Он плотины возводил, а Ширин его любила за это. Забыла?
— Прекращаем дискуссию, — сказала Лидочка. — Я замерзаю.
— Да что вы! — удивилась Катька. — Жарко, как в печке.
— А я в тени, — ответила Лидочка. Ей не хотелось и дальше нащупывать добычу босыми ногами. Так можно остаться без пальцев. Найденный на дне траншеи сук Лидочке пригодился.
Лидочка продолжала охоту за сокровищами.
Теперь ей было все равно — красива ли она или при виде ее дети зажмурятся от ужаса.
Лидочка медленно вела суком по дну, затем делала маленький шаг и завершала поиски ступней. Дело двигалось медленно. Лидочка приближалась к дальней стенке траншеи, затем, дойдя до нее, поворачивала и шла обратно.
Ольга и Катя стояли на краю траншеи и давали советы.
Солнце светило им в спины.
С каждым шагом раствор, наполнявший траншею, становился все гуще. Лидочке уже казалось, что даже двигаться в жиже тяжко, словно угодила в трясину.
Лидочка упрямо направилась пересекать траншею, на этот раз чуть правее.
И тут нога наткнулась на что-то твердое. Она замерла, лишь пальцы двигались под водой, ощупывая ящичек.
— Что-то есть? — спросила Катька. Она умирала от нетерпения.
— Не знаю, боюсь сглазить.
Лидочка зажмурилась и присела. Жижа, как вода Мертвого моря, норовила вытолкнуть ее наверх.
Плоский ящичек, хоть и увяз в глине, легко поддался.
Лидочка подняла его и выпрямилась. Но она не сразу смогла открыть глаза, потому что ресницы ее слиплись от глины.
Чтобы протереть глаза, надо было выпустить ящичек — что же делать? И тут сверху прогремел голос Ольги:
— Давай сюда, я подержу.
Лидочка потянула руки с ящиком вверх, в направлении голоса.
— Это видео, — сообщила Ольга. — Сейчас возьму.
И тут Лидочка почувствовала значительное движение воздуха, словно рядом пронесся грузовик. Тут же ее отбросило в сторону, мимо пронеслось некое тяжелое тело и с оглушительным плеском, под двуголосый женский вопль рухнуло в воду. Лидочка выпустила из рук видео и чуть не захлебнулась.
К счастью, она сразу пришла в себя и, протерев кулаками глаза, увидела нечто ужасное.
В траншее, совсем рядом, медленно поворачивалось желтое чудовище, похожее на мумми-тролля. Одного взгляда на кричащую, мечущуюся по краю траншеи Катьку было достаточно, чтобы понять: ребенок остался сиротой.
— Ольга! — воззвала Лидочка. — Немедленно приди в себя! Я в этой траншее бултыхаюсь уже полчаса и еще жива. Ты и минуты не просидела, а уже переживаешь.
Ольга тяжело дышала, не слушая Лидочку.
— Протри глаза, — приказала Лидочка. — Представь, что ты моешь голову. Главное, чтобы мыло в глаза не попало.
— Мама будет жить? — спросила Катька. К ней возвращался детский цинизм.
— Не валяй дурака, — оборвала ее Лидочка. — Твоей маме ничего не угрожает. Мы принимаем грязевые ванны. Она еще не привыкла, а я уже освоилась.
— Не смейся над матерью, — включилась в беседу Ольга, которая немного протерла глаза и разлепила веки.
— Давай я тебя подсажу, — сказала Лидочка. — Вылезай.
— Не надо, — великодушно заявила Ольга. — Раз уж я вляпалась, то буду с тобой вместе искать.
Угодив в воду и потеряв пристойный облик, Ольга преобразилась. В ней проснулся командир и даже вождь. Она не давала Лидочке пасть духом и проявить слабость. Она двигалась зигзагами через траншею, словно броненосец, бесстрашно бороздя ногами дно, тем более что она была обута и не боялась железок и гвоздей.
Лидочка же топталась на месте, отыскивая брошенный аппарат. Казалось, куда деться ящику, должен опуститься к ногам Лидочки, но лишь минут через пять Лидочка нащупала его в метре от точки, где он ушел в желтую воду.
Никогда Лидочка не подозревала, что может испытывать такое всепоглощающее счастье, как в момент этой находки.
— Катя! — вскричала она, вздымая видик к солнцу. — Я его нашла, только, умоляю, не падай в траншею.
— Вас понял! — ответила Катя. — Приступаю к исполнению.
Она присела на корточки и приняла добычу.
— До чего вы его довели, Лидия Кирилловна, — сказала она с упреком. — Сколько же раз можно кидать в воду ценную электронику?
— А что еще мы ищем? — спросила Ольга. — Больше вроде искать нечего?
— Мама, ты заблуждаешься, — сказала Катька. — А вдруг мы найдем пистолет? Ведь ты больше всего боялась, как бы Витька его не отыскал, правда?
— Неужели ты думаешь, что он лежит в луже? — спросила Лидочка. — Это было бы наивно со стороны преступника.
— Не более наивно, чем разбрасывать по ямам ценную японскую видеоаппаратуру, — заметила Катька.
Что-то твердое лежало как раз под пяткой и мешало Лидочке стоять.
— Погодите, — сказала Лидочка.
Она нырнула и нащупала плоский металлический предмет.
Выпрямившись и отфыркиваясь, Лидочка почистила его, бок блеснул.
— Пистолет! — закричала Катька, напугав гулявших вдали с собакой дачников.
— Нет, — сказала ее мать. — Быть того не может. — Наверное, она только себя считала способной находить в грязи пистолеты.
— Может, может, — подтвердила Лидочка, — держи.
Она швырнула предмет Катьке, та поймала его и несколько раз повернула в руках, разглядывая, прежде чем произнести приговор:
— Портсигар.
— Вот именно, — сказала Лидочка.
— Кто-нибудь чужой уронил, — сказала Катька, — а мне бы предпочтительней пистолет. Надену белые колготки, поеду в Бендеры.
— Помолчи! — рассердилась Ольга. — Вечно несешь чепуху. Лучше посмотри, что я еще нашла.
С этими словами она кинула дочери новую находку. Та поймала ее и, оглядев, заметила:
— Мать, ты могла пристрелить единственную дочку. Это и в самом деле пистолет.
— Не может быть! — Ольга была потрясена. — Я ж думала, что просто железка.
Катя, не пожалев платья, отерла пистолет подолом. Даже из траншеи было видно, как поблескивал черный ствол.
— Только не стреляй, — попросила Катьку Лидочка. — В обойме должно быть столько пуль, сколько есть. Если будет на одну меньше, решат, что убийцей была ты!
Катя ахнула, но пистолет не выпустила.
Ольга кинулась вдоль траншеи в ту сторону, где берег осыпался и был пологим. За ней поспешила и Лидочка. Она брела и размышляла:
— Пистолет был выброшен в траншею вместе с вещами. Значит, никакое это не ограбление. Здесь и не пахнет случайным воришкой. Мы имеем дело с хладнокровным убийцей, который пытался скрыть свои следы и верно рассудил, что, скорее всего, вода в траншее останется до осени, потом замерзнет, а если в следующем году и придут строители раскапывать или закапывать, вернее всего, они воспользуются для своих целей экскаватором. Но главное в том, что убийца хотел смерти Сергея. И не нужны ему были такие красивые игрушки, как видео и будильник… Выходит, подозрение вновь падает на неуравновешенного толстяка Руслана. У него был повод и была возможность. А житейские блага его не волновали.
Ольга тяжело карабкалась, срываясь и сползая вниз. Лидочка подставила ей плечо. Дачница с собакой подошла к краю и спросила:
— Вода теплая?
Дачница была пожилой женщиной в толстых очках. Видно, ее очки были недостаточно толстыми.
Собака оглушительно лаяла. Голос у нее был пронзительный и неприятный.
Наконец Ольга вползла на берег, где ее подхватила Катя.
Лидочка последовала примеру Ольги и услышала конец беседы дачницы с Олей.
— Собака не может молчать, — оправдывалась дачница, — потому что на вас платье совершенно безумного цвета.
Было тепло, жарко, с каждой минутой все жарче. Дачница еще раз пригляделась к Ольге и Лидочке, замолчала и быстро пошла прочь, оттаскивая собаку, которая билась в истерике.
— Плохо дело, — сказала Катька, оглядывая женщин.
— А что? — спросила Лидочка.
— Вам же через поселок идти.
— Ой, — спохватилась Ольга. — Лучше я здесь до темноты посижу.
— В кустах, — согласилась Катька. — Желательно на муравейнике. Хотя нет, муравьям до тебя не добраться.
— Пошли, — сказала Лидочка. — Сейчас середина дня. То, что называется…
— Сиестой! — сообразила Катька.
— А в сиесту русский поселянин отдыхает.
— Это смотря кто, — возразила Ольга, которую более других беспокоило общественное мнение. — Бабы и старухи на нашей улице все сейчас у окон сидят. А моя бывшая свекровь — в огороде.
— Они и вечером будут сидеть, — сказала Лидочка.
— С перерывом на «Санта-Барбару», — поправила Катя.
Ольга тщетно пыталась стряхнуть с себя грязь.
— Я иду первой, — сказала Катька. — И несу сумку с добычей. Вы замыкаете шествие. Делайте вид, что вы только что принимали лечебные ванны.
— Выхода нет, — согласилась Лидочка, надевая на грязный купальник Ольгин халат. — Чем скорее мы достигнем вашего дома, тем лучше.
Они двинулись. Конечно, было страшновато и даже стыдно, словно они побывали в грязи ради извращенного удовольствия.
Лидочка шла, глядя себе под ноги, правда, собственные ноги не вызывали в ней ничего, кроме отвращения, потому что были облеплены пластами желтой грязи, столь липкой и приставучей, будто это была не грязь, а резиновый клей.
За заборами безумствовали собаки, но в последний момент их нервы не выдерживали, и, поджав хвосты, они кидались прочь.
Слева впереди показалась дача, где убили Сергея.
Она была угловой, здесь от Школьной отходил переулок.
Ольга и Катя не заметили, что в переулке, шагах в ста от того места, где он вливался в Школьную, стоят два человека — Виктор и Владимир. Но Лидочка их увидела и сбилась с шага. Ольга почувствовала неладное и тоже повернула голову направо. И все втроем, не оборачиваясь, кинулись бежать по улице.
До Ольгиной калитки оставалось сто шагов.
Они ворвались туда, Ольга задвинула засов.
Они пробежали в дом.
— Что будем делать? — спросила Катька.
— Надо прятать, — сказала Ольга.
— Я отнесу в милицию, — сказала Лидочка.
— Ой, и не думайте! Этот мордоворот все погубит! Ты знаешь, как он Толика не выносит. А меня тем более.
— Он Витю посадит, — заревела Катя.
— Твой Витя, — резко заметила Лидочка, — спит и видит, как бы нас всех перерезать.
— Он в прошлом году авиамоделизмом занимался! — возразила Катька.
— Хорошо, и что же вы предлагаете? — спросила Лидочка.
— Прежде всего забаррикадироваться, — сказала Ольга.
К счастью, здравый смысл ее не покинул.
Оставляя с каждым шагом желтые пятна глины на половицах, они с Катей закрыли окна и двери.
— Теперь им придется ломиться, стекла бить, — сказала Ольга. — До темноты мы должны спрятать улики, — сказала Катька. — И в таком месте, чтоб сколько меня ни пытали, я бы им говорила, не знаю!
«Так, — подумала Лидочка, — нам только пыток не хватало!»
— Сначала давайте вымоемся, — сказала Ольга. Она была в своем доме, и потому к ней вернулась рассудительность отличницы. — Без этого нам из дома не выйти. Кто первый?
— Пускай тетя Лида, — сказала Катька. — Все-таки она гостья и подводница-доброволец.
Лидочка послушалась и первой отправилась под душ.
Она старалась мыться как можно скорее, но пришлось соскрести с себя столько грязи, что Лидочка смогла управиться только минут через двадцать.
— Господи, — сказала Катька, увидев ее после душа в чистом городском платье. — Разве бывают на свете такие красивые женщины?
Сама она запачкалась умеренно и потому отправила в душ второе чудовище — собственную мать. И показала Лидочке найденные улики, уже вымытые на кухне под рукомойником и аккуратно разложенные на столе вместе с добычей, принесенной раньше Виктором.
На столе, с которого Катя сняла скатерть, лежали: транзистор, электронный будильник, видео, серебряный портсигар с изображением коня в подкове, а также пистолет, марки которого никто не знал и сколько патронов в нем осталось — тоже было неизвестно.
Лидочка осторожно по очереди поднимала вещи и рассматривала их. Вещи как вещи. Внутри портсигара осталось шесть размокших папирос. Странно, кроме Нины Абрамовны, никто папиросы в портсигаре не держит. Кстати, какой был портсигар у Нины? Лидочка вспомнила, как глядела на него. Точно такой. Значит, Нина забыла портсигар, когда уезжала в воскресенье вечером. А убийца в темноте, спеша инсценировать ограбление, хватал, что под руку подвернется, и заворачивал в плед. Вот и попал туда портсигар.
Из душа вышла Ольга.
— Я потом помоюсь, — сообщила она. — Только первую грязь сняла и уже сток засорила. — Этих не видели?
— Нет, — сказала Лидочка и обернулась к Кате.
— Они мимо проходили, — сказала девушка, — посмотрели на наш дом. Витька кулак показал, а я от окна отпрыгнула.
— Давно проходили?
— Только что.
— Значит, дежурят. Будут штурмовать, — сказала Ольга. Видно, она об этом думала, пока была в душе. — Значит, нам надо улики унести. Лидочка, это твое дело.
— Почему мое?
— Ну мы же обсуждали! Унесешь и спрячешь, где хочешь. Только чтобы мы не знали. Если нас будут пытать, мы ничего не скажем. Не знаем, и все.
— Странный способ спасать мучителя Виктора от тюрьмы, — заметила Лидочка.
— Я лучше знаю, — сказала Ольга. — Пока время до темноты есть, беги.
— Куда?
— Не знаю. Улики должны попасть к Толику. Из твоих рук.
Лидочку охватило безнадежное чувство. Возле ее фамилии в классном журнале остановился безжалостный палец учителя, и его тонкие губы уже готовы ее произнести. Придется идти к доске…
— Катька, выгляни наружу. Но осторожно, — сказала Ольга.
Она сама уложила вещи в сухую сумку. На прощанье велела Лидочке как следует промыть на ночь волосы. Потому что грязь страшно въедливая.
Катька, которая глядела через забор, укрывшись в малине, крикнула:
— Никого не видать!
— Лучше бы видать, — сказала Ольга. — Тогда знаешь, с какой стороны ждать опасность. Давай я на улицу выйду, стану их отвлекать.
— Осторожнее, мама, — встревожилась Катя. — Вон они! Из-за угла выглядывают!
— Это мне и нужно, — сказала Ольга.
Она пошла во двор, кинув Лидочке на прощанье:
— Через три минуты после меня выходи из калитки направо и шагай к станции.
Сама же Ольга, как была в сарафане и босоножках, выскочила из калитки и, набирая скорость, пропала налево.
Лидочка взглянула в зеркало. Остатки желтой глины в мокрых волосах можно в счет не принимать. Платье на ней было свое, чистое, она оставляла его в доме, но босоножки влажные, отмытые кое-как.
Лидочка мысленно досчитала до ста и услышала голос Катьки:
— Тетя Лида, беги!
Как львица, услышавшая выстрел хлыста — команду бежать на манеж, — Лидочка рванулась на улицу.
Выйдя, не удержалась — оглянулась. Довольно далеко, у поворота на шоссе, Ольга размахивала руками, отвлекая от Лидочки братьев.
Лидочка побежала в другую сторону, повернула на широкую улицу, ведущую к станции, и направилась по ней мимо Дома художника и хозяйственного магазина. У переезда ей пришлось пропустить товарный поезд. Под грохот колес она обернулась — по шоссе в ее сторону бежали две, пока небольшие, но целеустремленные фигурки — Витя с Владимиром. Конечно, они сделали выводы из встречи с Ольгой. Теперь Ольге и Катьке пытки не грозили. Погоня устремилась за своей жертвой. Братья сообразили, а может, спасая дочь от пыток, Ольга сообщила негодяям, что ценности унесла московская гостья.
Товарняк казался Лидочке бесконечным. Она крутила головой, отмечая приближение грабителей. Теперь путь к Глущенкам, где она намеревалась спрятать улики, был неприемлем. Братья ее настигнут на полдороги.
Едва промчался, подбрасывая зад, последний из вагонов. Лидочка побежала налево, к станции. Между нею и братьями еще оставалось метров триста.
Она догнала девушку в красном костюме, спокойно шедшую к платформе, и спросила ее:
— Электричка скоро?
— Сейчас придет, — ответила девушка.
Лидочка добежала до середины платформы, где на нее вела лестница, как раз, когда там затормозила электричка. Должно же человеку хоть раз повезти!
Но вместо того чтобы кинуться в электричку, Лидочка нырнула под платформу, в густой, придавленный бетонными плитами платформы кустарник. Снаружи эта чащоба была непроглядна.
Она присела на корточки в душной чащобе кустарника. Вокруг валялись сброшенные с платформы баллоны из-под воды, пивные банки и обертки от жевательной резинки. К счастью, ничего паршивее, чем сухой мусор, поблизости не было.
Лидочке были видны колеса электрички, замедлявшие обороты возле платформы. Вот они остановились. Над головой заскрипели, раскрываясь, двери. Наступила тишина. Люди входили в поезд.
Рядом протопали быстрые шаги. Так-так-так — простучали они по лестнице.
— Скорее! — завопил Виктор.
— Ничего, успеваем, — ответил Владимир. — Не уедет, стерва!
Двери электрички скрипя закрылись. Качнулись, стали поворачиваться и завертелись железные колеса. Все быстрее и быстрее, грохот возрос до невыносимого — хотелось зажать уши… — и вдруг оборвался. Стало светло — была видна противоположная платформа и рельсы, еще дрожащие от умчавшегося поезда.
И тут, таясь под платформой и слушая, как жужжат мухи, Лидочка отчетливо вспомнила, как Нина Абрамовна стоит на платформе, вечером в воскресенье, рядом с ней — Сергей. Она вынимает из сумки тот самый портсигар с конем и достает из него папиросу… Память не могла подвести Лидочку. Нина не забывала портсигар на даче. Она взяла его с собой.
В предвечернем воздухе был слышен лишь неясный гул удаляющейся электрички. И ни голоса, ни кашля, ни вздоха — все, кто хотел, уехали в Москву. И ее преследователи тоже уехали.
Сейчас они идут по вагонам. Наверняка идут по вагонам, разделившись, чтобы не упустить добычу.
Электричка, наверное, пуста или почти пуста, и они надеются, что можно вырвать сумку у женщины и выскочить на следующей станции.
Лидочка осторожно выбралась из-под платформы и не стала испытывать судьбу — она пошла к Глущенкам кружным путем по узкой улочке.
Глущенки были рады неожиданной гостье. И конечно же, заинтересованы сумкой, которую она притащила. Они жаждали узнать о новостях в деле о смерти Сергея.
Сначала Лидочка не хотела втягивать их в историю своих поисков улик в грязи и бегства от братьев-разбойников. Но нельзя же долго таиться от приятелей, к которым ты прибежала в поисках убежища! Если не Глущенкам, то кому же рассказать?
Пока Итуся готовила чай, Лидочка поведала о всех последних событиях — от похорон и поминок до сегодняшних приключений. Потом они разложили улики, и Итуся без колебаний опознала портсигар Нины и тоже вспомнила, как та доставала из него папиросу тем вечером на платформе.
Это открытие привело их к обсуждению характера Нины, ее жизни с Сергеем и возможной роли в его смерти. Казалось бы, кто может быть дальше от подозрений, чем Нина? Но вспомните слова ее, что легче убить человека, чем оформить документы на его смерть? И что это за совместные имущественные дела? Почему ей надо было спешить к нотариусу? Может быть, Сергей оставил завещание? У нас, в стране победившего и побежденного социализма, завещаний не оставляют, а если надумают кого-то убить из-за квартиры или огородного участка, прекрасно обходятся и без нотариуса…
У кого можно спросить о портсигаре? У самой Нины? И вызвать этим в ней подозрения? Чтобы она начала заметать следы? К тому же не исключено, что ее портсигар попал в траншею случайно…
— Какая такая может быть случайность! — закричал Глущенко, которому надоели сложные рассуждения женщин. — Портсигар едет в одну сторону и попадает в траншею в другой стороне. Легче поверить в существование двух одинаковых портсигаров.
За окнами стемнело. И хотя братья Виктор и Владимир не могли заподозрить, что Лидочка скрывается в Челушенской, лес на участке казался недобрым. Итуся закрыла окна и шторы на веранде, объяснив это тем, что на свет летят комары. Но, вернее всего, и ей ночь показалась враждебной.
Лидочка стала собираться домой, но, конечно же, Глущенки ее не отпустили, и она легко позволила себя уговорить.
Они долго не спали, смотрели телевизор, порой вспыхивал разговор об убийстве и злополучном портсигаре, но Женя переводил его на другое, чтобы не тревожить женщин, как он выразился, перед отходом ко сну.
Утром Лидочка проснулась от пения птиц и барабанной дроби солнечного грибного дождя по листьям. Глущенки уже поднялись, сумку с уликами они спрятали в чулане, заставив банками с краской и завалив тряпьем. Там улики должны были таиться до следующего утра.
Утренняя электричка была битком набита. Женя проводил Лидочку и сказал на прощанье:
— В семье Глущенко стало доброй традицией провожать Лидию Берестову на утреннюю электричку.
Братьев-разбойников не было — наверное, они спят, устав от поражений. И все же Лидочка не могла отделаться от неприятного чувства беззащитности: она все поглядывала на дверь вагона, и, как назло, в вагон входили молодые люди, однотипные с Владимиром или Виктором, настолько похоже одетые и остриженные, что Лидочке хотелось спрятаться под лавку. И все же это нервное путешествие закончилось благополучно.
В половине девятого Лидочка добралась до дома.
Из окна была видна пустая воскресная улица. Над крышами громоздились грозовые тучи.
Умывшись на этот раз как следует, Лидочка могла сказать себе, что теперь на ней не осталось следов желтой грязи. Позавтракав, Лидочка принялась выполнять программу, обговоренную вчера вечером с Глущенками.
Сначала она позвонила Марине Котовой.
Та работала дома.
Лидочка не хотела говорить ей больше, чем было необходимо. Зачем втягивать человека в события, и без того уже ее задевшие? Но Лидочке требовалось узнать о портсигаре.
Марину нетрудно было разговорить — все, связанное со смертью Сергея, ее интересовало. Поболтав о жизни в издательстве и вновь выслушав о нежелании Марины ехать на допрос к Толику, Лидочка как бы невзначай заметила:
— А Нина меня удивила. Я с ней давно не виделась, конечно, но мне кажется, что она сильно изменилась.
— Ничего удивительного! В ней всегда сидела командирша, — ответила Марина. — Ей бы командовать взводом в женском батальоне, который охранял от большевиков Зимний дворец. В жизни бы они его не взяли.
— Она любит власть?
— Она ушла от Сергея только потому, что не смогла его сломить. Он должен был быть рядовым в ее взводе. Кому-то это нравится, но Сергей был слишком штатским человеком.
— Теперь у нее есть свой взвод. Лицей.
— Не хотела бы я отдать своего сына в этот кадетский корпус, — согласилась Марина. — Наверное, она по утрам их выстраивает и проверяет ногти и уши. — Она засмеялась.
— Нина даже свой внешний вид подгоняет под эту роль, — заметила Лидочка.
— Конечно! Ты обратила внимание на ее портсигар! В каком антикварном магазине она его раскопала? И папиросы «Беломор»! Ты заметила? Разве такие папиросы еще производят?
Именно это и требовалось. Как хорошо, что Марина сама заговорила о портсигаре!
— Я заметила портсигар, но не придала ему значения, — сказала Лидочка.
— Странно. Ты с твоей наблюдательностью…
— Мне это показалось только забавным. Пижонство дамы.
— Любой психиатр скажет тебе, что портсигар с папиросами — способ сублимации. Подсознательно она всю жизнь страдала оттого, что не родилась мужчиной.
— Он, наверно, дорогой?
— Ты о чем?
— О портсигаре. Меня он удивил — причем тут лошадиная голова?
— Думаю — случайно, какой попался. Но он должен прилично стоить. Мне он показался серебряным.
— В любом случае его жалко потерять. Второго такого не найдешь.
— Разумеется, — ответила Марина. — В любом случае она его бережет. Когда мы ехали в электричке домой, она его при мне сунула в кожаный кисет, клянусь тебе! И положила на самое дно сумочки. А когда я спросила ее, неужели ей нравится изображать грузчика с папиросой, она лишь улыбнулась снисходительно — знаешь, как она умеет улыбаться? — и ответила, что портсигар — подарок одного близкого человека. Думаю, врет. Купила в антикварном!
— Ой, — сказала Лидочка, — тут ко мне звонят в дверь. Кто-то пришел. Мариночка, будь дружком, позвони мне завтра, как вернешься от Анатолия Васильевича. Тебе во сколько надо быть?
— К двенадцати тридцати. Ой, как не хочется ехать! Я даже горло в зеркало рассмотрела. Думаю, а вдруг красное, тогда я врача вызову, бюллетень возьму…
Марина смущенно засмеялась и повесила трубку.
Лидочка сидела возле телефона, размышляя. Итак, портсигар берегли, портсигар был якобы подарен каким-то близким человеком. И, главное, портсигар был у Нины, когда они ехали с Мариной в электричке.
Теперь согласно сценарию, разработанному с Женей Глущенко, следует позвонить Нине. И прежде всего спросить, почему она курит папиросы… Нет, не хочется! Лидочка поняла, что не будет звонить Нине.
Почему мне больше всех надо? Я тихий человек, я не люблю лазать в траншеи за пистолетами и скрываться под платформами. Если у Нины пропал портсигар, пускай с этим разбирается Толик… Тебе-то что?
Но Лида знала — ей до этого есть дело. Ей было жалко слонопотама Руслана. Она ему верила, верила, что он не стрелял в Сергея. Ей очень не хотелось, чтобы Руслана арестовали и посадили в тюрьму за убийство, которого он не совершал.
«Хорошо, — сказала себе Лидочка. — Я честная законопослушная гражданка. Если Руслану будет грозить опасность, я скажу Толику о портсигаре. Если же Руслана не заподозрят, пускай все останется как есть…»
Глава 8
Лидочка уже начала привыкать к поездкам в Челушинскую. К бессмысленным толпам на площади перед вокзалом, к потокам потных оголтелых дачников с лопатами, мешками и досками, к торговкам батонами, крабовыми палочками, водкой и разогретыми цыплятами. Схватив билетик, Лидочка неслась в переполненную электричку, потому что две следующие будут отменены по техническим причинам. В вагоне тебе достается место на лавочке с содранным поролоновым сиденьем — едешь на уголке фанерки и по тебе ступают непрерывно движущиеся по проходу тетки с сумками и тележками, а также продавцы газет и мороженого.
Ты добираешься до Челушинской, еле живая от духоты и толчеи, и находишь в себе жалкие остатки сочувствия к тем, кому добираться до места еще час. Платформа раскалена — зачем нам такое жаркое лето? Когда это кончится и начнется обычная дождливая и холодная погода, которую можно проклинать, наслаждаясь прохладой?
Еще десять минут ходьбы по жаре, правда, не столь удушливой, как в Москве, и ты оказываешься на пыльной площадке, ограниченной с одной стороны помойкой, с выстроившимися в ряды баками, среди которых бродят кошки и собаки, с другой — продовольственным магазином, с третьей — типовой девятиэтажкой, первый этаж которой занимает милиция.
Конечно, Лидочка могла бы, сойдя с электрички, повернуть налево, забежать к Глущенкам и взять сумку с уликами, но ей хотелось сначала выяснить обстановку, да и страшно было ходить с такой взрывчатой сумкой по поселку.
Уже возле милиции Лидочка пожалела, что не зашла по пути к Ольге. Мало ли что могло случиться за ночь? Она остановилась в нерешительности, но тут ее колебания были прерваны Толиком, который окликнул ее сзади:
— Доброе утро, Лидия Кирилловна. А я вам уже звонил!
Он нес в руке прозрачный пакет, в котором покачивался батон и упаковка кефира.
Перехватив взгляд Лидочки, Толик добавил:
— В такую жару главное — кефир. Холодит и восстанавливает силы. Я тут слышал по телевизору, что в него сатанисты добавляют алкоголь, чтобы споить русский народ, а вы как думаете?
— Я так не думаю, — сказала Лидочка, которой не хотелось вдаваться в политические дискуссии с милиционером.
Толик ступал легко, и видно было, какое у него крепкое, сытое, упругое тело. От жары его черные волосы завивались кудрями, но это не красило его, а, наоборот, портило, потому что кудри лишь подчеркивали грубость черт.
— Правильно, не надо так думать, — согласился Толик. — А где пистолет?
Он уже знает.
— Я могу его принести. Но мне хотелось, чтобы вы пошли со мной.
— Ну вы прямо на глазах набираетесь ума! Правильно! Я же для чего вас ждал? Чтобы пойти и оформить изъятие! Где ствол?
— Я вас отведу.
— Значит, и мне не доверяете?
— Я всем доверяю. Но я не привыкла к таким ситуациям и не хочу подводить людей.
— Тогда подождите меня… — Тут Толик что-то вспомнил и неожиданно произнес: — Подождите меня у Ольги. Она сегодня в библиотеку не вышла. Я за вами зайду.
— У Ольги?
— А чего тут такого? Вы к ней еще не заходили? Поздоровайтесь, чайку попейте. Я о ваших приключениях с интересом слушал.
Он скрылся в милиции. Лидочка покорно пошла обратно, к Ольге.
Калитка в доме Ольги была заперта. Лидочка нажала на кнопку звонка. Ольга вышла на крыльцо сразу, словно ждала Лидочку за дверью. Она была в застиранном, тесном халате, на голове косынка, которая горбатилась изнутри колбасками бигуди.
— Наконец-то, — обрадовалась она. — Я уж хотела на почту бежать, звонить в Москву. Откуда мне знать — живая ты или зарезанная. А может, сама кого застрелила. Шучу, шучу, я знала, что с тобой все в порядке.
Ольга улыбнулась, в улыбке было облегчение.
Они прошли на веранду.
— А где Катя?
— В Тарасовку, к подруге побежала. Не думай, я ее до станции проводила.
— А эти? Эти не приходили?
— Нет, не приходили. Но мне одна птичка на хвосте принесла, что они в субботу вечером в Мытищах с электрички сошли и напились там. Видно, за кем-то гнались, но не догнали. Я специально спрашивала — не было ли у них с собой сумки. Говорят, ничего не было.
— А где они сейчас? — спросила Лидочка.
— Об этом мы скоро узнаем, — загадочно ответила Ольга и пошла ставить чайник.
— Расскажи, как ты доехала, где пистолет спрятала? — спросила она, вернувшись с кухни.
— Пистолет я у Глущенок оставила.
— Вот умница! Жаль, я не догадалась, а то бы их навестила.
Лидочка с удовольствием, вспоминая смешные детали, рассказала, как вчера пряталась от братьев-разбойников, и ей самой это приключение уже казалось смешным, потому что прошлый ужас куда-то испарился, страх погони пропал — осталась смешная история о женщине, которая сидит на корточках под платформой, а преследователи, как в комедии, носятся вдоль поезда, а потом вскакивают в него и уезжают. Ольга тоже смеялась и готова была начать воспоминания о совместном купании в траншее, но тут на кухне засвистел чайник, и она побежала заваривать чай.
На столе, покрытом розовой клетчатой клеенкой, стояла прикрытая от ос банка с медом, лежала нарезанная булка, три чашки. Ольга ждала Лидочку и кого-то еще. Катю?
Нет, оказалось, что не Катю.
У калитки позвонил Толик. В руке он держал большой черный портфель.
Конечно, для Ольги Толик был не просто знакомый. Лидочка могла бы поклясться, что когда-то у них был роман. И хоть он давным-давно миновал, от него осталась неосознанная для них самих нежность в интонациях.
Толик подтолкнул Ольгу в плечо.
— Веди, — сказал он, — обещала чаем напоить.
— Ну и как? — спросила Ольга Толика, пока они шли по дорожке между флоксов к веранде. — Поговорил?
— Поговорил, — сказал Толик, потирая руки. — Они, голубчики, только глаза продрали, а я к ним с государственным визитом.
Лидочка, которой с веранды был слышен этот разговор, догадалась, что речь идет о братьях-разбойниках.
Толик поднялся по скрипучим ступенькам на веранду.
— Я их в последний раз предупредил, — сказал Толик. — Витьку мне, в отличие от тебя, не жалко. Рано или поздно он попадется.
— Испугались? — спросила Ольга.
— Честно говоря, я пожалел, что табельное оружие не захватил. Но я им прямо сказал: все ваши субботние дела мне известны. Если хоть один волосок упадет с головы Ольги, Катьки или Лидии Кирилловны, вы у меня загремите в места, не столь отдаленные. Немедленно!
— А они?
— Они огрызались. Ведь они хоть и дураки, но не идиоты. Теперь в их интересах самим вас и днем и ночью охранять. Даже если ты споткнешься и ногу подвернешь, подозрение на них падет.
Толик поставил портфель на свободный стул, уселся за стол, открыл банку с медом и засунул в нее большую ложку.
— Где брала? — спросил он.
— Из Чувашии привезли, — сказала Ольга.
— Обо мне не подумала, — укорил ее Толик. — Ведь у Людмилы меда не допросишься.
— Знаю, — вежливо улыбнулась Ольга. — Потому я тебе и не взяла.
Толик помолчал, переваривая информацию и заключенную в ней иронию. Тяжело вздохнул. Потом сказал:
— Не люблю работать с интеллигенцией. Неустойчивая у вас нервная система.
Он пил чай манерно, отставив мизинец. Завиток прилип ко лбу.
— Спасибо, — сказала Ольга, — что сходил к братьям.
— Это мой долг, — ответил Толик.
Видно, он любил мед, он зачерпывал его прямо из банки. Перехватил взгляд Лидочки и сказал:
— В меде содержится много калорий. Особенно в настоящем. Вы ешьте, вам пополнеть полезно, — сказал он.
— Любит он нас, полных, — сказала Ольга. И за этими словами, и за тем, как отвернулся к саду Толик, скрылась местная драма, может, не менее напряженная, чем та, которая привела к смерти Сергея. Повернись все чуть-чуть иначе, и лежал бы у себя дома мертвый Толик или Василий-мордоворот. Хотя таких тоже не убивают… Привяжется ведь фраза, как мелодия какой-нибудь пошлой песенки!
Толик посмотрел на часы и сказал Лидочке:
— Далеко ваша захоронка?
— Минут десять ходьбы, чуть больше, — сказала Лидочка.
— Ясно, в поселке старых большевиков у ваших знакомых супругов Глущенко, — сказал Толик, будто решил задачу. — Вы провели у них ночь убийства. Не знаю даже, что лучше, взять «газик» в отделении или так дойти?
— Взять «газик», — сказала Ольга. — Что ты будешь Лидочку по такой жаре тащить? И безопаснее.
— Ясно, — сказал Толик. — «Газик» с утра в Пушкино уехал. Пойдем пешком.
— Тогда чего голову морочишь! — рассмеялась Ольга.
— Пошли, — сказал Толик. — А то у меня на двенадцать тридцать назначена гражданка Котова, Марина Олеговна. Вы с ней знакомы?
— Разумеется, — сказала Лидочка. — Вы же нас вместе видели.
— Я ее раньше допросить не успел, а ведь в этот вечер она с вами была.
Ольга проводила их до калитки и заперла ее.
— Ты не бойся, — сказал Толик, — я их крепко предупредил.
— Их уже сколько раз предупреждали, — не согласилась Ольга. — Скоро пойду Катьку на станцию встречать.
— Нельзя жить в страхе перед преступными элементами, — заявил Толик. — Они чувствуют свою силу и еще больше распоясываются.
— Они и без этого распоясались.
— В других местах хуже, — сказал Толик.
Они пошли к станции.
Шли быстро. Толика поджимало время, а жару он игнорировал, только голубая курточка на спине потемнела от пота. Портфель легко покачивался в руке.
— Сначала меня эта история не заинтересовала, — сказал сыщик. — Мне показалось, что и в самом деле на дачу залезли с целью ограбления. Я всегда иду по самому обыкновенному пути. Необыкновенные дела в практике почти не случаются. И лучше, чтобы не случались. Теперь мне из-за вас придется снова с Василием собачиться, потому что он у вас вещдоки не принял. А что он мог сделать? Он дежурный по отделению, народу свободного нет — кто в отпуске, а кто больной. И тут вы — ах, вещдоки! Да в гробу он видел ваши вещдоки…
— Лучше бы их не было?
— Для всех лучше, чтобы их не было. Тогда закрываем дело и идем в отпуск.
Прямое узкое шоссе упиралось в переезд. Издали было видно, что переезд закрыт и у шлагбаума стоит небольшая очередь автомобилей. Пролетел пассажирский поезд в Воркуту или в Котлас. В окнах виднелись белые занавески.
— А теперь? — спросила Лидочка. — Теперь дело нельзя закрыть?
— Теперь я задумался, — сообщил Толик. — Потому что дело стало неординарным. Если бы я был детективным писателем, я бы уже подготовил бумагу и карандаш.
— А что вы будете делать с Русланом?
— С Киренко? Я еще не решил. Все улики указывают на него.
— Не спешите, — сказала Лидочка, — вы новых улик еще не видели.
— Но версию с грабителем они нам уже загробили, — сказал Толик. Непонятно, расстраивался он или притворялся расстроенным.
— Да уж, — согласилась Лидочка, — грабители не кидают в траншею видео. А вот тот, кто хочет показаться грабителем, может и кинуть.
— Два часа ночи, — торжественно произнес Толик, словно старался представить себе эту сцену, — человек, только что убивший Спольникова, выбегает из дома. В руке у него плед, в котором завязанные вещи… А что, если он их нечаянно в траншею уронил?
— Толик! — взволновалась Лидочка и осеклась. Нельзя же называть Толиком капитана милиции, если он такого права не давал.
— Ничего, — великодушно заметил Толик. — Вы старше. Вам можно. Я же понимаю, вы не сама — Ольга меня так называет. А у меня с Ольгой особые отношения. Называйте меня Толиком, только не на людях, хорошо?
— Извините.
— Я продолжаю. Откидываем версию о том, что убийца просто все уронил в траншею, как наивную. Потому что он, вернее всего, сразу полез бы доставать. Тем более что ночью не догадаешься, какая там грязь. Ладно, берем нормальную версию. Убийца бежит ночью к станции. Увидел траншею, кинул туда узел… значит, непрофессионал.
— Почему?
Они свернули на узкую тенистую улицу. Здесь, в поселке старых большевиков, стоял высокий сосновый лес, не то что редкие деревья в поселке по ту сторону.
— Почему? Потому что профессионал придумал бы место получше, понадежнее.
— Какое?
— Надо думать. Подумаю — скажу.
Лидочка сомневалась, что глубокой ночью можно было найти место лучше, чем траншея, но не стала мешать Толику рассуждать.
— Значит, мы имеем на руках убийство из жадности, из ревности, из ненависти — полный букет. Надо найти, кто ненавидел Сергея Романовича больше всех. Достаточно, чтобы убить.
— Вы все-таки думаете, что Руслан?
— Я уже звонил в милицию по месту проживания Руслана Киренко, чтобы его задержали.
— Жалко.
— Мне тоже жалко. Но я не могу рисковать. А что, если он, чтобы покрыть преступление, убьет еще кого-нибудь? Вдруг вас убьет, потому что вы много знаете?
— Я ничего не знаю, Анатолий Васильевич.
— Какой я вам Анатолий Васильевич? Договорились же!
Впереди показался забор дачи Глущенок. По улице к ним несся Пуфик, которому, видно, не было жарко, несмотря на густую курчавую шерсть.
— Это ихний пес, — сказал Толик. — Как вы думаете, он не кусается?
— Вы боитесь собак?
— Меня одна в детстве укусила. С тех пор опасаюсь.
Лидочка подхватила подбежавшего Пуфика на руки. Он был горячим и часто-часто дышал. В калитку выглянула Итуся.
— Вот ты где, негодяй! — сказала она укоризненно. Толик вздрогнул. — Ах, здравствуйте! Вы — следователь? Вы за пистолетом пришли? Скорее, скорее. Женечка совсем не спал, он за меня боится.
Итуся поспешила вперед.
Со второго этажа солнечный зайчик ударил Лидочке в глаз — у открытого окна стоял Женя и смотрел в бинокль.
С чувством глубокого облегчения Итуся стала готовить чай. Лидочка отказалась — в такую-то жару. Толик с тоской поглядел на большую банку меда, выставленную Итусей на стол, словно она знала о слабости капитана.
— Вас ждут дела, — напомнила Лидочка.
— Тогда за дело, — ответил Толик и уселся за стол. Из портфеля он достал листы бумаги. — Будем писать протокол об изъятии.
— В чем дело? — Женя надел очки.
— Вы сдаете мне пистолет, хранить который не имеете права. Вы должны письменно объяснить, каким образом он попал к вам. Вкратце.
— Мне тоже писать? — спросила Лидочка, чтобы ее друзья не чувствовали себя покинутыми.
— Вы у меня в отделении отчитаетесь, — строго ответил Толик.
Пока Глущенки писали объяснительные записки, сидя рядом за столом и порой подглядывая в сочинения друг друга, чтобы списать, Толик все же выпил чашку чая с медом.
Похвалил. Лицо у него было красное, распаренное от влаги, пот лился градом, но Толик этого не замечал. При этом он ел мед ложкой из банки. Когда деликатная Итуся попыталась всучить ему банку с медом в подарок, он отказался, сообщив, что у его жены Людмилы на мед аллергия и это его семейная драма.
Глущенко принес сумку, они по одной вынимали из нее вещи и раскладывали на столе, отогнув скатерть.
— Это что за предмет? — спросил Толик. — Зачем его тащили?
— Портсигар, — ответила Лидочка, словно Толик никогда не видел портсигаров.
И тут же подумала — сейчас он спросит у Глущенок, видели ли они его раньше, и они, конечно же, скажут, что видели его у Нины. Бедная Нина!
Но Толик почему-то не спросил. Он проверил короткие списки, составленные «хранителями», прочел их одинаковые показания и сказал, что пора бежать. Спасибо за помощь следствию. Наверное, если бы не близкое свидание с Мариной, он бы задал вопрос о портсигаре. А так судьба опять улыбнулась Нине.
На обратном пути в милицию Толик начал рассуждать о писателях. Оказывается, он им завидовал. И если бы не стал капитаном милиции, обязательно бы выучился на писателя. Вот, например, вся эта ситуация, как бы ее здорово можно было расписать! А в самом деле Сергей Романович был писателем? Нет, я не имею в виду научно-популярные книги. Писатель — это который пишет романы. Ну, в крайнем случае, рассказы.
— Сергей написал роман.
— Чего же вы раньше молчали. Большой роман?
— Марина вам расскажет. Она его читала, она редактор романа. А я не знаю.
— Как же вы не спросили? — Толик был потрясен равнодушием Лидочки. Если бы у него не были заняты обе руки, он бы всплеснул ими.
— Я не думала, что его убьют. А так неловко спрашивать.
— Я спрошу Марину Олеговну про роман… Так вы говорите, что Спольников раньше романов не писал?
— Нет.
— А в пятьдесят лет написал?
— В пятьдесят лет.
— И хороший роман?
— Толик, спросите об этом у Марины Олеговны! — Толик не скрывал своего разочарования.
— Человек написал роман! Может быть, всю жизнь к этому готовился? — выговорил Толик Лидочке. — А вы — ноль внимания. Может, он погиб из-за этого романа! Бывает же так — человек открыл в романе жгучую тайну, а его за это — б-ззк! Знаете, сколько тайн и секретов в писательской среде! Вы не представляете. Откройте «Совершенно секретно» или «Криминальную хронику». Там в каждом номере кого-то разоблачают.
— Вы думаете, что роман — это нечто вроде доноса?
— Шутку понял. Роман — это откровенность. А откровенность бывает опасной.
К милиции они опоздали минут на десять.
У входа в прогретой тени маялась Марина Котова. Она издали увидела их и побежала навстречу, причем тут же выяснилось, что обижена она на Лидочку.
— Ну сколько можно! — сказала она. — Я уже полчаса жду. Здесь страшные собаки!
— Собаки? — удивился Толик.
Все обернулись к помойке. Собаки безмятежно спали возле баков.
— Извините, Марина Олеговна, — сказал Толик. — Мы за вещдоками ходили, задержались, пока оформляли. Я вас долго не задержу.
— Вот уж надеюсь, — согласилась Марина, продолжая обижаться. — Вы меня оторвали от дел.
— Я знаю, Лидия Кирилловна говорила, — согласился Толик, — что вы редактируете роман Сергея Романовича. Мне это очень интересно.
— Что вам интересно? — не поняла Марина.
Ее тонкие брови поднялись домиками, на щеках вспыхнули красные пятна. Зря она надела костюм — это солидно, но не по погоде.
— Мне интересно все, что касается художественной литературы, — с ходу рубанул Толик.
Марина еще не знала его и потому заподозрила иезуитскую хитрость. На самом же деле Толик был искренен, как никогда.
— Пошли, — сказал он, пропуская Марину вперед, но совершенно забыв о Лидочке, которая вошла в милицию последней. Может быть, это была месть за то, что Лидочка совсем не интересуется романом Сергея Романовича. Потому что на самом-то деле Толик о Лидочке не забыл.
Когда они оказались в душном коридоре, он сказал:
— Лидия Кирилловна, вы подождите, пока я Марину Олеговну устрою. Вы сюда заходите, здесь пусто. Подробно напишите о всех субботних обстоятельствах. Подробно!
Голос Толика был строг. Наверное, строгость эта объяснялась не только его разочарованием в Лидочке, но и присутствием чужого человека, Марины.
Толик указал Лидочке пустую комнату, где ей надлежало описать вчерашние подвиги. А сам уединился в другой вместе с Мариной.
Лидочка начала описывать подвиги и вскоре обнаружила, что пишет особым казенным языком, к которому никогда прежде не прибегала.
Творчество заняло у нее, наверное, около получаса. Никто ее не беспокоил. Забранное решетками окно было открыто. Скучно жужжали мухи. За окном в песочнице возились малыши. Низко пролетел самолет, жужжа, как муха.
Через полчаса в комнату заглянули Толик и Марина.
Марина оказалась всклокоченной и замученной, хотя прическа и косметика были в порядке: видно, ее состояние выражалось в движении глаз и рук. Ей было так жарко в выходном костюме, что лицо побледнело до мучного цвета.
— Вы закончили, Лидия Кирилловна? — спросил Толик.
— Да.
— Сейчас я почитаю.
— Я свободна?
Лидочке, с одной стороны, было любопытно узнать, о чем говорил с Мариной капитан, с другой — не настолько любопытно, чтобы возвращаться с ней вместе по жаре и вести разговор, когда даже язык размяк и с трудом слушается. Эту проблему за Лидочку решил Толик.
— Марина Олеговна пусть едет, а вам, Лидия Кирилловна, придется задержаться. У нас разговор еще не кончен.
— Жаль, — произнесла Лидочка.
Марина из-за спины Толика пожала плечами и развела руками, показывая, что характер Толика оставляет желать лучшего.
Толик сделал вид, что ничего не происходит. Хотя Лидочка знала, что у него глаза на затылке.
— Спасибо, Мариночка!
Толик будто с трудом дождался ухода Марины, сразу шагнул к Лидочке, как Отелло к Дездемоне, и хрипло спросил:
— Значит, вам неизвестно, кому принадлежит портсигар?
— Вы меня не спрашивали.
— Еще как спрашивал. И Глущенко спрашивал!
Если он и не спрашивал, то теперь был убежден, что Глущенко и Лидочка скрывают от него важную для следствия информацию.
— Почему вы скрыли от меня, что портсигар принадлежит Нине Абрамовне Спольниковой? Почему? Кому это нужно?
— Я не скрывала…
— А я скажу почему! — рявкнул Толик. — Потому что вы как будто из одной компании. Даже если и не знакомы. А я из другой компании, и Василий Верчихин из другой, и Ольга из другой. Ваши знакомые преступлений не совершают, ваши знакомые занимаются науками и искусством. Ваших надо покрывать.
— Толик!
— Не Толик, а Анатолий Васильевич. А сейчас вы, Лидия Кирилловна, возьмете чистый лист бумаги и дадите мне показания, где и при каких обстоятельствах видели этот портсигар.
— Анатолий Васильевич, — возразила Лидочка, стараясь держать себя в руках. — Я не видела раньше этого портсигара. Я не знаю, какой портсигар я видела. Таких портсигаров, может быть, тысячи. Как я могу оклеветать человека.
— Хорошо, тогда напишите мне, где и когда вы видели подобный портсигар. Мне этого достаточно.
— Похожий портсигар?
— Ну чего словами играть? Подобный, похожий, да что вы не говорите, наверное, он один на свете остался. Я же пробу смотрел. Серебро высшей пробы, дореволюционная работа. А вы — тысячи…
— И что же вам сказала Марина Олеговна?
— Ваша Марина Олеговна запищала: «Ой!» Это вам о чем-то говорит?
— Нет.
— А мне говорит. Я перед ней разложил предметы. На пистолет она смотрела, как на пустое место, видео ее не заинтересовало, будильник и приемник — никакого эффекта! Я уж думал — пустой номер. Вдруг при виде портсигара она подскакивает и кричит: «Ой!» Что это значит?
— Ничего не значит.
— Замечательно. Так и запишем. При вопросе о принадлежности найденного в траншее портсигара гражданка Берестова проявила полное равнодушие и отговорилась незнанием.
— Можете так и записать.
— А вот Марина Олеговна под моим легким напором призналась, что ойкнула потому, что видела этот портсигар у первой жены убитого. У Нины Абрамовны Спольниковой. В вечер перед убийством. В том числе и в электричке, когда они ехали в Москву. И я, Лидия Кирилловна, уверен, что и вы об этом знали, но молчали. И если бы не случайное совпадение, я бы тоже остался в дураках. Как вам это нравится?
В гневе Толик был склонен к риторическим вопросам.
— Я не раскаиваюсь, — сказала Лидочка.
— Нет, — возразил Толик, — вы у меня еще раскаетесь!
Дружба закончилась, так и не созрев.
Когда Толик немного остыл, он попросил у Лидочки телефон Нины, а Лидочка заметила вслух, что находка портсигара снимает подозрение с Руслана. Он же не мог догнать поезд и отнять портсигар у Нины.
— Может, и догнал, — возразил Толик. Но неуверенно. Потому спросил: — А что Спольников с первой женой не поделил?
— Вроде бы все поделил, — ответила Лидочка.
— Тогда зачем она к нему на дачу приезжала?
— Спросите ее сами, — сказала Лидочка. — Откуда мне знать! Что-то связанное с нотариусом.
— Дележ имущества часто вызывает острые конфликты, вплоть до преступлений, — заметил Толик. Он немного отошел, но не подобрел. Прежней душевности в отношениях не было. — Жаль, что я с ней не успел раньше поговорить.
— Ситуация осложняется? — спросила Лидочка, стараясь вернуть расположение капитана. Все-таки неприятно, когда на тебя сердятся власти.
— Это даже интересно.
— Ряды подозреваемых ширятся.
Толик ответил не сразу:
— Подозреваемые есть, но мое сердце чует, что все не так просто, как кажется… А вот ваш приятель, в очках, лысый, у которого мы были…
— Глущенко?
— Да, Евгений Александрович. Он не писатель?
— Скорее он ученый.
— Жалко, — сказал Толик. — А то я уж подумал: Моцарт и Сальери! Писатели ведь такие завистливые…
— И Евгений Александрович убил Сергея, чтобы завладеть его рукописью?
— Я так не утверждал. Я думаю вслух.
Такое дикое предположение следовало загубить в корне.
— Даже если бы мой друг захотел убить Спольникова, — строго сказала Лидочка, — он бы не смог завладеть рукописью. Рукопись находится у Марины Олеговны.
— Ну что ж, — не сдавался сыщик. — Они могли вступить в преступный сговор.
— Глущенко с Мариной?
— Ну ладно, ладно… Но если это убийство совершил ваш друг, то жизнь Марины Олеговны находится в опасности.
— Вы серьезно так думаете?
— Нет, я шучу, — сказал Толик. — Потому что у нас есть две улики — пистолет и портсигар. Рукопись подождет.
Распрощавшись с капитаном, Лидочка пошла к станции. Наверное, думала она, в Америке свидетелей в такую жару развозят по домам в «Кадиллаках» с кондиционерами. Впрочем, у свидетелей там есть свои «Кадиллаки» с кондиционерами.
Все замерло. Молчали птицы и даже мухи. Солнце торчало прямо над головой, и Лидочка все время наступала на собственную короткую тень…
Марина Котова вышла из-под большого дерева, где таилась в тени. Она обмахивалась липовой веткой.
— Я уже испугалась, что ты другой дорогой пойдешь, — сказала она.
— Видишь, ты угадала.
Так хотелось побыть одной! Но Лидочка понимала Марину — у той не было опыта общения с сыщиками, и потому ей необходимо с кем-то поделиться переживаниями. А Лидочка сейчас ближе всех подруг и друзей — ее можно и подождать в теньке.
— Я так себя ужасно чувствую, — призналась Марина, подлаживаясь под шаги Лидочки, что было ей сделать нелегко — она относилась к породе семенящих женщин. Ей бы жить в Китае или танцевать в ансамбле «Березка». — Ты не представляешь, что я натворила.
— Представляю, — ответила Лидочка, — ты не вовремя сказала: «Ой!»
— Он тебе рассказал?
— Ничего страшного не случилось, — успокоила Марину Лидочка. — Капитан все равно бы докопался, чей портсигар. Не ты, я бы сказала.
— Меня больше всего тревожит, — сказала Марина, — что на самом деле это может быть не ее портсигар. Мало ли кто мог потерять портсигар в яме?
— Серебряный дореволюционный портсигар весом почти в полкило — потерять и не подобрать? — Лидочка улыбнулась. — Такой миллионер должен быть смертельно пьян. Брось, Марина, не терзай себя. И главное — он открывал портсигар?
— Открывал.
— И что там было внутри?
— Папиросы. Но мокрые, развалились.
— Я тоже видела папиросы, — сказала Лидочка. — А Нина курит именно папиросы.
— Ты знала о портсигаре, когда звонила мне в субботу? — спросила Марина.
— Извини, да. И не догадалась, что он тебе его покажет. А так… ну зачем тебе знать и беспокоиться…
— Оказывается, ты скрытная, — упрекнула Лидочку Марина.
— Может быть. Иногда я не знаю, как себя вести, и все делаю неправильно.
— Если бы не твои утайки, я бы была готова сегодня…
— И что бы случилось?
— Я бы не сказала, что этот портсигар принадлежит Нине.
— Я повторяю, мне в голову не пришло, что он покажет тебе портсигар.
— Все равно ты не права.
Лидочка хотела сказать Марине: «Зато ты — чистой воды зануда», — но сдержалась. Марина имела право на нее обижаться. А уж обижается Марина со вкусом, с внутренней слезой, требуя полного раскрытия.
— А что же мне теперь делать? — спросила Марина, когда они подошли к платформе.
— Что ты имеешь в виду?
— Я должна позвонить Нине Абрамовне? Ну, пускай я ее не очень люблю, но она мне не сделала ничего плохого. Наверное, надо предупредить о портсигаре?
Лидочке было трудно ответить ей на этот вопрос. Сама она Нине не позвонила и теперь чувствовала себя неловко.
— Наверное, надо, — согласилась она.
— Ты как-то странно ответила, — насторожилась мышка, — ты со мной не согласна?
— Мне трудно ответить, — сказала Лидочка. — Но представь себе на секунду, что Нина в самом деле почему-то убила Сергея. Может, случайно. Может, вспышка гнева…
— Почему случайно?
— Потому что она не принесла с собой никакого оружия. А воспользовалась пистолетом Руслана.
— Ты думаешь, Сергей показал ей, где лежит пистолет?
— Не ей! Я не говорю «ей». Я не знаю, кто убил. Но представь на секунду, что это Нина. Правы ли мы с тобой, если не помогаем Анатолию Васильевичу найти убийцу? Ведь милиция и без того не горит желанием его отыскать. Они с радостью закроют дело и, как говорит капитан, уедут в отпуск. Справедливо ли это по отношению к Сергею?
— Не надо… — Лидочка увидела, что Марина плачет. Маленькие, едва заметные слезинки собирались в уголках маленьких глаз и быстро катились по щекам. Марина смущенно вытерла мокрые дорожки. — Прости. Но мне вдруг стало так жалко Сережу. Я его знала столько лет. Он так хотел увидеть свой роман напечатанным!
— Ты не ответила мне! — настаивала Лидочка.
— Я все равно позвоню Нине, — сказала Марина. — Пускай милиция ищет, я не мстительная. Сереже уже все равно, найдут убийцу или нет.
Уже в поезде, подъезжая к Москве, Лидочка вспомнила:
— А о чем он тебя еще спрашивал?
— Ты не поверишь, — вдруг улыбнулась Марина. — Он интересовался проблемами художественной литературы.
— Знаю.
— Наверное, у него в школе были трудности с сочинениями. Он выяснял, может ли писатель отразить в романе тайные страсти.
— А он не говорил, что Сергея убили завистники, чтобы завладеть рукописью?
— А что, есть такая версия?
— У Толика… то есть у Анатолия Васильевича есть версии на все случаи жизни.
— Он просил меня дать ему почитать рукопись.
— Я не вижу причины отказывать ему. У тебя два экземпляра.
— Да, Сергей сдал два экземпляра, как положено, один для редактора, а один для художника. Я сдала второй в художественную редакцию. Но первый лежит у меня.
— Если напомнит, дай. Наверное, это никому не повредит. Только повысит уровень литературного образования нашего капитана.
— Я ему скажу, чтобы не ставил на страницы сковородку. — Марина несмело улыбнулась. Ей уже было не так страшно.
— А может, рукопись ему не понадобится? Может, он отыщет убийцу раньше? — спросила она с надеждой.
— Ты думаешь, отыщет? Он не производит впечатление умного человека.
— Тебе жалко давать рукопись?
— Роман… в основе своей он построен на личном опыте. Это роман о любви. Милиция может истолковать его буквально.
— Ну, тогда не давай!
Глава 9
После путешествия Лидочки в Челушинскую о ней все забыли. Проходили дни, и никто ничего нового ей не рассказывал.
Если звонили или приходили люди, то они либо ничего не знали о Сергее, либо забыли о нем. Сергей прожил жизнь, не высовываясь, и был известен в узком кругу краеведов, дюжине коллег и десяткам редакторш или бухгалтеров. Наверное, у него были, кроме того, родственники и друзья детства, но, если судить по похоронам, их было совсем немного.
Жаль, что у Ольги нет телефона — вот кому бы Лидочка позвонила без всякого стеснения. Она могла бы узнать новости про деятельность Толика. Самому же Толику Лидочка звонить не решалась: в конце концов, Сергею она даже не родственница, а расставание с Толиком вышло холодным из-за этого проклятого портсигара.
Всю неделю Лидочка была в делах, и это способствовало странному феномену: превращению события, занимавшего все мысли и чувства, заставившего провести полдня в грязной траншее, в разряд воспоминаний, когда невозможно провести грань между тем, что случилось с тобой, и тем, что ты видел в кино или читал. Все, что было связано со смертью Сергея, стало каким-то придуманным, нереальным. И может быть, это хорошо, что к ним не надо возвращаться…
Конечно, оставалось любопытство. Лидочка понимала остальных участников драмы, тех, кто теснее, чем она, связаны со смертью Сергея. Какие-то объяснения должна была дать Толику Нина Абрамовна. Не исключено, что ей сейчас приходится нелегко. Неизвестна судьба Руслана — у Лидочки он больше не появлялся, а Даша ей не звонила. Лидочка больше не входила в круг людей, нужных ей или способных помочь.
Вспышки любопытства были непроизвольны. Например, идешь домой, впереди мелькнет рыжая грива волос — неужели Даша? Хочется догнать ее, но потом понимаешь, что это не Даша. Или вдруг почудится голос Нины. Оглянулась — какая-то толстая бабка с сумками…
В четверг во второй половине дня Лидочка заглянула в «Московский рабочий». Особых дел у нее там не было, но если бы ей сказали, что она приехала на Чистые пруды в надежде встретить Марину, она бы искренне отвергла такое утверждение.
Лидочка поднялась на четвертый этаж.
Когда-то издательство занимало все колоссальное сталинское здание, отделенное от улицы железной решеткой и своим маленьким парком. В каждой комнате, размером с кабинет председателя райисполкома, сидели по два редактора, которые беседовали по телефонам, ожидая, когда откроется весьма приличная по тем временам столовая и при ней более приличный буфет, — издательство было партийным, хотя с уходом пожилого столпа главенство в нем захватили люди, для партии не надежные, склонные к реформам и обогащению. Но солидность еще держалась, даже когда рухнули прочие издательские дома, крупнее и повыше рангом, чем «Московский рабочий». К счастью, издательству было что сдавать в аренду, и, постепенно съеживаясь, лишаясь территорий за право издавать книжки и пользуясь поддержкой московских литераторов, издательство худо-бедно тянуло, трудилось и старалось издавать книги серьезные и нестыдные. К тому же оно издавало путеводители и справочники по московским окрестностям, так как считалось издательством не только московским, но и подмосковным.
Теперь же за издательством осталось всего два этажа, остальное расхватали жадные «структуры», посадили у входов в коридоры людей в штатских мундирах с порочными, каменными лицами, а издательство стало жить теснее, без столовой и буфета, да и не было нужды в прежнем продуктовом снабжении.
Лидочка зашла к худредам забрать пакет с не вошедшими в путеводитель слайдами.
У дверей к худредам ее настигла Марина. Аккуратная, милая, работящая. В этих стенах она чувствовала себя уверенно, как рыбка в привычном аквариуме.
— Господи, что ты здесь делаешь? Я тебе звонила раз пятнадцать!
— Позвонила бы вечером.
— Вечером у тебя занято, как на вокзале.
Причесана Марина была странно, будто начала приводить себя в порядок, да позвонил телефон или надо спешить — вот и бросила дело на половине. Марина во всем чуть не дотягивала, и Лидочке казалось, что в ней слишком мал запас жизненных сил.
— Что-нибудь случилось? — спросила Лидочка.
— Я тут по своим каналам узнала… Очень плохо с Ниной Абрамовной.
— Что произошло?
— Не бойся, она жива, ее никто не убил. Но она в больнице. Мне позвонили наши общие знакомые, один человек… он сказал, что к ней приезжали из милиции, потом увезли на допрос, и было это сделано так безжалостно, ты представляешь, ты их видела!
Марина увлекла Лидочку к окну в конце коридора. За окном поднималась массивная колокольня петровского времени. Марина закурила. Она курила нервно, часто и неглубоко затягиваясь.
— Но потом ее отпустили?
— Ей стало плохо там, в милиции, а потом в поезде она чуть не умерла. Теперь она лежит в клинике с нервным срывом. До сих пор боятся за ее жизнь. Ну скажи, скажи, разве можно так обращаться с женщиной?
— Наверное, нельзя, — осторожно сказала Лидочка. Конечно, надо бы поговорить с Толиком. Впрочем, деликатность — не его сильная черта.
— Вчера я говорила с нашим общим другом, непосредственной опасности для жизни нет.
— А следствие остановилось?
— Лидочка! — расстроилась Марина. — Мне кажется, что я опять вижу в тебе эту внутреннюю жестокость.
— Мне любопытно, как она объяснила судьбу портсигара.
— Наверное, этому есть разумное объяснение. Лидочка, мы обязаны верить людям.
— А ты не знаешь, — спросила Лидочка, — как там дела у Даши и ее Руслана?
— Я не поддерживаю никаких связей с тем семейством, — ответила Марина. — Да и раньше не была знакома. А почему ты сама не позвонишь?
— Как-то неловко.
— Ты меня удивляешь. То тебе безразлична судьба невинной женщины, то ты вдруг стесняешься позвонить Сережиным любовницам!
— Наверное, ты права, — согласилась Лидочка.
По коридору шла статная дама из отдела художественного оформления.
— Марина Олеговна, — пропела она, — моя драгоценная! Вас просил главный художник зайти. Вы слышали о нашем происшествии?
— Ну что еще? — Марина сразу побледнела.
— Владислав Михайлович вам все расскажет, — закончила свою арию дама.
— Ты подожди, не уходи. Что еще могло случиться? — И Марина побежала по коридору, нервно выстукивая каблучками по паркету.
Сзади ее фигура казалась особенно ладной.
Лидочка пошла за ней. В соседней с кабинетом главного художника комнате была лишь Ася. Ася, конечно же, не знала, где лежит пакет со слайдами, и они проискали минут десять. Тут как раз в дверь заглянула Марина и громко прошептала:
— Господи, ты здесь! А я уж испугалась, что ты ушла.
Лидочка забрала пакет, поблагодарила Асю и вышла в коридор.
— Я готова его убить, — сказала Марина. — Постой, я закурю. Это ужасно.
— Что случилось? У тебя даже руки дрожат.
— У меня хвост дрожит, — ответила Марина. Она закурила и глубоко затянулась. Так и простояла, замерев, полминуты. Потом продолжала:
— Этот Анатолий Васильевич звонил мне позавчера и опять твердил всякие глупости о литературе и о Сережином романе. Потом стал просить рукопись. Ему, видите ли, необходимо заглянуть в духовный мир писателя! Иначе он не может разгадать, кто его убил. Он, видите ли, узнает об этом из романа. Ты можешь себе представить подобную чепуху?
— Могу, — согласилась Лидочка. — Он мне об этом рассказывал.
— Тебе все шуточки. Но я ему наотрез отказала. Я заявила, что рукопись находится в работе и ее нельзя выносить из редакции. А сама на всякий случай отнесла ее домой. Пускай попробует ко мне сунуться!
— И что случилось?
— Он приехал вчера собственной персоной, заявился к главному, произвел на него впечатление. И под расписку, словно улику, утащил у художников второй экземпляр рукописи.
— Смешно, — сказала Лидочка.
— Нет, не смешно, не смешно. Ты ничего не понимаешь!
— Чего я не понимаю?
— Ему нельзя читать эту рукопись! Категорически нельзя. Рукопись такая откровенная, что дурак может сделать из нее ложные выводы. Дурак решит, что это автобиографический роман, но это неправда! А как я докажу это милицейской ищейке?
— Видно, придется мне самой его почитать.
— Я тебе его обязательно дам. Но я хотела дать тебе именно второй экземпляр, я боюсь отдать последний, единственный.
— Я подожду.
— Ой, Лидочка, ты ничего не понимаешь! — Голос Марины дрогнул и, соскочив с подоконника, она быстро пошла прочь, даже не попрощавшись. Почему-то она была на самом деле расстроена тем, что Толик обошел ее и раздобыл рукопись.
Поход в издательство состоялся в четверг, и в тот же вечер позвонил Глущенко, позвал провести выходные на даче. У него появились некоторые соображения, как сообщил Женя, по части нашего детектива. Но главное соображение заключается в том, что Лидочке нужен свежий воздух и здоровая сельская пища, которую могут обеспечить только Глущенки на своей даче, потому что через два дома живет упрямый человек: он держит трех коров и держал их даже в самые антисобственнические времена. А, как известно, парное молоко — панацея от всех недугов цивилизации.
Лидочка сказала, что еще не знает, как у нее сложатся выходные.
— Мы с завтрашнего дня на даче. И до понедельника, — сказал Женя, — наши ворота для вас всегда открыты.
— Спасибо.
Лидочка была рада приглашению и решила, что непременно поедет в Челушинскую. По крайней мере, не по вызову милиции. А заодно заглянет к Ольге.
— Значит, до субботы? — переспросил Женечка. — Привозить с собой ничего не надо. В нашем хозяйстве все есть, кроме пластикового ведра. Если где увидишь, захвати.
— До субботы, — согласилась Лидочка.
Только она положила трубку, телефон зазвонил снова.
— Лидия Кирилловна, — сказала официально Нина Абрамовна. — Извините, что беспокою так поздно. Я говорю из больницы, здесь очередь, и в моем распоряжении только две минуты.
— Ой, Нина! — обрадовалась звонку Лидочка. — Как вы себя чувствуете?
— Простите, мое самочувствие не должно вас касаться. Меня интересует лишь одно: каким образом следователь узнал о том, что портсигар якобы принадлежит мне?
— Не знаю, — ответила Лидочка. — Но заверяю вас, что я об этом ничего ему не говорила.
Она сказала лишь часть правды. Но не рассказывать же, как выдала себя Марина.
— Не говорила? Нашла его в яме и не говорила? Вы меня удивляете!
Лидочка хотела было обидеться на Нину, но вдруг представила, как та, в больничном байковом халате, стоит у телефона на лестничной площадке — автоматы в больницах всегда устанавливают на лестничных площадках, за ней толпятся в очереди две или три старухи с бегающими глазами, старухи перешептываются: «Смотри-ка, у женщины припадок!»
— Простите, Нина, но я не была уверена, что это именно ваш портсигар. Я и сейчас не уверена. А если я не уверена, то зачем я буду доставлять людям неприятности?
— Вы лжете! — закричала в трубку Нина, и линия разъединилась.
«Наверное, мне никогда в жизни не доказать ей, что я и слова не произнесла, пока не проговорилась Марина. Но потом я дала Толику телефон Нины — ну как я могла не дать телефон Нины Толику? Толику нужна правда, а разве я не хочу правды? И как эта чертова правда оборачивается? Руслан где-то скрывается, Нина сидит в психушке, а кто следующий?»
Следующей позвонила Даша.
Когда Лидочку разбудил телефонный звонок, она подумала, что можно написать современную пьесу в виде цепочки телефонных разговоров. Персонажи неподвижно сидят на стульях и высвечиваются, когда у них зазвонит телефон. Поговорят, высвечиваются другие. И не надо двигаться, ходить, драться, убивать — все за вас сделает телефонный аппарат.
Было три часа ночи.
Три пятнадцать.
— Лидия Кирилловна, извините, что я так поздно, — заговорила девушка. Слышно было прекрасно, словно Даша была рядом и говорила Лидочке на ухо. — Я не знаю, что делать!
— Что-нибудь случилось с Русланом? Его арестовали?
— За что?
— За хранение оружия, за убийство Сергея — не знаю, но боюсь этого.
— Руслана они пока не нашли, — сказала Даша, — его нет в Москве.
— Тогда что же?
— Они говорят, что моя мама убила Сережу.
— Что?
— Сегодня они приехали к маме, увезли ее на машине, она вернулась только два часа назад. Ее все время допрашивал этот ублюдок, деревенский тупица Голицын! Я его собственными руками разорву.
— Погоди, Даша, я ничего не понимаю.
— А что тут понимать! Они сказали маме, что она проникла к Сереже той ночью и потребовала… потребовала, чтобы он не женился на мне! Иначе она его убьет.
Даша замолчала. Она часто дышала в трубку. Лидочка понимала, что Даша ждет ее реакции, но для Лидочки Дашин роман не был тайной, она знала обо всем от Руслана.
— Вы меня слушаете? — спросила Даша.
— Конечно, я тебя слушаю.
— Они сказали, что Сергей оставил об этом признание, письменное признание! Вы что-нибудь понимаете? Они хотели посадить маму в тюрьму!
— Но она приехала домой?
— Они даже машины ей не дали!
— Даша, успокойся, пожалуйста, успокойся. Расскажи внятно, что произошло.
— С утра они потребовали, чтобы мама приехала в Челушинскую, а мама отказалась.
— Они по телефону потребовали?
— Конечно, по телефону. А мама как раз уходила в институт. Я ничего не знала, я проснулась, мама уже на работе, я ничего не подозревала. А когда я вернулась домой, мамы не было. И тут позвонили из ее отдела — почему она не пришла, она должна была какую-то работу кончить и не пришла. Я сказала, что ничего не знаю, и сначала не стала беспокоиться, только к вечеру стала беспокоиться…
Часов в семь Даша, одолеваемая тяжелыми предчувствиями, принялась звонить знакомым, но никто не знал, где Елизавета. Даша не решилась звонить в милицию или в морг, она не допускала мысли о беде. Ей хотелось думать, что у мамы наконец-то завязался какой-нибудь роман, а может, кто-то приехал из Америки, и мама сидит в гостях, как всегда забыв позвонить домой.
Даша утешала себя, придумывая все новые объяснения маминому исчезновению, и с каждой минутой таких оправданий оставалось все меньше… И тут мама вернулась. Зареванная, несчастная, еле живая. И, главное, она категорически отказалась рассказать Даше, что с ней произошло.
Ужинать Елизавета не стала, сидела и молчала, но Даша чувствовала такое облегчение оттого, что мама нашлась, что спокойно собралась спать. Ей в пятницу вставать рано, они с подругами собрались за грибами. Даша легла спать, а мама пошла в ванную — она подолгу моется — Даша и заснула. И вдруг ее что-то толкнуло в сердце. Она проснулась. Второй час, а мама все в ванной. И ей стало страшно. Непонятно отчего. Она постучала в ванную, чтобы узнать, не стало ли маме плохо, но никто не ответил. К счастью, дверь в ванную у них не запирается. Господи! Мама лежала без сознания в пустой ванне. Рядом на полу валялся пустой пузырек.
Даша вызвала «Скорую» и побежала этажом выше, к соседке-медсестре. Соседка стала поить маму теплой водой, чтобы ее вырвало, и тут приехала «Скорая». Они два часа возились с мамой. А потом еще приезжала милиция. Говорят, что милиция всегда в таких случаях приезжает, потому что подозревают, не было ли попытки отравления.
Они хотели взять маму в больницу, но не очень настаивали — у нее крепкий организм. Ей дали снотворного, примчалась мамина подруга Рита и осталась ночевать. В общем, проснись Даша позже, маму могли бы и не откачать.
Мама заснула до того, как «Скорая» уехала, и все ужасы кончились. Но она успела рассказать Даше и Рите, что ее сегодня допрашивали в Челушинской. Допрашивал молодой капитан, черный, коренастый, очень наглый. Он настаивал, что мама убила Сергея. Мама сначала просто смеялась, но потом он стал читать ей выдержки из какой-то рукописи, где написано, что его убила мама. Тут Лидочка потеряла нить рассказа, но Даша повторила, что у милицейского капитана есть напечатанная на машинке рукопись. Из нее он зачитывал абзацы и даже маму заставлял читать. Мама была в полном ужасе не из-за того, что там она выставлена преступницей, а потому, что Сережа осмелился опоганить все годы, которые их связывали. Почему? Что мы сделали ему плохого? Мама теперь не хочет жить, она не понимает, как она сможет людям в глаза смотреть…
Тогда Лидочка спросила Дашу, а как же, с точки зрения милиции, Елизавета могла совершить преступление? Даша объяснила, что, по их мнению, Лиза поехала ночью к Сергею, тот показал ей пистолет Руслана, Лиза стала требовать, чтобы Сергей отказался от ее дочери, потом потеряла контроль над собой и застрелила его. Но ведь мама в ту ночь была дома, она даже спать легла раньше, чем обычно. Как программа «Итоги» по четвертому каналу кончилась, они пошли спать. И проснулись вместе. Неужели вы думаете, что мама могла уйти, а Даша бы не заметила, как она ушла и как она утром вернулась? Но для следователя показания Даши не аргумент, потому что она дочь и может пойти ради матери на ложь. Это, конечно, правда, ради матери Даша пошла бы на любую ложь, но ведь этого не было!
— А теперь она спит, но ведь не исключено, что они завтра снова потащат на допросы. Точно потащат! Но поймите же, мама этого не выдержит, она умрет. Я вам слово даю, что мама умрет, я это чувствую.
— Но что я могу сделать?
— Вы должны защитить маму!
— Дашенька, ну как я могу это сделать?
— Вы поедете к этому милиционеру, вы ведь его знаете, и объясните ему, что мама не могла убить Сергея, совершенно не в состоянии.
— Чем я это докажу?
— Поймите, у мамы не бывает таких сильных чувств. Она сангвиник. Вы психологию проходили? Мама — сангвиник. У нее быстро возникающие, но слабые чувства. Все ее романы начинались за двадцать минут, а кончались через два месяца.
— За исключением…
— Это Сергей привязчивый. И мама к нему привыкла. В последние годы она его не как любовника воспринимала, а как… ну как дядю или отчима. Он деньгами помогал, билеты доставал на поезд. Он был как мебель. Не очень любимая старая мебель, а не обойдешься.
— Откуда у вашего поколения столько цинизма? — спросила Лидочка, имея в виду Ольгину Катьку.
— Не больше, чем у вашего, — ответила Даша. — Только в вашем больше лицемерия. А за лицемерием тот же цинизм. Кстати, мы тоже умеем переживать.
— Но потом мама узнала о тебе и Сергее…
— Ах, не смешите меня, Лидия Кирилловна! Когда мама узнала, а не узнать было невозможно, ей же пришлось мне аборт устраивать, она готова была всех растерзать. Это был скандал — всем скандалам скандал! Но он кончился. А мебель осталась. Правда, мама считала, что, если мы поженимся, это будет удар по ее репутации, но я обещала ей быстро родить внучонка, мама засмеялась и задумалась. Все же Сергей остается при доме… Конечно, она бы рада отдать меня замуж за кого-то поприличнее. Но женихов поприличнее другие расхватали. А Руслан для мамы страшнее Сергея. Ситуация простая — маме ни с какого бока не надо было убивать Сергея. То есть дядю Сережу… Но предупреждаю, если меня тоже повезут на допрос, я сразу умру. Без завещания.
Переход был неожиданным для Лидочки.
— Погоди, Дашенька, не надо впадать в истерику!
— Но что нам делать?
— Ничего особенного. Завтра с утра ты вызываешь врача.
— Какого?
— Можно районного. Или из поликлиники, куда мама прикреплена. Он выдаст маме бюллетень на основе… «Скорая» оставила какую-то справку?
— Ой, оставила! Они сами сказали, что маме надо полежать два-три дня.
— Замечательно! И до понедельника никакой милиции!
— А вставать ей можно?
— Я бы советовала маме полежать в постели. У нее ведь слабость.
— Еще какая!
— Значит, мама лежит, ты маму кормишь, от нее ни на шаг не отходишь. Пускай тебя краном от мамы отрывают. Продержись до понедельника.
— Вы нас спасете?
— По крайней мере я все узнаю. Я думаю, что здесь недоразумение.
— Ничего себе недоразумение! Мама чуть не умерла.
— От недоразумений умирает много людей. И слава богу, что с мамой обошлось.
— А я завтра хотела за грибами поехать… — В голосе Даши прозвучало глубокое огорчение.
— За грибами?
— Ну… за грибами.
— Переживет Руслан денек без тебя, — сказала Лидочка.
— Но я же вам не говорила…
— И не говори.
Даша повесила трубку. Было четыре часа ночи.
Лидочка знала, что произошло. Марина не хотела давать Толику рукопись романа, написанного Сергеем, потому что из рукописи можно было вычитать какие-то подробности личной жизни Сергея или по крайней мере намеки на это. Что бывает с писателями, решившими на закате жизни создать эпохальный роман и заодно свести счеты со своими друзьями и недругами. Вернее всего, поговорив основательно с Толиком, Марина сообразила, что ему читать роман не следует. Он же, заподозрив нечто в поведении Марины, а может быть, и в самом деле уверенный в том, что вся художественная литература списана с жизни и в ней можно угадать всех, кто там «изображен», совершил набег на издательство и благополучно изъял у художников второй экземпляр.
Если бы не четыре часа ночи, она бы позвонила Марине и получила бы от нее подтверждение своей теории. Впрочем, сомнений у нее и так не оставалось. Понятно, почему Марина хотела дать Лидочке рукопись — ей хотелось, чтобы Лидочка взяла на себя часть ответственности за бомбу замедленного действия, которая и привела в действие цепь драматических событий.
«А сейчас, — сказала себе Лидочка, — мы немного поспим, чтобы завтра не разламывалась голова».
Она понимала, что ей придется ехать к Толику раньше, чем ей хотелось, потому что нельзя допускать, чтобы он из своих не очень глубоких и неразумных романтических заблуждений коверкал жизнь и без того не очень счастливых людей.
Утром Лидочка вскочила позже, чем хотела. Перед этим она несколько раз просыпалась, и ей даже казалось, что она вовсе не спала ночью, только смотрела на часы: семь часов, потом восемь, потом половина девятого. Надо вставать. Только посплю еще десять минуток… Именно утром она и разошлась.
Наконец, в девять она заставила себя выбраться из постели и босиком побежала в ванную. Потом, выскочив оттуда, позвонила Лизе. Она решила, что, если с третьего звонка никто не возьмет трубку, она перезвонит попозже.
Подошла Даша.
Сказала, что уже проснулась и даже очень давно. Мама спит, спит нормально, а вы, Лидия Кирилловна, что будете делать?
— Я тебе позвоню, — сказала Лидочка, — как только будет что рассказать. А ты держи оборону.
— Еще как держу!
Потом Лидочка позвонила Марине. Она не знала, рано ли поднимается Марина, но боялась, что та убежит из дома и ее не поймать весь день.
Марина была дома. Голос звучал сонно.
— Марина, — сказала Лидочка, — ты мне обещала дать рукопись.
— Ты с ума сошла! — возмутилась Марина. — Солнце еще не встало!
— Обстоятельства изменились.
— А что такое? Нет, ты мне скажи?
— Давай встретимся, ты мне передашь рукопись. Ты куда едешь?
— Через час я буду на «Чистых прудах». Но скажи, с Лизой все в порядке?
— Не совсем.
— Я так этого боялась! Не вешай трубку. Неужели они ее взяли?
— Мне хочется посмотреть, что в рукописи такого, из-за чего изменился весь ход действия.
— Конечно, Лидочка. Я уже три дня живу в таком ужасе! Я разрываюсь между желанием издать этот роман, как память о Сергее, и страхом, что его могут ложно понять… Я не могла представить, что Анатолий сообразит конфисковать экземпляр у художников. Удивительный нахал! Так скажи мне, что с Лизой?
— Надеюсь, ничего страшного, — сказала Лидочка. — Ее вчера допрашивали.
— И отпустили?
— Отпустили.
— Ну слава богу, хоть тут обошлось. Хотя боюсь, что они от нее не отстанут.
Эти слова Марина повторила, когда они встретились в метро.
Марина стояла у стены, не замечая приближающуюся Лидочку. Издали видно было, какое грустное, потерянное у нее лицо. Марина была в темном платье и черных туфлях, отчего выглядела бледнее, чем обычно.
— Боюсь, что от Лизы не отстанут, — сказала она, передавая Лидочке толстую синюю папку. — А я до самой могилы буду чувствовать себя виноватой.
— Ну что ты себя казнишь! — остановила ее Лидочка. — Он и без тебя знал, что Сергей написал роман. Он и со мной говорил о силе литературы. Он своего рода романтик детектива, то есть он хочет разрешать загадки следствия неординарными путями. А неординарные пути у него вычитаны и высмотрены из книг и фильмов.
— Значит, ты думаешь, что с Лизой все обойдется?
— Я хочу в это верить.
Марина мялась, не уходила. Наконец решилась.
— Извини, что я тебя вынуждена предупредить, но это последний экземпляр. От тебя буквально зависит посмертная судьба Сергея… не потеряй рукопись, умоляю! Другому человеку я никогда бы ее не доверила. Ты меня слышишь, Лидочка?
— Спасибо за доверие. — Лидочка постаралась ободряюще улыбнуться, чтобы избавиться от пронизывающего сцену пафоса. — Я тебе позвоню.
Обычное расставание — я тебе позвоню. Позвонить стало обычнее и легче, чем разговаривать с глазу на глаз.
Марина быстро пошла прочь. Тяжелая сумка через плечо клонила ее стройную фигурку.
Лидочка поднялась наверх и вышла на бульвар.
Было десять часов утра. Пятница. Прежде чем что-либо предпринять, ей надо было хоть бы по диагонали проглядеть рукопись. Что в ней такого, что заставило Марину таить ее от капитана? Что в ней такого, что заставило капитана угрожать Лизе арестом и терзать ее в отделении?
Лидочка решила, что она даст себе два часа на ознакомление с романом. Два часа — примерно триста страниц.
Потом она решит, что делать дальше.
Лидочка прошла в начало бульвара, за спину классику Грибоедову, созданному в те времена, когда положено было ставить классикам такие же одинаковые памятники, как императорским особам до революции.
Она нашла пустую скамейку под тенью столетней липы.
Бульвар был еще пустынен — лишь по центральной его аллее спешили на службу припозднившиеся чиновники. Детей еще не вывели гулять.
День был сумрачным, но Лидочка, уходя, поглядела на свой старинный круглый барометр и увидела, что он стоит на «ясно». А ее барометр умел предсказывать погоду. Значит, погода скоро разгуляется.
Лидочка оттягивала момент начала чтения.
Она побаивалась рукописи. Автор был мертв, а люди, так или иначе связанные с ней, находятся либо в растерянности, либо в беде.
На синей папке было написано:
С. Спольников.
«Знак Тельца»
Первая глава романа называлась «Гороскоп». Из чего Лидочка заключила, что роман будет вполне современным, с привлечением популярных заблуждений.
«Григорий Семенов, которому суждено стать центром настоящего повествования, родился 2 мая 1944 года под знаком Тельца. В момент появления на свет на него оказала сильное влияние Луна, которая подарила ему странную склонность к литературным занятиям. Бык Григория был крылатым. Талисманами Григория стали белая сова и золотой телец. Как известно из трудов неоплатоников, Тельцы по натуре терпеливы и сентиментальны, но ужасны, когда их терпению приходит конец. Они не выносят дисгармонической жизни, но порой склонны считать, что весь мир послушно кружится вокруг них. По натуре Тельцы скрытны, но чувства их куда острее, чем у всех других знаков зодиака. Кроме того, Тельцы — прекрасные повара, но не следует понимать поварское искусство примитивно в пределах кулинарии. Тельцы старомодны, их ведущая идея — внушить другим любовь к себе, любовь времени и пространства, любовь судьбы и власти, любовь возвышающую и убивающую.
В мистическом плане читатель без труда отыщет здесь лунного легковооруженного лучника, без копья и меча. Он безопасен для тяжеловооруженного рыцаря, зато и угнаться за ним по звездной дороге никто не может из смертных и богов…
Впрочем, Григорий узнал о своей натуре лишь в трепетном юношеском возрасте, когда впервые встретился с Лукрецией, женщиной загадочной, неоднократно вторгавшейся в его убогую жизнь и уносившейся вдаль, осенив его сизым крылом горлинки. Именно она внушила ему мысль о его мужском естестве.
…Лукреция опускалась, подогнув по-турецки ноги, на продавленную оттоманку, раскрывала потрепанный том в кожаном красном переплете с золотыми застежками и сначала долго шевелила губами, покрашенными в темно-вишневый цвет, а затем начинала переводить своим низким, хриплым, густым голосом простуженной волшебницы…»
Здесь на полях было замечание редактора:
«Сережа, волшебницы не простужаются!»
Из чего можно было заключить, что Марина была редактором серьезным, с усеченным чувством юмора. Это опасно для редактора, но в то же время типично. Отсутствие чувства юмора — профессиональная редакторская болезнь.
Вряд ли детство и юные годы героя, осененного мистикой летучего тельца, могли быть связаны со смертью Сергея. Проглядывая страницы по диагонали, Лидочка миновала первые годы жизни Григория, включая вставки, в которых периодически возникала Лукреция, ненавязчиво руководившая судьбой героя, а также ее возлюбленный, робкий, но подлый монашек из XIV века, который на странице 43 заразил Лукрецию бубонной чумой, принеся болезнь из Средневековья, и было не очень понятно, может, из-за излишне поверхностного чтения, умерла ли она от ужасной болезни либо воспарила и появилась вновь.
Лидочка зачиталась главой, в которой описывалось, как медведица похитила мальчика Гришу из родного деревенского дома и выкармливала его медвежьим молоком, которое придает человеку некие особые качества.
Роман был куда менее автобиографичен, чем Лидочка полагала вначале. Зато он был наполнен любопытнейшими и достоверными сведениями о растениях Подмосковья — именно об этом Сергей знал более всего. Может быть, поэтому судьба все время выталкивала Григория за пределы цивилизации и превращала в существо дикое, склонное к робинзонадам. К этим экскурсам Лидочка отнесла бы и удивительную историю, которая случилась с Григорием в ботанической экспедиции в предгорьях Памира, где он заблудился и отправился лесами-перелесками, альпийскими лугами и крутыми склонами гор к стране Бутан, которую и достиг через полгода. Там Григорий принял буддизм и встретил впервые Глорию Бозанг, уроженку тех мест, которая завлекла его в подземные лабиринты королевского дворца в Бутане, где в свете факелов и масляных светильников шестнадцать врачей из Тибета создавали средство от старости.
«…Они поднимались из подземелья, проходя мимо узких, занавешенных буддийскими картинами на шелке, дверей, за которыми слышались бормотания лам. Порой из-за двери ударял острый запах какого-то экзотического растения. На лестничной площадке… (здесь было замечание редактора: «Заменить неудачное слово»)…их встретил белый барс, который возлежал на прохладных мышцах камней, вытянувшись во всю свою трехметровую длину… (замечание редактора: «Снежные барсы такой длины не достигают. См. Брем, том 5»). Барс приподнял голову и тихо зарычал. Глория присела на корточки и начала гладить его теплую голову, крутой пушистый лоб. Но стоило ей распрямиться, как глубоко в недрах хищного зверя возникал глухой, тревожный звук. И тогда Глория произнесла:
— Я избрала другого мужчину. И отвергнутый должен умереть!
С этими словами прекрасная бутанка вонзила кинжал с нефритовой рукоятью в глаз барсу. Брызнула черная кровь, когти барса царапали камни пола.
— Что ты наделала? — в ужасе воскликнул Григорий.
— Он был моим любовником, — ответила Глория. — А я люблю только одного. В день, когда ты мне опротивишь, я зарежу тебя тем же кинжалом.
Среди скользящих теней под звон священных колокольчиков они вошли в обширное помещение, вырубленное в скале и устланное кашемировыми коврами и шкурами диких животных. В углах помещения тревожно горели тревожники, которые бросали неровный красноватый свет на широкое ложе, приготовленное для страсти. Нечто странное, подобное детскому предчувствию новогодней сказки, сжало грудь Григорию… (на полях было написано: «Стиль!»)…кровь быстрее застучала в висках, он стоял неподвижно, чадили светильники и странный сквозняк дул по ногам, будто где-то неподалеку дышало льдом обширное гулкое пространство.
Глория подошла к высокому пюпитру, на котором лежали ноты, нервным движением тонкой, украшенной браслетами смуглой руки скинула поочередно несколько листов, не устраивавших ее, и отыскала нужные ноты. Хлопнула в ладоши. С гигантского тяжелого балдахина, нависшего над ложем, опрометью соскочила дрессированная обезьянка и мгновенно раскрыла скрипичный футляр. Глория приняла из лапок обезьяны скрипку и, обернувшись к Григорию, равнодушно кинула лишь одно слово: «Страдивари».
Ее подбородок гордо и четко лежал на золотом от времени теле скрипки, рука несколько раз уверенно провела, чуть касаясь, смычком по струнам, резкий неприятный звук настройки пролетел по подземельям королевского дворца, вырвался на холодный простор хрустального воздуха, родившего эти белые, сахарные вершины, украшенные у подножий пирамидками белых пагод. Григорий любовался четким профилем Глории, ее невероятно, нечеловечески длинной шеей (на полях редактором поставлен восклицательный знак), и в этом процессе он встретил возникший из глубины дворца, из середины земли тонкий и нежный звук скрипки, который перешел в пронзительный аккорд желания, в песнь торжествующей любви, подхватившей Григория и помчавшей его куда-то вверх, через многочисленные помещения Палаты (на полях вопросительный знак), где останавливались, прислушиваясь, слуги и придворные.
— Вы узнаете мелодию? — спросила Глория.
— Нет, — признался Григорий.
— Я нашла эти ноты в полуразрушенной башне трансильванского замка, говорят, их оставил Лист, но сила музыки такова, что она недостижима даже для Листа. Слушайте!
Глория играла увлеченно и умело, так, что Григорий почувствовал, как теряет сознание. В его памяти, смешиваясь, пролетали туманные картины детства и ранней юности, жизни в лесу и первой любви, прошедшей столь неясно и призрачно.
Неожиданно она бросила скрипку, и невесть откуда взялась обезьяна, подхватила ее на лету и спрятала в футляр.
— Там не было последней страницы, — прошептала Глория, скидывая с себя длинное, до земли, тяжелое шелковое одеяние принцессы, украшенное знаками зодиака. Ее обнаженное тело голубовато блестело в свете факелов. Глория направилась к ложу, таящемуся в тени балдахина. Где-то далеко, очень далеко монахи бормотали тантрические тексты.
Глория исчезла в темноте под балдахином, и остался лишь ее шепот, нежный, сумасбродный, крутящий голову:
— Иди ко мне, чужестранец, иди ко мне, тот, кто обречен отныне любить меня, как свое проклятье!
Горячие руки, протянувшиеся из темноты, рвали на нем одежду, не жалея пуговиц и самого материала («Какого еще материала?»), Глория увлекала его в бездонную мягкость звериных шкур, наваленных на ложе, и казалось, что ее гибкое, упругое тело — единственная плоть, единственный ориентир в море, которое топило, но не губило… Григорий представил себе, что это не он тонет с ней вместе, борясь с пушистыми волнами ложа любви, а сюда ворвался за добычей яростный, но покорно убравший когти влюбленный барс, который ищет, находит, вторгается во влажную пропасть любви, и рев громадного хищника потрясает бутанский дворец.
— Иди ко мне, изысканный Телец, мой единственный земной избранник, — кричала Глория, — я готова принять тебя, мое лоно трепещет в сладостном ожидании, когда ты пронзишь его («Может быть, слишком откровенно для нашего читателя?»)».
Лидочка сердилась на вопросы и замечания редактора, которые никак нельзя было пропустить, но которые вторгались в сознание и отрывали от эротической битвы.
Лидочка продолжала читать.
«Иди ко мне, изысканный Телец,
— читала Лидочка. —
Мой единственный земной избранник, — кричала Глория, — я готова принять тебя, мое лоно трепещет в сладостном ожидании…
Это было ощущение сна, потому что иным чувствам не было ориентиров, — темнота, подвешенность в мягкой бесконечности шкур и перин, лишь пальцы знали, что тебя обнимает страстная, изысканная женщина, дитя Гималаев. Прижав красавицу к себе, Григорий покрывал поцелуями ее груди, кончик его языка трепетно ласкал выпуклости ее кожи, а затем его зубы принялись терзать ее уши («Именно так?»).
— Иди ко мне, — единым дыханием возликовала Глория, — растерзай мою смертную, мятущуюся плоть!
Да, свершилось! И он первый мужчина в ее жизни… Как бы отвечая на его невысказанный вопрос, Глория прошептала:
— Ты мой первый любовник, потому что я была посвящена богине Рами, покровительнице девственниц. И именно теперь я нарушила свои клятвы, согрешив с белым Тельцом, пришедшим с Севера, ибо так гласит страшное предсказание ламы Берранга тридцатого воплощения Боддисатвы.
Последние слова прекрасной Глории звучали невнятно, потому что она задыхалась, рыдала, а ее длинные ногти в порывах страсти царапали его спину и шею, помогая абсолютному мистическому слиянию Тельца и Девы. Все быстрее и быстрее они двигались в совместном ритмическом танце, придуманном природой и доведенном до прекрасного эстетического совершенства в таинственных женских монастырях Бутана, куда отдают девочек, еще не достигших зрелости, чтобы, подготавливая их к вечному девичеству, в то же время обучить всему, что может знать самая страстная из куртизанок.
…Глория лежала рядом с ним, утонув в шкурах.
— Я обманула тебя и богов, — шептала она, — ты был вторым. Первым стал снежный барс Акбар. И я его убила, чтобы прийти к тебе чистой.
— Кто ты? — спросил Григорий. — Открой мне свою астральную судьбу.
— Ты прав, мой возлюбленный. Я постоянно и болезненно ощущала в себе столкновения агрессивных, разрушительных начал. Мои охранные цвета синий и черный, талисманы — подкова, саламандра, черный кот и дьявол, символы — жезл, козел, лестница и часы. Я — человек, отмеченный темными силами и приближенный к ним. Втайне я люблю роскошь и чревоугодные наслаждения («Стиль, Сереженька, стиль! Если ты будешь и дальше нарушать стиль, тебе никогда не получить Букера!»). У меня срослись два пальца на левой ноге, и ты можешь сейчас поцеловать их.
Но Григорий не дослушал таинственную подругу. Плотское жгучее желание вновь завладело им…»
Тут Лидочка отложила рукопись. Наверное, прошло полчаса с тех пор, как она углубилась в чтение, но обстановка на бульваре особенно не изменилась, правда, появились первые мамаши, да уменьшился поток служащих — одиннадцатый час, они разошлись по своим местам.
Лидочка ожидала от Сергея совершенно иного романа. В том же, что лежал у нее на коленях, она увидела нечто скорее пародийное, однако вполне допустимое в нашей сегодняшней действительности, когда путь от графоманства до постмодернизма недолог. В то же время, зная Сергея, Лидочка вполне допускала, что он создавал этот опус, сознательно пародируя прочитанные переводные образцы. Но теперь никто уже не объяснит, шутка ли это, розыгрыш или провал.
Странно, что Сергей всегда показывался ей иной стороной — относительно скучным и лишенным воображения, робким, стеснительным ботаником. А впрочем, насколько развито воображение у автора романа? Пожалуй, по уровню фантазии он скорее старомоден — он чем-то соответствует уровню воображения двадцатых годов, апеллирует к Пшибышевскому и Эберсу, питается соками Пьера Бенуа и его эпигонов. Почему бы не вспомнить хорошо забытое прошлое, объявив его завтрашним днем?
В то же время этот роман произвел некое впечатление на Марину, по крайней мере ей не пришло в голову отвергнуть его.
А может, она имеет союзников в редакции? И редакционные девицы передают друг дружке ксерокопии страниц?
Но Толику роман никак не мог показаться достойным — насколько знала Лидочка милиционера, он был по натуре трезв, и от литературы, в которой господствует приправленный мистикой поток эротического сознания, он, вернее всего, отвернется. Тогда почему же он принял этот роман как руководство к действию?
Лидочка стала перелистывать рукопись дальше. Если не спешить и читать лишь первую строчку каждого абзаца, то можно следить за развитием сюжета.
И какого черта он его написал? Денег, что ли, не хватало? Или просто решил: ведь другие пишут не лучше меня, а их печатают!
Но есть и третья версия: именно такой роман Сергей хотел написать. Именно такие мысли толклись в его мозгу, именно эти образы просились на бумагу, именно таким представал мир во взбудораженном воображении скромника.
Эта версия понравилась Лидочке более других. Тогда стоило дочитать рукопись до конца.
И тут судьба в виде пожилого, подтянутого человека в белой сорочке, выглаженных брюках, предстала Лидочкиным очам.
— Николай Владимирович, — окликнула его Лидочка. Она вскочила, подбежала к главному редактору «Московского рабочего» и поздоровалась с ним. — У меня к вам необычный вопрос, Марина Котова дала мне почитать рукопись романа Спольникова. Вы его будете издавать?
— Лидия Кирилловна, — произнес всегда сдержанный, несколько похожий на писателя Паустовского поэт Зарахани. — Мне не довелось прочесть рукопись. Но я слышал от Марины Олеговны. Она очень высоко о ней отзывалась. Помню, что она говорила о склонности автора к авангардизму, которая позволяет остаться на этой стороне здравого смысла, уверяла, что книгу будут покупать. Так что у меня не было оснований… К тому же я знал Спольникова как опытного, организованного литератора.
— Значит, вы не читали?
— Не пришлось. И теперь даже неловко… после трагической смерти Сергея Романовича ставить под сомнение… А вы думаете, что мне следует прочесть? Я доверяю вкусу Марины Олеговны. Она у нас двадцать лет работает.
— Вы еще не отправляли роман на рецензию?
— Наверняка все сделано по правилам, — насторожился Зарахани, словно защищал этим память Спольникова.
А Лидочка, попрощавшись с главным редактором, поняла, что Марина, которая покровительствовала своему автору, лукаво прикрывала рукопись от начальства отзывами дружественных рецензентов.
Половина одиннадцатого. Можно покинуть дебри Бутана и пролистать роман до событий, которые особенно заинтересовали капитана Толика.
…Мистические силы, сконцентрированные в проклятии того монастыря и в подземельях королевского дворца, оказывается, преследовали Григория, стремясь погубить его. Ему удалось переместиться, сменив внешнюю оболочку, в некие астральные сферы, описанные туманно и красиво. На этих страницах карандаш Марины вдоволь погулял по полям рукописи.
К середине романа оказалось, что в Григории обитают два человека. Один устремляется в дебри Центральной Азии и покоряет там прекрасное тело таинственной Глории, другой же возвращается откуда-то в деревню под Архангельском, где сохранились тайные языческие обряды. Через любовь чистой и светлой девушки, которую в романе называют Дарией, наш герой старается отыскать истинную правду жизни. На каком-то этапе обнаружилось, что Глория, прилетевшая сюда неизвестно как из Бутана, оказалась матерью Дарии, и у Григория возобновилась связь с этой самой волшебной женщиной.
Но по мере движения романа от одной любовной сцены к другой автобиографический элемент все более забирал верх. Григорий всей душой стремился к телу Дарии, которая была прекрасной девушкой, невинной, но спелой, и совокупление с ней представлялось герою как соитие с природой, высшим уровнем событий и вещей.
Так Лидочка перелистывала роман еще около часа. Просмотрела страниц двести. Разумеется, перелистывание не было автоматическим процессом, порой Лидочка, сама того не замечая, зачитывалась и погружалась в сумбурную, кисло-сладкую вязь романа, потом спохватывалась, что она не читательница, а исследователь. Она начинала еще быстрее перелистывать страницы, затем ее движения замедлялись, и она замирала, стараясь сообразить, откуда в логовище Григория возникло склонное к вампиризму существо с лиловыми глазами, в футболке с надписью «Спартак» Ереван», и куда пропало из романа чучело снежного барса, оживающее в полнолуние и представляющее опасность для жильцов всего квартала.
Прервав на этом чтение, Лидочка отправилась в хозяйственный магазин за пластиковым ведром для Глущенок. Ведра были только оранжевые, и продавщица добродушно объяснила, что такие ведра реже теряются на огородах.
Затем Лидочка спустилась в метро и начала знакомое, надоевшее путешествие в Челушинскую. Электричка, редкий случай, оказалась пустой, и ей даже удалось занять место у окна.
За полчаса дороги Лидочка намеревалась просмотреть последние пятьдесят страниц.
Глава 10
«Григорий открыл дверь своим ключом. Дома никого не было. В светящемся хрустальном шаре, забытом Глорией на круглом столе под бархатным черным абажуром, переливались сонные образы. В другой комнате, отданной Дарии, все предметы были освещены ярко и солнечно. Дария в отличие от матери, проводившей основное время в ночных клубах космоса («Подыщи другое слово!»), любила яркий свет, проводила как можно больше времени на солнце, лучи которого столь быстро и энергично окрашивали ее кожу (восклицательный знак), что Дария ходила загорелой, словно полинезийская красавица-дикарка, с марта по ноябрь.
…Почти половину комнаты Дарии занимал большой итальянский диван с мягчайшими подушками. Сбросив ботинки, Григорий растянулся на нем и даже попытался задремать, ощущая себя как в ту первую ночь на ложе любви в подземельях Бутана… Как давно это было и как трудно оказалось отыскать Глорию своей мечты в реальном мире несчастной России!
Закрыв глаза, Григорий старался отгадать томительную загадку, почему, когда, от кого Глория произвела на свет столь непохожую на нее, пышнокудрую блондинку, ненавидящую тьму и даже сумерки. Был ли тем мужчиной снежный барс, который, как понимал Григорий, на самом деле был не барсом, а инкарнацией Великого Могола Аурангзеба, смерть которого на поле битвы перенесла снежного барса в иную оболочку, оболочку того странного, одноглазого певца в трамвае, который уже третью неделю преследовал Григория…»
Лидочка, оказывается, пропустила историю одноглазого певца, которая, к счастью, не имела отношения к сюжету.
«…Хлопнула дверь. Григорий не открывал глаз. В приоткрытую дверь заглянула Дария.
— Ты пришел, Григорий? — спросила она, и незачем было его спрашивать, ибо кто же, кроме астрологического отца, мог лежать на итальянском диване. — Ты будешь принимать пищу?
— Нет, — лениво ответил Григорий, вытягиваясь, словно барс, на диване. — Мне и так хорошо.
— Ну засни, — засмеялась Дария, которая понимала Григория больше всех, даже больше, чем мать, может быть, потому, что они много времени провели, касаясь друг друга (восклицательный знак), когда готовили уроки, читали книги или когда Григорий держал девочку на коленях и она незаметно росла, превращаясь во взрослую девушку легкой воздушной красоты, и совершенно непонятно было, как такая белогрудая красота могла зародиться в отсыревшей глуши бутанских подземелий.
Вот и сейчас возникла неловкость оттого, что взор Дарии застиг его лежащим на диване. О, как бы не догадаться ей, что причиной тому его неизбывное стремление коснуться губами диванных атласных подушек, хранящих аромат волос Дарии, и впитать нюхом («Впитать нюхом!» — побойся бога, Сережа!») треволнение ее духов, прижившееся в диванных подушках.
Григорий вскочил!
Дария одарила его смущенным любопытствующим взором.
— Скажи мне, Григорий, — задала она неожиданный вопрос. — Сколько было лет моей матери, когда ты встретил ее впервые шесть лет назад?
— Сколько и сегодня, немного за двадцать.
— Но меня в то время не было?
— Тебя еще не было.
— Откуда же я возникла? Кто мой отец? Есть ли я в действительности?
— Неужели Глория ни разу не открыла тебе глаза? — спросил Григорий с тайной надеждой, ибо и сам мучился этим роковым вопросом.
Движением утомленной пантеры Дария приблизилась к мужчине. Ее ресницы призывно трепетали.
Непроизвольно рука Григория поднялась и коснулась ее горячей нервной спины.
— О, не смей! Ты пробуждаешь во мне чувственность. Я становлюсь банальной самкой («Может, найти для самохарактеристики персонажа другое слово?»). Ты не представляешь, какой бедой для нас может обернуться взаимное стремление наших тел и душ!
— Я клянусь, что постараюсь держать себя в руках, — хрипло прошептал Григорий, закрывая воспаленные от желания веки и сглотнув слюну.
— Являюсь ли я для тебя новым, юным, прекрасным воплощением Глории? — спросила Дария.
— Нет, — искренне ответил рано поседевший мужчина. — Ты для меня являешься отрицанием твоей матери. Она — чернота волшебства, она — воплощение злобной мантры и ее порождения чакры. Ты же воплощение светлого солнца.
— Я сама порой ощущаю в себе отрицание всего мира, который окружает маму и который ее породил. Те черные видения, которые материализуются в маминой комнате, те голоса, которые шепчут заклятия в утренней мгле, и тот страшный человек-слон, который выходит порой из стен и поджидает меня на лестнице и в темном подъезде, стремясь овладеть мною и увлечь меня в свои владения…
— Но человек ли он? — спросил Григорий, который уже имел несчастье видеть страшный облик («Неправильно!») человека-слона, странного существа, схожего с человеком, лицо которого заканчивалось длинным серым хоботом.
— Он — воплощение Ганеши, южноиндийского бога, мы с этими богами в дальнем родстве, — ответила Дария, поворачиваясь к столу и ставя чайник на подставку. Затем она схватила голову Григория и прижала ее к своему животу («Носом, да?»).
— Ты будешь моим, — прошептала Дария, — ты будешь моим единственным и драгоценным мужчиной. Но жди, тебе придется ждать, пока я смогу изгнать человека-слона, власть которого над нашим домом велика, и мне непонятно ее происхождение.
Григорий встал, ибо так ему удобнее было обнять белокурую красавицу. Ее тугая грудь, таившая сердце, прижалась к его сердцу, и их пульсы бились в унисон («Стиль!»).
Они стали целоваться, и все сильнее бились сердца, а желание, зародившееся в мозгу, опускалось все ниже, пока не поселилось в чреслах («Сережа, фу!»).
— Только не сейчас, — шептала Дария. — И не здесь. Я не готова.
Она была права. Из-за окна, поднимаясь как на воздушном шаре, показалась страшная морда Ганеши — сначала серая морщинистая макушка, затем серый лоб, под которым уместились маленькие глазки — без переносицы, лоб переходил в сморщенный и плотоядно изгибающийся хобот.
— Оу! — воскликнула девушка и закрыла глаза от страха и наслаждения.
— Нет! — возразил Григорий. — Ты будешь моей!
И тут раздался стук…»
Лидочка перевернула страницу и поглядела в окно. Дул ветер, он пригнал откуда-то темные тяжелые тучи. Солнце пропало. Пыль крутилась по платформе. Люди спешили в вагоны, опасаясь еще не начавшегося дождя.
За окном потянулся лес — Лосиный Остров. Сколько раз Лидочка, как и миллионы других жителей Москвы, собиралась выбраться сюда… Итак, в нашем мистико-эротическом повествовании появился человек-слон, создание неприятное, подглядывающее в окна, когда герои намеревались целоваться… Ни один настоящий слон, наверное, не додумался бы до этакого безобразия.
Руслан крутился вокруг Даши уже несколько месяцев и, видно, беспокоил Сергея… Впрочем, трудно определить меру жизни в творчестве писателя — бывали случаи, когда автор сознательно сводил счеты с людьми в своих произведениях. И его враги, и его друзья оказывались на страницах в сомнительном положении.
Неудивительно, что наивный, но житейски хваткий Толик нашел в рукописи Сергея желанный материал. Угадывая людей, он тут же распределял их по страницам уголовного дела. Для него роман стал шахматной доской, на которой по воле Сергея передвигались фигуры, вполне узнаваемые и уже подозреваемые милицией.
Лидочка продолжила чтение, натолкнувшись через несколько страниц на любовную сцену героя и Глории.
«… Сколько сладостных ночей провел Григорий в этой сладкой, наполненной экзотическими ароматами пещере! Но сегодня нечто иное, светлое и неподкупное («Не то слово!») тревожило его и звало вырваться на свет.
Глория медленно раздевалась.
Она была освещена лишь пламенем свечи.
Показались ее гладкие смуглые плечи, показалась прядь ее вороных волос («У меня такое впечатление, что раньше (см. гл. 4 и 5) ты подчеркивал ее бледность. Почему он только сейчас заметил черную прядь? Значит ли это, что дома она ходила в платке?»).
Неверный свет свечи заиграл на обнажившейся груди Глории. Грудь была такой же девичьей и упругой, как шесть лет назад в подземельях бутанского дворца. Желание вспыхнуло в Григории с новой силой, и он стал срывать с себя одежды, которые беззвучно планировали на ковер.
Почти неслышная мелодия заиграла в воздухе («Стиль!»), и Глория подняла к потолку тонкие руки в звенящих золотых браслетах.
Подобно кобре под звуки дудочки факира в Джеллахабаде, ее гладкое, подвижное, скользкое в движениях («!») тело несло в себе такой запас страстного желания, что Григорий, хоть и был только что намерен поговорить с Глорией раз и навсегда о том, что сердце его склонилось к Дарии лишь ее плоть отныне беспокоит его высокие чувства («Плоть ли?»), не удержался и потянулся к источнику страсти.
Тихо ахнула Глория, словно удивляясь прикосновению алчущих рук, она откинулась назад и упала на диван-кровать, одной рукой откидывая стеганое одеяло, другой привлекая к себе возлюбленного.
В полутьме глаза Глории увеличились до размеров немыслимых и приняли форму глаз огромной птицы.
— Скорее, скорее! — молила Глория, извиваясь в руках Григория, словно пойманная им сильная птица, которая на самом деле и не желает вырваться из его рук.
Скорее, скорее… И вдруг в комнате вспыхнул свет.
— Я не могу! — закричал Григорий, увидев Дарию. — Она потребовала, она соблазнила меня, как это бывало всегда!
— Да, я всесильна, — обратилась Глория к дочери. — Даже в соперничестве с тобой я возьму верх. И не потому, что мне так нужен Григорий. Но он — выдуманный мною мужчина. Я его познала в подземельях Бутана, он мой астральный антипод, и потому мы обречены навсегда оставаться парой сынь и янь, воздух и плоть, гроза и ручей. Ты понимаешь меня, дочь?
— Но как я могу спать, о, мама! — ответила Дария. — Как могу я заснуть, если всем телом я стремлюсь к Григорию, и в то же время меня продолжает преследовать человек-слон?!
— Ганеша? Неужели он проник сюда из Бомбея? Я же оставила его бесчувственным, изнемогшим от любви в храме Шри-Вандахары в предместье Бомбея. Это было двадцать лет назад…»
Когда поезд остановился в Мытищах, Лидочка прервала чтение, потому что на следующих страницах его герои, вместо того чтобы заниматься чем-нибудь полезным для себя и общества, направились воздушным путем в Бомбей, чтобы отыскать в подземельях храма Чакравихара видеокассету, запечатлевшую насилие, случившееся двадцать лет назад.
Эти сцены не имели прямого отношения к событиям последних дней в Челушинской. К тому же лента на машинке Сергея совсем износилась и последние страницы читались с большим трудом. Лидочка проклинала покойного писателя и мечтала о том моменте, когда он догадается вставить в машинку новую ленту. В конце концов, почему она должна портить себе глаза из-за того, что начинающий классик эротической эзотерики экономил на лентах для пишущей машинки?
Лидочка решила дочитать роман лишь в том случае, если Сергей сменит ленту.
Она быстро перелистала несколько страниц, приближаясь к концу повествования, но шрифт становился все бледнее… Вдруг ее посетила удача! Автор наконец сменил ленту!
Поезд отошел от Мытищ. Осталось минут шесть-семь, а то придется дочитывать роман на пеньке в лесу.
«Человек-слон бросился по лестнице вниз. Григорий преследовал его. Во дворе, в сумерках, человек-слон казался медведем. Он остановился и крикнул:
— Не подходи!
— Я тебя не боюсь, — ответил Григорий. Он смело шел на серого урода и вдруг увидел, что в его руке что-то блеснуло.
«Пистолет!» — подумал Григорий.
— Брось оружие! — приказал он тихим голосом, чтобы не волновать соседей по дому.
— И не подумаю! — ответил Слон.
Тогда Григорий смело бросился вперед.
Слон прицелился и выстрелил. Но пуля прошла мимо. Этого момента Григорию было достаточно, чтобы броситься вперед и сшибить Слона с ног. Тот тяжело рухнул на асфальт. Григорий вырвал у него пистолет. Слон отчаянно сопротивлялся. В борьбе пистолет неожиданно выстрелил. Слон воскликнул и схватился за плечо. Между пальцами показалась кровь.
— Я тебя ненавижу! — проворчал Слон.
Григорий стоял, выставив вперед руку с пистолетом.
— Беги! И чтобы я тебя больше не видел, — приказал он Ганеше.
Проклиная его, Слон побежал прочь».
Значит, между молодыми людьми, то есть между мужчинами или, еще вернее, между героем и ожившим индийским богом произошел конфликт. Вернее всего, причиной ему была Дария. Конечно, можно было отлистать несколько страниц назад и попытаться разобраться в сути конфликта, ломая глаза на слепом тексте. Но это не так важно. Если важно, Толик подскажет.
«Григорий поднялся на третий этаж и только дотронулся до звонка, как Дария открыла дверь. Глаза ее были расширены, и руки дрожали.
— Что вы с ним сделали, Сергей? — спросила девушка.
— Не бойтесь, я его не убил. Рана у него легкая. Вы знали, что он носит с собой оружие?
— Я никогда не думала, что он посмеет употребить его против вас.
— Надо спрятать пистолет, — сказал Григорий. — Мне не хочется, чтобы кто-нибудь увидел его в моих руках.
— Ты — мой герой, — проговорила Дария. — Ты освободил меня от власти демона. Делай со мной, что хочешь.
— Я хочу, чтобы ты стала моей женой, — сказал Сергей, положив пистолет на журнальный столик.
— Я боюсь…
— Ты боишься Слона. Он больше не вернется.
— Я боюсь моей мамы. Она не переживет этого. Она убьет нас.
Дария приблизилась к мужчине и положила руки ему на плечи. Ее халатик распахнулся, и показались высокие упругие груди.
От их вида у Григория сжалось сердце.
— Пойдем в мою комнату, — прошептала Дария.
— А вдруг придет мама? — спросил Сергей (зачеркнуто, сверху написано «Григорий»).
— Нет, она задержится.
Говоря так, Дария завлекала Григория к себе в комнату.
— Ты не обманешь меня? — спрашивала она. — Ты женишься на мне?
— Ты — моя красавица, — ответил Григорий. — Я обязательно женюсь на тебе.
Слова его были неразумны, он не чувствовал опасности. Ему вскружили голову прелести блондинки.
— Погоди, — сказала Дария. — Я задвину шторы. А ты пока разденься.
Григорий начал раздеваться, а Дария тем временем задвинула шторы. В комнате стало полутемно.
— Скорее, — сказала она, — а то я замерзну.
Григорий запутался в брюках, и Дария засмеялась над его неуклюжим поведением…»
Боже мой, несчастный Григорий! Ему все время приходится встречаться с женщинами в каких-то форсмажорных ситуациях. Может, в этом выражается какая-то сексуальная неполноценность самого Сергея?
«— Ну скорей же!
Девушка упала спиной на диван-кровать. Раздевшись, Григорий опустился рядом с ней и стал гладить ее живот.
— О, я живу в ожидании счастья с любимым мужчиной, — прошептала Дария.
Григорий овладел девушкой.
— Ты делаешь мне больно! — воскликнула она.
— В этом и есть любовь, — ответил Григорий. — В любви мы всегда доставляем боль.
— Но есть и сладость.
— Сладость исходит из боли, — ответил Григорий.
— Скорее, скорее! — молила Дария, извиваясь в руках Григория, словно пойманная им сильная птица.
В пароксизме страсти они не заметили вошедшую в комнату женскую фигуру. Вспыхнул свет.
Это была Лиза.
— Мама! — воскликнула Дария, соскочив с дивана. Она схватила валявшийся на полу халатик, чтобы прикрыть неприличную наготу. — Мама! Он обещал на мне жениться! И под предлогом этого овладел мною.
— Это правда? — спросила Глория.
С ужасом Григорий понял, что у нее в руке находится пистолет, который он отнял у человека-слона.
— Могу ли я одеться? — спросил Сергей.
— Обязательно оденься. Я не казню тебя в доме. Я не хочу, чтобы милиция нашла твой труп в моей квартире.
— Но где ты меня убьешь?
— Вот этого ты не узнаешь до самой последней секунды своей жизни! — С этими словами Глория покинула его. Следом ушла ее поникшая дочь».
Поезд тяжело остановился у Челушинской, и зачитавшаяся Лидочка кинулась по проходу, прижимая к сердцу листы рукописи. Она боялась не столько опоздать выскочить из электрички, как потерять страничку из папки. В другой руке была сумка и пластиковое ведро, которое просил привезти Женя. Люди смотрели ей вслед — наверное, она произвела дикое впечатление. Они не знали, что эта женщина собственными глазами увидела, как человек после смерти может указать на убийцу.
Электричка ушла. На платформе стояла одинокая скамейка.
Конечно, она могла бы потерять несколько минут и дочитать этот фантастический документ у Глущенок в тишине и уюте, но она не могла дотерпеть. Осталось совсем немного, страница с хвостиком.
«…Неоднократно Григорий пытался дозвониться до квартиры Глории. Телефон не отвечал, словно все уехали оттуда.
Ежедневно вечером Григорий подходил к их дому и долго стоял, глядя на черные прямоугольники окон. Никого не было дома.
С тяжелым сердцем он возвратился домой. Он открыл дверь, вошел к себе в квартиру. Неприятное предчувствие охватило его. Он зажег свет в прихожей, затем заглянул в свою комнату.
На диване сидела Глория. Черные волосы растрепаны, как воронье гнездо, глаза — в черных кругах.
— Как я рад, — воскликнул Григорий, — что ты приишла! Я уж не знал, что подумать. Вы куда-нибудь уезжали?
— Неужели ты не нашел каких-нибудь более важных слов в последние минуты своей жизни? — спросила Глория.
Она вытащила пистолет, Григорий понял, что его жизнь подошла к концу. И он был не в силах изменить свою судьбу.
— Я не могу, — сказала Глория, — чтобы мои знакомые смеялись надо мной. Любовник матери женится на ее дочери! Это невыносимо!
Он стоял, опустив голову, словно школьник у доски. Она выстрелила в него два раза, затем вытерла краем скатерти рукоять пистолета и выбросила его в окно.
Она была уверена, что он убит и контрольный выстрел не нужен.
Затем она ушла, захлопнув за собой дверь. Соседи выстрела не слышали. Его труп обнаружили лишь на третий день. На похороны почти никто не пришел».
Все?
Лидочка посмотрела в папку. У нее было странное чувство, что, пока бежала по вагону электрички, она потеряла последние страницы. Нет, без сомнения, роман кончался именно гибелью героя. С удивительной прозорливостью Сергей предугадал свою смерть, и из могилы, с того света, направил указующий перст на Лизу Корф.
Глава 11
Глущенки Лидочку сегодня не ждали. Они думали, что она приедет в субботу.
— Тем лучше, — сказал Женечка. — Ты проведешь у нас не два дня, а три.
— Я не знаю, сколько я проведу у вас времени. Держите ваше ведро.
— Ах, какое красивое! Сколько я тебе должна? — спросила Итуся.
Пуфик прыгал и норовил облизать руку Лидочки.
— Что-нибудь случилось? — спросил Женя.
— Все переменилось.
— В чем?
— В деле Сергея Спольникова.
— Почему?
— Главной подозреваемой в убийстве стала Лиза Корф.
— Этого еще не хватало!
— У нее есть мотив и нет алиби.
— Давай, заходи в дом, сейчас дождик пойдет.
Они уселись на веранде. Итуся стала поить Лидочку японским грибом, который разводила в большой банке. Гриб был кисловатым и напоминал о детстве. У мамы был когда-то такой японский гриб, и его вкус, кислый и чуть пыльный, Лидочка запомнила на все прошедшие годы.
— Я вам оставлю рукопись, — сказала Лидочка, рассказав о событиях последних дней. — Мне незачем ее тащить к Анатолию Васильевичу, у него уже есть экземпляр. Я постараюсь узнать у него, что происходит и что он намерен делать. Еще я хочу зайти к Ольге.
— Нам всю рукопись читать? — спросила Итуся.
— Зачем? Вам не понравится. Это мистический, эротический роман. Сергей хотел заработать денег, а верная ему редакторша Марина помогла внедрить рукопись в издательство. Я сегодня говорила с главным редактором. Он искренне не подозревает о содержании романа. Но ощущает долг перед покойным автором.
— А разве так можно? — удивилась Итуся.
— В наши дни это реально. Сроки издания книг стали мгновенными, содержание куда меньше волнует издателя, и опытный редактор, имеющий связи и пользующийся доверием, может протолкнуть книжку. Теперь же, я думаю, раз Сергей умер, у Марины больше шансов довести до конца свою операцию. И, наверное, Марина сделает все, чтобы посмертный труд Спольникова увидел свет. Мы еще увидим небо в положительных рецензиях.
— Ты меня заинтриговала, Лидочка, — сказала Итуся. — Я немедленно начинаю читать. Тем более если Сергей предсказал в нем собственную смерть.
— Не надо читать все. Сначала он плутает по Гималаям в поисках смысла жизни и женщины, а вот в конце сталкивается с реальной жизнью. Главное — несколько последних страниц, он сменил на них ленту. До этого читать нелегко.
— Замечательно, — сказал Женя, — я читаю последние страницы, а ты, Итуся, все остальное, потому что имеешь склонность к астрологии, телепатии и прочим вершинам познания.
— Я имею склонность к тому, что помогает людям, — ответила Итуся, продолжая странный семейный спор.
Пуфик проводил Лидочку до калитки. Но на улицу не выбежал, видно, Лидочка не входила в число уважаемых им гостей.
Лидочка шла до милиции минут двенадцать. Она не спешила.
Парило. Дождь уже несколько раз начинался и прибил пыль на дорожках, но все не мог разразиться как следует. Видно, ему не разрешал старый Лидочкин барометр, который утром стоял на «ясно».
Лидочку смущала неправильность в ходе событий, нелепость, за которую она никак не могла ухватиться. Кто-то дурачил ее, но кто и зачем? Что за вереница преступников, которые хотят и могут убить Сергея? Но ведь в самом деле его смерть никому не нужна. А может, причина известна всем, а мы смотрим мимо нее?
Навстречу Лидочке шел молодой человек в черных очках, одетый, несмотря на жару, в кожаную куртку и кожаную кепку. Он был или идиотом, или нуворишем. Молодой человек внимательно посмотрел на Лидочку и вдруг неприлично выругался.
Лидочка вздрогнула и ускорила шаги.
Она не знала этого молодого человека и не понимала, чем она вызвала такую вспышку нелюбви?
Пройдя шагов двадцать, она обернулась. Молодой человек тоже остановился и смотрел ей вслед.
Тогда Лидочка его узнала — это Владимир, старший из братьев-разбойников.
— Голицын тебя предупреждал! — громко сказала Лидочка. — А ты опять за свое?
Владимир плюнул и пошел дальше.
Дежурный в милиции был ей не знаком. У него пышные рыжие брови, словно наклеенные на очень белое лицо.
— Здравствуйте, — сказала Лидочка. — Мне нужно видеть следователя Голицына.
— У нас нет следователей, — ответил вежливо дежурный. — У нас есть только оперуполномоченный Голицын.
— Эй, Мордонов, это ко мне?
Из глубины коридора надвигался Василий-мордоворот.
— Нет, это к Толику, к Анатолию Васильевичу.
— Он через час будет или через два, — сказал Василий, не узнав Лидочку.
Ну и хорошо, что не узнал.
— Он в Пушкино уехал, — сказал дежурный. — Что ему передать?
— Моя фамилия Берестова, я из Москвы, свидетель по делу Спольникова. Я снова приду, через два часа.
— Я запишу, — сказал бровастый Мордонов.
Лидочка покинула милицию и пошла к Ольге.
У нее возник план, подсказанный прочитанным романом. Но все зависело от везения — от запасных ключей.
Дома была лишь Катька. Она выбежала к калитке в одном купальнике, открыла калитку и впустила Лидочку. Прибежал пес.
— А я на водохранилище собралась, — сообщила Катька. — За мной девчонки зайдут.
— А мама где?
— Мама на работе, она до двух работает. Если хотите, идите к ней в библиотеку, вы знаете, где она в клубе сидит?
Катя просто лучилась молодым здоровьем, хоть лепи с нее девушку с веслом.
— Спасибо, — сказала Лидочка. — Может, мне не надо к ней идти, если у вас есть ключ от соседнего дома. Мне кажется, что твоя мама говорила, что запасные ключи хранятся у вас?
— Катеринка! — послышалось снаружи. У калитки стояли две девушки.
— Сейчас! — откликнулась Катя.
Она побежала в дом и вернулась уже в сарафане поверх купальника. В руке она вынесла связку ключей.
— Кажется, эти, — сказала Катя, передавая ключи Лидочке. — Вот этот от входной двери, этот от большого сарая, в котором подпол, а этот от веранды. Остальные не знаю от чего. Может, вы сами разберетесь?
Кате не приходило в голову, можно или нельзя отдавать ключи Лидочке. Лидочка была взрослой тетей Лидой, и, если нужны ключи, значит, так и должно быть.
Они с Лидочкой вышли из калитки вместе. При виде Лидочки девушки перестали щебетать.
— Вы обедать у нас будете? — спросила Катя, демонстрируя подружкам близость к такой красивой женщине.
— Не знаю, спасибо, — сказала Лидочка. — Но маму я в любом случае дождусь.
Катя помахала Лидочке, и девочки втроем побежали по улице к станции.
Лидочка не склонна к авантюрам, но любопытна.
Детективные истории привлекали ее только как читательницу, и умения, а тем более желания вторгаться в жизнь других людей у нее никогда не водилось.
Но эта история оказалась снежным комом, который увлек с собой и Лидочку. История была неправильной, наперекосяк, в качестве подозреваемых в ней участвовали несколько человек, совершенно не приспособленных к подобным ролям.
Она поехала в Челушинскую не для того, чтобы отвезти Глущенкам ведро, и не потому, что Даша просила ее заступиться за мать. Она и без того хотела побывать там и понять, что же знает и думает Голицын.
И тут она поняла, что нужно попасть в дом, где погиб Сергей.
Она была почти уверена, что увидит нечто, ускользнувшее от взора Толика, потому что Толик смотрел в неверном направлении. Теперь же, когда рукопись стала как бы вещественным доказательством, Лидочка хотела увидеть, каким образом и в какой обстановке она была сделана.
Лидочка миновала сад. В траве желтели яблоки, упавшие с деревьев. Головы соцветий флоксов покачивались на уровне груди. Когда, одолев замки, Лидочка проникла внутрь дома, она поняла, что его замкнутость была условной. Одно из окон было приоткрыто, так что желающий мог через него забраться и выйти без всяких ключей. Может быть, сюда уже лазили местные мальчишки.
На кухне роились мухи. Лидочка открыла холодильник, который стоял у самой двери, из него пахнуло плесенью. Холодильник был отключен. По просьбе Толика Ольга вытащила и выбросила продукты, но следы продуктов были достаточной добычей для мух. Казалось бы, летом для мух хватает пищи на улице. Но и мухе иногда хочется чего-нибудь экзотического. Например, крошки из французского печенья или кусочка кальмара.
Лидочка захлопнула холодильник. Кухня была длинной, за холодильником вдоль окна тянулся большой стол, на котором сиротливо стояла пишущая машинка, лежали стопки бумаги и копирка. Дальше, за столом, угол был заставлен большими пустыми бутылками. Лидочка как-то слышала, что хозяева дачи заготавливают на зиму вино из черноплодки и черной смородины. Дверь слева вела в комнату без окон, где нашли тело Сергея, дальше стоял кухонный стол, плита и столб ОГВ-отопление и горячая вода.
Обе спальни были аккуратно прибраны, кровать Сергея застелена.
Лидочка вышла в прихожую. Отсюда лестница вела на второй этаж. Лидочка медленно поднялась по крутой лестнице, стараясь ступать как можно тише: с каждым шагом ее все больше охватывало чувство неловкости, даже преступности своего поступка. В конце концов, она не имеет никакого отношения к Сергею. Она свидетельница, и не более того. Может быть, ее излишнее участие в этом деле объясняется лишь тем, что у Сергея нет близких родственников. Нина и Лиза, некогда близкие ему женщины, угодили в подозреваемые.
Но это не оправдание для того, чтобы обыскать дом, в котором Сергей погиб.
Наверное, ты зря радовалась, Лидия, когда оказалось, что Ольги нет дома, а Катя, не задумываясь, отдала тебе ключи. Если бы Ольга была дома, ты уговорила бы ее пойти вместе, и не было бы страха и сжатости сердца.
— А разве страшно? — спросила себя Лидочка, и сама удивилась такому вопросу.
Ну почему же может быть страшно посреди солнечного летнего дня, в населенном поселке, в двух шагах от милиции?
Лидочка поднялась на второй этаж и оказалась в продолговатой, большой комнате. В торце комнаты был эркер, в котором умещалась раскладушка. Когда Лидочка подошла к нему, то увидела сверху зеленую массу обильного сада и зреющие, желтые яблоки. На яблони напал какой-то мор, и потому много яблок, не дозрев, попадало на землю. Замерев и вслушиваясь в тишину сада, Лидочка услышала, как мерно ударяются о землю падающие яблоки.
А может, это шаги?
Лидочка обернулась.
По обе стороны комнаты, ближе к лестнице, в обшитых вагонкой стенах были две двери, они не запирались. Они вели в скосы, образованные крутой крышей и стенами комнаты. Там, наверное, хранилось всякое барахло, что накапливается в любом доме за десятилетия…
Лидочка прошла к одной из дверей и приоткрыла ее.
И тут же отшатнулась.
Кто-то пронесся рядом, сшибая пустые бутылки и опрокидывая картонные коробки.
Лидочка едва сдержала крик.
Загремела крыша. Тот, кто таился за дверью, каким-то образом выскочил на крышу и помчался по ней.
Кошка, конечно же, кошка!
Значит, таиться там никто не может — человек напугал бы кошку раньше, чем туда заглянула Лидочка.
За дверью были видны доски, картонки, куча тряпья…
Лидочка повернулась к другой двери, хотела заглянуть и туда. Но остановилась. За плотно закрытой дверью ей почудилась угроза. Слишком тихо стало вокруг… Конечно же, ничего ей грозить не может, тем более что она и не собирается заглядывать в ту дверь… Ей все равно пора спускаться — что она забыла на втором этаже дачи?
Лидочка быстро сбежала по лестнице.
Внизу было спокойнее. Может, потому, что дверь в сад совсем рядом.
«Наверное, это чувство тревоги оттого, — подумала Лидочка, — что я виновата. Я вторглась в чужой дом, в мертвый дом. И в нем, хоть так и не бывает, все еще присутствует дух убитого человека. Ведь взяли люди откуда-то эти сроки: девять дней, сорок дней… Есть ли в них смысл движения человеческой души прочь от живых? Никогда не приходило в голову проверить: а как у других народов, в далеких цивилизациях — соблюдается ли такой же странный двухступенчатый срок исчезновения души человека?»
Эти мысли заняли Лидочку, но не изгнали страхов, странного чувства, что в доме, кроме нее, есть кто-то еще.
Лидочка выглянула в кухонное окно. Сквозь листву проглядывали сараи, стоявшие спинами к забору Ольги. Если что-то случится, сколько ни кричи, никто не услышит. Надо перейти на другую сторону дома, к приоткрытому окну, которое выходит в переулок, там кто-то может быть.
Знаю ли я, что мне надо искать?
«Нет, толком не знаю», — призналась себе Лидочка.
Лидочка оглядела стол возле пишущей машинки. Потом заглянула под него. Там валялась лишь разорванная красная коробочка из-под ленты для пишущей машинки. Больше ничего. А вот и старая, использованная лента на катушке. Она откатилась почти к самому холодильнику.
Подобрав эти предметы, Лидочка положила их на стол, а сама пошла в комнату, где Сергей обычно спал.
На столике у кровати валялось несколько исписанных листов. Лидочка подняла их, пробежала глазами. Оказалось, что это лишь черновики к популярной книге о растениях Крыма. Лидочка уселась на кровать и принялась внимательно перебирать листки, переворачивая их: нечто полезное могло оказаться и на обороте.
Над головой, на втором этаже кто-то прошел. Легко, на цыпочках.
Лидочка вспомнила, что там гуляет кошка, и не испугалась. Она перешла в гостиную и стала наугад просматривать книги.
Почему-то Лидочке казалось, что Сергей должен где-то оставить планы, черновики, наброски к своему опусу. Ведь лежат же в спальне черновики ботанического труда!
Странно. Слишком уж здесь прибрано… Вот на столе несколько книг с завлекательными названиями — тантра, буддизм, астральные тела и прочие загадочные штуки, которые Сергей, видно, изучал, но не оставил ни одной закладки. Хотя Лидочка по старой памяти знала, что Сергей при работе доводил книги, которыми пользовался, до жалкого состояния, загибая углы страниц, делая пометки, помарки, вырезая нужные ему страницы или абзацы. Как-то у него даже был разговор по этому поводу с Лидочкой, которая сжалилась над искалеченной книжкой. «Такова жизнь, — глубокомысленно заявил тогда Сергей. — Сильные пожирают слабых. Ленин тоже писал на полях. Чужая книга — лишь материал для собственной». Может быть, Сергей тогда шутил или оправдывался. Вернее всего, он был вполне серьезен.
Книги, которые лежали на столе, были чисты, не читаны, не тронуты.
Должны быть другие? Но кто и почему их убрал?
Лидочка возвратилась на кухню, к столу, на котором стояла пишущая машинка.
Листы бумаги, лежавшие рядом с машинкой, были чистыми.
На всякий случай Лидочка подняла и посмотрела на свет лист копирки. Он был вытерт, почти прозрачен от долгой службы. Больше ничего интересного она не обнаружила.
Лидочка прошла в сени и заглянула в пустое помойное ведро.
Должно быть, содержимое его кто-то выбросил. Остался лишь лист копирки, приклеившийся к стенке изнутри.
Лидочка вытащила его из ведра. Посмотрела на свет.
Им пользовались, но лишь несколько раз. Кое-какие буквы можно было разглядеть. Но зачем?
Все же Лидочка перенесла листок на кухню и положила его на стол.
Скрипнула лестница. Лидочка обернулась. В дверь были видны нижние ступеньки, но кошка не появилась.
С каждой минутой ей все более хотелось отсюда уйти. Словно песок в часах, которые отмеряли ее время здесь, пересыпался в нижнюю колбочку, вот-вот ударит колокол…
На дальнем конце стола лежала книга.
Книга заинтересовала Лидочку по простой причине — когда-то они делали ее вместе. «Тропами Подмосковья» — одна из книжек, выпущенных Сергеем в «Московском рабочем». А иллюстрировала ее Лидочка. Ну и делал бы свои путеводители и справочники. Цены тебе в этом деле не было. И кому нужен был твой мистический роман?
Лида взяла справочник. Он был толстенький и солидный, как хорошо откормленный карапуз. Между страницами виднелся краешек закладки.
Лидочка открыла книгу. Закладкой служила написанная от руки записка на английской языке:
«L! There is a shed beyond the house with the cellar under it. My draft copies are there. Read them and you'll understand a lot.
Sincerely Sergey».
Лидочка с облегчением вздохнула, словно забралась на перевал и увидела впереди обещанную зеленую долину.
Не зря она так сюда стремилась, прочтя неладный роман Сергея.
Она была убеждена, что записка адресована именно ей. По крайней мере, три соображения говорили в пользу этого.
Во-первых, записка была вложена в их с Сергеем общую работу.
Во-вторых, записка была адресована кому-то, чье имя начиналось с буквы «Л».
В-третьих, она была написана по-английски. А английский в их кругу хорошо знали лишь Лидочка и Сергей. Когда-то, в Крыму, они даже договорились разговаривать для практики только по-английски. Но на третий день пришлось эту затею оставить — Елизавета бесилась от ревности. С тех пор Сергей с Лидочкой порой обменивались английскими книжками — оба были поклонниками классического английского детектива, в котором сыщик думает, а не распускает лапы.
Лидочка еще раз перечитала записку:
«Л! За домом есть сарай, в нем подпол. В подполе лежат черновики. Прочитай их и многое поймешь.
Твой Сергей».
Значит, он боялся беды? Ждал ее? И надеялся, что никто, кроме Лидочки, не обратит внимания на закладку в справочнике. А если и обратит, то не сможет прочесть…
…За домом есть сарай.
Сарай был отлично виден из окна. Он был стар, под двускатной железной крышей, окошко под потолком, перед дверью две ступеньки. Над дверью светились ветви, обремененные желтыми яблоками.
Наверное, в ту ночь, когда гости уехали, Сергей почувствовал опасность. Он быстро набросал записку и вложил ее именно в ту книжку, художником которой значится Берестова. Он оставил книжку на столе среди тарелок и чашек, надеясь, что книга, лежащая столь открыто, не привлечет внимания. Так и случилось. И вот теперь Лидочка стоит, нервно прислушиваясь к скрипам и шорохам старого дома…
Лидочка взяла с кухонного стола связку ключей.
Что говорила Катька? Вот ключ от входной двери, этот от веранды, а этот от сарая. Наверное, от этого сарая, он больше двух других, прижавшихся к нему.
Лидочка вышла из дома, не запирая за собой дверь, — она сюда еще вернется.
На улице светило солнце, но делало это как-то ненадежно, пробираясь между сизыми рваными облаками, которые грозили настоящим дождем. Неужели барометр ошибся?
Оттого, что по лицу солнца скользили дождевые облака, свет его был каким-то неверным. Кусты покачивались под порывами ветра, листва стучала, словно жестяная.
Лидочка перешла неровную лужайку, где когда-то были грядки, и остановилась в тени большой яблони. Ключ был бронзовый, новенький и легко повернулся в замочной скважине.
Зато дверь открылась с таким скрипом, что, наверное, Василий-мордоворот уже вызвал патрульную машину, чтобы поймать Лидочку и привлечь ее к уголовной ответственности.
Лидочка даже оглянулась, но никого не увидела.
Сильный порыв ветра пронесся над поселком, клоня деревья. Яблоки замолотили по крыше сарая и по дорожкам.
Следующий порыв был еще сильнее. Лидочку толкнуло им в стену сарая.
Внутри сарая было полутемно.
Когда глаза привыкли, Лидочка увидела слева от двери на высоте ее лица два выключателя. Она щелкнула первым — ничего не произошло. Второй выключатель сработал — под потолком загорелась голая лампочка, осветив пыльное и заброшенное помещение. Во всю длинную стену протянулся верстак с тисками и полками над ним, справа разместилась фотолаборатория с большим фотоувеличителем и пыльными ванночками, а по правую руку Лидочки, ближе к двери, под окошком стоял токарный станок.
Люк в подвал занимал середину пола.
Он был велик, сантиметров восемьдесят. Со стороны входной двери в крышке было выдолблено углубление для металлического кольца, за которое следовало потянуть, чтобы открыть подвал.
Лидочка плотно прикрыла входную дверь: ей не хотелось, чтобы кто-то, случайно забредя на участок, увидал, чем она занимается.
Она потянула за кольцо, и люк тяжело открылся, подчиняясь ей. Он весил немало, потому что был сделан из толстых досок в два слоя, видно, чтобы беречь холод.
С немалым трудом Лидочка откинула крышку.
Она громыхнула, ударилась об пол.
Внутри была чернота, из нее тянуло таким пещерным холодом, словно Лидочка в мгновение ока перенеслась из жаркого летнего дня в горную ледяную пещеру.
«Не может быть, чтобы подпол был без света, — подумала Лидочка. — Здесь все сделано так солидно…»
Она вспомнила о первом выключателе, у двери, и снова щелкнула им. И сразу внутри подземелья возник желтый свет. Лампочка была слабенькой. Она висела под самым потолком подвала, но ее света было достаточно, чтобы, склонившись над люком, Лидочка смогла все разглядеть.
Глубиной подвал был около трех метров. Так что если встанешь в нем и вытянешь вверх руки, то до потолка не достать. Под самым люком в стене было видно отверстие, из которого торчал конец толстой горизонтальной трубы, которая, как можно было догадаться, выходила наружу в фундаменте сарая и служила вытяжкой.
Стены подвала были обложены кирпичом, потолок достигал полуметра в толщину, пол устлан досками, по стенам тянулись широкие полки, в дальней стороне этого каменного мешка примерно четверть пола была отгорожена деревянным ларем для картофеля.
Несколько картофелин валялись на полу, они выпустили белые щупальца отростков и казались живыми и злыми.
Сверху не было видно, где же Сергей спрятал папку для Лидочки.
Но спуститься в подвал было несложно: железная лестница казалась надежной. И все же, не то чтобы ей было страшно лезть в самый обыкновенный подвал, но она не могла отделаться от ощущения, что кто-то следит за ней.
Ветер дул почти непрерывно. Длинные пряди облепихи дергались, стараясь вырваться из его хватки, палые яблоки устлали всю дорожку, кошка промчалась по крыше дома, возвращаясь в свое приятное сухое место.
Первые капли дождя ударили по листве. Они били пока редко, значительно, словно это были удары литавр, возвещающие о начале симфонии.
Лидочка со скрипом прикрыла дверь и присела на край проема, спустив вниз ноги. Потом нащупала верхнюю перекладину железной лестницы и медленно, осторожно спустилась вниз. Вот и пол! Доски под ногами поддались, они были неверные, подгнившие, между ними выступила вода.
Нужная папка и в самом деле лежала на широкой полке за проржавевшими банками зеленого горошка.
На папке было косо написано:
С. Спольников.
ЧЕРНОВИКИ.
Лидочка не удержалась, раскрыла папку.
В ней было страниц триста, исписанных рукой Сергея. Неужели он так серьезно относился к своему роману?
Уже через три минуты ей стало ясно, что в папку втиснуты, причем в странной спешке, без смысла и последовательности, листы, одни напечатанные на машинке, другие написанные от руки.
Можно было подумать, что Сергей, прежде чем отнести свой архив в подвал и спрятать его, спешно собрал со стола и из ящиков все бумаги, что имели отношение к его роману. Затем отнес папку сюда и написал английскую записку для Лидочки. Но что он этим хотел ей сказать?
Лида понимала: вернее всего, Сергей рассчитывал на то, что ей придется разбирать его архив в нормальной обстановке, при ярком свете, на сухом и даже мягком диване. Тогда она сможет разложить наброски к наброскам, отвергнутые варианты — ах, как ей нужны сейчас отвергнутые варианты! — к отвергнутым вариантам, а черновик последней главы собрать в особую папочку.
Ну ладно, здесь не место и не время заниматься литературоведческим детективом. Надо выбираться…
Лидочка завязала тесемками папку и положила ее на верхнюю полку. При этом она повернулась к лестнице и вдруг увидела невероятное: лестница быстро, на глазах, так что Лидочка не сообразила, что нужно хвататься за нее, уползла вверх. Впрочем, если рассуждать здраво, Лидочка и не могла задержать лестницу, потому что для этого ей пришлось бы бросить папку, а бросить чужую папку на мокрый грязный пол она не могла себе позволить… Так что она просто стояла и смотрела, как лестница скользнула вверх и громыхнула, падая там, в сарае.
Лидочка стояла посреди подвала, запрокинув голову, и чего-то ждала.
И старалась думать.
Она думала, что сейчас раздастся смех Кати или хохот братьев-разбойников. Никто не засмеялся.
— Эй! — крикнула Лидочка. — Перестаньте хулиганить!
Ну хоть бы откашлялись, хотя бы начали ругаться, ну хоть бы откликнулись!
Никакой реакции. Может быть, лестница сама уползла вверх?
Лидочка подпрыгнула, стараясь достать до края открытого люка, но между ее рукой и верхом оставалось больше метра.
— Ну сколько можно? — спросила она. — Сейчас я так начну кричать, что весь поселок сбежится. И вы пожалеете о своем хулиганстве!
Сверху послышались частые шаги. Шутник уходил из сарая. Скрипнула, закрываясь, дверь.
Стало совсем странно. Значит, кому-то надо было, чтобы Лидочка сидела тут, в подвале. И куда-то не пошла.
Но, во-первых, этот человек должен был знать заранее, что Лидочка полезет в подвал. Значит, он следил за ней, пока она была в доме, а когда увидел, что она лезет в подвал, решил наказать ее и оставить в этой яме.
Интересно, и сколько же ей придется здесь сидеть? За полчаса она непременно простудится и схватит бронхит. Значит, шутник, если он не садист, должен скоро вернуться.
Но шутник ли?
Лидочка старалась перебрать в памяти кандидатов на роль шутника, который способен запереть ее в подвале. И по логике вещей таких людей могло быть весьма немного. Во-первых, братья-разбойники, благо, один из них видел, как она шла утром по шоссе, а во-вторых, Катька или ее друзья. Так, просто, пошутили, у нас бывает… Следующий слой шутников ограничивался Дашей и Русланом. Но зачем им шутить на этой даче, совершенно непонятно.
Судя по тому, в каком направлении продвигались догадки Лидочки, нетрудно понять, что она тщательно, как человек, не желающий знать о гадкой или роковой болезни, не замечает ее очевидных симптомов.
Оставалась возможность, причем вероятная, что все это затеял не шутник, а человек с серьезными намерениями. А именно убийца Сергея. И убийце важно, чтобы Лидочка оставалась в этом подвале, пока… пока что?
Зачем ему надо ее изолировать? Что он выгадывает? Неужели он сообразил, что Лидочка полна подозрений, и своими действиями он подтверждает ее подозрения? И теперь кинулся бежать? Но куда убежишь? Раньше революционеры бегали к Балтийскому морю, чтобы по тонкому льду перейти в Гельсингфорс. А нынче? Неужели убийца намерен скрыться в независимой Белоруссии или более независимой Украине?
Лампочка светила слабо, доски хлюпали под ногами, и между ними выступила черная вода. К счастью, крыс не было — им здесь нечего есть.
Лидочка прислушивалась к тому, что происходит снаружи.
Каменный мешок был замечательно приспособлен, чтобы несчастный моряк Дантес провел в нем всю жизнь, так и не став графом Монте-Кристо.
Но если враг хотел, чтобы Лидочка погибла, исчезла и лишь через двадцать лет кто-нибудь случайно наткнется на ее скелет, то сообразил бы закрыть крышку ее гроба и завалить ее сверху. Но почему-то убийца этого не сделал, а оставил люк открытым. Если крикнуть как следует, могут и услышать. Но ведь убийца не случайно оставил крышку открытой — что-то он имел в виду. Что он намеревался возвратиться и попросить прощения за дурную шутку?
Лидочка стала соображать, что из досок можно использовать для самодельной лестницы. Во-первых, надо будет выломать полки, сколоченные из толстых досок. Те, что тянутся вдоль длинных стен подвала, достигающих длиной метра два с половиной. Если приставить их к стене, не хватит каких-то полметра. А что, если выломать ящик для картофеля? Нет, не выломается он, а рассыплется на доски. Все здесь внутри подгнило, подмокло, все на живую нитку, лишь стены, выложенные кирпичом, да потолок, лежащий на балках, держатся крепко.
Лида подошла к люку. Оттуда проникал лишь мутный свет — из окошка да от тусклой лампочки. Слышался странный шум. Будто мимо ехал поезд. Почему слышно поезд?
Тут Лидочка догадалась — снаружи льет дождь.
Видимо, он начался всерьез — доносившийся шум был ровным и скучным, ветер утих, и природа после долгого перерыва впитывала струи дождя.
— Эге-ге! — закричала Лидочка, стоя под открытым люком. — Эге-ге! Кто-нибудь тут есть?
И тут же поняла, что дождь ей не на пользу. Во-первых, никто в такую погоду из дома и носу не высунет. Катька с подружками прячется где-нибудь от дождя, Ольга, если придет домой, ни за что не догадается, что в тридцати метрах от нее заточена в каменном мешке несчастная дублерша графа Монте-Кристо. Милиционеру Толику также нет никакого смысла искать Лидию Кирилловну. А шум дождя перекроет любой крик из подземелья.
Ну что же делать?
Во всех детективных и приключенческих романах герой находит выход из положения. Или он строит пирамиду из пустых ящиков и по ним выходит к люку (нам здесь не из чего сделать такую пирамиду), или он подстерегает врага и, когда тот необдуманно наклоняется над люком, резким движением накидывает на его голову петлю и тянет его вниз, а там уж в отчаянной борьбе ломает ему шею…
«А потом остается с трупом врага наедине на ближайшие две недели», — сказала сама себе Лидочка.
— Ого-го-го! — закричала она. Ей так не хотелось думать о возможности какого-нибудь дурного исхода, что она продолжала смотреть на себя со стороны и даже подшучивать над глупейшим положением, в котором очутилась.
— Ой-ой-ой! — закричала она. — Кто поедет в Холмогоры?
И тут холодная струйка воды ударила ее по лицу. Несильная струйка, как в ванной, когда постепенно открываешь кран.
Лидочка ахнула и отскочила в сторону. И увидела, как сверху, словно любопытная змея, в отверстии горизонтальной трубы, служившей для вентиляции, показался конец водопроводного шланга, того самого, что лежал, свернутый, возле террасы. Самый обыкновенный пластиковый шланг, для поливки огорода.
Из него лилась вода.
— Вы что, с ума, что ли, сошли? — спросила Лидочка.
Ей никто не ответил.
— Я же ноги промочу, — сказала Лидочка.
Молчание.
— Нельзя быть таким невоспитанным хулиганом, — сказала Лидочка. — Это уже переходит все разумные пределы.
Сверху донесся смех.
— Я не собираюсь вас смешить, — сказала Лидочка. — Вам в самом деле надо меня простудить?
Изящная, некрасивая, со смытыми мелкими чертами, головка Марины Котовой склонилась над люком. Марина вглядывалась в глубину. Лидочка смотрела на нее, запрокинув голову.
— Меньше всего на свете я хотела бы тебя простудить, — сказала Марина. — Неужели я кажусь идиоткой?
— Ты все равно кажешься идиоткой, — сказала Лидочка.
— Ты знала, что это я? — спросила Марина.
— Я оставляла место для сомнения, — ответила Лидочка. — Выключи воду и убери этот шланг.
Марина разглядывала Лидочку настойчиво, будто старалась узнать.
— По твоей милости, — продолжала Лидочка, — мне уже пришлось целый час возиться по горло в желтой грязи. Мне не хочется повторять это приключение. Я бы назвала всю эту историю — дело в двух купаниях.
— Не фиглярничай, Лидия, — строго сказала Марина. — Ты ведь умираешь от страха.
— Пока нет, — сказала Лидочка. — Объясни мне, пожалуйста, что ты делаешь и, главное, зачем?
— У меня нет другого выхода, — тихо сказала Марина. Она скинула пепел с сигареты, стараясь попасть на Лидочку, как на неодушевленное существо.
— Знаешь что, Марина, мы с тобой никогда раньше не ссорились. Дай мне сюда лестницу, я вылезу, и мы с тобой нормально поговорим. И если тебе что-то нужно, я буду рада тебе помочь. У тебя проблемы?
— А дождь зарядил основательно, — сказала Марина. Она была словно в трансе, как под наркозом. Ход мыслей порой ускользал, и ей приходилось делать усилие, чтобы вернуться к действительности.
— Ты дашь мне лестницу?
— Ты знаешь, что не дам.
— Но почему?
— Я хочу, чтобы ты там осталась, — сказала Марина. — Ты догадалась обо всем, и мне придется тебя убить.
— К счастью, ты не можешь меня убить, — сказала Лидочка.
— Я с тобой не согласна, — ответила Марина. — У меня все рассчитано. Я не могу позволить тебе остаться в живых. Я подложила тебе записку в кухне. Ты даже не подумала, что она была написана не его почерком. Тебе не пришло это в твою хорошенькую пустую головку. Тебе достаточно было его подписи. Ах, Сережа, Сережа мне подсказывает! Сережа боялся смерти! Сережа спрятал папку с черновиками в подвале, чтобы враги не нашли!
Марина сердилась и говорила визгливо, с кухонными интонациями.
— Ты знала, что я приду сюда? — перебила ее Лидочка.
— Если бы ты не забралась на дачу, ты осталась бы в живых. Но ты выдала себя. Хорошо, что я предусмотрительно положила книжку с запиской на стол. Видите ли, только они вдвоем знают английский! Сережа мне говорил о том, как ты пыжишься от этого! Вот и допыжилась.
— Где же ты скрывалась?
— В метре от тебя. За дверью на втором этаже.
— И записку ты написала заранее?
— Я была на даче с утра. Мне нужно было еще раз проверить, нет ли на даче моих следов. И не оставить никаких следов черновиков Сергея. Я подозревала, что если ты догадаешься, что я переписала конец романа, то обязательно полезешь на дачу искать черновики. Я за тебя думала. Я всегда думаю за других.
— При чем тут черновики? — Лида старалась изобразить удивление.
— Лида, стыдно притворяться! У нас с тобой сейчас наступил момент истины.
Маленькая серая мышка, всю жизнь при ком-то и всю жизнь мечтает о роли женщины-вамп с пистолетом в руке. Как это плохо кончилось!
— Тогда сама рассказывай, — сказала Лидочка, отходя подальше от струйки воды, падавшей на пол. Вода уже поднялась вровень с досками. Если Марина не отключит ее в ближайшие несколько минут, Лидочка окажется в ледяной воде.
— Мне нечего рассказывать, — заявила Марина. Она пододвинула стул к краю люка и уселась на него, так ей было удобнее. Она смотрела на Лидочку сверху, как король на мышь под ногами.
Лидочка молчала. Некоторое время молчала и Марина. Лишь лилась вода из шланга, и сквозь ее шум пробивался шум ливня за стеной.
Марина не выдержала молчания, ей надо было выговориться — без этого ее торжество было неполным.
— Он меня любил, — заявила она. — Это была долгая, трудная, тайная страсть. Он обещал мне, что, как только окончательно распутается с семейкой Корф, мы соединим наши судьбы. А я приезжала к нему на дачу, он работал, нам было хорошо вместе. Он читал мне… Да, меня смущало появление в романе сексуального символа — Дарии. Но я утешала себя мыслью о том, что художник-мистик имеет право на вымысел, на полет фантазии… Как ты догадалась, что я его убила? Ну, говори же!
— Ты сделала несколько ошибок. Даже странно, что я раньше не догадалась. И странно, что не догадался Анатолий Васильевич.
— Это следователь?
— Это капитан милиции.
— Он просто деревенский дурачок! Что он может придумать! Он так легко попался на новый конец романа! Ему этого хотелось! Мне оставалось лишь подсунуть рукопись с новым концом так, чтобы никто не догадался, что это моя работа.
— Интересно, почему ты не отдала ему первый экземпляр?
— Я должна была сопротивляться! Я должна была покрывать других людей. Вы все должны были поверить, что хоть я и не люблю эту девицу, я стараюсь оградить ее от подозрений.
— Слушай, Марина, убери ты этот шланг.
— Неужели ты до сих пор ничего не поняла, Лида?
— Что я должна понять?
Лида уже догадалась о плане Марины и боялась, что догадалась верно. Она старалась разговорить Марину — ведь преступнику иногда так хочется выговориться перед новой жертвой. Только трудно поверить в то, что ты и есть следующая жертва.
Марина не стала таиться.
— Это просто гениальное изобретение, — сказала она. — Домовитый кулак создал идеальную мышеловку. Я утоплю тебя, и все будут думать, что ты сама туда попала.
— А шланг? — глупо спросила Лидочка. — Шланг найдут и догадаются.
— Не думай, я тебя не брошу. Я останусь с тобой до последней минуты, и только когда ты утонешь, я вытащу этот несчастный шланг. — Марина замечательно владела собой. Все-таки у нее было слабое воображение. Ведь нелегко беседовать с жертвой.
— Ты можешь поливать подвал водой сколько тебе угодно. Вода скорее впитается в пол, — сказала Лидочка.
— Кого ты хочешь обмануть, Лидия? Собственную смерть? Ее не обманешь. Осознай, что в конце концов ты умрешь. Но не через двадцать лет от какого-нибудь отвратительного рака, а сегодня, в чистой воде. Без особых мучений. Примирись с этим, Лидочка.
— А почему ты его убила? Ведь таких же не убивают. — Лиде было страшно говорить о своей смерти.
— Я его убила, потому что все шло наперекосяк. Его любовь — это такая хрупкая субстанция. Я делала для него все, в издательстве, в других издательствах, я устраивала его рукописи, я готовила ему его любимые клецки. Ты знала, что он любил клецки? Он скрывал наши отношения, ты понимаешь, что он таил их от людей? Я хотела, чтобы он женился на мне — да, я отдала ему все, и я хотела всего. Он обещал мне, что мы соединимся. Вот он допишет свой глупый роман…
— Ты считаешь его роман глупым?
Чем дольше они будут разговаривать, тем больше шансов у Лидочки остаться в живых. Ведь в конце концов этот проклятый дождь кончится и кто-то придет на участок. Пока же начал громыхать гром.
— Я объективна, — задумчиво ответила Марина. Она закинула ногу на ногу и покачивала туфлей над головой Лидочки. Вот сейчас туфля упадет, и тогда она не посмеет утопить меня — она же поймет, что ее туфля будет главной уликой…
Будто перехватив мысль Лидочки, Марина перестала качать ногой.
— Для меня его роман существовал лишь вместе с Сергеем. Я любила Сергея. Я любила его настолько, что готова была убить. Он был мой! Он клялся, понимаешь, он поклялся мне. Но я давно подозревала, что он мне лжет. И он проговорился. Еще до вашего прихода, еще днем… Когда я утром приехала к нему сказать, что я прочла роман, что отдала экземпляр художникам, что рецензии положительные. Еще бы, я их сама написала! Я все для него сделала. Ну кто в издательстве будет читать роман, если я написала на него редакторское заключение, а рецензии прислали члены Союза, известные люди? Никому неохота тратить время на чужую белиберду. Главное, чтобы художник сделал яркую обложку…
Вода уже плескалась вокруг ее ног, и подошвы Лидочки промокли. Вода была очень холодной.
— Я приехала к нему утром и рассказала, что все устроила, теперь можно редактировать рукопись.
— А чем кончался роман на самом деле? — спросила Лидочка.
— Это был сплошной бред. Какой-то астральный свальный грех, Дария и Глория, взявшись за руки, пляшут вокруг Григория — они возносятся в эротические или эзотерические сферы и там, конечно же, совокупляются… Оказывается, он спал с этой девчонкой! Я в этом теперь уверена.
— И что случилось в тот день?
— В тот день? Он рассказал мне, что к нему приезжала Даша Корф, та самая девица, которую я давно подозревала, достойная дочь своей матери, и она привезла ему пистолет, который отняла у своего поклонника. Поклонник ревновал ее к Сергею и решил его убить. Даша якобы отняла у него пистолет и не нашла ничего лучшего, чем притащить на дачу. Она думала, что это самое безопасное место. Тогда у меня открылись глаза! Я спросила моего Сережу, а что они потом делали с этой Дашей? Ведь девицы случайно не приносят пистолетов… Я думала, что он начнет бормотать о том, что заменил девчонке отца, — я это уже слышала и верила, как последняя дура. Ничего подобного! Он мне ответил, глазом не моргнув, что они обсуждали вопрос женитьбы. Я даже подпрыгнула. Как женитьбы? Мы, говорит, решили! Ему, видите ли, захотелось свежей телятины!
Странно, но Марина рассказывала о недавнем дне, словно о событии десятилетней давности.
Лидочка слушала монотонную исповедь Марины, но в ее воображении строилась иная, отличная от той, что жила в памяти Марины, картина.
Лидочка пыталась их всех понять.
И ей казалось, что она понимает.
Сергей спал с Мариной, общался с Мариной, ходил в гости к Марине, будучи одним из авторов Марины, но занимал в этой вежливой и, в общем, равнодушной свите особое место. В глазах Марины он был претендентом и, может быть, единственным за долгие годы претендентом на ее руку. Не питая никогда матримониальных планов по отношению к Марине, Сергей все же был достаточно осторожен и не посвящал ее в свои отношения с Дашей Корф. Он чувствовал, что этого делать не следует. Слишком многое зависит от издательства, от расположения Марины.
Обычный Сергей, обычная ситуация, которая должна была разрешиться в худшем случае скандалом, обреченным на то, чтобы умереть в стенах издательства. Ну, потерял бы Сергей покровительницу. Зато приобрел бы молодую жену.
Но дальше обстоятельства начали громоздиться Гималаями.
Может быть, именно роман с Дашей и весьма сложные отношения с ее матерью подвигнули Сергея на создание эзотерического романа. И деньги были нужны, и слава, а главное, требовала выхода запоздалая сексуальность. Марина проталкивала роман, который ей активно не понравился. Но каким-то образом Сергей, страстно возжелавший увидеть роман напечатанным, дал понять Марине, что любит ее более, чем раньше. И может, даже что-то как-то пообещал или дал ей возможность услышать обещание между строк. И вот на это наложилось появление слонопотама с его страстями и пистолетом.
Для среднего интеллигента пятидесяти годов, прожившего жизнь без войн и насилия, возникновение соперника с пистолетом было необычным и романтическим раздражителем. Пистолет, привезенный юной любовницей, придал его жизни необычную остроту. Ну как Сергей мог не похвастать кому-то этим пистолетом? Пистолетом, предназначенным его убить! И надо было, чтобы этим исповедником оказалась тихая Мариночка.
Сергей, видно, не сообразил, не почувствовал опасности… С романом все в порядке. Роман закончен и пристроен, роман получил хорошие отзывы. С Дашей все хорошо — скоро свадьба. Лиза уже отплакала свое и смирилась. Слонопотам лишен пистолета и больше не приедет. Жизнь только начинается… Оказывается, как поняла Лидочка из сбивчивого и слишком детального монолога Марины, в тот день, когда Марина, страшно гордая собой за эти липовые рецензии, приехала к нему на дачу, Сергей посмел ею овладеть. Марина не понимала, что причиной тому его хорошее настроение и искренняя благодарность помощнице Мариночке. Он ей дал себя на чай… А Марина решила, что это навсегда.
А потом, расслабившись, добрый и любящий всех на свете Сергей рассказал историю с пистолетом, не понимая, что эта история — его признание в любви другой женщине, упавшее на почву давнишних подозрений.
Марина была потрясена, убита…
Она спросила, не собирается ли он жениться на дочке бывшей любовницы, а Сергей, решив, что сейчас как раз самый удобный момент для признания, ответил: «А то как же!»
Марина молчала.
Шел день. Было жарко. Начали подплывать гости…
Марине надо было держать себя в руках и улыбаться. Она вела себя безукоризненно, Сергей даже порадовался, как славно все обошлось.
Чем дальше длился день, чем шумнее становились гости, чем самоуверенней и наглее казался ей Сергей, тем сильнее росло в ней желание поговорить с ним начистоту, любой ценой заставив его отказаться от женитьбы на девчонке, которая через год изменит ему с первым встречным лавочником.
— А откуда появился портсигар? — спросила Лидочка, которой уже было ясно, как все произошло. У нее онемели ноги.
Марина как бы вышла из транса и не сразу поняла, о чем ее спрашивают.
Потом вдруг хрипло засмеялась:
— Эта дура забыла его на скамейке в электричке. Он у нее выпал из сумочки. Я заметила его и взяла, чтобы вернуть. Но у поезда я потеряла Нину и не отдала портсигар. И тут же забыла о нем. А потом выкинула. Не хотелось думать о той женщине!
— Я тебе не верю, — сказала Лидочка, переступая с ноги на ногу. Она сделала шаг в сторону, оперлась о полку и поджала ногу. Так было чуть теплее. — Ты хотела, чтобы подозрение пало на Нину.
— Как я могла это сделать? — ответила Марина. — Кто заподозрит Нину? Воплощение целомудрия!
— И все же ты добилась своего.
— Помимо моей воли, — сказала Марина, глядя в сторону. И Лидочка ей не поверила. В отличие от негодяев в детективных романах Марина вовсе не намеревалась в своей исповеди придерживаться истины. Словно допуская возможность, что Лидочка спасется…
— Марина, хватит, выключи воду, — попросила Лидочка. И уловила нотки мольбы в своем голосе.
«Если Марина увидит, что я боюсь, она начнет наслаждаться моим страхом».
— Испугалась? — засмеялась Марина. — Наконец-то.
— Я не испугалась. — Лидочка постаралась ответить твердо. — Это ты боишься. И заметаешь следы.
Господи, откуда я набралась таких выражений!
— Я отомстила. Не только за себя… отомстила за всех поруганных женщин. Видно, судьбе угодно время от времени посылать в мир таких, как я… мстительниц.
— Ты не убийца?
— Нет. Я совершила суд справедливый… Таким, как он, нельзя оставаться в живых. Слишком велика глубина его падения. Я так и сказала ему…
— Как ты это сделала? — спросила Лидочка.
Скорее бы прекращался дождь! Скорей бы кто-нибудь пришел и вызволил меня!
Она переменила ногу. Ту, которая чуть отогрелась в воздухе, обожгло ледяной водой. Нет, долго я так не продержусь…
Лидочка взяла с полки толстую папку с черновиками Сергея.
— Марина, — сказала она, — честно предупреждаю, если ты сейчас меня не выпустишь, я положу в воду папку Сергея.
— Какую папку? — не сообразила Марина. Потом догадалась: — А, ту самую, что я тебе собрала? Ах ты наш Шерлок Холмс! Догадалась, что я новый конец написала!
— Ты ленту сменила. Это была ошибка. В день убийства лента была старая. Я сегодня утром догадалась, — сказала Лидочка. — Значит, тебе не жалко черновиков?
— Я не буду издавать эту грязную книжку, — сказала Марина. — Все, что связано с этой гнусной личностью, мне отвратительно.
— А я думала, что ты его любила.
— Любила, поэтому я его ненавижу. Ты когда-нибудь испытывала сильные противоречивые чувства? Когда тебе хочется убить предмет своей страсти.
— Не ссылайся на Фрейда, — рассердилась Лидочка.
— Ты никогда не любила по-настоящему, — сказала Марина. — И папка тебе не поможет.
Лидочка положила толстую папку под ноги. Как же она раньше не сообразила! Вода не доставала до верха папки сантиметров двух. Сразу стало легче.
— Я не думала, что убью его. Я же не убийца. Такие, как я, не убивают. Ты веришь?
Лидочка не ответила.
— Такие, как я, — жертвы. — Марина продолжала воспоминания. — Он очень удивился, что я вернулась. Он был встревожен. Сначала я старалась держать себя в руках. Я спросила, соскучился ли он по мне? Сказала, что тоскую и хочу его! Он же был уверен в себе. Он сказал, что мне не стоит оставаться у него, что увидят соседи — будто раньше это кого-то волновало! Я его прямо спросила: а когда эта малолетняя шлюха к нему приезжала, она оставалась на ночь? Он сказал, что это меня не касается, и предложил выпить кофе. Кажется, я начала на него кричать… дальше был какой-то кошмар. Честное слово, я не помню… я только помню, что пистолет лежал на полке за книгами, он же при мне его прятал. Я стала сваливать с полки книги, я никак не могла найти этот пистолет. Но я и в тот момент еще не думала, что его убью. И он не думал. Даже когда я нашла пистолет и наставила на него, и стала спрашивать его, как из него стрелять, он вдруг стал улыбаться. А я ведь знала, как стрелять. Выстрел был негромкий. Он так и не догадался, что я его убила. Он упал. Как там вода, утопила его труды?
Лидочка не стала отвечать. Потому что вода уже покрыла папку и поднималась медленно, но верно.
— Я не испугалась. И не испытывала раскаяния. Он получил, что заслужил за свою бессмысленную развратную жизнь. Но я не хочу идти в тюрьму, я не хочу, чтобы мои знакомые ходили на мой процесс и там здоровались со мной. А я бы сидела на скамье подсудимых и с ними раскланивалась. Не дождетесь!.. Я завернула в плед и взяла с собой разные вещи, не помню какие, чтобы все думали, что это залезли бандиты. И пистолет взяла. Потом потушила свет и ушла. А вещи кинула в воду, я знала, что там строительство. Наверное, надо было лучше спрятать, но мне не хотелось таскать с собой мешок. Зачем ночью женщине ходить с мешком? Я пошла к шоссе… А испугалась я всего один раз. На дороге под фонарем я встретила страшного толстяка. Он шел навстречу. И вдруг я поняла, что этот толстяк и есть его соперник, хозяин пистолета. И знаешь, потом я обрадовалась. Пускай этот развратник попадется. Пускай лезет и находит труп. Я думаю, что он меня не заметил. Он шел как зомби… Ты еще живая?
— Марина, я тебя обязательно переживу, — пригрозила Лидочка.
— Я еще раз сюда приезжала. — Лидочка интересовала Марину только как аудитория. — На следующий день. Ночью. Я боялась, что не попаду в дом. Но попала, через окно. Ты догадываешься, зачем я вернулась? Почему так рисковала?
— Думаю, что да.
— Правильно. У меня родилась блестящая идея — сделать идиотский роман Сережи доносом на Лизу Корф и ее дочку. Я же должна была и им отомстить!
— Ты не сразу это придумала?
— Я же ничего не планировала заранее! Машинку могли увезти или украсть, дом могли закрыть…
— Значит, ты направляла мысли Толика в нужном направлении?
— В каком смысле?
— Ты помогала милиционеру поверить в то, что Сергей сознательно указал в романе на убийцу?
— Наконец-то ты догадалась! Я так сопротивлялась, что он бросился в Москву за вторым экземпляром. Он сердился на меня за то, что я выгораживаю светлую память о Сергее! Ах, какие мы с ним вели беседы о литературе и отражении в ней действительных жизненных обстоятельств!
— Ты неубедительно написала окончание. Плохо написала. И в трех местах проговорилась, назвала героев настоящими именами. Разве так можно?
— Так нужно! — сказала Марина. — Чтобы следователь скорее поворачивался. И я не теряю надежды, что Лиза сядет. В папке, которую я тебе подсунула, нет окончания романа, тебе она была бы бесполезна. Но в ней есть письма от Лизы Корф. И довольно злобные письма. Я их нашла у него дома.
Лидочка посмотрела вокруг. Если ломать полки, то из досок можно сделать помост. Тогда Марине придется долго ее топить. Лидочка стала расшатывать полку. Марина вскочила, опрокинув стул.
— Ты что там делаешь? — укоризненно крикнула она.
— Продлеваю свою несчастную жизнь.
От полки отломилась доска. Лидочка положила доску под ноги, на нее — папку, теперь ей снова стало сухо.
Застучали шаги. Марина убежала под дождь. Что она придумала? Оказалось, что у Марины есть способы утопить свою жертву поскорее.
Из шланга вдруг ударила такая толстая, сильная струя, что его конец начал дергаться, кидая струю в потолок и стены подвала. За шумом воды Лидочка не сразу сообразила, что Марина прибежала обратно.
— Прощай, — сказала она, наклонившись, чтобы получше разглядеть Лидочку. — Извини, но больше я разговаривать с тобой не могу, а то кто-нибудь придет и нас с тобой здесь отыщет. Прощай, подруга!
Убедившись, что напор воды силен. Марина подняла и опрокинула крышку люка, которая глухо ударилась, отрезая Лидочку от мира. И сразу стало страшно так, что заболел живот.
Теперь сверху бил сильный косой душ. Конец шланга, торчавший сантиметров на десять из трубы, дрожал, дергался, разбрызгивая по подвалу тысячи капель, и вскоре все подземелье затянул густой ледяной туман.
Чтобы не замерзнуть, Лидочка стала отрывать одну за другой доски полок, но они не слушались ее, они всплыли, и стоять на них было невозможно.
Лидочка продолжала выламывать доски, чтобы их стало наконец так много, что можно будет достать до крышки люка.
Она почувствовала, что не хватает воздуха.
Глава 12
Когда вода поднялась на метр, Лидочка стала терять сознание. Правда, к тому времени она наломала достаточно досок, чтобы взобраться на них. Доски были скользкими, ненадежными и норовили ускользнуть из-под ног.
Ноги закоченели, потом закоченело все тело — она поняла, что попросту умрет от переохлаждения. Надо же — ее убили, заморозив в середине лета! Ей стало страшно, что кто-то рядом шумит. Лидочка не сообразила, что шумит она сама. Вдруг погас свет — лампочка исчезла, видно, Марина решила, что без света Лидочка потеряет ощущение пространства. Она уже не могла собирать доски и строить из них что-то вроде плота, она не знала, где верх, где низ и где сами эти доски.
Она занималась рассуждениями пустыми, но успокаивающими: когда вода поднимется к самой крышке, она всплывет вместе с ней и тогда толкнет эту проклятую крышку — станет тепло и светло, и она выберется… В ее туманных и неясных мечтаниях не было места плохой Марине, потому что если вспомнить о ней, то придется представить себе Марину Котову, тихого редактора солидного издательства, женщину совершенно безобидную, сидящую с сигаретой на стуле над закрытым водяным гробом, над утонувшим «Титаником», в котором мечется последний пассажир.
Ей захотелось спать — надо улечься в воду. Тогда не будет плохо и страшно. Все обойдется, обязательно обойдется, только дайте мне заснуть, не мешайте… там в степи глухой… кто там поет за нее?
Волки лают. Почему бы волкам лаять? Эй, волки, не смейте лаять!
Лай исчез, чтобы снова возвратиться, но окоченевший мозг отказывался понять, что же происходит. Ведь все уже вокруг стало сном, и лишь астральное тело Глории уносило ее куда-то на вершины Гималаев, где очень холодно…
Евгений Александрович Глущенко, просмотрев роман Сергея Спольникова, сделал для себя два вывода. Первый: роман ему крайне не понравился и граничил с графоманией, что, к сожалению, случается среди ученых, которые решают на старости лет побаловаться беллетристикой. Второй вывод был куда более актуален и серьезен: последняя глава романа, в которой герой Григорий, между прочим, названный пару раз Сергеем, становится жертвой собственного распутства и ревности матери своей невесты, ему показалась написанной иначе, другой рукой. У Жени был достаточный редакторский опыт, чтобы сразу уловить, что усеянное красивостями (это вызывало недовольство издательского редактора) повествование неожиданно уступает место сухой гимназической прозе. Даже описание сексуального общения героя с Дарией изложено сухо и скучно, будто автору и глядеть в ту сторону противно. Что было странно, словно вошел новый автор, который не желал писать эротических сцен.
Следующее умозаключение Глущенки касалось редакторских замечаний. В конце замечания исчезли. Редактор отныне был удовлетворен текстом. Наконец, еще одна важная, хотя и не решающая деталь обратила на себя внимание Глущенки: новые по стилю страницы были написаны на свежей ленте.
Эти несуразности были столь очевидны, что он позвал Итусю, которая уже принялась готовить обед, и произнес странные слова.
— Итуся, — сказал он. — Мне кажется, что Марина Котова, помнишь, такая серенькая редакторша Сергея, или его сама убила, или знает, кто это сделал. Когда Лидочка вернется, мы должны будем ей об этом сказать.
Итуся ахнула, выслушала все аргументы мужа, а сама проглядела последние страницы и сделала неожиданное для Жени заявление:
— Бог с ним, с обедом, пошли искать Лидочку.
— Ты хочешь показать ей эти страницы? Но она же их читала.
— Вот именно. И она наверняка пришла к таким же выводам.
— Вот и хорошо, пускай поделится с Анатолием Васильевичем.
— Она очень давно ушла.
— Значит, ждет следователя.
— Женя, — строго сказала Итуся, — я тебя редко о чем-нибудь прошу, но сейчас у меня плохое предчувствие.
— Итуся!
— Женя, если ты не пойдешь, я пойду с Пуфиком.
— Итуся, ты только посмотри, какой идет дождь, — сказал Женя и встал с дивана.
— Пускай дождь.
— Тогда ты никуда не пойдешь. Ты останешься дома. Я не желаю, чтобы ты простужалась.
В результате они спешно собрались и побежали по лужам в милицию, потому что думали, что Лидочка старается пересидеть дождик в милиции, ей ничего не угрожает. Ей может что-то угрожать только, если она не в милиции. А где?
Они бежали под двумя разными зонтиками, струи дождя хлестали их по ногам, Пуфик метался между зонтиками, но ничего у него не получилось, и он уже проклинал на своем собачьем языке тот момент, когда увязался за хозяевами. И вольно же ему было!
Не доходя до милиции, Глущенки свернули на Школьную улицу. Дом № 5 был тих и пуст. Разумеется, там никого не было. За исключением одного человека.
Этим человеком была невысокого роста весьма полная женщина в прозрачном плаще, которая стояла у входа на веранду спиной к улице.
Женя распахнул калитку и издали крикнул:
— Простите, вы не видели Лидочку?
Женщина обернулась. Это была библиотекарша Ольга, соседка.
Она сказала:
— Я только что вошла. Смотрите, как странно!
Ольга показывала на шланг, который был надет на кран для поливки огорода. Шланг был толстым, круглым и вздрагивал, вода шла по нему под полным напором.
— Что это значит? — спросила Ольга.
Пуфик метался возле двери в сарай, пронзительно лая. Он кинулся к людям, потом снова помчался к сараю.
— Посмотрим? — с дрожью в голосе произнесла Ольга.
— Подождите меня здесь, — сказал Женя и сорвал шланг с крана. Потом, не обращая внимания на бившую струю — все равно промок, — завинтил кран. И тут же побежал к двери сарая.
— Где ключи? — закричал Женя. Он был очень зол и боялся, что может опоздать. Бывает, когда ты еще не можешь точно объяснить, что же произошло, но значение происшедшего уже понимаешь.
Именно в этот момент помутневшим сознанием Лидочка услышала лай собаки. Раньше она не могла его услышать сквозь дверь, потому что очень громко шумела вода из шланга. Но сейчас шланг молчал. Лидочка этого не поняла, но собачий лай услышала.
Женя ударил плечом обшитую дверь, дверь не поддалась.
— На себя, — сказала Ольга и резко потянула ручку двери на себя. Ручка отломилась.
— Топор! — воскликнул Женя, как хирург требует пинцет. Он не стал ждать, пока кто-то принесет топор, а сам кинулся в открытый дом, дверь была отворена, схватил в сенях топор и прибежал с ним обратно. Женщины ждали его, прижавшись к двери, прислушивались и звали Лидочку.
Их голоса Лидочка тоже услышала, но не поняла, что зовут именно ее.
Женя воткнул лезвие в щель и с такой силой нажал на него, что дверь, взвизгнув от боли, открылась с первого раза, послушно, как будто и не была заперта.
Они увидели, что шланг исчезает в углу люка, который закрывает подвал. Ольга обогнала всех и резко потянула крышку на себя. Женя помог ей, поддев мокрую крышку топором.
Крышка откинулась.
Внизу была черная гладкая вода. Она покачивалась в полутора метрах от пола. Ольга зажгла свет.
Женя первым увидел заставленную за шкаф железную лестницу и опустил ее в воду.
— Женя! — вдруг вспомнила о его здоровье Итуся. — Осторожнее, ты промокнешь.
Женя отмахнулся и опустился в воду. Вода была так холодна, что все внутри у него сжалось от боли.
Он сразу увидел Лидочку — она полулежала в углу, к счастью, наваленные там доски позволяли ей держать грудь над водой. Лидочка была без сознания.
Женя рывком вытащил ее холодное, как будто мертвое тело из воды и, стоя по пояс в воде, поднял его наверх. Как только голова и плечи Лидочки показались над крышкой, Ольга с Итусей подхватили тяжелое тело и выволокли наверх. Женя подталкивал Лидочку снизу.
А потом Ольга побежала в милицию, там был ближайший телефон, а Итуся с Женей перетащили Лидочку в дом, раздели и начали растирать сухими полотенцами. Они боялись делать что-нибудь еще, чтобы не навредить. Итуся нащупала у Лидочки слабый пульс. Дыхание было редким, Лидочка была без сознания и ни на что не реагировала.
«Скорая помощь» приехала быстро, вместе с ней примчался Толик.
Он ругал Лидочку за то, что она полезла в чужое дело. Но Василий-мордоворот, который приехал с ним, сказал:
— А что делать, если тебя никогда не застанешь? То крыша у брата, то еще что…
Лидочку увезли в больницу.
Толик долго осматривал место преступления и сказал:
— Впервые в моей практике. Даже интересно. Можно статью написать. — Потом сказал Ольге и Глущенкам: — А вы вовремя ее вытащили. Еще чуть-чуть, и ей конец. А грустно, потому что не по делу. Ведь происходит все оттого, что милиционера положено считать последним дураком. Но ведь зря. Как только ты, Ольга, вместе с Лидией Кирилловной вытащила из ямы портсигар, все у меня стало на свои места. Ведь никто не мог, кроме Нины Абрамовны и Марины Олеговны, этот портсигар в траншею кинуть. Таких чудес не бывает. Ну ладно, если бы Нина Абрамовна его забыла, но она же на платформе курила! А в электричке было всего две женщины! Так вот, гражданка Котова хотела навести подозрение на Спольникову. А что получилось — навела мои подозрения на себя.
Вернулись Василий и еще один милиционер, которые ездили на «газике» по поселку. Они рассказали, что Марины нет ни на станции, ни на шоссе. Пропала.
— Пошли чаю попьем, все мокрые, — сказала Ольга Толику. Василия она не звала.
— Нам еще Котову поймать надо. А то натворит что-нибудь с собой с перепугу, — сказал Толя, но к Ольге пошел. — Ведь если она убежала и не заметала следов, значит ты, Ольга, ее спугнула. То есть когда ты входила на участок, она с него бежала. Иначе бы она шланг вытащила и все сделала, как планировала. А так у нее была одна надежда, что Лидия Кирилловна успела богу душу отдать и промолчит до Страшного суда.
Они перешли на теплую веранду дома Ольги. Вернулась с купания промокшая Катя и слушала эту историю, распахнув глаза, потому что, оказывается, сама толкнула Лидию Кирилловну почти на смерть.
Толик выпил чай и разглагольствовал. Остальные ему не мешали, им было интересно, тем более что они знали от доктора, что Лидочкиной жизни ничего не грозит. Пуфик чувствовал себя героем — собаки очень чувствительны к собственному героизму.
— Я ее стал провоцировать, — сообщил Толик. — А ведь горе преступника в том, что обязательно считает других глупее себя. Я стал при ней рассуждать о силе литературы и о том, как в книгах иногда все бывает предугадано. Я ведь наивный, глупый и даже серый. Почему бы меня не одурачить, если сам на крючок лезу? Вот мне и представили липовую рукопись. Она вам говорила, как? Нет? Она очень не хотела, чтобы рукопись от нее исходила, мало ли что я подумаю. Она мне сказала: ах, я не могу вам дать экземпляр, но есть другой, он в комнате у художников! Значит, сам догадывайся. Я и догадался. Прочел и должен вам сказать, что уровень литературы меня не удовлетворил. Низкий уровень, на потребу лотошников. Я читаю и вижу — чем дальше, тем страшней. И вдруг, в самом конце, как будто другой человек сообщает мне, что Сергея Романовича убила Елизавета Ивановна, гражданка Корф, из ревности к своей дочери. Я тогда предпринял такие шаги: я спросил нашу дорогую Ольгу, не было ли подозрительных гостей на даче после смерти Сергея Романовича? Она говорит — кто-то посещал дачу в первую ночь после убийства. Ясно, значит, были обстоятельства и возможность допечатать на той же машинке другой конец. Мне даже интересно работать с интеллигентами. Вы представляете, убийца дописывает за писателя роман, чтобы все видели — вот он! Как бы указывает костлявым пальцем из могилы.
— Меня она тоже не обманула, — сказал Женя, которому давно хотелось вставить хоть слово, но в монолог Толика пробиться было нелегко.
— Я, конечно, играл в ее игру, — продолжал Толик, сверкая глазами. — Мы берем мадам Елизавету Корф. Вы бы послушали, какой она нам тут скандал учинила. Потом чуть было во всем не созналась — только бы от страшных ментов отвязаться. Тогда мы ее домой отправили. И как сообщила мне ее дочка, Елизавета Ивановна сделала попытку отравиться, но в умеренных дозах, без вреда для здоровья. И сегодня я решил — буду брать Котову. Ордер на обыск у прокурора получил, нужно теперь у нее на квартире получить свидетельства близости со Спольниковым.
— И вы думаете, что она сидит дома и ждет вас? — спросил Глущенко.
— А куда же ей деваться? Сидит дома и трепещет, а вдруг Лидия Кирилловна оклемается? Я Лидию Кирилловну уважаю, очень интеллигентная женщина, но какого черта она в подвал полезла? Не понимаю!
— Ладно уж, Толик, — сказала Ольга. — Значит, она хотела как лучше.
— Хотела как лучше, а вышло как всегда, — проворчал Толик. Но без злобы.
Они же еще не знали о папке с черновиками и английской записке-приманке.
Когда Глущенки шли домой, Женя сказал Итусе:
— Я не верю, что она прячется дома. Она должна бороться за себя.
— Такая женщина скорее покончит с собой. Ей страшно за свою репутацию, — сказала Итуся. — Для нее репутация важнее всего. Я думаю, что она и Сергея убила потому, что не могла пережить его женитьбы на Даше. Из-за своей репутации.
Они дошли до станции. Недавно прошел поезд.
Небольшая группа людей стояла на рельсах, окружив нечто, лежащее там.
Глущенки замерли, одновременно поняв, что случилось.
— Ну вот, — сказал Женя. — Ты этого ждала?
— Может быть, — ответила Итуся. — Но я этого не хотела.
Им хотелось уйти и не смотреть, но чувство долга, чувство причастности к этой истории заставило их подойти к той группе людей.
На рельсах лежала собака, которую сшибло поездом. Люди спорили, чья она. Итуся подхватила Пуфика на руки, и они поспешили к даче.
…Когда Лидочка вышла из больницы, где провела четыре дня, она заехала к Ольге.
— Мне Толик сказал, — сообщила Ольга, — вчера Марину Олеговну отыскали. Она в Латвию к своей тетке уехала. Толик через местную полицию все узнал. Латыши обещали ее нам выдать.
Суд был осенью. Лидочка была одним из основных свидетелей, но сбежала в Крым. Она знала, что для Марины самое страшное — оказаться центром внимания в зале суда. А для Лидочки также страшно было бы встретиться с Мариной глазами.
В трех или четырех газетах были интервью с Анатолием Васильевичем Голицыным. В каждом была обязательная фраза: «Вы не принадлежите к известной княжеской семье?» И в каждой был ответ: «Мой дедушка мне об этом не рассказывал». Одно из интервью называлось «Таких не убивают». Слова относились к гражданке Марине К., «фамилию которой мы не можем открывать до окончания суда».
1997 год
ДОМ В ЛОНДОНЕ
М.Ю. Лермонтов
- Но есть еще одно желанье!
- Боюсь сказать! — душа дрожит!
- Что, если я со дня изгнанья
- Совсем на родине забыт?
- О, если так: своей метелью,
- Казбек, засыпь меня скорей
- И прах бездомный по ущелью
- Без сожаления развей.
Глава 1
Зал Шереметьевского аэропорта, в котором шла посадка на несколько рейсов сразу, напоминал палубу парохода «Титаник» в последние минуты перед гибелью. Потоки пассажиров устремились на палубу, где люди с погонами ядовито-зеленого цвета стерегли подходы к спасительным трапам.
Время еще осталось. Марксина Ильинична задерживалась. Андрей, не выносивший скоплений народа, украдкой поглядывал на часы. Конечно, идеальная жена не заметит такого взгляда, но Лидочка не удержалась и спросила, куда он торопится. По ее словам можно судить, насколько она была раздражена и взвинчена почти бессонной ночью и стечением неприятных обстоятельств, которые словно сговорились, чтобы не пустить Лидочку в Англию. Она готова уже была им подчиниться, но стечение других обстоятельств толкало ее в эту поездку. Ни один из вариантов Лидочку не радовал. Андрей об этом знал, и не следовало ему украдкой глядеть на часы. Посмотрел бы открыто.
Так Лидочка ему и сказала.
К счастью, Андрей сохранил чувство юмора и сказал:
— Мышка у нас некормленый.
Кота Мышку забыли накормить, потому что опаздывали, вернее, казалось, что опоздают. Это происходило от уверенности Лидочки, что машина не заведется, а на площади Белорусского вокзала будет пробка, хотя непонятно, кому придет в голову устраивать пробку у Белорусского вокзала в семь утра.
— Сейчас я тебя освобожу, — сообщила Лидочка мужу.
— Спасибо, — беззлобно ответил Андрей.
— О чем ты думаешь? — спросила Лидочка.
— Я думаю о том, что приехал Миклош.
Лидочка чуть было не произнесла самоубийственное словосочетание: «Опять пьянка!», но сдержалась. А Андрей догадался, что она хотела сказать, и рассмеялся.
Миклош был их общим приятелем, археологом из Будапешта, полагавшим, что в гостях обязан вести себя как венгр за границей. То есть неумеренно буйствовать и неумеренно шиковать.
— Вы Лидия Кирилловна? — спросила женщина лет шестидесяти, из тех блюдущих себя дам, которых неприлично называть старухами. Такие женщины всю жизнь торопятся, чтобы утром успеть в бассейн, вечером к внукам. А по воскресеньям полоть морковку и вскапывать грядки. Именно такие женщины занимают самые пристойные места в консерватории или на премьере у Захарова. Детей же они в свое время взрастили на жалованье младшего научного сотрудника и нередко без отцов.
— Марксина Ильинична?
— Я решила добраться на автобусе, — сказала Марксина Ильинична. — Сумка у меня нетяжелая. Все рассчитала, а поезд в метро встал в туннеле. И стоял двадцать две минуты. Я думала, что сойду с ума.
Лицо у Марксины Ильиничны было относительно гладким, ухоженным, волосы покрашены удачно, глаза чуть подведены. Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом…
— Ты что? — недоуменно спросил Андрей. Значит, она заговорила вслух. Это опасно и стыдно.
— Это Киплинг. А может быть, я ошиблась, — ответила Лидочка.
— Вот эту сумку вы отдадите Славе, — сказала Марксина Ильинична. — А этот пакет, поменьше, для Иришки. Вот здесь письма, пожалуйста, не потеряйте. Тут и от меня, и от Аллы.
Лидочка уже знала, что Алла — жена Славы, сына Марксины Ильиничны, живущего в Англии. Слава и Алла расстались давно, несколько лет назад, но у них есть общая дочь по имени Иришка. У Аллы сложная личная жизнь, поэтому Иришка, как и бывает с детьми, одинокие матери которых специализируются на сложной жизни, жила с бабушкой. А на каникулы уехала к папе. Все ясно и очень современно. Кстати, Алла через месяц собирается в Лондон. Тоже погостить.
Конечно же, Марксине Ильиничне не меньше шестидесяти — уже к середине тридцатых годов детей перестали называть идиотскими кличками в честь вождей пролетариата и достижений народного хозяйства.
Андрей запихнул сумку Марксины Ильиничны в чемодан жены. Марксина тем временем описывала Лидочке содержимое свертков и пакетов на случай, если таможенник спросит об этом. И тогда нужно будет ответить, где лежит буханка черного хлеба, куда спрятана икра и босоножки Иришки, без которых она не может жить. А вот здесь последние газеты и журналы. Слава порой так тоскует без наших сплетен и недоразумений. У нас в бассейне есть одна женщина, ее муж заведует отделом в «Огоньке»…
Под журчание речи Лидочка смотрела, как толпа подростков с рюкзачками штурмовала таможенный коридор, хотя никто и не собирался досматривать их добро. Ребята вели себя шумно и бесцеремонно. Можно было подумать, что поездки за границу — их основное жизненное занятие.
За минуту до расставания Марксина Ильинична вдруг забыла, что она — дама средних лет, и по-бабушкиному стала торопиться, вспоминать что-то важное и несказанное.
— Есть же телефон, — вмешался Андрей, который не выносил расставаний, даже ненадолго. В жизни у них с Лидочкой случалось слишком много расставаний и даже расставаний навсегда, куда больше, чем у нормальных людей.
— Какой телефон! — почему-то возмутилась Марксина Ильинична. — Вы не представляете, сколько стоит каждая минута.
Лидочка подняла свою сумку, как бы давая знак к началу движения. Андрей тут же подхватил чемодан. Чемодан был на двух колесиках, но те вечно отказывались крутиться как следует.
Новая группа туристов надвигалась сзади. Может быть, они спешили не на лондонский, а на франкфуртский самолет, но таможенных проходов на всех не хватало. Так что в результате Лидочка убежала, не простившись толком с Андреем и бросив провожающих на полуслове.
Пока их было видно в щель, на которую претендовало немало провожающих, Лидочка махала рукой, но когда прошла пограничный контроль, оказалась уже на полпути в Англию.
Рейс был аэрофлотовский, дешевый. Лидочка думала, что самолет будет переполнен соотечественниками, на деле в нем оказалось много пустых мест. Их было столько, что в своем закутке Лидочка сидела одна. Можно было положить на соседнее пустое место сумку и газету… Счастье длилось почти до самого отлета. Потом на свободное место сел молодой мужчина и сообщил:
— У меня место в хвосте, а я дыма не выношу. Так что я к вам переселился.
Он не спросил разрешения, не извинился за вторжение. Он просто объяснил свой приход. Этого ему казалось достаточно.
Лидочка на него рассердилась. Впереди было такое же пустое место. Мог бы устроиться там. Но не будешь же жаловаться стюардессе. Стюардесса как раз проходила по рядам, проверяла, застегнуты ли ремни. Молодой человек улыбнулся ей, как знакомой. Длинноногая стюардесса с круглым простонародным, густо накрашенным лицом показала два ровных ряда искусственных зубов.
Лидочка раскрыла «Известия», которые Андрей купил ей перед отлетом, но газета скоро ей наскучила.
Самолет принялся разъезжать по аэродрому.
Все было непонятно, неизвестно и неопределенно — состояние, которого Лидочка не выносила. Она относила себя к людям упорядоченным, не склонным к приключениям и переменам в жизни. Путешествие в Англию, где она никогда не была и язык которой знала не в совершенстве, осложнялось тем, что ей следовало найти там скромное помещение для конторы и жилья, снять его, обставить и все это совершить за три недели. Желательно за две. Еще более желательно — вчера. У пана Теодора, который давно уже взял за правило распоряжаться временем и судьбой Берестовых, идеи возникали мгновенно, и исполнение их возлагалось на людей, у которых прежде были совсем иные планы.
Ладно еще — поехала в Англию, ознакомилась с жизнью трудолюбивого и свободолюбивого великобританского народа, сходила в музей, сняла контору. Одинокая женщина, свободная, как птица… Но не тут-то было! Теодор договорился, что Лидочка будет жить у Славы, Вячеслава Андреевича Кошко.
Лидочка предпочла бы пожить в гостинице. Но она разумно сознавала, что случай, подаривший ей кров в доме Вячеслава Андреевича, приведет к большой экономии для фирмы. Нормальная гостиница — полсотни фунтов в день. Марксина Ильинична, которая и утрясала проблему жилья, брала с Лидочки из расчета десятки в день, на своих, правда, харчах, так как Слава с Иришкой прирожденные холостяки, обходятся бутербродами. Но места всем хватит.
Теодор сошелся с Марксиной Ильиничной на пятистах долларах (в пределах месяца). Все были довольны и уверяли Лидочку, что русской женщине куда комфортнее и безопаснее жить в приличном доме соотечественника, чем бедовать в каком-то пятизвездочном отеле. Лидочка, разумеется, сдалась, а теперь старалась убедить себя, что по волосам не плачут.
Одним из аргументов Теодора было то, что Слава — хороший знакомый Семена Семеновича и работал раньше в Гипрокаучуке. Интеллигентный, мягкий человек, которому повезло. С кем не бывает… А его маме, Марксине Ильиничне, бывшей сослуживице Андрея, нужны деньги. «Вот и прислал бы любимой маме», — пыталась возразить Лидочка. «Зачем присылать, если она получит здесь?» — удивился пан Теодор. Впрочем, каждый помогает маме, как может.
Лидочка не выспалась и только собралась прикорнуть, как ее сосед вытащил из бокового кармана пиджака маленькую плоскую коробку. Оказались карманные шахматы.
— Играете? — осведомился он.
— Нет, не играю, — сухо ответила Лида.
Лидочка в шахматы играла и любила играть, но ей не хотелось общаться с соседом.
Нет, не потому, что он внедрился на соседнее место. Просто этот человек ей не понравился. А Лидочка привыкла себе доверять.
Сосед был миловидным мужчиной лет тридцати, если такое слово можно отнести к мужчине, вполне энергичному на вид. Он был коротко подстрижен, так что виски оказались почти голыми, а наверху, там, где глазу хотелось увидеть ежик, лежала крыша из волос. Можно было подумать, что соседа Лидочки стриг плохой сельский парикмахер, но на самом деле Лидочка догадалась, что сосед употребляет лишь дорогих куаферов, к которым, как к дамским мастерам, надо записываться по телефону. А натолкнули ее на эту мысль очки соседа. Они были в меру темными, чтобы скрывать движения и переливы глаз, но в то же время их нельзя было назвать черными. Лидочка была убеждена, что если спросить, зачем ему в самолете понадобились полутемные очки, он ответит, что это совет доктора. Доктор прописал, лечимся от переутомления. Дела, дела… Свой «дипломат» он поставил в ногах, хотя багажная полка сверху осталась пустой. Значит, берег копии договоров и счетов.
Конечно же, он бизнесмен, новый русский. Насколько новый? И пиджак ему велик на два размера, дорогой пиджак. Галстук из анекдота, помните? «Ты за сколько галстук брал?» — «В Париже — сто франков». — «Дурак, у нас за углом, на Тверской, такой за четыреста баксов купить можно!» Алогичность жизни, наполненной неуверенностью в том, будет ли завтра богатство, квартира и «Вольво», или тебя поставят к стенке. Причем неизвестно кто.
Из этого образа катастрофически выпадала коробочка с магнитными шахматами. В шахматы играют хорошие мальчики.
Получив отказ, сосед положил коробочку с шахматами на колени, снял очки и стал их протирать специально для того запасенным клочком желтой замши. Он не удержался и кинул взгляд на Лидочку, чтобы проверить, какое впечатление на нее производит его благополучие.
На две секунды она встретилась с ним глазами и успела разглядеть его лицо.
В общем, лицо незначительное, если не считать странных глаз, которые блестели, словно налитые слезами. Глаза были расставлены шире, чем положено. Так бывает у душевно больных детей. И еще Лидочка обратила внимание на то, что он носил подбритые усики, как телеграфист в комедии с историческим уклоном. Люди с такими усиками не играют в шахматы, им достаточно домино.
— А мне показалось, что вы умеете в шахматы играть, — сказал сосед.
Так как Лидочка не ответила — она смотрела, как самолет выруливает на дорожку, замирает, как тигр перед прыжком, и ждет, скоро ли приблизится несчастная антилопа, — то сосед представился:
— Геннадий, — и даже протянул к ней руку, украшенную массивным перстнем с синим камнем.
— Лида, — сказала Лидочка. — Лидия Кирилловна.
Руку пришлось пожать, а то она вечно будет висеть над ее коленками.
— Вот мы и знакомы, — сказал Геннадий. Как будто завершил трудное и безнадежное дело. Втащил на шестой этаж пианино. — По делу или в гости? — спросил Геннадий.
Допрос начался раньше, чем Лидочка того ожидала. Господи, сколько лететь до Лондона? Три с половиной часа! Это же подобно замужеству! Целая жизнь с нелюбимым человеком!
Самолет еще только разгонялся, словно завидев впереди антилопу, но не схватил добычу, а пронесся над ней и круто пошел к облакам. Самолеты всегда круче поднимаются, чем спускаются. Видно, садясь, они уже устают и тянут из последних сил.
Лидочка закрыла глаза, отдаваясь чувству взлета. Геннадий на некоторое время отстал.
Когда погасла надпись «Пристегните привязные ремни», он сказал:
— Теперь можно отстегнуться. Вам помочь?
— Спасибо, я сама.
— Я догадался, что вы самостоятельная женщина. Но если понадобится моя помощь, я всегда рядом.
Он широко улыбнулся. По-западному, как улыбаются зубные врачи на рекламе жевательной резинки «Стиморол без сахара». Зубы у Геннадия были дорогие.
Раз уж все равно никуда от него не деться, Лидочка решила узнать, кем и где трудится такой экземпляр. Конечно, он ответит «на фирме» или «в офисе», как-нибудь обтекаемо. Но Лидочка не успела спросить. Геннадий ее обогнал.
— Будете отдыхать? — спросил он.
— Наверное, — сказала Лидочка.
— Впервые на Альбион?
— Впервые. А вы?
— Нет, не впервые. Но пока моя очередь спрашивать.
— Здесь вопросы задают без очереди, — сказала Лидочка и осталась недовольна случайной остротой.
— Подруга рванула замуж за фирму? — спросил Геннадий.
— Со мной можно говорить по-русски, — мягко ответила Лидочка. — Я знаю слова «уехала», «иностранец» и тому подобное.
— Вы меня удивляете, — сказал Геннадий. — Я и не подозревал в вас чувства юмора. А провожали муж с мамой?
— Вы так давно за мной следили?
— Я не следил, я глядел, — ответил Геннадий. — Как говорится, один скучающий турист обвел взглядом толпу, рвущуюся к самолету, и тут его взор упал на красивую женщину средних лет.
— Средних?
— Я хотел вас задеть, и я вас задел, — обрадовался сосед. — Значит, вы не равнодушны.
— К чему?
— К комплиментам, к чему же?
Геннадий был доволен собой. Лидочка уже догадывалась, что самый страшный недостаток Геннадия для окружающих заключался в том, что он был постоянно доволен собой. Лидочка подумала, что при первой возможности надо будет проверить, насколько прочна броня самоуверенности.
Самолет пошел через облака. Его начало встряхивать. Геннадий замолчал. Он не заметил того, как пальцы его вцепились в рукоятки кресла. Пальцы были крепкие, толстые, с коротко обрезанными ногтями. С тыльной стороны пальцы поросли волосиками. Геннадий ударился ногой о собственный «дипломат».
— Надо было наверх положить, — заметила Лидочка, увидев, как исказилось лицо соседа.
— Нет, — сказал тот, — я привык его в ногах ложить.
Никогда Лидочка не поправляла людей: неграмотность проистекает не столько от плохих школ, сколько от наплыва южан. Неграмотность, которая в Ставрополе или Донецке считается нормой, в Москве режет слух. Но постепенно привыкаешь не обращать внимания.
— Класть, — сказала Лидочка. Это была месть за «средние года», но Лидочка и себе бы не призналась в этом.
— Чего? — Геннадий не сразу сообразил, что Лидочка хочет сказать.
— По-русски говорят «класть», а не «ложить». Все шпионы попадаются на мелочах.
— Какой я… — И тут Геннадий заставил себя улыбнуться. — Ладно, лететь нам еще три часа, будете меня учить. Добро? Я не гордый. Хоть и с высшим образованием.
— Что вы заканчивали?
Геннадий лукаво усмехнулся.
— Кулинарный техникум, — сказал он. — Чес-слово.
— Простите, — спохватилась Лидочка. Ее спасение все время было под рукой — как же она забыла?! — Простите, у меня недочитанная книжка. Очень интересная.
Она достала книжку из сумки. Ей и на самом деле хотелось дочитать новый роман Рут Ренделл. Зачем было объяснять, что книга интересная? Разве она обязана отчитываться перед этим типом? Ничего себе — женщина средних лет!
— А ведь вы красивая! — негромко сказал Геннадий, словно подслушал ее мысли.
Лидочке пришлось улыбнуться.
Некоторое время он молчал, не мешал ей читать, а сам шуршал газетой. Но «дипломат» не раскрывал. Лидочка решила, что если он на самом деле деловой человек, то обязательно откроет «дипломат». Деловым людям интересны собственные бумажки.
Лидочка увлеклась страшными событиями на пустоши за Кингсмархэмом, которые потребовали всей сообразительности инспектора Уэксфорда, и вернулась к действительности, только когда стюардесса попросила ее откинуть столик — надвигался аэрофлотовский обед.
— Интересно? — спросил сосед.
— Очень, — ответила Лидочка.
— А я никак не могу освоить, — сказал Геннадий. — Разговорный на уровне челнока, а читаю только вывески. Вот в школе ленился, а теперь расплачиваюсь.
— Теряете в зарплате?
— Нет, мне не за это платят. Чес-слово.
Он не скрывал того, что обрадовался возможности снова поговорить с Лидочкой.
— А за что вам платят?
Геннадий посмотрел на Лидочку сумасшедшими мокрыми глазами и нормальным голосом сказал:
— За убийства.
— Как?
— Я не люблю это ихнее слово «киллер», — сказал Геннадий. — Не наше, жестокое какое-то, без мысли. Вы меня понимаете?
— Нет, — сказала Лидочка. — Я вас совершенно не понимаю.
— Вы не думайте, что я какой-то там банальный убийца, — сказал Геннадий. — Я организатор. Мне лично участия принимать не надо.
— А там, — Лидочка показала на «дипломат», — пистолет, и поэтому вы его на полку ставить не хотите?
— Нет там пистолета, — ответил Геннадий. — Если мне ствол понадобится, я его в любом месте куплю. Это только в кино стволы с собой возят.
— Вы шутите? — спросила Лидочка. — Или хотите произвести впечатление на дамочку?
— Хочу произвести впечатление на дамочку, — согласился Геннадий. — Женщины любят, когда им нервы щекочут. Даже такие, как вы. Порядочные.
Последнее слово прозвучало неприлично. Будто Геннадий подсмотрел, какое на ней нижнее белье. Но не придерешься.
— Вас за это не посадят? — спросила Лидочка. Не из кокетства. Она в самом деле подумала, что Геннадий совершает с точки зрения конспирации непростительный промах.
Геннадий посмотрел на нее мокрыми глазами и тихо произнес:
— Шутка. Самая обыкновенная шутка. Чтобы произвести впечатление. А еду я за запасными частями. Для инвалидных колясок. От Союза афганцев. Успокоилась?
Он пробовал почву, чтобы перейти на «ты». Этого Лидочка не хотела.
Беседа на время прервалась, потому что пришла очередь обедать, а количество маленьких упаковочек, вилочек, пакетиков, блюдечек требовало заботы и внимания. После разговор возобновился, но лишь гастрономический.
— Где кормят лучше всего, — заметил Геннадий, — это на сингапурской линии. Не летали?
— Не приходилось.
— Там местные приправы дают — обалденные!
Геннадий совершенно не мог все время поддерживать разговор на уровне «джентльмен беседует с дамой своего круга». Тем более что он не был уверен в том, насколько правильно повел себя, выступив убийцей-организатором, который не любит слова «киллер». На всякий случай об этом лучше было забыть — всегда полезно забывать о глупостях и оговорках случайного собеседника.
— Прилично кормят в Аргентине, — сообщил Геннадий.
Лидочка кивнула. В аэрофлотовском самолете кормили тоже прилично, по крайней мере эта пища вызывала ностальгические чувства — сколько раз она за свою жизнь ела аэрофлотовский обед!
— Один раз мне подсунули устриц. Не ели? Я не знал, начал жевать. Чес-слово! Ластик школьный. Вы где обычно отдыхаете?
— На этот раз в Лондоне, — призналась Лидочка.
— В Лондоне не отдых, — сказал Геннадий. — Как-нибудь рванем с вами на Канары. Не пробовали? Море — синева, небо — синева, гостиница пятизвездочная. В пароходе берем люкс. Ну как, устраивает?
— Это рассуждение или предложение?
— Считайте, предложение. — Геннадий вроде бы шутил.
— Нельзя, — сказала Лидочка. — Я на отдыхе, а вы на работе.
— На вас мне времени не жалко.
— Не выполните задания — вас самого порешат. Или как это у вас называется? Зачем мне безутешно плакать?
Геннадий замолчал. Он сказал лишнее — независимо от того, были ли его слова шуткой, или несли в себе долю правды. Не надо было ему так себя вести. Не мальчик ведь!
Геннадий зашуршал газетой, и под это шуршание сразу после того, как стюардесса забрала подносики, Лидочка задремала.
Глава 2
Вячеслав Кошко встречал Лидочку за барьером. Сначала она шла к нему бесконечными светлыми коридорами, за стеклянными стенками которых нежились под ярким солнцем самолеты, потом стояла в длинной, но быстро идущей очереди к пограничникам. Лидочке достался скучного вида сикх, у которого, кажется, болел живот. Больше всего он боялся, что Лидочка останется в Англии жить и работать и отнимет этим рабочее место у честных выходцев из стран Британского содружества, в том числе и у его племянницы. Дальнейшее произошло без задержек, потому что таможня Лидочкой не заинтересовалась. Она прошла закоулком зеленого коридора и оказалась в просторном, гулком и светлом зале. За легким барьером стоял Вячеслав Андреевич, которого Лидочка не знала, но которому Лидочку описала Марксина Ильинична.
При виде правильно описанной Лидочки он стал махать тонкой длинной рукой.
Почему Лидочка ожидала увидеть жовиального толстяка — уму непостижимо! Видно, Славу Кошко в детстве заставляли есть, заталкивали в него ложечки за папу и за маму, и в конце концов он выработал в себе стойкое отвращение к еде. На всю жизнь.
«Будь я его женой, — непроизвольно подумала Лидочка, — я бы придумала ему толщинки в одежду, чтобы окружающие не заподозрили, что я морю голодом такого милого человека».
Ни о каких толщинках и речи быть не могло, потому что это существо гордо носило на себе советский ископаемый костюм на два размера меньше, чем положено. Относительно чистые манжеты и длинные худые кисти рук далеко вылезали из рукавов.
Вячеслав Андреевич подхватил небольшой Лидочкин чемодан и вместо приветствия сказал:
— Вот, я тележку достал. Знаете, их расхватывают по утрам, я минут десять искал.
— Спасибо, а как вы меня узнали?
— По маминому описанию, — ответил Вячеслав Андреевич. — Я думал, что у вас будет много вещей, вот и стал искать тележку. Хорошо еще, что я приехал сюда заранее. Знаете, даже здесь, при их хваленой пунктуальности, самолеты прилетают, как захотят. Особенно это касается нашего Аэрофлота.
Геннадия Лидочка не видела с тех пор, как они поднялись, чтобы выходить из самолета. Геннадий, не прощаясь, рванулся вперед — хотел оказаться в числе первых. Не видела его Лидочка и на паспортном контроле. А вот сейчас он прошел с другим, похожим на него молодым человеком довольно далеко от нее. Их громоздкие костюмы казались униформой. К таким костюмам придаются сотовые телефоны, прически и походка.
Словно подчиняясь правилам игры, спутник Геннадия вынул из-за пазухи белый сотовый телефон и, не замедляя шагов, принялся бормотать. Его Лидочка толком не разглядела, обратила лишь внимание на то, что он прихрамывал.
— Вы меня слушаете, Лидия Кирилловна? — спросил Вячеслав Андреевич. — Мне так приятно произносить это сочетание…
Он сложил губы и повторил: «Лидия Кирилловна». Если не считать худобы, Вячеслав Андреевич ничем особенным не отличался от русского интеллигента, каким такового изображали начиная с дореволюционных времен и кончая современными сатириками. Этот тип неистребим, хотя как раз его-то и истребляли с наибольшим рвением.
Вячеслав Андреевич был лысоват и укладывал последние серые волосы поперек узкого желтоватого черепа. Он носил шкиперскую бородку, которая не придавала его лицу ничего мужественного и морского. Ростом он был невелик, пожалуй, чуть пониже Лидочки. Вячеславу Андреевичу суждено было по гроб жизни мало зарабатывать, выносить бесконечные упреки толстой, опустившейся жены, пытаться дать образование бездельнице-дочке, отчего половина ночных и воскресных заработков должна была уходить ей на репетиторов.
Лидочка уже знала, что внешние впечатления чаще всего — правдоподобная ложь.
Мужчина, согбенную спину которого она видела перед собой (Слава толкал тележку, которая была впятеро тяжелее чемодана и сумки), обладал состоянием, солидным даже по здешним меркам. Его красавица-жена, расставшаяся с ним до того, как он разбогател, была бы рада вернуться и больше никогда не пилить мужа за бедность. А вот что касается дочки, то репетиторов Слава, видно, доставал без особого труда.
Выглядел новый знакомый Лидочки лет на сорок, может, чуть больше.
Он уверенно и целенаправленно катил тележку вниз по длинным коридорам. Лидочка торопилась за ним, сбиваясь на семенящий бег.
На крутом повороте Вячеслав Андреевич притормозил, поджидая отставшую гостью, и вдруг спросил:
— Пакеты от мамы в целости?
— Должно быть, — ответила Лидочка.
— Моя мама — чудесная женщина, — сообщил Вячеслав Андреевич.
— Да, она — милейшая женщина, — согласилась Лидочка.
— Она с вами обсудила все практические вопросы?
— Я передала ей деньги.
— Замечательно. Прелестно, — сказал Вячеслав Андреевич. — Всегда лучше начинать хорошее знакомство с ясности в отношениях.
И он снова толкнул под откос тележку.
Он Лидочке не понравился. Уже второй не понравившийся человек за одно утро. Пожалуй, это перебор.
Они въехали в подземный зал не сразу понятного назначения. Кошко оставил Лидочку с тележкой, а сам встал в очередь к кассе. Лидочка имела самое приблизительное представление о том, где живет Вячеслав Андреевич. Ей не приходилось бывать в Лондоне, так что самое лучшее в такой ситуации — не задавать вопросов.
Оказалось, они едут в город на метро. Станция была буквально под аэропортом, и Кошко разумно объяснил, что для него ехать в Хитроу на машине утром, когда весь Лондон отправляется на службу, чистой воды легкомыслие. Можно потратить часа полтора. Зато на метро от Хитроу до Виктории всего час с одной пересадкой. А как удобно! Вы только посмотрите, Лидия Кирилловна, какие здесь уютные вагоны. Я вам скажу, что в нашей дорогой Российской Федерации плюшевые сиденья в тот же день порезали бы ножами, вы согласны?
Наконец подкатил поезд. Он был ниже московского, вагоны более округлые.
Женский голос мелодично произнес: «Майнд зе гэп, плиз!»
Лидочкиного знания английского не хватило, чтобы понять, чего же просит невидимая женщина.
— О чем она? — спросила Лидочка.
Слава снисходительно улыбнулся. Приятно чувствовать лингвистическое превосходство над дикарями из России.
— Смотрите под ноги, — сказал он. — Хотя это, конечно, не точный перевод. Но смысл такой. «Гэп» — это щель, дыра, провал, ну, скажем, щель между вагонами и платформой. Видите, она здесь куда шире, чем в Москве. Вот и предупреждают: глядите под ноги, чтобы не провалиться.
Войдя в вагон, Лидочка опустилась в мягкое плюшевое кресло. Поезд не спеша покатил, большей частью по поверхности земли, но оставаясь в глубокой траншее, так что Лидочке не удалось увидеть Лондон из окна. Почему-то ей в голову пришла глупая мысль: а как едет из аэропорта убийца Геннадий? Наверное, в черном «Мерседесе». Потому что он принадлежит к компании людей, которые быстро грабят и быстро теряют деньги. А мы — средний слой, у нас каждый заработанный фунт на счету.
Вячеслав Андреевич, видно, отнеся Лидочку к категории лояльных родственников, негромким голосом просвещал ее об особенностях жизни в Лондоне, которые доступны и понятны лишь своим.
— За три с половиной фунта (это, конечно, не очень дешево) вы будете покупать единый дневной билет. А так как дешевле, чем за фунт, вы здесь никуда не доедете, то представляете, какая выгода? Ведь дневной билет годится на любой вид транспорта, включая электричку. Подходишь на нашей станции к кассе и говоришь: «Дневной билет». Вы английским владеете?
— Владею.
— По-настоящему или как в анкетах у нас пишут?
— Читаю для собственного удовольствия, но в разговорном иногда теряюсь. Надо будет привыкать.
— По крайней мере честное признание. Нам скоро выходить для пересадки.
Пересадка оказалась несложной. Пришлось просто перейти на левую сторону платформы.
На этом Вячеслав Андреевич прекратил просвещать Лидочку, а переключился на допрос. Ответы Лиды его мало интересовали, но этим он выполнял неписаный долг. Перед своей совестью или перед мамой.
Он выяснил, какая в Москве погода и какой она была на прошлой неделе, поговорил о растущем уровне преступности. Оказывается, Кошко побывал дома полгода назад, но с тех пор во многом оторвался от современности, потому что мама рада бы посылать ему газеты и журналы, но сейчас почтовые расходы из Союза, простите, из России, стали фантастическими. Разве может старый человек при небольшой пенсии позволить себе такое?
Лидочка не совсем понимала, зачем старому человеку из небольшой пенсии выкраивать деньги, чтобы посылать журналы в Лондон богатому сыну.
Интерес Кошко к событиям в России распространялся также на строительство храма Христа Спасителя, цены на транспорт, забастовки шахтеров, положение в Чечне, перспективы Черномырдина на грядущих выборах, новые выходки Жириновского… Когда путешествие закончилось, Лидочка испытала глубокое облегчение.
В вопросах, да и в самом голосе Кошко слышалась некоторая заунывность, способная взбесить нервного человека. Какими бы чудесными качествами он ни обладал, в конце концов люди, наверное, начинали его избегать. Впрочем, некоторые привыкают. Ведь мы не слышим, как тикают часы…
Пока они ехали в метро, вагон оставался полупустым, вокруг не чувствовалось большого города, и потому Лидочка оказалась не готова к тому, что, поднявшись в кассовый зал вокзала Виктория, они окажутся в самом настоящем, родном вокзальном столпотворении. Правда, в этом столпотворении все старались не толкаться, никто никуда не бежал, и люди уступали друг другу дорогу. Какой-то громадный негр промчался совсем близко, но успел, коснувшись ее локтем, изобразить жемчужную улыбку и попросить прощения.
Затем они вышли в обширный высокий светлый зал вокзала, куда утыкались железнодорожные пути. Гигантское пространство немногим превышало пространство Киевского вокзала в Москве, но отличалось от него подчеркнутой чистотой, светом и слишком чистыми полами, какие вокзалам иметь не положено.
— Нам левее, — сказал Вячеслав Андреевич. — Иришка нас там ждет.
По дороге он рассказал уже, что Иришка была в музее. «Она, понимаете, так любит бродить по музеям, наверное, у нее это наследственное, я тоже люблю тишину и загадочность музейных залов, поэтому она не смогла сопровождать меня в аэропорт». Но они договорились встретиться у левого табло в зале вокзала. Потом им предстоит проехать еще пятнадцать минут на электричке, поскольку никто из англичан, то есть из уважающих себя англичан, не живет собственно в Лондоне. Люди предпочитают выбираться на окраины. Но здесь, знаете, это не означает нашего Ясенева или Свиблова. Лондон — громадная деревня со всеми удобствами, все англичане живут в своих домах, а вы, наверное, читали об этом? Вот и у нас небольшой домик. Конечно, мы могли бы остаться в имении дяди Джеймса, но что мы там стали бы делать? Кормить собой привидения?
Тут Вячеслав Андреевич засмеялся — Лидочка впервые увидела его смеющимся. Губы разошлись, но не открылись, крылья носа задрожали, улыбка началась и потом скисла — видно, не было тренировки.
Кошко погладил себя по шкиперской бородке.
Он устал, раза два останавливался и ставил чемодан на пол. Лидочка сказала:
— Можно, я понесу дальше? Он нетяжелый.
Кошко сразу согласился.
— У меня остеохондроз, — пояснил он. — Болезни меня настигли очень рано. Порой так схватит, что вы и не представляете.
Они подошли к толпе, стоявшей, запрокинув головы, перед большим табло, на котором, как и положено на вокзале, периодически начинали вертеться черные планки, пока не останавливались на названии нужной станции. Некоторые из ожидавших жевали шоколадки, другие шуршали газетами. Вскоре Лидочка поняла, что жевание шоколадок и шуршание газетами — национальные черты британцев. И если вам будут говорить о других, такой информации остерегайтесь. Вернее всего, она происходит от людей романтически настроенных, лживых или от самих англичан.
Вячеслав Андреевич посмотрел, как Лидочка ставила на пол чемодан, затем вздохнул, словно совершил некий подвиг, вытащил из внутреннего кармана пиджака клетчатый платок и вытер им лоб.
И тут же разглядел в толпе свою дочь.
— А вот и она! — сообщил он.
Потом сказал громче:
— Иришка, мы здесь! Ты давно нас ждешь?
Иришка, которая стояла в десяти метрах от них, этим призывом была недовольна и своего недовольства не скрывала.
Была ли она родом в красавицу-маму или в кого еще из родни, но от отца она отличалась разительно. Если Вячеслав Андреевич мог всю жизнь пожирать по барану с горчицей в день и от этого только худеть, то Иришке, видно, с юных лет приходилось и придется в будущем бороться за свою фигуру до тех пор, пока ей не надоест или пока она не потерпит сокрушительного поражения в этой борьбе.
В пятнадцать лет борьба только начиналась и велась спорадически, а тяжелое будущее просматривалось лишь в рано развившихся круглых бедрах и толстых икрах, в коротких конических пальчиках и плечах, туго обтянутых курточкой. Видно, в детстве Иришка была толстушкой, и бабушки с мамушками радовались ее аппетиту и тугой попке. Теперь бабушки продолжали по инерции радоваться, но сама Иришка уже мечтала о лаврах фотомодели с осиной талией. А с талией было неладно.
Лицо у Иришки было гладкое, губы небольшие, пухлые, глаза карие, лобик узкий и каштановые волосы подкручены, чтобы не было заметно, что природа их недодала бывшей и будущей толстушке.
— Фазер, можно без криков на весь вокзал? — спросила Иришка, видя только отца и не здороваясь с тетей, хотя этого-то от нее все ожидали. Но как приятно бывает делать совсем не то, чего от тебя ожидают!
— Я не кричал, — скис Вячеслав Андреевич, потому что, как догадалась Лидочка, он опасался именно такой встречи. — Но как-то я должен был тебя позвать?
— Подошел бы и позвал.
Вячеслав вздохнул. И, словно вспомнив, добавил:
— Иришка, познакомься с Лидией Кирилловной. Я ее встречал в Хитроу.
Так как Иришка спокойно, с вызовом обратила к Лидочке безмолвный взор темно-карих глаз, Лидочка сказала:
— Здравствуйте, Ира!
И протянула руку.
Иришка секунду размышляла, до какой степени бунта она может дойти, но на этот раз решила остановиться на достигнутом. Она пожала руку Лидочки. Ее кисть была мягкой, узкой, а ладонь влажной.
— Ну вот и замечательно, — не скрывал своей радости Вячеслав Андреевич, будто боялся, что женщины вцепятся друг другу в волосы.
На табло защелкали, крутясь, таблички, замелькали надписи. Выскочила надпись: «Орлингтон», а под ней список остановок.
— Нам на третью платформу. — Вячеслав подхватил Лидочкин чемодан и поспешил в узкую щель, ведущую на платформу. Все пропускали его, никто не торопился. Лидочка хотела уже припустить за джентльменом, потом поняла, взглянув на часы, что до отправления осталось еще минут десять, и пошла медленнее. А Иришка и вовсе не спешила. Вместо того чтобы мчаться на платформу, она совершила движение в сторону, к киоску, где по доброму английскому обычаю купила шоколадку, забыв предложить угощение старшим. Потом она исчезла с глаз, а Лидочка ждать ее не осмелилась — ей важнее был чемодан с Вячеславом Андреевичем.
Она подумала о том, насколько юное поколение легко вживается в условия чуждого мира. Попробуй отличи Иришку от мириада таких же джинсовых тинейджеров, жующих свои шоколадки. Пожалуй, британский подросток будет лишь поласковей. Он умеет или обучен улыбаться и говорить «спасибо». А вот мы, старшее поколение, приживаемся за границей с трудом, а чаще не приживаемся вообще.
Вот и Вячеслав ворвался в пустой вагон, словно брал штурмом электричку на Казанском вокзале, и тут же сделал попытку выбраться из вагона и кинуться к другому, хотя они были одинаково пустоваты и одинаково респектабельны. По сути дела, Лидочка перешла из одного вагона метро в другой, даже не покупая нового билета.
— А где Иришка? — спросил Вячеслав Андреевич у Лидочки, как будто та кинула его единственную дочь под поезд.
— Не знаю, — ответила Лидочка.
Вячеславу стоило немалых сил, чтобы не кинуться на Лидочку с кулаками. В конце концов он не кинулся, а сложил свое тело подобно тому, как складывается на листе богомол, и поднял палец точно так же, как это насекомое.
— У нее переходный период. И я несу за это часть ответственности.
— За период?
— Ах, нет! Дело в том, что ребенок ведет неправильный образ жизни. Фактически она живет у моей мамы, вы с ней знакомы. Алла определенно манкирует своими обязанностями. Иришка ей, видите ли, мешает. Она не дает ей построить новую жизнь. Конечно, я должен был больше времени уделять ребенку. Но поймите и меня: я не старый еще мужчина, глубоко занятый своей работой, с массой интересов, включая политику. Как вы думаете, она успеет?
— А Иришка знает, до какой станции ехать? — спросила Лидочка.
— Она разбирается во всем куда лучше меня. Конечно, она знает нашу станцию, она иногда приезжает домой ночью. Вы не думайте, что я одобряю такое поведение, но здесь по сравнению с Москвой такая безопасность на улицах, что можно совершенно спокойно гулять и в одиночестве.
— Тогда, наверное, вам не стоит беспокоиться, — предположила Лидочка.
— Разумеется, — согласился Вячеслав Андреевич, — но я не умею не беспокоиться.
Два очень больших негра с множеством косичек на головах сели по другую сторону прохода, и Кошко заговорил гораздо тише, словно боялся, что негры его подслушают.
— Сложности возникают от иммигрантов, — сказал он. — Содружество наций — бывшие колонии, англичане чувствуют перед ними комплекс вины — как бы за то, что пили из них соки в течение стольких лет. Для рядового жителя, для нас с вами, это оборачивается драмой — вся преступность концентрируется в бедных негритянских районах.
Вячеслав Андреевич возбудился, его бородка поднялась вперед почти горизонтально, в горле слышался тихий клекот, острый кадык нервно дергался по шее, грозя продрать кожу.
Опомнившись, Вячеслав Андреевич посмотрел на часы.
— Две минуты до отхода, — сказал он трагическим шепотом. — Куда она могла исчезнуть?
— У меня есть предположение, рабочая гипотеза, — произнесла Лидочка.
— Да?
— Ей приятнее ехать и жевать шоколадку в одиночестве. Она села в другой вагон.
— Но ведь вы — наш гость! Ей же интересно узнать новости, получить письма из Москвы, весточку от бабушки…
— Вы уверены, что она спешит получить эту весточку?
— Ах, я уже ни в чем не уверен!
Лицо Вячеслава Андреевича сложилось в гримасе отчаяния, как у мягкой куклы.
— Я пойду, — сказал он, — погляжу на платформе.
Лидочке захотелось спросить, неужели он полагает, что его дочь стоит на платформе и рыдает в ожидании папы, но она сдержалась, а Кошко лишь совершил движение к двери, скорее символическое, и стоял в нерешительности, пока двери не закрылись. Поезд медленно пополз мимо путей и стен, разрисованных в меру неприличными надписями. Потом он вырвался из плена близко сошедшихся темных домов и складов и полетел по мосту через Темзу. И сразу обнаружилось, что над Лондоном с утра царит голубое ясное небо, по которому медленно плывут кучевые облака, что между домов много зелени, что цветут розы, что улицы на том берегу Темзы составлены из трехэтажных домиков, вполне милых, с магазинами внизу, а мимо них проезжают настоящие двухэтажные автобусы с туристической открытки «Площадь Пиккадилли».
Кошко вроде бы смирился с потерей дочери.
Он тоже смотрел в окно и даже сказал что-то незначащее о неверной английской погоде, объяснив это морским климатом и вообще близостью моря, что не было географическим открытием.
Лидочке хотелось задать ему несколько вопросов, но задавать их вроде бы было рано. Кое-что о его появлении в Лондоне рассказала Марксина Ильинична, кое-что Лидочка узнала еще раньше от Теодора, который разыскал Марксину. Но в Москве все звучит иначе, и не знаешь, где кончается сплетня, а где начинается ложь. Так что Лидочка избрала нейтральный путь и спросила:
— Ирина здесь надолго?
— Не знаю, — буркнул Кошко. — Ни черта я не знаю.
Настроение у него было поганым. После долгой паузы он добавил:
— Надо понять Иришку. Я не могу ей здесь дать то, что упустил в Москве. Очевидно, я опоздал. Я стараюсь, я честно стараюсь, но наталкиваюсь на внутреннее сопротивление.
— Она не любит свою маму?
— Откуда мне знать? Иногда она говорит об этом, потом говорит, что ненавидит Аллу. Она — очень одинокое существо, поверьте мне. Ведь, по сути дела, она была сброшена на руки бабушке вполне живыми и дееспособными родителями. Мы с Аллой зашагали по жизни своими путями, а ребенок остался где-то в стороне.
Голос Кошко дрогнул.
Признание было искренним. Видно, проблема отцов и детей впервые обрушилась на него здесь, в Англии, и все его попытки искупить вину оборачивались педагогическими провалами. Впервые в жизни у Иришки появилась возможность отомстить взрослому миру, чем она и занималась.
— Я боюсь, что она попадет в дурную компанию. Здесь. Мне так трудно ее контролировать.
— Она знает язык?
— Она его впитала за считаные недели, как губка. Ей легко. Она уже говорит свободнее меня.
Поезд затормозил у первой станции. За окном стоял бронзовый негр человеческого роста и ждал поезда. Разумеется, он не двинулся с места, когда поезд остановился. Зато оба больших негра с косичками вышли из вагона.
— Брикстон, — сообщил Кошко. — Негритянский район. Опасное место.
Электричка поехала дальше, дома становились все меньше, за каждым тянулся газончик с кустами цветов. Дома оборачивались к поезду задами, и газоны упирались в насыпь.
Затем началось большое поле для крикета, по которому ходили джентльмены в белых костюмах со щитками на коленях и клюшками в руках. В электричку не очень шумно впорхнула стайка юных джентльменов в черных костюмах и при галстуках. Джентльмены делали вид, что это вовсе не пародия на британский образ существования, а так и следует жить на свете.
Электричка с шумом влетела в туннель. Вячеслав Андреевич потянул чемодан к дверям.
— Пятнадцать минут от Виктории, — сообщил он, — а Виктория — это практически центр Лондона. Вы хотели бы жить в Москве в пятнадцати минутах от «Киевской»? Или от Белорусского вокзала?
— Я так и живу, — призналась Лидочка, чем расстроила хозяина. Ей бы надлежало жить на окраине Чертанова или в Северном Бутове и жаловаться на то, что теряет полтора часа до центра.
Платформа станции Пендж-хауз оказалась сельской, тихой, заброшенной настолько, насколько такое возможно под Лондоном. Две платформы, разделенные двумя путями. Крытый деревянный переход через пути был похож на толстую гусеницу, выгнувшую спину.
Немногочисленные пассажиры не спешили, направляясь к узкому проходу в высокой железной ограде.
Вячеслав поставил чемодан на платформу. Он ждал упущенную дочь.
Иришка соскочила с поезда в последний момент — дразнила папочку. Конечно же, она ехала в последнем вагоне, чтобы не связываться со взрослыми.
— Иришка! — слишком громко позвал ее отец. Но, к счастью, его голос был заглушен грохотом обтекаемого чудовища, в затемненных окошках которого горели настольные лампы и лицом друг к другу сидели дамы и джентльмены — как будто мимо них с умопомрачительной скоростью промчался многовагонный вагон-ресторан.
— Экспресс в Париж, — сказал Кошко, не спуская глаз с дочери. — Под Ла-Маншем. Все собираюсь прокатиться, но времени нет.
Иришка подошла к ним.
— Ну что же ты! — укоризненно сказал отец, чем дал возможность ответить:
— А чего такого случилось? Я бросилась под поезд?
Иришка первой пошла с платформы.
Вячеслав Андреевич потащил за ней чемодан. Последней шла Лидочка.
— Я машину оставил здесь, у станции, не тащить же чемодан пешком, правда?
Он понес чемодан к небольшой стоянке. На мирной площадке перед станцией расположились цветочная и овощная лавки, газетный киоск и еще какой-то магазинчик. Иришка почему-то не пошла к машине, а направилась к магазинчику и скрылась в нем.
Это Вячеслава Андреевича совершенно не смутило. Он открыл багажник солидного серебристо-голубого «Воксхолла».
— Иришка выбирала? — спросила Лидочка.
— Нет, это мне досталось, — ответил Кошко. — Ему уже пять лет. Вечная машина.
Он захлопнул багажник.
— Садитесь, — пригласил он. — Сейчас Иришка придет.
Иришка появилась из магазинчика в то же мгновение.
Она несла большой бумажный кулек. Оттуда она на ходу доставала ломти жареной картошки и кидала их в рот. Кулек промаслился там, где на него нажимали пальцы.
Руль у машины был справа, это было неправильно. Лидочка, конечно же, знала об этом, но все равно неправильно.
Иришка рванула дверцу слева, плюхнулась крепким задиком на сиденье рядом с отцом. Лидочка уселась сзади.
— Здесь близко, — сообщил Кошко. — Пешком меньше десяти минут.
Машина рывком взяла с места.
— Водитель ты фиговый, — сообщила Иришка папе.
— Зато осторожный, — ответил тот.
— Если Бог чего не дал, то это надолго, — сказала Иришка. — Сколько раз я тебе говорила — давай буду тебя возить.
— Ты рискуешь, — сказал Кошко.
Машина набрала скорость, чуть не столкнувшись с красным двухэтажным автобусом, который, оказывается, забирался из Лондона даже сюда, и покатила по левой стороне улицы. Лидочка еле удерживалась, чтобы не крикнуть водителю, насколько он неосторожен.
Проехали мимо недавно сгоревшей каменной церкви — балки крыши напоминали объеденную селедку. Свернули за церковь, потом еще раз, прокатили немного по широкой улице, на которой в разрядку росли могучие деревья, и повернули к стоявшему в глубине, метрах в десяти от тротуара, дому. Перед домом расстилался ровный газон, отделенный от улицы высокой живой изгородью.
— Вот и наш уголок, — сказал Кошко.
Слово «уголок» прозвучало напыщенно.
— Запоминайте сразу, — предупредил Вячеслав, открывая багажник и с тоской глядя на чемодан, — наш адрес: Вудфордж-роуд, 14. Вудфордж — это лесная кузница. Здесь был лес.
Глава 3
Лидочка выволокла чемодан, не дождавшись помощи.
— Это семи-аттачд дом, — сообщил Лидочке Вячеслав Андреевич. — То есть в переводе «полуприложенный».
— Полуприставленный, — поправила его Иришка, которая звонила в дверь, забранную в верхней половине непрозрачным, поделенным на изысканные дольки бутылочным стеклом. — Полуприпертый. Полутрахнутый.
— Иришка, твое остроумие порой оставляет желать, — сказал Кошко.
— Опять их дома нет, по распродажам побежали, — проворчала Иришка. — Где у тебя ключи?
— А твои?
— Не знаю, где мои. Посеяла. Или дома валяются.
— Ну нельзя же так разбрасываться ключами! — умеренно возмутился отец.
— Это демагогия, — ответила Иришка, вытаскивая связку ключей из сумки, висевшей через плечо. — Есть у меня ключи, есть, не суетись.
Она открыла дверь и скрылась в темноте.
— Семи-аттачд хауз, — продолжил Кошко, — выше классом, чем террасный дом. Понимаете?
— Разумеется, не понимаю, — улыбнулась Лидочка.
Кошко стоял в дверях и мешал войти.
— Мы владеем половиной дома, — продолжал он. — Наша половина — номер четырнадцать, а у соседей дом номер шестнадцать. Так экономичнее строить. Все коммуникации сооружаются на два дома. Наш дом отделяется от соседнего проходом. Видите, за калиткой? Туда выходит черный ход из кухни, там стоят мусорные баки.
— Спасибо, я поняла, — сказала Лидочка.
— Но я должен закончить, — остановил ее Кошко. — Дело в том, что большинство домов в Англии относится к другому типу — это террасные дома. То есть строится сразу сторона улицы. Как бы один длинный дом. Потом он нарезается на дольки. Каждая долька — домик. Они одинаковые по расположению, по планировке. Такие же, как наш, только гораздо меньше. Это дома для людей с доходом ниже среднего.
Кошко отступил от двери, и Лидочка смогла войти.
— Конечно, мы можем позволить себе отдельный дом и в более фешенебельном районе, — закончил Вячеслав Андреевич. — Но у нас нет таких запросов. Тогда пришлось бы слуг нанимать…
Он искренне расстраивался оттого, что чуть было не нанял слуг. А ведь лет пять назад он вполне довольствовался двухкомнатной квартирой в хрущобе и по утрам втискивался в душный автобус, спеша на службу.
В нешироком полутемном коридоре с неожиданно высоким потолком Кошко перехватил чемодан и поставил его к стене у столика с телефоном, за вешалкой.
— Потом отнесем к вам в комнату, — сказал он. — Сначала выпьем по чашке кофе за благополучное прибытие.
Он явно чувствовал облегчение от того, что путешествие закончилось и можно закрыть за собой дверь. Лидочка подумала, что Кошко внутренне человек вялый и замкнутый в ощущении пространства. Дай ему волю, он бы развил в себе обломовский комплекс и закуклился в умеренно комфортабельной обстановке. Такой человек обязательно должен иметь свой диван, где бы он ни жил. Особенный диван, как лежка у медведя, как гнездо у гагары.
Впереди поднималась крутая лестница на второй этаж, но коридор проходил дальше и упирался в белую дверь. Направо же от лестницы дверь была открыта, и оттуда слышался грохот посуды. Потом раздался звон.
Кошко обреченно сказал:
— Еще одна чашка! Сегодняшняя норма по битью посуды выполнена.
— Где веник? — раздался крик Иришки.
— Где всегда, — ответил Вячеслав Андреевич.
«Наверное, лучше бы не экономить, — подумала Лидочка. — Жила бы я сейчас в скромной гостинице».
Кошко ввел Лидочку в правую дверь, где оказалась небольшая столовая с круглым столом, покрытым пластиковой скатертью. Иришка забралась в холодильник — попка наружу, осколки чашки лежали на выложенном плиткой полу.
— Хоть бы убрала, — вздохнул Кошко.
— Со временем, — ответила дочь, прикладывая все усилия, чтобы вывести взрослых из себя.
— Это демонстрация? — спросил Вячеслав Андреевич.
— Разумеется. — Иришка высунулась из холодильника, держа в руке шмат ветчины.
— Хоть бы руки вымыла, — сказал Кошко.
— А то перед постояльцами неудобно, — закончила фразу Иришка.
И, посчитав, видно, что папа может потерять контроль над собой, она решила не рисковать и удалилась из кухни.
— Простите, — сказал Вячеслав Андреевич.
— Я все слышала, — сухо ответила Лидочка. — Ребенок рос без родителей, и теперь все виновато прыгают вокруг.
Наверное, с хозяином квартиры в первый день знакомства так грубо не разговаривают, но Лидочка разделяла чувства Иришки: ей тоже хотелось вызвать этого худенького интеллигента на конфликт, на крик, на скандал, чтобы можно было с чистым сердцем хлопнуть дверью и уйти навсегда.
Но Вячеслав Андреевич вовсе не обиделся. Он уже достал из-за холодильника красивый совок и щетку и стал заметать осколки.
— Вся беда в том, — говорил он при этом, — что я-то вину чувствую и прыгаю, как вы изволили выразиться, вокруг, а мама остается статуей в почтительном отдалении. А поклоняемся мы всегда статуям, как бы их ни ненавидели.
Лидочка была вынуждена с ним согласиться, хоть ничего вслух и не сказала. Богатые, как известно, тоже плачут.
Вячеслав Андреевич обладал сноровкой старого холостяка — он быстро и аккуратно подмел пол, потом прошел в маленькую, прижавшуюся к столовой кухню и поставил воду. Пока вода грелась, оттащил наверх чемодан Лидочки и показал ей ее комнату.
На втором этаже было четыре комнаты. Большая хозяйская спальня выходила окнами на улицу и была шириной во весь дом. Рядом находилась небольшая комнатка, глядевшая в промежуток между домами, и туда же выходил окошком обширный, но захламленный туалет с ванной. Еще две светелки глядели в сад. Одна из них досталась Лидочке. Вторая, как объяснил Вячеслав Андреевич, принадлежала Иришке, которая в ней и закрылась. «Слава богу, что не закрылась в туалете, — с облегчением подумала Лидочка. — Вот это была бы революция!»
Именно на том этапе их отношений Вячеслав Андреевич предложил откинуть отчества. («В Англии мы живем, в конце концов, или в Турции? Мне трудно реагировать на «Вячеслав Андреевич» — словно я в учреждении, где мне могут дать справку, а могут и не дать».) Лидочка не стала спорить: если предстоит прожить вместе чуть ли не месяц, российские отчества повисают, как вериги.
Внизу живут родственники, объяснил Слава, Василий и Валентина. Хорошие, добрые люди, приехали к нему из Краснодара провести отпуск, но не могут сдержать российских инстинктов — так что устремляются по распродажам, благо сейчас как раз настал сезон летних распродаж. И если вам, Лида, что-нибудь нужно, они все знают, где, что и почем.
Сам Слава предпочитал спать на диване внизу, в своем кабинете.
— Приведете себя в порядок, спускайтесь, я вам покажу первый этаж, — сказал он.
На прощание он принес Лидочке белье, а сам постучал к дочери. Та откликнулась, Слава вошел в комнату и принялся бормотать.
За окном стояла большая липа, а за ней начиналось бескрайнее зеленое поле. Мальчишки гоняли по нему мяч.
Лидочка разобрала чемодан, достала все, что было нужно, и отправилась в ванную.
Вернувшись из ванной, она окончательно распаковала свои немногочисленные вещи и спустилась в столовую. Прошло полчаса, не более.
Слава ждал ее, сидя за столом. Стол был накрыт небогато, но достойно английского джентльмена, жена которого находится в отлучке.
На тарелке были разложены бисквиты, прочно стояли две баночки с джемом, сыр, молоко, сахар, чашки, ложки…
— Садитесь. Может, вы желаете выпить? Джин? Виски?
— Ни в коем случае!
— Вы вообще противница?
— Нет, только сейчас. Не хочется начинать утро с победы над собой.
— Красиво, но неубедительно, — заметил Слава. Он успокоился, даже порозовел, и глаза потеряли лихорадочный блеск.
Все было как в Москве, но воздух казался иным — он был чище, мягче и склонял к неторопливости. Москва была далеко не только в пространстве, но и во времени. Здесь никому не было дела до московской грязи, толкотни, склок, злобы, насилия и лукавства. Здесь не хотелось запирать дверей и машин, как все и поступали, хотя порой на таком легкомыслии попадались.
Заявилась Иришка. Чашка ей была поставлена заранее. Она налила кофе без молока и сахара и уселась напротив Лидочки, чтобы было удобнее ее разглядывать в упор.
Слава расспрашивал о том, как выглядит мама, что она просила передать, что нового дома, как движется строительство храма Христа Спасителя…
Хлопнула дверь, в коридоре загрохотали усиленные гулким холлом голоса. Слышны были шаги, почему-то в коридоре рвали бумагу. Иришка, хранившая до того нейтральное молчание, изобразила на физиономии презрение и негодование. Слава ожидающе обернулся к двери.
В дверях появилось красное, блестящее, возбужденное лицо, удивительно гладкое, потому что за исключением сизых бровей на нем ничего не произрастало. Алые губы сложились трубочкой, и вкатившийся в комнату толстяк завопил:
— Валя, Валюха! У нас радость! Лидия приехала! Иди глядеть!
Тут же, оттолкнув толстяка, в комнату ворвалась такая же круглая и краснолицая женщина. На ее голове, словно приклеенные, росли оранжевые волосы, уложенные мелкими волнами. С краской для волос женщине явно не повезло.
Толстяки были немолоды, но очень подвижны, будто жир переливался внутри их тел, как ртуть. Такими, наверное, были гоголевские комические герои, которые питались варениками.
Валентина протянула Лидочке обе руки и, сжав ладони, принялась ее трясти. Руки ее оказались твердыми, мозолистыми, знакомыми с лопатой.
— Лидия Кирилловна, — по-южному запела она. — А мы так рвались, так рвались в аэропорт вас встретить, только Славчик нас не взял.
— Вы так сладко спали, — сказал Слава. Он лицемерил, и Валентине бы не заметить этих слов, но она с усердием правдолюбца тут же закричала:
— Ну как же ты, Славочка, говоришь, когда мы с тобой в ванной повстречались?
Толстяк вырвал Лидочку из объятий Вали и неожиданно хлопнул по плечу.
— Разрешите представиться. Мы будем родные Славику из Краснодара. Меня зовут Василием Никитичем Кошко, а мою супругу — Валюхой. Проводим отпуск на туманном Альбионе. Но туманов нема!
Валюха засмеялась тому, что туманов нема, и крикнула мужу:
— Мечи на стол, Василий!
Василий исчез, за ним ушла Иришка — видно, в знак протеста, но к протестам тоже привыкаешь, и никто ее ухода не заметил.
Василий вернулся с початой бутылкой перцовки и кексом или чем-то подобным кексу, запакованным в фольгу. Валюха скользнула на кухню и стала там шуршать фольгой, а Василек, Василь, Васичка (его называли по-разному, словно имя еще не установилось) достал рюмочки и всем разлил по глотку. Осталось больше половины бутылки, и это его обрадовало. Он завинтил крышку, поставил бутылку на пол возле ножки стола, чтобы не было соблазна, произнес:
— С приездом! За знакомство! — и первым потянулся рюмкой к Лидочке.
— Иду-иду! — закричала из кухни Валюха, о которой муж забыл. — Разложу и приду.
Она вынесла из кухни кекс на вытянутых руках, как выносили лебедя на царском пиру.
— Кушайте, гости дорогие, — пропела она. — Надеюсь, вам понравится наш скромный подарочек.
Валюха уселась рядом с Лидочкой, положила треугольничек кекса ей на блюдце и неожиданно спросила:
— А почем у вас сметана?
Лидочке вопрос показался не только несвоевременным, но и смешным, и она спросила:
— А у вас? В Краснодаре?
— А мы раньше в Полтаве жили, — ответила Валюха. — Сбежали из Хохляндии. Полная разруха с этими карбованцами. Все растащили, ну буквально все. И мы к дочке уехали, в Краснодар. А они гривны ввели.
Неожиданно Валюха вскочила из-за стола и умчалась к себе в комнату. Василь раздумывал, не налить ли еще — он даже склонился к ножке стола за бутылкой, — но тут бережливость взяла верх, и он выпрямился. Возвратилась Валюха с фотографией двух толстощеких детишек.
— Это наши, — сказала она. — Внучата.
Лидочка произнесла подходящие к случаю междометия. Валюха совсем растрогалась.
— Я тебе, Лидия, вот что скажу…
— Может, Лидия Кирилловна хочет отдохнуть? — перебил ее Слава.
— Нет, спасибо. — Лидочке было неловко обрывать на полуслове эту добрую женщину.
— А я тебя спрошу, ты что брать будешь? — спросила Валюха.
— Валентина! — оборвал ее Слава.
— Пускай говорят, — разрешил Василий. — Им, бабам, только о тряпках и разговаривать. А мы с тобой по маленькой. Давай нашей, настоящей, крепкой, не то что здешнее дерьмо по двадцать фунтов.
Валюха глядела на Лидочку доверчиво и ласково, будто была готова снять с себя последнее.
— Я тебя с миссис Симпсон познакомлю. Другую бы не стала знакомить, а тебя познакомлю.
— Хоть и старуха, но доброты сильнейшей, — сказал Василий, опрокинув в рот рюмочку и с сожалением заглядывая в ее пустоту.
— Она нам еще вчера подсказала, что они с утра будут выбрасывать.
— И это правильно, — поддержал жену Василий. — Всем не наобещаешь. А мы ей подаруночек привезли — косыночку с видом Киева.
— Ты только не переоценивай, — осадила мужа Валюха. — Они на таких, как мы, только и держатся. А то бы всех разогнали. Ты посиди, я тебя к нам не зову — у нас беспорядок. Сейчас я тебе такое покажу — ты ахнешь!
Валюха в мгновение ока вылетела в коридор и тут же вернулась с большой полосатой пластиковой сумкой. Из нее, подвинув чашки, она вывалила на обеденный стол небольшую дубленку.
— Ты такое видела? — спросила она у Лидочки.
— Дубленка? — В голосе Лидочки прозвучало сомнение. Может, она недостаточно образованна? Может, это что-то особенное?
Дубленку положили на спину, и на груди обнаружилось небольшое чернильное пятно. На самом видном месте.
Кошки хором вздохнули и, забыв об окружающих, стали обсуждать, как это пятно вывести или на его место нашить цветочек такого же, как дубленка, цвета, и никто даже не подумает, что там было пятнышко.
— А теперь, Лидия, догадайся, сколько мы за нее отдали? — спросил Василий.
У Славы, кажется, заболел зуб. Он морщился и смотрел в окно. Но за окном был лишь забор, а за ним стена соседнего дома.
— Ну, смелее, Лидия, смелее!
Они были такими радостными, возбужденными, что напомнили Лидочке страстных охотников, которые вернулись из леса и притащили медведя. Медведя взяли на рогатину сами, без помощи егерей, да вот беда — шкура в одном месте пробита!
— Давай, Лидок! — призывал Василий.
Кошки были людьми простыми. Они уже называли Лидочку кратко, обращались к ней на «ты», они уже перевели ее в свой батальон.
— Никогда не догадаешься! — сказала Валентина. — Три фунта. Честное слово — три фунта.
— Будь точной, крохотулька, — поправил жену Василий. — Три фунта пятьдесят копеечек.
— Но ведь это дневной билет на метро! — воскликнула Валентина. — Надо же осознавать!
— У нас еще есть кое-какая добыча, — сказал Василий. — Кое-что из белья, из детских вещей, внуки ждут не дождутся нашего возвращения.
— У окошка стоят, — запела Валентина.
— Но почему ты не спрашиваешь, Лидия, почему не спрашиваешь, где мы такое чудо купили?
Лидочка не могла догадаться, где продают такое чудо.
— На Сиднем-роуд, — объяснил Василий. — Канцерное сосайети. Мы, так сказать, занимаемся благотворительностью. Вот там миссис Симпсон нас привечает.
— А я к себе пошла, — сказала Валентина. — Я посуду потом вымою, ты, Славочка, не бойсь. Страсть как хочется добычу пересчитать. Смешно, да? Ну что ж, подождешь, мы уже старые люди, всю жизнь провели в лишениях.
Она убежала в коридор, потащила что-то. За ней, подхватив в охапку дубленку и бутылку, умчался Василий. За столом стало очень тихо.
— Сколько им лет? — неожиданно для себя спросила Лидочка.
— Под шестьдесят. Но не дашь, никак не дашь, правда? — ответил Слава. — Они у нас здесь исполняют роль стихийного бедствия. Они полны благих намерений. Но эти намерения направлены на легкое обогащение.
— А как они занимаются благотворительностью?
— Типично совковый метод ставить все с ног на голову, и в результате ты оказываешься королем, а все остальные в белых тапочках. У них здесь, в Англии, много всяких благотворительных обществ. У этих обществ лавочки, куда поступают вещи от умерших бабуль или от местных жителей. Деньги, вырученные от продажи, идут на помощь больным. Порой в этих лавочках все продается за бесценок. Сегодня мои родственники совершили налет на магазин общества помощи раковым больным.
— Значит, это… чужая дубленка?
— Кто-то ее купил, облил чернилами и подарил с горя магазину. Всякое бывает. Вы не думайте об этом. Мы сначала с Иришкой пытались спорить. Но у наших кротов странный аргумент — если бы я поделился с ними деньгами, они бы покупали все в «Хэрродсе». Но мне кажется, что достаточно уж того, что они живут здесь и едят. А раз в неделю покупают кекс. Об этом кексе мы еще услышим не раз. Словно это ведро черной икры. У вас тут есть знакомые?
— Нет.
— А поручения?
— Мне надо отвезти посылку в университет.
— Пожалуй, лучше вам это сделать завтра, чтобы не ездить в Лондон лишний раз. У вас доллары или фунты?
— Доллары.
— Я думаю, что выгоднее будет разменять в «Америкэн Экспресс». Это на Виктория-стрит, я вам покажу.
— А сегодня?
— Я бы посоветовал вам поспать. Все-таки вы встали в Москве на рассвете, пролетели несколько часовых поясов. Послушайтесь моего совета — поспите часок-другой.
И по мере того как он говорил, Лидочке все более хотелось спать.
Это не означало, что Слава обладал великими гипнотическими способностями, но на часах был уже первый час, а встала сегодня Лидочка в шесть, к чему надо приплюсовать три часа разницы между Москвой и Лондоном. Вот и наступило время для мертвого часа.
Лидочка поднялась в свою комнату.
Комната была невелика, в ней стояла тахта мягкости необычайной, еще оставалось место для платяного шкафа, небольшого стола, который при желании можно было считать письменным, а можно было и туалетным, кресла, стула и Лидочкиного чемодана, пока еще вполне относящегося к предметам мебели.
Лидочка хотела разложить белье и сделать себе постель, но это означало бы полную капитуляцию перед Морфеем, к чему она была не готова. Она сбросила туфли и растянулась на тахте, словно на морской волне.
Если подняться на локте, то был виден длинный газон и деревья за газоном.
Сон, конечно же, не шел. Странное чувство владело Лидочкой — словно на самом деле ее приезд в Англию требовал внутренней спешки, гонки, нужно было успеть, завершить, и уж конечно, немыслимо было отдыхать… Почему все внутри было связано в тугой узел? Даже сердце билось неточно, сбивчиво, как ребенок, торопящийся, вернувшись из садика, все рассказать маме. Нет, сон никак не шел. Вместо этого вспоминались шоколадки, обивка на креслах в электричке, убийца-организатор Геннадий, дубленка с пятном… И так, борясь с летучими воспоминаниями, Лидочка села на тахте и стала смотреть в окно. На длинном горизонтальном суку сидела белка и прихорашивалась к вечернему свиданию, в тени дерева скользнула лиса, и тяжелые головки роз колыхнулись, пропуская ее внутрь кустарника. Странный город, странный мир… За стенкой бубнили папа с дочкой, но, к счастью, слов было не разобрать.
Нарушая идиллию чужого мира, каркнула ворона, опускаясь на газон, и пошла, раскачиваясь, словно пьяный моряк, по короткой траве.
Лидочка заставила себя снова лечь и закрыла глаза.
Она мысленно повторила путешествие от аэропорта до этого дома — зал ожидания, метро, пересадка, вокзал Виктория, электричка, бронзовый негр на станции Брикстон, полустанок, магазинчики у станции, деревья на улице Вудфордж…
И тут Лидочка проснулась, потому что не заметила, как заснула, повторяя путешествие.
Проспала она долго, часа два.
Солнце успело спрятаться за облака, но день был в полном разгаре. Наверное, уже три часа.
Дома было тихо.
Потом снизу донеслись звуки кухонной деятельности.
Пора было вставать, хотя Лидочка чувствовала себя разбитой, невыспавшейся, настроение испортилось — не хотелось становиться приживалкой в этом неладном доме. И зачем только она согласилась на эту поездку?!
В таком настроении она сошла вниз, где целый час просидела в кабинете Славы, слушая его наставления и глядя по телевизору какую-то программу, которая должна была вызывать смех, но вызывала его лишь у невидимой телевизионной аудитории, громко и заразительно хохочущей в ответ на любое движение губ комиков.
Слава уверял, что все это очень смешно, но Лидочке казалось, что он делает это скорее из чувства долга — он англичанин и должен ценить британский юмор, не так ли?
Потом Валентина позвала всех обедать. Обед состоял из пакеточного супа, замороженных котлет и полуфабрикатного мусса. Все было умеренно невкусно, и Валентина за столом игриво напомнила Лидочке, что «мы живем здесь небольшой коммуной и тратимся на еду по очереди. Послезавтра ваша очередь, Лидочка».
Слава толкнул Лидочку под столом коленкой, напоминая о скаредности родственников.
За обедом Иришка капризным голосом принялась просить у отца машину, заранее зная, что машину ей не получить. После обеда она уехала куда-то на велосипеде, а свинки, как назвала для себя Василия и Валентину Лидочка, стали звать ее прошвырнуться по магазинам, чтобы показать ей, что есть что и что есть где, но Лидочка уже дала себе слово сопротивляться напору, исходящему от супругов. Вернее всего, они были милыми и добрыми людьми, но жизнь свою прожили в относительной бедности, а теперь не выдерживали вида и содержания лондонских распродаж и рынков. И малость рехнулись. Может быть, это было и не совсем так, но сторонником подобной идеи выступил хозяин дома Слава, когда после обеда увел Лидочку в сад. Он отошел подальше от дома, чтобы не подслушивали, а так как подслушивать, кроме родственников, было некому, то стало ясно, что он им не очень доверял. Слава спросил Лидочку, интересно ли ей узнать, как он стал владельцем этого дома и почему поселился в Лондоне. Лидочка ответила, что ей интересно.
Слава попросил ее потерпеть до вечера. Краснодарские Кошки, как он объяснил, ложатся спать пораньше, следуя золотому правилу «кто рано встает, тому Бог подает». И ему бы не хотелось, чтобы они совали свой нос в его дела.
— Разве они ничего не знают? — спросила Лидочка.
— Разумеется, в принципе, им эта история знакома. Все родственники, даже те, о существовании которых я недавно и не подозревал, обсуждали мою судьбу с завидным интересом. Но мне не хочется, чтобы они дышали в спину, когда мы с вами разговариваем.
— Вам наконец-то захотелось поговорить с человеком, который ни на что не претендует? — поняла Лидочка.
— Честно?
— Как вам хочется.
— Если честно, то я рад, что вы приехали и оказались именно такой.
— Какой?
— Не притворяйтесь. Вам уже говорили. И не раз.
Лидочка не стала расспрашивать Славу дальше. Она понимала, что и в самом деле относится к разряду других людей. Может быть, нормальных людей. Но составить полное представление о том, что же творится в доме номер четырнадцать, она не сможет, пока Слава не расскажет ей обо всем сам.
Слава ждал нового вопроса, не дождался и произнес сам:
— У меня к вам просьба. Завтра на утро нет молока и корнфлекса. Мои родственники, как всегда, сэкономили и забыли купить. Вы не дойдете до магазина? Это просто. По нашей улице направо, и через пять минут вы попадете на Сиднем-роуд, нашу главную деревенскую улицу. Там два шага до гастронома. Он еще открыт.
— С удовольствием.
— У вас нет географического идиотизма?
— Нет, у меня по географии всегда была пятерка.
— Английские фунты есть?
— Надо будет разменять, но немного есть.
— Сколько немного?
— Фунтов двадцать.
— Вам хватит. И даже на джем, желательно абрикосовый. Он тоже кончается.
— А хлеб покупать? — спросила Лидочка, довольная возможностью быть полезной дому. Она не любила оказываться в роли нахлебницы. Впрочем, это ей никогда и не удавалось.
Слава открыл ей дверь и стоял, глядя вслед, чтобы убедиться, правильно ли она идет.
Лидочка шла правильно.
Она благополучно добралась до небольшого, но полноценного гастронома. Истратила фунтов пятнадцать, сумка оказалась тяжелой.
Когда Лидочка шла обратно, уже начинался вечер. Тени стали длиннее, на улице прибавилось машин, люди возвращались по домам.
Конечно же, Лидочка ходила куда дольше, чем рассчитывала. Она была благодарна Славе, что тот придумал ей занятие и предлог выйти в город одной. На улице было много магазинов и магазинчиков — небольших, тихих и чистеньких. К тому же Лидочка сама, без чужой помощи, отыскала и запомнила, где находятся почта, прачечная, химчистка, овощной магазин, книжный магазин с развалом на столе перед входом и даже отделение банка.
Возвращалась она не спеша, наглядевшись на жизнь улицы, которой и дела не было до Лидии Берестовой, гражданки России, сегодня впервые приехавшей в этот пригород Лондона.
Она повернула к дому. Здесь все было просто, не заблудишься.
Через пять минут она дошла до Вудфордж-роуд, глазея на гигантские розовые кусты — еще одну национальную особенность английского быта, о которой предыдущие путешественники по этой стране сообщить забыли.
Когда Лидочка сворачивала на улицу, почти одновременно с ней туда, только с другой стороны, повернула машина.
Солнечные лучи били почти горизонтально земле, и потому профиль человека, сидевшего рядом с шофером, высвечивался, как в театре теней. Даже слишком ярко.
Лидочка даже остановилась от неожиданности — этим пассажиром оказался ее сосед по самолету, убийца-организатор Геннадий. Какое совпадение! Наш красавчик тоже живет в этом районе!
Лидочка готова была уже помахать ему рукой и окликнуть: окошко открыто — услышит. Но тяжелая сумка остановила движение руки, и тут же проснулась настороженность, рожденная этой тяжестью, положенной на ее кисть предупреждающей рукой. Лидочка сама себе удивилась. Бывают же совпадения, ну и хорошо, встретила соотечественника за рубежом, приятного молодого человека, шахматиста-любителя. Чего же ты молчишь, Лидочка?
Потом уж она старалась понять себя. Почему она вела себя именно так, а не иначе? Почему она шла дальше, не ускоряя и не замедляя шаг, чтобы не обратить на себя внимание?
И тут же дала себе ответ: машина ехала слишком медленно.
Люди в машине что-то или кого-то искали.
Они разговаривали, сближая головы. Машина уехала уже довольно далеко, но тот яркий, предвечерний свет, что окутал улицу, отличался особенностью подчеркнуто ярко высвечивать все предметы, так что Лидочка даже издали могла видеть Геннадия и его спутника во всех деталях. А спутником Геннадия был тот человек, который встречал его в Хитроу.
Лидочка вдруг испугалась, что русские в машине ищут дом Славы Кошко. Или их приезд вовсе не связан с этим домом?
Но она, к сожалению, угадала.
Перед четырнадцатым домом машина почти остановилась, и оба ее пассажира шеи свернули, разглядывая машину Славы, фасад дома, дверь и розовые кусты.
И может, у Лидочки остались бы еще сомнения, она смогла бы себя утешить, но как только машина миновала дом, то водитель ее, словно завершая танец, нажал на газ, и машина, набирая скорость, помчалась вперед. Только тут Лидочка сообразила, что машина была синей «Тойотой», а номера она не разобрала.
Итак, Геннадий искал дом номер четырнадцать по Вудфордж-роуд. И он его отыскал.
Оставались надежды, что планы его были вовсе не зловещими, а какими-то иными. Но какими же? Любопытно бы узнать, какова была доля шутки в словах Геннадия относительно его профессии.
По крайней мере, Лидочку они не заметили. Не ожидали увидеть ее с хозяйственными пакетами.
Рассказать об этом Славе? Надо будет сказать… потом…
Глава 4
Когда Лидочка вернулась домой, все, за исключением Иришки, которая еще не вернулась, сидели у телевизора и глядели детективный сериал. Слава кое-что переводил, потому что за пределами магазинов родственники английским языком явно не владели.
Так как никому до Лидочки не было дела, она пошла наверх и провела следующий час, раскладывая вещи, приспосабливая под себя новое жилье, — у нее было это звериное умение сделать себе домик, устроить уютную норку.
Потом, еще раз поглядев на вечерний сад и поля за ним, откуда доносились крики английских мальчишек, игравших в футбол, Лидочка тихо спустилась на кухню. Кухня соединялась с кабинетом, где работал телевизор, окошком, прикрытым фанерной шторкой, чтобы подавать джентльменам кофий и сандвичи. Поэтому из кухни можно было подслушивать, что происходит в кабинете. Пока оттуда доносились только выстрелы, визг тормозящих шин и злобные выкрики полицейских и негодяев.
Лидочка занялась ужином, заодно осваиваясь на кухне, засовывая нос на полки, полочки, в шкафы и холодильник и обнаруживая, что хозяйство дома находится в разоре и беспорядке. Видно, покупалось тут все от случая к случаю, чего-то катастрофически не хватало, а вот сахара, например, и зеленого горошка было достаточно, чтобы прокормить осажденный гарнизон.
Лидочка никак не намеревалась брать на себя хозяйство — она приехала не за этим, но неистребимый ген женщины-хозяйки оказался сильнее ее. И пока не кончились все сериалы, она вычищала кухню, наводила порядок на полках и в холодильнике, а потом отправилась искать, куда же в Англии выбрасывают переполненное мусорное ведро.
В этот момент, завершив культурную программу, на кухню явился хозяин дома. Он был потрясен переменами в своем хозяйстве и понес ведро в проход между домами, где стояли темно-зеленые баки с крышками для мусора.
— Вам не хватает настоящей женщины, — сказала Лидочка. — Почему бы вам кого-нибудь не нанять?
Слава поставил опустошенное мусорное ведро у задней двери и начал загибать пальцы:
— Во-первых, это безумно дорого. Вы не представляете, как высоко здесь ценится малоквалифицированный труд. Уборщицы и кухарки получают больше профессоров. Во-вторых, мне меньше всего хочется впускать в дом чужую женщину, тем более другой национальности. И, в-третьих, недели через две, а может быть и скорее, должна приехать моя бывшая жена. Да, да, мать Иришки. Она пожелала навестить нас. Ну что я могу сделать?
Отринув эмоции, прозвучавшие в словах Славы, Лидочка спросила:
— И она наведет здесь порядок?
— Она хозяйственная особа, — ответил Слава. — Правда, непостоянная. Как на нее найдет. Но я думаю, что, если она застанет здесь чужую женщину — служанку, кухарку, экономку, называйте как знаете, — она будет недовольна.
— Вы давно разошлись? — спросила Лидочка.
— Несколько лет назад. — Слава поднял ведро и переставил его к плите. — Достаточно, чтобы чувства и обиды угасли. Я надеюсь…
— Она снова вышла замуж?
— Насколько я понимаю… со слов Иришки. А может быть, мне мама говорила. Она была замужем, но недолго.
Он лгал, потому что по голосу, по ушедшим в сторону глазам было ясно, что Слава внимательно и ревниво следил за жизнью бывшей жены. И ревновал. Еще в Москве Марксина Ильинична оговаривалась: «Когда Алла бросила Славика…» Соблазнительно было бы спросить, не возможность ли примирения скрывается за этим приездом? Но не настолько они со Славой знакомы, чтобы задавать такие вопросы. К тому же похоже, что Слава, страдающий от недостатка общения в своем возрастном и социальном слое, вскоре сделает Лидочку поверенным в делах и заботах. К этому надо быть готовой, как к новому обстоятельству, осложняющему здешнюю жизнь.
— Я приготовлю ужин, — сказала Лидочка.
— Заранее благодарен, — откликнулся Слава. — Я так и не научился готовить, хоть и кормил сам себя последние шесть лет. А мои родственники отлично обходятся супом из пакетиков.
— Но я не хотела бы превращать… — Лидочка осеклась. Заявление было неумным, потому что декларировать свои намерения нетактично. Не хочешь, не готовь. Но Слава понял начало фразы.
— Вы — вольная птица, — сказал он. — Окажете милость, будем рады. К сожалению, Иришка пока не проявляет склонности к хозяйству.
— Наверное, ей еще рано. Она воспринимает пищу как данное. Как одну из обязанностей родителей.
— Даже если родителей нет поблизости, — заметил Слава.
Лидочка сказала:
— Вы мне здесь больше не нужны.
— А Валентина?
— Я буду благодарна, если она накроет на стол.
— Я скажу ей.
— Она не обидится, что я узурпировала ее права?
— Подозреваю, что она будет счастлива. Она сама признавалась, что умеет готовить лишь яичницу со шкварками. Здесь же никто не ест шкварок, все берегут фигуру.
— Или просто не подозревают о таком счастье.
Лидочка развернула мясо, открыла духовку, чтобы изучить ее, и поняла, что там есть гриль.
На кухню заглянула Валентина и, светясь добродушием, спросила, нужна ли ее помощь. «А то Славик сказал, что ты на себя взяла тяжкий труд».
— Привычный труд.
— Ах, он всем нам, женщинам, привычен. Ты мне кликнешь в окошечко, когда накрывать?
И нет Валентины.
Лидочка мучилась проблемой — сказать ли Славе о двойной встрече с молодым человеком Геннадием. И если сказать, то как не показаться смешной?
В конце концов сказала она ему об этом после ужина, когда, высказав шумную благодарность, Василий с Валентиной удалились к себе. Они спали на первом этаже в комнате, которая выходила на тихую улицу. Они сами, как сказал Слава, выбрали себе эту спальню, чтобы уходить и возвращаться, не беспокоя остальных обитателей дома. Правда, как предположил тот же Слава, как только их имущественные накопления превысят какой-то уровень, они попросятся наверх — там безопаснее. И хоть говорят, что в Англии не воруют барахло, все равно лучше будет подстраховаться. Так что, Лидочка, будьте к этому готовы.
Он уже стал называть ее Лидочкой. Не Лидой, не Лидией, а Лидочкой. Что же в ней есть такого, что заставляет людей выбирать из всех возможных вариантов имени только этот? Уж не такая она маленькая и нежная…
Слава увел Лидочку к себе в кабинет. Телевизор работал без звука, но Слава все равно в него подглядывал. Он потушил верхний свет, оставил только торшер, потянулся к книжному шкафу и достал большую папку.
— Мебель мы частично перевезли из большого дома, выбрали то, что попроще.
Мебель была приятной, умеренно поношенной, как пиджак у богатого лорда, кресло и диван были кожаными, чуть продавленными. А вот стеллажи новые, купленные на распродаже.
Слава следил за взглядом Лидочки и спешил пояснить, если полагал, что она чего-то не понимает.
— Вам интересно?
— Мы же договорились, что интересно.
Слава вскочил и открыл дверь в коридор.
Тут и Лидочка услышала, как хлопнула дверца машины — видно, Слава все же беспокоился, ждал возвращения Иришки.
Слава поспешил по коридору, чтобы встретить дочку. Лидочке было слышно, как он с умеренной строгостью выговаривал ей за позднее возвращение, а она отвечала, что время еще детское. Десяти нет. Кто в такое время возвращается домой? Ребята ее звали в паб, но она не пошла.
— Спасибо хоть на этом. Подумала об отце.
Голоса приближались.
— Не подумала, а вспомнила, — сказала Иришка. — Откуда у меня деньги? А ребята здесь скидываются на паб — кто будет за меня платить? За мои красивые глаза?
— А Лидочка такой ужин приготовила! — подобострастно произнес Слава.
— Я не хочу есть! — Иришка ответила быстрее, чем следовало. Словно уже подходя к дому, заготовила такую реплику.
— Ты попробуй. Она запекла мясо с овощами. Пальчики оближешь!
— А где она тебя ждет?
— Как так где?
— Ну где она, где? — Иришка говорила громким шепотом, но Лидочка, конечно же, все отлично слышала. И была уверена, что эти слова слышат и краснодарские Кошки. — Где ты прячешь свою кралю?
— Иришка, ты с ума сошла! — прошипел Слава. — Я ее сегодня впервые увидел.
— Что-то слишком ты ласков для первой встречи. Хочешь сказать, что у тебя любовь с первого взгляда?
— Ничего подобного! Просто Лидочка…
— Это что еще за слюнявое обращение — Лидочка?! Лидуля, мамуля, кисуля, целую твои пальчики!
— Сейчас же перестань! Ты не имеешь никакого права так говорить!
— Я ни на что не имею права, — громко произнесла Иришка и громко протопала по лестнице наверх — переживать.
Слава вернулся огорченный.
— Я так хотел, чтобы она попробовала ваше жаркое! — сказал он.
— Надеюсь, все обойдется, — сказала Лидочка голосом старшей сестры.
— Как говорит Валентина, искушенная в человеческих интригах, — сказал Слава, закрывая дверь в кабинет и запуская тонкие пальцы в бородку, — Иришка очень боится, что ее мама лишится наследства. Но это не так, клянусь вам, что это не так. Иришка — трудный ребенок. Но виноваты в этом только мы, взрослые.
Лидочка этот текст уже слышала.
— Я думаю, что ей хотелось бы восстановить нашу семью. И тогда она тоже обрела бы покой. — В его словах звучал лживый пафос.
Лидочка хотела спросить, есть ли на это шансы, но прикусила язык и в ответ на вопросительный взгляд Славы заговорила о Геннадии, о том, как они летели сегодня в самолете, а потом она встретила его здесь. Конечно, встреча могла быть случайной, но она считала своим долгом…
— Любопытно, — сказал Слава. — А знаете, я в глубине души все жду, когда ко мне придет соотечественник или из уголовного мира, или из налоговой инспекции и спросит: «Откуда деньги? Делись с нами!»
— Но, вернее всего, это случайность? — Лидочка не стала говорить Славе о странном признании Геннадия — «я организатор убийств». Ведь Геннадий в тот момент или шутил, или был убежден, что никогда в жизни больше Лидочку не увидит.
— Я не знаю… порой я ничего не знаю. Но то, что известно троим, уже не тайна, а то, что известно моим родственникам, становится общественным достоянием.
Слава поднял палец. В вечерней тишине было слышно, как наверху ходит Иришка. Походка у Иришки была тяжелой.
За французским окном — стеклянной стеной в сад — висела глубокая синева, усеянная изящно развешенными звездами.
— Со мной случилась любопытная история, — начал Слава. — Вернее, с моей мамой, Марксиной Ильиничной, с которой вы уже знакомы. Мама моя — чистых кровей русская женщина, даже со склонностью к коммунизму, я имею в виду имя. Никаких других вариантов в семье не наблюдалось…
Слава вздохнул. Рассказчиком он был не очень опытным, и исповедь в духе настоящего романа потребовала от него нервного напряжения.
— Странно, — сказал он вдруг, — ведь мы знакомы один день. То есть я знал о вас, мама говорила, я представлял… Но я ведь довольно скрытный человек, мои сослуживцы, даже приятели до сих пор не представляют, что же со мной произошло и куда я делся. Я мало с кем поддерживаю отношения. И боюсь, что сегодня спать не буду в опасении вашего знакомого… Геннадия?
— Геннадия.
— Я ничего не храню дома. А зачем? У нас даже нет драгоценностей. Знаете, я все собираюсь купить новый телевизор, но так страшно обратить на себя внимание! Я понимаю, что ничего не заслужил, что все это усмешка судьбы, может, даже злая усмешка. Ничего из этого хорошего не выйдет… И тут еще вы приехали!
— Пока что я не вижу связи.
— Наоборот! Мне хочется вам рассказать. Я хочу, чтобы именно вы все знали, Лидочка. Это удивительная история, в которую я не верю. И еще более удивительно, что я рассказываю ее совершенно незнакомому человеку.
— Вы уже сегодня принимали пищу из моих рук, — попыталась успокоить его Лидочка. — Так что считайте, что определенная степень доверия достигнута.
— Из меня дрессированный лев, как… — Слава не нашел сравнения, махнул рукой и продолжал свой рассказ, говоря вполголоса, словно не хотел, чтобы его слышали даже родственники.
Сверху загрохотала музыка — Иришка включила магнитофон на всю катушку. Лидочка невольно поглядела на часы. Десяти еще не было, милицию рано вызывать. Но, может быть, здесь есть законы по охране тишины?
— Ничего страшного. Она сама долго такого шума не выдерживает, — успокоил Лидочку Слава.
При искусственном теплом свете кожа его была не такой мучнисто-бледной и мятой. Он даже казался приятным на вид человеком, правда, до владельца замка он никак не дотягивал.
— Моя мама, — снова начал Слава, — чисто русская женщина. То есть я так полагал. И бабушка моя, Мария Федоровна, она умерла лет шесть назад, тоже была вполне обыкновенной русской женщиной родом из Новгорода. Правда, с отцовской стороны я родственников почти не знаю — отец ушел от мамы, когда я был совсем маленьким. Родственники возникли сравнительно недавно, скорее посредством фамилии. Это они меня отыскали. Точнее, их папа. — Слава показал на стенку, за которой уже спали, готовясь к завтрашним завоеваниям, супруги Кошко из Краснодара.
Музыка наверху стихла, бунт подростков взял тайм-аут.
— Вот видите, — сказал Слава. — Она нам доказала и теперь будет читать, как нормальный ребенок.
Ему очень хотелось, чтобы Иришка оставалась ребенком, ну хоть еще годик-два.
— Теперь о моей бабушке, — деловито заговорил Слава.
Он устроился на своем диване, сложился кузнечиком и уменьшился до уютных размеров. Лидочка сидела в кресле, которое частично попадало в круг света от торшера.
— Я всю жизнь был убежден, что наша бабушка — чистой воды русачка, но лет десять назад, будучи уже в преклонном возрасте, бабушка призвала нас с мамой и передала нам вот эти документы. Из них следовало несколько любопытных выводов. Они касались в первую очередь моей прабабушки. До этого прабабушка, как и все прабабушки, была просто туманной тенью на старой фотографии. А может, и фотографии не было. Я даже не помнил, как ее звали. А тут оказалось, что звали ее Юлией Александровной Кабариной. О чем свидетельствует, в частности, вот этот любопытный документ.
Кошко протянул Лидочке листок, снятый на ксероксе.
Порт-Артур, 24 июля 1904 года
Свидетельство
Дано сие сестре милосердия Дальнинской больницы Ю.А. Кабариной в том, что она, состоя на службе Красного Креста, имеет право ношения на левой руке установленной повязки при печати означенного учреждения и за № 22.
Главноуполномоченный Егермейстер И. Балашов
— Обратили внимание на надпись в левом верхнем углу?
— Порт-Артур?
— Вот именно! Оказывается, моя прабабушка во время Русско-японской войны была сестрой милосердия в крепости Порт-Артур, то есть женщиной героической. Я даже пожалел, почти осерчал на бабушку за то, что она скрывала от нас ее документы. Ведь можно было бы проследить ее судьбу по архивам и даже написать о ней книжку. Ведь сестер милосердия, тем более в самом пекле войны, было немного… Но у моей бабушки, оказывается, были основания скрывать эти документы. Больше того, вскоре я убедился в том, что, тая и сохраняя бумаги, бабушка рисковала не только своей жизнью, но и жизнью всей семьи — ведь дед мой был сталинским чиновником выше среднего класса, и узнай кто-то о пачке писем в бабушкином столе, гудеть бы всей семье на лесоповал. Я не шучу, вы сами сейчас поймете. Но есть что-то в человеке, страсть сохранить связь со своими корнями, страсть, презирающая даже прямую опасность.
Слава заговорил выспренне, что было ему, в сущности, не свойственно. Но этот переход произошел от осознания значимости бабушкиных бумаг.
— Следующим документом в пачке оказалось письмо. Письмо необычное. После него всякое желание искать героические следы прабабушки в анналах Порт-Артура пропало. Вы по-английски читаете?
— Читаю.
Письмо было таким же пожелтевшим, как и справка.
— Обратите внимание, каким числом оно датировано. Судя по паспорту моей бабушки, она родилась 21 августа 1905 года. Читайте, читайте…
Лидочка принялась читать письмо. В переводе оно звучало так:
Д.З., Нарви-стрит, Лайсли-роуд, Зап. Глазго 20 авг./2 сент. 05 г.
Моя дорогая Юлия!
Твое доброе письмо только сейчас добралось до меня, и я был рад узнать, что ты преодолела недомогание и дитя здорово тоже. Пожалуйста, прими мои самые сердечные поздравления. Я очень горжусь тобой. Надеюсь, что скоро ты будешь совсем здорова.
Я только что приехал в Глазго и был чрезвычайно занят, но надеюсь, что вскоре мне удастся все уладить. Я жду сведений о том, сколько мне еще удастся пробыть дома. Мир был подписан очень неожиданно, и я не знаю, как это скажется на моем отпуске.
Я собираюсь написать тебе длинное письмо, в котором коснусь всех частностей. Напиши мне, можешь ли ты читать мои письма?
Через несколько дней я вышлю тебе сентябрьские деньги. Надеюсь, что пока тебе хватает денег. Заботься о своем здоровье и о здоровье ребенка, пиши мне длинные письма и сообщай, как ты живешь. Я снова чувствую себя хорошо и хотел бы, чтобы ты была здесь со мной, но так трудно все уладить!
Любящий тебя и ребеночка, верь мне, твой искренне Август Кармайкл.
— Какой вывод вы сделали из этого письма? — спросил Слава.
— По-видимому, автор письма и его адресат провели какое-то время вместе, судя по документу, который вы мне показали раньше, в Порт-Артуре. Ваша прабабушка была сестрой милосердия, а мистер Август Кармайкл, шотландец из Глазго, приезжал туда по делам, вернее всего, как журналист — вряд ли люди других специальностей попадали в осажденную крепость. Я допускаю, что шотландец и ваша прабабушка познакомились, и в результате их союза на свет появилась ваша бабушка, а случилось это за две недели до того, как мистер Кармайкл написал утешительное письмо своей возлюбленной.
— Утешительное? — переспросил Слава.
— Вот именно. Мне это письмо не понравилось. Мне не хотелось бы получить такое письмо в родильном доме.
— А что вам не понравилось? Что? Мне это важно знать.
— Оно дежурное. Этот человек либо не умеет выражать свои чувства, либо не хочет этого делать. К тому же он умудрился пообещать все — и ничего конкретного. А другие письма от него сохранились?
— Еще три письма. Он в них даже просит все узнать, сколько стоит билет до Глазго, хочет ее скорее увидеть…
— Но…
— Не знаю. Больше писем не было. С середины сентября. Не исключено, что прабабушка не оставила их своей дочке.
— И что было дальше?
— А дальше вы представьте мою прабабушку: она совершенно одна, никому не нужна, в Новгороде. Денег нет или очень мало. Вернее всего, какие-то родственники у нее были только в Петербурге.
— А в Новгороде?
— Судя по семейным преданиям, в Новгороде жил ее бывший муж. Она убежала от него и стала сестрой милосердия. Возможно, она надеялась, что он примет ее обратно, но он, конечно же, не принял. Он был купцом и знать ее не хотел.
— Представляю, — сказала Лидочка.
— Вам не надоело?
— Что вы, мне очень интересно!
— Дальнейшие события объясняются в следующем письме. Написано оно через два года новгородской учительницей музыки Марией Мигаловской, женщиной пожилой, не очень здоровой, небогатой, но доброй. Все это видно из ее писем, написанных в течение 1907 года.
Слава протянул Лидочке письмо, написанное аккуратным летучим почерком на узких листках. Точно такой же почерк был у Лидочкиной бабушки — свидетельство прилежания на уроках чистописания, забытого в наши дни.
— Ничего пояснять я не буду, — сказал Слава. — Здесь все ясно. И почерк разборчивый. Только оно длинное — потерпите, пожалуйста.
— Не беспокойтесь, — остановила его Лидочка и принялась за чтение.
Новгород, 1907, 23 ноября
Многоуважаемая Булычева!
Простите и не удивляйтесь, что, не зная Вас лично, пишу Вам, но, дочитав до конца мое письмо, Вы поймете меня, что случай, а может быть, и промысел Божий указал мне именно на Вас.
Одна моя родственница, бывшая в Петербурге, совершенно случайно слышала, что Вы выражали желание взять себе на воспитание сиротку: это самое и дало мне мысль обратиться к Вам. Дело в том: однажды к моей прислуге пришла в гости женщина, которую и я раньше знала, некто Прасковья, пришла с хорошенькой маленькой девочкой лет двух. Я заинтересовалась ею, стала расспрашивать — оказалось, что она за тем именно и пришла, чтобы поговорить и посоветоваться относительно ее, и рассказала мне такую трогательную и печальную историю этого маленького существа, что я решилась, насколько мне Бог поможет, постараться устроить судьбу этого бедного ребенка, брошенного своею бессердечной матерью. Женщина эта рассказала, что она служила в родильном доме прислугою, а сестра ее замужняя в виде заработка брала к себе из этого дома по пожеланию матерей на прокормление малюток, одного или двух.
Ее собственные дети были для них няньками, когда сама она уходила на работу, получали они по 3 руб. в месяц с каждого питомца, как люди простые и бедные, считали это для себя выгодным — многих они вырастили таким образом. Этот же бедный ребенок попал к ним при других обстоятельствах. Однажды в родильный дом явилась интеллигентная беременная особа и родила девочку. А затем через несколько времени тайно ушла оттуда, бросив малютку на произвол судьбы. Тогда служившая там Прасковья, движимая жалостью, просила разрешения взять ее к своей сестре в надежде разыскать мать и попросить ее платить им, сколько она может. По догадкам было известно, что эта особа имела здесь в городе место, была замужнею, но с мужем не жила. И действительно, вскоре она разыскала ее и переговорила с нею о ее ребенке, та согласилась платить, но через несколько времени перестала уплачивать за ее содержание. Тогда Прасковья опять отправилась к ней и получила такой ответ: что платить она не может и ей совсем не нужна эта дочь, и вообще она не желает даже слышать о ее существовании и хочет совсем забыть, что она есть на свете; и что если они желают, то пусть берут ее совсем себе или отдают куда хотят — одним словом, пусть делают с ее ребенком, что только хотят, но себе она ее ни в каком случае не возьмет. И если они вздумают возвратить ее ей, то (при этом она перекрестилась) она не ручается, что девочка будет жива.
После таких угроз они волей-неволей принуждены были оставить малютку у себя, но как люди бедные — им тяжело кормить лишнего ребенка, да и одевать ее надо, она растет, и ей уже два года. Один исход — отдать в приют, но они так привязаны к этой маленькой бедной девочке, что не отличают ее от собственных детей, и им поэтому жалко отдать ее туда, зная, как тяжело живется подобным созданьям в приютах. Им хотелось бы лучшей участи для своей любимицы. И при том эти добрые, простые люди инстинктивно чувствуют, что это не деревенский ребенок, какие по большей части были у них раньше, для нее желательны другие условия жизни, и ей присуще получить какое-нибудь образование, которого они не в силах дать, и вот это-то заботит их. С этою целью она и к нам пришла, чтобы поговорить. Они решили искать кого-нибудь добрых людей, не возьмет ли ее кто вместо своего дитяти. И действительно, это милое, прелестное дитя: светлая шатенка с большими синими глазками, с длинными ресницами, правильными бровками, беленькая, розовенькая, и что всего удивительнее — в высшей степени кроткая. Я часто прошу приносить ее к себе и ни разу не видела ее плачущей или капризною, точно чувствует, что надо быть ей терпеливою, и один Бог знает, какая участь ждет ее в будущем. Когда я вижу эту изящную девчурку — невольно возникает вопрос: ужасное ли бессердечие матери заставило бросить такого ребенка, или уже чересчур непреодолимые жизненные условия?
Мы сами люди бездетные и, будучи в других условиях, несомненно, оставили бы и приютили эту крошку у себя. Но, к сожалению, мы пожилые и оба с мужем болезненные, и притом с чрезвычайно ограниченными средствами в жизни, и ко всему этому совершенно не обеспеченные в старости. Следовательно, в непродолжительном бы времени оставили бы ее опять одинокую, брошенную на произвол судьбы. Вот, многоуважаемая мадам Булычева, теперь Вы не удивляйтесь, что, когда я рассказывала всю эту историю своей родственнице, она вспомнила о случайно слышанном Вашем желании и сказала мне Ваш адрес. Она очень хвалила Вас, и если ей придется быть в Петербурге и представится случай — она может сама передать все относительно этой малютки, так как видела ее.
Если Вы действительно имеете намерение взять себе на воспитание девочку, то, несомненно, пожелаете повидать ее и, может быть, захотите приехать сюда — это так недалеко, — я посылаю Вам свой адрес. С Вами я могу съездить к этой женщине или можно будет послать за нею. Если же приехать Вам неудобно, то эта женщина может привезти ее к Вам, если Вы согласитесь уплатить ей дорогу туда и обратно, хотя бы по приезде ее к Вам. Бумаги, т. е. метрическое свидетельство, находятся у них. Все эти условия будут зависеть только от Вашего желания. Если же Вы раздумали или уже взяли себе на воспитание кого, то простите великодушно за мое длинное письмо и будьте так добры и любезны ответьте мне хоть коротеньким письмом, я буду очень, очень ждать Вашего ответа.
Мария Мигаловская Адрес: Новгород, набережная Федоровского ручья, дом Жеребковой № 29-й Марии Васильевне Мигаловской, учительнице музыки.
— А вот и записка от моей прабабушки доброй женщине Авдотье. — Слава протянул Лидочке еще один желтоватый листок.
Диссонанс с письмом учительницы музыки был столь очевиден, что не так было важно содержание, как тон, как голос, слышный за словами.
Записка от Юлии Александровны без даты начиналась словами: «Милая Авдотья, я не ребенок, и меня не запугаешь полицией». Дальше шли жалобы на свою жизнь и сложные денежные расчеты, из чего Лидочка поняла, что деньги Юлия Александровна посылала скупо, зато придумала план, по которому она платила бы Авдотье сто рублей частями, а та обязывалась воспитывать Машеньку до двадцати одного года. Вряд ли беглая мать сама верила в такой план, тем более что из ста рублей пока что она выслала всего лишь четыре. И в заключение мать высказывала угрозу, которая, видно, и повергла в отчаяние простых новгородских женщин: «Если вздумаешь мне ее вернуть, посылай как знаешь, мне нет времени за ней ездить. А когда она попадет в Петербург, я ее сейчас же отдам в чухонскую деревню, потому что я не могу терять из-за нее места, а чухонцы берут детей очень дешево. А если вы любите Маню, то не захотите ей такого дурного».
Лидочка отложила последний листок.
— Чухонцы — это эстонцы? — спросил Слава.
— Если не ошибаюсь, ингерманландцы, финское племя, жившее на перешейке. И чем же все кончилось?
— Булычевы согласились приехать в Новгород. Девочка приемной матери понравилась, и после нескольких недель переговоров они ее удочерили.
— А мать?
— Бабушка говорила, что видела ее один раз. Они с приемной мамой ездили к ней за какими-то документами, нужными для поступления в Институт благородных девиц. Что-то в связи с потомственным дворянством Юлии Александровны. Бабушка говорила, что ее настоящая мама показалась ей красавицей и очень богатой. Но что не покажется в шесть лет?
— И она пропала?
— Пропала. Если она вышла замуж, то сменила фамилию… Она никогда не пыталась отыскать свою дочь.
— А это было реально?
— Бабушкин приемный отец преподавал фехтование в первом кадетском корпусе. А потом, в десятом году, его назначили воинским начальником в город Опочку. Бабушка помнит этот город. Она прожила там два года, а потом была отправлена в Петербург, в Екатерининский институт на казенный кошт как дочь полковника гвардии. В Опочке Михаил Иванович прожил до конца 1913 года, когда получил новое назначение — с повышением, воинским начальником в город Могилев. Но по приезде в Могилев он умер от гнойного аппендицита.
— Вам повезло, — заметила Лидочка.
— Я тоже думаю, что нам повезло, — согласился Слава. — Через полгода началась мировая война, и в Могилеве расположилась царская ставка. А так как бабушкина приемная мать Евгения Николаевна возвратилась в Петербург, бабушка еще несколько лет проучилась в Институте благородных девиц. Она рассказывала, что после Октябрьской революции институт сразу не закрыли, а слили почему-то с кадетским корпусом. Всю зиму восемнадцатого года в холодных дортуарах сосуществовали кадеты и институтки. Младшие классы убирали комнаты, готовили уроки и таскали дрова, а старшие девочки и кадеты занимались любовью. Весной восемнадцатого года весь институт, а также кадетский корпус погрузили в теплушки и отправили на юг, чтобы там чуждые по классу дети кормились, не отнимая пайку у пролетариата. По дороге на поезд напали грабители — что это были за грабители, никто не знает. Всех детей убили. Бабушка осталась жива, потому что Евгения Николаевна ее на юг не отпустила. Они прожили всю Гражданскую войну в Питере, перебиваясь кое-как. А потом Евгения Николаевна умерла. Бабушка училась в трудовой школе на Васильевском острове, в ее друзьях оказались будущие великие российские теннисистки. Им тогда было лет по пятнадцать. Девочки трудились на кортах спарринг-партнершами — значит, в двадцатом году было кому играть в теннис в революционном Петрограде. После двадцать первого появились нэпманы — и девочки начали неплохо зарабатывать. Другие девушки — Иванова, Теплякова, Ольсен — стали профессионалками, мастерами, чемпионками, а бабушка, не столь талантливая, пошла работать на фабрику Хаммера. Тот тогда устроил у нас фабрику карандашей. Он делал карандаши и получал в оплату от правительства картины великих художников. И стал самым богатым другом Страны Советов. Когда-нибудь, будет настроение, расскажу вам о дедушке, папе, маме и других героях моего романа. Но сейчас вас интересует только мой прадедушка. Август Кармайкл, проживавший в Глазго в 1905 году. Вы не курите?
Лидочка ответила не сразу — слишком резок был переход к вопросу.
— Нет, спасибо.
— А я закурю. Я так редко курю, сигарету в три дня, но когда волнуюсь, то начинаю курить, как в юности.
Слава протянул длинную руку к каминной полке и взял с нее пачку сигарет и зажигалку. Закурил.
Лидочка посмотрела на часы. Одиннадцать. Пригород Пендж-хауз, одна из многих деревень, составляющих Большой Лондон, улегся спать. Взошла луна и красиво устроилась на синем фоне за стеклянной стеной в сад.
Глава 5
«Господи, — подумала Лидочка, — сегодня утром я прощалась в Шереметьеве с Андрюшей, а сейчас я разделена с Москвой не только тысячами километров, но и какими-то непроходимыми завалами событий и разговоров. Ведь я даже не позвонила домой, чтобы сообщить, что нормально долетела. Впрочем, меня можно понять: неприятно, если счет за разговоры придет хозяину дома, но неизвестно, каким образом оставить ему деньги».
И в этот момент Андрей в Москве, видно, высчитал, что в Лондоне наступил вечер и можно туда позвонить.
— Ты ошибся часа на два, — сказала Лидочка, прикрывая горсткой трубку, чтобы не разбудить краснодарских родственников. — У нас уже наступила сельская ночь.
— Прости, — сказал Андрей. — А я, дурак, сидел, клевал носом, но полагал, что ты еще не вернулась из оперы.
— Спасибо, что возлагаешь такие надежды на меня и моих поклонников, — засмеялась Лидочка. — Что нового в Москве?
— В Москве нет ничего нового, надвигается безумная жара, разбился еще один самолет, и обнаружены новые козни международного сионизма.
— А именно?
— Землетрясение в Гватемале.
— Типичный масонский заговор, — согласилась Лидочка. — В институте был?
Они поговорили еще минут десять. Андрей тоже говорил вполголоса, приглушенно, словно боялся разбудить весь Лондон.
Повесив трубку, Лидочка возвратилась в кабинет Славы. Слава стоял на фоне синего неба и курил. Он быстро оглянулся.
— Это был муж? — спросил он ревниво.
— Муж.
— Вы пойдете спать?
Лидочка чуть было не ответила, что ее муж далеко, в Москве, так что можно не устраивать сцен ревности.
— Я хотела бы дослушать вашу историю, — сказала она, допустив в голосе заискивающие нотки.
— В самом деле?
Слава был рад. Он заполучил слушательницу обратно. Приоткрыв пошире стеклянную дверь, он выкинул окурок — тот полетел на фоне темного неба оранжевой кометой.
— Впрочем, — сказал Слава, оборачиваясь к Лидочке и почесывая основание бородки, — дальнейшая история, как ни странно, куда менее романтична. В ней нет оркестра голосов, несчастной крошки и жестокой матери.
— А что же есть?
— Совпадение. Чистой воды совпадение, которое и служит орудием рока. Я по специальности ихтиолог. Специалист по болезням рыб. Когда-то я поступил в рыбный институт, потому что там не было конкурса для москвичей. А теперь это модная и полезная профессия из породы международных. У меня было больше друзей в разных странах мира, чем в Союзе. Так что нет ничего удивительного в том, что шесть лет назад Европейский конгресс ихтиологов собрался в Глазго. Глазго ничем не хуже других городов, а глубокой осенью гостиницы там пустуют.
— И вы, собираясь в Глазго, подумали: «А не захватить ли мне письма?»
— Но ведь любопытно! Вы на моем месте поступили бы так же.
— Без сомнения.
— Вот я и захватил документы. Языком я владею прилично, бабушка всегда заботилась об этом, даже на свою пенсию нанимала мне учителей. Я-то не знал почему. Кстати, никаких способностей к английскому у меня нет. А шотландцев я вообще очень плохо понимаю. Я рассказал о бабушке одному английскому коллеге, и он, как и бывает с горячими сердцем англичанами, загорелся моей историей. Больше того, получилось так, что мы отправились на Харви-стрит втроем — Дик Николсон потащил с собой школьного приятеля, корреспондента местной газеты. Перед походом мы посидели в пабе, как следует накачались, не безобразно, но душевно. И пошли. Улица оказалась бесцветная, старая, умеренно дряхлая. И дома на ней были небогатыми. Мы постучали в дом номер три, нам открыла молодая негритянка, которая жила там с мужем и детьми. Разумеется, она не имела представления о том, кто здесь жил раньше и когда уехал. Кофе поставить?
— Нет, спасибо.
Лидочка уже начала привыкать к неожиданным поворотам ума Славы и перестала пугаться внезапных вопросов.
— Тогда у журналиста возникла идея пойти в местную церковь. Там должны быть приходские книги. Кто когда родился, кто женился и так далее. Священника в тот день почему-то не было, в церковный архив мы не заглянули, но, честно говоря, я не очень скорбел. Уж слишком все это было от меня далеко. Понимаете?
— Понимаю, — кивнула Лидочка.
— За день до закрытия конгресса тот журналист подошел ко мне и сказал, что все-таки отыскал какие-то книги в мэрии и узнал, что семейство Кармайкл во главе с мистером Дунканом Кармайклом, которому и принадлежал дом номер три и который приходился Августу отцом, а мне — прапрадедушкой, покинул дом в 1909 году и адреса не оставил. Я поблагодарил журналиста и моего друга Дика, поклявшегося, что он дела не оставит. Он заберется в Лондоне в Дом Св. Екатерины — это что-то вроде центрального архива — и попытается все узнать… Ну спасибо, сказал я ему, большое спасибо, только ты себя не утруждай. И с тем вернулся в Москву.
Слава снова закурил. Слышно было, как невысоко идет самолет. Лидочка посмотрела в сторону, откуда доносился пчелиный звук, и увидела движущиеся точки огней на концах крыльев.
— Прошел год, — продолжил свой рассказ Слава. — Я получил письмо от Дика. Он сообщил мне, что отыскал следы мистера Августа Кармайкла. Этот самый Август был журналистом. Он представлял в Порт-Артуре знаменитую газету «Таймс», был легко ранен и даже лежал там в госпитале.
— Ага, — сказала Лидочка, — мы знакомимся с прекрасной сестрой милосердия.
— Ваше открытие лежит на поверхности, — сказал Слава. — Впрочем, вы правы. По возвращении в Глазго Август работал журналистом, много ездил, но в Россию больше не попал. Был обручен с какой-то леди, но свадьба расстроилась. У него был младший брат, намного моложе его. Этот брат пошел в промышленность и торговлю. Он даже держал магазин на паях с братом. Август погиб во время итало-абиссинской войны в 1936 году. Брат же и две его дочери продолжали умножать общее состояние. Пока не умерли тоже. Почти все, кроме последней из дочерей, которая младше моей бабушки лет на десять. Мой Дик отыскал эту старую леди, которой было уже за восемьдесят. И представляете: она знала о существовании моей бабушки, но была убеждена, что ни один порядочный человек не смог бы выжить в революционной России. Оказывается, Август всю жизнь вспоминал о Юле и мечтал о встрече с дочкой… вполне абстрактно. И тут появляюсь я!
— Ваша двоюродная бабушка была растрогана!
— Она была не растрогана. Она попросила меня приехать в Эдинбург, где на покое доживала свои дни. И привезти с собой мою бабушку, ее кузину. Мы совершили путешествие в Шотландию. Нам повезло, еще десять лет назад мы бы сделали вид, что у нас нет родственников за границей, а сейчас уезжали, окруженные завистливым шепотом сослуживцев и родственников — вот повезло людям!
— И оказалось, — не удержалась Лидочка, — что по завещанию бабушки вам отписали некую сумму.
Лидочка обвела рукой пространство, как бы показывая, во что материализовалось наследство.
— Не терпится подсказать? — улыбнулся Слава. — Вы почти правы. Но оказалось, что все не так просто. На наследство бабушки претендовали ее местные родственники, и нам можно было рассчитывать только на дедушкин портрет и двадцать фунтов в облигациях. Однако, хоть в это и трудно поверить, Август Кармайкл завещал дочери и ее потомкам, если таковые объявятся, свою долю в деле брата. Поэтому мы получили наследство. И бабушка Агата сумела оформить все дела. Без ее помощи нас бы утопили местные юристы. Бабушка умерла-то всего два года назад. Я имею в виду бабушку Агату. А моя бабушка — та трогательная шатенка Маша, которую бросили в родильном доме, умерла с ней почти одновременно. Вот и вся история.
Лидочка кивнула. Конечно, ей хотелось бы узнать, а каково наследство, полученное Славой. Но это было бы нетактичным. Ведь он не торопился сообщить. Впрочем, подумала Лидочка, можно приблизительно вычислить: стоимость подобного дома она уже знала, когда готовилась к поездке в Москве и просматривала торговые каталоги — где-то около ста пятидесяти тысяч фунтов стерлингов. И еще нужны деньги, чтобы жить, а судя по всему, Слава не спешил возвращаться домой. Значит, удвоим сумму. Значительное состояние.
Слава молчал и смотрел на Лидочку испытующе, словно ждал вопросов и даже готов был на них отвечать или объяснять, почему ответить не сможет. Но Лидочка вопросов не задавала.
— Ну? — не выдержал Слава и постарался подтолкнуть Лидочку к вопросам.
Она поняла, в чем дело, и спросила:
— И вы решили здесь жить?
— Это очевидно, — ответил Слава. — В Москве мне все надоело. Мне надоело жить в продажном бардаке среди преступников и взяточников. Но еще больше мне надоело ждать, когда к власти вернутся коммунисты и все отберут, а меня сошлют в Сибирь за родственную связь с иностранцами.
— Вы много курите, — сказала Лидочка. Обычно она не вмешивалась в мужские дела — каждый курит и пьет, как ему нравится. Но вдруг ей показалось, что Слава жутко одинок. Он и в Москве был не очень общителен и окружен друзьями, но там была налаженная, хоть и неладная жизнь. Здесь же он попал в благополучную ссылку. И совершенно не представляет, что ему с самим собой делать? Выписать дочку? Выписал. Дочка хамит и мстит папе за свое неустроенное детство и за мамины воображаемые обиды. Допустить в дом краснодарских родственников? А как от них избавиться? И уж совсем глупо по настоянию мамы сдать комнату московской даме за деньги, в сущности, ничтожные, и не тебе, а маме нужные. И потому ты начинаешь искать в этой даме собеседника и почти близкого человека. Выворачиваешь душу и боишься нарваться на холодность или равнодушие. Или снова на корысть? Потому слова Лидочки о курении были знаком внимания.
— Ничего, — сказал Слава, но сигарету погасил.
— И вы стали здесь жить?
— Бабушка Агата имела потрясающие связи в Министерстве внутренних дел. Вы не представляете! Я получил вид на жительство, а потом и гражданство, как ценный иностранец, с одной стороны, и как почти шотландец — с другой. Так что я теперь исправно плачу налоги.
— Ваша бабушка и родственники… они жили в этом доме?
— Ничего подобного. У них был дом возле Эдинбурга. Больше этого, среди газонов и лужаек. На что он советскому ихтиологу?
Лидочка кивнула. И в самом деле — зачем такой дом советскому ихтиологу? Он и с этим управиться не может.
— Вы сами убираете этот дом?
— Мы все, по очереди.
— А к осени все разъедутся?
Слава резко обернулся к ней. Лидочку пугали такие резкие движения, ей казалось, что Славины кости могут разлететься в разные стороны.
— Вот в этом и вся проблема! — воскликнул он. — В этом вся чертова проблема! Мне хотелось бы, чтобы Иришка осталась здесь и получила хорошее образование.
— Не поздно?
— По сути дела, Иришка легко вписывается в эти обстоятельства. У нее уже свои приятели, свои тайны, своя отторженность от меня. Но я боюсь, что Алла будет категорически против.
— Но они живут раздельно?
— Для Аллы это ничего не значит. Могу поручиться, что она об этом уже забыла. Она сразу сообщит нам, что мечтает воссоединиться с ребенком, и увезет Иришку… Мне назло.
Лидочка не стала задавать вопросов. Но для Славы эта проблема была болезненной, и ему надо было выговориться.
— Я все-таки сделаю кофе, — сказал Слава. — Это недолго.
— Тогда уж я займусь этим сама, — предложила Лидочка.
— Кофе — прерогатива мужчин, — возразил Слава.
В результате они пошли на кухню вдвоем, и на кухне Лидочка готовила кофе. Слава стоял за спиной. Он уже не мог остановиться: ведь, в сущности, соловью все равно, где петь, он не слышит никого, кроме себя.
Правда, информации в этом монологе было немного. Лидочка лишь поняла, что Алла выходила замуж, разошлась вновь, живет сама по себе, выслеживает выгодного мужа. Ребенок ей не нужен, и существование Марксины Ильиничны для нее выгодно. Но никто не должен говорить, что ребенка сдали бабушке из заботы о собственном удобстве. Аллина версия звучала так: «Бабушка мне иногда помогает с Иришкой, а я их обеих кормлю».
Денег Алла зарабатывала немного. Она числилась младшим научным сотрудником в каком-то прикладном институте. Мужиков там было много, но достойных всех уже разобрали. А Иришка переживает, ей хочется к маме, маме она готова все прощать, и потом виноватыми оказываются окружающие. Включая бабушку, которая уже столько лет кормит, обстирывает и опекает внучку, и кончая Славой, который хапнул столько денег, а маме не может помочь.
Слава говорил, а Лидочка все ждала, когда же он ответит на этот самый главный Иришкин вопрос — а почему бы не помочь ее несчастной мамочке?
И чем дольше говорил Слава, тем яснее становилось, что он питает весьма сложные чувства к бывшей жене, которая его унизила, бросив ради кого-то недостойного. Слава был рад, что недостойный, в свою очередь, оставил Аллу, он был рад, что Алла так и не отыскала себе замену по вкусу. А может быть, не так много этих замен осталось? Главное, Слава оставался к бывшей жене неравнодушен, но не настолько, чтобы бросить богатство к ее ногам. Он готов был облагодетельствовать краснодарских Кошек, выписать дочку, но Алла должна была пройти ради этого некий путь унижения, о котором в монологе не говорилось, но который подразумевался. И Лидочка заподозрила, что Алла уже пошла навстречу мужу. Меняем гордость на жилплощадь в Лондоне! Иначе трудно объяснить, почему при всех сложностях отношений она собирается через месяц сюда явиться, о чем говорила Марксина Ильинична. И вряд ли приезд ее мог состояться в тайне от Славы.
Было совсем поздно, а Кошко принялся рассказывать о местной жизни, медицинском обслуживании, о том, как местные врачи пытаются ограбить обывателя. Лидочка сказала, что хотела бы найти хорошего агента по продаже недвижимости. Слава обещал позвонить с утра Гриффитсу, через которого он приобрел этот дом.
Так кончился слишком длинный день.
Лидочке хотелось спать, и Кошко вовремя напомнил, что в Москве уже четвертый час.
— Я вас замучил, — сообщил Слава, провожая Лидочку по лестнице наверх. Дверь к Иришке была приоткрыта, горела настольная лампа, Иришка читала. При звуке шагов она подняла голову и сквозь щель уставилась на Лидочку.
Лидочка обернулась к Славе.
— Спокойной ночи, — сказала она. — Мне было очень интересно.
— Мы продолжим завтра, — сказал Слава. — Мне еще многое хочется вам рассказать.
Иришка нарочно уронила книжку на пол.
— Она не спит! — Слава смутился.
Лидочка пошла к себе.
Потом она приняла душ, переоделась на ночь.
Но, видно, слишком давно не спала, организм запутался — когда спать, а когда бодрствовать.
Она лежала и слушала английскую ночь. Окно было открыто, но комаров, слава богу, не было.
Опять пролетел самолет.
Глава 6
Лидочка решила вытерпеть общество Славы, который вызвался с утра сопровождать ее к агенту по продаже недвижимости. Иришка, спустившаяся к завтраку, когда краснодарские родственники уже умчались на распродажу, а Слава с Лидочкой как раз вставали из-за стола, даже не поздоровалась, но посмотрела на отца выразительным взглядом революционерки. Она ждала, что папа станет спрашивать о причинах ее дурного настроения, но тот, как назло, крутился вокруг Лидочки, не скрывая заинтересованности ее делами. Что, разумеется, не улучшило настроения Иришки. И тогда Иришка кинулась в коридор и стала набирать длинный междугородный номер.
— Мама! — закричала она в тот момент, когда Лидочка подошла к входной двери и ждала, пока Слава ее отопрет. — Как, я тебя разбудила? Какие семь часов? Это я, Ирина! У нас? У нас ничего не случилось. Просто я хотела услышать твой голос. Ну хорошо, хорошо, спи!
Иришка шмякнула трубкой о рычаг.
Вторая демонстрация тоже не удалась.
— Видите ли, — крикнула Иришка вслед взрослым, — она еще почивает!
В ее устах слово «почивает» прозвучало как бранное.
Лидочка понимала, каково быть преданной всеми. Особенно если папа прыгает вокруг этой московской штучки, как вокруг шемаханской царицы.
Но Слава был так возбужден утренним походом, что не заметил дочернего бунта.
Они вышли на Сиднем-роуд. За гастрономом «Сэйфуэй» среди небольших магазинчиков затерялось агентство «Гриффитс». Внутри была длинная комната, уходящая в глубь дома, в которой помещалось два стола, а на стенах висели фотографии домов.
Из-за ближайшего стола поднялся молодой человек лет тридцати, высокого роста, похожий на теннисиста Горана Иванишевича. При виде Славы на его лице возникла радостная улыбка.
— Доброе утро! — воскликнул он. — Надеюсь, вы всем довольны, здоровы и намерены купить еще один дом?
— Я привел вам новую клиентку, — сообщил Слава. Он представил молодого человека как Брайана, человека честного, работящего и большого эксперта по женщинам.
— А это при чем? — удивилась Лидочка.
— Это касается вас, — пояснил Брайан. — В этом нет ничего дурного. Наконец-то я понял, на чем зиждется репутация русских женщин.
— Спасибо, — сказала Лидочка. — Могу ли я теперь рассказать вам, зачем я приехала в Лондон?
— Разумеется, — смутился Брайан, чувствительный к собственным легкомысленным поступкам. Он ничего не мог с собой поделать, потому что его язык умудрялся произносить фразу раньше, чем разум Брайана осознавал, что там несет проклятый язык.
Брайан призвал из соседней комнаты крупную негритянку с грубыми, почти карикатурными чертами лица и такими умными и добрыми глазами, что она походила на сенбернара. Негритянку звали Валери, и она командовала картотекой, в изучение которой и погрузились присутствующие. Лидочка старалась прогнать Славу, полагая, что у него могут оказаться собственные дела, но дел не оказалось.
Проблема была непростой.
Лидочке нужно было отыскать в этом районе скромного размера дом, второй этаж которого можно употребить под жилье — там должны были быть три спальни и кабинет. Внизу Лидочке было нужно служебное помещение, а сзади кухня и столовая для тех, кто будет там жить и работать.
— Как вы намерены платить? — спросил Брайан.
— У меня есть аккредитивы.
— В пределах какой суммы? — Брайан забыл о своем легкомыслии.
— А какова будет сумма?
Лидочка приехала в Лондон, предварительно изучив несколько журналов и газет по недвижимости, но ей не хотелось проявлять свою осведомленность.
— Трудно сказать, — осторожно ответила Валери. — Начнем со ста тысяч. Вас интересует деловая улица или жилой район?
— Я еще не знаю.
— Очевидно, вам придется приобрести жилой дом, а потом переделать его в контору. И это будет недешево.
— Знаю, — сказала Лидочка. — Мы к этому готовы.
Чтобы не терять времени, Валери предложила сразу же проехать по двум-трем адресам по соседству. Слава не отставал, словно сам покупал этот дом. Негритянка пошла за машиной, которая стояла где-то во дворе. Слава спросил Лидочку:
— А какую фирму вы представляете?
— Фирму «Хронос». Это вам ничего не скажет.
— Вы торгуете?
— Нет, — односложно ответила Лидочка.
Отрицание было окончательным — даже глухой бы услышал. Слава не услышал, он чувствовал себя своим человеком, почти родственником.
— Тогда зачем вам свой офис в Лондоне?
— Это сложно, — сказала Лидочка. — Я вам потом объясню.
Они побывали в двух домах, которые могли бы и подойти, но Лидочке не понравились, и договорились с Валери, что снова приедут завтра.
Валери довезла их до «Сэйфуэя», потому что они хотели кое-что купить. Слава отправился в винный отдел, решив, что вечером они отметят приезд Лидочки. Лидочка взяла сумку и пошла между полками. Конечно, после московских магазинов ходить по лондонским приятно и интересно. Но Лидочку уже несколько смущала готовность остальных обитателей дома позволить ей покупать продукты и готовить еду. Надо было как-то выпутываться из этой ситуации. Но так как пока что Лидочка не представляла, как это сделать, она покорно наполняла корзину снедью. Слава ждал ее за кассами, держа пакет, в котором покачивалась бутылка вина.
— Вы слишком много всего купили, — заметил он, не предложив войти в долю. — Как потащите? Надо было нам отложить покупки, я бы взял машину и все довез.
Он был расстроен тем, что не взял машину, но нес лишь сумку с бутылкой вина, позволив Лидочке волочить все остальное.
По мелким штрихам в поведении, по оброненным словам Лидочка уже подозревала, что Слава — человек бережливый, может быть, даже скупой. Теперь она убеждалась в этом все более. Но скупость его была не осознанной, не расчетливой, а примитивной, стихийной. И вот сейчас он был горд собой за то, что дешево купил хорошее австралийское вино, и всю дорогу до дома рассказывал Лидочке об австралийских и калифорнийских винах, о том, как они вытесняют — и заслуженно! — с рынка французов и немцев и как низко котируются вина советские — грузинские и молдавские.
Когда они пришли домой, Слава отправился в ванную.
Дома никого не было. Лидочка разобрала на кухне покупки, ставя что-то в холодильник, а что-то на полки. И тут зазвонил телефон. Он звонил не по-нашему, сдвоенными гудками.
— Возьмите трубку, — крикнул сверху из ванной Слава. — Если меня, пусть перезвонят.
Лидочка подняла трубку. Голос был низкий, хрипловатый. В молодости такие голоса звучат сексуально, но плебейски. К пожилым годам, если повезет, они превращаются в светское урчание.
— Это дом Кошко? — спросила женщина в ответ на английское «хэллоу», произнесенное Лидочкой.
— Да, это дом Вячеслава Андреевича, — сказала Лидочка.
— Это ты, что ли, Валентина?
— Нет, я Лидия Кирилловна.
— Которая вчера прилетела? С приездом. А я — Алла, жена Славика. Слышали?
— Конечно, слышала.
— А где мое сокровище?
— Вячеслав Андреевич?
— Разумеется, нет. Я имею в виду Иришку. Она меня сегодня на рассвете вырвала из постели. Я в двенадцать встаю. Я — ночная птица. Филин. У вас там ничего не случилось?
— Я прилетела вчера утром, — сказала Лидочка. — С тех пор не произошло ничего достойного внимания. А Иришки дома нет.
— А почему никого раньше не было?
— Мы с Вячеславом ходили к агенту по покупке недвижимости, он мне помогал.
— Тоже родственников нашла?
— Нет, я по делам фирмы.
— Значит, ничего особенного. Позови Славика.
— Он в ванной.
— Пора мне приезжать, — сказала Алла и закашлялась, слишком глубоко затянувшись сигаретой. — Вы там без меня совсем распустились. Ты его у меня уведешь.
— Не уведу, — сухо ответила Лидочка.
— Ой, не зарекайся! Миллионеры всем нужны. Ведь не исключено, что и я его снова подберу. Так что остерегайся. Да и дщерь моя разврату не допустит. Понимаешь?
Алла засмеялась.
— Вот я приеду, — продолжала она, — возьмусь за вас. Чтобы был у меня монастырь совместного проживания полов.
Она снова засмеялась, громко и неприятно.
— Жди, приеду, как пишут в открытках. Я билеты заказала на двенадцатое. Через восемь дней, запомнила?
— Хорошо, я передам.
— Не надо, они все знают. Это для твоей информации, Лидия. Чтобы не тешила себя иллюзиями.
— Приезжайте, — повторила Лидочка и положила трубку.
Чувство от разговора осталось поганое, будто поймали в постели с чужим и ненужным мужем.
— У меня свой есть, получше твоего, — сообщила Лидочка телефону.
Дверь распахнулась, и ворвались Кошки, розовые, распаренные.
— Ну и жара! — заявил Василий.
— Парит, к дождю, наверное, — подхватила Валентина.
Лидочка жары не заметила. Правда, она не бегала по улицам из магазина в магазин.
Впрочем, она ошиблась. Кошки были не в магазине. Они ездили за три остановки на электричке в Бромли, где возле станции есть безумно дешевый магазин общества помощи слепым. Оттуда они притащили остатки сервиза — две чашки, четыре блюдца и чайник: все вместе за фунт! Вы представляете? А Валентина купила тяжеленную монографию «Импрессионисты». В подарок Иришке, такую ведь в самолет с собой не возьмешь. Вот будем уезжать, подарим Иришке, ей полезно, и надо же что-то хорошее сделать для девочки! Она такая одинокая! А это детское белье — совершенные гроши, но новое. У нас бы никогда не выкинули!
Все это раскладывалось на круглом столе в столовой, и каждой вещью положено было восхищаться, как особенно большим белым грибом, принесенным из леса.
Потом Кошки отодвинули добычу в сторону, а на освободившейся части стола решили пить чай. Лидочке не хотелось пить чай с ними, наверное, потому, что вещам не следовало лежать на столе. Тут сверху спустился Слава. Но слушать рассказы родственников об утреннем набеге не стал. Они к этому уже привыкли и смирились с равнодушием.
Лидочка пошла к себе. После обеда Валери обещала за ней заехать, чтобы поглядеть дома подальше, куда пешком не дойдешь.
Лидочка распахнула окно. Снаружи тек теплый, уютный воздух, располагавший к неге. Странно, что кто-то здесь может работать. В листве щебетали птицы, серая белка бежала по забору. Снизу по траве кралась кошка, караулила белку.
Теплый воздух заполнял комнату истомой. Если бы Лидочка была дома, сейчас разделась бы догола и забот не знала. Здесь же надо помнить о том, что ты жиличка. Даже в гостинице лучше — никто не посягнет на твое одиночество.
Тело все еще никак не могло решить, когда спать, а когда бодрствовать. Лидочка сбросила платье, накинула халатик и улеглась на кровать.
Клонило ко сну.
Лидочке казалось, что она думает о чем-то важном, на самом деле она благополучно задремала и не слышала, как в приоткрытую дверь заглянул Вячеслав Андреевич.
Он долго стоял в дверях, разглядывая квартирантку.
И если бы в тот момент он попытался разобраться в своих чувствах, то, скорее всего, они были сродни тем, что испытывает немолодой любитель женщин, разглядывающий легкомысленную иллюстрацию в эротическом журнале. Ведь Лидочка не подозревала, что халатик ее распахнулся, обнажив ноги, а расстегнувшиеся на груди пуговки также позволяли Славе увидеть больше, чем того хотела бы Лидочка.
Слава не смел войти в комнату. Сиеста разогнала всех по спальням. Он прислушивался не только ушами, но и затылком, не выйдет ли из комнаты Иришка, не поднимаются ли по какой-нибудь надобности родственники.
Никто не появлялся. В доме было совсем тихо.
Приближаться к Лидочке было опасно — она могла ложно истолковать его движение. Ведь знакомы они чуть больше суток, и пока что Слава никак не проявлял интереса к гостье. Она тем более об этом не думала.
Лидочка повернулась на спину и предстала взорам истосковавшегося по российским женщинам Славы почти совсем обнаженной. И это подвигло его на движение. Он сделал шаг вперед, еще один. Ему показалось совершенно обязательным — иначе погибнешь от неисполненного желания — дотронуться до ноги Лидочки, обыкновенной ноги, хорошей формы, прямой, но не очень длинной. И грудь ее, выпавшая из съехавшего лифчика, была умеренной величины и не столь упругой, как у восемнадцатилетней девушки, но полной, насыщенной, влекущей…
Слава двинулся в комнату.
Это было долгое и томительное путешествие.
Жара стояла несусветная, вернее, Славе казалось, что жара стоит несусветная, какой еще не было на Британских островах со времен Вильгельма Завоевателя. Слава вспотел, особенно мокрыми стали ладони, он вытирал их о рубашку, но старался делать это тихо, чтобы не разбудить Лидочку, — он привык к тому, что женщины относились к нему в лучшем случае снисходительно или вообще пренебрегали им. Лидочка была не такая, она внимательно отнеслась к его проблемам и не избегала его. Она была милая.
Он же ничего плохого сделать не хочет, ему надо только разглядеть Лидочку поближе, впитать в себя ее образ, ее беззащитность, доверчивость. Ему виден сосок ее правой груди, но для того, чтобы как следует разглядеть это маленькое круглое нежное чудо, следует нагнуться над ней и, если Бог позволит, то чуть-чуть, совсем чуть-чуть отодвинуть край лифчика, чтобы полюбоваться совсем бескорыстно, как любуются картиной Левитана, нет, лучше как любуются «Данаей», впитывая глазами нежность и совершенство женского тела.
Он сделал один шаг, второй, он приблизился к кровати, на которой, раскидавшись во сне, спала Лидочка. Теперь предстоял самый трудный и рискованный шаг — надо было наклониться над ней и чуть-чуть, вот именно чуть-чуть, сдвинуть лифчик.
Он не успел наклониться. В тот момент он был настолько возбужден, что не услышал, как за его спиной в дверях появилась Иришка, которая, разумеется, ложно истолковала побуждения отца, скажем, вообразив их куда более фривольными, чем они были на самом деле.
— Дождался бы ночи, фазер! — сказала она от двери спокойным и злым голосом.
Слава резко выпрямился и сразу же отступил на два шага. Так что в результате оклик дочери спас его от куда большего конфуза.
Когда Лидочка открыла глаза, она увидела вполне безобидную диспозицию: папа Кошко стоял у дверей, обернувшись к дочери, стоявшей на шаг позади.
Зачем они зашли в комнату, Лидочка не сообразила, потому что не знала порядков в доме. Она даже подумала спросонья, что Славе надо было что-то достать из шкафа в ее комнате, а Иришка стояла и ждала, когда он это что-то достанет.
— Что такое? — спросила она, садясь и инстинктивно запахивая на груди халатик.
— Опоздала, — сообщила Иришка и ушла к себе.
— Что она сказала? — спросила Лидочка.
— А? Что? Нет, ничего особенного, — странно ответил Слава и тоже ушел.
Лидочка улеглась и вскоре вновь задремала.
На следующий день произошли два события, достойных внимания.
Во-первых, за Иришкой заехал ее приятель, воспитанный мальчик с громадной шапкой курчавых волос и гладким, доверчивым лицом. Мальчик приехал, когда в доме шел поздний завтрак, и проспавшая все на свете Иришка побежала наверх переодеваться, а Роберта запустила в столовую, чтобы Слава напоил его кофе.
Мальчику было лет шестнадцать-семнадцать, а когда они с Иришкой убежали, Слава объяснил Лидочке, что Роберт — полукровка. Отец его работал раньше в Болгарии, женился там на молоденькой болгарке и вывез ее в тихий заповедник Вудфордж-роуд. Он вышел на пенсию и на досуге ремонтирует машины, часто бесплатно, по знакомству. У Роберта есть младшая сестренка Джил, ей всего двенадцать лет. А их мать, Снежана, женщина относительно молодая, преподает в школе русский язык, так как знание болгарского в центре Англии не требуется. Слава сказал, что, с одной стороны, он не возражает против этого знакомства — лучше соседи, чем неизвестно кто, но его смущает, что южные народы рано созревают сексуально. Валентина, которая присутствовала при монологе, спокойно заметила:
— Когда начнется течка, тут уж южный или северный народ попадется, все равно она его в кровать затащит.
Слава был возмущен, словно готовил дочь в монастырь.
Потом Слава собрался было сопровождать Лидочку в поисках дома, но той не хотелось превращать путешествия со Славой в систему. К тому же она уже поняла, что для Славы в Англии не нашлось настоящего дела. Он находился в процессе придумывания себе такового. Он даже не мог писать мемуаров узника сталинских лагерей. Возрастом не вышел. На работу ему не хотелось, а может быть, у английского правительства были возражения по этой части. Так что он собирал марки, в основном дешевые, гашеные, демпинговые картинки развивающихся стран, и наполнял ими десятки кляссеров в своем кабинете. Если у него и были иные занятия, Лидочке они пока не были известны.
— Не расстраивайтесь, что агенты будут возить вас на своей машине, — сказал он Лидочке. — Здесь бешено дорогой бензин, но они сами за него не платят. Платит фирма. Они даже выгадывают — остается самим вечерком покататься.
Слава добродушно засмеялся.
— Не будьте к ним добренькой, — предупредил он. — Англичане нас никогда не жалеют, им это чувство не свойственно. Англичанин скорее удавится от любви к хромой кошке, чем позаботится о человеке, тем более об иностранце.
— А как же иностранная кошка? — спросила Лидочка, уловив в голосе Славы раздражение и желая уйти от такого разговора.
— Иностранная кошка по положению находится между англичанином и кенийцем.
Убедившись в том, что его услуги никому не нужны, Слава надел несколько поношенный, висевший на нем, как на маленькой вешалке, твидовый пиджак, завел свой «Воксхолл», сказав, что ему надо повидаться с адвокатом. Лидочка уселась ожидать Валери.
Она сидела внизу в столовой, чтобы не пропустить звонок, совсем одетая к выходу. Тут зазвонил телефон, а так как для русского уха сдвоенные звонки английского телефона непривычны, Лидочка решила, что звонят в дверь, и кинулась туда. За дверью никого не было, звук раздавался сзади. К счастью, как уже потом поняла Лидочка, англичане звонят дольше русских, потому что в доме порой нелегко спуститься к телефону или прибежать из сада.
Звонила незнакомая женщина, которая попросила мистера Кошко, но акцент ее был очевидно русским, так что Лидочка решилась и ответила по-русски:
— Простите, но Вячеслава Андреевича сейчас нет дома. Что ему передать?
— Ой! — воскликнула женщина. — Я так ненавижу говорить по-английски, вы не представляете! Вы — его дочка, да? Иришка? Я с вами давно не встречалась, но вы меня можете помнить.
— Нет, я гостья в этом доме, — сказала Лидочка. — Меня зовут Лидией Кирилловной, я только вчера из Москвы, поэтому не всех знаю.
— Ах, а у вас голос молодой! — воскликнула женщина.
— Вам нужен Вячеслав Андреевич?
— Сейчас я вам все объясню, — сказала женщина. — Запомните или запишите. Меня зовут Галиной. Галина Величко. Запомнили? Галя Величко, Галка. Я тут в последнее время начала жить. Но на самом деле я подруга Аллы. Вы знаете Аллу?
— Скорее понаслышке, — ответила Лидочка.
— Простите, может быть, вы — пассия Славы? Теперь, с его возможностями и денежками, за него любая пойдет, вы со мной согласны?
Откровенность была подкупающая. Лидочка улыбнулась и ответила:
— Я не в курсе его дел. Я приехала в командировку, а в Москве договорилась с Марксиной Ильиничной, что сниму комнату у ее сына.
— Разумно, — согласилась Галина. — А то он всегда о мамочке забывает. Вот и крутится старушка. Значит, вы с Аллой не знакомы? И не знаете, когда она намылилась приехать?
— Она звонила, сказала, что приедет двенадцатого.
— И попытается сделать величайшую глупость в своей жизни!
— Какую?
— Постарается вернуть к себе разбогатевшего кузнечика. Это же самоубийство!
— А вдруг она решила начать новую жизнь?
— Слушай, Лида, ты не знаешь нашу Аллу. В свое время она сбежала от кузнечика с первым попавшимся гусаром, так его не выносила. Нельзя так продаваться! Знаешь, я так и вижу: появляется Аллочка, образцово-показательная мать-героиня! Все для ребенка, все ради ребенка, никто не забыт, ничто не забыто! Нас не подслушивают?
— Вроде бы некому.
— У них везде по нескольку трубок — бери и слушай. А я не желаю выглядеть интриганкой в глазах родственников моей так называемой лучшей подруги. Так она уже и билет купила?
— Да, на двенадцатое число.
— Надеюсь, что она сможет выжать кое-что из бывшего кузнечика. Ты как думаешь?
— Я об этом пока думать не могу.
— Но ты точно не по его душу и кошелек?
— Точно, — успокоила подругу Аллы Лидочка. — У меня есть очень приличный муж, которого я люблю.
— Никогда не признавайся в таком грехе! — возмутилась Галина. — Ты надолго в командировку?
— Недели на три.
— А потом уедешь?
— Не подозревайте меня в коварстве.
— А почему не подозревать? Ведь люди — суки, а мы, бабы, в первую очередь. Как, ты думаешь, я сюда попала?
— Вопрос риторический.
— Какой бы там ни был. Но он добивался моего пышного розового тела, как альпинист Эвереста. А когда добрался до этого Эвереста, что оказалось? От получки до получки, фирма прогорела, экономим хуже, чем в Москве, а дома все думают, что я за фирмой замужем. Понимаешь?
— Грустно.
— Вот именно, что грустно. Ну ладно, мы скоро увидимся, если ты, конечно, не хочешь занять место моей Аллочки.
— Не хочу.
— Тогда я буду звонить, чтобы узнать точное время — мы с тобой ее встречать поедем. Телефон оставить?
— Думаю, вам лучше самой позвонить, — сказала Лидочка.
— Ладно, привет, — не обиделась Галина. — Кстати, у сухарика-кузнечика мои координаты есть. Он моего благоверного Джерри на дух не переносит. Но это у них взаимно.
Галина повесила трубку. За дверью осторожно тявкнула машина.
Лидочка повесила трубку и побежала к Валери, которая ждала ее, чтобы ехать осматривать дома.
Глава 7
Когда Лидочка возвратилась домой, уже чувствуя себя почти старожилом в Сиднеме, там была лишь Иришка.
Иришка открыла дверь и тут же пошла по коридору прочь, покачивая узкими круглыми ягодицами, — мы вас в упор не видим! И вообще непонятно: зачем вас фазер пустил к нам, если не имеет на вас видов. Но мы и этого не допустим — мы удержим папу в пределах целомудрия, пока не явится наша мамочка и не решит, что с ним делать дальше.
Вот что увидела в походке девочки Лидочка. Но это совсем не означало, что она была права.
— Ириша, подождите, — окликнула она девочку. — Вам звонили.
— Мне? — Иришка тут же развернулась на сто восемьдесят градусов.
— Не лично вам, а вам с папой, вашему семейству.
— Кто же? — Иришка была разочарована.
— Местная жительница по имени Галина.
— А, Галочка-выручалочка!
— Она сказалась маминой подругой.
— Она — ласковый теленок, — сообщила Иришка. — Когда я была маленькой и не все буквы выговаривала, то пела песню «Ласковая Гайка вышла на лужайку». Честное слово! А они с мамой смеялись. Я ей все прощаю, потому что она дура.
— Она знает, что ваша мама приезжает.
— Если она еще будет звонить, — предупредила Иришка, — то вы с ней язык не распускайте. Любую информацию она тут же унесет на хвосте.
— Давайте, Ириша, договоримся сразу, — сказала Лидочка. — Я буду относиться к вам лояльно, не стану вмешиваться в ваши дела, вы же воздержитесь от всяческих неточных выражений в мой адрес.
— Я свободный человек и называю людей, как мне хочется. Особенно папиных курочек.
Великое чувство облегчения охватило Лидочку. Теперь она с чистым сердцем покинет этот домик. И обретет свободу. Хватит.
Лидочка повернулась, чтобы выйти из дома. Движение было нелепым — ведь сначала надо было бы собраться и заказать гостиницу.
Но, обернувшись, Лидочка столкнулась носом к носу с Кошками из Краснодара, которые вернулись из очередного похода и заполонили собой весь проем двери, которую Лидочка за собой не успела закрыть. Они стояли сплошной массой, и преодолеть их было невозможно.
— Ирина! — возопили родственники, когда Лидочка налетела на них. — Ирина, ты сошла с ума! Лидия Кирилловна заплатила за свою комнату вперед!
Этот аргумент был для них исчерпывающим и переводил Лидочку из папиных курочек в самостоятельные и достойные люди.
— А вы, кстати, нет! — закричала Иришка с середины лестницы. Для того чтобы оскорбить дядю и тетю, ей пришлось нагнуться.
И тут, раздвинув родственников, в коридор втиснулся сам хозяин дома. Сделать это ему было нетрудно, так как он вообще мог бы проникнуть в любую щель.
— Я все слышал, — сообщил он деловым голосом совершенно спокойно, как, бывает, говорят люди, доведенные до крайности. — Мне все стало ясно. Сначала я хочу сказать, что Лидия Кирилловна не относится к числу птичек и кошечек. У меня вообще нет и не было птичек и кошечек! — Голос Славы поднимался с каждой фразой.
Он шагал вперед по коридору. Лидочка отступила в сторону, чтобы его пропустить, ибо он ее не видел — все внимание было приковано к замершей в изогнутой позе посреди лестницы дочери.
— Здесь решаю я! Мне надоело выслушивать глупости и терпеть хамство со стороны девчонки! Ты, Ирина, принимаешь мою любовь и доброту за слабость. В этом моя вина. Я думал, что с тобой можно обращаться по-доброму. Нет, ты понимаешь только палку. Ты — типичный представитель российского жлобства, новое издание своей матери. Или ты немедленно просишь прощения у Лидии Кирилловны и Василия с Валентиной, а затем ведешь себя ниже травы, либо собираешь вещи и первым же самолетом отправляешься домой.
— А зачем ты к ней в комнату лазил?! — закричала Иришка. — Я видела!
— Как так лазил? — удивился Слава.
— Вчера подглядывал, как она голая валялась!
— Лидия Кирилловна не валялась, а я не подглядывал. Иди собирай вещи!
— И не подумаю! Я уеду к Снежане. Они ко мне относятся по-человечески.
— До тех пор, пока ты живешь у меня.
— Роберт меня любит! Да, он готов на мне жениться!
— Хорошо, — тихо сказал Слава. — Ты идешь к себе, а я звоню Снежане или еще лучше самому мистеру Ричардсону и рассказываю о твоих с Робертом планах.
— Не смей!
— Ты же сказала правду? Чего ты боишься?
И тогда Иришка сдалась и кинулась, преувеличенно громко топоча, вверх по лестнице, хлопнула дверью, а Слава уселся на стул возле телефона и сжал голову в ладонях.
— Это ужас, — прошептал он.
— Воды! — приказал Василий Валентине, сам кинулся на кухню, и они там загремели стаканами.
— Эта чертова генетика, — неожиданно произнес Слава. — Ну точно ее мать! Точно! Такая же безответственность, тот же кухонный синдром, который вылезает из нее в стрессовые моменты. Простите, Лида, я не представляю, что в нее втемяшилось.
Лида стала вспоминать, когда Слава мог наблюдать за ней так, что Иришка сделала роковые выводы. Потом подумала, что, наверное, она сама виновата — заснула вчера на диване в халатике… Даже неловко. Поговорить об этом сейчас нельзя. Ей вообще лучше помолчать.
Прибежала Валентина со стаканом холодной воды.
От жары и волнения ее желтые завитые кудри растрепались и выглядели разоренным гнездом. Слава стал отводить ее руку со стаканом, а Василий, склонившись к нему, принялся жарко шептать:
— Мы сегодня же собираем вещи, сегодня же покупаем билет, даю тебе слово офицера. Вместо причала надежды и семейной любви мы попали в змеиное гнездо, я понятно выражаюсь?
Говорилось это с сильным южным, украинским акцентом и потому казалось монологом из оперетты, вроде «Запорожца за Дунаем». И лишало Лидочку возможности встать на котурны — окажешься в компании клоунов.
— Ну кто вас гонит? Кто вас гонит? — повторял Слава и все отводил руку с водой, а рука упорно возвращалась. Тогда он вскочил и закричал: — Какого черта вы мне суете эту жидкость?
Лида отступила поглубже в коридор, ей хотелось раствориться в полутьме, вписаться в стену, остаться лишь наблюдательницей, не более.
Почувствовав, что победа клонится на их сторону, Кошки из Краснодара принялись жаловаться на Иришку, и оказалось, что ее прегрешения не ограничиваются сегодняшним хамством, а включают некоторые выпады против Василия и Валентины в предыдущие дни, зафиксированные памятью родственников. В конце концов Слава сбежал к себе и хлопнул дверью. Родственники победителями уплыли в другую сторону, и Лидочка, никем не замеченная и, к счастью, никому не нужная, поднялась на второй этаж.
На площадке было тихо. Только Иришка рыдала за дверью в своей комнате. Но рыдала не громко и даже не демонстративно, а как положено рыдать юной девице, которая поняла, что никто ее не любит, никому она не нужна и, главное, никто ее не боится.
Лидочка не стала зажигать света.
Она подошла к окну. Кто-то должен был взять себя в руки и идти на кухню готовить обед. Можно предположить, что Слава и Иришка исключаются, потому что переживают. Валентина с Василием ленивы и избегают любых работ по дому, тем более не выносят тратить деньги на пищу. Дома, так поняла Лидочка, они едят много и вкусно. Но здесь они оказались травмированными промышленным изобилием. Нетрудно было пересчитать шиллинги с капусты и мяса на рубашки и ботиночки, и тогда мясо терпело сокрушительное поражение.
Сад и поле за ним заволокло легкой дымкой, видно, собирался дождик. Ветра не было, он быстро разогнал бы мглу, но, по-видимому, берег силы к началу дождя. Футболисты вдали не бегали, а ходили за мячом. Двое из них, нет, не футболисты, а просто отдыхающие, шли вдоль кустов, которые ограничивали садики домов на Вудфордж-роуд, и рассматривали, как глядятся эти особняки с тыла. Лидочка подумала, что и ей как-нибудь надо выбраться туда, в поле, если удастся пробиться сквозь живую изгородь. Пробиться и посмотреть на жизнь домов со стороны огородов.
Двое мужчин, одетых в светлые брюки и белые футболки, что выдавало в них людей, склонных к занятиям спортом, поравнялись с живой изгородью дома Кошко. Лидочка, скрытая стеклом полуоткрытого окна, была им не видна.
Один из мужчин наклонился, словно увидел гриб или завязывал шнурок на ботинке. Второй стоял рядом и глазел на особняк. Лидочка с запоздалым удивлением узнала в нем Геннадия. Зачем Геннадию гулять по зеленому полю? Неужели он в самом деле живет где-то по соседству?
Лидочка хотела помахать ему, окликнуть. Теперь объяснилась и тайна его появления в машине на Вудфордж-роуд. Соседи!
Но тут Лидочка спохватилась. Ведь она уже решила, что уедет из этого дома. И вообще ей сейчас не до случайных знакомых!
Второй мужчина, в котором Лидочка узнала водителя машины и того молодца, что встречал Геннадия в Хитроу, что-то искал в кустах живой изгороди. Кусты шевелились и раскачивались. Потом он выпрямился.
Они пошли дальше, потеряв интерес к домам и мирно беседуя.
«Как сузился мир, — подумала Лидочка. — Ну кто мог подумать, что ты полетишь в самолете и увидишь в нем Геннадия, а потом встретишь его в этом районе? А какая-то Галина звонит из соседнего квартала, спрашивает, когда приезжает Алла, — трепет перед заграницей, ощущение ее как страшного и странного мира, откуда можно возвратиться, только выучив все заклятия и особые слова, которым учат в специальных организациях, уже пропал. Лондон… Ну и что? Мы бывали и на Канарских островах. Теперь будет нелегко снова загнать людей в бутылку и заткнуть их пробкой. Трудно, но не безнадежно. Если очень захочется, то и заткнут, и затыкальщиков-добровольцев найдут. К тому же наберут этих самых затыкальщиков из тех, кто больше всех любил ездить в Венецию. Вот они и будут вылавливать тех, с кем катались в гондолах по каналам.
А почему, кстати, я решила, что Геннадий гуляет вокруг этого дома совершенно случайно? Из десяти тысяч лондонских улиц он выбрал для проживания именно нашу? А вдруг кому-то не нравится, что советский ихтиолог покупает дом в Лондоне?»
Такая мысль была настолько отвратительна, что Лидочка отмахнулась от нее, как от злобной мухи, потому что не хотела так думать. Боялась. Но отойти от окна, прежде чем Геннадий скроется за кустами, она не смогла. И страх, вселившийся в ее душу, заставил Лиду умолчать о Геннадии.
Зато она сказала Славе о звонке Галины, а Слава поведал об этой Галине вот что.
Галина — московская подруга Аллы. Они вместе где-то раньше работали. Были они лимитчицами, как в фильме «Москва слезам не верит», искали свое девичье счастье. Алла отыскала Славу с его маленькой квартирой и маленькой зарплатой, но с московской пропиской. Несколько лет они немирно прожили, как живет большинство российских неудовлетворенных жизнью и партнерами семей, и союз этот держался не столько родившейся дочкой, сколько непреходящей страстью Славы к Алле и невезением Аллы — у нее за эти годы, возможно (Слава с неохотой допускал этот обидный факт), были любовники, но ни одного, который бы весомо поманил. А потом такой возник, не без дурного влияния распутной Галины, Галочки-щеночка, всем любезной сплетницы. Алла рискнула и кинула надоевшего бесперспективного Славу ради Георгия. С Георгием она прожила несколько месяцев, но тот так и не бросил семью, оставшуюся в Кутаиси. Они снимали квартиру, и в конце концов Георгий семью бросил, но ради женщины с хорошей трехкомнатной квартирой на Котельнической набережной. А Галина все это время продолжала искать свое счастье. И ей повезло, потому что с концом восьмидесятых в Москве все в большем числе стали появляться иностранные фирмачи, для которых розовые и чистые кожей, полногрудые русские бабы были сладким лакомством после своих перекрашенных, недокормленных девиц. Вот Галина и взяла самца — мистера Джерри Стюарта, финансиста. Она вышла за него замуж в Москве и поехала с ним в Лондон. Все было бы хорошо, но мистер Джерри Стюарт оказался трагически небогат. Так что обе подруги — Алла и Галина — оказались на бобах. А так все хорошо начиналось!
Слава Галину не выносил. Он полагал, что она была именно той подружкой, которая наушничает, нашептывает, подсказывает худшие из ходов и поступков. К тому же Галина с первого дня невзлюбила Славу. Может быть, она хотела доказать подруге, что та сделала ошибку, польстившись на прописку, приложенную к столь худому и нескладному представителю московского мужского племени.
— Лидия, — попросил Слава, — не уезжайте от нас, умоляю! Мне вас будет страшно не хватать. Вы словно стержень здравого смысла, ума, интеллигентности, наконец! Без вас рухнет дом.
— Дом Эшеров, — сказала Лидочка.
— Да, — согласился Слава, не вспомнив литературной аналогии. — Потерпите, пожалуйста…
Глава 8
Алла звонила из Москвы на следующий день, часов в одиннадцать. Лидочки не было дома. Когда она вернулась, Слава, чем-то встревоженный, насупленный, возился на кухне. Никого больше в доме не было.
— Не беспокойтесь, — пожалела его Лидочка. Ей казалось, что Слава относится к тем относительно недавним по стажу холостякам, которые кормят себя шпротами и вчерашней горбушкой, запивая соком киви. — Я сейчас умоюсь и займусь обедом.
День был жаркий, и Лидочка давно мечтала о душе.
— Как вы поездили с Валери? — спросил Слава, когда Лидочка через десять минут спустилась в столовую. Он сидел за столом, послушавшись в ожидании, ничего не делая, будто с облегчением покинул кухню после прихода Лидочки, но чем заняться, не знал.
— Пока ничего не нашли, — сказала Лидочка. — Один дом мне понравился, но он довольно ветхий, его ремонтировать дороже, чем два дома купить. А еще один нехорошо стоит, напротив сиднемской библиотеки, представляете?
— Вы быстро освоились, — сказал Слава.
— У меня был Вергилий.
— Может быть, вам попробовать в Бромли?
— Сначала мы хотим посмотреть в Кенсингтоне.
— Ну, ваше дело, — сказал Слава.
— Валентина покупала сегодня продукты? — спросила Лидочка.
— Не заметил. Они еще не возвращались.
— Жаль, — вздохнула Лидочка. — Мы же договаривались.
— Когда речь идет о шиллингах, с ними лучше не договариваться. А что, дома нечего есть?
— Сейчас проверю.
Лидочка заглянула в холодильник. В морозилке обнаружился большой двухфунтовый пакет котлет кордон-блю.
— А я, если нужно, съезжу на станцию за чипсами, — предложил Кошко.
— Жарко, — пожалела его Лидочка. — Не мучайтесь. У нас есть зеленый горошек.
— Правильно, — быстро согласился Слава. — В такую жару есть не хочется. И знаете, что я думаю… Может, пообедаем без родственников?
— Как только мы сядем за стол, — ответила Лидочка, — откроется дверь, и они появятся. Голодные и обиженные. Разве вам мало вчерашней войны?
— Вы на меня не сердитесь? Честно?
— Честно.
На стене над кухонным столом с деревянной доски свисали ножи — от широкого мясницкого до махонького. Слава заметил Лидочкин взгляд и сказал:
— Я на той неделе купил. Двадцать два фунта.
Лидочка открыла плиту и положила котлеты на разморозку. Плита уютно загудела.
— Алла сегодня звонила, — сказал Слава. — Только что.
— У нее все в порядке? — равнодушно спросила Лидочка.
— Да, все в порядке. Собирается сюда.
Слава помолчал. Потом сказал:
— А я уже не знаю.
— Чего не знаете? — не поняла Лидочка.
— Хочу ли я, чтобы она приезжала…
— Боитесь?
— Это не страх… Может быть, до вашего появления я не сомневался. А теперь… Не знаю.
— Да объясните вы мне все спокойно, — попросила Лидочка. — Я не выношу семейных тайн и скелетов в шкафах.
— Не сердитесь. Я постараюсь объяснить. Понимаете, я жил здесь довольно изолированно. И я думаю, что во мне росло странное чувство. Злорадство своего рода. Вот я сижу в Лондоне, все у меня есть, пью кофий с сахаром, а ты, Алла, та самая, которая презрительно выкинула меня из своей жизни, осталась на бобах, существуешь в хрущобе и даже готова навестить отвергнутого мужа. Больше того, когда моя мама предложила мне взять сюда Иришку, я даже обрадовался. Алла же не возразила, хотя раньше любая моя попытка приласкать Иришку встречалась в штыки. Одной рукой она отстраняла от себя дочку, чтобы та не мешала, а другой отгоняла от нее отца, чтобы, не дай бог, девочка к нему не привязалась. Ну вот, я ждал ее приезда и представлял себе, как она войдет сюда и удивится, чего я достиг в жизни…
«Он и в самом деле уже думает, что достиг всего этого своим трудом, талантом и прочими достоинствами, — подумала Лидочка. — Он уже может облагодетельствовать Аллу и Иришку, а может их наказать и удалить со своих очей. Он сидит передо мной, уткнувшись острыми локтями в стол, похожий на какую-то ресторанную девицу из раннего Пикассо. Бородка покачивается в такт словам — исхудавший Ильич в эмиграции ждет Инессу Арманд! Что за чепуха лезет мне в голову!»
— Но тут явились вы, Лидия, — продолжал Слава. — Я не могу сказать о ваших чувствах, но для меня ваше появление было сродни дуновению свежего воздуха. Я понял никчемность сидения в этой норе и ожидания неизвестно чего — в лучшем случае встречи со своим прошлым, которое готово захватить меня вновь в свои цепкие объятия и сосать из меня последние соки.
Чем дальше, тем красивее он говорил. Он сам себе нравился. Он был великодушен и откровенен. Он придумал и себя, и Лидочку, и конфликт.
— Вчера я увидел в Иришке ее мать! Та же готовность к скандалу, та же кухонная истерика, тот же беспросветный эгоизм. И вот приедет Алла. Может быть, она захочет уложить меня в постель — не исключено. На это есть советчица — Галина Стюарт, — почти шотландская королева! Но вы, Лида, вы, как свежий ветер, напомнили мне, что моя жизнь не должна замыкаться на кухне чужих потребностей.
Ого! Кухня чужих потребностей! Отличное название для дамского романа.
— И зачем Алла звонила сегодня? — спросила Лидочка.
— Уже начались задания, поручения, уже началась совместная жизнь, о которой я не просил.
«Нет, милый, — подумала Лидочка, — ты просил, потому что в программе твоей мести возвращение Аллы — обязательное условие».
— Сегодня в три я должен встречаться с каким-то Эдуардом Дмитриевичем, ее двоюродным начальником, который, оказывается, совершенно беспомощен без машины, а его надо свозить по двум-трем магазинам! Нет, вы представляете, я должен возить по магазинам ее толстозадого шефа, с которым она, возможно, благополучно спит!
Слава был очень рассержен!
Алла, конечно же, допустила промах. Тактический промах — до покаяния и прощения она не имела права давать Славе поручения. Но ошибка Аллы была понятна. Она объяснялась тем, что Алла судила о Славе по прежним, московским меркам, когда он был существом приниженным и, как правило, послушным.
— Ничего страшного, — заметила Лидочка. — Если вы позволите, я могу вам дать хитроумный совет.
— Какой же?
— Вы подъедете к его гостинице в вашем лимузине…
— Ах, какой у меня лимузин! Наверное, он сам в Москве на «Мерседесе» гоняет.
— Чепуха. Тогда бы он не просил вашей помощи. Значит, вы сажаете его в машину и спрашиваете: «Вам в «Хэрродс»? Я сам покупаю только в «Хэрродсе».
— Я в жизни не был в «Хэрродсе», — возразил не самый сообразительный из мужчин Слава. — Там же сумасшедшие цены!
Лидочка ничего не стала говорить, а подождала, пока Слава придет к разумному решению.
— Понял! — улыбнулся он и радостно принялся чесать бородку. — Пускай этот Эдуард Дмитриевич пролетит со своими командировочными!
Лидочка вытащила из духовки разморозившиеся котлеты и овощи. Теперь она поставила котлеты жариться.
— Лидочка, — произнес Слава сладким голосом. — У меня к вам будет одна небольшая просьба…
— Нет, — ответила Лидочка. — Я с вами на это свидание не поеду. И не буду изображать вашу богатую любовницу, и не буду держать вас за руку, и не буду советовать этому толстому начальнику покупать в «Хэрродсе» драгоценности по миллиону фунтов. Нет, сэр!
— Как же вы догадались? — расстроился Слава.
— Я знаю мужчин, — ответила Лидочка.
Тут пришли краснодарские Кошки. Они притащили дешевый палас, напоминающий анаконду.
Непонятно, каким таинственным способом они собирались везти его в Москву — он точно занял бы весь фюзеляж. Так как руки у Кошек были заняты, они, к сожалению, не смогли зайти в магазин и купить еды. Но вечером, как отдохнут, они обязательно сбегают в «Сэйфуэй» и накупят полный холодильник продуктов.
Успокоив свою совесть, Кошки уселись за стол и умяли все, что приготовила Лидочка, — она еле успела вырвать одну котлету для Иришки.
Валентина осталась несколько огорчена таким поступком Лидочки, и они ушли к себе, где начали жевать. Жевали они громко. Как пояснил Слава, у родственников были запасы сала, привезенные в Лондон на случай голода.
Иришка заявилась довольно рано. Лидочку она избегала, но, видно, какая-то беседа с отцом состоялась, потому что, скушав последнюю котлету, она постучалась к Лидочке, которая лежала на кровати и читала новый роман Дика Фрэнсиса, и сказала от двери:
— Я не имела в виду, только мне за маму обидно.
Очевидно, эту нелепую фразу следовало понимать как попытку попросить прощения. Так Лидочка ее и поняла.
— Я не сержусь, — сказала она, хотя сердилась. Она не привыкла прощать хамство. А в Иришке хамства, к сожалению, было достаточно. Слава объяснял это генетикой, можно было объяснить воспитанием — по сути дела, не так важно. И зачем она согласилась жить в чужом доме?
Пока Слава ездил по Лондону с начальником бывшей жены, Лидочка, разделавшись со своими делами, вдруг поняла, что соскучилась по голосу Андрея. Ей надо было услышать его, чтобы ощутить реальность собственной жизни. И хоть нелепо в шесть часов вечера, когда солнце уже склоняется к вершинам деревьев по ту сторону футбольного поля, идти в город, Лидочка с радостью и облегчением выбежала из дома и поспешила на почту. Из дома Кошко она звонить не стала — как потом рассчитываться?
На почте стояла английская очередь, отличающаяся от российской тем, что никто не боится пришельца, который в нее втиснется. Поэтому англичане стоят свободно, стараясь ни в коем случае не коснуться того, кто стоит перед тобой.
За пять фунтов Лидочка купила пластиковую карточку и в будке на улице набрала домашний телефон. Андрея не должно было быть дома, но он подошел ко второму звонку, словно ждал. В Москве было жарко, пыльно, он обрадовался, что Лидочка дозвонилась, — он сам собирался позвонить вечером.
Отъезд Андрея в экспедицию задерживался, катастрофически не хватало денег, хотя местные власти были обязаны выделить средства. А один ростовский банк обещал денег.
— Кстати, — сказал Андрей. — Мне звонила Алла.
— Кто?
— Ну, Алла, жена твоего квартирного хозяина. Ты меня слушаешь?
— Осталось полтора фунта — здесь так быстро пролетают деньги!
— Два слова: звонила Алла, говорила, что едет к своему мужу в Англию через неделю. Или даже раньше. Спрашивала, не нужно ли что-нибудь для тебя захватить. Она думает, что вы с ней где-то встречались. Твое имя ей знакомо.
— Мы говорили с ней по телефону.
— Хочешь, я передам через нее черного хлеба? Или селедки? Наши за рубежом всегда жаждут черного хлеба или селедки.
— Андрюша! Осталось полфунта!
— Я заверил ее, что вы никогда не встречались. Ты бы не скрыла этого от меня. Может, икры послать?
— Я уже соскучилась по тебе.
— Так тебе точно с ней ничего не передавать?
Последняя зеленая цифра мелькнула, и табло погасло.
Все. Нельзя говорить Кошко, как она истратила пять фунтов. Для него это бешеные деньги.
Лидочка пошла домой. Улица была пуста, машины стояли вдоль тротуара, выключив глаза и заснув до утра. Дразня их, по сиреневому асфальту пролетел закованный в очки мотоциклист, светя множеством фар и подфарников.
Очень любезно со стороны Аллы позвонить Андрею. В конце концов, они не знакомы и не было бы обиды.
Лидочка свернула на Вудфордж-роуд. В сумерках она увидела, как перед ней шагают две фигуры: одна слишком высокая и тонкая, другая ей по плечо — крепкие бедра, толстые ноги, — Слава с дочкой возвращаются домой с прогулки. Они были поглощены разговором и не слышали шагов Лидочки. Та не стала их окликать.
Она догнала их около дома, а когда Слава открыл дверь, попросила:
— Не захлопывайте, это я!
— Ой, вы меня испугали! — сердито отозвался Слава. — Вы где были?
— Ходила…
— Куда ходили? — В голосе звучала подозрительность. Настолько очевидная, что Лидочка призналась:
— Я ходила звонить в Москву, мужу.
— А почему не из дома?
— Не хотела, чтобы вы платили за мои переговоры.
Иришка вошла в дом.
— Спустишься ко мне в кабинет, — окликнул ее Слава. Я буду ждать.
Он пропустил Лидочку и принялся запирать дом. Даже накинул медную цепочку, чего раньше не делал.
Лидочке хотелось отвлечь его от неприятных мыслей.
— Билли Бонс получил черную метку? — спросила она.
Реакция Славы оказалась совершенно неожиданной.
— Могли бы и помолчать! — рявкнул Слава. А так как рявкать он не был приспособлен, получилось нечто вроде тявканья.
— Простите, — сказала Лидочка. — Я не хотела вас задеть.
Она пошла к себе наверх, вновь кляня себя за мягкотелость. Надо было съехать отсюда после первой же сцены. Теперь на нее сердит и сам хозяин.
Она бы с удовольствием посмотрела телевизор, и в гостинице он стоял бы возле кровати в полном ее распоряжении. Здесь же был только один телевизор, внизу в кабинете. А там, судя по всему, хозяева дома намеревались обсуждать свои проблемы. «А может, надо было попросить, чтобы Алла привезла черного хлеба? Я бы жевала его по вечерам».
Окно в сад было открыто. Внизу разговаривали Иришка с отцом. Если подойти к окну, то можно расслышать все, о чем они говорили. И, наверное, из сада тоже отлично все слышно. Лидочка почему-то вспомнила, как Геннадий с приятелем гуляли за оградой. Они могут и сейчас там стоять — стоять и слушать секреты семьи Кошко.
И вдруг Лидочке стало страшно из-за того, что в английских домах нет решеток, нет замков, нет никаких средств защититься от настоящих убийц-организаторов. Глупая шутка Геннадия врезалась в память навсегда.
Вот сейчас они стоят там, за кустами, незаметные со стороны дома, подслушивают и готовятся ограбить несчастного Славу. Ведь они же русские, против них нужны решетки и запоры. Они прилетели в Англию, словно щуки в прудик, где живут карпы и караси. Им смешна гордыня англичан, которые полагают, что грабить нехорошо.
Лидочка погасила свет и подошла к окну.
Конечно же, в кустах ничего не было видно — живая изгородь поднималась довольно высоко.
Было слышно, как Слава говорит дочери:
— Главное — держать себя в руках. Они не должны догадаться…
— Тебе хорошо…
Лидочка отошла от окна, чтобы не слушать.
Она легла, но свет зажигать не стала.
Лидочка долго лежала, прежде чем раздеться и пойти в ванную. Было тревожно, и сердце билось, как перед грозой.
Лидочка утешала себя тем, что завтра с утра уедет. И не будет больше их всех видеть…
Глава 9
Утром в субботу Лидочка встала раньше всех, позавтракала внизу, никого не разбудив, оставила на столе записку, что вернется вечером, и пошла на станцию. Ей было приятно идти по пустой утренней улице, где косые лучи солнца высвечивали цветущие розы на высоких, до второго этажа, кустах. Коты деловито переходили улицу — видно, направлялись с визитом к соседям. Самолеты шли один за другим, снижаясь к Хитроу. Лидочка уже прижилась здесь и не чувствовала себя чужой, хотя бы потому, что местные империалисты встречают тебя с обязательной добродушной улыбкой. А мистер Мета, хозяин продуктовой и газетной лавочки на углу соседней улицы, уже знает тебя и спрашивает, оставить ли пакет молока.
Лидочка дошла до тихой пригородной станции, провинциальной во всем, если не считать красных телекамер, нависающих над платформой и следящих за тем, чтобы какой-нибудь злоумышленник не пристал к смирной девушке. Поезд примчался тут же, будто ждал за углом, немногочисленные пассажиры вошли внутрь и расселись по свободным местам, которых было немало, — видно, здесь не любят подниматься утром в субботу.
На противоположной платформе, ожидая поезда на Орлингтон, в глубокой тени под навесом сидел приятель Геннадия и читал газету. Электричка прибавила ходу, и платформа исчезла вместе с видением. Разумеется, это было видение, если не вернуться к первоначальной и самой безобидной из версий: Геннадий остановился у своего друга, который живет по соседству. Оттого они и гуляли по полям, и ездили в машине по Вудфордж-роуд.
И все-таки у Лидочки осталось неприятное чувство: если она его увидела, хоть и поздно, может, он ее увидел раньше? Ну и пусть, он же Лидочку не знает. Если, конечно, никто за ней не следит.
И тут же пропало тихое очарование субботнего утра — как будто сюда донесся хриплый рев боевой трубы с отдаленного, но знакомого поля боя.
Лидочка постаралась выкинуть из головы эту встречу, но удалось ей это сделать только в Британском музее, в длинных волшебных галереях ассирийской царской охоты, где умирающие львы, обливаясь кровью, корчились на гранитных стенах. Лидочка устроила себе великий день прогульщика — она круглая сирота, купившая путешествие в настоящий Лондон и не подозревающая о социальных контрастах, об угнетении трудящихся, расовой дискриминации и прочих бедах развитого империализма.
Скорее случайно, чем по расчету, она забрела в китайский район за «Ковент-Гарден», даже пообедала в чистом, подчеркнуто скромном ресторанчике «Красный дракон». Она чуть было не купила по соседству в китайской аптеке полуметрового фаянсового человека, покрытого сыпью точек, указывающих иглоукалывателю, куда вонзать иглы.
Вернулась она с тяжелой сумкой — там была чудесная монография о Климте, два фунта черешни, крем для лица, дезодорант и много всего, отчего сумка стала почти неподъемной. Ей было лень тащиться на метро до вокзала, а потом еще от электрички — она взяла такси и совершила роковую ошибку. И не столько из-за того, что на счетчике набежало двадцать пять фунтов, а потому, что весь дом видел, как она расплачивалась с таксистом, который любезно поднес ей сумку до дверей.
Бледный Слава, не дожидаясь звонка, открыл дверь и сказал:
— Ты с ума сошла! Сколько это стоило?
Видно, ее проступок был столь страшен, что отогнал на несколько минут его собственные неприятности.
— Ты знаешь, сколько стоят приличные зимние сапоги? — спросила Валентина. — Меньше, чем твоя прогулка!
Лидочка перепугалась, завиляла хвостиком, сказала, что купила чудесную черешню, почти черную, собирайтесь в столовую, попробуйте.
Все собрались в столовой, Лидочка разделила черешню по мискам, и в гнетущей тишине Кошки мгновенно заглотнули ягоды и отключились, часто и дружно стуча косточками по фарфору.
Когда короткое пиршество подходило к концу, Иришка неожиданно спросила:
— Сколько заплатили за такси?
— Двадцать пять фунтов, — призналась Лидочка.
Василий Кошко скрипнул крепкими золотыми зубами.
— Молодец, — одобрила Иришка. — В следующий раз поедете, меня с собой возьмите.
— Я в Британском музее была, — сказала Лидочка.
Получилось глупо — словно Иришке не положено ходить в музей.
— Меня Роберт водил, — сказала Иришка, вовсе не обидевшись. — И еще мы ходили в галерею Тэйт. Вы там, наверное, не были.
— Не была, — улыбнулась Лидочка.
— Ирина! — одернул дочь Слава. Голос его дрогнул, словно Иришка допустила вопиющую бестактность.
Иришка удивленно поглядела на отца. И тут ее лицо побледнело, и приоткрывшиеся было губы, готовые возразить, сомкнулись. Иришка резко отодвинула миску с недоеденными ягодами и выбежала из комнаты.
— Спасибо, — сказал Слава.
Он вышел в коридор. Лидочке было видно, как он глядит вверх по лестнице, словно решает проблему, подняться ли следом за дочкой или пойти к себе.
Наконец он решился и ушел в кабинет.
— Чего это они? — спросила Валентина.
Василий пожал покатыми плечами. Валентина подвинула к себе миску Иришки и сглотнула оставшиеся ягоды.
— Спасибо, — сказала она. — Жарко сегодня.
Удивительно, что она догадалась поблагодарить Лидочку. Наверное, потому, что ей достались и Иришкины ягоды.
Третий вечер в Лондоне грозил снова стать скучным. От телевизора Лида была отрезана плохим настроением хозяина дома. Она принялась листать Климта.
За дверью послышались шаги — Слава поднимался к дочери. Хлопнула дверь. За стеной начали о чем-то шептаться.
— Эге-гей, Батькович! — возопил снизу Василий. — Ты телевизором пользуешься? Мы его поглядим!
Слава приоткрыл дверь и крикнул:
— Смотрите, пожалуйста. Потом выключите.
Лидочка быстро сбежала вниз и присоединилась к краснодарцам. Кошки смотрели сериал. Василий время от времени переводил кое-что Валентине. Но его перевод не имел отношения к тому, что происходило на экране. Внутри Василия происходило собственное творческое переосмысление сюжета, и Валентина признавала его за неимением другой версии. Лидочке они не мешали — даже интересно было сравнивать версию Василия с тем, что происходило на экране на самом деле. Например, как Василий, который считает инспектора полиции страшным убийцей или даже привидением и вкладывает в его уста угрозы и проклятия, выпутается в очередной раз.
Где-то через час спустился Слава. Он постоял в углу, глядя на экран и явно ничего не видя, потом ушел приготовить себе кофе, остальным не предложил, и Лидочка ощутила, что ее для него сейчас не существует. Потом он снова сорвался и убежал.
Когда Лидочка уже легла и читала перед сном, она услышала, что Слава куда-то звонит, вернее всего, в Москву. По лестнице простучали шаги Иришки — она присоединилась к нему.
«Завтра, — подумала Лидочка, — я снова от вас сбегу. Воскресенье — мой день. И мне нет дела до вашей тараканьей суеты». Почему-то Лидочке казалось, что все проблемы, что волнуют семейство Кошко, относятся к разряду тараканьих.
С утра она опять поднялась пораньше и, умывшись, побежала на кухню. На кухне, к ее крайнему удивлению, сидел Слава. Он нервно курил, а в блюдце перед ним лежало несколько окурков.
— Вы что, не спали? — вырвалось у Лидочки вместо приветствия.
— Не спалось, — ответил Слава.
Нет, он спал, волосы, оставшиеся на висках, были смяты, борода набок, мешки под глазами, обычно незаметные, набрякли.
Лидочка прошла на кухню, чайник был еще теплым. Она включила газ.
— Вам налить кофе? — спросила она.
— Да, спасибо.
Слава пил кофе, глядя перед собой и не желая встречаться глазами с Лидочкой. За последние сутки он сменил отношение к ней на противоположное, словно Лидочка чем-то его сильно обидела.
— Я хочу съездить к морю, — сказала Лидочка. — Как это лучше сделать? Поехать в Лондон или можно ехать дальше с нашей станции?
Слава сделал усилие, чтобы вникнуть в проблему. Потом с явным раздражением сказал:
— Поезжайте до Бромли. Все поезда, идущие к морю, там останавливаются.
— А долго ехать?
— Купите там расписание, — сказал Слава.
«Все, я в немилости, — поняла Лидочка. — Но за что?»
В столовую ворвались краснодарские Кошки. Оказывается, они собрались на бут-сейл — барахолку, на которую люди привозят ненужные в хозяйстве вещи, заполняя ими багажники — буты — автомобилей.
Валентина сказала, что мать Роберта, Снежана, обещала подвезти их до места. Она заедет в десять. Неужели Лидочка с ними не поедет? Это же такое приключение!
Лидочка сказала, что хочет съездить к морю.
На этот раз ее никто не укорил. Все уже стали привыкать к экстравагантности жилички.
Дойдя до платформы, на этот раз до той, где останавливались поезда из Лондона, она невольно поглядела на скамейку, где вчера сидел знакомый Геннадия. Конечно, сегодня его там не было, но сама скамейка испортила настроение. Что же творится? Какие неприятные известия Слава получил из Москвы? Лидочка была убеждена, что источник неприятностей находится именно в Москве.
Возвратилась Лидочка только вечером, страшно уставшая, но, как говорится, довольная. Она побывала в Рамсгейте, ела рыбу в ресторанчике над бухтой, густо уставленной яхтами, сидела на горячем песке, кормила чаек.
Вернулась она еще засветло. Дом опять был пуст.
Лидочка поднялась к себе. Она смотрела из окна на длинный газон, огражденный кустами. Предвечерний воздух был густ и сладок. Лидочке захотелось походить по траве. Она спустилась вниз, прошла через кабинет Славы. На диване валялись скомканные простыни, подушка упала на пол. Он даже не стал убирать за собой.
Лидочка вышла в сад.
Был сладкий для насекомых и птиц предвечерний час. Пчелы и шмели спешили выполнить план по нектару, трава была ровной и мягкой, но кое-где газон не мешало бы постричь. Видно, Слава собирался это сделать — под деревом стояла газонокосилка, которую никто не удосужился убрать в сарайчик.
Лидочка не стала бороться с желанием — она улеглась на спину в траву и стала смотреть на бесцветное перед закатом небо и кремовые паруса, замершие на нем. В соседнем саду, таком же длинном и узком, мальчики играли в бадминтон.
Паук-охотник пробежал по руке Лидочки. Руке было горячо и щекотно. Лидочка немного обгорела на море.
Зачем они сюда приходили? Оказывается, эта мысль и не покидала Лидочку, хотя она надеялась, что обо всем забыла.
Один из них наклонился, а второй стоял рядом, ждал, пока тот завяжет шнурок, и смотрел на дом.
«Почему человеку захотелось завязать шнурок именно на задах нашего дома?»
Лежать расхотелось. Лидочка поднялась и пошла по газону прочь от дома. По краям газона густо росла ежевика, отделявшая сад от соседних узких полос зелени. Три больших дерева стояли на границе сада, они перекрывали своими кронами большую часть газона.
Лидочка прошла под сенью старой липы, потом клена, видевшего еще маршала Веллингтона, наверняка охотившегося в этих местах на зайцев или лисиц, и замерла: самая настоящая лисица стояла в двадцати шагах от нее и смотрела на нее с удивлением, как на персону, не имеющую никакого права расхаживать здесь.
Потом лисица все же решила уступить и юркнула в кусты.
«Ну вот, стоило мне подумать о лисице, она прибежала. О чем бы подумать теперь?
А что тянет меня туда, где они стояли? Мне хочется найти там в траве шнурок от ботинка?»
Кусты, отделявшие сад от поля, сплелись так туго и густо, что пролезть сквозь них не было возможности. Но в углу сада была маленькая покосившаяся калитка. Столб и калитка, а вместо забора — кусты.
Лидочка толкнула калитку, та нехотя поддалась — ей пришлось проталкиваться по стеблям, оставляя сектор полеглой травы.
Лидочка вышла с участка.
Кусты с той стороны казались еще более густыми. Но Лидочка помнила, где останавливались наблюдатели.
Она склонилась в том месте, как будто была уверена, что они что-то потеряли у забора.
Лидочка раздвинула тугие ветки и увидела, что искала: небольшую, как старинная авторучка, тяжелую трубочку с проволочной сеткой микрофона с того конца, что был обращен к дому, и обрывком пластикового провода сзади.
Лидочка не сомневалась, что этот микрофон оставили здесь соотечественники, и эта мысль ее не обрадовала. Она не знала, взять ли ей микрофон с собой или оставить на месте. Надо было спросить у Славы — ведь это его сад оказался объектом внимания тех людей.
Размышляя, она услышала голос Славы. Тот стоял на открытой террасе сзади дома и кричал:
— Что вы там делаете?
— Сейчас покажу, — сказала Лидочка. — Идите сюда.
И тут же она подумала, что поступает неправильно, разговаривая возле микрофона, — он же все слышит, записывает и передает по начальству.
Слава нехотя спустился с террасы и пошел по газону.
Лидочка подняла микрофон, закрыла ладонью металлическую сеточку и вошла в калитку.
Но так как она не была уверена в способностях микрофона, то, потянувшись к уху Славы, прошептала:
— Вы молчите, ничего не говорите, только смотрите, что я нашла под вашим забором.
— Что это? — спросил Слава.
— Тише! Это же микрофон!
— Это ваш микрофон? — тупо спросил Слава.
— Как глупо! — рассердилась Лидочка.
Она быстро прошла к небольшому сарайчику и открыла скрипучую дверь (вот уж не думала, что в Англии так громко скрипят двери). Посреди сарайчика стоял бумажный мешок с белым удобрением. Лидочка энергично сунула микрофон внутрь и разровняла порошок.
— Теперь спокойнее, — сказала она.
— Вы объясните, что к чему? — спросил Слава.
— Я же вам говорила: тут ходили двое, я удивилась, что они тут делали, пошла и посмотрела. И нашла.
— Но зачем микрофон?
— Чтобы слушать!
— Зачем вам нас слушать?! — В голосе Славы звучало отчаяние. Он как-то искривился, словно под сильным ветром, и стал похож на фигуру помирающего с голоду крестьянина с какого-то плаката времен Гражданской войны.
— Мне совершенно не нужно вас слушать, — возразила Лидочка. — Но кому-то это представляется интересным.
— И вообще, что вам от нас нужно?! Зачем вы вторглись в наш дом?! Как будто и без вас мало неприятностей!
— Послушайте, Слава, я честно заплатила вашей маме за комнату. Мне, честно говоря, куда удобнее и приятнее жить в гостинице, чем варить вам суп, подметать пол и выслушивать постоянные скандалы. Я завтра же утром уезжаю в гостиницу. Так всем будет приятнее. А деньги вы можете мне возвратить, когда вам будет удобно. Но желательно завтра — мне же надо будет платить в гостинице.
— Какие деньги? — Очевидно, упоминание о деньгах повергло Славу в растерянность. Он ожидал чего угодно, признания, отрицания своей зловещей роли, слез и криков, но только не этого. — При чем тут деньги? Какие еще деньги? Вы приехали сюда, чтобы следить за нами, вы спелись с темными бандитами, только не воображайте, что мы вас боимся.
— Вроде бы мы договорились? — спокойно сказала Лидочка. — Я уезжаю завтра утром. Сейчас уже темно. Но если вы будете настаивать…
— Не будет он настаивать, — сказала от открытой двери в сад Иришка. — Он ничего не соображает. Фазер, пойми такую вещь: Лидия Кирилловна еще как-никак годится тебе в любовницы, но злодейка из нее совершенно никакая. К тому же у тебя, как всегда, нет ни одной копейки свободной. Я твою жадную натуру отлично знаю.
— Ирина, как ты смеешь! В такой момент!
— Момент как момент, — ответила Иришка и спросила Лидочку: — Кофе сделать?
— Да погодите вы со своим кофе! — вдруг рассердилась Лидочка. — Ты знаешь, что я нашла под вашим забором?
— Нет, я только что подошла, — ответила Иришка. — Я слышала только, как фазер давал вам отставку, забыв, с каким вожделением рассматривал ваше роскошное тело.
— Иришка! — уже без гнева попыталась остановить ее Лидочка, потому что в ситуации заключался черный юмор.
— Ирина, немедленно прекрати! — закричал Слава.
На соседнем участке англичанин включил газонокосилку. Может быть, он сделал это нарочно, чтобы не слушать, как эти иностранцы кричат друг на друга на своем варварском языке.
— Шестнадцатый год, как Иришка! — огрызнулась дочь.
— Загляни сюда, — поманила Иришку Лидочка. Та сунула нос в сарайчик. Лидочка достала из мешка с удобрениями микрофон с хвостиком.
— Откуда? — лаконично спросила Иришка.
Лидочка объяснила, почему ей пришло в голову выйти из сада и поискать в кустах.
Слава стоял рядом и всем видом изображал недоверие к любому слову Лидочки.
— Фазер, — сказала Иришка, энергично затолкав микрофон в мешок, — ты слышал о презумпции невиновности? В любом детективе о ней пишут.
— И что?
— Считай, что я распространяю ее на Лиду. Пускай в тяжелый момент она будет с нами, а не против нас.
— А микрофон? — спросил Слава, будто это и было главным обвинением против Лидочки.
— А микрофон я попозже занесу к Роберту. Его отец механик. Он в этом понимает.
Слава ушел из сада, не говоря ни слова.
— Не обращайте внимания, — сказала Иришка. — У него совсем нет интуиции. У меня ее тоже иногда не бывает. Я сначала, честно говоря, приняла вас за претендентку. Как в романе — на руку и сердце графа!
Кофе Иришка не приготовила. Она позвонила Ричардсонам, сказала Роберту, что ей нужно поговорить с его папой. Потом сбегала в синий от вечернего воздуха сад и вернулась с микрофоном, завернутым в носовой платок.
Лидочка была у себя. Ей казалось, что Слава должен подняться к ней и попросить прощения. Но он пил чай с родственниками. Лидочка не знала об этом и собралась все же сделать себе кофе. Она спустилась, толкнула дверь в столовую. Все трое сидели за круглым столом и разом оглянулись, словно она застала их за нехорошим делом.
— Простите, — сказала Лидочка. — Я хотела кофе сделать.
И вдруг неожиданно, словно с облегчением, Валентина приподняла свое налитое жиром тело, кинула его к двери на кухню и возопила:
— Конечно же, надо чайку выпить, чего же мы сидим, не ужинавши!
Лидочке сразу расхотелось пить кофе, но пришлось остаться в столовой. Кошки начали рассказывать, как они были на бут-сейле. Вот если бы оставаться здесь, то там замечательная мебель, почти новая за бесценок. Мы вам покажем, мы купили рамочки по полфунта, золотые, просто шик!
Слава некоторое время сидел надутый, как прежде, потом, не извинившись, ушел, а Валентина приоткрыла окошко в кабинет и спросила:
— Ты, Славик, будешь смотреть концерт или теннис?
Оттуда ответили невнятно.
— Ну ничего, — сказала Валентина. — Мы придем.
— Вы интересуетесь теннисом? — спросила Лидочка.
— Нынче даже президенты в теннис играют, — ответил Василий. — Перша игра на витчизне.
— Зачем ты так? — спросила Валентина и тут же сама объяснила: — Украинская таможня так лютовала, когда русские ехали. А если ты на ихней мове, то пропускают, что захочешь. Такие куркули коррумпированные!
«Если они знают о микрофоне, то сейчас спросят меня», — подумала Лидочка.
Кошки ни о чем не спросили.
Василий и Валентина излишне суетились и были разговорчивы, словно знали о Лидочке что-то дурное, а может быть, ей это показалось.
Но как только они выпили — Лидочка кофе, а блюдущие режим Кошки — чай, Валентина с Василием поспешили в кабинет, к телевизору, а Лидочка понесла недопитую чашку наверх.
Чем-то эти детишки взбудоражены и скрывают свои шалости от маленькой и чужой Лидочки. Но ей не нужны их секреты! Ей вообще вся эта компания скорее неприятна. Может быть, за исключением Иришки, существа неуравновешенного, даже злого, но по крайней мере понятного. Человеку надо кого-то любить. Иришка сейчас предпочитает любить маму, которая далеко. Вот мама приедет, и все изменится… «Какое счастье, что меня уже здесь не будет!»
В дверь постучали.
Вернулась Иришка.
— Я оставила микрофон у Роберта, — сказала она. — Его папа сказал, что это интересная и довольно дорогая штучка — такой микрофон снимает разговор со ста метров. Вы видели, как его поставили?
— Иначе бы я не пошла его искать.
— И вы не врете, что одного из этих людей в самолете увидели?
— Не вру.
Иришка села на край кровати. Она смотрела перед собой.
— Отец придет к вам, — сказала она. — Он тоже не думает, что вы какая-нибудь злодейка. Просто вам дела нет до наших бед.
— А что за беды? — удивилась Лидочка.
— Она… Алла… Мама решила приехать раньше. Она чего-то хочет. Фазер весь в психе.
— Но я тем более могу помешать…
— Вы не мешаете. Вы нормальная. Это я дура, что на вас бочку катила. Нет, лучше, чтобы вы остались. Как буфер, как свидетель.
— Твой отец этого не хочет.
Иришка не отвечала. Она плакала по-взрослому, замерев, только слезы катились по щекам.
Потом она убежала.
Из коридора она хрипло сказала:
— Я вас очень прошу!
И хлопнула дверью — спряталась в своей норке. Через час постучал Слава. Он втиснулся в узкую, как раз по нему, щель, но входить не стал.
— Я все обдумал, — сказал он. — Лучше, если вы останетесь. И вы должны меня понять. Меня всюду выслеживают! Почему я должен был думать, что вы не из их компании?
— Я не из их компании. Но ничего доказывать я не буду.
— Иришка вам верит.
— Завтра я уеду в гостиницу.
— Я обещаю, что это не повторится, — сказал Слава. — Но если вы так хотите, то конечно.
Он закрыл за собой дверь и тихо пошел вниз.
Глава 10
На следующее утро Лидочка собиралась уходить на поиски дома, и телефонный звонок застал ее в коридоре. Она автоматически протянула руку и дотронулась до трубки. Забылась.
Но трубку не сняла. И потому злобный окрик Славы:
— Не смейте трогать! Это меня! — застал ее с протянутой рукой.
— Я не трогаю, — виновато сказала Лидочка.
Слава оттолкнул ее. Он был бледен, руки тряслись. Напился с утра, что ли?
Головы краснодарских родственников торчали из дверной щели. Чутье у них было звериное. Челюсти мерно двигались, пережевывая толстые шматки сала. Наверное, так смотрят коровы на бегущего мимо волка. Смотрят в ужасе, но жевать не перестают.
Славе волей-неволей пришлось говорить в окружении слушателей. Он накрыл трубку горсточкой.
— Да, — сказал он. — Да, это я. Конечно, я! Какой рейс? Значит, в Лондоне… В это время жуткий трафик! — В голосе прозвучали жалобные интонации.
Потом была короткая пауза. Настолько короткая, что Лидочка не успела уйти, и ей пришлось выслушать конец разговора.
— Но почему так срочно? Ведь мы же договаривались… Нет, конечно, я понимаю, что в моих интересах. Но я как-то не готов… Конечно, встречу. И Иришка будет.
Слава положил трубку осторожно, как неразорвавшуюся гранату.
Он тупо смотрел в стену, но, видно, был не настолько огорчен, чтобы не понимать, что стоит в прихожей не один. Не оборачиваясь, он сказал:
— А Бог располагает.
Эти слова послужили сигналом для родственников. Василий, не переставая жевать, спросил:
— Она звонила?
— А? Что?.. Она звонила, — согласился Слава.
— Та она ж через две недели обещалась приехать, — сказала Валентина.
— Вот именно.
«Ну, теперь я спокойно могу переехать в гостиницу. Места не хватит», — подумала Лидочка.
— Она нас попросить может, — сказал Василий.
— Вряд ли, — ответил Слава. — Оставайтесь.
— А мы думали, уедем — твоя Алла и приедет, — сказала Валентина. — А то они порядки начнут свои наводить. Права предъявлять.
— Нет, — сказал Слава тихо. Потом повторил решительнее: — Нет!
Поглядел в сторону двери, увидел смущенную Лидочку.
— Я уже вчера знал, что она решила приехать раньше, — сказал он, сглотнув слюну. — А вот сейчас точно сказала. Рейс и время. Послезавтра. Нет, не говорите, Лидия. Я еще вчера вас просил — останьтесь. Мне нужно, чтобы остался один нормальный человек в нашем сумасшедшем доме.
Сверху спускалась Иришка. Она была в халате, на голове небольшое неопрятное гнездо. Не намазана, отчего глазки казались маленькими.
— Что? — спросила она громко. — Она приезжает?
— Послезавтра, — ответил отец.
— И что же ее подтолкнуло? — задумчиво произнес Василий. — Что ее обеспокоило?
Почему-то краснодарские родственники повернулись к Лидочке. Может, они в самом деле думали, что Алла заподозрила Лидочку в далекоидущих планах.
Когда к вечеру Лидочка вернулась домой, осунувшийся Кошко сидел на кухне. Он окликнул ее и затащил пить чай.
— Лидия Кирилловна, — сказал он, вспомнив, что у Лидочки есть отчество, — я хочу настойчиво попросить вас от своего имени и от имени Иришки. Оставайтесь у нас. Место есть. Мы для моей бывшей супруги очистим большую спальню на втором этаже. Я так и предполагал. Никому вы не помешаете. А в нашем сложном положении мне нужна ваша поддержка. Вы такой надежный человек, Лидия Кирилловна. В конце концов, вам недолго потерпеть. И она тоже побудет и уедет. Я вам слово даю.
«Господи, — подумала Лидочка, — на нем лица нет. Приезд Аллы, тем более происходящий в таком форс-мажорном темпе, совершенно выбил его из колеи. Он боится ее! Он боится, что она залезет к нему в постель и заставит выполнять супружеский долг. И тогда у него остается одно спасение — кричать Лидочке: спаси, будь свидетелем, что я не хотел!»
Лидочка оборвала нить своего воображения.
Тем более что Слава умудрился перевести разговор в совершенно неожиданное русло.
— К тому же, — сказал он, — сумма, которую вы заплатили моей маме, значительна для нас. У нас каждый фунт на счету. И, наверное, мама уже все растратила. Она же такая мотовка!
И он криво усмехнулся.
Лидочка ничего не стала обещать, а ушла к себе.
Следующий день прошел без особых событий, если не считать того, что Иришка с отцом чистили и приводили в порядок большую спальню на втором этаже, а Валентина нарвала в саду разных цветов. Получился не лишенный нечаянной прелести веник, который засунули в банку из-под перца. Валентина хотела украсить этим букетом спальню, но Иришка перенесла его вниз, к телефону, и Лидочка ее поняла.
Тучи, застилавшие чело хозяина дома, не разошлись. Он больше не разговаривал с Лидочкой, но Иришка вечером у телевизора, когда все смотрели «Дорогу» Феллини, которая, к счастью, не требовала перевода, вдруг дотронулась до ее локтя и прошептала:
— Вы не уедете? Я так боюсь гражданской войны!
Лидочка хотела заснуть пораньше, погасила лампу, но не спалось. Ночи в Пендж-хаузе тихие, собаки здесь по ночам не брешут. Поэтому шорох в кустах и приглушенный возглас Лидочка услышала явственно, словно в комнате.
Может, потому, что она ждала чего-то подобного. Нетрудно было сообразить, что люди, установившие с какой-то целью микрофон, захотят узнать, почему он не функционирует. Может, вороны его утащили?
Лидочка поглядела на часы.
Половина первого. В доме уже спят. И если специально не слушать шум в кустах, то его и не услышишь.
Лидочка поднялась и подошла к открытому окну.
Она была права — за кустами на фоне освещенного луной футбольного поля двигались, исчезали и возникали вновь человеческие фигуры. Там искали пропавший микрофон.
На этот раз у Лидочки не возникло желания окликнуть их.
Значит, последние надежды на то, что микрофон оказался в кустах случайно, развеялись. Впрочем, их и не было.
Искали они долго, но старались не шуметь. Ушли, перешептываясь, а вскоре перешли на нормальный тон, и до Лидочки донеслись вполне русские и совершенно неприличные слова — видно, результаты поисков их глубоко разочаровали.
Лидочка не была уверена в том, что поступила правильно, убрав из кустов микрофон: может, лучше было сделать вид, что обитатели дома ни о чем не догадываются? Но как это объяснить Славе?
Лидочка заснула совсем поздно и на следующее утро все проспала — и отъезд Славы встречать свою бывшую жену, и суматоху, связанную с этим отъездом.
Она поднялась в десятом часу. За окном шумело птичье утро, а в доме было тихо.
Спустившись, Лидочка обнаружила краснодарских Кошек в столовой. Валентина гремела посудой на кухне, Василий устанавливал на столе бокалы. Там уже стояла бутылка шампанского.
— Ну и как? — спросила Валентина, заметив Лидочку.
— Подготовка к встрече законного наследника престола, — сказала Лидочка.
Почему-то ее слова обидели Василия.
— Мы вам повода не давали, — сказал он, выпятив трубочкой красные губы.
— Она и не хотела обидеть, — сказала Валентина. — Правда?
— Правда, — согласилась Лидочка. — Вы уже завтракали?
— Мы сегодня все вместе встали. Славик с Иришенькой на аэродром поехали, как договаривались. На его машине. А мы вот ждем.
— Значит, они через час приедут?
— Самолет вовремя прилетает, мы уже звонили, — сказала Валентина.
— Тогда я себе кофе сделаю и пойду по делам.
— Нет, нет! — замахала руками Валентина. — Ни в коем случае! Славик специально просил, чтобы вы их подождали.
— Зачем?
— Зачем? — Валентина обернулась за поддержкой к мужу.
Тот поддержки не оказал.
— Ну, так принято, — неуверенно сказала Валентина. — Алла приезжает. Все же как бы хозяйка…
— А я платная жиличка, — сказала Лидочка.
Она пошла на кухню приготовить себе поесть. Холодильник был пуст. Конечно же, об этом пустяке забыли.
— А вы хорошо знали Аллу? — спросила Лидочка.
— Мы были в Москве, приезжали лет десять назад, — сказала Валентина. — У них остановиться было негде — квартирка маленькая. А они втроем. Мы у Марксины Ильиничны стояли. Мы фотографии смотрели.
— Эффектная женщина, — добавил Василий.
И Лидочка поняла, что Аллу они почти не знают, может, и не видели никогда. Алла же не уделила им должного внимания. И вернее всего, они ею остались тогда недовольны. А сейчас почуяли, что она может вновь вернуться в хозяйки дома, на этот раз заграничного. Это их встревожило и расстроило.
Лидочка пила кофе со вчерашней горбушкой.
— Я схожу в магазин, — сказала она, — а то неловко, встретить нечем. Человек приедет в пустой дом.
— Славик вчера шампанского купил! — отпарировал Василий.
— Да, у нас с этими заботами, ожиданиями, — сказала Валентина, — просто руки опускаются иногда.
Василий вдруг обиделся.
— Не надо нас упрекать, — сказал он. — Я ведь вижу, что вы на нас как на украинских куркулей смотрите. А у нас каждая копейка — заработанная, каждая на счету. Вы думаете, что наш Славик хоть копеечкой с нами поделился? Правда, за комнату он с нас не берет. А куда, скажите, ему свои тысячи-миллионы девать? Куда?
— Вася, ну ты уж совсем за рамки вышел, — остановила его жена.
— Я нарочно в «Сэйфуэй» не пошел, — продолжал разошедшийся Василий. — Из принципа. Если ты желаешь унижаться и эту низменную особу к себе пригласил, то и корми ее! Разве я не прав? Сколько она горя ему причинила, сколько он из-за нее слез пролил! А как можно было девочку свекрови подкинуть?
— Все забывается, — сказала Валентина. — Теперь уж и Иришке кажется, что мамочка ее добрая, хорошая. Она ждет ее не дождется. И Славик только хорошее вспоминает. Все как дымкой заволокло. Ты меня, Лидия, понимаешь?
— Да, — согласилась Лидочка.
— Он растерялся, что двух недель на подготовку не оказалось. Но увидит — растает. А она жестко возьмется. Это, скажу я тебе, фигура!
Лидочка взяла кошелек и собралась в магазин. Но стоило ей открыть входную дверь, как у дома остановился голубой «Воксхолл». Получилось, будто Лидочка поджидала под дверью приезда августейших особ. И распахнула дверь им навстречу.
Но не закрывать же дверь. Она так и стояла, глядя, как отворилась задняя дверца. Первой из машины вышла высокая, статная молодая брюнетка и спросила:
— Это и есть наше палаццо?
И Лидочка, так как ответить более было некому, сказала:
— Наверное.
Женщина удивленно посмотрела на нее, ожидая разъяснений. В это время распахнулась дверца со стороны тротуара, за рулем сидел Слава. Он вылез из машины. Иришка побежала открывать багажник.
— А вот и наша Лидия! — громко сообщил Слава.
Лидочка послушно кивнула.
— Очень приятно! — Все внимание Аллы переключилось на Лидочку. Она направилась к ней, протянув полную красивую руку. Утренние солнечные лучи падали на нее сквозь листву и лепестки роз.
С первого взгляда Алла Лидочке понравилась. Куда больше, чем со второго или с третьего.
Ты никогда не видишь человека в первую встречу таким, каким будешь видеть его в последующие годы. Перемены могут быть к худшему или к лучшему, но они обязательны.
Сначала Алла показалась Лидочке значительнее, чем была на самом деле, даже царственней.
Может, это происходило от ее замедленных, размеренных движений на фоне суеты, поднятой ее дочкой и бывшим мужем.
Лидочка не старалась специально разглядеть героиню этого романа, но вынуждена была отметить замечательный цвет кожи, чудесные густые волосы, яркие, будто наполненные слезами, серые глаза.
Очевидно, если бы первым эту женщину разглядывал мужчина, он бы обратил внимание на иные черты лица и тела. Он бы увидел высокую грудь, крутые, широковатые бедра, замечательную линию крепких, прямых ног. Цвет лица он мог бы и упустить.
Второй взгляд, который Лидочка позволила себе уже внутри дома, дополнил первое впечатление тем, что лицо Аллы несло на себе печать грубости, приятной легковозбудимым мужчинам, подбородок крупноват, губы поджаты.
Внимательный мужчина отметил бы со своей стороны, что пальцы рук коротки, а щиколотки и кисти толстоваты.
Глаза были яркими. Величина же их достигалась скорее умелым наложением туши. И тенями вокруг.
Впрочем, Алла была хороша и уж тем более хороша рядом со своим бывшим мужем-кузнечиком и дочкой, которая унаследовала от родителей худшее: от матери — тяжесть костей, массивность конечностей и маленькие глаза, а от отца — слишком длинный, краснеющий от волнения и холода нос, тонкие губы и узкие плечи.
— Я тебе говорил. — Слава продолжал суетиться перед бывшей женой.
Иришка стояла у машины, держа чемодан, и не делала попытки пройти к дому. Лидочка подумала, что в ее перманентной революции наступает новый этап — противостояние с матерью.
— Я тебе говорил, что Лидия Кирилловна остановилась у нас на три недели. Она живет в маленькой комнате наверху, нас совершенно не стесняет!
Этого еще не хватало!
— Привет! — Алла пожала руку Лидочке. Рука была теплой, потной, мягкой. — Надеюсь, что мы подружимся. Если вы моего Славика уводить не будете… Чего смотрите? Мы разве раньше встречались?
— Нет, — сказала Лидочка, — где же?
— И я так думаю.
— А вот и мы! — крикнул из коридора Василий.
— Это еще что за фрукты? — спросила Алла у Славика.
— А это мы! — откликнулся Василий, не сделав попытки выйти из дома.
Лида отступила в сторону, чтобы родственники могли встретиться, но никто не спешил.
— А это Василий и Валентина Кошко из Краснодара. Ты должна их помнить, они к нам еще лет десять назад приезжали.
— Ну почему я должна их помнить? — вдруг обиделась Алла, глядя на Славу и не делая попытки приблизиться к краснодарским Кошкам.
— Так то ж! — Валентина выплыла из дома и проследовала к Алле с руками, распростертыми для объятия. — Ты совсем не изменилась, только похорошела, коханая ты наша!
Алле ничего не оставалось, как сдаться под напором родственницы. Краем глаза Лидочка глянула на Иришку. А та все стояла у машины, держа в руке чемодан.
Перехватив взгляд Лидочки, Слава крикнул дочке:
— Закрой багажник и неси чемодан сюда. Сколько тебе можно одно и то же говорить!
Иришка захлопнула багажник и понесла чемодан к дому. К тому времени Валентина кончила обниматься с Аллой, и они вошли внутрь.
Следом за женщинами в дом вошел Слава.
Замыкали процессию Лидочка с Иришкой.
— Ну как? — спросила Лидочка. — В аэропорту все прошло нормально?
— А что должно было быть нормально? — почему-то огрызнулась Иришка.
Лидочка не смогла ответить.
Они вошли в дом. Лидочка слышала, как Слава объясняет:
— Твоя комната на втором этаже. Это так называемая большая спальня, или мастер-бедрум.
— Как? — послышался голос Аллы.
— Хозяйская спальня. Здесь должны спать хозяева дома.
— А ты где спишь? — спросила Алла.
— Внизу в кабинете.
— Боишься, что я тебя трахну?
— Тебя не было, — мирно ответил Слава, не поддержав грубую шутку.
Потом они вошли в спальню, и голоса превратились в неясный шум.
Алла, судя по всему, не стеснялась родственников и дочери, и никакой робости в ее поведении не ощущалось. В дом вошла хозяйка — никакого сомнения в том не оставалось.
По лестнице протопала Валентина и с полдороги закричала:
— Все вниз, все вниз! Шампанское на столе! — Крик был таким бодрым, словно разносился по просторам пионерского лагеря.
— Идем, идем! — не менее бодро откликнулся сверху Слава.
Слышно было, как на лестничной площадке сопротивляется ему Алла:
— Дай мне хоть нос попудрить! Где здесь сортир?
Хлопнула дверь. Слава тут же толкнул дверь к Лидочке.
— Вы еще здесь? Прошу вниз, надо отметить.
— Все в порядке? — спросила Лидочка.
— А как же может быть? Как же может быть?
Лидочка поднялась и подошла к двери. Слава уже бежал по лестнице вниз. Алла вышла из ванной.
— Что-то мне ваше лицо знакомо, — сказала она.
— Клянусь, Алла, это вам только кажется, — ответила Лидочка.
— Ладно, если вспомните, скажите, мне даже интересно. Вы надолго?
— Еще недели две, как пойдут дела. Но я уже говорила вашему мужу, что могу переехать в гостиницу.
— Не надо, живите, — сказала Алла. — Я тут такая же бесправная, как и вы. Может, даже больше бесправная. Бывшая жена… понимаете, как это звучит?
— Вы — мать его любимой дочки.
— Вам в самом деле так кажется? — спросила Алла более заинтересованно.
— Да, я в этом уверена.
— У нас с дочкой нет близких отношений. Вы же знаете, вы деньги ее бабушке платили.
— Вы об этом знаете?
— И сколько заплатили, знаю. Мне все доложили.
В столовой уже собрались все Кошки.
Василий открыл бутылку и разливал шампанское по бокалам. Иришка стояла в углу, за спинами, и переводила взгляд с Лидочки на мать, словно не ожидала, что они сюда придут.
Слава подхватил со стола два бокала и повернулся к Алле с Лидочкой.
— За прекрасных дам! — воскликнул он.
Его собственный бокал еще не был полон, и потому, отвернувшись к столу, он замер спиной к прекрасным дамам, ожидая, пока бокал наполнится. Пена потекла на стол.
— Вот наш теремок и населился, — сказал Василий. — Все чистые и нечистые наполнили его до бортов.
— Придет медведь и сядет на него, — сказала Алла. — Шутка!
— Вот именно! — согласился Слава. — А у тебя, Иришка, есть бокал? Тогда выпьем за здоровье твоей мамы. За Аллу, за Аллочку, чтобы все с ней было хорошо, чтобы она была здорова и счастлива!
Он потянулся бокалом к Алле, и все по очереди начали чокаться с молодой женщиной.
Алла сделала шаг вперед, принимая поздравления, а Лидочка женским нелицеприятным взглядом отметила, что над бедрами у Аллы уже наросли валики жира.
— Спасибо за встречу, — сказала Алла. — Наконец-то мы встретились под крышей этого дома. И я надеюсь, что все будут довольны. Ура!
— Ура!
Крики получились громкими, словно каждый вкладывал в крик свое желание, которым совсем не обязательно было делиться с окружающими.
— А теперь отдохни с дороги, — сказал Слава после паузы, так как никто не знал толком, что же сказать. — Ведь завтраком тебя кормили в самолете?
— Завтракать не буду, — сказала Алла. — Но переоденусь, а потом пойду в город, погуляю.
— Я составлю тебе компанию, — предложил Слава.
— Там посмотрим.
И тут зазвонил телефон.
Почему-то этот звонок произвел на всех ошеломляющее впечатление. Как появление ревизора в комедии Гоголя.
Василий даже уронил бокал — к счастью, только на стол, и накрыл его, как накрывают ладошкой убежавшего жука.
Никто не спешил взять трубку. Все стояли, обернувшись к двери, и слушали, как звонит телефон, по-английски, сдвоенными звонками.
И тогда Лидочка, поняв, что, если она не возьмет на себя инициативу, немая сцена продлится до самого занавеса, быстро пошла в коридор и взяла трубку.
— Алло, — произнесла она нечто среднее между английским и русским приветствием.
— Привет, — ответил в трубке женский голос. — Это кто? Иришка? Лида?
— Лида.
— Привет, Лидочка, не узнаешь, что ли. Это Галина, подруга Аллы. Ну, помнишь, мы с тобой разговаривали?
— Помню. Добрый день.
Лидочка чувствовала, как за ее спиной все стоят, не дышат, слушают, о чем она говорит, и стараются угадать, с кем.
— Ну и что нового?
— Вы очень вовремя позвонили, — сказала Лидочка. — Ваша подруга только что приехала.
— Ой, ну и везет же мне! А ну давай мне ее сюда, конспираторшу! Я ей врежу по первое число!
— Алла, — сказала Лидочка, — это вас.
— Кто? — спросила Алла глухо.
— Кто? — Слава почти закричал. — Никого быть не может! Я никому не говорил, что ты сегодня приезжаешь. Это какая-то ошибка…
— Это Галина, — объяснила Лидочка. — Ваша подруга Галина. Она уже звонила, спрашивала.
— Какая еще Галина? — спросила Алла, не двигаясь с места.
— Мама, — сказала Иришка, — это твоя Галка. Ты что, забыла? Она же в Лондоне живет.
— А… Галина… — Алла словно проснулась.
Василий и Валентина отпрянули, освобождая Алле дорогу к телефону. Лидочка стояла, протягивая трубку.
— Может, я скажу, что ты в ванной? — спросил Слава.
— Я подойду, — сказала Алла. — Ничего, я подойду.
Лидочка передала ей трубку.
Алла сразу же отвернулась от нее.
Все отступили из прихожей и втянулись в столовую, будто разговор был секретным.
Лидочка отошла к лестнице — больше ей отступать было некуда.
— Да, — сказала Алла, — привет. Да, это я… Только с самолета, совершенно простужена. Еле живая. Сейчас помоюсь и спать… Да, конечно, я буду рада… Сегодня? Вечером? Знаешь что, оставь мне свои координаты, адрес, телефон, мне же надо их иметь…
Алла обернулась.
Лидочка догадалась, что ей нужно. Она знала, где на длинном столе лежит карандаш, наклонилась и протянула его Алле. Вместе с блокнотиком.
— Ну, говори… Да я говорю же тебе, что простудилась! Нормально все будет, нормально. Вот приедешь и убедишься!
Она записала телефон и адрес.
— Значит, до вечера? Я тебе звоню. А днем где будешь? Работаешь? Какая школа? Ну ладно, до вечера… — Она положила трубку и повернулась к напряженно глядевшим на нее родственникам. — Ну что уставились? Все свободны!
Глава 11
Девица, приехавшая в Москву из пригородного домика завоевывать мир, простая, пошлая и наглая, за много лет спряталась в Алле довольно глубоко. Но неожиданно она выглянула наружу и оскалилась.
И, самое интересное, почти все, кроме Лидочки, подчинились окрику и отступили.
Алла сверкнула глазами в сторону Лидочки.
Глаза были черные, южные, острые.
Волосы у Аллы у корней, где сошла краска, были почти черными, а дальше модного розовато-желтого цвета.
Лидочка встретила взгляд Аллы. Она не любила играть в гляделки, но и отводить взгляд было стыдно — словно капитуляция в волчьей стае.
— Чего она здесь делает? — спросила Алла у Лидочки.
— Вы у нее и спросите. В конце концов, она ваша подруга, а не моя.
— Только старых подруг мне еще не хватало! — в сердцах воскликнула Алла.
— Так сказали бы ей об этом, — пожала плечами Лидочка.
— Вас это не касается, — вспыхнула Алла и повернулась к мужу: — Где мой чемодан?
— Я отнесла в спальню, — ответила Иришка.
Алла решительно направилась на второй этаж.
— Наступают перемены в тихой сельской жизни, — вдруг сказала Иришка. — А то мы тут разжирели.
— Не говори глупостей, — сказал Слава, который, стоя под лестницей, решал проблему — подниматься следом за Аллой в спальню или остаться внизу.
— Пошли, телевизор посмотрим, — сказала вдруг Лидочке Валентина, словно последние события их как-то сблизили.
И все, если не считать Иришки, которая побежала в свою комнату, потянулись в кабинет к Славе.
Хозяин кабинета последовал за ними. Слава подошел к телевизору, включил его и уселся напротив. По телевизору шли последние известия, в основном касающиеся различных событий в палате общин, а также рассуждений простых англичан относительно угрозы взрывов со стороны ИРА. Все послушно и молча смотрели в телевизор. Причем Слава понимал через пень-колоду, а краснодарские Кошки уж точно ничего не понимали. Но создавалось впечатление, что идет какая-то игра, в которой у всех, кроме Лидочки, есть свои роли. А она даже не знает, какова цель этой игры.
Заглянула Иришка.
Увидела, что все смотрят последние известия, вошла в комнату, села на ковер и тоже стала смотреть телевизор. Словно ее мать и не приехала только что из Москвы. Словно праздник, который должен был начаться в семье, по какой-то причине отменили.
Слава повернулся к дочери и спросил:
— Что она делает?
— Переодевается, — ответила Иришка.
— Зачем?
— Сама скажет.
В этот момент в коридоре послышались неуверенные шаги. Остановились. Их заглушили голоса с экрана.
— Твоя мама не знает, — заметила Лидочка, — где нас искать.
— Алла! — крикнул Слава. — Мы здесь.
Та вошла. Она была в белом платье с широкими подложенными плечами, желтые волосы взбиты. Она была красива, как степная царевна.
— Я поехала в город, — сказала она.
— Как так? — удивился Слава. — Ты же совсем не отдохнула.
— Неужели ты думаешь, что я приехала сюда, чтобы, как вы, сидеть у телевизора? В Москве программ не меньше!
— Я тебя провожу? — спросил Слава, не вставая с дивана.
— Подвези меня в центр, — сказала Алла.
— Только у меня бензина мало, — признался Слава.
— А что, заправки закрыты? Выходной? Забастовка?
— Нет, я так сказал… — тоскливо пробормотал Слава и спросил: — Мы сейчас едем?
— Сейчас, — отрезала Алла.
Слава поднялся и сказал Иришке:
— Я скоро вернусь. Не хочешь мне компанию составить?
— Нет, — сказала Иришка решительно. — Я обещала Роберту, что мы с ним в бассейн поедем, в Кенсингтон.
— Ты мне потом покажешь бассейн, — сказала Алла. — Надо форму держать.
— Здесь недалеко.
— Ну, пошли? — спросила Алла.
Слава встал и покорно направился к выходу. Лидочка услышала, как в коридоре Алла спрашивает у бывшего мужа:
— А трудно на левостороннее переучиваться?
— Не знаю. Я здесь учился ездить.
Хлопнула дверь.
И как будто всем сразу стало легче. То ли виноват был характер Аллы, который остальные почувствовали чутьем, то ли она не так себя вела. Но стоило ей уйти, как все вышли из гостиной и занялись своими делами. Лидочка в очередной раз двинулась к двери, но ее перехватил телефонный звонок. Лидочка взяла трубку.
Звонила Марксина Ильинична.
Она сразу узнала Лидочку.
— Как вы живете? — спросила она. — А то ведь мой бережливый никогда матери не позвонит. Они вас, Лидочка, не обижают? Вы не поддавайтесь.
— Как у вас дела?
— Все хорошо, не болею, если не считать радикулита. Ты скажи, моя бывшая невестка приехала?
— Час назад.
— Все в порядке?
— В полном порядке.
— Уже берет вас в руки?
— Не знаю, — ответила Лидочка. — Они с Вячеславом Андреевичем поехали в город.
— Как на нее похоже! Она из тех женщин, которые, входя в дом, первым делом спрашивают: «А где у вас сортир?» Ей все время надо сделать по-маленькому.
«Господи, как же она ее не выносит», — подумала Лидочка.
— А как Иришка ее встретила? — спросила Марксина Ильинична.
— Я не была на аэродроме, — сказала Лидочка. — Они ее встречали вдвоем с отцом.
— Я так боюсь, — вдруг сказала Марксина Ильинична.
— Чего? — не поняла Лидочка.
— Слишком много разных характеров под одной крышей. И любви между ними нет. Есть соперничество за Иришку, притом что оба — стяжатели. Я имею в виду Славика и Аллу. Как бы она не попыталась его снова заграбастать.
— А Иришка здесь, — переменила тему разговора Лидочка. — Позвать ее к телефону?
— Она не поехала с ними в город?
— Вот она, уже берет трубку.
Иришка догадалась, с кем говорит Лидочка. Она схватила трубку. Иришка искренне обрадовалась бабушке и, совсем как девчонка, принялась болтать о каких-то московских делах.
Когда Лидочка возвратилась из Бромли, все уже собрались дома.
Но, видно, разбежались по своим уголкам — по крайней мере, в столовой и на кухне было тихо и пустынно. Чем они тут питались, неизвестно. Впрочем, и не так важно. Лидочка поняла, что ей надоело быть патриотом. К тому же она неплохо перекусила на втором этаже современного торгового лабиринта «Глэдис», где выпила две чашки капучино и съела пиццу с грибами.
Но, видно, надо будет договориться, как дальше питаться в доме. Ведь встают же люди утром, завтракают, едят перед сном, пьют чай… Да, конечно, у каждого в комнате есть свой шмат сала, но ведь шмат не бесконечен.
Дверь Лидочке открыл Слава и сообщил, что Алла отдыхает. Он запер дверь и отошел в глубь дома, к лестнице.
— Вы были в городе? — спросила Лидочка.
— Алла пока плохо говорит по-английски, — сказал Слава. — Я отвез ее к Вестминстерскому аббатству, где ей нужно было с кем-то встретиться. Мы договорились, что я подберу ее там же через два часа. Но такие трудности с парковкой, вы не представляете! Машину пришлось оставить у нового Скотленд-Ярда. Оттуда пошел пешком. В общем, обошлось.
— Алла ходила в Вестминстерское аббатство?
— Откуда мне знать! — отмахнулся Слава.
На лестнице появилась Алла. Сначала нижняя часть ее тела — ноги в джинсах. Потом Алла наклонилась, стали видны желтые кудри.
— Ты о чем тут разговариваешь? — спросила она строго.
— О нашей поездке, — ответил Слава.
— Ваша мама звонила. — Лидочка повернулась к Славе. — Спрашивала, как долетела Алла.
— И что вы ответили?
— Ну что я должна была ответить? — удивилась Лидочка. — Что Алла в добром здравии. Потом с ней Иришка разговаривала.
— О чем? — резко спросила Алла.
Иришка ответить на этот вопрос не могла — она еще не вернулась от Роберта.
Затем Алла устроила Славе в его кабинете небольшой, негромкий, но по-своему справедливый скандал, который Лидочка целиком выслушала из своей комнаты, так как ее окно было открыто, а Алла со Славой ссорились у двери в сад.
Алла требовала пищи и настоящего домашнего хозяйства.
— А мне плевать, — сердилась она, — на то, кто тратит деньги на жратву и кто готовит! У тебя полон дом баб. У тебя самого и руки есть, и машина, и бабки.
— Какие бабки? — не понял Слава. Видно, отстал от российских выражений.
— Зеленые, — ответила Алла. — Или какого они тут цвета? Ну, деньги, деньги, не изображай из себя наивного зайчика!
— Я попрошу Валентину взять это на себя.
— Валентина половину денег заграбастает.
— Тебе-то откуда знать?
— Ну уж знаю! Я вообще знаю о твоих родственничках больше, чем тебе хотелось бы. Лучше кинь на обслугу эту выдру.
— Какую выдру?
С неприятным чувством Лидочка догадалась, что речь идет о ней. И что делать? Захлопнуть окно, чтобы отрезать звуки?
— А, эту… Невозможно. Она не имеет к нам отношения. Она заплатила маме за комнату.
— Учти, она на этом крупно сэкономила. Пускай потрудится или едет в гостиницу, где с нее будут брать сотню фунтов в день.
— Я попрошу ее. Но, может, тебе лучше поговорить с ней самой?
— С чего это? Я ее в первый раз вижу.
— Ладно, я завтра с утра схожу в магазин. А потом… потом посмотрим. В конце концов, неужели это так важно?
— Для нормального функционирования заведения надо, чтобы шлюхи были сыты и здоровы, понял?
— Алла!
— Не бойся, не буду тебя насиловать, — хрипло засмеялась Алла, — не пришло время. Смейся, паяц, над разбитой любовью! А что у тебя по телеку?
— Я как-то не посмотрел программу…
Внизу зазвонил телефон. Лидочке его не было слышно, но Алла в кабинете услышала.
— Телефон. Тебя, наверное, — сказала она. — Беги.
— У меня здесь отводная трубка есть, — ответил Слава.
После короткой паузы Слава сказал:
— Это снова тебя.
— Кто?
— Галина. Твоя лучшая подруга.
Почему-то Слава засмеялся.
— А, это ты, Галчонок! — сказала Алла. — Узнаю, узнаю. Ну, что ты решила? Во сколько поедешь? Отлично. Я сейчас тебе Славика дам, он объяснит, как добраться.
Через несколько секунд Лидочка услышала, как Слава объясняет Аллиной подруге Галине, как до него добраться: вокзал Виктория, поезд до Орлингтона. Поезда идут каждые полчаса. Сейчас сколько? Шесть двадцать? Хорошо, на поезд ноль-семь успеваешь? Нет? Ну тогда на семь сорок. Выходи на «Пендж-хауз». Мы тебя встретим на платформе. Садись в последний вагон.
— Она хотела на машине приехать, с мужем, но что-то случилось с мотором, — сказал Слава, повесив трубку.
— А как же она обратно поедет?
— Такси вызовет.
— Или останется на ночь, — сказала Алла. — Я ее уговорю остаться.
— Если она захочет. А ты хочешь, чтобы она приехала?
— Разумеется, я ее давно не видела. Сколько я ее не видела?
— Она в том году в Москву приезжала.
— Ну конечно, а мне казалось, что уже два года прошло. Ладно, с Галкой проехали. Хотя, честно говоря, не представляю, о чем буду с ней говорить. Мы же фактически чужие люди.
— Вы были с ней так близки! — возразил Слава. — И я думал, что в Лондоне она станет твоим проводником и помощником. По крайней мере, она была счастлива, что ты приезжаешь.
— А я вот не счастлива!
Дверь хлопнула. В доме опять стало тихо.
Лидочка взялась за недочитанную книжку. Ее поездка в Англию складывалась катастрофически неудачно. В семь к ней постучал Слава.
— Лидочка, вы не спите?
— Нет, заходите.
— У Аллы разболелась голова, — сказал он. — А я пойду на станцию встретить Галину. Я подумал, не хотите ли вы составить мне компанию? Вечер чудесный, тепло, солнышко…
— А где Иришка?
— Они с Робертом пошли в кино. Она звонила, я разрешил.
Когда Слава с Лидочкой уже вышли из дома и направились к станции, Лидочка спросила:
— Мне странно, честно говоря, почему Иришка так легко и быстро сбежала из дома. Ведь она давно не видела маму…
— У нас странная семья, — осторожно ответил Слава. — Не забудьте, что Иришка живет у бабушки. Пока мамы не было, она тосковала по ней. Я был плохой. Теперь мама приехала, и у меня появились шансы стать хорошим.
Сзади послышались быстрые шаги. Лидочка обернулась.
Опустившееся к вершинам деревьев солнце светило в спину ладной женской фигуры.
Их догоняла Алла.
— Я подумала, — сообщила она, поравнявшись с ними, — что, если лежать в постели, голова не пройдет. Погуляю с вами. И поскорее встречу Галку.
— А мне показалось… — неуверенно начал Слава.
— Никогда ни в чем не будь уверен, когда имеешь дело со мной, — оборвала его бывшая супруга. — Пора бы уже знать.
Наступило молчание.
— Может быть, вы встретите ее без меня? — спросила Лидочка.
— При чем тут вы! — рявкнула Алла. — Гуляйте, кто вам мешает.
Они прошли в молчании еще минуты две. Потом Алла заговорила:
— Все-таки деревня. Я бы здесь померла с тоски. И как тут люди живут?
— Мне здесь нравится, — сказал Слава. — Не исключено, что я и не вернусь обратно. Смотря как повернутся события.
— Человек предполагает, а Господь располагает, — назидательно произнесла Алла, словно эту фразу подслушала давно, в детстве от бабушки.
Лидочку удивляла в психологии этой деревни ее доверчивость. На всех окнах были занавески, портьеры, но почти все они были раздвинуты. Никто не считал нужным таить от улицы собственную внутреннюю жизнь. Дома казались Лидочке человеческими аквариумами, перед которыми можно простаивать часами, глядя, как плавают, шевелят губами и глотают червячков их обитатели. Впрочем, чаще всего обитатели сидели в креслах перед телевизорами, располагавшимися обычно в передних комнатах.
Они завернули за обгоревшую церковь.
— Что, нет бабок свою церковь восстановить? — удивилась Алла.
— Церковь небогатая, — сказал Славик.
— Ничего, — заметила Алла, — как решим с тобой все наши финансовые вопросы, вложу в восстановление храма. Как положено.
Лидочка раньше не слышала, что Слава решил что-то из своих средств выделить бывшей жене. Но не исключено, что та в качестве танка выпустила свою дочь.
— Завтра хотела по магазинам прошвырнуться, — сказала Алла. — Я совершенно раздета. Ты мне материально поспособствуешь?
— К сожалению, я не знал об этом. Надо заказывать наличные.
— Ах, не кривляйся, Гобсек! — рассердилась Алла. — Ты уже месяц знаешь о моем приезде. Какого черта ты даже какой-то мелочишки для меня в банке не взял?
— Но пойми же, мои вклады находятся в ценных бумагах. Ты не можешь так просто прийти и получить, как в московской сберкассе!
— Но подкожные держишь?
— И никогда не держал, — ответил Слава.
— Славик, я тебя знаю, — с оттенком угрозы произнесла Алла.
— Конечно, я что-то постараюсь сделать.
Алла принялась рассказывать последние анекдоты. Слава с готовностью смеялся.
Лидочка старалась понять его, и ей казалось, что она понимает растерянность, которая должна была царить в мозгу Славы. Вернее всего, пока он был один, приезд Аллы казался ему желанным, а возможное воссоединение не было ни отвратительным, ни пугающим. Но по мере приближения приезда, превращения его в реальность, в душе Славы все выше поднимались иные чувства — страх получить в жены женщину, которую уже давно перестал считать женой и, возможно, не простил до сих пор. И не исключено, что Алла выбрала неверный тон, то ли от недостатков своего характера, а то и от смущения — ведь для нее вся эта обстановка непривычна и, как сейчас говорится, некомфортна. Похоже, она успела наговорить глупостей и возродить в Славе страх перед возможностью ее окончательного возвращения. В прошлой жизни Слава был бедным ихтиологом со ста двадцатью рублями в месяц без степени и с двумястами со степенью, но без перспектив. Сейчас же он владел собственностью, ценил ее и не собирался с ней расставаться. Даже ради прекрасного тела Аллы. А если к тому прикладывается и некоторая сексуальная несовместимость… Разумеется, здесь опасны и ненадежны первые впечатления, но Алла казалась женщиной страстной, требовательной и готовой броситься под ближайший стог. Слава по меньшей мере не производил такого впечатления.
Когда они проходили мимо лавочки, в которой готовили горячие картофельные чипсы, Алла потребовала, чтобы Слава их купил.
— Мне категорически нельзя, — сказала она Лидочке, — но у меня есть ряд слабостей, и я с ними устала бороться. Вы курите?
— Нет.
— А мне кажется, что вы вообще лишаете себя удовольствий. Муж-то хоть настоящий?
— Настоящий, — ответила Лидочка. Шутка Аллы ей не понравилась.
Слава вынес два пакета с чипсами. Один отдал Лидочке, другой протянул Алле.
— А мне не хочется, — предварил он вопросы Аллы.
Следующий магазин торговал вином. Алла зашла в него, стала смотреть на этикетки, удивляясь тому, как дешево стоят французские вина. Она велела Славе купить бутылку, и тот подчинился.
Бумажник у него был красивый, цвета красного дерева, с непонятной монограммой.
— Дай поглядеть, — попросила Алла. — Здесь покупал?
— Нет, от дедушки достался, — ответил Слава, и Лида не поняла, шутит он или говорит серьезно.
Они задержались в магазине дольше, чем рассчитывали, и Слава поторопил их к электричке.
— Вы идите, — сказала Алла, — а я еще посмотрю. Успею.
— А я ее узнаю? — спросил Слава.
— Да ты спятил! Сколько лет ты ее знаешь?
— Я давно ее не видел.
— Это только в сериалах люди за пять лет меняются так, что родная сестра ломает себе голову — то ли это Бельмондо, то ли Караченцов, а оказывается, перед ней любимый брат Хулио. Идите…
Лидочка и Слава вышли на перрон.
Как раз в этот момент справа из туннеля показался поезд. Он притормозил у платформы.
Слава с Лидочкой остановились у узкого прохода в решетке, сквозь которую вчера выходили. Народу было немного — видно, все, кто хотел, уже вернулись с работы.
Последней шла толстая негритянка с двумя малышами, державшимися за ее широкую юбку.
Галины не было.
— Мы не могли ее пропустить? — спросила Лидочка.
— Другого выхода нет.
— А вдруг вы ее не узнали?
— Она бы меня узнала, — сказал Слава. — Значит, опоздала.
Лидочка обернулась. Алла стояла у входа в магазин, наполовину скрытая витриной, и не спешила к ним присоединиться.
— Ее нет! — крикнула Лидочка.
— Она всегда опаздывает, — ответила Алла. — Всю жизнь опаздывает.
— Что будем делать? — спросил Слава.
— А когда следующий поезд? — спросила Алла. У нее поехали колготки, она послюнила палец и потерла место, откуда побежала белая полоска.
— Через полчаса, — ответил Слава.
— Вот через полчаса она и объявится. Как раз ее срок.
В тени на платформе стало прохладнее. Алла со Славой курили. Обычно Лидочка не обращала внимания на табачный дым, даже под настроение любила его, но сейчас он показался ей удушливым.
Если бы Лидочка верила в какие-нибудь биополя или экстрасенсорные штучки, она бы заподозрила, что между бывшими супругами проскакивают молнии отрицательных зарядов.
Они почти не разговаривали, словно эмоциональный заряд встречи уже иссяк, хотя поддерживать отношения надо и придется общаться еще две недели или месяц — кто их разберет!
— А по ту сторону дороги вы бывали? — спросила Алла у Лидочки.
— Там похожий район, только наш называется Сиднем, а тот — Пендж.
— Ну и что в этом Пендже?
— Там? Там замечательный магазин, в котором продают все для дома и сада. Там можно купить и ночной горшок, и пальму, и рассаду клубники.
— Интересно, — рассеянно сказала Алла. Она сидела, закинув ногу на ногу. Лидочке не нравилось, что у нее такие сильные, красивые ноги. Она, как правило, не завидовала другим женщинам, но Алле на месте природы она выдала бы ноги толстые и короткие.
— Надо будет съездить, — сказала Алла, обернувшись к Славе. — Ты свозишь?
— Как бы Галина чего не перепутала, — сказал Слава.
— Ну что она может перепутать? Я хоть здесь новичок, но и сама бы не затерялась. Простой город. Правда, Галка — великий путаник.
— Странно, что ты обвиняешь ее, — сказал Слава.
— Ах, никого я не обвиняю, — отмахнулась Алла.
Время текло невероятно медленно. Им совершенно не о чем было разговаривать. Алла лишь совершала некие движения, которые должны были свидетельствовать о ее интересе к Лондону и к здешней жизни. А на самом деле ей все это было неинтересно. Как будто она каторгу отбывала в этом проклятом Лондоне.
— Так ты деньги в банке хранишь? — спросила она у Славы.
— И в банке тоже, — ответил Слава.
Снова помолчали.
Как по команде Алла и Слава загасили свои сигареты и снова достали пачки. Одинаково вытрясли по сигарете и закурили.
— Я пойду погуляю, — сказала Лидочка, поднимаясь.
— Посиди с нами, — сказала Алла.
— Не хочется сидеть.
Лидочка пошла направо к концу платформы, где она переходила в зеленый косогор, на котором росли вполне российские полевые цветы. Если бы не красные рыльца телекамер, нависающие над платформой, можно было бы подумать, что ты дома. Лидочка поглядела назад. Слава и Алла сидели неподвижно, уставившись перед собой. Нет, не станут они снова любящими супругами. Алле даже не хватает выдержки изображать из себя вернувшуюся блудную дочку.
Вполне возможно, что ей и не нужна эта английская подруга, добившаяся своего иностранного счастья, пока она сама находится в столь подвешенном состоянии. Впрочем, нет, по логике вещей, Галина ей нужна — и как спутница по походам в город, и как советчица… А какова тогда роль Иришки?
Слава поднялся и подошел к Лидочке.
— Как она тебе? — негромко спросил он, как спрашивают о тяжело больном человеке.
— Не знаю, — ответила Лидочка. — У меня не было времени разобраться.
Алла незаметно подошла к ним — видно, как только Слава встал, она тут же последовала за ним.
— Опять секретничаете? — спросила она.
— Нет, — сказал Слава. — Говорили о тебе.
— Обо мне говорить не принято. В хороших домах… Ты что, выяснял, приглянулась ли я твоей новой пассии?
— Ах, оставь, — отмахнулся Слава. — Не смеши.
— Я устала от вашего семейства, — серьезно сказала Лидочка. — Сначала Слава подозревает, что я чья-то шпионка, может, даже ваша, вы подозреваете, что я приехала уводить от вас мужа, которого вы сами благополучно оставили. Мне не хочется играть в ваши игры. Играйте в них сами.
— Правильно, — сказала Алла. — Не вмешивайся в наши игры и останешься здоровой!
— Вы говорите, как один мой случайный знакомый, попутчик.
— Какой еще попутчик?
— Я летела сюда с одним молодым человеком, которого зовут Геннадий, он мне тоже советовал ни во что не вмешиваться.
— Как его фамилия? — насторожилась Алла.
— Я не спросила. Зато знаю его специальность.
— И какая же у него специальность?
— Убийца-организатор.
— Что еще за чепуха?! — вдруг взъярилась Алла. — Что еще за шутки?!
— А вот и поезд, — сказал Слава, который слушал этот разговор вполуха. О Геннадии он уже знал. — Пошли к выходу с платформы, чтобы не упустить Галину.
Они успели дойти до выхода, прежде чем открылись двери вагонов. На этот раз из электрички вышло совсем немного народа, человек десять, не больше. Галины среди них не было.
Они стояли, пока мимо не прошел последний пассажир.
— Что же будем делать? — растерялась Лидочка.
— А она адрес знает? — спросила Алла.
— Знает, — ответил Слава. — Я ей давал.
— Может, она уже приехала на такси? Или ее муж привез?
— Значит, больше встречать не будем? — спросила Лидочка.
— Никакого смысла, — сказала Алла. — Мы договорились. Она обещала. Мы прождали почти час. Сколько можно, в конце концов!
Они пошли домой.
Все шли быстро, ожидая увидеть перед домом чужую машину или такси.
Валентина открыла дверь так стремительно, словно дежурила перед ней.
— И где она? — с порога спросила Валентина. — Неужели не встретили?
— Не встретили, — сказал Слава. — Надо будет ей позвонить.
Они вошли в дом.
— Погоди, — сказала Алла, — не звони. Мало ли что, задержалась или решила под меня сгонять на свидание. Не закладывай. Успеется. Пускай она сама версию выработает.
— А мы в магазин сходили, — сообщила Валентина. Была она робкой, мягкой, послушной, словно из нее вытащили мотор. — Пошли поснидаем?
Они пошли в столовую, где уже был накрыт чай.
Глава 12
Когда они сидели за столом и словно по обязанности, а может, из нежелания обидеть Валентину пили чай, мысли Славы все возвращались к Галине.
— Она же должна позвонить! — возмущался он. — Так не бывает! В конце концов, мы живем в чужом городе!
— Голову даю на отсечение, — сопротивлялась Алла, — что Галка воспользовалась поездкой, чтобы сгонять на свидание.
— Странно, — возразил Слава. — Зачем тогда договариваться с тобой? Что, у нее другого времени для свидания не нашлось? Ведь ты — ее лучшая подруга, вы долго не виделись… И вдруг такой поступок! Зачем было нам ее встречать?
— Она ехала-ехала и родила идею! — Алла засмеялась. Но никто ее не поддержал.
— Может, позвонить ей все-таки? — неуверенно спросила Валентина. Она заразилась беспокойством Славы, даже покраснела сильнее обычного.
— А я не знаю ее телефона, — нашлась Алла.
— Нет, знаешь, — сказала Иришка. — Ты записывала. Возле телефона лежит. Хочешь, принесу?
— Ладно, позвоню, — сдалась Алла. — Впрочем, Слава, ты с ней знаком. И если ее нет дома, то поговоришь с ее мужем. А, Славик?
— Я сама позвоню, — сказала Иришка, — если никто не хочет.
— Но ее Джерри по-русски не говорит, — заметил Слава.
— Зато я по-английски могу спросить элементарную вещь.
— Ладно уж, — вяло сопротивлялась Алла. — Давай подождем до утра.
Но Иришка уже шла к телефону.
Лидочка подумала, что судьба Галины мало беспокоила девочку, но ей почему-то хотелось сделать что-то супротив воли матери.
— Я пойду спать, — объявила Алла, но не поднялась с места.
Все сидели на своих местах, смотрели в открытую дверь, выходившую в коридор, где стоял низкий столик с телефоном.
Лидочка услышала, как Иришка на вполне сносном английском спрашивает:
— Простите, можно попросить Галину?
Наступила пауза. Иришка слушала ответ.
— Спасибо, — сказала она. — Нет, я позвоню позже.
Она повесила трубку.
— Ее нет дома, — сообщила Иришка. — Галина уехала в гости к своей русской подруге.
— Но почему ты не представилась? — вдруг возмутился Слава.
— И правильно сделала, — ответила за Иришку Алла. — Не надо беспокоить человека. У них свои взаимоотношения. Я же говорила, что наша Галочка трахается на стороне.
— Где ж ты так по-английски насобачилась? — спросил у Иришки Василий.
— А я тут уже месяц с ребятами… Да разве это важно?
— Очень важно, дивчина, — объяснила Валентина. — А то мы как глухонемые на рынке — все руками показываем.
— Неплохо получается, — съязвила Иришка.
— Все-таки зря ты не сказала, что Галина не приехала, — сказал Слава. — Мало ли что могло случиться. Ведь мнение Аллы лишь одна из версий.
— Да что вы пристали ко мне с этой Галкой! — рассердилась Алла. — Сейчас пойду и встречу ее.
Она поднялась из-за стола.
— Ты куда? — удивился Слава.
— Пойду пройдусь перед сном.
— Нет, одну я тебя не отпущу, — решительно сказал Слава. — Сейчас уже темно.
— Папа! — предупреждающе закричала Иришка.
— Вот именно, — спокойно сказала Алла. — Я пошла. Через полчасика вернусь. И чтобы вы все вели себя на «отлично». Добро? Ну, добро?
— Добро, — покорно ответил Слава.
— Добро, — как эхо, повторил за ним Василий.
Алла прошла по коридору. Она быстро осваивалась на новом месте. Хлопнула дверь.
— Папа, — сказала Иришка, и впервые Лидочка увидела, как она подошла к отцу и взяла его за руку, — пап, может, еще раз позвонить…
Входная дверь приоткрылась. Возможно, Алла не дала ей захлопнуться.
— Только не надо снова звонить Джерри. Не волнуйте человека понапрасну. Гарантирую, что с Галкой все в порядке. Так что отдыхайте!
Все замерли, будто их поймали за каким-то нехорошим занятием.
А потом молча разошлись по своим комнатам.
Лидочка тоже поднялась к себе и стала читать. К несчастью, книжка попалась не очень интересная, она никак не могла вчитаться и потому прислушивалась к звукам дома. И ждала телефонного звонка. Она не могла бы сказать, от кого должен быть этот телефонный звонок, но он таил в себе угрозу.
Звонок раздался через полчаса после ухода Аллы.
Слышно было, как бегом протопала по коридору Валентина. Лидочка поняла, что она тоже сидела у себя и ждала звонка.
— Кто? Кого надо? — спросила она. — Ее нет. Вышла. Погулять пошла. Нет, не сказала, когда вернется… А что передать?
Видно, ей не ответили, потому что она повторила:
— Передать что? Кто звонил?
Потом повесила трубку. Постояла и медленно побрела к себе.
Лидочка с минуту соображала, что же ее удивило в звонке. Потом поняла, что Валентина разговаривала по-русски.
Алла возвратилась через час. Валентина, видно, ждала ее у двери. Лидочка услышала ее голос:
— Вам звонили.
— Кто звонил?
— Один мужчина. Приятный голос. Только не назвался.
— Ну и ладно, — сказала Алла. — Надо будет, еще позвонит.
— Он так и сказал.
— Тоскливая жизнь здесь, — сказала Алла. — Как глухая деревня. Вы всегда так рано ложитесь?
— Зато встаем рано, — ответила Валентина. — Здесь утром благодать.
— Для такой благодати не надо в Англию ехать. Под Конотопом места еще лучше.
Они замолчали, но, видно, стояли рядом. Весь дом прислушивался к их разговору.
— А Галина ваша не звонила, — наконец сказала Валентина.
— Догадываюсь, — ответила Алла. — Иначе бы вы мне об этом сразу же доложили.
— Может, позвонить ей?
— Не надо, сама позвонит. Она нас обманула, мы ее не обманывали.
— А если случилось что?
— Коли случилось, обязательно узнаем.
Не попрощавшись, Алла пошла вверх по лестнице. Потом полилась вода в душе.
Лидочка лежала, сжавшись от тоски и одиночества. Все это должно было плохо кончиться. И все, кроме Аллы, это понимали.
Утром за завтраком взбунтовалась Иришка. Она с отвращением отодвинула миску с корнфлексом и заявила:
— Вы как хотите, а я сейчас позвоню.
— Я сама собиралась, — сказала Алла.
Лидочка присмотрелась к ней. Алла была аккуратно, но чрезмерно накрашена, волосы были подвиты, ногти приведены в порядок. Видно, ей предстоял день на людях, и важно было хорошо выглядеть. Она походила на средней руки директора магазина перед важным совещанием в муниципалитете. В муниципалитете, а не в райисполкоме. Разница в том, что приезжают на такое совещание современные директорши на своих «Мерседесах». Но в слове «начать» делают ударение на первом слоге, а в выражении «на складах» — на последнем.
— Тогда и звоните, — буркнула Иришка.
— Что за тон! — вмешался Слава.
— Лида, вы позвоните? — спросила Алла. — Джерри совсем не сечет по-русски. Боюсь, и те три слова, что знал, тоже позабыл.
Лида глупо спросила:
— А если подойдет Галина?
— Галина? — Алла удивилась, но совладала с собой и ответила спокойно: — Тогда передадите мне трубку.
Лидочка покорно пошла в коридор к телефону, хотя разумнее было бы позвонить кому-то из тех, кто с Галиной знаком, — по-английски говорили и Слава, и Иришка. Но те и пальцем не пошевелили.
Подошли очень быстро, словно человек держал руку над трубкой.
Лидочка поздоровалась и сразу, желая отделаться от неизвестности, произнесла:
— Можно попросить Галину?
Мужчина на том конце провода откашлялся.
— А кто говорит? — спросил он.
— Я звоню по просьбе Аллы, — сказала Лидочка. — Аллы Кошко. Подруги Галины Аллы Кошко.
— А где миссис Алла Кошко? — спросил мужской голос.
— Она здесь, рядом.
Подошедшая Алла показала пальцем на сомкнутые губы.
— Но она не говорит по-английски, — объяснила Лидочка. — Можно попросить Галину?
— Откуда вы говорите? — продолжал допрос мужской голос.
— Это Джерри?
— Так вам нужен Джералд?
— Ну конечно же, Джералд. Джерри Стюарт. Я правильно звоню?
— Мистер Стюарт не может подойти к телефону, — ответил мужской голос. — По какому делу вам требуется миссис Стюарт?
В иной ситуации ты возмущаешься и кидаешь трубку. Но в голосе мужчины звучал глухой тон официальности. Голос принадлежал человеку, который имел право задавать вопросы.
— Мы — ее знакомые, — пояснила Лидочка. — Она должна была вчера приехать, но не приехала. Поэтому мы звоним сегодня.
— А почему вы не позвонили вчера?
— Ну… как сказать… мы не считали нужным.
— Будьте добры, сообщите ваш адрес и фамилию.
— Четырнадцать, Вудфордж-роуд, Сиднем.
— Вам позвонят, — сказал мужчина.
— Простите, что-то случилось?
— Да, случилось.
— Что? Что-нибудь с Галиной?
Лидочка говорила, будто висела в безвоздушном и беззвучном пространстве, а все вокруг прислушивались к ее словам.
— Да, — односложно ответил мужчина и повесил трубку.
— Вы слышали? — сказала Лидочка.
— А что случилось? — спросила Валентина, которая могла лишь догадываться о смысле разговора.
— Это был Джерри? — спросила Алла.
— Нет.
— Значит, полиция, — сказал Слава обреченно. Будто это он сделал что-то плохое, а теперь пойман на месте преступления. — У них дома полиция.
— Кончай молоть чепуху, — оборвала его Алла. — Еще накличешь!
— Но почему ее нет, а Джерри не может подойти?
— Откуда я знаю? Не я по телефону разговаривала, а Лидия!
Как будто Лидочка была виновата в том, что Джерри не подошел к телефону.
— Надо снова позвонить, — сказал Слава, но к телефону не подошел.
— Что же делать? — спросила Валентина. — У нас я бы знала, куда звонить, а здесь не представляю.
— Потом позвоним, — сказала Алла таким тоном, будто знала, когда и куда здесь положено звонить.
Лидочка уже знала, что надо делать, но объяснять свои действия остальным ей не хотелось.
— Я за молоком пошла, — сказала она. — Молока дома нет.
— Я с тобой пойду, — обрадовалась Валентина. — Хлеба тоже не осталось.
— Я хлеба куплю, — пообещала Лидочка.
— Пускай идет, — сказал Василий, словно соглашаясь с правом Лидочки одной ходить в магазин.
Лидочка взяла сумку и остановилась в коридоре.
— Лидия… — позвал Слава.
Все стояли и смотрели на нее. Наверное, Слава сейчас даст ей денег.
— Ну ладно, — обреченно махнул рукой Слава. — Идите.
Нет, поняла Лидочка, о деньгах он не думал. Она вышла из дома. Было тихо, даже слишком тихо. Зачем же он ее окликал?
Потом она поняла. Когда у нас, в России, один уходит, остальные подозревают, что он пошел доносить. Даже в самое демократичное время.
Лидочка быстро дошла до станции. День был теплый, но ветреный и тревожный. Безумная страсть англичан к цветам в палисадниках придавала пригороду вид декорации к итальянской опере. Уже возле станции Лидочка чуть не угодила под автобус, потому что, перебегая улицу, посмотрела не в ту сторону.
Магазин с газетами располагался прямо возле станции.
Газеты лежали на нижней полке стеллажа, выше красовались журналы, по большей части женские. Газеты делились на серьезные, настоящие, форматом как наши большие газеты, и на несерьезные, в два раза меньше форматом, цветные, с портретом очередной особы королевской крови или члена парламента, которые опять нашкодили.
Лидочка собрала все газеты, что лежали на нижней полке, заплатила четыре фунта за это удовольствие и вышла на улицу. Хозяйка посмотрела ей вслед — поступок Лидочки свидетельствовал о том, что она или человек ненормальный, или иностранка. Домой нести все эти газеты не хотелось. Она зашла в соседний магазин, купила обезжиренного молока — все в доме худели, — потом булку в целлофане. Теперь, когда все обязанности были выполнены, она дошла до детского сквера и села на скамейку возле качелей. На качелях качался негритенок в черном костюме и при галстуке. Явно прогульщик.
Лидочка сложила газеты в стопку и начала их по очереди пролистывать. Ее предчувствия оправдались немедленно.
В «Дейли мейл» на первой полосе была помещена фотография миловидной молодой женщины с выщипанными бровями. Над ней была надпись большими буквами:
РУССКАЯ МАФИЯ НАСТИГЛА ЖЕРТВУ?
Почему-то Лидочка ни на секунду не усомнилась в том, что видит Галину. Уже уходя в магазин, Лидочка была уверена, что в какой-то из газет будет рассказано о несчастье, случившемся с Галиной. Несчастье наверняка случилось…
«Вчера в шесть вечера,
— сообщалось в статье под фотографией, —
очаровательная миссис Стюарт, русская по происхождению, нашедшая счастье с инженером Джералдом Стюартом, когда он трудился в Москве, собралась в гости к своей русской подруге, недавно приехавшей из России. Но, к сожалению, подруга так и не дождалась миссис Стюарт. Судьба распорядилась иначе.
Дожидаясь поезда на станции подземки «Грейт Шортланд-стрит», миссис Стюарт потеряла равновесие именно в тот момент, когда поезд подходил к перрону. Короткий вскрик молодой женщины был заглушен шумом вагонов. Смерть миссис Стюарт была мгновенной.
Этот инцидент был бы списан еще на одну трагическую случайность, если бы не показания мисс Монмаут, 67 лет, которая, по ее словам, находилась в тот момент рядом с молодой женщиной. Более того, мисс Монмаут за минуту до того имела краткую беседу с миссис Стюарт, которая говорила с иностранным акцентом. Та спросила мисс Монмаут, где ей лучше перейти на Зеленую линию, так как намеревалась следовать до вокзала Виктория.
— Я могу поклясться, — сказала пожилая дама нашему корреспонденту, когда он посетил ее квартиру на Девоншир-стрит, — что в последнее мгновение к ней подошел молодой человек в длинном черном пальто, кепи и темных очках. Он задал ей вопрос, заставивший покойную вздрогнуть и отшатнуться от молодого человека. Именно в этот момент к перрону подъезжал поезд. Молодой человек толкнул миссис Стюарт и мгновенно отступил назад.
К сожалению, внимание мисс Монмаут было отвлечено криком молодой женщины, и она не придала должного значения поступку молодого человека в темных очках.
— Но что случилось потом?
— Поезд остановился, — рассказала нам мисс Монмаут, стройная, сдержанно одетая дама, много лет проработавшая медицинской сестрой зубоврачебной клиники, живущая в небольшой квартире с котом Томом и сеттером Кьюпидо (см. фото этого дружного семейства), — люди закричали. Кто-то пытался спрыгнуть вниз, чтобы оказать помощь попавшей под поезд женщине.
— Вы говорите, что миссис Стюарт попала под поезд?
— Нет, точнее сказать, что ее отбросило первым вагоном и кинуло на рельсы. А так как поезд тормозил, останавливаясь у перрона, то ее тело осталось лежать перед первым вагоном. Поэтому кто-то и попытался спрыгнуть на рельсы. Но другие люди кричали, что этого делать нельзя, потому что смельчака убьет током. Тут выбежал машинист и остановил того джентльмена. Видно, он сразу сообщил об инциденте, поскольку практически тут же появились люди с носилками, а машинист и еще один работник подземки спустились на пути — видимо, ток был уже отключен, не так ли?
— Вы совершенно правы, мисс Монмаут. Однако расскажите, что было дальше.
— Пострадавшую, то есть мертвую леди, подняли наверх и унесли в какое-то служебное помещение в конце перрона. Тогда же в туннель спустились полицейские. И знаете, что ужасно? Ужасно то, что поезд ушел, как будто ничего не произошло. А некоторые люди так и не вышли из вагонов, пока все это происходило. Начинаешь задумываться о тщете человеческой жизни.
— Как вы правы, мисс Монмаут! Что бы вы могли добавить для читателей нашей газеты?
— Вы спрашиваете меня о том, как я вела себя дальше?
— Именно это нас больше всего интересует.
— Поставьте себя на мое место. Вы становитесь свидетелем подозрительного события, и никто, кроме вас, ничего не заметил.
— И каково же было ваше решение?
Мисс Монмаут лукаво улыбается и отвечает:
— Первым моим желанием было убежать с места происшествия, ибо вид женщины, которая за минуту до того разговаривала со мной, а сейчас ее раздавленный труп уносят под простыней… Нет, это больше, чем может вынести человек! Более того, я направилась к выходу, желая как можно скорее скрыться со сцены.
— Далеко ли вы ушли?
— Покидая платформу, я оглянулась, чтобы еще раз запечатлеть в памяти эту жуткую сцену, и тут увидела, что на пустой платформе стоит один из полицейских и в некоторой растерянности оглядывается по сторонам. Если не считать пятен крови на рельсах, о происхождении которых догадывалась только я, то никаких следов смерти уже не осталось. И я подумала, что это ужасно и несправедливо.
— Это весьма разумно, мисс Монмаут.
— Тогда я подошла к полицейскому, который уже собирался уходить, отчаявшись отыскать хоть единого свидетеля смерти той женщины, и сказала ему, что готова выступить свидетельницей. И я должна сказать вам, молодой человек, что полицейский был несказанно счастлив от того, что я нашлась.
— Что же вы сказали полиции?
— То же, что и вам.
— Вы сказали ему, что дама обращалась к вам с вопросом и показалась вам иностранкой?
— Нет, сначала полицейский поднялся со мной наверх, и там его ждала машина. Он предложил мне поехать с ним в полицейский участок и дать показания. Я не могла ему отказать.
— О чем же вы еще рассказали полиции?
— О том молодом человеке в темных очках и кепи.
— Полицейские вам поверили?
— Я вообще вызываю доверие в людях. Это было очень важно в моей прошлой профессии.
— Значит, вы рассказали о молодом человеке?
— Разумеется.
— Когда полицейские выслушивали вас, они что-то записывали?
— Не только записывали. Они отнеслись к моим показаниям со всей серьезностью. Они вызвали специалиста, который составил по моим словам портрет молодого человека.
— Похожий?
— Разумеется, похожий. Это очень интересная процедура.
— Мы о ней знаем.
— Тогда мне больше нечего рассказать. Я провела в участке около двух часов. Затем вернулась домой. А здесь меня уже ждали вы».
Это интервью было снабжено несколькими фотографиями: мисс Монмаут, квартира мисс Монмаут, мисс Монмаут дома со своими питомцами.
Далее следовала еще одна небольшая заметка.
«Наш корреспондент узнал, что дело о смерти миссис Стюарт находится на расследовании в Скотленд-Ярде и ему придается особое значение ввиду проникновения в Великобританию русской мафии. Возможно, смерть миссис Стюарт каким-то образом связана именно с этим. Ведущий дело миссис Стюарт инспектор Мэттью Слокам сказал нашему корреспонденту, что этот аспект расследования займет свое место в общей работе следователя. Однако инспектор Слокам полагает, что мисс Монмаут могла слишком серьезно отнестись к произошедшему на перроне, хотя версию о русских связях миссис Стюарт никак нельзя игнорировать.
Супруг миссис Стюарт, совершенно потрясенный неожиданным горем мистер Джералд Стюарт, с трудом мог заставить себя разговаривать с посторонними людьми. Наш корреспондент обращался к нему со всей возможной деликатностью. Мистер Стюарт убежден, что его супруга, находящаяся в Лондоне уже два года, не поддерживала никаких связей с бывшими соотечественниками, а заявление мисс Монмаут является «плодом старческого воображения».
Полиция также допрашивала мистера Стюарта относительно связей его жены среди русской колонии в Лондоне. Эти связи прослеживаются и далее. Мы рассчитываем, что уже в ближайшие сутки сможем ознакомить наших читателей с первыми результатами расследования».
Лидочка сложила газеты в сумку и пошла мимо поля для игры в крокет, где пожилые джентльмены элегантно гоняли шары, затем прошла наискосок по зеленому газону, обходя футбольное поле, условно выгороженное из газона кучками одежды, которые обозначали ворота. Собаки, гулявшие по обширному газону, на футбольное поле не забегали. Видно, английских собак учат правилам футбола с детства.
Зелеными столбиками по периметру газона стояли схожие с почтовыми ящиками урны для собачьего помета.
Впрочем, шагая по краю газона, Лидочка не замечала ни собак, ни футболистов.
Разумеется, не было никаких оснований увязывать гибель Галины с приездом Аллы. И какой смысл был Алле устраивать убийство своей подруги? Алла может нравиться, может не нравиться, но это не основание подозревать ее в каких-то мафиозных связях. Конечно, нет.
Чем упорнее Лидочка уговаривала себя, тем очевиднее становилось ей то, что Алла каким-то образом связана с гибелью Галины.
А потом, когда Лидочка шла по Вудфордж-роуд, другой образ стал вытеснять из воображения лицо Аллы — это был ее попутчик Геннадий. Ничто в газетной статье не указывало на то, что тем молодым человеком мог быть Геннадий, но ничто не указывало и на обратное.
«У Аллы были знакомые в Лондоне? Да, были. Она с ними встречалась, говорила по телефону. А Геннадий с другом проявляли интерес к нашему дому. Что-то здесь не складывается…»
Глава 13
Василий с Валентиной прогуливались по тротуару перед домом.
— А мы вот решили воздухом подышать, — объявил Василий, когда Лидочка подошла поближе. Лидочка не стала спрашивать, почему они гуляют по тротуару, когда для этого есть сад. Впрочем, ей бы и не дали задать вопросы, потому что Валентина тут же спросила, как заблудившийся в пустыне путник у первого попавшегося караванщика:
— Молока купила?
— Купила.
— И хлеба купила?
— И хлеба.
Лидочка остановилась. Они перегородили ей дорогу. Пауза растянулась на полминуты, и, когда Лидочка готова была пойти на прорыв, Валентина спросила то, ради чего они покинули дом:
— Ну и как там? Новости есть?
Они, оказывается, догадались, что Лидочка ходила за новостями.
— Да, — односложно ответила Лидочка. Она намеревалась сказать о смерти Галины всем сразу, но глупо скрывать такую новость только потому, что не собрался кворум. — Галина погибла.
Лидочка достала «Дейли мейл» и развернула так, чтобы видна была первая страница с портретом Галины.
— Это она? — спросила Валентина.
— Пойдемте внутрь, — сказала Лидочка. — Я еще раз прочту, что написано в газете.
Дверь в дом была приоткрыта, так ее оставили Кошки. Первой вошла Лидочка, за ней Валентина с раскрытой газетой. Все ждали новостей.
— И что же? — первым спросил Слава.
Он сидел, подперев подбородок тонкими руками и вытянув вперед шею. Локти с силой упирались в поверхность стола.
Лидочка посторонилась, пропуская торжественно плывущую Валентину. Валентина разложила газету на столе и сказала:
— Это она.
Алла молчала. Все смотрели на нее. Она глядела в окно на кирпичную стенку, отделявшую дом Кошко от следующего. Слава сказал:
— Это Галина. Я ее, конечно, давно не видел, но это Галина. Я так и знал, что этим кончится.
— Когда знал? — спросила Алла, не оборачиваясь.
— Уже вчера знал, — сказал Слава. — Неужели это было не понятно?
Лидочка понимала его — чувство обреченности охватило ее уже вчера, пока они ждали на платформе. Нет, пожалуй, позже, когда они возвращались со станции домой. И только Алла, которая не могла не испытывать того же, не хотела в том признаться.
— Кто-нибудь прочтите мне, наконец! — раздраженно проговорила Алла. — Я имею право знать, что там произошло!
— Она попала под поезд в метро, — сказал Слава, читавший газету. — Она подошла к краю и упала.
— Во сколько это случилось? — спросила Алла.
— В шесть вечера, — ответил Слава. — Разумеется, в шесть — она как раз ехала к нам.
— Ой, — всплеснула руками Валентина. — Вы ее встречали, а она уже неживая была. Господи, упокой и спаси ее душу.
— Наверное, надо поехать туда, — неуверенно произнес Слава, глядя на бывшую жену.
— Я не настолько знакома с Джерри. А вдруг он не хочет никого из русских видеть? Ты лучше прочти, что там еще пишут.
Слава начал читать. Иногда он запинался, ему не хватало английских слов, но Лидочка ему не помогала. Она смотрела на Аллу. Ей было интересно понять, что должна чувствовать женщина, подруга которой погибла вчера по дороге к ней.
Алла владела собой. Но лицо у нее было злым, напряженным, как у соседки на коммунальной кухне, готовой начать очередной бой.
Слава еще не успел дочитать второго абзаца, как раз подобрался к интервью с мисс Монмаут и завяз в незнакомых словах, как в дверь позвонили.
— Открой, Ириш, — попросил Слава, прижимая указательным пальцем строчку, чтобы не потерять.
Лидочка, как и все, замерла, обернувшись к коридору и прислушиваясь. Мужской голос спросил по-английски:
— Можно мне поговорить с мистером Кошко?
— Сейчас, — ответила Иришка и крикнула: — Папа, к тебе пришли!
— Кто там? — спросил Слава, поднимаясь из-за стола.
— Думаю, что полиция, — ответила из коридора Иришка.
Лидочка непроизвольно вышла следом за Славой. Впрочем, в коридор вышли все и столпились в дальнем конце, у входа в столовую, отделенные от входа и от гостя всей длиной коридора.
Свет падал в спину человеку, стоявшему в дверях.
Слава покачнулся, словно его задело сквозняком от двери. Он сделал шаг, потом еще шаг. Иришка отошла к вешалке и прижалась к ней, чтобы Славе было свободней.
— Я — Кошко, — сказал Слава. — А вы кто?
Гость протянул запаянную в пластик карточку — по крайней мере, Лидочке так показалось издали.
— Мэттью Слокам, — сообщил он. — Инспектор полиции. Скотленд-Ярд. Мне хотелось бы, с вашего разрешения, задать вам, мистер Кошко, несколько вопросов.
Слава держал карточку в руках, смотрел на нее и никак не мог догадаться вернуть ее полицейскому.
Тому пришлось протянуть руку и отобрать карточку у Славы.
— Пожалуйста, — сказал Слава и пошел к гостиной. Полицейский двинулся за ним, и остальные жильцы дома раздались, чтобы их пропустить. Полицейский прошел мимо столовой и посмотрел сначала направо, потом налево, словно переходил улицу. Глаза у инспектора были темными, близко посаженными, птичьими. Больше Лидочка ничего не разобрала.
Слава остановился в дверях в кабинет и спросил инспектора:
— Вы говорите по-русски?
Вопрос был смешной, даже нелепый, но, как ни странно, инспектор Слокам вовсе не удивился.
— Я немного говорью по-русски, — сказал он. — Именно это есть причина…
Тут мистер Слокам замер на входе в кабинет в поисках нужного слова, чтобы завершить фразу.
— Но немного, — повторил он и прошел в кабинет.
Слава пропустил инспектора внутрь, а сам остался в дверях и призывно махнул рукой. Алла сочла его движение относящимся к ней и, оттолкнув Василия, ринулась к кабинету.
— Нет, не ты, — раздраженно сказал Слава. — Ты же не понимаешь по-английски!
— Меня это касается, — сказала Алла и решительно прошла в кабинет.
— Лидочка, — позвал Слава. — Боюсь, нам понадобится ваша помощь.
Краснодарские Кошки и Иришка остались в коридоре.
Инспектор вышел на середину небольшого кабинета и остановился в некоторой растерянности. И было отчего. Слава не убрал с дивана свою постель, так что на всех оставалось лишь одно кресло.
Слава кинулся к дивану и скатал простыни, одеяло и подушку валиком, освободив пространство.
— Садитесь. — Он показал полицейскому на кресло, сам сел на диван. Алла тут же уселась рядом с ним, а Лидочка отошла к книжным полкам, чтобы не тесниться на диване.
— Мой английский язык не очень хороший. — Слава говорил по-русски упрощенно и со странным акцентом, полагая, что так инспектору будет легче его понять. — Миссис Берестов будет помогать.
— Благодарю вас. — Инспектор обернулся к Лидочке и с явным облегчением вернулся на стезю английского языка. — Мой русский язык далек от совершенства. Я проходил курс в университете, а сейчас занимаюсь на курсах. У нас организовали специальную группу для контактов со славянскими элементами. Ваши соотечественники зачастую не знают языков, и приходится что-то делать.
Он замолк, давая возможность Лидочке показать, на что она способна. Лидочке стало неловко, как на экзамене.
Инспектор был молод, не старше тридцати лет. У него было узкое лицо с выдающейся вперед верхней губой и близко посаженными карими глазами. Темные волосы слегка отдавали в рыжину. Инспектор был высоким, большим, мягким человеком, которому в ближайшие годы грозила излишняя полнота.
— Простите, — сказала Лидочка. — У меня мало практики.
— О, — обрадовался инспектор, — вы так хорошо говорите. И надолго вы здесь?
— По-видимому, еще две или три недели.
— Вы жена мистера Кошко?
Лидочка обернулась к Славе.
— Слава, объясните ему, кто есть кто. Я переведу.
— Я его понял, — сказал Слава. — Ну, вы сами… Скажите, чтобы он понял. Что вы не жена, а наш друг. Друг дома. А жены у меня нет, то есть Алла — бывшая супруга.
Лидочка решила не торопиться с подробным рассказом, тем более что инспектор пока что не задавал никаких вопросов.
— Я не жена мистера Кошко, — сообщила она. — Мистер Кошко не женат.
— Оу, — грустно сказал инспектор, выражая этим междометием сочувствие русскому господину.
— Бывает, — сказал Слава. — Ты скажи про Аллу.
— Обойдется, — отрезала Алла.
Что-то в ее тоне насторожило полицейского, и он, кинув взгляд на Аллу, перевел глаза на Лидочку, ожидая объяснений.
— Миссис Кошко, — пояснила Лидочка. — Бывшая жена мистера Кошко.
— Оу, — снова посочувствовал мистеру Кошко полицейский.
Беседа зашла в тупик.
Инспектор подождал, насколько позволяли обстоятельства, и спросил:
— Знаете ли вы, мистер Кошко, о смерти миссис Стюарт?
— Да, мы узнали сегодня из газет… Объясни ему, Лидочка.
Лидочка сказала инспектору, что сегодня утром она купила газеты, откуда мистер Кошко и узнал о гибели Галины Стюарт.
— И вчера вы об этом не знали?
— Нет, не знали.
— Но мистер Стюарт считает, что его супруга ехала к вам в гости.
— Точнее, она ехала в гости ко мне, — вмешалась Алла. — Мы были знакомы в Москве.
Лидочка перевела и от себя добавила, что они вчера вечером даже ходили все вместе встречать Галину.
— Простите, — спросил инспектор, — но почему, не встретив миссис Стюарт, вы не позвонили ее мужу и не выразили интереса к ее судьбе?
Лидочка пожала плечами, передавая инициативу Кошкам.
— Скажи ему, что мы не хотели беспокоить мистера Стюарта, которого мало знаем, — сказал Слава. — Возможно, планы у Галины изменились. Мы думали, что она позвонит нам сама, когда сможет.
— Мы же не думали, что она попадет под поезд! — воскликнула Алла.
Инспектор явно хотел показать этим русским, что ему не зря платят надбавку к зарплате за знание экзотического языка. Если, конечно, здесь такая надбавка существует.
— А утром мы ждали ее звонка, — сказала Алла.
Инспектор обернулся к Лидочке. Оказывается, он не понимал слова «звонок» в данном контексте. Лидочка объяснила.
— И вы бы не позвонили миссис Стюарт? — спросил Аллу инспектор, но спросил он по-английски, и Алла его не поняла и посмотрела на Лидочку.
Лидочка перевела вопрос.
— Мы же звонили, — сказал Слава. — Мы позвонили, а потом Лидия, то есть миссис Берестов, пришла со станции и принесла газеты.
— Вы ездили в Лондон? — спросил инспектор.
— Нет, я купила газеты на станции.
— Какую конкретно газету вы купили?
Лидочке не хотелось лгать.
— Я купила все газеты, что были в магазине.
— Почему? — удивился инспектор. — Вы искали сообщения о несчастье?
— Честно говоря, да, — ответила Лидочка.
— И когда же вы почувствовали, что случилось несчастье?
— Не знаю. Трудно определить этот момент.
— Попробуйте вспомнить. — Инспектор был угрожающе вежлив. Он казался похожим на какого-то киноактера — такие же птичьи глаза. Как его фамилия? Ярмольник?
Слава вертел головой — старался понять. Алла и не старалась. Она дернула Славу за рукав.
— О чем они?
— Обо мне, — ответила за Славу Лидочка. — Ваша очередь еще не наступила.
Алла покраснела от злости. Теперь уже инспектор не понял. Он замер с полуоткрытым ртом. У Лидочки было преимущество — она понимала всех.
— Мы отвлеклись, — сказал инспектор. — Вы не сказали мне, когда поняли, что случилось несчастье.
— Сегодня, — ответила Лидочка.
— И вы позвонили Стюартам?
— Именно потому, что почувствовала неладное.
Инспектор поглядел в сад, обдумал ответ и неожиданно кивнул, соглашаясь с Лидочкой. Теперь он обратился к Славе:
— У следствия появились основания заподозрить, что смерть миссис Стюарт не была случайной и не являлась самоубийством. В силу этого мы решили проверить круг знакомых миссис Стюарт, в первую очередь ее соотечественников.
— Помоги мне, — попросил Лидочку Слава. — Так я все понимаю, но сейчас ответственный момент, не хочется детали упускать.
Инспектор подождал, пока Слава кончит говорить, а затем продолжил:
— От мужа погибшей мы получили сведения, что миссис Стюарт направлялась к вам в гости. Это так?
— Вы об этом уже знаете, — сказала Лидочка.
— Не будете ли вы так любезны задать этот вопрос мистеру Кошко?
Инспектор был убийственно вежлив, и Лидочке захотелось сообщить ему, что она не нанималась ему в переводчицы. Что, в общем-то, было бы наивно и могло только осложнить ситуацию.
— Галина Стюарт, — сказал Слава, — ехала в гости к моей бывшей жене Алле. Ну объясни, Лида, в конце концов!
Иришка, которой надоело стоять в коридоре и подслушивать вместе с краснодарскими Кошками, вошла в кабинет и попыталась устроиться у дверей.
— Ирина! — строго сказал Слава. — Тебя не звали.
— Я сама пришла, — ответила Иришка голосом трудного подростка.
Инспектор опять замолчал, переводя взгляд с Иришки на родителей. Но так как никто не стал представлять ему девушку, он вопросительно посмотрел на Лидочку.
Лидочка рассказала инспектору о том, что вчера утром приехала бывшая миссис Кошко, и они сговорились с ее приятельницей Галиной Стюарт, что та навестит их в семь часов.
— Есть ли у вас еще знакомые в Лондоне? — спросил инспектор у Аллы.
— Нет, — твердо соврала Алла.
Остальные промолчали. И было понятно — какие бы ни были у Аллы знакомые, она не хотела, чтобы им наносила визиты полиция. Мы, русские, люди второго сорта, опасны, как персы-фундаменталисты.
— Я всего сутки как в Лондоне, — сказала Алла. — И никогда не была здесь прежде.
У нее были светлые, фарфоровые красивые глаза, искусственные и неподвижные, как у чучела.
— Давно ли вы видели свою подругу? — спросил инспектор.
— В прошлом году, — ответила Алла, — В Москве. Я очень ждала этой встречи. Я соскучилась по моей подруге.
Алла вытащила из кармашка джинсов шелковый платочек и осторожно приложила к глазам. Жест был неожиданным, неестественным и демонстративным. Лидочка подумала, что на месте инспектора она тут же заподозрила бы Аллу в соучастии в убийстве лучшей подруги.
— С кем из русской колонии миссис Стюарт поддерживала отношения? — спросил инспектор.
— Я не знаю, — сказал Слава, к которому и был обращен вопрос. — Я с ней не поддерживал отношений. Я вообще ее ни разу здесь не видел. Я встречался с ней несколько лет назад в Москве. Тогда ее звали Галка Величко. Так и скажи этому инквизитору!
Семейство Кошко постепенно теряло контроль над собой. Лидочка подумала, что еще три минуты такой беседы — и все сознаются в убийстве несчастной Галины.
Очевидно, такой финал визита не входил в планы инспектора. Возможно, он как раз собирался на ранний ланч, а тут эти вспыльчивые русские мафиози!
— У меня будет просьба к вам, мистер Кошко, и к вам, миссис Кошко, а также к вам, миссис Берестоу. Если вам станет что-либо известно о связях или знакомствах миссис Стюарт, которые могли бы иметь отношение к ее гибели, я попрошу вас позвонить мне по этому телефону.
Достав из бумажника визитку, инспектор положил ее на журнальный столик. Все посмотрели на визитку, как на скорпиона.
Так как никто не сделал даже попытки проводить инспектора, Лидочка взяла обязанности хозяйки дома на себя. Инспектор пропустил ее в дверь. Василий и Валентина, как вставшие на хвосты моржи, отвалились от двери и втиснулись в чуланчик для щеток под лестницей.
— У вас замечательный английский язык, — сказал инспектор. — Хотел бы я так говорить по-русски.
— У вас все впереди, — подбодрила полицейского Лидочка.
— Я продолжаю ходить на курсы, но нерегулярно. А вы знаете, как важна регулярность при изучении иностранного языка?
Когда он говорил, открывались верхние зубы, и инспектор становился похожим на кролика.
— Да, я представляю, — согласилась Лидочка.
Возможно, инспектор был совершенно искренен — его и в самом деле занимала проблема изучения русского языка. Но Лидочке трудно было в это поверить. Казалось, что инспектор хитрит, притворяется, ожидая, чтобы Лидочка о чем-то проговорилась. И откуда ему знать, что ей не о чем проговариваться.
Лидочка открыла инспектору дверь, чувствуя спиной взгляды соплеменников.
Инспектор изобразил радостную улыбку.
— Я был счастлив с вами познакомиться, — сообщил он. — И у меня есть предчувствие, что это не последняя наша встреча.
— Вы уверены? — без радости спросила Лидочка.
— Если что-то узнаете, позвоните мне, — попросил инспектор Слокам. — Вы не имеете отношения к этому семейству?
— Я здесь гость.
Они вышли в палисадник.
Инспектор достал еще одну визитную карточку и вручил ее Лидочке.
Машина у него была новая и мощная. Лучше, чем у Славы.
Инспектор уселся в машину не с той стороны, как положено делать нормальным водителям. Лидочка все еще не могла привыкнуть к английскому движению. Словно оказалась в Зазеркалье.
Когда Лидочка вернулась в кабинет, где собрались все Кошки, она застала знаменательный момент из страусиной жизни.
Слава гадливо сжимал двумя пальцами визитку инспектора. Он поджег ее зажигалкой и держал над пепельницей, пока визитка не сгорела вся, кроме уголка. Уголок он кинул в пепельницу.
— Все! — решительно сказал Слава. — Забыли и развеяли по ветру.
— Вашей инициативы недостаточно, — возразила Лидочка.
Все посмотрели на нее, как на отвратительную предательницу. Так что Лидочка сочла за лучшее уйти к себе в комнату.
Глава 14
После ухода инспектора прошло больше часа. Дом шептался. Может, виной тому был мелкий дождь, коротко простучавший коготками по крыше и стеклам. Но Лидочку не покидало ощущение, что шепчутся по комнатам обитатели дома. Слава секретничает с бывшей женой, вот Иришка вмешивается в их шепот, а в другой комнате шуршат, собирают вещи, чтобы бежать отсюда, Василий с Валентиной.
На Лидочку обрушилось бессилие. Ей бы пойти по делам, сходить бы в агентство или позвонить в Лондон, Саше Богородскому, к которому у нее бандероль от Андрея. По своей натуре Лидочка была человеком деятельным и подвижным. А тут она испугалась. И даже могла признаться себе в этом. Именно испугалась.
Ей казалось, что если она выйдет на улицу, то немедленно встретит Геннадия или его друга. Воображение рисовало ей их в машине, крадущейся вдоль тротуара. Вот Геннадий поднимает пистолет и целится ей в спину… Чепуха какая-то! В Лондоне немало собственных бандитов или хулиганов. Почему бы в метро не оказаться мусульманскому фундаменталисту, который не терпит, когда дамы ездят в подземке без чадры?
Впрочем, главное Лидочке было ясно: Алла еще вчера, когда они были на станции, знала, что Галина к ним не приедет. И весь вечер знала об этом. Если бы Лидочка была чуть внимательнее, она бы сама об этом догадалась. Не надо было ждать появления английского инспектора со знанием русского языка (как в анкете: «читаю со словарем»). Алла даже проверила себя, получив подтверждение по телефону. Все в порядке… «Но если у тебя такие странные подозрения насчет миссис Кошко, тогда объясни мне, Лидия, зачем Алле участвовать в таких делах, а главное, какую пользу может принести Алле смерть ее подруги, женщины редкой судьбы? Неужели бывшая супруга Славы каким-то образом угодила в мафиозные дела, в которых замешана и покойная Галина? Впрочем, никто тебе эту тайну не раскроет».
Лидочка распахнула окно.
Теплый, напоенный запахами сада и недавно скошенной травы воздух словно ввалился в комнату. На соседнем участке жужжала газонокосилка — сосед, обнаженный до пояса, в длинных шортах, трудился, как пахарь, самозабвенно и упорно. Наверное, у него не было времени косить до дождя. Впрочем, уже распогодилось, сквозь тонкие облака просвечивало солнце.
Ведь не случайно они поставили в кустах микрофон. Интересно, рассказали Алле об этом ее близкие?
Без реальных к тому оснований воображение Лидочки строило некоторый заговор, в котором сплетались роли Аллы, Геннадия, еще одного человека, а жертвой оказывалась неизвестная Галина. Но если жертвой стала Галина, то кто следующий? Если ты не знаешь, из-за чего погибла Галина, то не можешь считать себя застрахованной от ошибки, погубившей миссис Стюарт. Жаль, что газеты остались внизу, на кухне… Надо посмотреть в других газетах, там тоже могут быть статьи о происшествии в метро.
Лидочка спустилась в столовую. Спускалась она босиком, стараясь проскользнуть беззвучно, будто боялась кого-то разбудить.
Газет на кухне не было. Кто-то их взял.
Что-то звякнуло. Лидочка обернулась. Иришка наливала кипяток в чашку с растворимкой.
— Я думала, что ты газеты взяла, — вполголоса сказала Лидочка.
— А я думала, что вы их взяли, — ответила Иришка.
Она была непричесана, совсем без косметики, волосы спутаны. Даже губы не накрашены. И очень бледная.
— Кто же тогда? — спросила Лидочка.
— Для этого не надо быть Шерлоком Холмсом, — пожала плечами Иришка. — Валентина с Василием не знают ни одного языка, кроме украинского устного, а эта проспала школу, когда проходили английские слова.
Лидочку поцарапало слово «эта». Им Иришка словно дистанцировалась от матери. В этом была ненужная демонстрация обиды, непонятной Лидочке. Или Иришку тоже мучают подозрения, одолевающие Лиду?
— Поэтому загляните к фазеру, — посоветовала Иришка. — Он вынюхивает информацию. Боится.
— Боится за Аллу? — не поняла Лидочка.
— Да нет, за себя, — ответила Иришка. — Он же с этой Галиной две недели назад встречался. То ли она что-то ему передавала, то ли он ей.
— Алла знает о микрофоне? — спросила Лидочка.
— А вы у нее спросите. — Ответ прозвучал после долгой паузы. Видно, Иришка решала, но так и не смогла решить, что же ответить. Лидочка поняла, что Алле о микрофоне не сказано.
На кухню, видно, услышав голоса, заглянул Слава.
— Газеты у тебя, фазер? — спросила Иришка.
— Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не звала меня этим уродливым прозвищем!
— Это не прозвище, — сказала Иришка. — Это кликуха. Мы с тобой в законе, и это твоя кликуха.
— Ирина!
— Пожалуйся на меня Алле, — сказала Иришка и вдруг зарыдала — громко, хлюпко, до кашля.
Она выбежала из кухни и простучала пятками по лестнице наверх.
— Если вы делаете кофе, — сказал Слава, — не забудьте и меня.
— Сейчас поставлю воду.
— Вы не сердитесь на Иришку.
— Мне не за что на нее сердиться.
— Ей сейчас приходится несладко.
— Я чувствую.
— Чувствуете или знаете?
У Славы была странная привычка втискиваться в углы, как будто он вечно боялся, что на него нападут сзади. А в углу не заметят.
— Я у вас на подозрении. — Лидочка постаралась улыбнуться. Ничего не вышло. — С того момента, как нашла микрофон. На свою шею.
— Я этого не сказал.
— Тут и говорить не надо. Но подумайте: зачем бы мне сдавать вам микрофон, если бы я была связана с вашими недругами?
— Все бывает, — ушел от ответа Слава.
— Остается одна возможность, что враги ваши различны и многообразны. Я могу принадлежать к любой из партий.
Слава показал на плиту. Лидочка взглянула туда — вода в кастрюльке с длинной ручкой уже закипала. Лидочка достала из шкафа высокие кружки с астрологическими знаками и символами, насыпала кофе из банки и залила кипятком. Слава принял из ее рук кружку и пошел с ней в столовую.
Лидочка последовала за ним.
— Сегодня ничего не изменилось? — спросила Лидочка.
— Разумеется, изменилось, — раздраженно сказал Слава. — Вы это знаете не хуже меня.
«Что ж, не хочет говорить — его воля».
— Мне надо будет с вами посоветоваться, — неуверенно сказал Слава. — Но это зависит от моего разговора с одним человеком… в Москве.
— С кем?
— Я должен убедиться, что вы та, за кого себя выдаете.
Лидочка вздохнула:
— Это похоже на детективный роман с переодеваниями.
— Я слишком дорого стою, — сказал Слава. — К сожалению, я слишком дорого стою.
— Подарите свой дом бедным детям.
— Не поможет. Домом не отделаешься.
В дверях появилась Алла.
Она стояла, переводя взгляд со Славы на Лидочку, словно прижавшаяся к земле кошка, завидевшая собак.
— Может, кофейком угостите? — пропела она.
Лидочка сходила на кухню и принесла ей кофе.
— О чем-то интересном разговаривали? — спросила Алла.
— Да, — сказала Лидочка.
— О чем же?
Они сидели втроем за круглым столом и мирно пили кофе.
— О Галине, — ответил Слава.
— Ну хватит о ней! — капризно сказала Алла. — Найдите тему более жизнерадостную.
— Вы поедете на похороны? — спросила Лидочка.
— Еще чего не хватало! — возмутилась Алла. — А что, если ее и в самом деле мафия убрала? А что, если она была связана с какими-то темными типами? Мне совершенно ни к чему с ними засвечиваться. Да и тебе, Слава. Чем меньше людей знают о нашем состоянии, тем спокойнее. Ведь вагоны не разбирают, кто хороший, а кто плохой, правда, Лида?
— Наверное, вы правы, — согласилась Лидочка, отметив для себя странную оговорку Аллы о «нашем» состоянии.
Слава резко поднялся и сказал:
— Мне надо позвонить.
— Куда? — сразу же спросила Алла. Уже не как бывшая, а как самая настоящая, действующая жена.
— Маме, — ответил Слава.
— Уверен, что маме?
— Уверен.
— Учти, я буду подслушивать. — И Алла неестественно засмеялась.
Слава вышел из столовой.
Алла повернулась к Лидочке:
— Ничего не могу с собой поделать. Вроде бы мы расстались, и у каждого своя жизнь, но продолжаю его ревновать. Никаких оснований, но ревную.
Слава не стал звонить с аппарата, стоявшего в коридоре, а пошел к себе в кабинет, чтобы позвонить с параллельного.
Алла навострила уши, может, и в самом деле ревновала. Может быть, их отношения со Славой куда сложнее, чем кажется на первый взгляд? И ее приезд не только дань вежливости оставленной в прошлом жены?
Послышался звонок. Лидочка и Алла замерли с чашками в руках, слушали, кто пришел.
Открыла Валентина — их комната была ближе всего к входной двери.
Слышно было, как она говорит, а ей отвечает довольно высокий мужской голос. Но о чем говорили, слышно не было.
Дверь снова хлопнула, и в столовую вошла Валентина.
— А Иришка не здесь? — спросила она бессмысленно.
— Наверное, спит, — ответила Алла. — А что?
— Ихний Роберт приходил, — сказала Валентина.
— Кто? — не поняла Алла.
— Приятель-воздыхатель, — засмеялась Валентина.
Алла испытала облегчение. Лидочка видела, как разошлись мышцы лица и лицо стало шире и мягче.
Валентина положила на стол пакет, небольшой бумажный пакет, какие дают в сувенирных магазинах, если вы покупаете значок или открытку.
В пакете лежал микрофон. Тот самый несчастный микрофон, который отыскала в саду Лидочка, а Иришка отдала мистеру Ричардсону, чтобы тот разобрался.
— Что там? — спросила Алла.
— А я знаю?
Валентина ушла, а Алла сразу же полезла в пакетик.
Лидочка хотела было остановить ее и даже испугалась, что Алла увидит этот микрофон. Но потом подумала, что интереснее поглядеть, как будет вести себя Алла, и понять, знает ли она что-нибудь о таких микрофонах.
Алла вытащила микрофон.
— Это что? — спросила она.
— Микрофон, — ответила Лидочка.
— Вижу, что микрофон. — Алла явно думала о другом.
Лидочка почему-то подумала, что волосы ей пора бы подкрасить. Корни были куда темнее кудрей.
В столовую заглянула Иришка.
— Кто ко мне приходил? — требовательно спросила она.
— Роберт, — сказала Лидочка.
— Возьми, он тебе микрофон принес, — сказала Алла и подвинула пакетик по столу к Иришке.
— Какой микрофон? — Иришка не сразу сообразила, но, сообразив, не знала, как ей себя вести.
— Ты что? — Алла сразу насторожилась. Интуиция у бывшей Славиной жены была развита на славу. Конечно же, она кошка, кошка-оборотень. В Китае, например, лисицы-оборотни самые известные и подлые сказочные существа и встречаются чаще, чем лешие в наших лесах.
— Я совсем забыла, что давала ему, — неубедительно сказала Иришка и слишком быстро взяла микрофон со стола. Она еще не умела толком притворяться, особенно перед своей мамой.
Зато Лидочка наверняка узнала, что Слава и его дочь не рассказывали Алле о находке микрофона и тех русских, что бродили на задах дома.
— А где папа? — спросила Иришка у Лидочки, непроизвольно пряча руку с микрофоном за спину.
— В кабинете, по телефону говорит.
— Иришка, — сказала Валентина, появляясь в дверях, — твой Роберт сказал, что они с отцом его отключили, а то, грит, он может заработать, и все ваши тайны улетят к врагам. Он сказал, что ты поймешь.
— Что за чепуха! — рассердилась Иришка. Даже покраснела от смущения и гнева. — Придумаешь ты, Валентина!
Она выскочила из столовой, оттеснив в коридор толстую Валентину.
— Что с ней случилось? — удивилась Валентина. — С ума вы здесь, что ли, посходили?
— У них сложные отношения с Робертом, — пояснила Лидочка больше для Аллы, чем для Валентины. — Девочка смущается.
— Кто этот Роберт? — спросила Алла.
— Это соседский мальчик, — объяснила Лидочка. — На этой улице живет. Англо-болгарин. Есть такая нация.
— Он говорит по-русски?
— Как мы с тобой, — сказала Валентина. — Хороший мальчик.
Лидочка пошла на кухню разогревать воду для кофе. Тонкая фанерная перегородка в окошке не была преградой для звуков. Слышно было, как в кабинете разговаривают Слава и Иришка.
— Эта дура Валентина прямо ей под нос положила! — жаловалась Иришка. — Ты понимаешь?
— А может, ничего страшного? Она что-нибудь заподозрила?
— Не знаю. У Лидочки надо спросить. А ты в Москву звонил?
— В Москву.
— И что?
— Мама разговаривала с Ульяной. Ульяна знает их семью.
— Значит, все в порядке?
— Думаю, что в порядке… Только кому сейчас можно верить?
— Фазер, если никому не верить, мы с тобой в пропасти. Нам надо кому-то верить. А то я уеду домой.
— И оставишь меня совсем одного?
— А что мне делать? Уйти к Роберту?
— Зачем?
— Стану его наложницей.
— Интересно, как к этому отнесутся его родители? — спросил Слава. — Ему уже есть шестнадцать?
— Ему уже шестнадцать. Ты отлично знаешь. И можешь обойтись без этих издевательств.
— Лидочка, ты чего застряла? — спросила из столовой Алла.
Лидочка вернулась в столовую и прикрыла за собой дверь на кухню. Ей не хотелось, чтобы Алла догадалась о замечательном месте для подслушивания. Как шкаф в английском замке. Или секретная лестница в Версале.
Она подлила горячей воды в чашку Алле. Та насыпала растворимки. Дом продолжал существовать какой-то походной, неустроенной жизнью, несмотря на то, что в нем с каждым днем прибавлялось женщин.
— Она с этим Робертом спит? — спросила Алла.
— Вы мать, вам удобнее спросить, — пожала плечами Лидочка.
— Давай на «ты» перейдем, — предложила Алла. — Все-таки в одном доме живем.
— У меня это получается как-то само собой…
— Как хочешь. Была бы честь предложена.
Лидочка поняла, о чем говорили в кабинете Слава с дочкой. Оказывается, он додумался проверить, можно ли доверять Лидочке или она наемница русской мафии. Значит, Слава звонил своей Марксине Ильиничне, а та проводила разведывательную работу в Москве. Ульяна — приятельница Теодора, к тому же она работает в институте Андрея. Ее сведения о Берестовых не должны вызывать сомнений. И Ульяна поведала Славиной маме, что Берестовы к мафии не имеют отношения. И на том спасибо. Впрочем, может ли Лидочка винить или упрекать Славу за то, что он занялся проверкой? А что бы ты делала на их месте? Они чем-то запуганы, сбиты с толку смертью Галины, они не доверяют собственной жене и матери. Живут, как унесенные ветром листья, в чужой стране. В доме, но бездомные. Может, и к лучшему, что они это выяснили, ведь и Лидочке не хочется жить в подозреваемых.
— Рано ей еще с мальчишками трахаться, — сказала Алла. — Я до семнадцати лет потерпела. Зато потом дала жару. Но ты, по-моему, не очень сексуальная.
— Это вопрос вкуса, — обиделась Лидочка. Не очень приятно, когда тебя объявляют несексуальной. Даже если это обвинение звучит из уст женщины, тебе не симпатичной.
— Ты в город не собираешься? — спросила Алла.
— Нет, не собираюсь.
— Жалко. А я бы съездила. Чего сидеть в глуши? Надо же было дом купить в такой деревне. Все равно что в Люберцах. Или еще дальше. Тоже мне, миллионер называется, новый русский. Ты анекдот про нового русского знаешь?
Тут, к счастью, вошли Слава с Иришкой.
— Завтра тебе рано вставать, — сказала Алла Славе.
— Я помню, — ответил Слава. — Я уже созвонился с Питером. Мы встречаемся в десять.
— Я тебе нужна?
— Нет.
— Впрочем, от меня там пользы мало, — согласилась Алла. — Когда английский в школе учили, я болела.
Она засмеялась. У Аллы, оказывается, была дежурная шутка.
— Лида, — спросил Слава, — вы завтра утром свободны?
— Вам нужна моя помощь?
— На час. А потом я вас отвезу, куда вам надо.
— Хорошо, — ответила Лидочка.
— Ты что, не можешь обойтись без друзей и подруг? — спросила Алла.
— Мне удобнее с друзьями и подругами, — ответил Слава.
— Как знаешь. У нас, олимпийцев, главное — не участие, главное — результат. Так сказать, золотая медаль.
— Значит, договорились, — сказал Слава Лидочке.
Весь вечер за стенкой гремел приемник. В тяжелые моменты жизни ребенок оглушал себя тяжелым роком.
Глава 15
«В этом доме не соскучишься», — подумала Лидочка, поднявшись утром и ожидая, пока Алла освободит ванную. Алла громко пела неприличные частушки.
Слава постучал в дверь Лидочкиной комнаты.
— Вы готовы?
Он был в пиджаке, при галстуке и являл собой образ какого-то диккенсовского героя, замученного бедностью и необходимостью сводить концы с концами. Но бедность его была заштопана, вымыта с мылом и благородна. Твидовый пиджак был Славе широк, да и непригоден для теплого дня.
— Через двадцать минут, — разочаровала Славу Лидочка.
Когда Лидочка спустилась в столовую, Алла уже сидела за столом. Рядом с ее чашкой стояла рюмка и бутылка джина.
— Счастливого пути, голубки, — сказала она. — Смотрите не изменяйте своей мамочке.
Слава подошел к машине, открыл дверцу. Тут же, как будто получив сигнал, из дома выскочили краснодарские родственники. Они так спешили, что застряли в дверях, а уступать дорогу не умели.
— Как хорошо! — закричал Василий, вырываясь вперед. — Мы как раз собрались в Сиднем-Вест, там распродажа!
— Мы в Пендж, — ответил Слава, не скрывая некоторого злорадства.
Василий замер в растерянности.
Но Валентину так просто отпугнуть не удалось.
— А мы ведь с тобой собирались в «Хоум-Бейз» зайти. Как раз по дороге.
— Но мы налево от переезда, — сказал Слава, уже сдаваясь.
— Ничего, мы пешком добежим. Добежим, Вася?
Вася уже забирался в машину.
Слава вел машину осторожно.
— Так я и не научился ездить по левой стороне, — сказал он. — И не научусь уже.
— Так ты осторожнее, Славик, — попросила Валентина. — Жизнь человеку дается тильки раз…
— Валентина, бросьте вспоминать украинские слова, — раздраженно бросил Слава. — Поздно вам стараться. Ведь еще лет пять назад вы мне говорили, что такого языка нет.
— Передумала, — быстро ответила Валентина. — Как побывала гражданкой великой страны под названием Окраина, так и вспомнила про язык.
— Ты думаешь, она знала? — неожиданно спросил Василий.
— Бог ее знает, — ответил Слава.
Лидочка поняла, что разговор идет об Алле и о смерти Галины. Краснодарские Кошки не блюли моратория.
Слава вел машину медленно, но на встречную полосу не выезжал.
Они миновали станцию, потом по узкой улице, протянувшейся вдоль путей, достигли проезда под путями и оказались по ту сторону железной дороги, в Пендже. На главной улице Пенджа Слава остановил машину. Василий с Валентиной вылезли. Они знали, что теперь Славе предстоит припарковать машину, что он делал с трудом и без умения.
Слава заехал на небольшую площадку за главной улицей.
— Как говорится, — сказал он, — теперь остались только свои. Мне надо вам кое-что объяснить.
Он захлопнул дверцу, и они пошли пешком между двумя большими магазинами к центру.
— У меня возникла необходимость составить некоторые документы, — сказал Слава. — Сделать это я могу только с помощью адвоката. Их здесь называют солиситорами. Слышали?
— Слышала.
— У меня есть свой. Питер. Хороший парень из Белфаста, но не любит, когда стреляют. Недорогой, но честный. Мы с ним вообще-то понимаем друг друга, но сегодня ответственный момент. Он сначала подумает, что я сошел с ума. Но я не сошел с ума. Я — жертва обстоятельств. Так что вы тоже не удивляйтесь.
— Я вам нужна как переводчик?
— Как переводчик, которому я могу доверять, — сказал Слава.
— Почему это вы вдруг решили мне доверять?
— Разве это так важно?
«Не будет он признаваться, что в Москву звонил», — поняла Лидочка.
— Я звонил в Москву, — сказал Слава, — и просил маму узнать, не из их ли вы компании.
— Из кого?
— Из охотников за мной, — серьезно ответил Слава.
— Почему за вами нужно охотиться?
— Потому что я богатый. И незаслуженно богатый.
— А кто же охотники?
— Если бы я знал!
— Может, их и нет?
— Они есть.
Они миновали распродажу дешевой одежды. Рубашки, трусы и прочие вещи лежали в больших коробках на тротуаре. Вокруг балабонили веселые толстые негритянки.
Адвокатская контора умещалась между двумя магазинами. Стеклянная дверь вела в узкую длинную комнату. У окна стоял кожаный потертый диван и столик со старыми и драными журналами, как в дешевой парикмахерской. В глубине за большим столом сидела девушка в очень массивных очках с затемненными стеклами.
Девушка узнала Славу, как только он вошел, и тут же нажала на кнопку.
— Мистер О'Келли, к вам мистер Кошко.
Она встала, чтобы показать, куда Славе идти. Но он и без указаний знал дорогу.
Питер О'Келли вышел на лестничную площадку второго этажа. Дом, зажатый между магазинами, был выдавлен ими наверх. В нем оказалось четыре этажа, соединенных крутой узкой лестницей. На четвертом находился небольшой кабинет владельца конторы, который в упрощенной форме повторял кабинеты адвокатов и стряпчих с иллюстраций к Диккенсу или даже к Смоллетту. Только вместо шкафов с сотнями томов законов всех времен и стран в кабинете был стеллаж в три полки, вместо стола красного дерева, на котором можно было танцевать, — ученический стол с корзинкой для входящих и исходящих, вместо обширного черного кожаного кресла — легкомысленное вертящееся креслице, а визитеры же вообще были вынуждены сидеть на стульях. И стены были просто белыми — ни одного портрета предка, ни фотографий скаковых лошадей — только диплом Питера в тонкой рамке.
Питер оказался небольших размеров упитанным темноволосым человеком с наивными голубыми глазами, выражение которых не гармонировало с быстрым и подчеркнуто деловым тоном голоса и выверенными короткими движениями рук.
После краткой церемонии представления и приветствий Питер занял свое кресло за столом и жестом пригласил визитеров садиться.
— Я ждал вас, — сообщил он Славе.
— Разумеется, — кивнул Слава. — Мы с вами уже обсудили предварительно мои дела.
— Ваше решение мне кажется опасным и безрассудным, — сказал Питер. — И это я говорю вам не как ваш солиситор, а как друг.
— Я знаю, — покорно согласился Слава. — Но у меня есть обязательства… Можно дальше Лидия будет переводить? Я боюсь неточностей.
— Надеюсь, вы предупредили вашу подругу, что наш разговор более чем конфиденциален?
— Миссис Берестова, — сказал Слава, — обещала мне, что все, сказанное здесь, останется между нами.
— Я все правильно понял? — обратился адвокат к Лидочке.
— Давайте обсудим, — торопил Питера Слава. — У меня мало времени.
— Правильно ли я понял мистера Кошко, — адвокат спрашивал у Лидочки, и та повторяла его слова для Славы, — что он намерен сейчас, срочно, невзирая на существенные финансовые потери, превратить в наличность пятьсот тысяч фунтов стерлингов, а также продать недвижимость на сумму более миллиона фунтов, и вырученные деньги перевести на указанный вами счет в Швейцарии?
Лидочка перевела вопрос, поражаясь услышанному.
Первое, что ее поразило, заключалось в самой сумме, которой мог распоряжаться Слава. Значит, у него было по крайней мере полтора миллиона фунтов, более двух миллионов долларов, и, наверное, это были не последние его деньги. Второе: не вызывало сомнения и то, что полтора миллиона фунтов Слава намеревался кому-то заплатить. Немедленно.
— Да, вы меня поняли правильно, Питер, — сказал Слава.
— Разумеется, вы можете продать и ваши акции, и даже уступить вашу долю в отеле «Мэйфер» в Бристоле. Но я думаю, что даже ваш банк также будет возражать против вашего решения.
— Когда я могу получить деньги? — спросил Слава.
Он был как орешек, который, позванивая, болтался внутри обширного просторного костюма. Воротник сорочки был велик и стянут галстуком, отчего сморщился и один уголок его торчал вперед, будто Слава впервые в жизни повязал галстук.
— Вы — мой первый русский клиент, и я надеялся, что все разговоры о загадочной русской душе, о русских безумствах и так далее — выдумки газетчиков. Вы заставляете меня изменить мое мнение.
— Меня вынуждают к этому обстоятельства.
— Простите, но я приблизительно знаю о ваших обстоятельствах. Никаких финансовых сложностей вы не испытываете, никаких обязательств перед семьей не имеете…
— Я обязан помочь моей бывшей жене, — признался Слава.
— А что с ней случилось? Зачем одинокой женщине в России срочно может понадобиться полтора миллиона фунтов стерлингов?
— Считайте это русским безумством.
— Не верю, — сказал Питер. — Хотите чего-нибудь прохладительного?
Слава и Лидочка в один голос отказались.
Лидочка все старалась осознать масштабы названной суммы. Полтора миллиона фунтов! И в самом деле, зачем Алле могли понадобиться такие деньги?
Догадка лежала на поверхности, но верить в нее не хотелось.
Алла стала жертвой шантажа.
Или передаточным звеном в заговоре, направленном на то, чтобы ограбить Славу.
Очевидно, Иришка знает об этом, но Василий с Валентиной вряд ли. И кто же тогда Алла? Невинная жертва или участник заговора?
— Не надо подозревать меня в том, что я русский мафиози, — попросил Слава. Голос его был жалким. Он на самом деле умолял адвоката о снисхождении. Ему было страшно, поняла Лидочка. Страшно казаться преступником в глазах добропорядочных англичан, страшно потерять доверие Питера как олицетворения этих англичан.
— Может быть, вам следует обратиться в полицию? — осторожно спросил Питер. — У меня есть знакомый, который работает в специальном отделе Скотленд-Ярда.
— Нет, — решительно сказал Слава. — Ничего хорошего из этого не выйдет.
«Он знает, — думала Лидочка, — что смерть Галины тоже каким-то образом связана с появлением Аллы. Галина знала нечто, испугавшее Геннадия… условно говоря, Геннадия».
— И тем не менее, — сказал Питер, — я считаю своим долгом напомнить вам, Вячеслав, что вы находитесь в государстве, которое может оградить своих подданных…
— Я подданный России.
— Вы имеете вид на жительство в Великобритании и можете получить гражданство, как только того пожелаете.
— Питер, уверяю вас, что я хотел бы не трогать этих денег. Но меня вынуждают обстоятельства. И я достаточно взрослый человек, чтобы решить, как распорядиться деньгами.
— Если вы стали жертвой шантажа, — ответил Питер, вежливо и холодно выслушав перевод Лидочки, — то учтите, что шантажист, как правило, не ограничивается первой добычей. Он будет трудиться, пока не высосет вас досуха.
— Я постараюсь, чтобы так не случилось, — сказал Слава и этим признал правоту Питера.
— Наверное, вам не стоило… — Питер оборвал начатую фразу. Лидочка не переводила, смотрела на него. Слава тоже смотрел на юриста.
После короткой паузы Питер заговорил о другом:
— Я полагаю, что результаты обследования возможностей продажи недвижимости и ваших акций будут известны в банке через три дня. Утром я разговаривал с мисс Парсонс из Сиднемского отделения. Она свяжется с эдинбургским трастом. Но потери, которые вы понесете, делают ваше решение по крайней мере сомнительным.
Слава слушал монолог адвоката, как проштрафившийся школьник, не поднимая глаз.
Питер оборвал свою речь. Он понял, что школьник неисправим.
Слава поднялся и спросил:
— Мне нужно пойти к Шейле?
— Я думаю, что визит к мисс Парсонс не будет излишним. Она ожидает вас.
Питер вышел за ними на лестничную площадку. Он не скрывал своего разочарования, даже обиды на клиента.
— Вы позвоните мне, когда будут новости? — спросил Слава.
— Обязательно, — обещал Питер.
Ждать, пока клиенты спустятся, он не стал. Когда Лидочка подняла глаза, адвоката уже не было.
— Теперь куда? — спросила она у Славы. — В банк?
Дверь конторы мягко закрылась за ними. По улице несся жаркий ветер. Он гнал обрывки бумаги. Погода явно менялась.
— Вы не спешите? — спросил Слава.
— Я не спешу, — сказала Лидочка. — Но полагаю, что вы ведете себя нечестно.
Они остановились перед большим ящиком, с верхом загруженным рулонами туалетной бумаги. Дальше на тротуаре стояли коробки с хозяйственными мелочами — шла распродажа хозяйственных товаров.
— Почему нечестно?
Раньше Лидочка не замечала, какой у него цвет лица — серая, в каких-то малиновых точках кожа, а волосы редкие, жирные. И красный кончик носа. Вид его был жалок.
— Я перевожу разговоры, которые мне непонятны.
— Придет время, я расскажу, — пообещал Слава, не поднимая глаз.
— Слушайте, Слава, что за выражения: придет время! Вы выражаетесь как в дурном романе.
Слава, задумавшись, взял рулон туалетной бумаги и крутил его в руках. Индус-продавец поспешил от дверей магазина и спросил:
— Вы будете брать, сэр?
Слава никак не мог понять, чего от него требуют.
Лидочка отобрала у него рулон и кинула обратно в ящик. Она взяла Славу под руку и повела прочь, к машине.
Больше она не стала расспрашивать. Тем более что в ходе разговоров, которые она переводила, открывались все новые обстоятельства. Хотел того Слава или нет, но желание использовать Лидочку в качестве бесплатного переводчика ставило его в положение невольного распространителя информации. Лидочка не могла находиться рядом со Славой и не догадываться о действительном положении вещей.
Они подъехали к банку. Там толстая, чрезмерно жизнерадостная мулатка, мисс Парсонс, уже ждала их, широко улыбаясь и демонстрируя множество крупных жемчужных зубов.
Она провела их в свой кабинетик, где начался второй этап разговора о деньгах, также полный нескрываемого недоумения со стороны англичанки, неспособной понять, почему у цивилизованного человека может сложиться ситуация, когда ради получения миллиона наличными он может пожертвовать двумястами тысячами.
От мисс Парсонс пахло очень сладкими духами, в кабинке-кабинете было трудно дышать, словно внутри тропического цветка.
Мисс Парсонс убедительно доказывала Славе, почему он не имеет права так себя вести. Потом Слава, все выслушав, сказал, что договорился с Питером о том, чтобы устроить совещание по поводу денег через три дня, когда все документы будут готовы.
Затем мисс Парсонс стала показывать Славе бумаги, которые должны были подтвердить правильность ее позиции.
— Не для перевода, — сказал Слава Лидочке. — Они мне страшно надоели. Лезут и лезут. Как будто это их деньги. Все равно же ничего не изменится.
Мисс Парсонс замолчала и смотрела на Лидочку, ждала, когда та переведет.
— Это не относилось к делу, — сказала Лидочка.
Когда они вышли на улицу, Слава сказал:
— Словно к проктологу сходил.
Лидочка не сразу сообразила, чем занимается проктолог. Потом вспомнила, что задними частями тела.
Она ждала, что Слава сейчас объяснит ей, что же скрывалось за утренними визитами, но Слава не спешил откровенничать.
— Вы домой или по делам? — спросил он.
— По делам, — ответила Лидочка.
— Куда вас подвезти?
— Не надо, спасибо, — отказалась Лидочка. — Я на автобусе доеду.
Слава должен был возмутиться, возразить, но он думал совсем о другом. Он использовал Лидочку, как проездной билет, и выкинул, сойдя с автобуса.
Лидочка доехала до станции, откуда добралась до Бромли. Ей нужно было посетить магазин «Икеа», чтобы посмотреть на скандинавскую мебель для будущей конторы.
Глава 16
Возвращалась Лидочка уже к вечеру. Ветер стих, солнце скрылось за вершинами деревьев, и тени стали длинными и глубокими. Но день еще не кончился, и верхушки деревьев купались в солнечном тепле.
Неверно было бы сказать, что Лидочка не думала о странных визитах к солиситору и в банк. Но английский летний день обладает счастливым качеством рассеивать грустные мысли и приводить человека к внутреннему миру. Может быть, англичанам это свойство их климата неизвестно, но для русских людей, лишенных внутреннего покоя, Англия служит полезным лекарством. И если бы можно было переселить всех желающих русских в Англию, то настроение и нервность нашей нации претерпели бы перемены. Русские бы изменились к лучшему. Правда, страшно подумать, что бы стало с теми, кто не хочет иной, кроме российской, жизни. Предоставленные сами себе и лишенные сдерживающих соседей, они скоро перебили бы друг дружку.
Сворачивая на Вудфордж-роуд, Лидочка не была готова к встрече с Аллой. Та стояла на углу, прислонившись к могучему клену, являвшему собой столб ворот, ведущих на старинную улицу.
— Поджидаю, — сообщила Алла.
Она курила. Несколько окурков валялись у ее ног.
— А что случилось? — спросила Лидочка.
— Об этом я у тебя хотела узнать.
Как поступать с человеком, который без твоего разрешения перешел на «ты» и не собирается менять свои позиции?
Лидочка попыталась обогнуть Аллу, но ничего из этого не вышло, потому что Алла сделала шаг в сторону, перекрывая путь.
— Погоди, — сказала она. — Мне нужен отчет. Ни больше ни меньше. Отчитайся, где были, что делали.
— Слава вам не рассказал?
— Расскажет. Но мне нужно от тебя услышать. От тебя.
— Почему?
— Потому что он тебя с собой возил. А меня здесь оставил. Хочу понять почему?
— Потому что ему нужна была переводчица, — сказала Лидочка. — И он сомневался в вашем знании английского языка.
— Слушай, не кривляйся, хорошо? Зачем ты меня сердишь? Я же о тебе буду плохо думать.
— Менее всего меня интересует ваше мнение, — сказала Лидочка. — Да пропустите же меня, наконец!
Она рванулась в сторону, выскочила на проезжую часть.
Алла кинулась к ней — в ее неожиданном движении было что-то от детской игры. А ну-ка догони!
Несясь домой, как будто в норку, Лидочка не ощущала себя женщиной средних лет, за которой по тихой английской улице бежит еще одна женщина средних лет, и обе приехали из России.
Алла бежала молча. Она догоняла Лидочку. Ну хоть бы закричала, чтобы превратить погоню в настоящую игру.
Алла протянула руку — Лидочка не увидела, но почувствовала, потому что Алла больно ткнула ее в спину, но, к счастью, едва дотянулась.
И тут показалась бегущая навстречу Иришка.
— Не смей! — закричала она.
Лидочке сначала показалось, что она имеет в виду ее, что сейчас дочка и мать, взяв ее в тиски, догонят и убьют… или ударят…
Но тут же сообразила, что предупреждение относилось к Алле. Иришка обогнула Лидочку и тут же столкнулась с матерью.
— Ты что?! — крикнула Алла. — Больно ведь!
— Не трогай Лиду!
— Да кто трогает твою Лиду?
Лидочка пробежала еще несколько шагов, остановилась и оглянулась.
Разгневанная Алла пыталась прорваться сквозь преграду в виде Иришки. Иришка уступала матери ростом, но была куда крепче, основательней и, главное, гораздо моложе.
— Ну ладно, — сказала Алла, — хватит этих штучек.
Она махнула рукой и медленно пошла к дому.
Лидочка тоже пошла к дому, но по другой стороне.
Иришка присоединилась к ней. Когда ей показалось, что мать далеко и не услышит, она прошептала:
— Вы осторожней, Лидия Кирилловна, она же злобная.
Вечером атмосфера в доме стала настолько напряженной, что даже Василий с Валентиной не посмели сунуться в кабинет к телевизору. Слава закрылся там и что-то писал. Иришка убегала из дома, но вскоре возвращалась. В одну из ее отлучек Лидочка услышала, как Алла спустилась и спросила у Валентины, как здесь звонят из автомата.
— А чего вам с автомата? Телефон же в коридоре, — наивно сказала хитрая Валентина.
— Не хочу, чтобы меня подслушивали, — ответила Алла.
— Ну, это конечно, — согласилась Валентина и принялась объяснять, что кидать нужно ихний гривенник, а еще можно купить карточку, так вот по этой карточке вообще можно куда хочешь звонить, даже в Москву, только получается невыгодно, потому что очень быстро отсчет идет.
— А у тебя гривенники есть? — спросила Алла.
— Вася, Васек, у тебя по десять пенсов остались? Ага, сейчас принесет.
Потом хлопнула дверь. Алла ушла.
Ужинали как-то поодиночке. То Слава вышел, пошуровал в холодильнике, а когда спустилась Лидочка, он как раз выходил из столовой с бутербродом. Лидочка перекусила, за стеной жевали Кошки.
Потом снова хлопнула дверь. На этой тихой улице звуков было так мало, что любой шорох доносился до самой глубины дома.
Лидочка сидела у себя и читала, стараясь побороть плохое настроение. Она подумала, что вернулась Алла, получившая инструкции от своего патрона. Лидочка уже убедила себя, что Алла — участница шантажа. Правда, она гнала от себя мысли об убийстве Галины, а то становилось страшно: ведь ты живешь в доме с человеком, который может быть как-то с этой смертью связан.
В дверь поскреблись.
— Войдите.
Это была Иришка.
— Вы не спите?
— Рано.
— Можно у вас посидеть?
— Заходи.
Иришка вошла и стала осматривать комнату, словно попала в незнакомое место.
— Садись, — пригласила Лидочка.
— Я на минутку. Пока ее нету. Я шла от Ричардсонов и увидела, что она бежит куда-то. Хотела проследить, а потом подумала — ну что я ее буду выслеживать? Кто она мне?
Так как Иришка сделала многозначительную паузу, Лидочка заметила:
— Кажется, мать?
— Такая же мать, как пылесос, — нелогично ответила Иришка. — Только я буду говорить тихо, чтобы эти Васечки не услышали. Они вечно подслушивают.
— Для этого им надо подняться на второй этаж.
— Лестница не скрипит, — сказала Иришка. — Я проверяла.
Она села на кровать рядом с Лидочкой, откинулась, опершись на локти, и положила ноги на стул. У Иришки были толстые щиколотки и икры.
— Ну и как она вам? — спросила Иришка вполголоса.
— Ты о своей маме?
— Она мне не мама, — сообщила Иришка. — И если никто вам не хочет этого сказать, я сама скажу. Должен же быть один нормальный человек на свете?
— Погоди, погоди…
— Тише!
Иришка по всем правилам романтической интриги должна была сначала взять с Лидочки клятву в том, что она никому не проговорится, затем не сразу, захлебываясь слезами, подвести ее к сути дела. Ничего такого не произошло. Иришка продолжала:
— Только не говорите, что вы ничего не подозревали. Тогда я подумаю, что вы врете или у вас крыша поехала.
— Отличное воспитание, — заметила Лидочка. — Но допусти, что я просто тупая или доверчивая. Я живу в чужом доме, я вас и недели не знаю. Потом приезжает твоя мама. Никто в этом не сомневается…
— Попробовали бы усомниться!
— Тогда расскажи мне все по порядку.
— Только никому ни слова. Я очень прошу! Я же вам рассказываю не потому, что вас обожаю, а потому, что мне деваться некуда. Конечно, есть Робертик, но что он понимает? Он только перепугается — ах, российская мафия! А его мамочка запретит ему со мной гулять. Ваша дочка нашему наследнику не компания!
— Погоди ты со своими рассуждениями! — прервала девушку Лидочка. — Вернись к началу. Почему Алла не твоя мама?
— А разве это не видно? Мы с ней даже не похожи!
— Но ты и на отца не очень похожа.
— А с мамой одно лицо! Если не считать, что мама красавица, а я ошибка природы.
— А где твоя мама?
— В Москве. В этом вся беда.
Лидочка растерянно молчала, слушая Иришку.
— Мама должна была приехать, как договаривались. Фазер этого и хотел, и не хотел, он маму побаивается. Он у меня зажимистый, ему с миллионами нелегко расстаться. Даже с фунтом. Он здесь на бензине экономит — отрыжка социализма.
Иришка оборвала рассказ, бесшумно вскочила, подбежала на цыпочках к двери и резко ее распахнула.
Снаружи было пусто и тихо. Откуда-то издалека доносилась музыка.
— Никого, — сказала Иришка.
Она закрыла дверь и вернулась на кровать.
— Мама собирала вещички. Она должна была через две недели прибыть, даже билет заказала. И тут она звонит — вы помните? — и просит, чтобы фазер встретил в городе ее начальника и повозил его по магазинам.
Лидочка кивнула. Она вспомнила, как советовала Славе отвезти Аллиного начальника в «Хэрродс», чтобы там его разорить.
— Фазер встретил начальника, но в магазин они не попали. Этот начальник приказал папе ехать за город, а там на каком-то пустыре он объяснил, что привез привет от мамы. Что она намерена заявиться к нам не через две недели, а немедленно. И что фазеру придется сделать усилие, чтобы узнать свою бывшую жену. Но если он ценит жизнь Аллы, своей дочки, своей мамочки и свою собственную, то он будет вести себя, как пай-мальчик. Понимаете?
— Пока не совсем.
— Я тоже не сразу врубилась. Все это за пределом. Мне бабуся как-то говорила, что от гадких болезней умирают другие, плохие люди. А на свой счет это принять невозможно. Я тогда посмеялась. Я вообще слишком часто посмеиваюсь. Вот и получила гадкую болезнь в наш дом. У вас закурить не найдется?
— Нет. А ты куришь?
— Только никто об этом не знает. Они думают, что я ребенок и у меня нежные легкие, которые почернеют и загнутся, если я буду плохой девочкой. А я экстази пробовала!
— Вернись на землю, — попросила Лидочка.
— А рассказывать-то больше нечего. Тот начальник доступно объяснил фазеру, что мою мамочку Аллочку охраняют его друзья. Ей с ними пока хорошо. И как только фазер поможет им взносом в полтора миллиона, они отпустят маму на свободу.
— Ой, какой ужас!
— Не ведите себя, как банальная барышня, — сказала Иришка. — Вы обо всем догадались еще вчера.
— Нет, не обо всем.
— Фазер мне сказал, что он всегда ждал, что кто-то придет и скажет ему: «Вы не заслужили своего богатства. Поделитесь, пожалуйста, с нами». Поэтому он даже не очень удивился. Испугался — конечно, испугался, а удивления, говорит, не было. Он этому начальнику стал объяснять, что из ихнего шантажа ничего не выйдет. Ведь он живет в Англии, и ему достаточно сообщить в полицию.
— А они ему посоветовали в полицию не обращаться, — продолжила за Иришку Лидочка, — потому что тогда он больше не увидит Аллу. А если Алла ему не дорога, то пусть вспомнит, что Марксина Ильинична, его мама, тоже живет без охраны. А до тебя добраться — легче легкого.
— Точно! — сказала Иришка. — Будто вы подслушивали.
— А это простая схема. Каждый человек чего-то боится. И за кого-то боится.
— Я пауков боюсь, — некстати сказала Иришка.
— Теперь я понимаю роль этой… женщины. — Лидочка показала пальцем вниз, где могла находиться лже-Алла. — Я никак ее не могла понять. Это меня и сбивало.
— Фазер сказал им: «А как вы сможете отнять у меня деньги?» А начальник ответил, что они и не будут отнимать. «Ты сам все сделаешь, — сказал он. — Потому что твоя жена Алла приедет из России. Ты ее встретишь, ты с ней снова соединишься, ты передашь ей часть своего имущества, нам все не надо. Она возьмет наличные и уедет. Мы подсчитали, что полтора миллиона тебя не разорят».
— Они на этой сумме не остановятся, — сказала Лидочка.
— Но они же обещали!
— А как же Марксина Ильинична?
— Они там хитро придумали. Бабушка думает, что мама уже приехала. Она же ее не провожала. Она мою маму на дух не переносит. Но думаю, что они все предусмотрели. Если у них хороший режиссер, он этот спектакль поставил как надо.
— А Василий с Валентиной?
— Это самое сложное, — сказала Иришка и вдруг улыбнулась. — Начальник спросил фазера, может ли он гарантировать, что Кошки Аллу не видели. Хотя бы давно. Конечно, фазер гарантии дать не мог. Он думал, что они ее все равно не узнали бы. И начальник велел фазеру принять удар на себя. Он должен гарантировать их молчание.
— И как они встретили новость?
— Ну вы же видели! Я думала, они будут переживать, билеты купят. Домой улетят…
— Им бы никто не позволил.
— Так Валентина и сказала: «Раз нам все равно здесь сидеть, ты нам, Славик, фунтов двести — триста пятьдесят одолжи, чтобы мы могли нашим внучатам чего хорошего купить».
— И одолжил? — Это было почти смешно. Как же она этого раньше не заметила?
— Где один шантажист, — разумно заметила Иришка, — там их целая банда. Впрочем, тетя Лида, а чего вы хотите? Кошки мою маман в гробу видали. Не отказываться же от халявы! Это не в характере моих родственников.
— Мудро, — согласилась Лидочка.
— А фазер все время вас подозревал, — сказала Иришка, поднимаясь. — Вы его даже микрофоном не убедили. Так что будьте готовы к вспышкам.
— Я хочу уехать, ты же знаешь!
— А теперь я сама вас не пущу. Лягу на рельсы. Вы же за меня, правда?
— Я за тебя.
— И всегда будете за меня?
— Я постараюсь.
— Даже когда я буду совсем одна и все меня будут ненавидеть?
— Не плачь, я сама сейчас разревусь.
— Если вы за них, никогда бы так не сказали.
Лидочка постаралась заговорить о другом:
— Твой папа в самом деле состоятельный человек?
— А вы не догадались?
— Сначала я думала, что он не очень богат. Что у него есть этот дом, ну и машина.
— Глупости! У него больше семи миллионов фунтов. Только не в деньгах, конечно. Его деньги вложены.
— Значит, ему нелегко высвободить полтора миллиона?
— Это все, что он сможет сделать, — уверенно сказала Иришка. — Даже эти деньги можно получить только с большими убытками. Я, честно говоря, в этом не секу, но фазер был в шоке. В самом деле, снять полтора миллиона означает лишиться трех.
— Они потребовали полтора миллиона фунтов?
— Полмиллиона наличными, а миллион перевести на счет в швейцарском банке.
— Солидная публика.
— Понимаете, как говорит фазер, они знали, сколько у нас денег и сколько из них мы можем заплатить.
— Значит, им кто-то подсказал.
— Кто? Питер?
— Какой Питер? А, ваш солиситор?
— Вот именно. Или в банке? Где они нашли всю информацию?
— Вернее всего, они заплатили за информацию, и мы с тобой никогда не узнаем кому. Они могли пожертвовать пятью процентами, а это приличный гонорар доносчику.
— Но в Москве его быть не могло, — сказала Иришка. — Фазер клянется, что всех деталей его состояния даже бабуля не знает.
— Наверное, он прав. И, судя по всему, они долго вас изучали.
— Как муху под лупой. Противно, правда?
— Противно. И что же было дальше?
— Я думала, что на аэродроме в обморок грохнусь. А вы бы посмотрели на фазера — мне его поддерживать приходилось. Когда она появилась, то я сразу догадалась. И знаете почему?
— Ты уже говорила: она похожа на твою маму.
— Хуже, — сказала Иришка. — В тысячу раз хуже.
— Ну что же, говори!
— Она была в мамином платье! Понимаете, в мамином платье, которое маман сама сшила. Это ее любимое платье. Я ей его шить помогала. Я у нее была, ночевала, мы платье шили. В прошлом году. Сечете, тетя Лида?
— Плохо тебе было?
— Не то слово! Я думала, меня вырвет. Такая тошнота! Наверное, от страха. Или от ненависти. Вы думаете, только мы ее встречали? Оказывается, рядом с нами два амбала стояли — ее люди. Она откровенно сначала к ним подошла, а потом они все втроем развернулись к нам! А мы уже пережили шок… Такая тупость наступила, вы не представляете, ну хоть режь меня, делай что хочешь. Вы хотите, чтобы это была моя маман? Пожалуйста!
— Не плачь. Рассказывай дальше.
— Она с нами поздоровалась. Хорошо еще обниматься не стала. Сразу сказала: «Обойдемся без лишних эмоций. Если кто смотрит, все знают, что мы со Славой разошлись много лет назад. Нас связывает только ребенок. — И в меня пальчиком ткнула. — Но мы друзья и теперь будем сближаться. И если вы посмеете что-нибудь выкинуть, то учтите, что я здесь не одна. Вы видели, что у меня есть друзья».
— Один такой… красивый, лет тридцати, брюнет, карие глаза, очень яркие, широко расставленные?
— Правильно. А откуда вы знаете, тетя Лида?
— Это мой попутчик. Он мне представился как Геннадий.
— А второй?
— Второй прихрамывает.
— Точно! Вы его в саду видели, правда?
— Да.
— А самое трудное было, пока мы ехали до дома. Такое странное чувство, будто к нам приехали гости. Фазер даже начал рассказывать, по каким районам мы едем — экскурсию устроил. А я вдруг спросила, как там маман. А она говорит, ничего страшного, можно спрашивать, все вопросы надо задать здесь, в машине. Потом будет поздно. При людях попрошу не ошибаться. Ошиблись — мина взорвалась. Как саперы!
Представить эту сцену было нетрудно, но страшновато. Они едут в машине, Слава натужно рассказывает о памятниках архитектуры, может, о телевизионной вышке или о хрустальном дворце, который давным-давно сгорел дотла. А Иришка смотрит на платье, которое сшила ее мать…
— Я все же ее спросила, а где мама, — услышала Лидочка Иришкин голос. — И Алла ответила, что мама в надежном, безопасном месте. Понимаете, она представилась как Алла!
— Теперь понимаю. Так проще.
— Мы ехали, ехали и приехали. Тут уж вы появились, и мы начали перед вами играть спектакль «дружная семейка».
— Значит, давай подытожим, — сказала Лидочка. — Некие люди похитили твою маму. Сделано это было в ночь перед отъездом мамы в Лондон. Так что все в Москве убеждены, что твоя мама благополучно долетела до Лондона, и даже не будут ее искать?
— Правильно.
— Эти люди сказали, что… лже-Алла будет здесь жить, пока твой отец не отдаст им полтора миллиона фунтов. Иначе…
— Иначе они убьют маму. Понимаете?
— Понимаю. Как только твой отец выполнит их требования…
— Тогда Алла улетает обратно, и в тот же день в своей квартире появляется моя мама. И все продолжают жить дальше.
Лидочка поглядела в окно. По большому суку пробежала белка, остановилась, поднялась на задние лапки и принялась обкусывать какой-то орешек. Белке было плевать на русские беды и трагедии.
— А Галину они испугались, — сказала Лидочка.
— Они ее не учли. Видно, спешили.
— Надо было позвонить ей и сказать, чтобы не ездила к нам. Папа мог позвонить.
— Он бы позвонил, а они бы убили маму!
— А так они убили Галину!
— Ну и что? Я эту вашу Галину и в глаза не видала! А мама у меня одна.
— Иришка, не говори так. Я тебе не верю.
Иришка резко отвернулась и уставилась в угол.
Кто-то поднимался по лестнице.
— Она, — прошептала Иришка. — Ей не надо меня тут видеть.
Шаги затихли у Лидочкиной двери.
Затем дверь начала медленно открываться внутрь. Иришка кинулась за шкаф, но втиснуться в щель не смогла и осталась там стоять.
Дверь приоткрылась еще шире.
Но за дверью стояла не Алла, а Слава.
Глава 17
— Можно войти? — спросил Слава шепотом.
— А что, Алла еще не возвращалась? — откликнулась Лидочка.
— Нет.
Слава рассеянно кивнул дочке, которая медленно вышла из-за шкафа, потом присел на плетеный стул у письменного стола.
— Я ей все рассказала, — заявила Иришка.
— Я так и понял.
— Она бы все равно догадалась.
— Я знаю, что она уже догадалась. Может, даже днем.
Слава посмотрел на Лидочку испытующе. Глаза у него опухли, будто он плакал. Бородка съехала набок. Кадык часто вздрагивал, норовя разрезать кожу на горле.
— Днем я ни о чем не догадалась, кроме того, что творится неладное.
— Но у меня не было выбора, — сказал Слава. — А может быть… — Он покачал головой, как китайский болванчик, словно соглашаясь со своим внутренним голосом. — Может быть, я хотел, чтобы вы догадались. Так, чтобы самому не рассказывать.
Папа и дочь смотрели на Лидочку с двух сторон, словно она должна была подсказать им выход из странного и опасного положения.
— А что известно о настоящей Алле? — спросила Лидочка.
Иришка взглянула на отца, как бы уступая ему первенство в разговоре.
— Алла, конечно, по словам этой вот… По ее словам, Алла в безопасности, до тех пор пока мы ведем себя правильно. Иначе… как только ей станет грозить опасность…
— Папа имеет в виду узурпатку, — пояснила Иришка.
— Узурпаторшу, — машинально поправил ее отец. — Как только узурпаторше станет грозить опасность, они с Аллой расправятся.
— Вы им верите? — спросила Лидочка. Уже спрашивая, она понимала, что вопрос неверный и даже нетактичный.
— А что нам остается? — спросил Слава и повторил громче: — Что нам остается?
— Тише! — зашипела Иришка.
— И как мы можем проверить? — прошептал Слава. — У нас нет в Москве человека, у которого можно выяснить.
Лидочка была вынуждена согласиться, что операция была проведена ловко. Для всех Алла Кошко благополучно покинула Москву и улетела в Лондон. Как только узурпаторша улетела, настоящая Алла исчезла. Неизвестно как, да это и неважно — то ли по дороге в Шереметьево, то ли из дома перед отъездом, то ли еще ночью, чтобы можно было вызывать такси и чтобы лже-Алла могла спуститься рано утром с чемоданом в руке и сесть в машину — пожалуйста, проверяйте, допрашивайте водителя, мучайте свидетелей. Теперь Алла, весьма одинокая в Москве женщина, без любимого мужчины, без родителей, живущих, наверное, в Ставрополе или Мелитополе, местопребывание которой некому проверять, по всем законам находится в Лондоне. В Москве ее искать никто не будет.
Вот только одно непредвиденное обстоятельство — подруга Галина. Не учли. Но рисковать нельзя — слишком высока ставка. И Галина погибает в метро. А тут эта проклятая старушка, которая видела, как Галину толкнули под поезд…
Здесь, в доме № 14, все тихо. Василий и Валентина, к сожалению, знающие Аллу, нейтрализованы страхом и жадностью. Им хочется увидеть Краснодар и привезти подарки внучатам.
Впрочем, никто из дома не уедет, пока деньги не будут получены похитителями. Не выпустят они никого. Кроме Лидочки. Но при одном условии: она должна остаться вне подозрений.
— А ну быстро из комнаты! — шепотом приказала Лидочка.
— Что? — не понял Слава.
— Не слышали разве — дверь хлопнула? Нельзя, чтобы вас здесь застали. Уходите!
Гости оказались сообразительными. Они кинулись прочь на цыпочках, безмолвно, столкнулись в дверях, продрались в коридор и быстро, как мыши, застучали пятками к комнате Иришки, где и затаились.
Сквозь приоткрытую дверь было слышно, как внизу Алла спрашивает родственников:
— А остальные где? Чего не ужинают?
— Наверху, наверное.
— А Слава где?
— Может, у себя?
Пауза.
Снова голос Аллы:
— Его в кабинете нет. Куда он ушел?
— Честное слово, не знаю, честное благородное!
И Лидочка вдруг почувствовала, насколько нервы у лже-Аллы на взводе, как ей самой здесь страшно. Она ведь тоже одна в чужом лагере. И хоть ее окружают жертвы, она, как любой хищник, не может доверять им до конца. У нее есть когти, но ведь и у жертвы могут обнаружиться ядовитые зубы.
— Честное слово, Слава не выходил!
— Сейчас он у нас попляшет! — Каблуки застучали по лестнице. Алла взбежала наверх. И сразу же распахнулась дверь к Лидочке. Конечно же, Лидочка пугает Аллу больше всех — она же не куплена, не запугана… Чего-то недосмотрели. Недодумали.
Алла стояла в дверях. Волосы у нее растрепались, прядями легли по щекам. Голос приобрел южную, притом кухонную интонацию.
— Чего лыбишься? — с ненавистью спросила Алла. — Ты от меня не спрячешься!
— Вы о чем, Алла? — удивилась Лидочка, откладывая книжку.
— Славу не видела? — Алла сделала над собой усилие и постаралась спрятать клыки и когти.
— По-моему, он к Иришке прошел, — по мере сил миролюбиво ответила Лидочка.
Алла рванулась в комнату к Иришке, захлопнув за собой дверь.
«Удивительно, что я могла видеть в ней нечто приятное и даже миловидное, — усмехнулась Лидочка. — Теперь меня можно палками лупить, но ничего приятного я в этой женщине не увижу. Злодейки не бывают привлекательными. В это трудно поверить, но это именно так».
За стеной заворчали, затараторили невнятные голоса.
Она еще смеет делать им выговоры! Впрочем, это происходит оттого, что ей очень страшно. Вряд ли она более, чем послушный исполнитель. Может, и на нее нашлась уздечка. По натуре, но не по судьбе Алла — человек обыкновенный. Ее тоже могли запугать, купить, обмануть…
Что же теперь делать? Законопослушная англичанка должна была бы завтра же позвонить инспектору Слокаму и сообщить, что столкнулась со случаем похищения жены своего квартирного хозяина, а также узнала, что Алла — не та, за кого себя выдает. А это может иметь прямое отношение к смерти Галины Стюарт.
И что же должен сделать английский инспектор после такого заявления?
Вернее всего, он попросит у Аллы паспорт и убедится, что тот в полном порядке — наверное, уж они об этом позаботились. Затем он спросит мистера Кошко, кем приходится ему дама, именующая себя бывшей миссис Кошко. И Слава ответит, что это его бывшая жена и никаких сомнений он не имеет. То же самое скажет и подросток Иришка — ну не может же она забыть свою родную мать! Конечно, инспектор, если к этому времени и не решит отправить Лидочку в сумасшедший дом, может послать запрос в Москву. О чем же будет этот запрос? Он попросит выяснить, живет ли в таком-то доме такая-то дама. И ему ответят, что она живет, но в настоящее время отъехала в Англию, погостить у бывшего мужа. Конечно, можно устроить обмен фотографиями, но вряд ли этот обмен будет скорым и убедительным. Впрочем, к тому времени преступники совершенно спокойно убьют настоящую Аллу — зачем им оставлять следы?
Но, конечно же, британская полиция предпочтет не связываться со всей этой русской историей и вышлет к чертовой бабушке и саму Лидочку, и оставшихся в живых членов этой компании.
Простучали шаги Аллы. Она спускалась по лестнице.
И вдруг Лидочка испугалась: а что, если она заподозрила заговор и бежит сообщить о нем Геннадию? И сегодня же ночью эти бандиты решат убрать… кого? Лиду, единственного свидетеля!
Лидочка поймала себя на постыдном желании догнать Аллу и настойчиво убеждать ее, что она, Лидочка, не имеет в мыслях никаких доносов, что она будет сидеть здесь тише воды ниже травы. Она никого не видела и ничего не слышала… Лидочка не смогла остановить себя — спрыгнула с кровати, босиком подбежала к двери, приоткрыла ее и выглянула наружу.
В коридоре горел свет. Снизу из столовой доносился раздраженный голос Аллы:
— Ну почему никто не может поднять задницу и купить жратвы?! Как в холодильник лезть, вы все молодцы, а как принести — никого нету. Вот погоню сейчас…
— «Сэйфуэй» закрывается в семь, — отвечала Валентина. — А сейчас скоро восемь.
— Что, здесь нет магазинов, которые позже работают?
— Есть один, у почты, но там все дороже.
— И меньше выбор, — поддержал жену Василий. — Значительно меньше.
— Что, там одной картошкой торгуют? — вспылила Алла.
— А деньги? — промямлил Василий.
— Какие тебе деньги?! Да у тебя вся комната добром завалена. Шоп-турист, понимаешь!
— Но ведь мы все покупали только на распродажах, за грошики, — начала оправдываться Валентина.
— Сколько осталось грошиков, истрать на колбасу. И сыру купи, чтобы я была довольна.
Лидочка подумала, что Иришка вовремя рассказала ей о том, что Алла поддельная. Если не знать, то можно от удивления помереть. Почему эта женщина позволяет себе так шпынять краснодарских Кошек, а те покорно собираются, шуршат сумками, звенят мелочью?
В то же время Лидочка не могла избавиться и от некоторого гадкого злорадства. В конце концов, кто-то же должен был открыто сказать этим толстячкам, что нельзя вечно жить взаймы.
— Не люблю халявщиков, — сообщила Алла тихим, деловым голосом. — И я на них управу знаю. А ну пошли!
Алла явно отыгрывалась на хомяках.
Хлопнула входная дверь. Лидочка продолжала подслушивать. Но Алла не стала никому звонить. Она снова поднялась на второй этаж и без стука открыла дверь к Иришке. Папа с дочкой все еще сидели там.
— Совсем забыла, — сказала она достаточно громко — видно, в пылу боя с краснодарцами забыла о Лидочке. — Где микрофон?
— Что? — послышался Иришкин голос.
— Сегодня тебе твой хахаль принес микрофон. Оставил на столе. У меня Лида свидетель. Я узнала, что это не твой микрофон. Давай его сюда.
— Возьми.
— Откуда он у тебя?
— Нашла.
— Ты не могла его найти.
— Нашла.
— Где?
— Когда изгородь подстригала. В саду. А зачем он вам нужен?
Ответа не последовало.
Получив требуемое, Алла прошла по коридору к себе в комнату.
Лидочке представилось, как в разных комнатах второго этажа притаились четыре человека. В маленькой Иришкиной комнате сидят, держась за руки, отец и дочь. Им страшнее всех, потому что они боятся не только за себя, но и за маму, за бывшую жену… В другой комнате она, Лидочка. Она сидит на кровати, хотя сейчас бы ей самое время отправиться в город, погулять по вечернему Лондону. А в третьей спальне Алла рассматривает микрофон, который заранее поставили в саду Геннадий с товарищем, чтобы держать дом под контролем.
«А, да черт с ними», — сказала себе Лидочка.
Она натянула платье — вечер был теплым, взяла сумку, надела удобные разношенные туфли и вышла из своей комнаты.
Лидочка спустилась только до середины лестницы, как Алла выскочила из своей комнаты.
— Ты куда? — Алла перевесилась через перила.
— В город.
— Зачем?
— Алла, ну почему это вас интересует? У меня есть знакомые. Я хочу с ними встретиться.
— Какие еще знакомые?! — В голосе Аллы прозвучало отчаяние. Словно она не договорила: «Еще и этих убивать придется!» И Лидочка поняла, что ей действительно нельзя идти к Саше Богородскому или к Литвиновым. За ней могут следить.
Ей захотелось сказать, что в метро она не будет подходить к краю платформы, но она сдержалась и промолчала.
— Потерпите до завтра, — предложила Алла. — Завтра нас Слава подвезет.
— Я в Англии ненадолго, — сказала Лидочка. — Так что мне каждый день дорог.
Тут на лестничной площадке рядом с Аллой возникла тощая фигура Славы.
— Лидочка, — сказал он громко и с вызовом, — подождите, я с вами.
— Ты куда? — почти крикнула Алла.
— Хочу погулять с Лидой, — ответил Слава.
— Посидишь дома!
— Алла, — сказал Слава, показывая, что он мягок, зануден, но может быть упрямым, — я уже давно не твой муж. Я тебе не подотчетен. Неужели это тебе не ясно? Мне хочется погулять с Лидой. И никакие твои возражения меня не убедят.
— Ты об этом пожалеешь, — пригрозила Алла.
— Алла, не переигрывай, — вздохнул Слава. — Все же ты не в пустыне и не в Люберцах.
— При чем тут Люберцы?
— К слову пришлось.
— Если ты на что-то намекаешь, то глубоко ошибаешься. Иди спать.
— Рано.
Слава стал решительно спускаться по лестнице. Лидочка предпочла бы пойти одна, но в такой ситуации спорить со Славой ей не хотелось — ведь они были союзниками.
— Слава! — с угрозой позвала Алла.
Хлопнула дверь. На площадку выскочила разгневанная Иришка.
— Перестань нас пугать! — закричала она. — Я тебе обещаю, что я тебя из-под земли достану! Всю жизнь на это потрачу, но достану!
— Ириша, — оглянулся снизу Слава. — Не надо из-за нее переживать.
— Значит, так… — начала Алла. Она растерялась и не могла придумать, как бы себя лучше и страшнее вести. Пауза затянулась, и Лидочка, не удержавшись, произнесла строчки, кажется, из Багрицкого:
Алла покорно выслушала строфу, а потом произнесла голосом судьбы:
— Я предупреждала.
На улице Слава сказал:
— А я рад, что мы ей не сдались. Вы как думаете?
— Я думаю, ей нетрудно догадаться, о чем мы сегодня говорили.
— О чем?
— О судьбе настоящей Аллы.
— Вы думаете, она догадалась?
— Любой бы догадался.
Некоторое время они шли молча. Потом Слава обреченно произнес:
— Но это значит, что вам может грозить опасность… Правда?
— Я тоже так думаю, — согласилась Лидочка.
Ей не хотелось показать, что она боится.
— Мы куда идем? — спросил Слава.
— Думаю, что в город нам не выбраться… Как вы смотрите на то, чтобы поужинать в китайском ресторане? Он есть на главной улице.
— Но я же денег не взял! — Слава даже вытащил свой бумажник с монограммой и заглянул в него.
— Не беспокойтесь. У меня с собой есть.
— Мне неудобно. Это неприлично.
— У вас еще будет возможность отплатить мне добром.
Глава 18
Ресторан был чистым, стерильным, скучным и не очень вкусным. Но и Лидочка, и Слава проголодались, поэтому съели полную миску риса. Слава решил взять с собой креветок, чтобы побаловать Иришку.
— Алла сама рассказала вам, что надо делать с деньгами? — спросила Лидочка.
— Да, уже после приезда. Я сказал ей, что это неразумно и невозможно.
— Вряд ли она что-нибудь решает, — сказала Лидочка.
— Я знаю. Но она довольно злобная тварь. И знаете, что самое удивительное? Она как две капли воды похожа на Аллу. Не только внешне, но и характером.
— Физиогномистика — лженаука!
— Может, в ней что-то есть. Если люди похожи, то у них и характеры одинаковые. Но Алла, конечно, образованней, интеллигентнее. Мне, честно говоря, даже странным показалось, почему вы сразу не увидели в ней подделку.
— Я не знакома с оригиналом. Я никогда не видела вашу бывшую жену.
Слава собрал из миски остатки риса, полил соевым соусом, добавил сверху остатки креветок и соскреб из другой миски скользкие кусочки мяса в кисло-сладком соусе. Он ел жадно, быстро, будто его кормили так плохо и редко, что этот китайский ресторан и воплощал его гастрономические мечтания.
Впрочем, возможно, так и было. Он сам себя кормить не умел, а больше о нем позаботиться было некому. В жадных и быстрых движениях челюстей и кадыка было нечто ненастоящее, из плохого фильма, где показывают, как герой впервые попадает в ресторан после недели голодовки. Слава не столько ел, сколько изображал голод.
— А почему такая сумма? Вы как думаете?
— Они откуда-то знают положение моих дел. Они знают, сколько я реально могу вытащить из своих капиталов.
— Значит, кто-то из ваших близких сообщил им эти сведения.
— А никто из моих близких этого не знает.
— Но если в Москве есть хороший финансист, он мог бы вычислить?
— Не знаю. Я же не задумывался! Я не думал, что они будут меня шантажировать. Я ожидал воров, все время ждал воров. Но обычных воров, а не рэкетиров! Мне казалось, что за границей я в безопасности! Я защищен! Я на Альбионе! А оказалось — черта с два! Я все равно совок, меня все равно можно прижать в подворотне и сказать: «Чего вылазишь, сука! А ну снимай часы!» Но я все это делаю не ради Аллы. Честное слово, ее судьба мне безразлична. Но есть Иришка. У меня всего-то на свете — мама и Иришка. С Иришкой у меня и без того сложные отношения. Она мне не прощает того, что ее мамаша от меня сбежала с каким-то проходимцем, который ее тут же бросил. А если из-за меня что-то случится с ее мамочкой — ненависть обратится против меня.
— Ни адвокат, ни банкирша вам не поверили. Оба полагают, что либо это жульничество с вашей стороны, либо угроза вам… А где гарантия, что они не поделятся своими мыслями с полицией? Здесь полиция не такая, как дома. К русским относятся настороженно.
— Я могу только молить Бога, чтобы они не пошли в полицию. Боюсь, мои враги столько поставили на карту, что не могут допустить поражения. Им тогда выгоднее, удобнее и безопасней убить Аллу. А потом и мою маму… А здешнюю Аллу — ее они сдадут, ее они жалеть не будут.
— Не знаю, — возразила Лидочка. — Возможно, она знает нужных им людей. И этого Геннадия, и других. Ведь их здесь должно быть несколько человек.
— По крайней мере трое. И они уже вошли в расходы. Им нельзя отступать…
Принесли жасминовый чай. Слава замолчал. Когда официантка ушла, Лида сказала:
— Хорошо мы за них рассуждаем. Еще немного, и мы начнем им сочувствовать.
— Я читал где-то, что осужденные на казнь начинают любить своего палача.
— Женщина влюбляется в онколога, — сказала Лидочка.
Слава кивнул.
— Можно я еще закажу? — спросил он виновато.
— Что будете? — спросила Лидочка.
— Что-нибудь мясное. И еще жареной лапши.
Официантка не удивилась. Она кивала и улыбалась.
— Полмиллиона они потребовали заплатить им здесь наличными, — произнес Слава. — Миллион перевести на счет в Швейцарии. Наверное, я не первый и не единственный.
— Вполне возможно, — согласилась Лидочка. — Они действуют как фирма. Одни торгуют тапочками, другие стригут зарубежных миллионеров.
— И какого черта я тогда написал этому… дяде!
— Конечно, лучше бы он был бедняком и оставил бы вам в наследство комнату в общей квартире.
— Называйте это так, — кивнул Слава.
Принесли лапшу. Слава переложил ее к себе на тарелку. Лапша повисала длинными прядями, и Слава подхватывал их губами.
— Меня утешает то, — сказал он, справившись с лапшой, — что мне и Иришке ничего не угрожает.
— Почему?
— Потому что, если со мной что-то случится, они не получат ничего. Деньги завещаны Иришке. Завещание у Питера. О нем никто не знает.
— Вы странный человек, — сказала Лидочка. — Если бы вы спросили меня, что будет с деньгами в случае, простите, вашей неожиданной кончины, я бы предположила, что, живя в Англии, вы завещаете все дочери. Это так естественно — у вас нет вариантов. Как говорят теперь в Москве, однозначно.
— Вы думаете, что Иришке что-то грозит?
— Опять же не нужно быть английским адвокатом, чтобы предположить, что до совершеннолетия вашей дочери назначается опекун. Это ваша мама?
— Мама и Питер. Я назначил двух опекунов.
— Видите, об этом тоже можно догадаться. А это значит, что Иришка не сможет распоряжаться деньгами. Им придется охотиться за вашей мамой.
— Господи, ну что вы говорите!
— Я хочу, чтобы вы стояли на земле.
— Я и так не летаю. У меня крыльев нету.
— Но я заранее отдаю должное вашим врагам. Они и это могли предусмотреть. В самом деле наибольшая опасность грозит вашей маме. Хотя и не такая большая, как можно подумать. Им лучше иметь дело с вами. Мама — фактор неопределенный, непонятный. Если с вами что-то случится, она может выйти из себя и стать неуправляемой.
— Лидочка, ну зачем говорить о моей смерти! — вдруг рассердился Слава. — Ведь смерти нет. Я имею в виду индивидуальную смерть. Мою. Я никогда о ней не узнаю, потому что если есть смерть, то нет меня. И наоборот. Но мне хочется досмотреть этот спектакль.
— В общем, мы договорились: они будут вас беречь.
— Или придумают какую-то гадость, чтобы меня испугать, — добавил Слава.
«Пока что у них есть кого пугать, — подумала Лидочка. — И в первую очередь меня. Наверное, Алла уже донесла своему Геннадию, что есть одна женщина средних лет и обыкновенной внешности, которая слишком много знает.
Странно, когда сидишь здесь, в тихом и слишком чистом китайском ресторанчике, допустить мысль о том, что тебя подстерегают, чтобы столкнуть под поезд. Это невозможно. Это про других, это художественная литература».
— Что же будем делать? — спросил Слава, будто они обсуждали поездку на дачу или покупку нового унитаза.
Он жадно доедал лапшу. У него случился приступ нервного голода.
И в самом деле, в голове царила странная пустота. Что делают люди, когда у них похищают близкого человека? В газетах описывают операции по освобождению заложников: автоматчики штурмуют автобус, из которого вываливается труп террориста, в романах хитроумный герой заманивает бандитов в ловушку, и они остаются и без чемоданчика, и без жертвы. Но здесь полное бессилие.
— Может, я позвоню в Москву? — спросила Лидочка.
— Зачем?
— Попрошу мужа поговорить со знакомым следователем.
— Ваш муж — Шерлок Холмс? — В голосе Славы прозвучала горькая ирония. — В лучшем случае он их встревожит, и они примут меры… В худшем — одним заложником или трупом будет больше. Выкиньте из головы такую мысль.
Лидочка почувствовала некоторое облегчение.
— Я уже жалею, что вас втянул в это дело, — сказал Слава.
— Это не вы втянули.
— Начал я, когда пригласил вас переводчицей. С этого момента вы уже стали участницей… А потом Иришка. Иришка не могла не рассказать. Я же понимаю, как она здесь одинока. Вряд ли она может поделиться этим со своим мальчиком. А так… Вы не думайте, Лида, я перебрал все возможные и невозможные варианты. И местную полицию, и даже попытку взять в заложницы здешнюю Аллу…
— Как так?
— А просто так: запереть ее и сказать, что мы ее убьем, если они не освободят настоящую Аллу.
— Но вы же противостоите людям без совести, которые умеют убивать…
— Я согласен, согласен… К тому же я понимаю, что они могут пожертвовать Аллой. Не только моей, но и своей.
Лидочка расплатилась с официанткой. Ради этого та оторвалась от миски с супом, который она ела за соседним столиком. Лидочка со Славой вышли на улицу.
Было уже темно. Разноцветно и уютно горели витрины, на площадке перед пабом стояли столики, за одним нестройно пели пожилые люди.
— Все-таки я думаю, она доложила своему начальству, что вы в курсе наших дел, — сказал Слава. — Может быть, вам уехать?
— Вам этого хочется?
— Ни в коем случае! Если вы останетесь, мне будет чуть-чуть спокойнее за Иришку. Мои родственники — не помощники. Они так перепугались. А вам Иришка доверяет.
— Не думаю, что мне что-то грозит, — ответила Лидочка, хотя в ее словах была доля бравады. Конечно, ей было страшно. И еще страшнее от собственного одиночества. Люди, среди которых она оказалась и беды которых ее затронули, были ей не очень интересны и приятны. В другой ситуации она уехала бы отсюда и забыла о них через три дня. Теперь же неизвестно, за какие грехи она должна нести на себе бремя их беды и делить с ними опасность, обрушившуюся на разбогатевших обывателей.
По улице медленно ехала, не желая их обгонять, машина. Словно в американском фильме про мафию. В машине должны были сидеть убийцы. Освещение на узкой улочке было недостаточным, чтобы разглядеть людей в машине, но Лидочка и Слава, не сговариваясь, прибавили шаг, в то же время стараясь делать вид, что никуда не спешат.
Лидочка взяла Славу под руку. Он прижал ее руку к боку сухим, острым локтем. Лидочка почувствовала, как колотится его сердце.
— Им нет смысла нас убивать, — сказал Слава. — Они должны нас беречь.
— Давайте остановимся, — предложила Лидочка. — Вы как раз собирались закурить.
— Я забыл дома зажигалку.
— Все равно остановимся.
Они остановились, повернувшись спинами к невысокой каменной ограде. Над ними нависали ветви розового куста. Цветы пахли легко и нежно.
Машина не остановилась. Она медленно проехала мимо. Окна в ней были открыты. Внутри сидела старенькая бабушка, а рядом с ней молодой негр в кожаной фуражке.
— Если вы будете так бояться, — говорил негр, — то никогда не научитесь водить машину. Вы скорее помрете, чем станете водителем.
— Моя смерть вас не касается, — ответила бабушка. Лидочка успела разглядеть, что волосы у бабушки были завиты и тщательно уложены.
— О чем они? — спросил Слава, который в стрессовые моменты терял способность понимать английский.
— Им до нас нет дела, — ответила Лидочка.
Машина уехала.
— Я вспомнил, — сказал Слава, — что подпольщики в оккупированных городах целовались, когда подходил немецкий патруль.
Лидочка промолчала. Она уже давно почувствовала, что Слава все более увлекается ею — и это было неудивительно. Нестарая, миловидная женщина рядом с мужчиной, волею судьбы страшно одиноким, к тому же союзница в локальной, но жестокой войне.
Они, не разговаривая, дошли до дома без приключений. Слава выговорился, а Лидочке говорить не хотелось. Она мечтала о том, когда эта поездка закончится. Хотя главного она еще не сделала — не сняла дом. И завтра надо брать себя в руки и ехать в Найтсбридж, где Валери, кажется, нашла то, что нужно.
Дома были лишь краснодарские родственники. Они не зажигали света в своей комнате, дежурили у окна, поджидали.
Томимые страхом и неизвестностью, они выскочили в коридор.
— Ну хоть до хаты пешком беги, — сказал Василий.
— Тут уж не до наживы, — поддержала его Валентина.
В коридоре сильно пахло женским потом. Слава тоже почувствовал этот запах, быстро прошел в столовую и открыл там окно.
Василий с Валентиной шли за ним, как перекормленные дети, и непрерывно говорили, чуть подвывая. Лидочка понимала, что им было очень страшно одним в темном доме.
— Эта ушла, — сообщила Валентина. — Как вы ушли, так и она убежала. Наверное, доносить.
Почему-то она почувствовала, что Лидочка в курсе бед.
— Валек, — велел Василий, — ты бы чайку поставила.
— Мы уж за вас боялись, — сказала Валентина, не двигаясь в сторону кухни. — Можно сказать, опасались, что они вас подстерегут.
— Не бойтесь, — сказал Слава. — Не нужны им наши хладные трупы. Я буду у себя.
Он ушел так быстро, что они не успели в него вцепиться. Лидочка не смогла последовать его примеру и осталась на милость Кошек.
— Ты уж с нами посиди, — сказала Валентина голосом нищей старушки. — Нам никто ничего не рассказывает.
— Мы хотели сегодня взять обратные билеты. До такой степени отчаяния мы дошли, — добавил Василий. — Но она ж нас не пустит.
— А когда у вас вылет по билету? — спросила Лидочка.
— Шесть дней еще осталось, Лидуша, шесть дней — так не дожить нам…
— А может, Лидочка и не знает ничего? — произнес Василий, словно сделал неожиданное и страшное открытие.
— Не переживайте, — успокоила его Лидочка. — Я знаю.
Скрываться перед ними было бесчеловечно — они же прибежали к ней жаловаться на свою долю.
— Вот я и кажу, — обрадовался Василий. — Не может того быть, чтобы Слава ей не казав.
Он то вспоминал о необходимости употреблять украинские слова, то забывал об этом.
— Нам же никто ничего не рассказывает, — повторил Василий. — Как нам можно такое терпеть?! Ведь чуть сунешься, тебе сразу: уйди, не суйся, не твоего ума дело. Но если вы мне велели молчать, то давайте молчать вместе.
— Кто вам сказал? — спросила Лидочка.
— Она нам сказала… — Валентина тихо заплакала, шмыгая носом и стесняясь своих слез.
— Ну ладно, — сказал Василий. — Ну чего уж там… Всем трудно.
— Да разве… Разве так можно? — спросила Валентина, словно Лидочка могла все объяснить.
— Так нельзя, — сказала Лидочка. — Но мы, к сожалению, пока ничего не можем сделать.
— А если письмо написать? Телеграмму в Москву. Чтобы проверили и произвели аресты, — предложил Василий.
Лидочка даже отвечать не стала, да Василий и сам не верил в собственные слова.
— А может, пожалеют? — спросила Валентина.
— Вряд ли, — сказала Лидочка. — Они слишком много потратили сил, чтобы дойти до этой точки. Им тоже нет пути назад.
— Ужас-то какой! — сказала Валентина.
— Я думаю, что нам надо уезжать, — решительно сказал Василий. — Плюнуть на все и уезжать!
— А вещи нельзя кинуть, — возразила Валентина. — Столько средств потрачено, столько времени… Чистое разорение!
Этот странный, пустой, ходящий по кругу разговор был прерван звуком открывающейся двери.
— Эй, кто дома? — послышался слишком громкий для позднего вечера голос Аллы. — Принимайте гостей!
Глава 19
Валентина, побледнев, замерла, словно ее застигли за чем-то постыдным. Василий бессильно опустился на стул.
Лидочка пошла к двери, но тут навстречу ей в столовую ворвалась Алла — веселая, краснощекая, глаза блестят. Сильно пьяная.
И за ней вошел Геннадий.
Лидочка не совладала с собой, и у нее вырвалось:
— Еще чего не хватало!
— А я рад, — сказал Геннадий. — Рад провести вечер в кругу таких приятных людей.
За последние дни он посвежел, словно много времени проводил на свежем воздухе. Шоколадные глаза горели хмельно и отчаянно.
Пиджак Геннадия был расстегнут. На черном галстуке красовалась золотая булавка. Брюки были белыми, и создавалось ощущение дурного вкуса.
Оттого, что виски Геннадия были высоко подбриты, а яркая лампа светила ему в спину, уши его просвечивали красным.
— Плохо встречаете, — сказал Геннадий. — Василий, мечи на стол!
Василий сделал движение, желая привстать и соответствовать приказу, но смелее оказалась Валентина, которая двинулась вперед, прикрывая мужа.
— Мой супруг, — сказала она официально, — с тобой гусей не пас. Он ветеран труда, а не хрен собачий.
Наверное, это был самый отчаянный поступок в жизни Валентины. Василий тянул ее сзади за юбку.
— Вот и ладушки, — вполне миролюбиво сказал Геннадий. — Вот и скажи своему ветерану труда, чтобы подсуетился.
Валентина не успела остановить мужа. Тот проскользнул у нее под рукой и ринулся к буфету.
Алла заметила, что в коридоре стоит Слава.
— Ген, а Ген, — сказала она, — обернись, блин. Это мой благоверный Славик, извини за выражение, су-пруг!
Она заливисто расхохоталась.
Геннадий резко развернулся и протянул руку.
— Как же, как же, — сказал он. — Наслышан о вашем счастье. Будем знакомы, граф Шаляпин.
— Не надо, — шептала Лидочка, — не надо.
Но Славик, заранее деморализованный, послушно пожал протянутую руку.
Геннадий, шаля, сжал пальцы Славика в своей длани, словно статуя командора. Слава вскрикнул от боли и стал извиваться, чтобы вырвать руку. Геннадий смеялся.
— Отпусти! — услышала Лидочка чей-то хриплый голос. И только потом поняла, что это сказала она сама.
Но Геннадий услышал и подчинился. Слава отступил к стене и принялся растирать раздавленные пальцы.
— Ну и голосок у тебя, Лидия Кирилловна, — сказал Геннадий. — Ты меня испугала.
Алла уселась за стол и сказала Василию:
— Лед захвати, не забудь. Жара в вашей Англии!
— Нету льду, — ответил Василий.
— Всегда у вас так, если мне чего нужно, обязательно нету. Гена, разгони их всех к чертовой матери, будь дружочек.
— Всему свое время, — серьезно ответил Геннадий и, налив полстакана виски, выпил, как воду.
Несколько секунд он стоял, зажмурившись, потом оглядел всех и приказал:
— Взяли! Взяли, чтобы выпить за знакомство!
Василий и Валентина тут же подчинились. Слава не взял. Лидочка тоже не протянула руку.
— Учтите, никого не принуждаю, — сказал Геннадий. — Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Слышали такие детские стишки? А вот с детьми, которые хорошо себя ведут, с удовольствием выпью. А ну вздрогнули, интеллигенция!
Он протянул руку со стаканом вперед. Василий, Валентина и Алла протянули свои бокалы навстречу. Раздался громкий звон.
— Чудесно! — сообщил Геннадий. — Создана новая трастовая организация. А детей, которые ведут себя плохо, мы оставим без компота. Все пьют до дна за мир и дружбу между народами! А ну до дна! — прикрикнул он на Кошек.
Василий выпил залпом, как водку, хмыкнул и утерся рукавом. Валентина пила глоточками, морщилась и мучилась. Но терпела.
Лидочке стало их жалко. Геннадий прочел ее мысль и сказал вполне трезвым голосом:
— Жалеть надо не слабых мира сего, так сказать, а жалеть надо непослушных. Потому что их будут пороть. Тех, кто не пьет за дружбу, поняла? Однозначно. — Он поставил стакан на стол и продолжал: — Я к вам на минутку, на два, так сказать, слова. Но слушать попрошу внимательно. До меня дошли слухи, что не все нормально на борту. Так что я счел нужным заглянуть на огонек. Во-первых, есть подозрения, что ты, Лидок, слишком много здесь узнала. Без вариантов мне ясно, что папаша и его дочурка тебе ситуацию изложили. Правильно?
Лидочка не стала отвечать, но Геннадий и не ждал ответа.
— Я ничего против не имею, — сказал он. — Вместе живете, вместе переживаете. Но учти, Лидия, одну вещь: на тебе теперь ответственность. За жизнь Аллы, которая осталась в Москве, ждет своего ребеночка и горько плачет в одиночестве. На тебя теперь распространяются те же правила, что и на остальных. Конечно, было мнение, чтобы тебя толкнуть под электричку. Но, честно говоря, не хотелось портить тебе прическу по причине моей доброты. Живи, но и другим дай жить. Тебе все ясно? Почему молчишь? Ответь своему старому другу. — Лидочка молчала. — Ну бог с тобой, молчи, но учти, я сегодня имел связь с Москвой. Мне сообщили, что проверили твой адрес: Средний Тишинский переулок и так далее. Муж твой гуляет по вечерам с собакой. Совершенно один и без оружия. Такое вот легкомыслие. Если ты будешь вести себя неправильно, он пострадает.
Геннадий наслаждался собственной властью над этими испуганными людьми. Сочтя монолог в адрес Лидочки убедительным, он обернулся к Василию и Валентине, стоявшим плечом к плечу, как пупсы.
— А для вас, мои собутыльники, у меня одно творческое указание. Мне сказали, что кто-то вас видел возле конторы «Аэрофлота». Как будто кто-то из вас совал туда свой нос. Было или нет? Молчите? Значит, было. С перепугу у вас появилась мысль, а не рвануть ли когти и не скрыться ли от моего правосудия. Нет, не удастся, крошки. Придется вам остаться еще на шесть дней, как и указано у вас в апексе. И никакой самодеятельности.
Геннадий протянул пустой стакан Василию, и тот поспешил налить в него еще виски.
— Оставляю вас одних, секретничайте, плачьтесь друг дружке в жилетки. Ваше собачье дело. Это однозначно. Но главное — деликатность и скрытность. В ваших руках судьба хорошего советского человека Аллы Кошко. Нам не хочется, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое. Как и с любым из вас, господа.
Геннадий обвел взглядом присутствующих и остался недоволен.
— Какой плохой человеческий материал, — сказал он. — Какая мелкая генетика. Что мне с вами делать?
Он картинно пожал плечами. Потом вытащил из бокового кармана видеокассету.
— Вячеслав, — сказал он, — мне нужно с тобой перекинуться двумя словами наедине. Впрочем, кто хочет, может посмотреть, теперь у нас секретов нету. Где у тебя видео?
— В кабинете, — покорно отозвался Слава.
— Пошли в кабинет. Хочу передать тебе привет от Аллы из Москвы.
Не оборачиваясь, уверенный в том, что зрители следуют за ним, Геннадий отправился в кабинет, включил телевизор и вставил в видео кассету. Экран загорелся. По нему пошли серые полосы.
— Устраивайтесь, друзья, — сказал он. — Будьте как дома.
И тут Лидочка впервые увидела настоящую Аллу.
Она была похожа на узурпаторшу, видно, специально подыскивали. Тем более что здешняя, лондонская, штучка была причесана и накрашена под свою московскую близняшку.
Но, конечно, московская Алла была привлекательнее. Она была даже красива грубой, пошлой красотой продавщицы винного отдела. Она глядела прямо в камеру, а задний план был затемнен — не догадаешься, откуда она говорит. Говорила Алла ровно, заученно, стараясь не пропустить ни одного нужного слова.
— Славик, — сказала она, — Иришка, я надеюсь, что вы меня слышите и не дадите в обиду.
Лидочка только тут сообразила, что она, не задумываясь, пошла в кабинет за Славиком, что вместе с ней пришли и Кошки. Только Алла осталась в столовой. Оттуда донесся звон разбитого стекла и матерное ругательство.
— Я нахожусь в безопасном месте, — говорила настоящая Алла. — Обо мне заботятся наши общие друзья. Они обещали, что ничего плохого не произойдет. Правда, многое зависит от вас, мои дорогие.
Алла на экране закрыла глаза. Словно вспоминала текст.
Славик сжимал и разжимал кулаки, лежавшие на коленях. «Хорошо еще, что Иришки нет, — подумала Лидочка. — Ей было бы труднее всех».
— Теперь, чтобы ускорить нашу встречу, — продолжала Алла, — вам осталось выполнить одно небольшое условие. Ты, Славик, должен сделать то, что давно уже надо было сделать, — ввести меня в совместное владение твоим счетом в банке. Мне сказали, что это простая операция, ничем дурным она тебе не грозит. Зато я буду уверена, что, если с тобой что-то случится, деньги останутся в нашей семье. Пожалуйста, Славик, не оставь меня в беде! Помоги мне, и мы будем счастливы.
Алла исчезла с экрана. И на нем появилась совершенно обнаженная блондинка, любующаяся своими грудями, поднимая на ладонях эти тяжелые массивные сооружения. За спиной девицы появился также обнаженный брюнет, который вступил в борьбу за обладание бюстом.
Все продолжали смотреть на экран, не понимая, какое отношение к Алле имеют эти кадры, но догадываясь, что они обязательно должны иметь к ней отношение.
Геннадий сухо засмеялся. И Лидочка поняла, что он совершенно трезв, а хмельное поведение — лишь камуфляж. Он нагнулся к телевизору, щелкнул кнопкой, выключая видео, вытащил кассету.
— Дурак писал по порнухе, — объяснил он. — Пожалел бабок на новую кассету.
И почему-то Лидочка почувствовала облегчение — хоть последняя сцена оказалась недоразумением.
Слава поднялся. Он хотел уйти, но, видно, не знал, где ему спрятаться.
Слава попытался прорваться в коридор, но Геннадий крепко взял его за плечо. Он перестал изображать из себя пьяного. Геннадий был смертельно серьезен.
— Ты понял? — спросил он.
— Отпустите меня! — закричал Слава. — Немедленно отпустите! Я знаю, что вы решили меня убить! Я все ваши штучки насквозь вижу. Вы больше ничего не получите, слышите: ничего!
— Ты хорошо подумал, Славик? — сказал Геннадий, и в его устах это имя звучало оскорбительно. — Ты теряешь близкого человека. И все из-за жалких грошей.
— Та ж он вам отдал, как сговаривались, — сказала басом Валентина и закашлялась. — Разве люди так поступают?
— Мы для вас не люди, — усмехнулся Геннадий. — Мы — организация. А у организации громадные накладные расходы. Представьте себе, сколько стоило командировать меня и мою подругу сюда, в туманный Лондон?
Лидочка не могла произнести ни слова. Ее охватил страх, словно Славик уже умер, погиб, его нет, а потом наступит очередь остальных. И она совершенно бессильна остановить этот бульдозер, потому что у бульдозера нет чувств.
— Нет! — Слава пытался вырываться. Но Геннадий легко удерживал его. — Делайте что хотите, но вы не получите ни копейки!
— Мы получим, — сказал Геннадий. — Мы умные, мы все предусмотрели. Иди и хорошенько подумай.
— Вы перегнули палку, — сказала Лидочка. — Боюсь, вы проиграли.
— Помолчи, Лидия Кирилловна. Я питаю к тебе уважение, но не до такой же степени!
— Нет! — крикнул Слава из коридора. — Лучше сейчас меня убейте, сволочи!
— Я ухожу, — сказал Геннадий. Говорил он негромко, как человек, уверенный в том, что его услышат. — Через полчасика позвоню, а тогда вы мне скажете, когда мы завтра едем в банк.
— Куда-куда? — спросила Валентина, раз уж никто другой не спросил.
— Надо же вписать любимую жену в документы.
Уходя, Геннадий заглянул в столовую. Алла увидела его и сказала, преувеличенно артикулируя:
— Все нормально. Все под контролем, Гена.
— Пойдешь спать — запрись, — сказал Гена. — А то они тут такие нервные — как бы тебя подушкой не задушили. Как царя Павла.
Лидочка чуть было не поправила — не Павла, а Петра. Но удержалась.
Дверь за Геннадием закрылась.
Стало очень тихо. Было слышно, как тяжело сопит Алла.
— Ой беда! — сказала Валентина и потянула Василия к себе в комнату. — Ой, плохо это кончится!
Василий еле волочил ноги, словно страшно утомился. У него даже сил не осталось закрыть за собой дверь.
Это сделала Валентина. И сразу начала что-то бормотать за стенкой, тихо и настойчиво. Лидочка не слышала, о чем речь, но у нее в мозгу трепетало понимание смысла: бежать, бежать, бежать…
В тишине громко раздавался храп Аллы. Лидочка заглянула в столовую. Алла заснула, уронив голову на скрещенные руки. Рюмка опрокинулась, и скатерть намокла.
Вдруг Слава, который, оказывается, так никуда и не ушел, громко спросил:
— А где Иришка? Где Иришка? Она не приходила?
— Наверное, она у Ричардсонов, — сказала Лидочка.
Слава кинулся к телефону и принялся листать российского вида растрепанную тетрадку с телефонными номерами, лежавшую на столике. Он никак не мог найти страничку с телефоном Ричардсонов, и Лидочка, глядя на него, поняла, что его опасения могут оправдаться. Почему-то Геннадий был уверен в том, что Слава его послушает.
Как она была права с самого начала, когда поняла, что шантажист не остановится, пока не сожрет жертву! Видно, на свете очень мало шантажистов с чувством меры. Все они, несмотря на то, что с каждым требованием риск увеличивается, получив кусок, тут же начинают мучиться от того, что слишком мало взяли, что были чересчур добры. Возможно, в самом начале похитители действительно высчитали, что полутора миллионов им хватит. Надо оставить Славе какие-то деньги, чтобы он не рехнулся, но тут им захотелось взять еще — а почему нет? Ведь у них в заложниках не только Алла, ее можно и списать, — у них в заложниках Иришка, а это куда более весомый козырь. А впрочем, что мы знаем об изгибах ума преступников? Может быть, чтобы подстраховаться, они хапнули небольшой куш, а затем взялись за следующий этап грабежа. Но не поспешили ли они? Пока что у них ничего нет…
— Вот! — воскликнул Слава. — Вот Ричардсоны!
Он стал нажимать кнопки на аппарате, но до конца набрать номер не успел, потому что позвонили в дверь.
Лидочка пошла открывать, но Слава прыгнул, обгоняя ее, и рванул дверь на себя.
За дверью стояла Иришка. Растрепанная, бледная, но улыбающаяся.
— Иришка, где ты была? — потребовал ответа Слава.
— А ты посмотри, фазер, — ответила Иришка. — Теперь ты отдашь ему мою руку и сердце?
Она сделала шаг в сторону и толкнула вперед Роберта. Под глазом у того был синяк, щека рассечена.
— Это мой спаситель, — объявила Иришка.
— Заходите, заходите, — трагическим шепотом сказал Слава. — Скорее, они могут наблюдать.
— Они смылись, — сказала Иришка.
Но все же втащила внутрь смущенно улыбающегося Роберта и закрыла за собой дверь.
— Идите, идите. — Слава потащил подростков к себе в кабинет. Лидочка неуверенно остановилась, но Иришка сказала:
— Вы чего, тетя Лида? Идите к нам.
— Одну минутку. — Лидочка пошла на кухню искать аптечку.
Когда она пришла в кабинет с борной кислотой и пластырем, Иришка с Робертом сидели рядком на диване, а Слава возвышался над ними.
— Значит, так, — сказала Иришка, глядя, как Лидочка управляется с ранами Роберта. — Меня пытались похитить.
— Вот именно, — сказал Слава.
Оказывается, Иришка была у Ричардсонов и, попрощавшись, отправилась домой. Роберт проводил ее до дверей, но от дальнейших проводов Иришка отказалась. Чего тут провожать — три дома.
Но Роберт домой не пошел, а сделал несколько шагов вперед и оказался за кустами, боясь выйти на тротуар. Он знал, что если Иришка его заметит, то разозлится не на шутку.
И тут Иришку догнала машина.
Роберт увидел, как на ходу открывается дверца, и сообразил, что Иришку собираются похитить.
Лидочка не знала, насколько Роберт информирован о ситуации в семье Кошко, но допускала, что он знает больше, чем ему положено. Сведения о трагедии распространялись как круги по воде — остановить этот процесс было уже нельзя. Как нельзя убить всех свидетелей. И Лидочка понимала, что бандиты сейчас находятся в критическом положении: еще чуть-чуть, и они будут раскрыты, им останется лишь убивать. И потому они становятся втройне опасны, как загнанные в угол шакалы.
Роберт совершенно не испугался бандитов — в его возрасте еще не выработались защитные механизмы.
Он почувствовал себя рыцарем на боевом коне и в пять прыжков достиг машины, которая не могла уехать, потому что Иришка отчаянно, хотя и молча, сопротивлялась. Похититель тянул ее внутрь, а Иришка молотила его свободной рукой по голове.
Нападения со стороны Роберта бандиты не ожидали, и потому, когда Роберт дернул Иришку на себя, похититель ее отпустил. Тут бы Роберту и бежать со спасенной Иришкой, но он решил, что одолеет любого бандита, и потребовал, чтобы Геннадий (скорее всего, похитителем был именно Геннадий) вышел на честный бой. Геннадий на честный бой вышел и, может, потерпел бы в нем поражение, но Иришка повисла на руке Роберта и отчаянно тянула его подальше от машины. Ему пришлось сражаться одной рукой.
Роберт потерпел тактическое поражение, получил синяк, но в стратегическом плане битва честного английского юноши с русской мафией имела положительный результат — бандиты впервые получили отпор и были вынуждены отступить.
Роберта хотели поить чаем, но он сказал, что пойдет домой, а Иришка будет ночевать у Ричардсонов. А с утра он отправится в полицию.
Увидев ужас в глазах отца, Иришка увела Роберта к себе в комнату, и через полчаса он оттуда вышел, вежливо и грустно попрощался и произнес, строго глядя на Славу:
— Я буду звонить.
Когда Роберт ушел, Слава рассказал дочери о визите Геннадия.
— Я не поддамся, — завершил он свой рассказ. Иришка смотрела на него в усталом ужасе. — Они у меня ничего не получат.
— Можно я сначала улечу в Москву? — спросила Иришка.
— Тебе безопаснее рядом со мной, — ответил отец.
И никто ему не верил.
Вдруг Иришка вскочила и громко прошептала:
— Я знаю!
Она подбежала к входной двери и распахнула ее. Лидочка и Слава, не поняв, в чем дело, кинулись за ней. Но Иришка далеко не ушла. Она остановилась в дверях и сказала:
— Другого я от тебя и не ждала! Немедленно иди домой!
Предчувствия ее не обманули. Ее возлюбленный сидел, прислонившись спиной к стволу магнолии.
— Наверное, он прав, — сказала Лидочка, стоя в дверях, пока Иришка, присев рядом с Робертом, что-то ему шептала. — Надо обратиться в полицию.
— Я подумаю, — сказал Слава без уверенности в голосе.
— Боюсь, что думать уже некогда.
— Они до нее доберутся.
Наверное, Слава имел в виду Иришку. А может, свою маму — разве поймешь слабого человека, доведенного до крайности?
— Я вас прошу, — сказала Лидочка.
— Я дам ответ утром.
Иришка заперла дом на большой засов, как будто это могло охранить от русских бандитов. Конечно, английский бандит перед такой могучей преградой остановится, но русский обойдет дом и войдет в него через стеклянную дверь со стороны сада.
Правда, Иришка закрыла свою дверь на крючок. Старый бронзовый крючок. Лидочка сделала то же самое.
Она надеялась, что до утра ничего не случится.
Ничего и не случилось, если не считать, что часа в три ночи ее разбудила Алла, которая со стонами и проклятиями поднималась к себе из кухни. А в семь утра раздался телефонный звонок. Все в доме вскочили, переполошились. Но звонил всего-навсего английский рыцарь, которому Иришка высказала все, что про него думает. Она его ругала, но была довольна, что он ей бескорыстно предан.
Глава 20
Больше Лидочка так и не заснула. Утром зазвучали голоса, стали хлопать дверцы машин. Улица жила, не зная о трагедиях в русском доме.
Лидочка спустилась в столовую чуть позже восьми. И тут же из кабинета появился Слава. Лидочке показалось, что у него осталось полбороды — видно, выщипал за ночь.
— Лида, — сказал он трезво и хрипло. — Я все обдумал, и мы посоветовались с Иришкой. Мы договорились.
Слава сделал многозначительную паузу, прислушиваясь, нет ли кого в коридоре.
— Я сегодня подпишу доверенность, — сказал он. — Это недолгая история. И это ничего им не даст. Как только они отпустят Аллу, я тут же сделаю заявление в полицию. И они не смогут воспользоваться результатами своих преступлений. Ведь пока что они ничего не получили. Да и мой адвокат заподозрил неладное.
— Все правильно, — согласилась Лидочка. — Но вы должны допустить, Слава, что они не глупее нас с вами. И предусмотрели такую возможность.
— Они не предусмотрели моей твердости! — патетически воскликнул Слава.
— Давайте я сообщу в Скотленд-Ярд, — предложила Лидочка. — Вы здесь будете ни при чем.
— Вы наивны, Лидия, — возмутился Слава. — Как только здесь появится полиция, они расправятся со всеми нами. Нет, хитрость и только хитрость! Мы должны затаиться и обмануть их…
Куда делся вчерашний борец с бандитами, непреклонный воитель…
Впрочем, хорошо тебе, Лидочка, твоих близких пока никто не трогает. Но ведь уже угрожали? И тебе стало страшно.
Кошки к завтраку не вышли. Видно, проспали.
Иришка сбежала вниз через двадцать минут — Лидочка как раз кончала жевать корнфлекс, единственную пищу в доме.
Столовая провоняла перегаром, будто здесь ночью пировал целый взвод.
Лидочка пошла мыть посуду. Она всегда мыла посуду, чтобы успокоиться. Ей неприятна была собственная пассивная роль в этой дикой истории. И не с кем посоветоваться.
Услышав, что Иришка спускается, Слава, словно неуверенный в лояльности Лидочки, снова заглянул в столовую и одними губами произнес:
— Умоляю! До завтра! Только до завтра!
— Да не выпустят бандиты вашу Аллу, — ответила Лидочка.
Но Слава уже убежал к себе в кабинет.
Вместо него в коридоре появилась лже-Алла. Она была суха, деловита, здороваться с Лидочкой не стала. Алла держалась слишком прямо и тщательно выговаривала слова, иногда морщась от головной боли.
Алла набрала номер.
На другом конце долго не подходили.
— Вы что, померли все, что ли? — спросила она раздраженно. — Мы готовы, готовы, все готовы. Через сколько будете? Чтобы одно колесо здесь, другое там.
Она заглянула в столовую, увидела пачку корнфлекса, все поняла и поморщилась.
В этот момент мимо двери прошла Иришка и крикнула с вызовом:
— Тетя Лида, я пошла, пока эти бандиты не приехали. И передайте этой… что меня ребята из колледжа будут охранять. Чтобы они не совались!
Алла выглянула вслед ей в коридор:
— Никуда вы от нас не денетесь!
Хлопнула дверь. Иришка убежала.
Лидочка поняла, что Иришка выбрала для бегства именно этот момент, потому что подслушала телефонный разговор и поняла, что у нее есть несколько минут в запасе.
Алла закурила. Она все еще стояла в столовой.
— Вы теряете контроль над ситуацией, — сказала Лидочка. — Почему бы вам не уехать в Москву, пока не поздно?
Ответ Аллы оказался неожиданным.
— Поздно, — сказала она, вышла в коридор и оттуда крикнула Славе: — Ты готов, супруг долбаный?
— Иду, — откликнулся Слава. — А разве Лида с нами не поедет?
— Там будет наш адвокат.
Алла взбежала наверх, что-то взяла, наверное, сумочку. Потом они со Славой, не разговаривая, прошли по коридору к входной двери. Прежде чем выйти, Алла выглянула в глазок.
Псевдосупруги стояли рядом. Алла была в черном костюме с золотистым воротничком. Ее лакированная сумка отразила луч утреннего солнца. На Славе, как на вешалке, болтался твидовый пиджак.
Подъехала машина. Та же самая. У бандитов, видно, была одна машина, и они не считали нужным менять свою «Тойоту». Растворились обе дверцы. Алла села спереди. Славу посадили сзади.
Машина умчалась.
Лидочка понимала, что ей надо бы отправиться по своим делам, тем более что она в Лондоне уже скоро две недели, а ничего не сделала. Участие в плохом детективе отнимало все душевные силы.
Она понимала, что наступает перелом, и ей казалось, что бандиты терпят поражение. Надвигается восстание, которого они не выдержат. Жили бы тихо, довольствовались бы полутора миллионами, и, может быть, афера им удалась бы. Теперь же с каждой секундой их шансы таяли.
Лидочка, которой опротивела роль наблюдательницы, понимала, что должна что-то делать. Она была убеждена, что завтра-послезавтра в дело вмешается мистер Слокам. Значит, уже сегодня надо ему помочь.
Лидочка поднялась на второй этаж и потрогала дверь в комнату, где жила Алла.
Дверь была заперта. Как назло.
Конечно, вряд ли Алла оставила там какие-нибудь улики.
Может, краснодарские родственники знают, где лежат запасные ключи?
Лидочка сбежала по лестнице вниз. Она постучала к Кошкам, но те не открыли.
Впрочем, всего девять часов. Они спят.
Лидочка прошла в коридор, заглянула в ящик стола, на котором стоял телефон. Бесполезно. Она отправилась на кухню.
По законам жанра ей следовало бы перебрать все ящики и ухоронки в доме и потом, ничего не найдя, залезть в спальню Аллы с крыши.
Но связка запасных ключей нашлась в верхнем ящике кухонного шкафа.
Лидочка поднялась на второй этаж и вошла в спальню Аллы.
Там пахло перегаром и немытым женским телом. Лидочке захотелось распахнуть окно, но этого делать было нельзя.
Чемодан Аллы лежал на письменном столе. Он был раскрыт.
В чемодане смешались смятые кофты, платья, белье — как будто кто-то опорожнил гардероб, а потом недосуг было разбираться и раскладывать.
Лидочка брезгливо поднимала вещи и перекладывала их с места на место.
Ни одной бумажки, ничего, кроме вещей, в чемодане не нашлось.
На столике возле кровати лежала раскрытая косметичка.
Косметичка была почти полна.
Лидочка высыпала ее содержимое на кровать.
И тут же обратила внимание на деталь, которая, возможно, ускользнула бы от мужского взгляда.
В косметичке было две губные помады, два лака для ногтей и даже два флакона духов.
Лидочка перебирала вещицы и духи. Вот это духи лондонской Аллы, а вот это чужие для нее духи.
Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Алла получила полный набор вещей жертвы бандитов. Но если она, не будучи очень чистоплотной и аккуратной женщиной, согласилась пользоваться вещами настоящей Аллы, то, когда дело коснулось духов и губной помады, она не смогла подчиниться приказу. Взяв вещи бывшей жены Славы, она дополнила их собственными мелочами, без которых чувствовала бы себя неуютно. И, разумеется, ни один мужчина этого не заметил. Это была неплохая улика.
Лидочка крутила косметичку в руках, чуть не вывернула наизнанку.
И поняла, что условия, в которых содержат похищенную женщину, таковы, что никакая косметика ей не требуется. И переодеваться ей не надо.
С чего бы… Лидочка медленно собирала вещицы обратно в косметичку. Зачем бандитам, при их бессердечии и жестокости, оставлять в живых настоящую Аллу? «Почему я решила, что видеозапись сделана вчера или позавчера, что они придумали историю с доверенностью только что? Зачем им нужна настоящая Алла? Зачем возиться с ней, кормить ее? Это бывает только в приключенческих фильмах из американской жизни, а у нас каждый бутерброд на счету».
Мысль о смерти Аллы не возникла у Лидочки раньше, до того, как она увидела ее косметичку и ее трусики. Это дурное наследство, оно не принесет радости здешней Алле… Но вот эту Аллу они будут беречь.
А Славу?
На первый взгляд его теперь можно бы и убить: кому он нужен, если счет у него общий с женой и распоряжение о переводе ценных бумаг в наличные сделано… Но смерть Славы вызовет неизбежные осложнения с полицией… Значит, если со Славой что-то и планируется, то он должен исчезнуть, а не погибнуть. К сожалению, одно не исключает другого…
Лидочка убрала за собой и заперла дверь в спальню.
Хоть ничего особенного она не нашла, настроение у Лидочки испортилось.
И тут ее потянуло в сон.
С Лидочкой такое бывало несколько раз в жизни. Когда было очень плохо и нервы уже отказывались служить, она засыпала. Так случилось, когда она узнала о смерти мамы…
Лидочка прошла к себе в комнату и на минутку прилегла. Только на минутку — очень уж разболелась голова.
И заснула.
И проснулась, как оказалось, через два часа от шума, криков и ругани внизу.
Несколько секунд она лежала, собираясь с мыслями, и чем более просыпалась, тем хуже становилось настроение.
Но делать нечего. Лидочка посмотрела на часы. Половина двенадцатого!
Лидочка вышла на лестничную площадку и посмотрела вниз.
В прихожей Геннадий отчитывал Славу:
— Чего ты не видел? Ты сам им помог! Наверное, всю ночь их собирал!
— Я не имею представления! — отказывался Слава. — И отстаньте от меня, наконец. Я не имею представления!
— Ну что ты прикажешь делать, Эдуард? — Геннадий обратился к своему хромому приятелю, который впервые пришел в дом Кошко.
— Ничего страшного еще не произошло, — сказал Эдуард Дмитриевич. — Не все потеряно.
— А вот и ты, Лидия Кирилловна! — воскликнул Геннадий, увидев Лидочку. — Где Кошки? Когда они сбежали?
Лидочка уже почти спустилась с лестницы и увидела, что дверь к Кошкам распахнута.
Еще несколько ступенек вниз, и стало видно, как уменьшились завалы барахла, добытого Кошками с таким трудом.
— Этого еще не хватало! — Геннадий был в бешенстве.
И тут Лидочка со всей очевидностью поняла, что Геннадий — не главный в этом тандеме.
— Успокойся, — сказал Эдуард. — Они промахнулись. Рейс «Аэрофлота» только в четыре. На семь утра они не успели.
— Что они — идиоты, на «Аэрофлоте» лететь! Да у них головы на плечах есть, — вмешалась Алла. — Они сейчас на «Бритиш Эйрлайнс» к Москве подлетают — и сразу на Петровку! Звони, чтобы их в Шереметьеве наши перехватили.
— Да помолчите, — брезгливо остановил их Эдуард Дмитриевич.
Лидочка только теперь разглядела местного вожака банды. Был он средних лет, с невыразительным чиновничьим лицом, одна нога короче другой — это было видно и на ходу, и даже когда он стоял, покосившись.
— Алла, — продолжал Эдуард, — мы с Геной смотаемся в Хитроу, времени у нас в обрез. А ты остаешься на кухне. Все попытки бунта на борту пресекаешь как хозяйка дома.
Алла непроизвольно ринулась за вождем.
Лидочка поняла, что сегодня Алла трусит куда сильнее прежнего. Бунт на борту разгорается, и неизвестно, куда бросаться, чтобы его подавить.
Дверь захлопнулась.
Удрученный Слава отправился к себе в кабинет, а Лидочка пошла на кухню. Алла бросилась за ней.
— Сейчас, Алла, вам самое время идти с повинной, — сказала Лидочка.
— Ты с ума сошла! — испугалась Алла. — Что я, буду в ихней тюрьме гнить?
— А чем их тюрьма хуже нашей?
— Так я же ихнего языка не знаю.
— Учителя пришлют. Потом вам знание иностранного языка пригодится.
— Нет, — решительно сказала Алла. — Там негритянки. А я их не выношу — очень воняют. А из нашей тюрьмы всегда отмажут.
Лидочка была у себя наверху, когда через три часа привезли беглецов.
Об их прибытии Лидочка догадалась по грохоту, вздохам и жалким голосам, доносившимся из прихожей.
Вечером она узнала об их поимке от Валентины, которая прибежала к ней пошептаться, так как все еще находилась в состоянии ужаса от провала всех жизненных планов.
Циничный Эдуард Дмитриевич оказался прав: Кошек погубила жадность, очередной приступ жадности, которую они называли бережливостью, разумным отношением к жизни и всякими другими красивыми словами.
Бежать они решили еще с вечера. Потому что не убежишь — тебя или убьют, или посадят.
Ночью они тихонько сложили в тюки и сумки самое необходимое. Так, чтобы можно унести в руках.
Говоря так, Валентина лукавила, потому что по мере приближения времени отъезда число тюков и сумок все увеличивалось. Как вызвать дешевое такси, Кошки знали. Они договорились с водителем, что тот остановится за четыре дома до их убежища. Постепенно они перетащили туда багаж. Было около семи, уже светло, но в доме никто их не хватился.
Кошки хотели одного: убраться как можно дальше от этой Англии и этого ихнего родственника. Дома, как уверяла Валентина, они бы в милицию не пошли — зачем с властями связываться? Кому и когда это приносило пользу?
До Хитроу они доехали часов в девять или чуть пораньше. Был рейс на Москву — английский рейс, десять сорок две. Но надо было платить на полную катушку, а «Аэрофлот» соглашался взять с них пятьдесят процентов, раз уж они сдают старые билеты. Оставались деньги на страшный перевес и надежда на то, что с соплеменников «Аэрофлот» за перевес не возьмет.
Кошкам надо было пройти паспортный контроль и укрыться в международной зоне, но на радостях они отложили переход — уж очень много времени оставалось до рейса, и им казалось, что за границей они будут слишком хорошо видны.
О бандитах они все время помнили, трепетали, но два чувства — бережливость и «авось» — заставили их держаться «Аэрофлота».
Эдуард все рассчитал точно. Бандиты приехали в Хитроу как раз в тот момент, когда с чувством внутреннего облегчения Кошки заняли очередь к стойке — оформлять билет и багаж. Причем Василий держал тележку с чемоданами и сумками, а Валентина за столбом караулила бесчисленные сумки.
Так что сначала бандиты взяли Валентину. Та чуть было не лишилась чувств, села на сумки и покорно ждала, пока Геннадий выводил из очереди Василия и катил его вместе с тележкой к жене.
Тут началось перетягивание каната. Кошки готовы были сдаться на милость победителей и вернуться на Вудфордж-роуд, но не раньше, чем им удастся вернуть хоть какие-нибудь деньги за билет.
В результате бандиты потерпели поражение — Эдуарду пришлось из своего кармана отстегнуть им половину стоимости билетов. Так что Валентина, рассказывая о своей эпопее, утешала себя тем, что с финансовой точки зрения матч Кошки — бандиты окончился вничью.
По дороге домой Кошки старались оправдываться и с гневом отвергали упреки в слабодушии и предательстве родственников. «Та ж воны не ридные нам, — уверяла Валентина. — Так, приймаки…»
Возвратив беглецов, Эдуард укатил куда-то по делам, а с Аллой оставил Геннадия, настрого запретив им пить. Поэтому они пробавлялись пустым чаем, были трезвы, злы и бдительны.
Иришка вернулась ближе к вечеру. Роберт провожал ее и громко сказал:
— Я буду проверять.
Иришка забралась в комнату к Лидочке и шепотом поведала ей, что завтра Снежана Ричардсон увозит ее и Роберта в Шотландию на машине — ни один бандит не догонит. Иришка сказала, что не хотела оставлять отца, но Слава сам ей велел уезжать, потому что без нее он будет себя чувствовать спокойнее. По крайней мере не нужно будет за нее переживать.
Иришка позвала Лидочку погулять.
— Здесь даже стены подслушивают, — сказала она. — Когда я стану хозяйкой, первым делом продам этот дом.
— Как так хозяйкой?
— Думаю, фазер тут долго не протянет, — совершенно спокойно сказала Иришка. — У него сердце паршивое. А такие переживания могут оказаться роковыми.
— Ты шутишь?
— Вы из хорошей семьи, тетя Лида, у вас все друг друга любят, уважают, по вам видно. А я выросла в доме, где все хитрят, обманывают и тащат к себе. Я их должна любить, но не знаю на самом деле, кого люблю, а кого ненавижу. Фазер думает, что я маму обожаю, а я даже не знаю, буду расстраиваться, если она погибнет, или нет.
— Как ты можешь, Иришка! — ахнула Лидочка.
Ей хотелось надеяться, что Иришка притворяется, что скрывает за грубостью мягкую сердцевинку. Они спустились вниз. Алла с Геннадием сидели в столовой.
— Вы куда? — спросил Геннадий.
— Погулять, — ответила Лидочка. — И не суетитесь, вы же не можете всех запереть по комнатам.
— А что? Это мысль, — сказал Геннадий. — Конструктивная мысль.
— Никуда мы не денемся, — сказала Лидочка.
— Никуда они не денутся, — поддержала ее Алла. — Погуляют и домой прибегут.
Геннадий вышел в коридор и глядел им вслед, пока они не вышли из дома.
На улице было тепло, цвела магнолия. «Здесь не бывает комаров, — подумала Лидочка. — Наверное, давным-давно здешние комары заключили с людьми соглашение, что не будут их кусать, а люди не будут их давить. Вот и живут…»
— Знаете, тетя Лида, — сказала Иришка, — я тут ломала голову, ломала, и у меня получается, что им нет смысла оставлять мою маму в живых. Это опасно и ничего им не дает. Узурпаторша есть, зачем пугать себя и окружающих…
— Не пугай меня.
— Ага, по тону слышу, что вы тоже так думали.
— Тебе не страшно?
— Мне страшно. За папу страшно. В самом-то деле он до сих пор маму любит. Он чудак, он не очень хороший, но придумал себе правила: я люблю Аллу, я люблю ребенка, я люблю маму… А он кого-нибудь может любить?
И тут сбоку зашуршали кусты. Иришка, взвизгнув, отпрянула. Из кустов вырвался Слава.
— Я могу любить! — сказал он театрально. — Я нечаянно подслушал страшные подозрения, которые раздирают твою душу!
— Фазер, не говори красиво, — поморщившись, сказала Иришка. — У нас с тобой мир, мы в одной лодке.
Они медленно шли к детскому парку. Лидочке было неловко. Она подслушала и подсмотрела то, чего ей видеть не хотелось.
— Завтра с утра я ставлю вопрос ребром, — сказал Слава, немного успокоившись и, видно, отнеся слова дочери на счет нервного срыва. — Или они освобождают Аллу, или я принимаю меры. Хватит. Уже больше недели она у них в плену. Я сделал все, что они требовали, элементарные договорные отношения требуют взаимных уступок, разве я не прав?
— Ты всегда прав, папочка, — мрачно сказала Иришка.
Сзади послышался частый топот.
— Ну вот, — сказал Слава. — Видишь, как они нас уже боятся.
И в самом деле за ними несся Геннадий. Бежал он красиво, широко, затормозил метрах в трех.
— А ты, Славик, как ускользнул? — спросил он. — Чтобы больше таких штучек не повторять! А то сбежишь в Лондон — где нам тебя искать?
Слава поднял палец и строго сказал:
— Завтра — вы слышите?! — завтра я поднимаю вопрос о немедленном освобождении матери моего ребенка.
— Вот завтра и поговорим, — сказал Геннадий. Он успокоился — никто из его стада в лес не сбежал.
Они вернулись в дом. Алла ждала у двери, курила на улице. Оранжевый огонек сигареты разгорался, когда она нервно затягивалась, и зловеще освещал ее лицо.
В доме было слышно, как шуршат, возятся в своей норе несчастные Кошки.
Видно, они раскладывали вещи, обреченные ждать, когда ситуация развяжется и хозяев отпустят домой.
Лидочка поднялась к себе. Ей больше не хотелось ни с кем разговаривать.
Но не тут-то было.
Через час заявилась Валентина и стала жаловаться на свои несчастья. Она рассказала Лидочке про неудачное путешествие в Хитроу, причем Лидочке все время приходилось делать поправки. Валентина не лгала, но рассказывала о бегстве со своей точки зрения. Так она все видела. Так запомнила.
— Что будет, что будет?! — повторяла она. — Скоро нас отпустят, Лидия? Ведь мы можем не пережить, честное слово. У нас здоровье никуда не годится. Они отпустят Аллочку, а? Или порешат ее?
— Я не знаю, — сказала Лидочка.
— А я чего боюсь, — заметила прозорливая Валентина. — Я боюсь, что они теперь за Славика примутся. Он как жертвенный агнец, честное слово. Он ведь для них бумаги подписал — значит, теперь не жилец.
— Нет, — уверенно сказала Лидочка. — Это не в их интересах. Им нужно, чтобы все обошлось без жертв.
— А нас-то не жалеют, — вздохнула Валентина.
Глава 21
Потом, для инспектора Слокама, Лидочка старалась воспроизвести свои чувства и ощущения той ночи. Но трудно словами передать собственные ожидания, страх, переживания, звуки и шорохи, которые ползали по дому.
Лидочка, как ей казалось, в ту ночь вовсе не спала. На самом же деле она много раз просыпалась. И порой не знала отчего.
— Подъезжала ли к дому машина или машины? — спрашивал инспектор Слокам.
— Кажется, подъезжала. Но я не могу сказать когда и останавливалась ли она у наших дверей.
— Слышали ли вы голоса?
— Разумеется. И, кажется, не раз. Но не знаю, было ли то наяву или во сне.
— Шаги в доме, движение?
— Да, конечно. Но не помню когда.
Все было той ночью как в кошмаре. Ни в чем нельзя быть уверенным.
А к утру Лидочка заснула и проснулась уже от того, что в доме стояла мертвая тишина. Словно он вымер.
Лидочка посмотрела на часы. Без двадцати шесть. Никто здесь так рано не встает. Но почему не поют птицы? Почему не летают самолеты? Почему выключили звук?
Лидочка зажмурилась и постаралась заснуть вновь.
Снова Лидочка проснулась уже в разгар утра. В восемь. Солнце, путешествуя по бирюзовому небу, выползло из-за рамы и ударило лучом в закрытые Лидочкины глаза. Лидочка взглянула на солнце и зажмурилась вновь. Но тут небольшое ватное облачко догнало солнце и скрыло его.
Лидочка соображала, успел ли кто-нибудь занять ванную и туалет? Ее всегда обгоняли Иришка с Аллой. И обе любили поплескаться в ванной подольше. Все последние дни Лидочка старалась подняться раньше всех, чтобы не тратить полчаса на ожидание, как в коммуналке.
Вода не лилась.
Лидочка накинула халат и побежала к ванной. Успела.
«Что нас ждет сегодня? — рассуждала Лидочка, стоя под душем. — Вести из Москвы?» Не верила она в эти вести. И если они будут, то окажутся лживыми…
И тут сквозь шум воды она услышала крик:
— Тетя Лида!
Звали ее. Иришка.
Крик повторился у двери в ванную, пока Лидочка быстро вытиралась.
— Да скорее же! — кричала Иришка. — Скорее!
Запахивая халат, Лидочка выбежала на лестничную площадку. Она не успела причесаться и толком не вытерлась.
— Фазер пропал! — заявила Иришка, стоявшая под дверью. — Понимаешь, они украли фазера!
— Кто украл? Кому это нужно?
Из своей комнаты вылезла сонная Алла.
— Ну что устроили базар? Кто еще у вас пропал?
— А ты молчи! — закричала Иришка. — По тебе давно тюрьма плачет! Где папа? Отвечай, где папа?
Алла отпрянула и закрыла дверь. Слышно было, как взвизгнула задвижка.
— Объясни, Иришка, — попросила Лидочка. — Что случилось?
— Ну идем, идем, — тянула ее за собой Иришка. — Скорей!
Они сбежали вниз по лестнице и оказались в кабинете.
Дверь была открыта. Кабинет был пуст.
На разобранном диване лежало одеяло в пододеяльнике, но простыни и подушки не было.
Это показалось Лидочке настолько странным, что она непроизвольно обвела комнату взглядом в поисках недостающих вещей.
Иришка тащила ее к дивану.
— Вы здесь смотрите, тетя Лида! Смотрите!
Иришка нагнулась и положила ладонь на диван, туда, где должна была лежать подушка.
Лидочка послушно дотронулась до дивана. Он был влажным.
Если приглядеться, то можно было увидеть, что влажное пятно темнее, чем ткань дивана.
— И что ты думаешь?
— Это кровь? — шепотом спросила Иришка.
— По-моему, не кровь.
— Что тут происходит? — спросила, возникая в дверях кабинета, Алла голосом хозяйки дома.
— Где папа? — истерически крикнула Иришка. — Что вы с ним сделали?
— Что? — Алла была настолько растеряна, что Лидочка ни на секунду не усомнилась, что если московские бандиты и имели отношение к его исчезновению, то Алла об этом не подозревала.
— Что, думаешь, он на тебя деньги переписал, можно его и убить?
— Погоди, Иришка, — вмешалась Лидочка. — Мы же не знаем, что случилось с папой. Может быть, он ушел.
— Куда ушел?
— Ему все надоело, и он ушел.
— Ты что мне мозги пудришь? — рассердилась Алла. — Куда ушел? И подушку с собой унес? А простынка где?
— Он мог спать и без простыни, — возразила Лидочка.
Она поняла, что хочет только одного — чтобы Алла ушла, ни о чем не догадавшись, и тогда Лидочка сможет вызвать полицию. И Алла сразу догадалась о ее намерении.
— И не мечтай, — прошипела она. — У нас все схвачено. Твой муж Андрей у нас под колпаком. Понимаешь? И ихняя бабушка тоже от нас далеко не уйдет.
— Вот сейчас я ее убью, — сказала Иришка. — Я ее обязательно убью. Если с отцом что-то случилось, я сяду в тюрьму, пускай отрубят мне голову. Но она жить не будет.
Иришка говорила так яростно, что Алла смешалась, выскочила в коридор и кинулась к телефону.
Иришка словно забыла о ней и полезла под диван. Она пыталась отыскать хоть какое-нибудь объяснение исчезновению отца.
— Они его уволокли и убьют! — говорила Иришка. — Им нужно, чтобы он исчез, пропал без вести. Его искать не будут, и безутешная вдова все унаследует. А глупая дочка окажется под электричкой.
— Геник! — послышался голос Аллы. — Где твой клиент?.. Что же, я должна была ночью не спать? Так и оставался бы сам, под дверью сторожил. Да скорей ты, они в полицию звонят!.. Я предупредила, а им по фигу!.. Ясно!
Алла рванула телефон на себя, оборвала провод и кинула аппарат в угол.
— Ты что? — набросилась на нее Иришка.
— Сейчас Гена здесь будет, — ответила Алла. — Не трогал он твоего фазера. Заявится твой фазер.
Дверь к краснодарским Кошкам приоткрылась, и оттуда высунулась опухшая со сна или от слез физиономия Василия.
— Только не говорите, что еще одно несчастье! — взмолился толстяк. — Лучше я пешком в Москву пойду.
Иришка хотела вырваться из дома, но Алла ее не пускала, и они принялись отчаянно возиться у дверей. Лидочка понимала, что это ничего не даст, поэтому вернулась в кабинет и стала его осматривать.
Дверь в сад была закрыта изнутри на задвижку. То есть снаружи прийти убийцы не могли. Какие-нибудь следы они должны были оставить…
«Почему я называю их убийцами? Нет никакого убийства, это просто расшалившиеся нервы.
Я нахожусь на грани безумия, пью кофе с убийцами, даже одним мылом с бандиткой пользуюсь. И куда как логично, что Слава, отчаявшись что-то изменить, подумал, что его бегство все решит.
Но почему он не убежал раньше, еще не подписав документов?
А что я знаю о его душе? Что там шевелилось? Какие страхи перевесили ответственность за жизнь других людей? К тебе приходят и говорят — веди себя так-то, иначе мы убьем твою мать и твою дочь. И ты ведешь себя как надо до того момента, когда сходишь с ума».
Сейчас откроется дверь, и он вернется… Он вспомнит о тех, кого оставил, и вернется.
Дверь не открывалась.
Лидочка еще раз подошла к двери в сад — она ее притягивала. Дверь словно скрывала тайну, ускользавшую от внимания Лидочки. Лидочка подергала за ручку. Дверь была закрыта на щеколду и на замок — ключ повернут в металлической раме. Словно Слава опасался тех, кто может прийти из сада. И думал, что они не посмеют разбить хрупкую стеклянную преграду.
Возле дивана должны быть следы. Ведь пришли же эти люди откуда-то. Следов не было. Может быть, они вымыли пол? Но теперь уже не определишь. Лидочка понюхала влажное пятно. От него исходил какой-то слабый запах, но ничего определенного она сказать не могла.
Лидочка уговаривала себя, что Слава жив, а когда начинала внутренний монолог, ловила себя на том, что думает о Славе как об убитом. Ведь все шло именно к этому. И Слава это чувствовал.
Теперь в доме новая хозяйка.
Раздался звонок в дверь. Лидочка кинулась в прихожую, но напрасно. Нет, это не Слава. На Вудфордж-роуд примчался взбешенный Геннадий.
Его гнев обрушился в первую очередь на Аллу. Недосмотрела, тебе ничего нельзя доверить!
Потом пришел и рассудительный Эдуард Дмитриевич.
Они топтались посреди кабинета, осматривали диван, ничего нового не сказали. Иришка, воспользовавшись моментом, ускользнула из дома.
Эдуард послал ей вдогонку Геннадия. Но на полпути остановил и сказал:
— Лидия Кирилловна, если вам удастся вернуть Ирину домой, мы будем вам признательны. Даю слово, что мы не причинили никакого вреда хозяину дома. Но если сейчас появится полиция, нам придется принять меры. У нас в руках заложники.
— Я не хочу, — сказала Лидочка, — чтобы и Иришка стала вашей заложницей.
Эдуард пожал плечами, с выдержкой принимая этот удар судьбы, и сказал:
— Когда Вячеслав вернется, вам будет стыдно.
Пока Геннадия не было, Эдуард осмотрел дверь и сказал:
— Вряд ли за ним пришли снаружи. Дело внутреннее.
— Но могли пройти через входную дверь.
— Им должны были открыть.
— Было кому открыть.
— Мы крутые, — сказал Эдуард Дмитриевич, — но мы не дураки. Вы читали книжку о курице, которая несет золотые яйца?
— Вы ее зарезали, потому что она уже снесла яйцо.
— Как мне все надоело! — с чувством произнес бандит.
Ворвался Геннадий. С порога он закричал:
— Мотаем отсюда. Ирка наверняка вызвала полицию.
Эдуард Дмитриевич направился к выходу. Он остановился возле Аллы и сказал ей:
— Будь совершенно спокойна. Никто тебя ни в чем не подозревает.
— А если полиция…
— Лидия Кирилловна поможет тебе разговаривать. Она хорошо английский язык знает. И она будет молчать. Как и все остальные. Правда? — Последняя фраза относилась к Кошкам, которые в ужасе наблюдали за происходящим через неширокую щель из своей комнаты.
— Мы молчим, честное слово, мы ничего не знаем, — с чувством ответила Валентина. — А может, вы нас на аэродром отпустите?
— Закройтесь и сидите, — сказал Эдуард. — Вы спали и ничего не знаете, ничего не слышали. Так лучше и вам, и всем остальным.
— Да, да, конечно, мы понимаем, ну как не понять, — ответила Валентина, и дверь в комнату Кошек закрылась.
— Надеюсь на ваше благоразумие, — сказал Эдуард Дмитриевич от двери. — И обещаю, что наша московская гостья будет освобождена сегодня вечером.
Он вышел следом за Геннадием.
Опасения Геннадия оправдались. Практически следом за ним, буквально через три-четыре минуты, перед домом остановилась желтая с голубым полицейская машина. Из нее вышли два полисмена в форме.
Лидочка побежала открывать.
— Что у вас произошло? — с порога спросил один полисмен.
— Проходите.
— Нам позвонила девочка и сказала, что пропал ее отец.
Полицейский был молод и постоянно по-английски улыбался, словно собирался сообщить замечательную новость.
— Да, исчез хозяин дома, — подтвердила Лидочка. — И мы не знаем, что с ним случилось.
Значит, Иришка все же позвонила в полицию и спряталась у Ричардсонов.
— Кто здесь живет? — спросил полицейский.
— Это родственники хозяина дома, а наверху его первая жена. Она не говорит по-английски. А я просто знакомая.
— Так что же случилось? — настаивал полисмен. — Вы, кажется, русские?
Лидочка виновато кивнула.
Второй полицейский, полный, с мучнистым толстым лицом, сморщил нос и вздохнул. Видно, он был наслышан об этих русских.
Лидочка повела их в кабинет.
Надо как можно скорее позвонить Андрею, сказать, чтобы он уезжал из Москвы. Но разве его заставишь это сделать?
Алла вела себя сдержанно и встретила полицейских как обеспокоенная, но в меру, жена джентльмена. С помощью Лидочки она сообщила полиции, что, конечно же, встревожена исчезновением мужа, но не настолько… К сожалению, ее дочь — очень нервное создание в переломном возрасте. Она бывает практически неуправляемой.
Полицейские качали головами и дежурно улыбались. Они не верили Алле, не верили никому. И Лидочка поняла, что в отличие от русских коллег они не закроют дело как пустяковое и не стоящее усилий. Эти полицейские не выкинут и не спрячут в шкаф протокол с места происшествия. Они появятся здесь снова, и не позднее чем завтра.
Полицейские пожелали взволнованной миссис Кошко взять себя в руки и рассчитывать на лучшее. Они были добросовестны, но уехали довольно быстро, как «Скорая помощь», обнаружившая, что сердечный приступ оказался нервным припадком, за которым не скрывается серьезной болезни. Лидочка понимала, что если бы они попали в английский дом, то уделили бы делу куда больше внимания. Странно, что хозяин дома, солидный мужчина средних лет, ложится спать в своем кабинете, а утром его там не оказывается.
Когда же начинаешь допрашивать русских родственников, они ничего не знают, ничего не понимают и вообще уверены в том, что мистер Кошко уехал к друзьям или просто отдохнуть в Брайтон.
Разумеется, настоящий англичанин так бы не поступил, но чего можно ожидать от русских, которые лезут во все щели, чтобы нарушить спокойную жизнь на Островах?
Полицейские уехали, сказав на прощание, что просят звонить им и держать в курсе дела.
Краснодарские Кошки, которым удалось отсидеться в своей комнате, тут же вылезли в прихожую, чтобы узнать, чего хотела местная милиция. Алла была довольна, что обошлось, хотя и материла Иришку: хипеж подняла, а сама ноги унесла.
Тут позвонила Валери из агентства по продаже домов. Она нашла для Лидочки какой-то удобный дом и спрашивала, может ли та сейчас съездить поглядеть. Это недалеко, на Форест-хилл.
Лидочка восприняла звонок Валери как знамение свыше, как освобождение от постоянного кошмара.
Валери вскоре приехала на своей слишком большой для этой улицы американской машине, но сама она смотрелась в ней замечательно — большая уютная негритянка в большой уютной машине.
Это был первый дом, который более-менее подходил для конторы Теодора, и у Лидочки чуть улучшилось настроение — по крайней мере хоть какой-то просвет!
На обратном пути она попросила Валери остановить машину у лавки, где хотела купить телефонную карточку. Они попрощались.
Небо заволокло облаками, стало прохладно и влажно. Природа решила напомнить, что Англия — остров в океане.
Лидочка позвонила домой, но там никто не подошел. Тогда она набрала институтский номер Андрея. Лидочка уже была взволнована так, что голос срывался: ей почудилось, что они добрались до Андрея.
Трубку взяла секретарша Лизавета, которую Лидочка недолюбливала, потому что она нравилась Андрею. Он всегда любил женщин такого типа.
— Ой, Лидия Кирилловна, как у вас в Лондоне? — спросила Лизавета. Еще чего не хватало! Он обсуждает с ней мои дела! — А Андрей Сергеевич у директора. Они план раскопок согласовывают.
— Вы давно его видели? — спросила Лидочка.
— Как так давно? Минут десять назад. Они вместе с Мейером туда пошли.
В сущности, Лизавета не такая плохая девица, дала ей индульгенцию Лидочка. Ну молода, ну плохо воспитана, ну нахальна… Но кое-что из этого пройдет. С остальным пускай мирится ее будущий супруг.
— Ой, Лидия Кирилловна, — сказала Лизавета, — у меня к вам микроскопическая просьба. Совершенно не могу отыскать в Москве хороших маникюрных ножничек. А в Лондоне они есть, недорогие, но хорошие. Лучше бы «Золлинген» — вы запомните или запишете?
— Запомню, — мрачно ответила Лидочка, потому что практически вся карточка ушла на разговор с Лизаветой. Впрочем, звонила она не зря. По крайней мере десять минут назад Андрюша был в институте.
На остаток карточки Лидочка с того же автомата набрала номер, который оставил ей инспектор Слокам.
Ей повезло. Инспектор был на месте и даже вспомнил Лидочку.
— Как у вас дела с расследованием? — спросила Лидочка, словно говорила с коллегой.
— Расследование продвигается, — ответил инспектор, но обмануть себя и отвлечь от дел не дал. — Что еще у вас случилось?
— Вы думаете, у русских всегда что-то случается?
Лидочка слышала собственный голос, и он ей не нравился — слишком бодрый и лживый.
— Неизвестно куда пропал владелец дома, — сказала она.
— Мистер Кошко? — У инспектора оказалась профессиональная память на иностранные имена. — Когда это случилось?
— Очевидно, сегодня ночью.
— Следует немедленно сообщить в полицию, — посоветовал детектив.
— Спасибо, — сказала Лидочка. — Мы вызвали полицию.
— И что же?
— В том-то и беда, что полиция приехала, осмотрела место происшествия, поговорила с нами и уехала, попросив звонить им, как только что-нибудь случится.
— Разумное решение, — одобрил действия коллег Слокам. — А вы как думаете?
— Я думаю, что смерть Галины Стюарт и исчезновение Кошко могут быть связаны.
— В самом деле? — произнес Слокам. Англичане великолепно умеют произносить эту фразу, после чего разговор завершается.
— Может быть, вы приедете к нам? — спросила Лидочка.
— Разумеется, — неожиданно согласился инспектор. — Вы меня чудом застали. Сегодня суббота, я зашел на работу случайно. Сейчас я уезжаю с женой к морю. Но в воскресенье вечером я вернусь. Надеюсь, к тому времени ваш друг вернется.
— Хорошо, спасибо, — сказала Лидочка и повесила трубку.
У них тоже бывают выходные.
Им тоже не хочется работать. Может быть, среди английских сыщиков в виде исключения встречаются лентяи. Но будем справедливы: именно в субботу днем, когда ты, движимый чувством долга, сидишь на работе и приводишь в порядок какие-то отчеты, звонит русская дама, несущественный свидетель по безнадежному делу, которое никто никогда не распутает, да и оснований, чтобы его распутывать, нет. Ты вежливо разговариваешь с дамой и отсылаешь ее на понедельник. И может быть, на той неделе в самом деле выберешь время, чтобы с ней встретиться. Не потому, что дела русских в Лондоне тебя занимают, а потому, что любая преступная деятельность в столице Соединенного Королевства представляет опасность для жизни его граждан и должна быть пресечена.
Мы сделали что могли, англичане — что сочли нужным. Русская мафия осталась цела и невредима. Если бандитам удастся трюк с доверенностью на имя Аллы, то они останутся в барышах, а Иришка отправится домой бедовать на бабушкину пенсию и вспоминать о лондонском богатстве, которого она так и не почувствовала. Да и никто не почувствовал.
Слава не был готов к тому, чтобы стать богатым человеком. Он лелеял свое богатство, но в то же время таился и боялся последствий. Он был виноват перед родиной и всем прогрессивным человечеством, что немедленно не отдал все деньги в фонд защиты слепых.
Лидочкой овладело бессильное чувство обреченности. Она всей шкурой чуяла, что Слава мертв. И мертва его Алла. И никому до того нет дела. Кроме Иришки и Марксины Ильиничны, да и в них Лидочка не была уверена.
Глава 22
Когда Лидочка вернулась домой, там царило оживление. Валентина выбежала в палисадник, чтобы встретить Лидочку.
— Он звонил! — заявила она. — Славик звонил. Радость-то какая!
Она лучилась счастьем.
— А кто с ним разговаривал? — спросила Лидочка, заходя в дом.
— Василек, — ответила Валентина. — Василек и разговаривал. Я уж Иришке позвонила, она придет сейчас.
Алла стояла в дверях столовой, сложив руки на груди, и чуть улыбалась.
— Я же говорила, — сказала она Лидочке. — Найдется ваш Славик.
Дверь хлопнула. Ворвалась Иришка. За ней тенью следовал верный Роберт.
— Кто разговаривал с папой? — с порога спросила она.
«Она, как и я, не верит», — подумала Лидочка.
Иришка смотрела на Аллу, готовая ее разоблачить.
— Это ваше семейное дело, — сказала Алла и пошла вверх по лестнице.
— Я говорил, — признался Василек.
— Что он тебе сказал? Где он? Когда вернется? — Иришка выстреливала в Василия вопросами, и тот вздрагивал под их ударами.
— А он не казав, — наконец вымолвил он.
— Казав — не казав… А что он казав?
— Що усе в порядке.
— Да говори ты по-русски!
— Я и говорю, что приедет.
— И больше ничего?
— Не волнуйтесь, сказал, приеду.
— Почему ты решил, что это отец? — спросила Иришка. — Ну почему?
— А он сам мне казав, — ответил Василий. — Он говорит — это я, Славик. Я, говорит, приеду. Ждите.
— Но почему — он? Ты что, голоса не помнишь?
— А слышно хреново было, не разберешь. Я еще кричу — это кто? А он мне — это Славик!
— Чепуха, — сказала Лидочка. — Он не мог себя так называть. Он не выносит это имя.
— Чего ж не выносит? — обиделся Василий. — Имя как имя… ласковое.
— Может, это не Славик? — спросила Иришка. — Может, Сашок?
— Какой еще Сашок, нет у нас Сашка, — ответил Василий. — Да не приставайте вы ко мне! Ну что привязались? Он мне сказал, что он Славик, я и сказал: ну как, Славик, куда ты делся?
Валентина сказала:
— Пошли, Василек, к себе, тебе волноваться нельзя.
Василий подчинился. Он ушел в свою комнату, ворча:
— А я что, нанимался, что ли? Он говорит — Славик, а я что? Я говорю, ты где, Славик?
Иришка стояла посреди прихожей, сжав кулачки. Роберт сделал шаг вперед и обнял ее за плечи.
— Это они подстроили звонок, — сказала Иришка, поглядев наверх. — И ловко рассчитали, чтобы этот идиот подошел. Ловко рассчитали.
— Пойдем, Ирина, — сказал Роберт. — Пойдем к нам. Тебе плохо здесь оставаться.
— Я ее убью, — сказала Иришка. — Если что-то с папой, я ее убью!
— И не думай! — раздалось сверху. Значит, Алла не ушла к себе, а стояла на лестничной площадке и слушала разговор. — Руки коротки!
— Как змею раздавлю!
Было страшно и неприятно видеть, как ненависть искажает лицо девушки. Она была совсем некрасивой сейчас: глаза закрыты, по щекам текут слезы, рот кривится.
— Уведи Ирину, — приказала Роберту Лидочка.
— Пошли, — сказал тот. — Посидишь у нас.
Иришка пошла к двери. Она повторяла, как заклинание, только для себя самой:
— Я ее убью. Я ее убью. Мне не жалко.
Лидочка поднялась к себе. На лестнице она столкнулась с Аллой, которая собралась из дома.
— Это вы подстроили звонок? — спросила Лидочка.
— Чего дурью маешься! — сердито откликнулась Алла. — Больше нечем заняться? Сил с вами никаких не осталось! Одни нервы. Скорее бы все это кончалось!
— Разве это от Иришки зависит?
— А пошла ты…
Алла выбежала из дома. Ей тоже здесь было страшно.
Лидочка, которая купила в городе мороженых биточков и чипсов, пошла на кухню.
Она купила еды на несколько человек — мало ли кто окажется голодным в этом неладном доме.
И оказалась права.
Когда запах жареного распространился по дому, из своей комнаты осторожно выползли барсуки — Кошки.
— И что у нас сегодня на ужин? — ласково пропела Валентина.
— Садитесь, сейчас будет готово.
— Василек, — приказала Валентина. — Посоответствуй Лидочке.
Василий сразу понял и вернулся через две минуты с недопитой бутылкой горилки и со шматом сала, завернутым в газету. Это была большая жертва и говорила о том, что Лидочка осталась единственной надеждой и опорой для краснодарских родственников.
— Я тебя не опасаюсь, — подтвердила предположение Лидочки Валентина, разложив газету на столе и стругая сало.
Василий поставил на стол бокалы и тут же, спеша, разлил по ним горилку — себе побольше, женщинам куда меньше. Ухмыльнувшись по-кошачьи, он сообщил:
— Алкоголь — вещь вредная, женскому организму противопоказана.
Он выпил, не закусывая, и сразу же налил себе еще, уверенный в том, что Валентине сейчас не до него и она на радостях и от облегчения, что Алла ушла, а Славик вроде бы нашелся, ругать его не станет.
— А мы, Лидок, — сказала Валентина, — все равно сбежим. Может, завтра и сбежим. Мы умнее стали. На ошибках учатся, правда?
— Не будете ждать аэрофлотовского рейса? — догадалась Лидочка.
— Они за нами разок сбегали, а второй раз не побегут.
Лидочка не могла с ними спорить — Кошки жили надеждой на бегство. И с ней были доверчивы и открыты.
— Вот ты скажи, — заговорил Василек, — на что людям гроши?
— И я говорю, — подхватила Валентина. — Нам же много не надо. По гостинцу внучатам и главное, чтобы дома оказаться.
— На своей постели, — объяснил Василий. — У меня этот империализм в печенках сидит.
Алла пришла поздно. Лидочка не спала, читала. Завтра воскресенье, святой день в Англии. Никто ничего делать не будет. А в понедельник все это кончится. Плохо ли, хорошо, но кончится. Лидочка в том не сомневалась.
Алла что-то говорила в дверях Геннадию, который, видно, ее провожал. Потом она постучала к Кошкам. Из-за двери откликнулись.
Дом был старый, каменный, тем не менее он был открыт для звуков, стены их не задерживали.
Поговорив с Кошками, Алла стала подниматься к себе. Поднималась она медленно, что-то бормотала себе под нос. Остановившись под дверью Лидочкиной комнаты, Алла спросила:
— Ты здесь?
Помолчала.
— Не скрывайся. Я все знаю. Ты там сидишь.
Но, видно, полной уверенности не было.
Неожиданно Алла толкнула дверь, и та растворилась.
— Книжечки читаешь? Люди переживают, а ты читаешь?
Алла была сильно пьяна и зла на весь мир.
— А где моя доченька?
Лидочка не ответила.
— Где Ирка, я спрашиваю? У хахаля своего?
— Закройте дверь, — сказала Лидочка. — Надоело.
— Я до тебя еще доберусь… дерьмократия!
Это было самое ненавистное слово.
Дверь Алла закрывать не стала, а пошла к Иришкиной комнате. Лидочка услышала стук. Потом еще сильнее.
— Ты дома или как?
Алла ударила в дверь кулаком. Видно, ничего не получилось. Алла повернулась к двери спиной — Лидочке это было видно через незакрытую дверь — и стала бить по филенке каблуком. И вдруг — никто этого не ожидал — дверь растворилась, и Алла почти упала внутрь. Иришка сильно толкнула Аллу в спину, та качнулась вперед, схватилась за перила и чуть не загремела вниз.
— Еще сунешься, — сказала Иришка, стоя в дверях, — убью. Я тебя уничтожу, как гниду!
Алла стала подниматься и разворачиваться. Лидочка увидела, что она снимает туфлю и замахивается острым каблуком на Иришку.
Лидочка взлетела с постели и кинулась на лестницу.
Но ее вмешательство не потребовалось.
Иришка была вдвое моложе и абсолютно трезва. Она легко уклонилась от удара, выхватила оружие Аллы и швырнула туфлю вниз. Туфля ударилась о стенку и полетела вниз в прихожую.
Алла и Иришка стояли, глядя друг на дружку. Сбоку в стороне замерла Лидочка, сжав в руке книгу.
— Тебе не жить, — прошипела Алла.
— Это еще вопрос, — ответила Иришка.
Лидочка ступила вперед.
— Хватит, — сказала она. — Это никому ничего не даст.
— Еще как даст. И за отца я отомщу.
— Принеси мне туфлю, — велела Алла.
Иришка повернулась и молча ушла к себе. Слышно было, как она запирает дверь.
Алла обернулась к Лидочке.
— Я что тебе сказала?!
Лидочка ушла в свою комнату. Это было похоже на уход со сцены.
Алла осталась в одиночестве.
Лидочке было любопытно, пойдет ли она вниз за туфлей?
Алла не пошла. Постояла, подумала и отправилась к себе. Ее шатало, и, видно, руководила ею единственная конструктивная мысль — добраться до постели.
Лидочка закрыла дверь на задвижку. Ей не хотелось видеть незваных гостей.
Свет она гасить не стала. Все равно внутри все было сжато, завязано в клубок, и пока она отсюда не выберется, ей не ожить.
Лидочка постаралась вызвать в памяти сегодняшнюю поездку с Валери и дом, который они смотрели.
Но мысли скоро съехали с недвижимости на жизнь… Дома Эшеров, сказала она себе. Дом погибает, рушится, он ненастоящий, в нем нет сердца.
Лидочка постаралась представить себе, что творится в его комнатах.
Иришка, конечно же, не спит. Она мысленно пробирается в комнату Аллы, чтобы застрелить ее, и в воображении пронзает ее десятками пуль, заставляя корчиться от страха и боли… Зачем она вернулась? Оставалась бы у Ричардсонов.
Закричала Алла.
Потом крик оборвался.
Почему Лидочка решила, что кричит именно Алла?
На лестничной площадке было светло и тихо. Никто не удосужился погасить свет. Свет горел везде — и внизу в прихожей, и в коридоре, где возле телефонного столика валялась Аллина туфля, и наверху, на лестничной площадке. Конечно же, хозяина нет дома, без него можно и не экономить электричество.
Приоткрылась дверь в комнату Иришки — высунулся ее нос.
— Вы что? — спросила она шепотом.
— Мне показалось, что Алла закричала.
— И вы уж решили, что она погибла от моей жестокой руки? — Иришка усмехнулась.
— Но ведь и ты слышала?
— Потому и выглянула.
— Спросить ее?
— Спрашивайте сами. Не хочу на мат нарываться. Вы же знаете, почему она кричит, — кошмары замучили. Она пьяная в дымину — вот и мучается.
— Кто кричал? — донеслось снизу. Значит, и Кошек разбудили.
Лидочка вернулась к себе.
Она не заметила, когда заснула. Может, это было в три часа, но вряд ли раньше — в последний раз она смотрела на часы в два.
Опять повторились кошмары и бред прошлой ночи. В этих кошмарах фигурировал Слава, бандиты, но Аллы не было.
Сквозь сон Лидочка слышала, как на лестнице тихо разговаривали. Но кто — она не могла понять и не могла проснуться, чтобы снова выглянуть в коридор. Лидочка понимала, что ее долг пойти к Иришке и остаться на ночь в ее комнате. И зачем девочка пришла ночевать домой? Впрочем, ничего удивительного — поездка в Шотландию отменилась из-за исчезновения отца.
Перед тем как окончательно заснуть, Лидочка вспомнила, что завтра воскресенье, уик-энд, никто ничего совершать не будет. Все дождутся понедельника.
Почему-то эта мысль ее настолько утешила, что она заснула окончательно. Без снов.
Утром Лидочка опять проснулась раньше всех — это уже стало инстинктом, страшной ненавистью к ожиданию в коммунальной очереди в ванную. Несколько минут она лежала — сначала счастливая от того, что в окно бьют солнечные лучи, что в саду оглушительно поют птицы, что вокруг царит мир и покой… Действительность возвращалась к ней толчками. Сначала она вспомнила, что пропал Слава, потом сообразила, что в доме сидит подсадная утка — Алла, что настоящая Алла, вернее всего, погибла…
Лидочка поднялась, пошла в ванную. Никто не сунется сюда в восемь утра. Можно будет подольше постоять под душем.
Лидочка относилась к той категории чистюль, которым лучше всего думается под звон водяных струй.
Вот и сейчас она включила душ и стала думать, что же могло случиться со Славой.
Она не верила в то, что Слава убежал в Брайтон и отсиживается там в маленькой гостинице или вообще уехал на континент, чтобы не видеть, не слышать, не говорить… Не мог он этого сделать из-за Иришки. Пока Иришка не уехала, не спряталась, он остался бы рядом. Потому что в отличие от остальных лиц этой драмы Слава имел одну слабость — любовь к дочери.
Его могли увезти.
Кто? Бандиты? Какого черта им увозить свою курицу, несущую золотые яйца? Зачем рисковать тем, что родные, доведенные до отчаяния, все же вызовут полицию? Что, кстати, и случилось. И если бы не проклятые выходные, наверное, полицейские и инспектор Слокам были бы более заинтересованы в том, чтобы найти мистера Кошко.
А больше кандидатов на похищение, умеющих и любящих это делать, не оставалось.
Может быть, появилась конкурирующая группа, и они украли Славу, чтобы отнять доллары и фунты у группы Эдуарда Дмитриевича? Нет, пожалуй, этот вариант слишком сложный. Обычно в жизни все происходит гораздо проще.
И вывод очень прост — Славу убили, чтобы не путался под ногами.
Конечно, можно твердить, что Слава нужен бандитам, что они заинтересованы во всеобщем спокойствии. Но если Слава пригрозил им, что пойдет в полицию, нужда в нем сводится к минимуму. Документы подписаны. Алла имеет право распоряжаться счетом Славы и может снять с него некую значительную сумму. Казалось бы, такая операция потребует нескольких дней и массы документов, но в первые же дни, сняв деньги с закрытых счетов и продав акции, Слава скопил на своем счете около миллиона фунтов. И их-то Алла может взять.
Но в таком случае бандиты тоже связаны по рукам и ногам до понедельника. Ведь банк закрыт. Им надо протянуть еще один день.
А если они решили убрать Славу, то куда же можно было спрятать его тело? Завернутое в простыню…
И тут Лидочка поняла, почему она не может уговорить себя, что Слава жив и где-то скрывается.
Ведь простыня нужна только мертвецу. Зачем беглецу брать с собой простыню и подушку? Чтобы спать на свежем воздухе? Нет. Чтобы завернуть в простыню тело. А подушка? Подушка испачкана кровью! Может так быть? И простыня, простыня тоже!
Тогда они прячут простыню или заворачивают в нее тело Славы. Ночью грузят в машину… Она слышала машину ночью? Вроде бы слышала. Они увозят тело куда-то за город, вернее всего, сбрасывают в воду, чтобы его не нашли несколько дней, а тогда они исчезнут без следа.
Нет, тела ей не найти.
Лидочка услышала, что в дверь стучат.
Она выключила воду.
— Кто там?
— Тетя Лида, — сказала из-за двери Иришка, — вы уже полчаса под душем стоите.
— Извини, я задумалась. Я сейчас.
Иришка выглядела так, словно вовсе не ложилась.
Она не посмотрела на Лидочку, а прошла в ванную и сразу же там закрылась.
Лидочка приводила себя в порядок уже в спальне.
Она посмотрела на часы. И в самом деле половина девятого.
Где обитатели дома? Действие последнее: на сцену выходят…
Лидочка тихонько подошла к двери в комнату Аллы и прислушалась. Там царила тишина. Алла еще спала.
Лидочка спустилась вниз. За дверью Кошек гудели приглушенные голоса.
— Завтракать будете? — спросила Лидочка.
Наступила испуганная пауза. Потом Валентина выглянула и сказала:
— Хоть ты не пугай, Лидок! Как же так можно? И без тебя всю ночь глаз не сомкнули. Мало ли какой лихой человек на нас покусится?
— Вряд ли вам что-нибудь угрожало, — сказала Лидочка.
— А это ты брось, — сурово сказал Василий. — Нас тоже можно в плен взять за выкуп.
— И придется нашим деточкам дачу продавать, — подхватила Валентина.
И Лидочка поняла, что именно эту проблему Кошки обсуждали только что.
— Ну, я ставлю чайник, — сказала она.
— Сегодня воскресенье? — спросила Валентина.
— Воскресенье.
— Я тебе скажу, — произнесла Валентина вполголоса, — что мы в афтернун улетим. Поняла? Есть такой самолет — в два часа уезжаем, в три тридцать в Хитроу. Но учти, Лидок, никому ни слова — или они что-то еще придумают…
— А где Иришка? — спросил Василий. — Где дивчина?
— В ванной, — сказала Лидочка. — Ничего с ней не случилось.
«Надо будет поговорить со Слокамом, — думала она. — Эти бандиты Англии не знают. Поставьте себя на их место: ночь, незнакомая местность. Куда спрятать тело? Надо выяснить, какая речка или еще лучше тихое озеро есть неподалеку».
А впрочем, может быть, это пустые надежды. Может быть, они, как профессионалы, сначала выяснили, где можно спрятать тело, а ночью уже ехали куда надо, не случайно.
— А чего Алла кричала? — спросила Валентина. — Мы ночью слыхали. Устрашились, ты не представляешь!
— Думаю, она испугалась чего-то, — ответила Лидочка. — Она была очень пьяной.
Вскоре спустилась Иришка.
— Все, — сказала она. — Я заставлю Снежану снова вызвать полицейских. Пусть с собаками приедут. Они к русским не хотят ехать, а если это английские граждане заявят, то они как миленькие будут искать.
— Это правильно, доченька, — согласилась Валентина. — А то к нам никакого уважения. Быстренько они забыли, какой могучий был Советский Союз!
— Империалисты, — поддержал жену Василий. — Одно слово!
— Ну что вы все чепуху несете! — воскликнула Иришка. — Какие империалисты? И не лезьте ко мне со своей овсянкой!
Она опередила события, потому что овсянку ей предложить не успели.
Не сказав больше ни слова, она умчалась из дома к Ричардсонам, где, очевидно, вместо овсянки давали на завтрак что-то еще. На прощание она крикнула:
— Если папа вдруг позвонит… Но настоящий папа, поняли? Скажите, что я у Ричардсонов.
Оставшиеся в столовой хлебали ложками кое-как сваренную овсянку.
— Англичане считают, — сказал Василий, — что это самая здоровая пища… Но я не разделяю.
Он отодвинул тарелку. Даже его могучего аппетита на такое блюдо не хватило.
— Приеду домой, — мечтательно сказал он, — сделаю яичню из сорока яиц, ну ей-богу!
Василий выжидающе смотрел на Лидочку, но та не возражала.
— А я все думаю, — сказала Валентина, задумчиво водя по тарелке ложкой. — Как мне жалко дивчинку! Ох как жалко!
Она запела, как плакальщица.
— Всю ночь она, бедная, глаз не сомкнула. Все ходила, ходила, бегала… Да и как уснешь, когда папочка, может, где-то рядом лежит бездыханный.
— Сегодня у нас воскресенье, — не дал сбить себя с темы Василий. — Люди в парикмахерскую ходят, на базар, а потом в кино собираются. А мы как заключенные. Надо ехать.
— Вы сегодня собирались? — спросила Лидочка.
— Вот именно, — ответила Валентина. — Но решаем, думаем — не хочется снова попадать в руки бандитов, чтобы нас, солидных пожилых людей, через весь Лондон тягали.
Лидочка поднялась из-за стола. Она тоже не смогла доесть овсянку.
Кошки уплыли к себе, собираться, снова собираться, снова бежать — листки, ветром гонимые… Зашуршали, загремели, зашептались в своей захламленной, набитой вещами и вещичками комнате. А Лидочка стояла у стола и чего-то ждала — сама не знала чего.
Она поняла, почему стоит. Она ждала, когда спустится Алла. Той пора было бы сойти вниз или хотя бы проснуться. Конечно, вчера она была смертельно пьяной, но за последнюю неделю Лидочка уже привыкла к тому, что независимо от степени опьянения лжехозяйка дома к девяти отправляется в душ.
Но воду никто не включал.
И от этого в доме было пусто.
«А вдруг они уехали? Вдруг они поняли, что проиграли, и кинулись бежать? Я, как дура, стою здесь, жду чего-то, а они уже в Хитроу, проходят контроль — здесь проиграли, в другом месте выиграют».
Постепенно Лидочка убедила себя в том, что, кроме нее и Кошек, в доме никого нет.
С легким сердцем она взбежала по лестнице на второй этаж, заглянула к себе в горенку, прибрала постель, чего не успела сделать, когда встала, потом вышла на лестничную площадку и стала прислушиваться.
Никого нет. Ни вздоха, ни стона… ничего.
Глава 23
Лидочка совсем осмелела. Она подошла к двери Аллиной спальни и чуть-чуть, легонько дотронулась до двери. Если Алла спит, то она ее не разбудит.
Дверь легко поддалась.
Лидочка этого не ожидала и сразу попыталась ее закрыть, но не закрыла, потому что увидела, что Аллы в комнате нет.
Она в самом деле сбежала.
Лидочка ступила в комнату.
Кровать была разворошена, виден полосатый матрас, одеяло скомкано. Но простыни не видно.
Однако на этом сходство между двумя исчезновениями заканчивалось.
Потому что подушка на кровати Аллы осталась. И она была измазана кровью.
И в тот момент Лидочка словно переместилась в иной мир.
Она стояла в комнате, залитой утренним солнцем и наполненной щебетом птиц и шорохом листвы. Где-то далеко летел самолет. Пчела влетела в открытое окно, но тут же развернулась и умчалась прочь. Проехала машина, затормозила у соседнего дома… Весь этот мир существовал вокруг нее условно, как декорация к спектаклю, а единственной реальностью была подушка в красных пятнах и пятна крови на матрасе.
Взгляд Лидочки, прослеживая струйку крови, скользнул с кровати на пол — неровные округлые пятна вереницей тянулись к двери. Как много крови! Неужели в человеке столько крови?
Лидочка, не отдавая себе отчета, пошла к двери, чтобы увидеть, куда ее приведет след.
Капли крови, несколько уменьшившись, привели Лидочку к лестнице.
На площадке она увидела кровавую размазню — словно кто-то вытирал вымазанные в крови подошвы о верхнюю ступеньку лестницы.
Лидочка спускалась по лестнице, стараясь не наступить на кровь…
Внизу в дверях своей комнаты стояла Валентина и в ужасе смотрела на то, как спускается Лидочка. И смотрела она ей под ноги, повторяя ее взгляд.
— Кровь, — сказала она. — Василек, подь сюда. Да иди ты! Кровь…
Василий вышел из комнаты и присел на корточки под лестницей, касаясь пола большим круглым животом. Он потрогал пятнышко указательным пальцем.
Лидочка не смела ступить дальше. Она перегнулась через перила и смотрела в сторону столовой и кабинета Славы, ожидая увидеть кровь и там.
Она думала: «Странно, как же я могла не заметить? Я же проходила здесь, и не раз. Может, ее вынесли, пока мы были в столовой? Пока ели эту проклятую овсянку?»
— Высохла уже, — сказал Василий.
Валентина помогла ему подняться. И, словно подслушав Лидочкины мысли, сказала:
— Мы-то снизу ходили, а ты сверху спустилась — как же ты не заметила?
— Сама не понимаю, — сказала Лидочка. — Наверное, под ноги не смотрела.
Она чувствовала себя виноватой.
Василий побрел к входной двери, нагнувшись и принюхиваясь, как старый, с одышкой, пес.
— Куда ж они ее поволокли? — спросил он сам у себя. — Наверное, их машина ждала.
Надо было немедленно вызывать полицию, поднимать шум. Но ни Кошки, ни Лидочка об этом совершенно искренне не думали — не хотели. И каковы бы ни были причины, все трое в глубине души надеялись, что кровь в спальне и на лестнице означает, что Алла больше не вернется. Что бы с ней ни случилось, обратно она не вернется. И наступит свобода. К тому же исчезновение Аллы было не совсем смертью — уходом. И Аллу воспринимали не совсем как человека, а как зловещую функцию — преступную узурпаторшу.
Впрочем, в тот момент об этом никто не задумывался. Василий дошел до входной двери и открыл ее.
Валентина вдруг вспомнила — словно посмотрела американский детективный сериал:
— За ручку не хватай! Отпечатки смажешь!
— Так Иришка уже ходила… И они.
Лидочка смотрела, как Василий открывает входную дверь, осторожно выглядывает наружу, словно те могут его поджидать. На улицу он не вышел. Василий обернулся и сказал:
— Так, снаружи не видать. Но если на дорожке, то надо вылазить. А соседи увидят — чего я ползаю вокруг?
— Иди домой, — приказала Валентина.
Василий прикрыл дверь.
— Кто это мог сделать? — спросила Лидочка вслух.
— Как кто? — даже рассердилась Валентина. — На тебя мы не думаем. Иришка — дивчинка еще, дитя малое. Мы с Васильком друг за дружкой смотрим. А они перепились, думают — вот дело плохо. А от кого им избавиться надо? От этой стервы! От нее. А то она попадется, всех заложит.
В ее словах был здравый смысл.
— Их теперь рядышком надо искать, в одно место сброшены, — сказал Василий, имея в виду и Славу, и словно возвращаясь в мыслях к трагедии в целом, а не к ее условному завершению.
Надо поглядеть в машине Славы, вдруг догадалась Лидочка. Они могли ее использовать.
— Я пойду посмотрю машину, — сказала она. — Где ключи, как вы думаете?
— Иришка знает.
— Я ей позвоню. Как звонить к Ричардсонам?
Валентина посмотрела на нее светлым карим взором.
— Та мы ж не звонили, — сообщила она, как малому неразумному ребенку. — Зачем нам звонить?
— Все равно надо сказать Иришке. Я схожу к Ричардсонам.
— А если она сама? — задумчиво спросил Василий.
— Ты кого имеешь в виду? — не поняла Валентина.
Лидочку иногда забавляло то, что в беседах между собой Кошки незаметно переходили на вполне пристойный русский язык. У нее вообще было сильное подозрение, что подавляющее большинство украинцев, особенно в городах, придя домой и сняв свитку и шаровары, переходят на русский язык, куда как более понятный и привычный.
— Я про Аллу, — сказал Василий. — Может, у нее из носа текло? Или зашиблась?
— Сомнительно, — покачала головой Лидочка. — Столько крови…
— Я наверх схожу, — предложила Валентина. — Погляжу, как там… Вы-то видали, а я не видала. Я только ночью думала, как бы чего не случилось.
— Почему?
— Ну когда там бегали, ясное дело!
Валентина направилась наверх. Лидочка спросила вслед:
— Кто бегал?
— Кому надо, тот и бегал, — огрызнулась Валентина.
Словно проговорилась, а теперь старается оговорку скрыть за незначащими словами.
— Ковер-то испортила Алла твоя. Ковер, говорю, испортила. А ведь такой фунтов двенадцать за ярд продают, а она испортила. Ну хоть бы платок взяла, если из носа текло.
Валентина скрылась в комнате на площадке второго этажа. Василий тяжело дышал рядом с Лидочкой. Он был попроще жены, и поэтому Лидочка, терзаемая сомнениями и уверенная в том, что Кошки что-то от нее скрывают, обратилась к нему:
— А что ночью было?
— Когда?
— Ночью. Вы говорите, ходили?
— Лидок, я те ничего не говорил, — ответил Василий. — Я тебе молчал.
— Ужас, — сказала сверху Валентина. — Ну просто ужас. И простынки тоже нет.
«Заметила и связала два исчезновения», — подумала Лидочка.
— Я все слышала, — сказала Валентина трезво и уверенно. — Я слыхала, как ты моего Василька допрашивала. Не надо этого делать. Ты здесь какая-никакая, но чужая, квартирантка. А мы с Васильком ей родные. Если мы что слышали или видели, тебе лучше не знать. И ты, Василий, учти и языком не размахивай, небось не знамя.
— Я не думала, что у вас есть секреты, — сказала Лидочка.
— Секреты есть у всех, — отрезала Валентина.
Она спускалась со второго этажа, балансируя, как балерина, расставив пухлые руки, — боялась наступить на кровавое пятно.
— Секреты есть у всех, — повторила она, становясь напротив Лидочки. — Но Иришку ты не трожь, она и так сирота.
— Я не трогаю Иришку, — ответила Лидочка.
— А зачем машину хочешь смотреть? — спросил догадливый Василий. — Думаешь, там тоже кровь найдешь?
— Если и найду, это может значить, что машиной Славы воспользовались бандиты. У нас же ключи никто не прячет. Они могли знать, где ключи.
— Ой, не хитри, Лидия, — остановила ее Валентина. — Ты умная, а мы не глупей будем. Тоже небось ночью слышала…
— Клянусь вам, ничего не слышала.
— И не слышала, как Алла кричала?
— Я еще не спала, а потом уже спала без задних ног.
— И как Иришка выходила? Как она по лестнице спускалась?
— Да не слышала я!
— А может, и не слышала, — грустно сказал Василий. — Может, и не врет. Мы же тоже могли не слышать, если бы вещички не собирали до самого утра.
— Значит, вы думаете, что это могла сделать Иришка? — испугалась Лидочка.
— Молчи! — закричала Валентина. — Не могла она ничего сделать!
— Главное, Лидок, — заискивающе попросил Василий, — главное, не скажи никому, как Иришка грозилась ее убить. Ты же девочке жизнь испортишь.
— Я никому ничего не могу сказать, если я не слышала и не видела.
— А мы уедем поскорее. Теперь ты понимаешь, почему мы не хотим с ихней милицией говорить? Они с нас клятву страшную возьмут, запутают, мы и скажем чего лишнего… А так мы будем в Краснодаре, никто ничего не узнает.
— Правильно, Лидок? — Валентина даже в глаза Лидочке заглядывала, наклонив голову, заискивала. Сейчас она напоминала какую-то толстую птицу вроде куропатки, которая уводит лису от гнезда, где у нее птенцы.
— Я никому ничего не скажу, — обещала Лидочка. — Но что еще вы слышали?
— Как на духу? — спросил Василий.
И вдруг Лидочка поняла, что на самом деле ему страшно хочется рассказать ей все — как цирюльнику царя Мидаса про ослиные уши своего господина.
— Как на духу, — сказала Лидочка.
— Тогда слушай. — Василий перешел на шепот, а Валентина отвернулась, всем своим видом показывая, что не одобряет поведения мужа. — Она ходила… Я Иришку имею в виду. Ходила поверху, переживала, а потом спустилась — и к отцу в кабинет шмыг. А нам слышно, телефон. Поговорила. Потом через какое-то время, скоро…
— Это в половине четвертого было, — не выдержав, подсказала Валентина. — Она дверь открывает. И тут мы слышим, пришел. Ее хлопчик пришел. Робик.
— Робик, — согласился Василий. — Мы по голосу услышали, что Робик. Они пошептались, дверь закрыли — и наверх.
— Это было до того, как Алла вскрикнула, или после?
— После, после, ясное дело, после. Скоро, но после. И они еще там ходили — слышно же, перекрытия тонкие. Потом потащили.
— Что потащили?
— А нам откуда знать? Мы же не думали. Мы думали, ну пустила она к себе хлопчика, дело девичье, не нам ей морали читать.
— А потом?
— Потом они вместе ушли. На улицу ушли.
— Они машину заводили?
— Вот этого не скажу. — Почему-то до этого момента они могли Лидочке рассказывать, а после молчок.
И она поняла почему. Если она узнает о том, что к Иришке ночью приходил мальчик, — это может быть любовью. А если они что-то вытащили и уехали на отцовской машине, то дело плохо.
Кошки замкнулись. Словно Лидочка их чем-то обидела.
— Я посмотрю машину, — сказала Лидочка.
— Не твое это дело, — ответил Василий.
— А чье же?
— Это дело полицейское. Завтра придет полиция и посмотрит.
— Полицию придется вызывать сегодня, — сказала Лидочка.
— Ох, а мы же хотели улететь сегодня, — вздохнула Валентина. — Да не мешай ты нам улететь, Лидок. Не хотим мы ни с кем говорить.
— Сомневаюсь, что вам это удастся.
— Снова с аэродрома снимут? — спросил Василий.
— Ваши показания понадобятся английской полиции.
— А эти? — вспомнила Валентина. — Генка и второй? Они же рядом ходят! Они же свою Алку убили!
Кошки говорили нелогично. И понятно почему — у них не хватало фантазии, чтобы совсем выгородить Иришку. Перед Лидочкой они раскрылись, но приписать Иришке преступление они не могли. Для этого существуют негодяи, бандиты… Хотя Лидочка с трудом представляла себе, как Геннадий и Эдуард ночью забираются в закрытый дом, поднимаются на второй этаж, убивают Аллу и уходят. И зачем? Без Аллы им вообще здесь нечего делать: если нет Славиной жены, то на кого же переведен счет? Им остается только бежать.
И если они узнают, что случилось, то немедленно скроются.
В этот момент зазвонил телефон.
Все стояли и смотрели. Лидочка решилась поднять трубку только после седьмого или восьмого звонка, и то потому, что подумала, не Иришка ли звонит.
Но это был Геннадий.
— Лидия Кирилловна? — Он узнал Лидочку и заговорил официальным тоном. — Будьте любезны, пригласите к телефону Аллу.
— Аллы нет, — сказала Лидочка, не в силах преодолеть мстительного чувства.
— А куда она намылилась?
— Вам лучше знать.
— Да не знаю я ни хрена!
— Она исчезла ночью.
— Как так исчезла?
— Сейчас я вызываю полицию. Пускай она разбирается.
— Погодите, да погодите вы! Вам что, жить надоело?
— Мне трепетать надоело, — сказала Лидочка. — Ваша очередь.
— Лида, я тебя умоляю, — сказал Геннадий. — Клянусь тебе, что мы ни о чем не подозревали. Мы ничего не знаем!
— Полиция разберется.
— Теперь послушай. Одну минуту!
«И зачем я его слушаю? Надо повесить трубку».
Но трубку Лидочка не вешала.
— Пускай она тебе кажется плохим человеком. И мы плохие люди. Но мы же люди, блин! Дай нам шанс! И больше ты нас не увидишь.
Лидочка повесила трубку.
— Ну что? — спросила Валентина. — Они приедут?
И такой ужас был у нее на лице!
— Не бойтесь, — сказала Лидочка. — Больше они уже ничего нам не сделают.
— Вам легко говорить, — заныл Василек.
Он забыл, что ему уже под шестьдесят, что он толст и, как говорится, солиден. Сейчас он был мальчиком, очень нуждающимся в маминой защите.
— Тогда вызывайте полицию, — сказала Лидочка. — Мне нужно на секунду вас покинуть.
Валентина кинулась к телефону, потом замерла и крикнула вслед уходящей Лидочке:
— Погоди, я же по-ихнему только торговую терминологию знаю!
— Я сейчас.
Лидочка выбежала наружу. Машина Славы стояла у тротуара напротив входа.
Машина должна быть открыта.
Лидочка нажала на кнопку передней двери. Дверь легко и почти бесшумно растворилась.
Лидочка заглянула внутрь.
В машине было теплее, чем снаружи. Может быть, она сохраняла тепло вчерашнего дня? После исчезновения Славы на ней никто не ездил. Лидочка заглянула в «бардачок». Там лежали перчатки без пальцев, какие-то бумаги, сигареты… Пистолета не было.
Но пистолет ли она разыскивала?
Лидочка перегнулась назад, чтобы посмотреть заднее сиденье. Сиденье было серым, но с другой стороны на нем виднелось темное пятно. Лидочка влезла в машину, чтобы разглядеть пятно получше. Пятно было бурым, очень темным. Разумеется, оно могло быть здесь уже полгода, и Лидочка его не замечала — зачем человеку рассматривать сиденье в чужой машине. Но на этот раз она решила выяснить, свежее ли пятно.
Она вылезла из машины, чтобы открыть заднюю дверцу и посмотреть на сиденье вблизи. Но ее остановил скрип тормозов — к дому подлетела «Тойота» Эдуарда Дмитриевича. Геннадий выскочил первым.
— Что делаешь? — спросил он. — Полицию ждешь?
— Полицию вызвала Валентина, — соврала Лидочка, которая боялась, что такой подвиг Валентине не по плечу.
— Мать твою! — выругался Геннадий, не боясь привлечь внимание соседей. Очевидно, он подозревал, что соседи не очень хорошо знают разговорный русский язык.
Эдуард вылез из машины.
— Погоди, Геннадий, — сказал он спокойно. Он всегда говорил очень спокойно. — Если Лидия Кирилловна не врет, а она, как я думаю, не врет, иначе придумала бы что-нибудь получше, то Валентина сидит у телефона и рыдает. Она не знает, как пользоваться этой штукой… А что вы, извините за нескромность, искали в машине?
Он заглянул в машину с другой стороны, но ничего подозрительного не увидел.
— Не знаю, — сказала Лидочка, выпрямляясь и захлопывая дверцу. — Но мне захотелось посмотреть внутри.
— Ох уж эти доморощенные Шерлоки и Холмсы! — уныло произнес Эдуард Дмитриевич. — Всюду им нужно пальчик сунуть! Ну, пошли в дом, не будем смущать соседей.
«Почему я не вызвала полицию? На что мне сдалась эта машина? — бессмысленно говорила с собой Лидочка. — Подождала бы машина. Это ведь только одна из версий…»
Проницательный Эдуард Дмитриевич, пропуская Лидочку в дверь, спросил:
— Захотелось проверить, не ездил ли кто-нибудь ночью? Правильно, я бы на вашем месте сделал то же самое.
— Не знаю, — сказала Лидочка.
— Я потом проверю, — пообещал Эдуард. — Но нам не было смысла это делать, потому что у нас есть своя машина.
— Это еще ни о чем не говорит, — возразила Лидочка.
— Хорошая мысль.
Валентина все так же стояла у телефона, сняв трубку и держа ее на весу.
— Ну вот, — сказал Василий. — Я же предупреждал.
— Никуда вы от нас не убежите, — сказал Эдуард.
Геннадий в три прыжка одолел лестницу и скрылся в комнате Аллы.
— Хозяин дома, как вижу, так и не объявился, — сказал Эдуард Дмитриевич. — А где его дочка?
Лидочке хотелось спрятать Иришку от бандитов. А спрятать она могла, только солгав.
— Она уехала в Шотландию, — сказала Лидочка. — С родителями своего жениха.
— Вчера вечером?
— Сегодня утром.
— Значит, спрятали от нас ребенка, — вздохнул Эдуард. — А ночью она была здесь?
— Спала она, — поспешила с разъяснениями Валентина. — Нам же сверху слышно. Спала она.
— Эдик, сюда! — Голова Геннадия показалась над перилами лестницы. — Скорее, блин!
— Ждать здесь! — приказал Эдуард и побежал наверх.
Лидочка посмотрела на Валентину. Та поняла и кивнула: давай!
Лидочка тихонько подняла трубку и замерла, потому что забыла номер срочного вызова полиции. Девяносто один? Нет…
Но тут наверху застучали шаги. Лидочка положила трубку на рычаг.
Первым с лестницы скатился Геннадий. Эдуард шел сзади, стараясь сохранять спокойствие.
— Кто? — спросил Геннадий. — Ну кто, суки?
Он был смертельно бледен, вытирал тыльной стороной ладони пот со лба. Рука дрожала.
Геннадий переводил бешеный взгляд с Лидочки на Кошек. Те стояли покорно, стараясь не прогневить бандита.
Лидочка обернулась к Эдуарду Дмитриевичу.
— Мы думали, что это ваших рук дело, — сказала она, игнорируя Геннадия.
— Молчать! — рявкнул Геннадий. — Где она, где, где?
— Мы тут ни при чем, — сказал Эдуард. — Это нарушает все наши планы. Нам не нужно было ее убивать — ведь на нее переписан счет.
— Вы испугались, — сказала Лидочка. — Вчера вы что-то сделали со Славой. — Она не могла сказать «убили», ибо этим уничтожила бы последнюю надежду на то, что он еще жив. — Может, и не хотели… Может, почувствовали неладное и постарались вытащить из него наличные… или ценные бумаги… А сегодня ночью стали заметать следы.
— Чепуха, — сказал Эдуард Дмитриевич. — Наивная чепуха. Если б мы что и сделали, то не так грязно. Зачем нам, умным людям, профессионалам, наводить на себя подозрения?
— А вас уже нет, — сказала Лидочка. — Уверена, что вас уже нет. У вас липовые документы, и сейчас вы постараетесь сбежать. Исчезнуть.
— Я ее пришибу, — сказал Геннадий.
— Ой, Геничек, — взмолилась Валентина. — Та она ж шутит, она добрая, не трожьте ее.
— Ничего плохого Геннадий не сделает, — сказал Эдуард Дмитриевич. — Он шутит. Он сейчас пойдет к машине, к машине господина Кошко, — Эдуард пристально смотрел на Геннадия, — и поглядит, нет ли в ней следов крови или насилия.
«Господи, как он быстро догадался, — подумала Лидочка. — Мне понадобилось часа два».
Геннадий выбежал в палисадник, остальные стояли в прихожей. Было душно, тесно, но все терпели. «Бандиты ведут себя так, словно для них исчезновение Аллы такая же неожиданность, как для меня, — рассуждала Лидочка. — Или они такие актеры? Нет, они нервничают. Если бы не Эдуард, Геннадий мог бы по злобе всех нас перестрелять — и на аэродром. Через три часа они уже в Москве, как их найдешь? К тому же я сама уверила их, что Иришки нет и никто нас не спасет…»
Вернулся Геннадий.
— Ее увозили в машине, — сказал он от двери. — Там кровь на заднем сиденье.
«Значит, я была права…»
— И вот… — Геннадий протянул Эдуарду белый платок, небольшой, женский, обшитый по краю полоской розового кружева. Платок был измазан кровью.
— Ох, батюшки! — всплеснула руками Валентина.
— Знаешь чей? — спросил Геннадий. — Говори!
— А откуда ж мне знать. — Валентина хотела развести руками, но руки наткнулись на вешалку и стену прихожей.
Голос ее звучал лживо, но, видно, бандитам некогда было вслушиваться.
— Это ты? — спросил Геннадий у Лидочки.
— Нет, — ответила Лидочка.
— Значит, вы! — Геннадий повернулся к Валентине.
— Бог с тобой, хлопчик! — Валентина отмахивалась от него, как от осы.
— Поехали, — сказал Эдуард. — По дороге все обсудим. Мы с тобой уже знаем, кто это сделал. Не приставай к людям — пустая трата времени.
— Алла мне говорила, — упрямо сказал Геннадий, глядя на Лидочку в упор, — что Ирина грозилась ее убить. Это правда?
— Пошли, — потянул его за собой Эдуард.
— Сейчас, только спрошу… Может, мы ее найдем…
— Мы ее не найдем и искать не будем.
— А если она лишнего наговорила?
— А что она знает… лишнего. — Эдуард Дмитриевич впервые улыбнулся. — У тебя ключи от верхних комнат есть?
— Здесь, — похлопал себя по карману Геннадий.
— Тогда пошли наверх.
Геннадий, видно, понял, что от него требуется. Он приказал Лидочке и Кошкам идти наверх. Те не понимали, чего от них хотят.
Эдуард поднялся следом и заглянул сначала в комнату Иришки, а потом в соседнюю, Лидочкину.
Обе светелки выходили в сад. Для своих целей Эдуард Дмитриевич выбрал комнату Лидочки.
— Заходите, — сказал он.
— Что вам нужно? — спросила Лидочка.
— Я хочу обойтись без насилия, — ответил Эдуард. — Зачем мучить людей? Вам придется посидеть здесь некоторое время и подождать, пока мы не отъедем на безопасное расстояние.
— Вы нас запереть хотите? — спросил Василий. — А нельзя, у меня эта самая, кластофобия. Не могу взаперти сидеть. Вы Валентину спросите.
— Ох, помолчи, Василек, — взмолилась Валентина. — Ох, молчи!
— Разумно, — одобрил ее слова Эдуард. — У нас выбора нет, у вас есть. Или вы сидите смирно и ждете, или мы вас вынуждены будем связать и заклеить ваши губки скотчем.
— Можем и замочить, — предложил Геннадий. — С удовольствием. Мне давно все ваши рожи надоели. И твоя рожа, Лидия Кирилловна, пуще всех.
— Спасибо, — сказала Лидочка. — Я не рассчитывала на любовь.
— Все, — сказал Эдуард. — И помните, что мы проявили к вам настоящий гуманизм.
Геннадий вышел из комнаты первым. Эдуард за ним. Они переговаривались снаружи, искали нужный ключ, попробовали три ключа, прежде чем нашли нужный.
Потом Геннадий подергал дверь. Она не шелохнулась.
— Хорошее дерево, натуральное, — сказал он.
— Попробуйте покричать, — попросил Эдуард Дмитриевич. — Мне интересно, далеко ли слышно.
Никто ему не ответил.
Лидочка посмотрела на окно. В ее комнате окно не открывалось, в нем была только фрамуга — верхняя четверть высокого узкого окна.
— Ну давай, давай, — поторопил Эдуард.
— Минутку, — сказал Геннадий. — Я загляну к ней в комнату. Чтобы не осталось лишнего.
— Но только на минутку. Я жду тебя в машине.
Глава 24
Окно выходило в сад. Сквозь просветы в деревьях было видно футбольное поле. Там, далеко, гоняли мяч негритята. Их голоса по-комариному доносились сквозь открытую фрамугу.
— Я посижу, не возражаешь, Лидок? — спросил Василий. Ноги его не держали.
— Садитесь.
Василий опустился на кровать.
— И я тоже, можно? — попросила Валентина.
Кошки были толстыми пожилыми людьми, нервы у них дошли до предела.
Валентина уселась рядом с мужем. Они одинаково сложили на коленках толстые руки. С возрастом Василий с Валентиной стали похожи друг на дружку, как брат с сестрой. А впрочем, может, они и выбирали себе спутника жизни по внешнему и внутреннему сходству.
— Они на аэродром поехали? — спросила Валентина.
— Плохо, — сказал Василий. — Улетят, только их и видели.
— Плохо, — согласилась Лидочка.
— А их надо поймать, узнать, куда они трупы положили, и в тюрьму посадить.
— Чей это был платок? — спросила Лидочка.
— Какой платок? — Удивление Валентины было наигранным. Она сразу сообразила, о чем говорит Лидочка.
— Платок, который бандиты нашли в машине.
— Может, Аллин? — спросила Валентина лживым голоском. Ну просто пропела!
— А кто его кружевами обшил? — спросила Лидочка.
— Ну ты же не скажешь! — утвердительно заявила Валентина.
— Если кому донесешь, мы ничего не знаем, мы тебе ничего не говорили! — воскликнул Василий.
— Значит, вы Иришке платочек вышивали? — спросила Лидочка.
— А потом его у нее Алла украла, — уверенно сказала Валентина. — И когда на машине поехала, то им свои раны вытирала.
Это была версия, по-своему красивая версия. Элегантная и абсолютно неубедительная.
— А где этот платочек сейчас? — спросила Лидочка.
— Вроде его Генка с собой взял, — сказал Василий.
— Или второй, Эдик.
Лидочка подошла к окну. Длинной зеленой полосой до кустарников, где она когда-то давным-давно увидела бандитов, тянулся газон. На дальнем его краю стоял почерневший от времени и чуть покосившийся сарайчик, в котором она прятала в мешок с удобрениями бандитский микрофон.
Дверь в сарайчик была закрыта. К ней была приставлена лопата.
Серая белка пробежала по коньку крыши сарайчика. Элегантно и легко сбежала по ручке лопаты на траву, уселась и что-то откопала в траве. Наверное, корешок. Белка взяла его в передние лапки и принялась обгрызать. Большой лесной голубь с белыми щеками пролетел над белкой, уселся на ветку большой липы и стал с интересом наблюдать за ее действиями…
Лидочка спохватилась — она отключилась от разговора в комнате.
Наверное, потому, что ей не хотелось видеть, как постепенно улики стягиваются к Иришке… А может, к Роберту? Ей так хотелось, чтобы виноватыми оказались бандиты, и Кошкам хотелось того же… Но, как ни закрывай глаза, усатый Пуаро все равно загонит виновную в угол своими простыми, казалось бы, вопросами.
Может, поэтому они так до сих пор и не вызвали полицию? Понимали, что, пока полиции нет, можно закрыть глаза, а как она приедет, прятаться будет некуда.
Лидочка прошла по комнате, подергала за ручку. Дверь была заперта.
— Глупо сидеть взаперти, — сказала она, — пока они едут в аэропорт. Это неправильно. Надо их поймать.
— Мы бы тоже на аэродром поехали, — сказала Валентина. — Чтобы билет не пропал. Но, боюсь, они нас там поджидают.
— Это точно, — глубоко вздохнул Василек. — Они нас выследят. Они же все знают. А как мы в Москве сядем, там нас уже мафия ждет.
— А за билеты деньги нам вернут? — с надеждой спросила Валентина.
— У вас апекс? — спросила Лидочка.
— Ну да, в смысле обратный на завтрашний день.
— Такой билет не возвращают.
— Ой беда! — запела Валентина. — Ой беда, деньги-то какие! Нам их и в жизнь не заработать! И Славика нету, чтобы нам помощь оказать!
Все! Она уже забыла об Иришке, о трагедии, она была разорена и погублена.
— Лидок! — сказала Валентина командным голосом. — Ломаем дверь! Еще не поздно! Бог с ними, лишь бы билет не пропал.
Идиотка, хотелось сказать Лидочке. Но она ничего не сказала, потому что Василий, подчиняясь какому-то беззвучному приказу жены, поднялся, откачнулся назад и боком, боком кинулся к двери. Ударился о нее плечом, отлетел мягко и упруго и тут же ринулся вновь.
Дверь не поддалась.
Лидочка как завороженная смотрела на отчаянный бой Василия с дверью.
После пятой или шестой атаки Василий отступил к кровати и снова уселся.
— Ну что же ты, — упрекнула мужа Валентина. — Слабый стал?
— А ты сама попробуй, — огрызнулся Василий.
Валентина попробовала, зашибла плечо и сдалась еще быстрее, чем муж. Она сидела на кровати и тихо лила слезы. Самолет был готов подняться в небо без нее.
— Лидок, — взмолилась Валентина, — ты ж придумай что-нибудь. Ты женщина молодая, интеллигентная.
Лидочка понимала, что единственное слабое место в их тюрьме — окно. Любое стекло можно разбить.
Не разбив, ничего не сделать, раз уж открыть окно невозможно.
— Отойдите в угол, — велела Лидочка.
Кошки поняли не сразу, но, поняв, забились в угол, потом Валентина крикнула:
— Погодь!
Она стащила с кровати одеяло, и они уселись в углу, накрывшись одеялом.
Теперь поле битвы было свободно.
Лидочка взяла со столика у кровати ночник на тяжелой каменной ножке и изо всей силы кинула его в окно.
Раздался оглушительный звон, наверное, в Лондоне слышно. Лампа исчезла в образовавшейся дыре, обрамленной акульими зубами стекла.
Лидочка подошла к окну.
Она хотела высунуться, чтобы позвать кого-нибудь, но для этого надо было отломать и выбросить вниз острые ножи стекол. От окна тянуло свежим воздухом, по небу мирно плыли кучевые облака. Сосед, подстригавший газон, при звуке разбиваемого стекла остановил свою машинку и стоял, уставившись на Лидочку, которая выламывала осколки, чтобы не порезаться.
Он встретился с Лидочкой взглядом, и она поняла, что до соседа совсем недалеко, даже кричать не надо.
— Простите, — сказала она, — вы не можете кого-нибудь позвать, чтобы нас освободили?
Джентльмен оставил газонокосилку, заправил футболку в джинсы и медленно ушел в дом. Только тогда Лидочка сообразила, что обращалась к джентльмену по-русски, и он ничего не понял.
— Ну что? — спросила сзади Валентина. — Получилось?
— Ни черта не получилось.
— А ты громче зови, — посоветовала Валентина. — И по-ихнему. Они по-нашему не понимают.
Лидочка чуть не рассмеялась — Валентина заметила, что она забыла английский язык.
Тут они услышали шум шагов на лестнице и замерли.
— Эй! — послышался Иришкин голос с лестничной площадки. — Где вы все?
— Ну вот, — сказал Василий. — А такое хорошее окно разбили. Не могли, что ли, потерпеть?
— Да ты у нас первый нетерпеливый, — откликнулась Валентина.
— Мы здесь! — крикнула Лидочка. — Нас заперли!
— Еще чего не хватало! — отозвалась Иришка. — А ключ где?
— Ключ они увезли. Надо другой.
— Сейчас посмотрю, — сказала Иришка. — У нас на кухне есть ящик с ключами.
Освобождение заняло минут пять, не меньше. Сначала Иришка отыскала ключи, потом притащила связку наверх. Хорошо еще, что нужный ключ в связке нашелся. Правда, не сразу.
— Господи, — ахнула Иришка, заглянув в комнату. — Кто окно разбил?
— Я, — призналась Лидочка.
— То ж мы ее попросили, — сказала Валентина. — На выручку позвать.
— И позвали? — спросила Иришка.
— Неудачно, — смутилась Лидочка.
— Тогда расскажите, что случилось?
— Геннадию и Эдуарду нужно было время, чтобы добраться до аэропорта. Поэтому они нас заперли.
— С чего же это они умчались? — удивилась Иришка.
Снизу пришел Роберт. Он вежливо поздоровался со старшими. Роберт был воспитанным юношей.
— Господи! — спохватилась Лидочка. — Ты же не знаешь: Алла пропала!
— Как пропала? Как папа?
Лидочка заметила, что из Иришкиной речи исчезло слово «фазер». Фазером Славу называли в глаза.
— Похоже, — сказала Лидочка. — Только там кровь. Посмотри у нее в спальне.
Иришка неуверенно повернулась к двери Аллиной комнаты и подождала, пока Роберт подойдет поближе.
— А сама она где? — спросила Иришка.
— Не знаю, — ответила Лидочка. — Я пойду вызову полицию.
— Постойте, тетя Лида, — остановила ее Иришка. — Не надо. Я сначала сама посмотрю… при дневном свете.
— Нет, — не уступила Лидочка. — Мы уж столько раз сегодня откладывали, что чуть в зубы бандитам не попали. И что нам скрывать? Может быть, история с Аллой поможет полиции найти и Славу. Они могут быть… где-то вместе.
— Но я сначала посмотрю…
— Хорошо. — Лидочка в нерешительности остановилась.
Но когда Иришка с Робертом направились к комнате Аллы, Лидочка почему-то спросила:
— Ириш, а ты машину брала ночью… или утром?
— Какую машину?
— «Воксхолл», папину…
— Да он мне голову открутит, если узнает, что я брала.
— Ты в этом уверена?
Валентина за спиной Иришки приложила палец к губам и укоризненно качала головой: просили же Иришку не впутывать. И тут же раздался резкий звонок в дверь. Полицейский звонок. Лидочка открыла дверь.
За ней на фоне синей с желтым полицейской машины стояли два джентльмена в форме. Британская полиция с шахматными клетками на фуражках.
Совсем новые лица.
И тут же после краткой паузы разразилась российская сцена, к которой полицейские не были готовы, так как не знали, что имеют дело с настоящими русскими.
Иришка из Аллиной спальни кричала, что так этой суке и надо, давно пора. Кошки, перебивая друг друга, на приличном русском языке втолковывали полицейским, что их не звали, что жильцы дома обойдутся без их помощи, а Лидочка старалась говорить по-английски и перекричать остальных, поскольку полагала, что следует спешить в аэропорт, чтобы поймать бандитов.
Один из полицейских, помоложе, отступил, а второй, постарше и опытнее, сделал вид, что достает пистолет. Никто из русских этого не понял, и тогда ему пришлось прикрикнуть.
— Кто бьет окна? — спросил он.
— Что? — не поняла Лидочка.
— Ваш сосед позвонил нам и сообщил, что в этом доме бьют окна.
— При чем тут окна? — отмахнулась Лидочка. — Бандиты, возможно, убили человека или даже двух человек. А нас заперли. Нам пришлось разбить окно, чтобы привлечь к себе внимание.
— Какие еще бандиты? — спросил полицейский.
— Обыкновенные. Мафия.
— Вы итальянцы! — обрадовался младший полицейский. По крайней мере для него все стало на свои места: они пришли в дом итальянцев, которые известны тем, что громко разговаривают и машут руками.
— Мы русские, — крикнула сверху Иришка. — И мафия у нас своя, родная.
— Вы русские? — Голос старшего полицейского дрогнул. Ему захотелось вызвать танки, но он и виду не подал, каково ему в этой бандитской норе.
— Мы русские, — согласилась Лидочка с внутренним содроганием. Как ужасно порой признаваться в своих слабостях! — Вы хотите посмотреть на место преступления?
— Какого преступления? — спросил старший полицейский и снял фуражку. У него был потный лоб с залысинами, а светлые волосы слежались под фуражкой.
— Мы не знаем, — сказала Лидочка. — Честное слово, мы не знаем. Но одно преступление случилось вчера, а второе — этой ночью. Ваши коллеги из полицейского участка в Сиднеме обещали вернуться завтра утром.
— Уже были? — Старший полицейский посмотрел на младшего. Младший кивнул. Видно, они давно работали в тандеме и понимали друг друга без слов. — Значит, сейчас вы ни на что не жалуетесь? — Он не дождался ответа, но быстро продолжил, обращаясь не столько к русским, сколько к своему напарнику: — Значит, завтра с утра вы звоните в полицейский участок, хорошо?
— Вряд ли это поможет нам поймать бандитов, — сказала Лидочка, — которые, вернее всего, сейчас находятся в Хитроу.
— И планируют новые преступления, — поддержала ее сверху Иришка.
Полицейские продолжали маяться в дверях. Ни в какой Хитроу им не хотелось. И связываться с русскими было страшно. Любому нормальному англичанину страшно связываться с русскими.
— Поднимитесь сюда, сэр. — Рядом с Иришкой появился Роберт. Все в нем выдавало настоящего англичанина — и речь, и манеры, и уверенность в себе, и даже умение говорить без жалобных интонаций. — И осмотрите место происшествия.
— Разумеется, — тут же согласился старший полицейский, встретив родственную душу.
Он быстро прошел между Лидочкой и Валентиной, стараясь не коснуться русских женщин, и поднялся на второй этаж. Следом, после минутного колебания, отправился и младший, усатенький.
Первым делом они сунулись в комнату Лидочки и оценили силу, с какой она вышибла окно.
— И кто это сделал? — спросил старший полицейский.
— Это сделала я, — призналась Лидочка. — Иначе нам было не выбраться из комнаты. Нас заперли.
— О да, — вежливо согласился полицейский, но не поверил ни единому слову.
— А теперь сюда, сэр, — попросил Роберт, и полицейские послушно отправились в спальню Аллы.
И остановились на пороге.
Количество пролитой здесь крови, как на кровати, так и на паласе, было столь внушительно, что младший полицейский присвистнул. Наконец-то он понял, что их не разыгрывают — здесь настоящие бандиты!
— Кто это обнаружил?
— Я, — снова призналась Лидочка. К сожалению, она постоянно оказывалась в центре событий, к чему совершенно не стремилась.
— И кто же здесь был раньше? — спросил старший.
— Чья это спальня? — пояснил младший.
— Здесь находилась мать этой девушки.
— Она мне такая же мать, как и вам, — вмешалась Иришка.
— И где она сейчас? — Полицейский игнорировал Иришкины слова.
— Мы не знаем, — ответила Лидочка.
Старший полицейский наконец-то вытащил блокнотик, взял ручку на изготовку и спросил:
— Кто хозяин этого дома?
— Он исчез, — сказала Лидочка.
— Это мой папа, — пояснила Иришка.
— Значит, у вас исчезли отец и мать? — уточнил полицейский добрым голосом.
— Она не лжет, — вмешался Роберт, которого полицейские явно выделяли.
— А вы кто такой?
— Я сосед и друг этой девушки.
— А где хозяин дома?
Роберт пожал плечами, а Лидочка сказала:
— Я вас очень прошу сейчас же позвонить инспектору Слокаму из Скотленд-Ярда. Я дам вам его карточку, она у меня в сумке.
— Почему я должен звонить инспектору Слокаму?
— Потому что он расследовал обстоятельства первого убийства.
— А сколько их всего было? — спросил старший патрульный.
— Ох, не знаю, — вздохнула Лидочка. — И боюсь, что никто сейчас вам не скажет.
— Ничего не выйдет, — сказал младший полицейский. — Если в самом деле есть какой-то инспектор… Сейчас воскресенье, причем дело к вечеру. Вернее всего, мистер Слокам находится за городом, и его никто не найдет. Мы тоже люди и иногда отдыхаем.
— Тогда вам придется заняться этим делом самим, — сказала Лидочка.
— К сожалению, это невозможно, — ответил старший патрульный. — Это не входит в нашу компетенцию.
— И все же попробуйте отыскать мистера Слокама.
Полицейские переглянулись. Правда, попыток сбежать они больше не делали — кровь в комнате была слишком настоящей.
Старший вытащил из кармана сотовый телефон и набрал номер.
— Там не отвечают, — сказал он.
— Тогда оставьте сообщение, — попросила Лидочка.
Но делать этого не пришлось, потому что отрывисто звякнул звонок, прикрытая, но не запертая дверь отворилась, и вошел инспектор Мэттью Слокам. Солнце подсветило сзади его редкие рыжие волосы и окружило сиянием крупную, мягкую фигуру.
— Простите, — сказал он, — что я без предупреждения. Но я думал, что мое присутствие понадобится.
— Мэттью! — радостно воскликнула Лидочка. Теперь она была не одинока в этом сумасшедшем доме.
Глава 25
Инспектор Слокам сразу же поднялся на второй этаж и осмотрел спальню Аллы. Осторожно склоняясь над кроватью и осматривая ковер, он успел объяснить Лидочке, что после неладного разговора с ней у него возникли неприятные предчувствия. От дома № 14 по Вудфордж-роуд исходила опасность для Британской империи. Так что он, отправляясь на уик-энд, заложил в компьютер приказ немедленно информировать его, где бы он ни находился, о любом сигнале, поступившем из русского дома мистера Кошко.
Сигнал поступил недавно. Некий мистер Форрестер из дома № 12 по Вудфордж-роуд позвонил в полицейский участок Сиднема с сообщением о том, что в соседнем доме разбито окно и слышны крики, после чего в дом № 14 была отправлена патрульная машина.
Узнав об этом, Мэттью, движимый английским чувством долга, которое, в отличие от чувства долга русского, не знает выходных, попросил жену, благо они уже возвращались из Гастингса, оставить его у дома мистера Кошко, пообещал, что не будет задерживаться более, чем необходимо, и возвратится к ужину.
Осмотрев спальню Аллы, мистер Слокам попросил Лидочку, как наиболее информированную и образованную из русских, рассказать ему и его коллегам, что же произошло в доме за последние два дня. И узнал о том, как пропал Слава и как, точно таким же манером, исчезла Алла.
Лидочка говорила кратко. Весь ее рассказ занял минуты три, не больше. Она успела сказать и о кровяном пятне в машине, и о том, что Геннадий, которого она подозревает в убийстве Галины Стюарт, со своим другом и начальником Эдуардом Дмитриевичем, судя по всему, помчались в Хитроу или в Гэтвик. Иначе зачем бы им запирать ненужных свидетелей в комнате Лидочки. Им нужно было время. Лидочка рассказала и о таинственном звонке Славы, похоже, фальшивом. Кому он был нужен? Бандитам?
Пока Слокам беседовал с Лидочкой, остальные жильцы дома ждали в столовой под надзором младшего полицейского. Слокам не хотел устраивать коллективных русских посиделок. Он желал поговорить с каждым в отдельности.
Выслушав Лидочку, инспектор вежливо улыбнулся и сказал:
— К сожалению, я нахожусь в очень сложном положении. У меня нет оснований вам доверять, потому что для меня вы — лишь одна из русских обитателей этого дома. И, честно говоря, кто из вас прислан мафией, а кто спасается от мафии, кто жертва, а кто преступник, мне пока неизвестно. Ведь и вы можете быть крестной матерью русской мафии, не так ли?
Ох уж это английское «не так ли»!
— Вы совершенно правы, — согласилась Лидочка. — Но нам с вами пока придется сотрудничать. Хотя и я не уверена в том, что вы склонны проявить объективность и расследовать со всем тщанием дело, в котором и жертвы, и преступники — иностранцы.
— О нет! — возразил инспектор, дернув верхней губой и показав заячьи резцы. — Английское правосудие не знает национальных предубеждений.
— Только не говорите мне, что расстрел мирной демонстрации в Амритсаре свидетельствует в пользу английской объективности.
— А вы откуда знаете об Амритсаре? — удивился Слокам. — Это было почти сто лет назад.
— Я лучше знаю английскую историю, чем вы русскую. Хотите проверить или выслушаете меня до конца?
— Говорите, — сказал инспектор и достал из сумочки, с которыми ходят водители, курительную трубку и пакетик с душистым «кэпстеном».
— Все можно разрешить быстро, если вы поймаете бандитов.
— Где? — спросил инспектор.
— Они уехали в аэропорт.
— Их еще нужно узнать, — произнес Слокам и задумался.
Он думал целую минуту, глядя на темные пятна крови.
— Мы сделаем так, — сказал он наконец. — Мы отправим в Хитроу мисс Кошко с одним полицейским, а второй поедет в Гэтвик с Робертом Ричардсоном.
Приняв такое решение, Слокам тут же созвонился с полицейским участком. К счастью, полицейские по случаю воскресенья не пьют. Слокама выслушали и обещали прислать машины, предупредить полицию в аэропортах, а также пограничников в Дувре, чтобы внимательнее присматривались к подозрительным людям, соответствующим следующему описанию… А на помощь Слокаму выехали эксперты.
Согласовав свои действия с начальством и коллегами, Слокам спустился в столовую и спросил у Иришки и Роберта, не будут ли они так любезны проследовать в аэропорты вместе с полицией, чтобы попытаться опознать и задержать бандитов.
Слышавшая этот разговор и сообразившая, о чем идет речь, Валентина с торжеством заявила:
— То-то! Не все им за нами по аэродромам бегать, невинных людей вылавливать!
Слокам посмотрел на Лидочку, надеясь на перевод, но та лишь сказала:
— Потом. Дети уедут, и я все расскажу.
Иришка и Роберт были взволнованы. Они вдруг превратились в охотников, как в настоящем фильме. Их ждала погоня, и рядом были настоящие бобби в фуражках с клетчатыми околышами. Они буквально ногами перебирали от нетерпения, забыв обо всем, что владело их мыслями только что. Они были еще детьми… хотя, может быть, и очень взрослыми детьми.
Приехала еще одна полицейская машина. Почему-то здесь все происходило быстро, хотя воскресный вечер — самое тяжелое время для лондонского транспорта: все возвращаются с уик-энда.
На этой машине с сиреной и проблесковым фонарем — мечтой подростка — в Гэтвик помчался Роберт. Зато выяснилось, что до Хитроу в час пик не добраться, потому что надо проехать через весь Лондон.
Иришка расстроилась, она решила, что операция сорвалась.
Но Слокам уже бегал по дому, прижав к уху сотовый телефон и рыкая в него на том непонятном и непохожем на английский языке, на котором англичане объясняются между собой.
В результате переговоров посреди улицы — древние вязы такого еще не видели! — опустился яркий, желтый с синим вертолет. Как он успел примчаться за пять минут — уму непостижимо! Британская империя шла на помощь несправедливо обиженным.
В ожидании вертолета Слокам не терял времени даром. Он провел воспитательную работу с Лидочкой.
Инспектор был недоволен тем, что русские устроили разгул преступности именно в выходные дни. И этим оторвали от отдыха английских джентльменов. Можно было подумать, что англичане совершают преступления только в будни с девяти до шести.
— Как я уже говорил, — продолжал мистер Слокам, — у меня нет оснований доверять вам, миссис Берестоу. Несмотря на мою личную к вам склонность, не так ли? Но расследование, которое нам надлежит провести в течение краткого времени, в первую очередь для обнаружения ваших компатриотов, пропавших без вести, требует точности перевода. Я, к сожалению, не могу ее гарантировать, а поиски хорошего русского переводчика сейчас затруднены. Я вынужден буду пока удовлетвориться результатами допроса, которому я вас подверг. И дальше использовать вас как переводчика, что крайне нежелательно. Но я имею при себе магнитофон, на котором мы будем все фиксировать. Эта пленка затем будет проверена в Скотленд-Ярде. Надеюсь, что этот обязательный знак недоверия с моей стороны вас не оскорбит?
Лидочка согласилась, что такой знак недоверия ее не оскорбит, и не возражала против работы с магнитофоном, чем крайне обрадовала Слокама.
Вот в этот момент и прилетел вертолет, появления которого Лидочка никак не ожидала. Иришка тоже. И когда Иришке предложили забраться в вертолет, чтобы лететь в Хитроу, она даже зажмурилась от наслаждения. Она забыла, что произошло и в чем ей предстоит участвовать.
Когда дома все успокоилось, Слокам попросил Василия Кошко пройти в столовую для дачи показаний.
Но тут же заявилась и Валентина, которая сказала, что никаких показаний Василек без нее давать не будет, так как не только английского, но и русского языка толком не знает.
Слокам ничего из аргументов Валентины не понял, но сообразил, что допросить Кошек поодиночке ему не удастся. Он махнул рукой и уселся за круглый обеденный стол. Напротив него сидели Кошки, бледные и настроенные весьма решительно.
— Расскажите, — попросил Слокам, — что произошло вчера ночью. Что вы слышали?
— Это когда Славик пропал? — уточнила Валентина.
— Да, когда исчез мистер Кошко.
— Я вам скажу, что это сплошная тайна, — вздохнула Валентина.
— Кто-нибудь входил ночью в дом? Или выходил из дома?
— Мы, конечно, частично спали, — ответила Валентина, энергичным жестом остановив мужа, который хотел что-то вставить от себя, — но в некоторые моменты и не спали. Конечно, по дому ходили. И над нашей головой ходили. Нам все в нашей комнате слышно — разве это перекрытия?
— Дерево трухлявое, — сказал наконец свое слово Василий.
— Конкретнее, — попросил Слокам.
— А конкретнее, кто-то у дома ходил, потом дверь стукнула. А еще дверца машины стучала. Только мы не знаем, кто ходил и кто стучал.
Василий кивнул. Он был согласен с женой.
— Если вы ничего не видели, — сказал Слокам, — может быть, вы предположили, чьи это были шаги — мужские или женские?
— Мужские, — быстро ответила Валентина. — Я даже удивилась. Слышу — мужчина по комнате Славы ходит.
— А может, это он сам и ходил. — Василий разрушил всю теорию.
— А женские шаги вы слышали? — спросил Слокам.
Василий посмотрел на Валентину, они покачали головами, глядя друг на дружку.
— Я точно не отвечу, — сказала Валентина. — Не могу взять на себя такой грех. Но женские шаги тоже были. И заходили женские шаги в комнату к Славику.
— Это было, — подтвердил Василий.
— А мой-то, — продолжала Валентина, — простите, конечно, сказал мне, не пошла ли Алла своего бывшего мужа… ну это… как сказать бы…
— Любить, — подсказал Василий.
— Осуществлять супружеские обязанности! — И Валентина позволила себе улыбнуться.
— Значит, вы подозреваете, что в комнате господина Кошко была его жена? В какое время?
— В какое? — Кошки подумали вместе, начали загибать пальцы. Потом сошлись на том, что было это между тремя и четырьмя часами утра.
— А может быть, это была не жена? — предположил Слокам.
— Кто же тогда? — удивилась Валентина.
— Например, миссис Лидия.
Тут все трое уставились на Лидочку. Валентина зажмурилась, отмахнулась от видения и вскрикнула:
— Ой нет! Нетушки, нетушки!
— Другая, — веско сказал Василий. — Не Лидок, нет, не она.
— А может быть, это была дочь господина Кошко? Она пришла к нему ночью.
— Чего ей у него в четыре утра делать?
— Дела семейные, — пожал плечами Слокам.
— Ну, если семейные… — согласился Василий.
— Что же было потом? — спросил Слокам.
«Почему же они мне все это не рассказали? А я их спрашивала? Спасибо, что хоть меня в ночной посетительнице Славы они не распознали. Лучше, наверное, этим милым путаникам улететь в свой Краснодар, скоро в садово-овощном кооперативе урожай поспеет».
— А потом машина дверью стукнула, — сказала Валентина.
— Во сколько?
— Да сразу после шума, — подсказал Василий.
— Какой был шум? — тут же уточнил инспектор.
— Какой-то шум, — сказала Валентина. — А какой — не припомню.
— А потом хлопнула дверца машины?
— А потом кто-то по лестнице ходил, — поправила инспектора Валентина.
— А что была за машина?
— А вот какая — не скажу. Мы к окну не ходили, не подглядывали.
— Мало ли кто по своим делам ходит?
«Не поэтому, — подумала Лидочка. — А потому, что смертельно перепугались. Сидели, схоронясь в уголке, боялись бандитов. Но потом на цыпочках должны были подкрасться к окну — иначе они были бы не Кошки».
Слокам им не поверил.
— Неужели вы не подошли к окошку? Неужели вам не захотелось выглянуть? — спросил он.
— Да что там разберешь, — ответил Василий. — У нас же перед домом фонарь не горит — разве разберешь?
— Значит, подходили, — сказал про себя Слокам, но почему-то не стал дожимать Кошек.
«Конечно, подкрадывались, — подумала Лидочка. — И видели, на какой машине уезжали люди. Но почему-то они или боятся, или не желают поделиться информацией с английской полицией.
Кого они видели? Бандитов? Значит, они боятся, что после ухода полиции бандиты вернутся и разделаются с ними. Или доберутся до них в родном Краснодаре, что тоже нельзя исключать. Но есть и вторая версия: это был кто-то, кого Кошки знали и боялись погубить. А такой человек в доме один — Иришка».
— Хорошо, — сказал инспектор. — А что вы можете сказать о сегодняшней ночи?
— Может, поставить кофе? — спросила Лидочка.
— Это вас затруднит, — ответил инспектор.
— Ни в коем случае. Подождите секунду, я поставлю чайник.
Лидочка кинулась на кухню и налила в чайник воды. Чего-то на кухне не хватало.
Глаз не находил что-то из привычных предметов. Но думать о том, чего не хватает, времени не было.
Из комнаты донесся голос Слокама. Он спрашивал, как зовут собеседников. Как он и надеялся, Кошкам его слова были понятны.
— Май нейм из Василий, — сообщил супруг.
— Май нейм из Валентина Федоровна, — сказала супруга.
Лидочка вернулась в столовую.
— Итак, — сказал инспектор Слокам, — что вы можете сказать о событиях последней ночи?
Валентина не успела ответить, как в комнату вошел франтоватый пожилой джентльмен в полосатом костюме. На носу джентльмена красовались очки с толстыми стеклами.
— Мэттью, — сказал он, не здороваясь с потенциальными преступниками, — с чего начинать — с комнат или с машины?
— И то, и другое важно, — ответил Слокам. — Не знаю, что важнее. Не забудьте поглядеть шины: может, они ездили по проселку.
Франт кивнул и ушел. По-видимому, это был эксперт. Инспектор обернулся к Кошкам. Лидочка повторила его вопрос по-русски.
— А ночью кричали, — сказала Валентина.
— Кто? Когда?
— Та ж Лидочка слыхала, она даже выскочила.
Инспектор повернулся к Лидочке, ожидая перевода.
— Я уже говорила, — сказала Лидочка, — что ночью Алла закричала. Я выскочила. Кошки тоже слышали крик. И Иришка…
— Повторите, — попросил Слокам. — В деталях. Кто где стоял после того, как вы услышали крик?
— Я вышла из комнаты, сделала шаг или два на лестничную площадку и остановилась, не зная, что делать дальше. Из своей спальни вышла Иришка и спросила, кто кричал. Госпожа Кошко выглянула из своей комнаты внизу и тоже спросила, слышала ли я крик.
— Вот именно, — подтвердила Валентина. — Мы услышали крик. И я сразу выглянула.
— Вы спали? — уточнил Слокам.
— Нет, — ответила Валентина. — Мы вещи собирали.
— Зачем?
— А у нас сегодня самолет. Мы думали, улетим наконец. А сегодня разве улетишь? Ведь нас заперли, а потом вы приехали, чтобы допрашивать. Разве тут уедешь?
— Все равно догоните со своими допросами, — добавил Василий.
Слокам выслушал перевод и согласился с Кошками. Потом он спросил:
— А этой ночью вы тоже слышали шаги?
Валентина вздохнула и призналась:
— И этой ночью тоже слыхали. Были шаги, были.
— После крика?
— И до крика были, и после крика были. Плохая ночь, тревожная.
— Пожалуйста, подробнее, — попросил инспектор. — Может быть, вы слышали голоса, слова, отдельные фразы? Может, кто-то входил или выходил из дома?
— Это наверняка бандиты! — убежденно сказала Валентина. — Они и той ночью ходили, и этой ночью ходили. Они всех хотели перебить.
— Почему? — не понял инспектор.
— Чтобы концы в воду. Чтобы их не раскрыли. Ведь Аллу поймают — она их всех выдаст. Тогда нигде не скроешься. Ответить придется за убийство Славика.
— Почему вы решили, что мистер Кошко убит? — насторожился Слокам.
— Так его же таскали, той ночью таскали, — вмешался Василий, как будто напоминая инспектору об уже сказанном, хотя на самом деле об этом речи не шло.
— Вы в этом уверены?
— Они же тело тащили, — сказал Василий.
— Помолчи, Василек, — перебила его жена. — Ну зачем господину полицейскому офицеру знать о твоих подозрениях? Раз не видал, значит, не знаешь.
— Но ведь ясно! — настаивал Василий.
— И кто же тащил тело мистера Кошко?
— Злые люди, — сказала Валентина. — Ясное дело, злые люди.
Она поджала губы и замолчала. И Василий тут же последовал ее примеру. Кошки не желали расставаться с тайной, если они ее действительно знали.
— Хорошо, — улыбнулся инспектор. — Вернемся к событиям последней ночи. Значит, в доме находились только вы, — он обвел взглядом троих свидетелей, — а также дочь господина Кошко?
— Вот именно, — сказала Валентина.
— И двери были заперты?
— Так разве это запоры? — сказал Василий. — Я любой пальцем открою. Одна видимость, что запоры.
— А если бы кто-то чужой вошел в дом, вы бы услышали? — спросил инспектор.
— Безусловно, — заявил Василий, но Валентина осталась недовольна.
— Может, и не услышали бы, — сказала она. — Может, мы разговаривали или вещи паковали — мало ли что. Разве можно быть уверенным?
Василий посмотрел на жену в недоумении. Он так не думал. Но Валентина не спешила расставаться с информацией.
Засвистел чайник. Лидочка пошла на кухню. Она сняла чайник с плиты, поставила его на поднос, достала чашки, растворимку, молоко и сахар. Лидочка смотрела на стену и все никак не могла вспомнить, чего же не хватает. Чего-то большого. Странно, что забыла. Надо у Валентины спросить, у нее память хорошая.
Когда Лидочка вернулась, в столовую как раз вошел франтоватый эксперт и негромко докладывал инспектору о своих выводах, после чего инспектор с виноватым видом сообщил жильцам дома, что им придется дать отпечатки пальцев.
Валентина вдруг возмутилась.
— А какое такое преступление мы совершили? — спросила она. — Может, кто убит или обкраденный?
— Мы расследуем исчезновение двух людей, — объяснил инспектор. — Во втором случае мы явно имеем дело с преступлением, поскольку миссис Кошко потеряла много крови.
— Может, это и не кровь вовсе? Рано выводы делаете. У нас поперед суда не обвиняют.
— Вы хотите, чтобы я уехал? — серьезно спросил Слокам, словно старался узнать просвещенное мнение Кошек и был готов немедленно отправиться домой, к семье, если Кошки того потребуют.
Но они не потребовали.
— Сидите уж, — разрешила Валентина, — снимайте допрос, ваше дело служебное.
— Скажите, пожалуйста, — спросил инспектор, — дочь мистера Кошко переживала исчезновение своего отца?
— Ой, переживала, — запричитала Валентина. — Просто слезами умывалась. Осталась в молодые годы без отца, без матери…
— Но вот свидетель госпожа Берестоу, — заметил инспектор, — заявила мне, что, по ее сведениям, исчезнувшая дама лишь выдавала себя за миссис Кошко.
— Ой, выдавала, — согласилась Валентина.
— На самом деле настоящая миссис Кошко…
— Он с ней развелся, — дополнила Валентина.
Об этом Лидочка инспектору сказать забыла — очень уж спешила изложить события вкратце, как можно короче. Поимка бандитов казалась более важным делом, чем события прошлых лет.
— Будьте любезны, расскажите мне подробнее, — попросил Слокам, и Валентина поведала инспектору драматическую историю семейства Кошко.
— Мне все ясно, — сказал инспектор и закручинился.
И Лидочка подумала, что со стороны вся эта история отдает бульварной литературой: отвергнутая бывшая жена, разбогатевший муж, несчастный ребенок и, конечно же, бандиты…
— Значит, Ирина полагала, что в исчезновении ее отца виноваты бандиты? — спросил Слокам.
— А то кто же? — удивилась Валентина. — Он им бумагу подписал, все денежки теперь на Аллу перешли, на что он им нужен?
Лидочка перевела слова Валентины, а от себя добавила, что сомневается в такой наивности бандитов.
— Это я понимаю, — согласился Слокам. — Но нельзя исключать и того, что они рассчитывали удержать дом под контролем. Им нужно было всего несколько дней, чтобы получить деньги со счета, особенно из сумм, уже переведенных в наличность.
— Что он говорит? — заинтересовалась Валентина.
— Он думает, что вы правы.
— И Ирина знала о том, что Алла — не ее мать? — спросил инспектор.
— Вопрос даже глупый, — сказала Валентина.
Покладистый инспектор согласился, что вопрос глупый, но Лидочка поняла, что задал он его сознательно, не столько от глупости, сколько от английского уважения к следственному порядку.
— И Ирина не выносила эту женщину?
— А то как же! — сказал Василий. — Она ее просто ненавидела. Но я так думаю, что господин следователь тоже бы ее ненавидел, если бы за настоящую мамочку переживал, а чужую таким душевным именем звать был вынужден.
Инспектор с пониманием покачал головой. Ему не хотелось попадать в такое положение.
— Может быть, — инспектор подкрадывался к жертве медленно, как лев к стаду антилоп, — может быть, эта ненависть распространялась и на ее отца? Ведь она могла винить его за то, что ее мама оказалась в таком опасном положении?
Валентина посмотрела на мужа, Василий — на Валентину, но они решили не сознаваться, хотя Лидочка понимала: если положить руку на сердце, то ненависть к папе, бросившему и маму, и дочку, жадному и себялюбивому, порой охватывала Иришку, чего она от Кошек не скрывала.
— Нет, — сказала после паузы Валентина, — такого не припомним.
Инспектор показал заячьи зубы. Он уже раскусил краснодарских Кошек и выслушивал их ответы с изрядной долей скепсиса.
— Но свои отрицательные чувства к Алле она не скрывала, — предположил Слокам.
— А мы все ее не выносили, — сказала Валентина. — Некультурный человек, не нашего круга и к тому же бандитка.
Перевести столь эмоционально сложную фразу Лидочке удалось не сразу.
— Но вряд ли вы или госпожа Берестоу грозились ее убить? — не уступал инспектор.
— Ни боже мой! Она сама кого угодно убьет!
Слокам принялся пить кофе, пока тот не остыл. Остальные тоже пили кофе и молчали.
Неожиданно инспектор встрепенулся.
— А может быть, ночью по комнате госпожи Кошко ходила Ирина?
Валентина ответила не сразу.
— Я не видела, — сказала она, — чего напраслину возводить?
— А вы не видели, чтобы Ирина выходила ночью из дома и уезжала на машине?
— Нет, не видели, — ответил Василий.
— А не может быть, что ночью к Ирине приходил ее друг Роберт Ричардсон?
— Ну что вы, она же еще девочка! — возмутилась Валентина. — Ну разве можно так думать! Хоть сейчас молодежь, конечно, не бережет свою честь.
— Вы уверены, что сегодня ночью мисс Ирина Кошко и ее друг Роберт Ричардсон не выносили из дома и не увозили тело миссис Аллы Кошко? — Боа-констриктор все туже сжимал свои кольца.
— Ну что пристал? — взмолился Василий, выслушав перевод. — Чего он к Иришке привязался? Да если бы мы и видали что, неужели ему скажем?
Василий не учел, что кое-какие познания в русском языке у мистера Слокама имеются. А Лидочка не удивилась, когда инспектор сказал:
— Не хочем сказать мне про машина? Это понимаю.
— Ну вот, еще этого не хватало!
И тогда Мэттью достал из бокового кармана пластиковый пакет, в котором лежал небольшой платочек, обвязанный кружевом и испачканный кровью.
— Как вы думаете, кому мог принадлежать этот платок? — спросил инспектор.
Лидочка была поражена тем, что он успел отыскать платок. Она начисто забыла, где видела его в последний раз. А инспектор уже связал его со своими подозрениями.
Валентина не скрыла возмущения:
— Вот этого я от тебя, Лидочка, не ожидала! Ты зачем мои слова передала англичанину? Неужели не понимаешь, что это тайные слова? Для тебя Иришка человек чужой, равнодушный, а для меня она заместо дочки!
— У вас была информация о платочек? — по-русски спросил инспектор.
— Да, была, — призналась Лидочка. — Госпожа Валентина Кошко сказала мне сегодня, что она сама вышила и подарила его Ирине.
Таиться было не только неправильно, но и глупо: инспектору бывало трудно выразить свои мысли, но понимал он многое.
— Значит, этот платок Ирина оставила в машине? Она вытирала сиденье, но в темноте потеряла платочек.
— Но почему она? — закричала Валентина. — Почему она? Может, этот платочек Лидия сама утащила. Аллу убила…
— Мне ее не поднять, — призналась Лидочка.
— А тебе Генка помогал. Вы одна компания, — сообразил Василий. — Мне ты давно уже не внушаешь.
Слокам с интересом перевел взгляд на Лидочку.
— Любопытная информация, — сказал он по-русски, к вящей радости краснодарских родственников.
Инспектор спрятал пакет с платочком в карман. В столовую заглянул полицейский.
— Из Хитроу, сэр, нам сообщили, что наша группа обошла весь аэропорт и никаких следов преступников не обнаружила, — сказал он.
— Я так и думал. Они умнее. Поймать их будет нелегко, ведь придется все время возить с собой свидетелей. А где девушка? Где мисс Кошко? Она возвращается?
— Она должна быть в машине.
— Обратно вертолета не нашлось?
— Но ведь такой спешки уже нет.
Слокам кивнул, достал свой сотовый телефон, набрал номер. Все смотрели на инспектора, словно ждали, что из аппаратика вылетит птичка.
— Это ты, Генри? — спросил инспектор. — И девочка с вами? Тогда не надо возвращаться сюда, слишком далеко. Мы встретимся на полпути. Да, везите ее в Скотленд-Ярд. Я там буду через сорок минут.
Спрятав телефон в карман, Слокам обратился к Лидочке:
— Простите, что я не приглашаю вас с собой. В Ярде уже отыскали опытного официального переводчика. Не смею отрывать вас от дел.
«Ну что ж, — подумала Лидочка. — Нет мне доверия».
Она посмотрела на Кошек. Кошки глядели на инспектора, может, им было интересно на него глядеть, а может, они не хотели встречаться взглядами с Лидочкой после того, как обвинили ее в убийстве. Даже если они руководствовались благородными побуждениями — спасали двоюродную племянницу.
— Спасибо за кофе, — сказал инспектор. — Завтра я буду ждать вас всех у себя. Я позвоню и уточню время. Машину за вами пришлют из Ярда. Если вы боитесь, я могу оставить в доме полицейского.
— Я не боюсь, — сказала Лидочка.
— А я и не знаю… — начал Василий.
Но Валентина сказала:
— Ничего, обойдемся. Нам не впервой.
Слокам вежливо улыбнулся и отправился мучить Ирину. Видно, он жаждал схватить ее в свои змеиные объятия. Ей придется нелегко. Но будем надеяться, что к ночи она вернется домой. Правда, Лидочка сама себе не очень верила.
Глава 26
Лидочка устала. Ей хотелось спать. Она убрала со стола. Кошки, не глядя на нее и не разговаривая, ушли к себе. Лидочка стала для них врагом, потому что хотела гибели Иришки.
Объясняться не хотелось. Ни объясняться, ни оправдываться, ни просить прощения.
Лидочка помыла посуду. Ее смущали нелады на кухне. Чего-то не хватало. Но может быть, ей померещилось. Не так уж много раз бывала она на этой кухне.
Лидочка поднялась к себе.
Надвигался вечер, хотя по часам было рано, всего шестой час. Может быть, это ощущение возникало оттого, что все небо затянули высокие сизые тучи, которые не двигались, словно ждали команды.
Листва на деревьях казалась светлой, голубой и салатной.
Лидочка стояла у разбитого окна и смотрела в сад.
«И что мы все уткнулись в эту машину?» Можно отделаться от трупа иным способом. О чем обычно пишут в газетах? О подвалах. Трупы здесь принято замуровывать в подвалах. Но, судя по всему, в Славином доме подвала не было. Или ход в него был надежно укрыт.
А что, если бы убийцей была она сама? Вот она убила Славу. Или Аллу. Не важно, что убийцы, вернее всего, были разными. Не важно. Главное — что делать. «В первый раз я убила, не задумываясь о том, куда деть тело. А потом должна была спрятать труп».
Машина в этом случае — далеко не лучший способ. Хотя бы потому, что окно краснодарских Кошек выходит на улицу и все действия с машиной пришлось бы совершать буквально у них на глазах. А слышимость ночью такая, что Кошки должны были все увидеть и услышать. И конечно, они знают куда больше, чем говорят. Даже Слокам понял это. Они не спали, они подобрались к окну, они выглядывали наружу сквозь щель между рамой и шторой. И даже если фонарь у дома не горит, уличного освещения достаточно, чтобы понять, кто и чем занимается на дворе. А потом убийца должен был уехать, чтобы спрятать тело в каком-нибудь лесу или пруду.
Нет, версия с машиной Лидочке не нравилась. Ведь если ты уехал, то через час должен вернуться, снова поставить машину у дома и войти в дом. И с каждым рейсом шансы на то, что тебя никто не заметит, резко уменьшаются. А если ты замыслил второе убийство на следующую ночь, то должен еще раз пройти весь этот путь. А это уже самоубийство. Правда, если ты уверен, что наблюдающие за тобой Кошки никому ничего не скажут…
Если бы Лидочка писала детективный роман, она бы придумала версию элегантную, но не очень жизненную. Убийство было только одно — убийство Аллы. И совершил его Слава. Он не был ни убит, ни похищен — он сам скрылся из дома и переждал сутки где-то по соседству, надеясь, что бандиты испугаются и сбегут или по крайней мере отвяжутся от него. Но когда оказалось, что Алла осталась в доме, то движимый ненавистью и страхом Слава ночью убил лже-Аллу. И вывез ее… А Иришка? Иришка ему помогала. И даже вытирала кровь с сиденья в машине.
В таком случае Кошки стали свидетелями лишь одной поездки, и, конечно же, они даже под пытками не сознаются в том, что видели.
Завтра же Слава возвратится, появится с версией… А впрочем, не так важно, с какой версией он вернется, — главное, что во время исчезновения Аллы его не было в доме, он ни в чем не может быть виноват. Он скрывался в Брайтоне, стараясь сбить со следа бандитов.
Наверное, это самый хороший конец для всей истории. Правда, судьба настоящей Аллы все еще остается неясной.
Создав свою версию и поверив в нее, Лидочка успокоилась и вознамерилась полчасика соснуть. Хотя мама всегда говорила, что нет ничего вреднее, чем сон на закате.
Лидочка улеглась на кровать, и ее тут же посетила тревожная мысль. А что, если Слава не убивал двойника своей жены?
«Вот я оказываюсь на месте убийцы. Не важно, кто я, но мне пришлось убить Славу. Или Аллу. И машины у меня нет, или я не смею ей воспользоваться. Куда мне деть труп, чтобы не шуметь и не перебудить весь дом?»
Лидочка задремала, но продолжала размышлять, не замечая, что ее воображение разгулялось сверх всякой меры… И вот ей уже кажется, что она бредет вокруг дома, отыскивая укромное место. И тут Лидочку поразила мысль, которая, еще не оформившись, повела ее по лестнице наверх, на чердак, где она раньше не бывала, но знала, что его используют как чулан для ненужных вещей.
…Вот она открывает дверь. В руках у нее нож, широкий столовый нож из набора, что висит на кухне. Она делает несколько шагов вперед и видит человека, который сидит на корточках спиной к ней и что-то делает на полу. Человек оборачивается, и Лидочка узнает Славу. Он держит Аллу, прижимая ее плечи к полу. Он молчит, но Лидочка знает, что ей приказано зарезать Аллу. И Алла это тоже знает. Она открывает рот, чтобы закричать, и Лидочке становится страшно, что Кошки снизу услышат крик и вызовут полицию. Тогда она погибла.
Лидочка поднимает нож и вонзает его в Аллу. Нож мягко проходит сквозь грудь, но больше Лидочка ничего не видит, потому что Алла исчезает.
Слава поднимается и смотрит на Лидочку с укоризной.
Лидочка хочет спросить, куда делась Алла, но ее губы отказываются шевелиться…
И тут Лидочка очнулась.
Она сразу взглянула на часы: проспала только пятнадцать минут, а столько успела натворить! Где же она безобразничала во сне?
На чердаке.
Лидочка сунула ноги в туфли и выглянула на лестничную площадку. Если Кошки и сидели в доме, то молча. Да и вряд ли они отправятся сегодня по магазинам. Скорее всего, они в очередной раз собирают вещи.
С лестничной площадки второго этажа, куда выходили двери ванной и женских спален, на чердак вела узкая лестница.
Лидочка включила свет на лестнице, но лампочка не зажглась, — видно, перегорела.
На площадочке перед дверью на чердак было почти совсем темно. Свет еле проникал сюда через три этажа.
Лидочка толкнула дверь. На чердаке было темно, и если лампочка и была, то Лидочка не знала, где выключатель. Свет проникал сквозь маленькое окошко под самой крышей, а так как на улице уже наступили сумерки, то Лидочка зажмурилась и стояла, считая до ста, прежде чем открыть глаза вновь, ждала, пока привыкнет к темноте.
Открыв глаза, она увидела перед собой очертания множества ящиков, чемоданов, сундуков, сваленных в кучу стульев, прислоненных к стене рам от картин — то ли сюда стащили все, что принадлежало бывшим хозяевам дома, то ли привезли это добро из большого дома в деревне.
Постепенно глаза привыкали к темноте, и Лидочка начала медленное путешествие по чердаку, который распростерся надо всем домом. Хотя крыша была покатой, метров шестьдесят площади, заваленной вещами, Лидочке предстояло осмотреть.
Наверное, надо было спуститься за фонариком, но Лидочка даже не знала, есть ли он в Славином доме. Без фонарика она сможет лишь окинуть чердак взглядом и понять, есть ли тут место, чтобы спрятать тело.
Она сразу поняла, что такие места на чердаке есть.
Но ей не хотелось в темноте открывать сундуки и двигать ящики — пускай этим займется полиция.
Лидочка лишь приоткрыла ближайший к ней сундук. В нем лежали какие-то коробки. А под коробками?
Лидочка закрыла сундук и решила спуститься, но тут услышала на лестнице шаги.
Кто-то поднимался на чердак.
Медленно и тяжело, как в кошмаре.
Может, это сон? И ей снится, что она стоит посреди заполненного вещами темного чердака, а нечто страшное и неотвратимое надвигается на нее?
Лидочка стояла в оцепенении несколько секунд, а потом, как мышонок, кинулась искать убежища. Она ударилась об угол сундука, споткнулась об ящик с книгами, запуталась в плохо скатанной портьере и упала за груду стульев, к счастью, не рассыпав ее.
На чердаке стало чуть светлее.
Тот, кто пришел, оставил дверь открытой, чтобы лучше видеть.
Ой, умоляла его Лидочка, только не зажигай свет, ты меня сразу увидишь.
Что-то зашуршало. Может, этот человек проверяет, на месте ли труп?
Кто это?
В детективах и соответствующих фильмах герою достаточно взглянуть из-за угла ящика, и он сразу видит, что это его кузен Вилли, который и ограбил бабушку. Но в действительности все куда сложнее.
Лидочка лежала в жутко неудобной позе, вжавшись в пыльное пространство за ящиками, и, конечно же, не смела поднять головы, потому что это привело бы к подвижкам в завалах, шуму… И еще одним трупом в доме стало бы больше.
Что-то звякнуло.
Человек сделал пару шагов вперед, остановился, принюхиваясь и прислушиваясь. Лидочка замерла. Только не зажигай свет!
Человек повернулся и ушел. Он закрыл за собой дверь и стал возиться с засовом.
«Только не это! — перепугалась Лидочка. — Я не могу оставаться здесь, в темноте и тесноте. А Кошек отсюда не дозовешься. И я здесь умру, если завтра англичане не устроят в доме сплошного обыска».
А будут ли они устраивать обыск? Они разыщут в карьере труп Славы или Аллы. А может быть, поймают в аэропорту сбежавших Славу и Аллу, которые таким образом решили устроить себе медовый месяц, а заодно и вылечить Аллу от хронического кровотечения из носа.
Мысли путались, вернее всего, от страха.
Шаги удалялись. Человек спускался по лестнице.
Больше всего Лидочке хотелось кинуться вниз к двери и взломать ее. Ей уже начало казаться, что на чердаке и воздуха не хватает.
Лидочка заставила себя подождать у двери, пока не досчитает до ста. И только после этого она повернула ручку.
Как в самом страшном сне, ручка наткнулась на преграду и замерла.
Лидочка нажала еще сильнее. Может быть, если она ее сломает, будет еще хуже, но на мягкие, продуманные движения Лидочка сейчас была не способна.
Она навалилась на проклятую ручку всем телом, и та благополучно поехала вниз. Дверь открылась так резко и легко, что Лидочка буквально вывалилась на лестницу.
Она села на верхнюю ступеньку и сидела так минут пять, приходя в себя.
Потом обернулась, как оборачивается человек, выплывший из омута, бросая последний взгляд на черную, глубокую воду.
И оказалось, что никакого засова или крючка на этой двери нет. Только ручка, которая свободно поворачивается. Остальное — дело воображения.
Лидочка встала и на мягких ногах спустилась к себе.
Но войти к себе в комнату она не смогла, потому что снизу от столовой на нее глядела Валентина.
— Ну куда ты задевалась? — сказала она укоризненно. — Я тебя обыскалась. Тебя же в комнате не было!
— А что? — агрессивно спросила Лидочка, вспомнив, что с Кошками она состоит во враждебных отношениях.
— А то, что неизвестно, куда ты побежала! — Валентина тоже говорила агрессивно, подчеркивая враждебность. — Побежала, никому ничего не сказала…
— Я не обязана перед вами отчитываться, — сказала Лидочка, всей шкурой ощущая, как разгорается кухонный скандал, в котором она принимает участие.
Валентина тоже это почувствовала. И первой сказала:
— Мало ли что может случиться? Чей еще труп отыщется?
— Вам что-нибудь было нужно? — Лидочка еще не хотела мириться.
— Я хотела спросить, свечки у тебя нет?
— Нет.
— А может, знаешь, где Славик свечки держит?
— Не подозреваю.
— Придется пойти в хозяйственный, купить.
— Сегодня воскресенье, вряд ли что-нибудь открыто.
— Ну хоть с лучиной иди, — вздохнула Валентина. — У нас на чердаке некоторые вещички сложены — для внучат. А Василий пошел на чердак, так там темнотища. Он пошуровал, пошуровал, да и вернулся ни с чем.
«Господи, ну конечно же, это он — и тяжелые шаги, и шумное дыхание. До чего же я дошла!»
— Завтра утром там светлее будет, — сказала Лидочка.
— А мы с утренним рейсом решили улететь, — сказала Валентина. — Сначала мы улетать не хотели, думали, ну как мы Иришку оставим в такой ситуации. А теперь решили, мы ей ничем не поможем, лучше уж улетим подальше от этих безобразий.
Василий выглянул из комнаты и возразил:
— А если что с Иришкой случится? Если ее задержат? Как мы дом пустой оставим? И кто будет Иришке передачи, если что, носить?
— Молчи, сглазишь, старый дурак! — рассердилась Валентина. — Вернется твоя Иришка.
— Здесь не Россия, — сказал Василий. — Что можно сказать, если они здесь за шиллинг друг другу глотку перегрызут?
— Я и не знаю, — призналась Валентина. — Представления не имею. И себя жалко, и дом жалко, и Иришку жалко — всех жалко. Тебе этого не понять.
Лидочка только пожала плечами.
Значит, хомяки стаскивали на чердак свое барахло.
Лидочка вошла в свою комнату.
Уже темнело, но свет зажигать не хотелось — за окном стоял чистый синий вечер.
Она подошла к окну. Было грустно. Вечер оказался совсем не таким уж чистым. Даже в саду все было осквернено. В кустах прятали микрофон — что они подслушивали? А в сарайчике Лидочка спрятала этот микрофон в мешок с удобрениями… Лопата, которая еще недавно подпирала дверь сарайчика, теперь валялась на траве. Может, ее свалило порывом ветра?
«А вот еще одно место, куда бы я могла спрятать труп, — подумала Лидочка. — Оно не хуже чердака и даже удобнее — не надо волочить тело наверх».
Сходить бы и поглядеть… А может быть, отложить до завтра? Ведь уже темнеет, и в саду сыро… Мозг Лидочки придумывал отговорки и отсрочки. Ее телу не хотелось идти в сад, хватило и похода на чердак.
Нет, надо сходить. Хотя бы для очистки совести. Почему-то все так зациклились на автомобиле и каком-то озере, что забыли о более доступном месте…
Лидочка пошла в сад.
Для этого ей надо было спуститься с лестницы, пройти мимо столовой в кабинет Славы и через стеклянную дверь выйти в сад.
Валентина хозяйничала на кухне.
— Ты куда? — спросила она Лидочку, когда та проходила мимо.
Голос звучал дружелюбно, наступал период внутреннего мира.
— Я в сад, — сказала Лидочка.
— Надень туфли, а то в тапочках промокнешь — там роса.
— Я по дорожке, — ответила Лидочка.
В кабинете Славы все осталось без перемен, словно хозяин только что его покинул. Даже одеяло лежало на диване точно так же, как вчера. И английская книжка — детектив Рут Ренделл — лежала на столике возле дивана. Сначала Лидочке казалось, что Слава не настолько знает английский, чтобы читать детективы, но потом оказалось, что он тоже большой любитель романов Ренделл.
Лидочка открыла дверь и вышла в сад. На бетонной вымостке перед стеклянной стенкой кабинета валялись, поблескивая в вечернем свете, острые кинжалы стекол — они сыпались сюда, когда Лидочка разбила окно. А вот и лампа. Ее тяжелая ножка цела, а абажур откатился в сторону.
Лидочка пошла по дорожке. От травы тянуло сыростью.
Она старалась отвлечь себя от очередной вспышки страха, но это ей не удавалось. Она представила, как открывает дверь…
Лидочка подошла к сарайчику, почерневшему от возраста. Крыша была из толя, тоже почти черная. Маленькое окошко — в него ничего не разглядишь. Лидочка потянула дверь на себя.
И тут же услышала сзади шаги. К ней шла Валентина.
— Ой, — сказала Валентина, прижимая полные руки к груди. — Ой, что ты, Лидия, подумала! И не думай!
Лидочка обрадовалась тому, что Валентина пошла за ней. По крайней мере теперь она не одна.
Лидочка потянула на себя дверцу. Дверь отворилась со страшным скрипом. Не его ли она слышала ночью и подумала, что это кричит Алла?
Дверь поддавалась с трудом. Внутри было темно. Посреди сарая стояла большая бочка, у стены выстроились садовые инструменты, в углу были свалены мешки с удобрениями…
В первое мгновение Лидочка вздохнула с облегчением. Ей показалось, что ее опасения не оправдались. Никаких трупов в сарайчике не было.
— А это что? — спросила она себя и повторила вслух: — А это что?
На полу лежали два длинных мешка.
Один был белым или почти белым, второй — в красных пятнах.
Простыни, в которые были замотаны трупы, подобно туринской плащанице, обрисовывали не только тела, но и лица, черты лиц.
Слава лежал на спине, и его нос натягивал ткань, а Аллу положили на бок. Из-под простыни выбивалась прядь черных волос. Отдельно, как тело непонятного существа, валялась измазанная в крови подушка.
Стало темнее — дверь заслонила могучая фигура Валентины. Она старалась заглянуть внутрь через Лидочкино плечо.
— Что там? — спросила она. — Нашла, что ли?
Лидочка хотела ответить, но язык ей не подчинился. Она слабо оттолкнула Валентину и протиснулась между ней и рамой двери.
Лидочку замутило, но в то же время она ощутила странное чувство освобождения. Ее перестала мучить неизвестность — исчезновение. Теперь все ясно. Никто их не увозил. Их убили и бросили здесь.
— Ой, — сказала Валентина. — Ты видела, Лидия?
— Конечно, видела.
— Кто же их так?
— Я не знаю.
— Я спать не буду, — уверенно заявила Валентина. — Ты только Василию не говори, он с ума со страха сойдет. У него нерв слабый.
— Хорошо, — сказала Лидочка.
Она пошла обратно к дому. Валентина осталась стоять у сарайчика, заглядывая внутрь.
Лидочка шла к дому, и в глазах ее стояла картина, увиденная в сарайчике: два трупа, завернутые в простыни.
Их убили во сне. А как, пускай в этом разбирается Слокам. Придется снова ему звонить.
Переваливаясь, как утка, Валентина бежала за Лидочкой к дому.
— Оставаться-то боязно! — крикнула она. — Ты не спеши, подожди меня. Я мертвых боюсь до отвращения!
Глава 27
Лидочку начало трясти, когда она вошла в дом. Она стояла посреди Славиного кабинета, смотрела на пустой диван и не могла сделать больше ни шагу.
До того момента, как она нашла тела, во всем происходящем был элемент игры, детективного романа, который ты читаешь на ночь. А теперь произошел обвал.
Ей было страшно оставаться в кабинете и трудно пересечь его.
Много лет Лидочка не падала в обморок, а тут в глазах стало мутиться, и к горлу вновь подступила тошнота.
Спасла ее Валентина, которая шла за ней.
Как слониха, которая хоботом выталкивает из грязной лужи свое чадо, она вытолкала Лидочку из кабинета в нейтральный коридор, а потом, обняв за плечи, ввела в столовую и усадила на стул.
— Держись, Москва! — призвала она Лидочку и поспешила на кухню.
Лидочка тупо сидела за столом, водила пальцами по пластику скатерти и ни о чем не думала, потому что ее находка ничего не объясняла, не разрешала никаких загадок, а только заводила в тупик.
В столовую заглянул Василий. Он был обыкновенным. Даже веселым, потому что не знал о сарайчике.
Валентина услышала, что он вошел, и крикнула из кухни:
— Лидочку не трожь! У нее шок.
— Чего?
— Шок у нее. Шокированная она.
— Ага, — сказал Василий и сел за стол напротив Лидочки.
— Я ей кофе сделаю, — сказала Валентина.
— И мне сделай. Пить хочется.
Валентина еще немного пошумела на кухне, потом оттуда донесся ее голос:
— Лида, скажи Васильку, что ты натворила.
Натворила? Лидочка удивилась неточности слова и в то же время его удивительной выразительности. Но она промолчала. Валентина сама стала громко рассказывать мужу:
— Она в сад пошла, глядит — сарайчик. Она туда и сунулась.
— Зачем? — не понял Василий.
— Наверное, Славика искала. А может, за лопаткой пошла.
— Наверное, искала, — согласился Василий.
«Они разговаривают, словно меня нет, — подумала Лидочка. — Словно я ушла».
— Если не сама все сделала, — продолжала Валентина.
Она выплыла из кухни, неся чайник в одной руке. Чашки висели на пальцах другой руки.
— Нет, — убежденно сказал Василий. — Я людей знаю. Не могла Лидия этого сделать. Даже если она бандитам служит, на убийство бы ее не хватило — кишка тонка.
Валентина налила кипятку, сама достала из шкафа растворимку, размешала и подвинула чашку к Лиде.
— Ты пей, а то нервы у тебя никуда не годятся.
Лида послушно стала пить. Кошки внимательно смотрели на нее. И вдруг Лидочка испугалась. Впервые за эти дни.
Они были такими толстыми, тугими, заботливыми, озабоченными… Не подсыпали ли они в кофе снотворного или яда?
«Бред! Нервы у тебя и в самом деле никуда не годятся». Лидочка поднялась и пошла в прихожую.
— Ты что? Не попимши? — удивилась Валентина.
— Ты ее не трогай, — сказал Василий. — Может, она поблевать пошла.
Лидочка набрала телефон полиции.
— Полиция, — произнес улыбающийся английский голос.
— Вас беспокоят из дома 14 по Вудфордж-роуд, Сиднем.
— Очень приятно. Что у вас произошло?
— Я наконец-то нашла два трупа, — сказала Лидочка.
— Вы кого-то убили, мисс?
— Нет, это не я. Но мы их давно ищем. Сегодня Скотленд-Ярд искал, ваши сотрудники из ближайшего участка тоже искали.
— Повторите адрес. — Голос оставался таким же вежливым и дружелюбным.
Воцарилась тишина. Лидочка понимала, что ее слова проверяют. Прямо над ухом раздался голос Валентины:
— Надо было сразу этому молодому толстожопому звонить. Из Лондона. Чего на районку время тратить? У них и вертолета нет.
Все-то она замечает, эта Валентина.
— Надо бы посмотреть в сарайчике, — сказал Василий.
— Что посмотреть, мой ласковый?
— Не оставила ли Иришка чего из своих вещей. Ведь они будут вынимать, а там ее сережка! Или колечко. Знаешь, как бывает?
— Вы меня слушаете? — раздался в трубке голос вежливого дежурного. — К вам выезжает наряд. Мы сообщим в Скотленд-Ярд. Прошу вас не покидать дом и не предпринимать никаких действий. Главное — не приближайтесь к телам. Вы меня поняли?
— Я давно все поняла, — сказала Лидочка. Ну почему так хочется спать? Идиотский организм, он не хочет присутствовать, он устал от этих дел.
— Пошли посмотрим, — предложила Валентина. — В самом деле надо проверить.
— Да не поможете вы Иришке! Я думаю, что, если она в чем-то виновата, в Скотленд-Ярде это выяснят, хотим мы этого или нет.
— Ох, Лидия, чудная ты для нас личность, — сказала Валентина. — Может, какая маленькая улика в сарае, а для Иришки разница во всей жизни. Ее посадют, точно посадют, а жизнь молодая искалечена. Она ведь все это сделала, чтобы за маму свою отомстить.
— Вы думаете, что она убила обоих? — Лидочка только сейчас осознала смысл Валентининых слов.
— Она же понимала, — убежденно заявила Валентина, — что, пока он живой, ее маме такая смертельная опасность грозит, что ты не представляешь. А нет его — маму выпустят.
— Почему?
— Они испугаются, что полиция этим делом займется, что расследование начнется. Они испугаются и убегут.
— Что же она тогда в полицию сама не заявила?
— Да ты сама подумай, ангел мой! Она что, изверг? Она что, привыкла отцов родных убивать? Это же такое потрясение всего организма, ты не представляешь! Она его случайно, в приступе безумия убила.
Валентина раскраснелась. Сейчас она являла собой некое подобие Шерлока Холмса, который разъясняет совершенно загадочное убийство своему другу, непонятливому доктору Ватсону.
— Значит, она убила, — промолвила Лидочка. — Потом испугалась. А потом убила Аллу?
— Ясное дело. Ей Роберт посоветовал.
— Вы и это знаете?
— А мы размышляем, — сказал Василий. — Мы мозгами раскидываем.
Он образно показал, куда они раскидывают своими мозгами. Получился жест сеятеля.
— Но зачем ей убивать Аллу?
— Потому что после смерти Славика, — Валентина понизила голос, будто полиция уже приехала, — бандиты не испугались, а стали пуще прежнего грозиться. Не получилось. Пришлось Аллу убивать.
— Чтобы они отстали?
— Но ведь отстали! Видишь, что отстали?
— Пока что их не поймали, — сказала Лидочка. — Мы не можем исключить их из числа подозреваемых.
— А я так думаю, что их тоже уже убили. А мы с тобой — свидетели войны двух банд. Как у гангстеров, — рассуждал Василий. — Одни на нас вышли, да сорвалось. Вот другие и кинулись добычу подбирать. Лучше бы Слава отказался от этого наследства, от дома этого проклятого. И все были бы живы.
— А я допускаю, — вмешалась Валентина, — что у Иришкиного Роберта есть целая компания дружков. В основном негры. Они здесь все знают. Вот и чистят мир от недобрых людей.
Лидочка чувствовала, что попала в сумасшедший дом. Как в романе Агаты Кристи, где каждый имеет возможность и желание убить подлеца.
— Только не надо говорить, что я — главарь этой банды, — взмолилась Лидочка.
— А про тебя мы мало знаем, — сказала Валентина. — У кого ты на зарплате. Недаром английский следователь тебя с собой переводить не взял. Тоже не доверяет.
— Но ведь это я нашла тела!
— Не считай нас дураками! — Голос Валентины прозвучал резко, по-кухонному. — Если бы ты не нашла, их сегодня до ночи кто-то обязательно бы нашел. Тебе выгоднее самой их найти и кричать — я раскрыла, я раскрыла!
Спорить не хотелось. Да и как переспоришь Кошек, если у тебя нет никаких доказательств собственной невиновности.
— Я пойду наверх, — сказала Лидочка. — Я себя плохо чувствую.
— Погоди, — остановила ее Валентина. — Ты полицию вызывала, тебе и беседовать. Почему нашла, где нашла, почему другие не нашли, а ты нашла…
— Вот именно, — поддержал жену Василий.
— Мне с вами быть не хочется, — сказала Лидочка.
— А ты с нами не будь, — ответила Валентина. — Василий, бери спички, пойдем посмотрим, чтобы против Иришки улик не нашлось.
Наверное, нужно было их остановить, но не Лидочке же решать, виновна Иришка или нет. Кошки должны стоять друг за дружку.
Полиция приехала, когда Валентина с мужем еще возились в саду. Но они услышали шум и прибежали, словно в сад и не заглядывали.
Лидочка подумала, что число английских полицейских, с которыми она так или иначе знакома, уже превосходит все разумные пределы.
Это снова были новые лица. Полицейские пошли в сад, светя себе большими электрическими фонарями.
Обитателей дома попросили остаться в столовой, что они и сделали. Молодая рыжая женщина с убегающим подбородком стала снимать с них допрос. Она упорно, как и положено новым лицам, требовала рассказа о том, кто эти мертвецы, откуда здесь появились, когда и кто видел их в последний раз и так далее.
К счастью, в середине допроса примчался Мэттью Слокам.
Он сразу же прошел в сад и, вернувшись через три минуты, сказал Лидочке:
— А ведь я был глубоко убежден, что их увезли в лес.
— Я тоже, — сказала Лидочка. — А потом подумала: а что, если у меня нет машины или я не решаюсь ею воспользоваться, так как пожилые господа, которые живут на первом этаже, могут меня увидеть?
— Но это означает… — задумчиво сказал Слокам. Он не договорил и вместо этого спросил: — И вы начали ваше собственное расследование в саду?
— Нет, сначала на чердаке. Мне приснилось, что тела лежат на чердаке.
— Разумно, крайне разумно, — согласился инспектор. — Мне самому следовало об этом подумать. Но меня подталкивали к машине.
— Я вас никуда не подталкивала.
— Неужели? — поднял брови Слокам.
Это был не совсем вопрос, а то типично английское «неужели», которое скорее относится к междометиям.
— Чего он говорит? — забеспокоилась Валентина. — Надо бы переводить. А то вы все пользуетесь нашей необразованностью и за нашей спиной строите свои заговоры.
— Да не строим мы заговоры! — сказала Лидочка. — Я объясняла инспектору, почему решила заглянуть в сарайчик.
— И почему же? — спросила Валентина.
Василий сидел за столом. Он поднял пустую чашку, заглянул в нее и вздохнул тяжело и громко, как корова. Василий был бледный и потный — видно, переживал и устал от приключений.
— Потому что решила, что убить мог человек без машины.
— Ага, — согласилась Валентина. — А как же Иришка?
Лидочка перевела.
— Я понял вопрос, — ответил инспектор. — Мисс Кошко пока остается в Скотленд-Ярде. Она дает показания моему коллеге. Именно поэтому я вновь приехал без переводчика.
— Вы ее не мучайте, — попросила Валентина. — Девочка не знала, что творит.
— Все будет сделано в рамках закона, — заверил Валентину инспектор. — А что еще вам удалось найти?
— Ничего особенного, — быстро сказала Валентина.
— Вы не волнуйтесь, — сказал инспектор по-русски. — Если вы сказать правду, вам станет легко.
— Помнишь тот день, еще раньше, когда ты, Лидия, микрофон в кустах нашла? — спросила Валентина. — Тогда еще Иришка с тобой в сарайчик ходила. Вот она и обронила там сережку.
Валентина раскрыла руку — ладонь была потной, она давно держала что-то в кулаке.
На ладони блестела маленькая сережка — жемчужинка.
Лидочка вдруг испугалась, она не помнила, ходила ли Иришка в сарай, когда она нашла микрофон. Вылетело из головы. Но Слокам не дал додумать.
— Почему вы решили, что мисс Кошко потеряла свою сережку именно во время какого-то предыдущего посещения садового сарая?
— А то когда же?
— И вы ее тогда нашли?
— Я ее сегодня нашла. Мы с Лидочкой были в сарае, я думаю, что там блестит. И вижу — сережка. А я помню: в тот день я Иришку спрашивала, где сережка, которую тебе дядя Василий привез? А Иришка говорит, обронила. Вот я и запомнила.
— Большое спасибо. — Слокам вежливо улыбнулся и принял из руки Валентины сережку.
— Вы передадите Иришке? — спросила Валентина.
— Разумеется.
— А то мы с Василием, может, завтра на рассвете уедем. Но хотели вашего совета спросить.
— В чем заключается мой совет? — спросил Слокам.
— Как вы нам скажете: Иришку отпустят или нет?
— Не знаю, — сказал инспектор. — Это будет зависеть от развития событий.
— Потому что если отпустите, то мы уедем, — сказала Валентина. — Иришка взрослая, не пропадет, а нас дома дела ждут. А если…
— А если не отпустите, — вмешался Василий, — то нам придется здесь сидеть, дом стеречь. Нельзя же дом без присмотра оставлять.
Слокам выслушал эти заявления, но, видно, не отыскал в них того, что ожидал.
— И в чем же мой совет? — повторил он.
— Так уезжать нам или погодить? — спросила Валентина, не скрывая удивления перед умственной отсталостью инспектора.
— Я бы на вашем месте остался здесь, — дал свой совет инспектор.
— А если мы захотим уехать? — спросила Валентина.
«Ах как они испытывают нашего инспектора!» — подумала Лидочка. Где-то она слышала термин — «мозговой штурм».
Но английского инспектора было трудно подавить залпами тяжелой краснодарской артиллерии.
— Если вы захотите уехать, — все так же вежливо и ровно сказал Слокам, — я бы не советовал вам так поступать до окончания предварительного следствия.
— Им свидетели нужны, — пояснил жене Василий.
И Кошки стали пристально смотреть на инспектора.
Инспектор не подал виду, что трепещет под их тяжелыми взглядами.
— Лидии это тоже касается, — утвердительно заявила Валентина.
— Разумеется, пребывание миссис Берестоу в Лондоне на этот период остается обязательным.
— А он длинный, ваш период? — подал голос Василий.
— Это зависит от обстоятельств. Но думаю… — Инспектор оттопырил верхнюю губу, показал заячьи резцы. — Думаю, это займет немного времени. Совсем немного.
Он замер, ожидая, будут ли еще вопросы. И дождался.
— А кого подозреваете? — спросила Валентина.
И тут наступила тяжелая пауза, потому что Лидочка мысленно подсказывала инспектору. Валентина и Василий тоже мысленно подсказывали инспектору, а у инспектора было свое мнение.
Лидочке показалось, что в томительной, безмолвной борьбе прошло полчаса, прежде чем инспектор произнес:
— Я подозреваю вас, миссис и мистер Кошко. И потому мне хочется задать вам несколько вопросов.
— Вот это лишнее, — сказала Валентина быстро, будто ждала подобного заявления со стороны инспектора и, когда оно наконец прозвучало, ей стало легче. — Мы без нашего адвоката вам слова не скажем. А то подстроите гонения на честных людей.
— Помолчи ты со своим адвокатом, — медленно сказал Василий. — Обойдемся без адвокатов. Пускай спрашивает. Нам скрывать нечего.
У Лидочки словно гора с плеч свалилась. Ей все казалось, что у нас дома следователь давно бы уж все сообразил, вычислил, но психология английского инспектора была настолько чужой и путь его мыслей был настолько непонятен, что Лидочка допускала: он не видит некоторых давно ставших для нее очевидными доказательств вины краснодарских родственников.
Они оказались хитрее Слокама, а ей, Лидочке, заниматься подсказками не к лицу. Может быть, англичанка на месте Лидочки давно бы уже сообщила инспектору о своих подозрениях, но русские люди воспитаны иначе. Для англичанина инспектор — представитель обязательной и, в принципе, справедливой власти. Для русского милиционер или следователь — представитель власти неправедной и фигура, чаще всего доверия не заслуживающая. Свидетель может быть более заинтересован в справедливости, чем следователь. И лучше промолчать…
Какая еще нация могла придумать поговорку «От сумы и от тюрьмы не зарекайся»? Ведь для нормального европейца совершенно естественно, что, если он честно трудится, никто не может его ложно обвинить и посадить в тюрьму, тем более обобрать.
— Вы предпочитаете беседовать в Скотленд-Ярде? — спросил Слокам. — Там мы найдем переводчика.
— Нет, — решительно заявила Валентина. — Мы хоть Лидии и не доверяем, но вашему еще больше не доверяем. Давайте дома разговаривать.
— И вы увидите, — пригрозил Василий, не вставая, — вы еще как увидите, что нельзя нападать на невинных людей.
— А для них, — сказала Валентина, — что виноватый, что безвинный — одна песня. Им план по убийцам выполнять нужно. Вот и объединяются империалисты с нашими дерьмократами.
Лидочка поняла, что к мерзкой разновидности демократов относится именно она. Грустно, но никуда не денешься.
— Мы можем начать? — спросил Слокам.
Он поставил на стол диктофон и произнес:
— Настоящая беседа не является официальным допросом и не может считаться свидетельством для суда. Мы намерены рассматривать ее в качестве предварительной беседы с супругами Кошко, которым я, инспектор полиции Слокам, высказал свои подозрения. Я допускаю, что они могли совершить убийство миссис и мистера Кошко, ибо имели к этому возможности и мотивы. Беседа фиксируется на магнитофон. Вы не возражаете против магнитофона?
— А нам что возражай, что не возражай — все равно свою линию будете гнуть, — сказала Валентина. — Но учтите, что наша Родина нас в беде не оставит. Клевещите, клевещите…
Слокам согласно кивнул и невинным голосом задал совершенно неожиданный для Лидочки, но, как оказалось, весьма плодотворный вопрос:
— Зачем вы подложили в машину носовой платок мисс Кошко?
— Как так подложили? — удивилась Валентина.
Конечно, допрос, который следователь ведет через переводчика, выгоден для его жертвы. У нее вдвое больше времени на то, чтобы продумать ответ.
— Капнули на сиденье кровью, — продолжил инспектор, — повозили по нему платком Ирины и оставили его в машине. Затем дали понять как миссис Берестоу, так и мне, что этот платок вы подарили Ирине, так что никаких сомнений в принадлежности платка не оставалось.
— Так мало ли кто мог подбросить его в машину! — возмутилась Валентина. — Мало ли какая подлая душа могла пойти на ущерб нашему ребенку!
Инспектор ничем не выказал своего отношения к ответу и сразу же спросил:
— Какие машины отъезжали сегодня ночью от дома? Вы же сказали, что видели машину?
— Не видела, а слышала, — уточнила Валентина. — И могла ошибиться.
«Надо бы Слокаму допрашивать их по отдельности», — подумала Лидочка.
Но инспектор был уверен в себе.
— А может, никакая машина не отъезжала? — спросил Слокам.
— А может быть, — согласился Василий. — Мы люди немолодые, изнервничались.
— Вы знаете, каким образом были убиты господин Кошко и его так называемая жена?
— Нет, — твердо ответила Валентина. — Нам смотреть не хотелось. Это ваша Лидия смотрела, она лучше знает.
Слокам кивнул и продолжал:
— Они зарезаны. Зарезаны кинжалом или ножом. Большим ножом. Что вы думаете по этому поводу?
И тут Лидочка вспомнила, чего не хватает на кухне.
Раньше там, на стене, висела доска с набором кухонных ножей разного размера. И теперь она пропала.
Надо встать и еще раз заглянуть на кухню. Может быть, ей это почудилось.
— Не видали мы у Иришки большого ножа, — сказала Валентина.
Василий исполнял более пассивную партию. Он был обижен и лишь изредка бурчал.
— Почему вы говорите о Ирине? — удивился Слокам.
— А вы разве не ее имеете в виду?
— Нет, — ответил Слокам. — Сейчас я допрашиваю вас.
Валентина помахала указательным пальцем перед носом инспектора.
— Не хитри, — сказала она. — Сам-то к Иришке подбираешься. Я всю твою игру насквозь вижу. Но я повторяю и на любом суде повторю: если Иришка кого и убила, то только в состоянии умственного напряжения. Ее нельзя судить за сознательное убийство. Кровавая месть — тут любой суд оправдает.
Лидочка кончила переводить, поднялась и пошла на кухню.
— Вы куда? — спросил Слокам.
Лидочка не ответила.
Она глядела на стену над кухонным столом. На гвоздиках мирно висела держалка с дюжиной кухонных ножей. Лидочка могла поклясться, что еще час назад ее не было. И повесить ее на место могли лишь Кошки. Но почему они вдруг решили расстаться с добычей? Может быть, они захотели указать на орудие убийства…
Лидочка возвратилась из кухни со стаканом воды.
— И вы не видели ничего, что могло бы стать орудием убийства? — спросил Слокам.
— Нет! — твердо произнес Василий.
Валентина была не так уверена. Она мялась… Потом посмотрела на Василия и сказала:
— Нет, раз мы решили говорить правду, значит, будем говорить правду. Все равно хуже Иришке от этого не будет. Она сама во всем сознается.
— Вы что-то вспомнили? — уточнил Слокам.
— Я видела, как Иришка большой нож с кухни взяла. Я вчера вечером смотрю — нет ножа. Самого большого. А сегодня днем спохватилась — а он снова на месте висит. Значит, она использовала, помыла и на место повесила.
— Где? — Слокам поднялся и пошел на кухню. За ним туда втиснулась Валентина. Лидочка осталась в дверях.
— Вот здесь. — Валентина показала на самый крайний в ряду ножей. — Его не было.
Лидочка обернулась. Василий глядел в потолок и легко улыбался, как человек с детской чистой совестью.
Глава 28
Были такие викинги — берсеркеры. Во время битвы их охватывал дикий гнев, даже бешенство. Они сражались без кольчуги и шлема, в одной рубашке, бросаясь на пятерых, десятерых врагов. И пока их не убивали коллективно, берсеркеры продолжали поражать врагов.
Лидочка ощутила в себе бешенство берсеркера.
Она смотрела на Валентину, которая сняла самый большой нож с крючка и совершенно спокойно протянула его английскому следователю, готовая посадить в тюрьму любимую племянницу.
И делала она это так легко и непринужденно, словно одаривала ее цветами.
Без зазрения совести.
И пока Слокам и Валентина, не нуждаясь в переводчице, как в немом замедленном кино, разглядывали орудие убийства, Лидочке открылась вся картина преступления, в котором важнее всего было не открыть, как все происходило, а правильно понять, почему так происходило.
Наверное, следователю или суду еще надо будет что-то доказывать, восстанавливать картину убийств, но Лидочку уже никто переубедить не мог.
Преступление это началось в тот момент, когда в городе Краснодаре Валентина и Василий узнали, что их двоюродный племяш, никому ранее не нужный москаль Славик, стал богатым. И получил наследство за границей. Что он уехал туда и живет припеваючи, когда куда как более достойные родственники, ничего не получив, живут от получки до урожая и обратно.
Каким-то образом они смогли связаться с богатым родичем и даже получить от него приглашение пожить в новом доме. Радости Славик не выказывал, но, как человек слабохарактерный, родственников терпел.
Краснодарские Кошки приехали, заняли нижнюю спальню, выманили сколько-то денежек из племянника и принялись накапливать дешевые товары для внучат и самих себя. Они погрузились в мир торгового спорта и не заметили, как все сроки возвращения домой истекли. Пора бы и собираться.
Уезжать не хотелось, и в то же время росло раздражение против Славика и его наглой Иришки. И с каждым днем краснодарские Кошки их все более не выносили, причем чувства были взаимными.
Кошки уже были готовы временно сдаться, уехать и готовиться к набегу в будущем году и к очередной попытке оттяпать у Славика часть наследства.
И тут им сказочно повезло. Хотя они это поняли и не сразу.
Появилась ложная Алла.
Краснодарские Кошки волей-неволей стали частью трагической интриги. Естественно, первым и главным желанием их было одно — скорее бежать.
Но предпринятая ими попытка бегства провалилась. Хорошо еще целы остались.
По возвращении их страх за свою шкуру рос с каждой минутой.
И тут они узнали, что Славик оформляет документы о переводе собственности на жену. Что он отдает бандитам часть своего состояния в валюте, а остальные фунты Алла сможет оттяпать, когда захочет.
Если Славик любил свою дочь и из-за нее готов был пойти на жертвы ради нелюбимой Аллы, то краснодарские Кошки не любили никого.
Они боялись не только и не столько за себя, как за недвижимое имущество. Это ведь было их совместное достояние, имущество Кошек.
А как его сберечь?
И тогда из гремучей смеси страха и жадности родился план — убить Славика, и без того ненавистного, готового расстаться с добром ради каких-то душевных ценностей.
Но этого было недостаточно, чтобы пойти на преступление. Должен был существовать более жгучий мотив.
И Лидочка догадалась, что это могло быть. Если Славик умрет, то между ними и наследством останется только несовершеннолетняя Иришка. А раз так, то Кошки могут спокойно остаться в Лондоне и покупать, покупать, покупать…
Виноватыми в смерти Славика будут бандиты. Они схватили его бывшую жену, они его шантажировали, заставили переписать наследство на узурпаторшу, а потом отделались от незадачливого наследника. Как все ясно!
И вот прошлой ночью, пройдя по коридору из своей комнаты в кабинет Славика, они его зарезали. Не важно, кто из них. Но зарезали.
Надо будет проверить, где лежит Славин бумажник и документы. Скорее всего, он окажется у Кошек.
Преступников чаще всего губит именно то, что подталкивает их к преступлению — побудительный мотив. У Кошек таким мотивом была жадность. Она у них безмерна. Ухватив миллион, они никогда не откажутся и от лишнего рубля. Это надо иметь в виду.
Убив Славика, Кошки оказались на рельсах. Сойти с них уже было нельзя.
Но обнаружилось, что они ничего не добились. Алла стояла на пути к богатству, а английская полиция не спешила ее разоблачать.
И тогда захотелось сделать еще один шаг.
Наверное, второе убийство оказалось даже проще первого — благо что трупы относить далеко не пришлось: сарайчик в саду, в двух шагах от дома.
Возникла сложность: вряд ли кого-нибудь убедишь в том, что Аллу убили ее друзья-бандиты.
Но оказалось, что можно убить двух зайцев одним камнем.
Нужна жертва. Убийца.
В доме были две кандидатки на эту роль: Иришка и Лидочка.
Лидочку назначить убийцей трудно. Она чужая. А вот Иришку не только легче сделать подозреваемой, раз уж она принародно грозилась убить Аллу, но и нужно убрать с пути, чтобы овладеть этим хорошеньким домиком и садиком. Посадить бы ее в исправительный дом и потом покупать, покупать… покупать… покупать…
Лидочке тоже отвели роль. Роль громоотвода. Подозрения в том, что убийца — Иришка, должны были исходить от нее. Мы же останемся защитниками родственницы, маленькой дивчины, которая если и убила, то в гневе, а не корысти ради.
Все так просто…
— Миссис Берестоу, — мягко талдычил инспектор, — помогите нам, пожалуйста. Означают ли слова миссис Кошко, что она видела именно этот нож в руках мисс Ирины?
Лидочка автоматически перевела вопрос, чем повергла Валентину в горькое расстройство.
— Уж лучше бы мои глазки вытекли, — возопила толстуха, — чем такое увидеть! Но клянусь вам могилкой моей мамочки, что видела его неясно. Так, мелькнул… Я спрашиваю, что же ты несешь, Ирочка, а она мне говорит, не суйся не в свое дело, тетенька.
Лидочке хотелось, чтобы Слокам услышал эти бесконечные уменьшительные суффиксы, которые Кошки употребляли в своей речи.
Трудно было решиться.
Трудно было начать.
Трудно было заставить себя понять, что грех, который взяли на себя Кошки, куда страшнее, чем все рассуждения Лидочки на тему, хорошо ли доносить на своих знакомых.
— Это неправда, — сказала Лидочка по-русски. А потом повторила по-английски: — Это неправда.
Валентина сжалась от этих слов, словно стала вдвое меньше.
— Сегодня днем ножей на месте не было. Я знаю. Я уверена в этом. Они появились совсем недавно. И повесить их могли только Кошки.
Лидочка переводила собственные слова, и это усложняло ситуацию. Сначала ей приходилось выдерживать ненависть в глазах Кошек, затем недоумение Слокама.
— Небось сама и повесила! — воскликнула Валентина. — Я-то думаю, где ножи? А ты их сперла!
— Нелогично, — возразила Лидочка. — А что же тогда Иришка носила?
Подал голос Василий, так и не вставший из-за стола:
— А может, это не Иришка была, а Лидия.
Слокам обернулся к Лидочке. Он не понимал.
— Зачем кому-то надо было снимать все ножи и уносить их?
— Я думаю, что от жадности, — сказала Лидочка. — Ножи хорошие, новые, а они собрались домой лететь. Сказали бы дома, что купили здесь.
— Не смей говорить по-английски! — взвизгнула Валентина. — Мы не понимаем. Мало ли что ты там наклевещешь.
— Переводить? — спросила Лидочка.
— Как хотите, — ответил Слокам.
Теперь, когда оказалось, что Лидочка с Кошками враги, стало легче. Проще.
— Я думаю, что, если вы осмотрите спальни и сарайчик, там будут отпечатки пальцев… Я переведу.
— Не будет! — ответила Валентина. — Не будет, потому что мы туда и не подходили. А…
— А куда подходили, то таиться нам не было смысла, — закончил за жену Василий.
— Когда я вчера была на чердаке… Я вам говорила, туда кто-то заходил. Кажется, Василий. Он что-то клал…
— Вы вчера были на чердаке? — спросил Слокам Василия.
— Еще бы. Там наши вещи сложены. Наша собственность. Хотите, можете убедиться.
— Не исключено, — сказал инспектор.
Он позвал полицейского и велел ему забрать на экспертизу самый большой нож.
— Иришка его помыла, — напомнила Валентина.
— Если это орудие преступления, — сказал Слокам, — то эксперты обязательно найдут на нем следы крови.
— Тогда правильно, — одобрила Валентина.
Она продолжала играть роль доброй тети.
Слокам вышел из кухни, остановился возле Василия, который буквально обвис на стуле.
— Мистер Кошко, — сказал он, — я попросил бы вас собраться и отправиться в Скотленд-Ярд, где вас допросят в связи со смертью хозяина этого дома мистера Кошко и его так называемой супруги.
— Нет, — сказал Василий. — На это я не согласен.
— Вы можете вызвать адвоката, — продолжал инспектор, а Лидочка переводила.
— Откуда у нас адвокат! — откликнулась с кухни Валентина. — Мы же люди простые, не преступники какие.
— Вам будет предоставлен адвокат, — сказал Слокам. — И официальный переводчик.
— Хоть в этом слава богу, — сказал Василий. — А то ваша Лидия тут наговорила, наклеветала на нас.
Слокам долго уговаривал Кошек, а они все отнекивались, ссылаясь на здоровье. Потом потребовали вызвать нашего родного посла. Слокам дал им слово, что представитель консульства обязательно будет присутствовать на допросе. Тогда Кошки потребовали, чтобы их дело разбиралось дома, в России.
На что Слокам сказал:
— В данный момент вам не предъявлено никаких обвинений. Но вы должны официально рассказать о том, что знаете.
— Значит, вы нас убийцами не считаете, как она говорит? — спросил Василий.
— Мы не можем считать вас убийцами, — гордо ответил инспектор. — В Великобритании степень виновности может установить только суд.
На этом и порешили. Кошки долго собирались, хоть на дворе стоял теплый летний вечер.
По коридору к выходу пронесли носилки с закрытым простыней телом. Лидочка не поняла, кто это.
Потом заглянул уже знакомый эксперт и стал шептаться со Слокамом.
В своей комнате принялись ругаться Кошки, негромко, но яростно. В коридоре были слышны голоса, но слов не разобрать.
Вошел полицейский и доложил Слокаму, что машина для перевозки русских прибыла.
Слокам постучал к Кошкам и сказал, что пора ехать.
Кошки заспорили, и пустые разговоры заняли еще минут десять. Потом они вышли в плащах, словно собирались пробыть тут до морозов. С Лидочкой они прощаться не стали, ушли, отвернувшись.
Слокам, к Лидочкиному удивлению, с Кошками не поехал, а сказал полицейскому, что приедет через полчаса. Потом он обернулся к Лидочке и спросил:
— Что мы ожидаем найти в их комнате?
— А у вас есть ордер на обыск? — спросила Лидочка.
— Я имею на это право. Не беспокойтесь, я не нарушу закона. У меня есть разрешение судьи.
«Ему лучше знать, — подумала Лидочка. — Не мне хватать английского инспектора за руку и кричать о нарушениях закона».
— Ваше присутствие желательно, — сказал инспектор. — Вы можете лучше меня оценить значение тех или иных вещей и документов. Сержант Прайд будет присутствовать при осмотре вещей лиц, причастных к убийствам.
Видно, избавившись от Кошек, Слокам думал потратить на осмотр их комнаты несколько минут, ну, может быть, полчаса. Но он не учел их феноменальной способности аккумулировать вещи.
Комната была по колено завалена сумками, картонными коробками, тряпками, посудой, обувью — это была наша родная барахолка, и в ней Кошки чувствовали себя отлично.
— Я понимаю, почему они решили остаться, — сказала Лидочка. — Они не могли расстаться со своим добром. Месяц напряженной работы! Хотя, наверное, разумнее с их стороны было бы сегодня с утра сесть на самолет и улететь домой. Тогда до них было бы нелегко добраться.
Слокам начал что-то насвистывать. Видно, мама не объяснила ему в детстве, что свистеть в доме опасно — все добро просвистишь.
— Вы же знаете, миссис Берестоу, — возразил Слокам, — что они не уехали, потому что поняли: в случае удачи их плана весь дом остается им. Все деньги. Все! А в удаче своего плана они не сомневались. Если бы преступники реально оценивали последствия, преступлений было бы в пять раз меньше.
— Вы считаете их преступниками?
— Я долго разговаривал с мисс Кошко и ее другом Робертом Ричардсоном. Они не производят впечатления преступников. В них нет действительно сильных чувств, которые можно направить на убийство. Я даже допускаю, что кто-то из них мог убить под влиянием момента. Но как только этот момент прошел, Ирина бы рассыпалась на кусочки.
— А сейчас? — спросила Лидочка.
— Сейчас она… переживает. Хочет на свободу, беспокоится о Роберте. Пожалуй, больше беспокоится о Роберте, чем о судьбе родителей. У меня создалось впечатление, что ее семья была неблагополучной и по-настоящему она не была привязана к родителям. Она несколько лет не видела своего отца, мать видела редко — у родителей была своя жизнь. Поэтому у нее к ним остались скорее отрицательные чувства — обида за то, что ее бросили, что она оказалась им не нужна. А такие чувства не ведут к убийству.
— Если человек нормален, — уточнила Лидочка.
— Ваша Ирина вполне нормальна… Я думаю, что уже сегодня ночью мы отпустим ее домой.
— А Роберта?
— Роберт давно дома. Его забрала мать. Думаю, что она на несколько дней запрет его дома. Решительная женщина. Вы знаете — она болгарка. А болгары — балканская нация. Очень сложные балканские характеры.
— Я знаю, — кивнула Лидочка.
Пока они разговаривали, инспектор и сержант Прайд, цыганистый молодец, вовсе непохожий на стража порядка, быстро, чуть касаясь, перебирали барахло.
— Вы думаете, что эти убийства совершили Кошки? — спросила Лидочка.
— Уверен, что и вы в этом не сомневаетесь. По методу исключения.
— Я догадалась совсем недавно. Уж очень несовместимы эти люди и преступление.
Слокам высыпал на стол содержимое толстого брезентового чемодана.
— А вот у них мотивы и способности к убийству есть, — сказал он. — Корысть. Сильная корысть очень корыстных людей. Им позарез нужны деньги, а мистер Кошко был довольно жаден.
Он и это уже знает? Впрочем, он мог узнать об этом от Роберта или Иришки.
— Целеустремленность, ненависть к богатому родственнику, страх за собственную жизнь — столько всего совместилось, что было бы удивительно, если бы эта бомба не взорвалась.
— Что вы ищете? — спросила Лидочка.
— Порой, осматривая вещи подозреваемого, ты не знаешь, где таится главная улика. Но мы имеем дело с преступниками непрофессиональными и притом очень жадными. Я уверен, что они оставили какие-то следы. Какие — поймем очень скоро.
— Нам надо подняться на чердак, — сказала Лидочка. — Василий там что-то прятал. Он не просто так ходил: ведь света там нет, и он об этом знал, но все равно что-то принес и спрятал.
Слокам продолжал кружить по комнате, чуть касаясь вещей пальцами, даже не всегда беря их в руки.
Вдруг он поднял заткнутый под вещи кожаный бумажник цвета красного дерева с монограммой.
— Это принадлежало мистеру Василию? — спросил он.
— Это Славин бумажник. Он получил его в наследство и очень им гордился.
— Хорошая кожа, — заметил Слокам. — Вы видели его в руках покойного?
— Да, видела. В нем всегда были документы.
— А вот бумаги они выкинули.
Слокам открыл бумажник, заглянул во все кармашки, потом зачем-то понюхал и сказал:
— Она его вымыла. С шампунем. Смешная женщина. И жадная.
Инспектор кинул бумажник своему помощнику и сказал:
— Это мы изымаем.
Он огляделся и подошел к старому пузатому бюро, крышка которого была откинута, и на ней горкой возвышались бумажки, счета, баночки с клеем, карандаши, ластики. Видно, когда-то Слава пытался использовать бюро по назначению.
Слокам принялся быстро открывать многочисленные ящички. В одном почему-то оказались женские трусики, в другом носки, значки, сигаретные пачки… Слокам чуть отодвинул бюро от стены и заглянул в щель.
— Точно, — сказал он радостно, как энтомолог, накрывший сачком редкую бабочку.
За бюро были закинуты разные карточки — телефонные, кредитные, визитные. Солидная пачка.
— Это из бумажника, — сказал Слокам. — Она их выкинула, как совершенно ненужные вещи.
Тем временем Лидочка увидела в углу заваленную тряпками книжку. Она не посмела ее тронуть — это дело инспектора.
— Мистер Слокам! — Лидочка показала на книжку.
— Правильно! — воскликнул инспектор.
— Слава читал Рут Ренделл. Даже говорил мне, что ждет новый ее роман.
Слокам кивнул, двумя пальцами извлек книгу из тряпок и пролистал ее. Легкими лебедями из книги вылетели пятидесятифунтовые банкноты. Новенькие, только что из банка.
Слокам подхватил белую бумажку. На ней — Лидочка смогла разглядеть — были показаны расходы и получение денег в банке.
Прайд собрал банкноты.
— Мистер Кошко хранил деньги в любимой книжке, — сказал инспектор. — Только непонятно, почему они тоже оставили деньги в ней?
— А зачем менять такой хороший сейф? Им же не пришло в голову, что книжка может исчезнуть среди себе подобных…
— Когда есть подобные, — сказал Слокам. — В шкафу с английскими книгами ее не заметишь. В комнате Кошек она единственная.
Он передал книжку с купюрами помощнику, и Прайд, сверкнув зубами, спрятал ее в папку.
— Все пересчитать, — строго приказал Слокам.
Прайд поднял брови.
— Они знали, — сказал Слокам, — что Слава не вернется. Что он не ушел из дома, а погиб. Поэтому они начали конфискацию и не очень беспокоились о том, чтобы прятать вещи. Они уже чувствовали себя хозяевами.
— И все рассуждения об отъезде были ложью, — сказала Лидочка.
— Ну разве они могли уехать от такого земного счастья! — согласился Слокам. — Где деньги растут в книжках — только руку протяни. Я знаю, как буду с ними говорить…
Наверное, следователь не должен рассказывать свидетельнице о том, как намерен вести допрос, но Слокам рассуждал вслух.
— Я поговорю с ними о богатстве и бедности. Я заставлю их снова вдохнуть аромат больших денег, невиданных денег. Они же их так и не вкусили… По-человечески их жалко.
Он опять улыбнулся по-заячьи — очень большой, грузный молодой заяц. Инспектор огляделся и сказал:
— Не буду я тратить времени. Мне достаточно того, что есть. Но чтобы не оставалось и тени сомнения, мне нужен один штрих. Какой?
Слокам посмотрел на Прайда. Тот не знал. Инспектор обернулся к Лидочке.
— Не знаю, — честно призналась она.
— Что он спрятал на чердаке, — сказал Слокам. — Вы не покажете мне, где это произошло?
— Я не уверена. Там было темно, и я спряталась.
— Но по шуму вы поняли, в какой части чердака он возился?
— У вас есть сильный фонарь?
— Прайд, — Слокам обратился к сержанту, — возьмите фонарь и электрическую лампочку. Я полагаю, там просто перегорела лампа, и ее надо заменить.
— Но там вообще нет лампы! — возразила Лидочка. — Я не нашла выключателя. И Василий тоже обошелся без света.
— У нас в Лондоне, — назидательно сказал Слокам, — не бывает чердаков без света… В отличие от России.
Лидочке пришлось принять это заявление без возражений. Когда они поднялись на чердак, сержант Прайд, проявляя удивительную сноровку, уже вставлял новую лампу в патрон, а другой полицейский светил ему сильным фонарем.
Вспыхнул свет.
— Вон там, — сказала Лидочка, показав на коробку из-под телевизора.
Через три минуты Слокам извлек из нее пластиковый пакет, в котором были сложены различного рода ценные мелочи, завернутые в обрывки газеты «Краснодарский край».
— Теперь у меня достаточно материала для серьезного разговора, — удовлетворенно сказал Слокам.
Глава 29
Уезжая, инспектор спросил Лидочку:
— Вы не боитесь оставаться одна?
— Нет, кажется, нет.
— Не боитесь, что бандиты вернутся?
— Скажите, Мэттью, зачем им возвращаться?
— Чтобы взять вас в заложницы, — объяснил грузный зайчик.
— У моего мужа не найдется столько денег, чтобы меня выкупить.
— Они могут назначить скромный выкуп.
— Вы думаете, что они вернулись домой? — спросила Лидочка.
— Не могу сказать, — ответил Слокам. — Если бы я имел дело с англичанами или нигерийцами, то мог бы вычислить логику их поведения. У вас, русских, все не так, как у людей.
— А я думаю, что они улетели, — сказала Лидочка. — У них был резервный ход. Допустим, на поезде и на самолете из Манчестера.
— Ну вот, вы лучше меня все знаете. И я с вами согласен. Я убежден, что ваши неприятные знакомые — часть достаточно большой и серьезной организации, которая может позаботиться о своих членах.
— Но Алла не была профессиональной убийцей…
— Этого мы уже не узнаем, — сказал Слокам. — Мы отправляем фотографии и словесные портреты всех действующих лиц в Москву. Но не рассчитываем на то, что нам будет выражена формальная благодарность.
Лидочка вышла проводить инспектора. Остальные полицейские уже сидели в машине. Было темно. От фонарей, лучи которых причудливо освещали большие цветы, веяло маленькой провинциальной сценой.
— А что будет с Кошками? — спросила Лидочка.
Слокам пожал плечами. Потом сказал:
— Если бы все действующие лица этой драмы были русскими, я бы не стал тратить сил понапрасну. Провел бы допросы и, если бы они не сознались, выслал бы всех подозреваемых из страны.
— Включая меня?
— Не знаю, — сказал инспектор. — Но формально вы для меня ничем не лучше остальных. Хоть вы и помогли мне. Спасибо.
— И что же вас останавливает?
— Неужели вы не поняли? Среди убитых есть английский гражданин, причем состоятельный английский гражданин и налогоплательщик. Мы должны охранять интересы наших субъектов. Тем более если они убиты.
— И что же?
— Никто не будет выслан в Россию. Я заставлю мистера и миссис Кошко сознаться. И не думаю, что это будет очень трудно. Мисс Кошко, вернее всего, возвратится домой и вступит в наследство. По достижении совершеннолетия. У нее есть взрослые родственники?
— Бабушка, мать Славы.
— Ей придется приехать сюда.
— Она давно собиралась… К тому же она — единственный близкий Иришке человек.
Слокам поклонился и направился к машине.
— Простите, Мэттью, — вслед ему спросила Лидочка, — а что же будет со мной?
— У меня нет оснований вас задерживать или высылать.
— Я хочу сегодня же переехать в гостиницу.
— Вы вольны это сделать — конечно, при условии, что оставите мне ваш новый адрес. Но я просил бы вас остаться еще на день-два.
— Зачем?
— Сегодня я отпущу мисс Кошко. Мне не хотелось бы, чтобы девочка вернулась в дом, где все случилось… Я знаю, что миссис Ричардсон готова принять Ирину, а дом будет опечатан. Но я не уверен, что мисс Кошко с ее характером захочет жить у Ричардсонов, имея собственный дом… Хотя я могу ошибаться. В любом случае дождитесь ее.
Машина взвизгнула шинами и резко выскочила на проезжую часть. Так водитель демонстрировал свое нетерпение уехать подальше от этого проклятого русского дома.
Лидочка непроизвольно сделала несколько шагов следом за машиной и отошла от дома.
Она обернулась.
Дом смотрел на нее светящимися окнами.
Слева застекленная дверь — свет из коридора. Справа широкое окно в комнате Кошек, забранное тюлевыми занавесками. Сквозь тюль можно было угадать очертания предметов. Над окном Кошек светилось окно спальни Аллы. Полицейские оставили свет везде.
Вдруг Лидочке показалось, что за занавеской на втором этаже скользнула легкая тень.
Этого не могло быть. Но даже отсюда, с улицы, снова смотреть на это окно не хотелось.
И тут же Лидочка подумала, что в этом нет ничего невероятного.
Геннадий и Эдуард не смогли сегодня улететь из страны. Куда им деваться?
Они подождали в темном саду, пока полицейские не уедут. Потом вошли в дом, поднялись на второй этаж и затаились там.
Когда Лидочка возвратится в дом и запрет дверь, они спокойно войдут на кухню и кто-то из них скажет: «Лидок, ставь чай, пора ужинать». И ты ничего не сделаешь.
В лучшем случае они свяжут тебя и оставят до рассвета на полу, с лицом, замотанным скотчем. В худшем — они тебя ликвидируют, так спокойнее.
«Лидочка, — уговаривала она себя, — не сходи с ума. Это твои расшалившиеся нервы… Ну почему я отказалась от полицейского? Потому что, когда они еще ходили, шумели, собирались уезжать, в доме ничего плохого случиться не могло».
Но сейчас это другой дом. Он во власти живых привидений.
Лидочка сказала себе, надо войти внутрь, позвонить Саше Богородскому, сказать ему, что у нее есть для него бандероль от Андрея, и спросить, не оставит ли он ее ночевать. Глупо — Саша не поймет. А тем более не поймет ее поступка его строгая жена. Нет, надо ехать в гостиницу. Запереть дом и ехать в гостиницу. Но для этого надо войти в дом, подняться к себе на второй этаж, собрать сумку, переодеться… А они уже там, стерегут ее!
Нет, на второй этаж Лидочка подняться не смела.
Она стояла, глядела на освещенные окна. Ничего в них больше не мелькало и не двигалось, но это не означало безопасности.
Ее укусил комар. За две недели в Лондоне ни одного комара не услышала, а тут укусил!
И вдруг из дома послышался звонок телефона.
— Ти-ту, ти-ту, ти-ту…
Телефон звонил чаще и тревожнее, чем в Москве.
Лидочка сделала несколько шагов, но остановилась на пороге, не в силах сделать последний шаг и войти в дом.
Телефон замолк. Лидочка остановилась. Ей хотелось, чтобы он зазвонил снова, но она представляла себе, как там, на втором этаже, затаились — пистолеты в руках — бандиты, ожидая, когда она войдет в дом, чтобы подкрасться сзади и захлопнуть дверь… И все!
Тут телефон зазвонил снова.
Он требовал, чтобы Лидочка вошла в дом. И после седьмого звонка она подчинилась.
Лидочка не стала закрывать за собой дверь, чтобы успеть выскочить из дома.
Она подняла трубку.
— Господи, я думала, что вы все перемерли! — Женский голос говорил по-русски. — Вроде бы вечер у вас, все дома должны быть. Это кто, Валентина?
— Нет, это Лидия. Лидия Кирилловна.
— Лидочка, тебя Марксина Ильинична беспокоит. Ты меня помнишь? Я бабушка Иришки.
«Господи, этого еще не хватало! Что я ей скажу?»
— Здравствуйте, Марксина Ильинична.
— А где Слава? Чего не подходит?
— Их с Иришкой нет дома, — сказала Лидочка часть правды.
— Жалость какая! А я, получается, зазря позвонила. Вы не представляете, Лидочка, как дорого стоят международные разговоры. Это сплошное разорение! И хоть я скучаю по Иришке, но не могу себе позволить с ней разговаривать. Поэтому я вас попрошу, пускай Славик, как придет, позвонит мне.
— Может, ему что-то передать? — осторожно спросила Лидочка и тут же осеклась. Что ее тянуло за язык?
— Я тебе только в двух словах скажу — только в двух словах. У нас несчастье, просто не знаю, как подготовить Иришку, она такая эмоциональная. Так что, пожалуйста, ей ни слова. Пускай Славик ее подготовит. Нет больше с нами нашей Аллочки. Погибла наша Аллочка.
— Как погибла? — упавшим голосом спросила Лида. Она знала, что Марксина Ильинична скажет ей именно это, но все равно еще одна смерть после всех смертей… Это слишком.
— Значит, пускай мне Славик перезвонит. У вас погода хорошая? А у нас дожди, не представляете, какие дожди, всю неделю без перерыва.
— А как погибла… — Но Марксина Ильинична уже повесила трубку.
Лидочка стояла, опустив руку с зажатой в ней трубкой.
Никогда Славик не позвонит маме… И ей скоро предстоит лететь в Лондон… Где его будут хоронить? Может, ей надо уже собираться… «Что за чепуху я думаю, это же меня не касается. А кого касается?»
И тут Лидочка всей спиной почувствовала, как в дверь с улицы кто-то медленно и осторожно вошел.
Она сжалась, сгорбилась — или ей это только показалось?
Лидочка ожидала удара, все самые страшные страхи исполнялись.
— Миссис Лида, — сказал сзади робкий молодой голос.
Лидочка резко обернулась.
В дверях стоял Роберт Ричардсон. Худой, нескладный, умеренно прыщавый, хорошо воспитанный мальчик из английской во втором поколении семьи.
— Я вас не испугал? — спросил он.
— Нет, — сказала Лидочка. — То есть сначала испугал, а теперь, когда я вижу, что это ты, мне сразу стало легче.
— Я не могу дома сидеть, — сказал Роберт. — Мама разрешила мне пойти к вам. Она не все знает, мы с Иришкой ей всего не говорили, потому что она бы страшно испугалась. Как вы думаете, Иришку они отпустят?
— Совершенно точно отпустят, — успокоила Роберта Лидочка.
— Я так обрадовался, что свет горит. Я боялся, что они дом запрут и в него до суда нельзя будет войти. Я решил — буду на улице ждать. Хоть всю ночь.
— Спасибо тебе, — сказала Лидочка. — Ты — молодец. Инспектор Слокам сказал, что отпустит Иришку уже сегодня. И ее привезут домой. Поэтому я здесь и осталась. Кофе хочешь?
— Очень хочу, — признался Роберт.
— Тогда закрывай дверь.
Роберт закрыл дверь. Лидочка прошла в столовую. На круглом столе стояли пустые чашки. Остались еще от Кошек.
Лидочка включила газ и поняла, что дом ожил. Перестал быть страшным.
— Я скажу тебе, только ты не смейся, — обернулась Лидочка к Роберту. — Я боялась в дом войти. А вдруг там наверху…
— Привидения? — подсказал Роберт.
— Нет, бандиты.
— Ну, они не такие глупые.
— А чем этот дом для них хуже любого другого места?
— Наверное, вы правы. Мне хорошо рассуждать, я в стороне. А правда, что это вы трупы нашли?
— Да, к сожалению, это я.
— Наверное, это страшно!
— Не знаю, страшно ли, но очень неприятно.
— Так не бывает, — сказал Роберт. — А их убили бандиты?
— Вернее всего, мистера Кошко и ту женщину…
— Говорите, пожалуйста, Иришка не имеет от меня тайн.
— Вернее всего, их убили Василий и Валентина.
— Нет, этого быть не может! Они совершенно безвредные.
— Они очень жадные. Это их главное качество.
— Их арестовали?
— Они в Скотленд-Ярде. Они хотели получить наследство. И боялись, что все отнимут бандиты.
Роберт присел за стол.
— Мне надо подумать, — сказал он. — Это все слишком неожиданно. А Иришка знает?
— Наверное, ей скажут. Ты посиди здесь, посмотри за чайником. А я поднимусь на минутку наверх.
Лидочка думала, что ей будет совсем не страшно. Но оказалось, что все-таки страшно. Наверху было пусто, гулко, будто оттуда увезли всю мебель. Лидочка заставила себя по очереди заглянуть во все комнаты: к себе, к Иришке и к Алле.
Никаких следов бандитов не было.
Лидочка пошла в ванную помыть руки — она чувствовала себя нечистой.
Потом она спустилась в столовую.
Роберт стал рассказывать о том, как он был в Гэтвике и как они с полицейскими обходили аэропорт в поисках бандитов. И потом их даже пустили к самолетам. Роберт стоял на летном поле возле трапа, по которому поднимались пассажиры, а рядом стояли двое полицейских, как в настоящем триллере. Он должен был опознать преступников. Как жалко, что они не попались! А потом он узнал, что Иришку увезли в Ярд. Почему она не возвращается?
— Думаю, что у нее будет что-то вроде очной ставки с ее родственниками.
— Нет, — твердо заявил Роберт. — У нас так не бывает. Иришке нет шестнадцати. Она несовершеннолетняя, ее не могут допрашивать поздно вечером. Совершенно исключено.
— Значит, она скоро приедет.
Снова зазвонил телефон. На этот раз Лидочка уже не боялась.
Звонил Андрей, ее муж. Он ничего не знал, и ему не надо было знать. А то он примчится в Лондон спасать свою Лидию. Но Лидочку обрадовал этот звонок — он был обычным сигналом из нормального мира.
Когда Лидочка возвратилась в столовую и они стали пить кофе с сухим печеньем, Роберт сказал:
— Надо будет вам с Иришкой нормально питаться. А то у них тут какой-то сумасшедший дом. Хорошо еще моя мама иногда кормила Иришку.
— Наверное, скоро приедет ее бабушка, — сказала Лидочка.
Тут они услышали, что к дому подъехала машина.
Машина взвизгнула тормозами и шуршнула шинами — конечно, это были полицейские. Во всех странах мира они ездят немного более рискованно, чем обычные водители.
Вошла Иришка. Она улыбалась.
За Иришкой шел молодой полицейский.
— Я могу быть спокоен за судьбу и здоровье мисс Кошко? — строго спросил он.
— Совершенно! — успокоила стража порядка Лидочка.
— Спасибо, Джонни, — сказала Иришка и тут же, забыв о нем, кинулась к Лидочке.
Не к Роберту — ведь она еще была девочкой, — а к взрослой тете, которая должна была заменить ушедший мир и защитить ее от страшных призраков.
Лидочка прижала ее к себе и гладила по мягким, теплым волосам.
— Какое счастье, что вы не уехали, — сказала Иришка.
— Давай с нами кофе пить, — сказала Лидочка. — Ты не боишься наверх идти?
— Нет, не боюсь, — улыбнулась Иришка. — Я, честно говоря, устала бояться.
Пока они пили кофе, Лидочка не стала говорить о звонке Марксины Ильиничны.
Разговор был странным. Иногда он вспыхивал, когда Иришка с Робертом по-детски вспоминали, как они ловили бандитов в аэропортах или как Иришка была в Скотленд-Ярде. Потом, когда все спохватывались, что сидят в доме, два обитателя которого погибли, а двое упрятаны в английскую тюрьму, разговор умирал, и становилось неловко говорить громко или улыбаться.
Потом Иришка вдруг сказала, что хочет спать.
Роберт предложил остаться в доме, но Иришка его выгнала — твоя мама с ума сойдет, в каком ты доме! Ведь уже завтра они обо всем узнают, и в газетах обо мне напишут. Это ужасно!
— Мы запремся, — успокоила юношу Лидочка.
Пока Иришка провожала Роберта, снова зазвонил телефон. На этот раз звонил Мэттью Слокам.
— Доехала ли мисс Ирина?
— Да, все в порядке!
— Вам не страшно?
— Мы постараемся пережить…
— Я не отказываюсь от своего предложения прислать к вам полицейского.
— Пускай он спит дома.
— Тогда спокойной ночи.
— Вы разговаривали с Кошками?
— Пускай они переночуют в камерах. Причем отдельно. Начнется рабочий день, мы начнем разговор. Надо соблюдать трудовое законодательство. Что еще у вас нового?
— Звонила бабушка Ирины, — сказала Лидочка, глядя, как Иришка запирает входную дверь на засов и поворачивает ключ.
— Вы ей сказали, что произошло?
— Я ничего не смогла ей сказать. Я испугалась.
— Она не сказала, жива ли настоящая мать девочки?
— Сказала.
— Понимаю. Вы не готовы произнести это вслух. Тогда я сам спрошу: ее убили?
— Да, но я не знаю подробностей.
Иришка обернулась. Она поняла, о чем Слокам спрашивал Лидочку.
Девочка заплакала. Сквозь слезы она сказала, что уже знала, что ее мамы нет. Конечно, они ее убили. И потом стала ругать Лидочку за то, что она сама не сказала бабушке о смерти отца и аресте краснодарских Кошек. Ведь все равно бабушка прилетит сюда. А из-за Лидочкиной трусости Иришке придется с утра звонить в Москву и рассказывать бабушке страшные новости.
Потом, наплакавшись вдоволь, Иришка сказала, что будет спать только с Лидочкой.
Они уснули, обнявшись, на Лидочкиной кровати. Ночью Иришка плакала, вскрикивала, вертелась, совсем не давала Лидочке спать — а спать той хотелось смертельно. Будь другой день и другие события, она бы выгнала Иришку из кровати.
Глава 30
Утром они встали рано. Солнце было безжалостно ярким. Все в доме напоминало о трагических событиях — от ножей (без самого большого), что висели над кухонным столом, до разора в комнате Кошек, пятен крови в спальне Аллы, брошенного на диване Славы одеяла. Даже открытая дверца в садовом сарайчике вызывала желание ее захлопнуть. Иришка долго стояла под душем, потом вышла — голова замотана полотенцем — и решительно сказала:
— Я пойду звонить бабушке. Чем скорее она приедет, тем лучше.
— Я тебе нужна? — спросила Лидочка.
— Пока бабушка не приедет, вы никуда отсюда не двинетесь, — решительно заявила Иришка. За ночь она повзрослела на несколько лет. У нее началась новая жизнь, в которой она будет распоряжаться людьми и не даст никому командовать собой.
Иришка набрала московский номер. Лидочка поняла, что не хочет слышать разговора. Она ушла на кухню и принялась мыть посуду. Она не спешила. Иришка вошла минут через пять.
— Можете закрыть воду, — сказала она, не скрывая иронии. — Бабушка приедет. Она вылетает завтра, если достанет билет. Пожалуйста, сходите на почту, отправьте ей телеграмму о смерти папы. Для билетов и визы. И позвоните Слокаму, узнайте, не нужно ли извещение из Скотленд-Ярда.
— Как она приняла смерть Славы?
— Она в ужасе, — сказала Иришка. — Неужели это могло случиться в Англии? Значит, нигде нет порядка. У нее в голове нет деления на события важные и не важные. Вы меня понимаете?
— Понимаю. Ты спросила о своей маме?
— Ее нашли под Москвой, ее сбила машина. В общем, вы приедете в Москву и все узнаете. Все равно виноватых не найдут. Я продам дом, а деньги проиграю в рулетку.
— Тебе надо встретиться с Питером, вашим адвокатом, — сказала Лидочка.
И тут снова зазвонил телефон. Это был инспектор Слокам.
— Мистер Кошко дает искренние показания, — сказал он, поздоровавшись. — А миссис Кошко показания давать отказывается. Не правда ли, это забавно? Что же случилось с настоящей миссис Кошко?
— Звонили из Москвы, — сказала Лидочка. — Мать Ирины убита. Формально погибла в автомобильной катастрофе.
— Мерзавцы! — сказал Слокам. — Передайте девочке мои соболезнования. Это больше, чем может выдержать человек.
— Вы правы, — согласилась Лидочка.
— Кстати, — сказал инспектор, — в Манчестере при посадке в самолет задержаны два джентльмена, которые подходят под описание бандитов. У них были словацкие паспорта. Оба заключены под стражу. Пока им предъявлено обвинение в незаконном проникновении в страну и попытку выехать по подложным документам.
— Но их не отпустят под залог?
— Мы постараемся, чтобы их не отпустили. Я сделаю все, от меня зависящее. Я очень надеюсь, что банда, которая все это организовала, понесла большие потери и обожглась на случае с Кошко. Вам с Ириной придется дать показания по поводу этих джентльменов и опознать их. Вам страшно?
— Нет, — сказала Лидочка. — Мне не страшно. Я их ненавижу.
Иришка слышала разговор и откликнулась от двери:
— Мне тоже не страшно. Так и скажите. И скажите, что они сильные, пока мы их боимся.