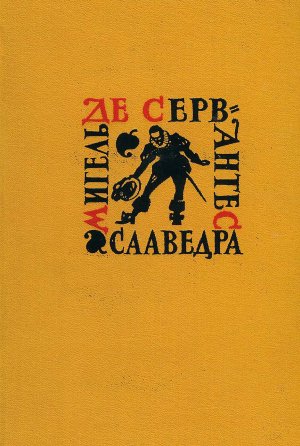
Мигель де Сервантес Сааведра
Собрание сочинений в 5 томах
Том 4
Назидательные новеллы. Послание к Матео Васкесу. Галатея. Путешествие на Парнас. Драматические произведения.
НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ
Обманная свадьба
— Что я вижу, господин поручик Кампусано? Неужели вы живете здесь, в нашем городе? А я, честное слово, думал, что вы во Фландрии и уж, конечно, работаете там пикой, а не волочите по родной земле свою шпагу. Что означает ваша бледность и расслабленность?
Кампусано на это ответил:
— В вашем ли я городе или нет, сеньор лиценциат Перальта, вы можете решить сами, так как вы меня здесь видите, а на другой ваш вопрос могу ответить, что я иду прямо из госпиталя, где только что «потел» от жестоких последствий дурной болезни, которою наградила меня женщина, взятая мною в жены, ну, а связываться с нею мне, конечно, не следовало.
— Так вы, значит, женились? — осведомился Перальта.
— Да, — отвечал Кампусано.
— Должно быть, дело это началось с любовных проказ, — заметил Перальта, — а такие браки неизбежно приводят к раскаянию.
— Не знаю, стоит ли тут говорить о проказах, но женился я во всяком случае себе на горе, ибо от брака этого или, вернее, от докуки моей много терзаний претерпели душа и тело; и если от борьбы с телесными недугами сошло с меня сорок потов, то от духовных страданий не нашел я ни одного облегчающего средства. Однако простите меня, ваша милость, я не в состоянии вести долгую беседу на улице; как-нибудь в другой раз я с большим удобством изложу вам свои приключения, где попадаются такие необычайные и странные вещи, какие вашей милости вряд ли приходилось слышать.
— Нет, дело нужно устроить иначе, — сказал лиценциат, — вы должны сейчас отправиться ко мне и закусить чем бог послал; óлья[2] больному повредить не может, и хотя ее было заказано на двоих, слуге моему достаточно будет и пирога. Если же состояние здоровья вашего позволит, мы сдобрим óлью несколькими кусками рутской ветчины, а главное — искренним расположением, с каким я все это предлагаю, и не только сейчас, но и всегда, когда будет угодно вашей милости.
Кампусано поблагодарил и принял приглашение. Они сходили к Сан Льоренте, прослушали мессу, затем Перальта повел знакомца к себе домой, угостил, как обещал, еще раз повторил, что всегда будет рад ему служить, и по окончании еды пожелал узнать про события, которыми так прихвастнул военный.
Кампусано не заставил себя просить и начал рассказ следующим образом:
— Вы, конечно, хорошо помогите, сеньор лиценциат Перальта, что в этом самом городе я снимал комнату вместе с капитаном Педро де Эррера, находящимся ныне во Фландрии?
— Отлично помню, — ответил Перальта.
— Так вот однажды, — продолжал Кампусано, — когда мы заканчивали нашу трапезу в гостинице на улице Ла Солана, где мы проживали, туда вошли две по виду знатные женщины с двумя служанками. Одна из них, прислонившись к окну, стала беседовать с капитаном, другая села в кресло рядом со мной, опустив покрывало до самого подбородка и показывая лицо лишь настолько, насколько позволяла прозрачность ткани. Хотя я учтиво просил ее об одолжении откинуть покрывало, уговорить ее было невозможно, и это еще сильнее разожгло мое желание ее увидеть.
Как бы для того, чтобы желание это возросло еще больше, сеньора (не знаю, умышленно или случайно) высвободила из-под плаща одну руку, очень белую и с отличными перстнями.
Был я тогда весьма наряден, в большой цепи, которую ваша милость, должно быть, видели, в шляпе с перьями и с дорогим убором, в костюме ярких цветов — как полагается солдату, а неразумие мое мне нашептывало, что я ферт фертом и что мне сам черт не брат.
И вот я просил ее откинуть плащ, а она на это ответила:
«Оставим это. У меня свой дом; ваш слуга может сходить следом за мной и узнать, где я живу; хотя я гораздо серьезнее, чем можно подумать на основании такого ответа, мне хочется все же посмотреть, такой ли вы умница, как и щеголь, а поэтому я буду очень рада, если вы меня навестите».
Я рассыпался в благодарностях за оказанную мне великую честь и, чтобы не остаться в долгу, посулил ей золотые горы. Капитан окончил беседу, дамы ушли, и один из моих слуг отправился следом за ними.
Капитан сообщил мне, что дама просила его передать несколько писем во Фландрию другому капитану, который, по ее словам, приходился ей двоюродным братом, тогда как товарищ мой знал, что то был ее возлюбленный.
Белоснежные ручки, увиденные мной, зажгли во мне пожар; я умирал от желания взглянуть на лицо незнакомки. На следующий день слуга провел меня, и меня беспрепятственно впустили. Я увидел отлично обставленный дом и женщину лет тридцати, которую узнал по рукам. Необычайно красивой она не была, но была красивой в такой мере, что при знакомстве можно было в нее влюбиться, ибо голос ее отличался столь нежным тоном, что через уши проникал до самой души.
Пошли у меня с нею долгие любовные речи: я хвастал, сочинял, привирал, предлагал, обещал и делал все, что находил нужным для того, чтобы ей понравиться, а так как она, очевидно, привыкла слушать такие, а то, пожалуй, и более лестные речи и предложения, то показалось мне, что она только из любезности преклоняла к ним слух, но не придавала им особенной веры. Одним словом, беседы наши за несколько дней постоянных посещений проходили больше в «цветочках», и все не удавалось сорвать «ягодку», которой хотелось.
За то время, что я ее навещал, я ни разу не видел в доме посторонних: не появлялось там ни подставных родственников, ни настоящих друзей дома. Ей прислуживала одна девушка, скорей продувная, чем простушка.
И вот, поступая в любви как солдат, которому завтра нужно в поход, я стал осаждать донью Эстефанию де Кайседо (это имя той, что довела меня до нынешнего состояния), и она сказала мне следующее:
«Господин поручик Кампусано, было бы глупо с моей стороны выдавать себя за святую: грешницей я была и теперь ею являюсь, но не такой все же грешницей, чтобы обо мне судачили соседи и осуждали люди со стороны. Ни от родителей своих, ни от родственников я не получила никакого наследства, а между тем обстановка моего дома стоит добрых две с половиной тысячи эскудо, и все это в вещах, которые, если продать их с торгов, так же нетрудно обратить в деньги, как сказать, что они продаются. Имея такое состояние, я хочу найти себе мужа, чтобы поручить ему себя и во всем его слушаться; я обещаю ему исправить свое поведение, а также служить и угождать ему с величайшим старанием, ну а более искусного повара, умеющего так приправить жаркое, как это делаю я, когда захочу показать себя хозяйкой и возьмусь за дело, и у иного князя, пожалуй, не сыщешь! В доме я веду себя что твой дворецкий; на кухне я кухарка, в комнатах — сеньора; я умею приказать и умею сделать так, чтобы меня слушались. Деньгами я не сорю, а откладывать умею много; когда по моему указанию тратится реал, стоит он не меньше, а, пожалуй, побольше реала. Белье, какое у меня есть, — а его у меня много, и хорошего, — не покупала я ни в лавках, ни у торговцев, а пряла сама со своими служанками, и если бы можно было дома ткать, то и соткали бы сами. Я сама произношу себе похвалы и не вижу в этом ничего позорного, ибо это вызывается необходимостью; одним словом, я хочу сказать, что ищу себе мужа для того, чтобы он меня защищал, распоряжался мною и приумножил мою честь, а не любовника, который бы только ухаживал и ронял мое доброе имя. Если вашей милости угодно принять мое предложение, я во всем пойду вам навстречу и подчинюсь всем, вашим приказаниям, но я ни в коем случае не стану „продавать себя с торгов“, а ведь к этому сведется дело, если мы обратимся к сватам, да к тому же лучшего свата, чем сами заинтересованные стороны, для окончательного соглашения не сыщешь».
Так как разум у меня находился в то время не в голове, а где-нибудь под пяткой, предстоящее блаженство рисовалось мне еще заманчивее, чем подсказывало воображение, а размер состояния обозначался с такой очевидностью, что я мысленно уже переводил его на деньги. Уступив мыслям, которые нашептывала мне жажда наслаждений (а она набросила на мой ум свои путы), я объявил даме, что, поскольку небо чудесным образом посылает мне такую спутницу жизни, я почту за великую удачу и счастье сделать ее госпожой души моей и моего состояния, которого, несмотря на всю его скромность, наберется вместе с шейной цепью, драгоценностями, находящимися у меня дома, и с тем, что можно будет выручить от продажи моих военных нарядов, больше, чем на две тысячи дукатов. Если соединить их с ее двумя с половиной тысячами, получится сумма, достаточная для того, чтобы удалиться на житье в деревню, откуда я был родом и где была у меня кой-какая недвижимость; прибавив ее к деньгам, мы составим такой капитал, что при условии своевременной продажи урожаев нам будет обеспечено приятное и беспечальное существование.
Итак, в этот день мы порешили, что вступим в брак, и уговорились о том, каким образом следует законно установить свое холостое состояние: три праздничных дня, случившихся подряд, были употреблены на оглашение, а на четвертый день мы повенчались.
На свадьбу пришли двое моих знакомых и еще один юноша, которого донья Эстефания назвала своим двоюродным братом. Я обошелся с ним по-родственному и обратился к нему с самыми учтивыми словами; впрочем, надо сказать, что только такие слова и слышала от меня тогда моя супруга. Делалось все это с умыслом, и таким коварным и нечистым, что хочу я о нем умолчать, ибо, конечно, говорю я вам всю правду, но все-таки не так, как на исповеди, когда ничего пропускать не полагается.
Слуга перенес мой сундук из гостиницы в дом моей жены. На ее глазах я положил туда свою чудесную цепь, показал ей еще три-четыре цепи, не таких больших, но зато более тонкой работы, а также несколько шляпных уборов разных фасонов; я разложил перед ней свои наряды и страусовые перья и вручил ей для расходов по дому около четырехсот реалов.
Шесть дней вкушал я от радостей медового месяца; хозяйничал так, «как поганый зять в доме богатого тестя», ступал по роскошным коврам, спал на голландском полотне, светил себе серебряными подсвечниками, завтракал в постели, вставал в одиннадцать, закусывал в двенадцать, а в два часа справлял сьесту в гостиной, где донья Эстефания с прислужницей наперерыв старались мне угодить.
Слуга мой, который ранее отличался леностью и неповоротливостью, вдруг обратился в резвого оленя.
Если доньи Эстефании хотя бы минуту не было подле меня, это значило, что она находится на кухне и вся ушла в приготовление рагу, которое должно было оживить мой вкус и возбудить аппетит.
Мои рубахи, воротники и платки превратились в цветники Аранхуэса: так они благоухали от опрыскивания ангельской и апельсинной водой[3], проливавшейся на них в изобилии.
Дни эти не прошли, а пролетели так, как летят годы, покорные непреложному течению времени. Увидев, что меня так холят и пестуют, я стал менять в эти дни дурное намерение, с которым начал было это дело, на хорошее. Однако к концу этих дней раздались однажды утром (когда мы с доньей Эстефанией были еще в постели) сильные удары в наружную дверь.
Служанка выглянула в окно, тотчас же отошла от него и сказала:
«А, добро пожаловать! Но скажите, как же это она приехала раньше, чем на днях нам в письме писала?»
«Что это за особа приехала, девушка?» — спросил я.
«Кто приехал? — отвечала она. — Это сеньора донья Клемента Буэсо, а с ней вместе сеньор дон Лопе Мелендес де Альмендарес с двумя слугами и дуэнья Ортигоса, которую она брала с собой».
«Беги, девушка, и открой им, пожалуйста, — проговорила в это время донья Эстефания, — а вы, сеньор, если меня любите, не волнуйтесь и не вступайтесь за меня, что бы вы тут ни услышали».
«Да кто же посмеет говорить оскорбительные для вас вещи, особливо когда здесь присутствую я? Объясните, кто эти люди; я вижу, прибытие их вас взволновало!»
«Сейчас не время объяснять, — сказала донья Эстефания, — заметьте однако: что бы тут ни произошло, все это делается нарочно и имеет в виду определенное намерение и цель, о которых вы узнаете позже».
Я хотел было возразить ей, но мне помешала это сделать сеньора донья Клемента Буэсо, вошедшая в залу в платье из тисненого зеленого атласа со множеством золотых позументов, в плаще из той же материи с зеленой отделкой, в шляпе с желтыми, белыми и красными перьями, украшенной богатым золотым убором, причем половина лица ее была закрыта тонкой вуалью. С нею вместе появился сеньор дон Лопе Мелендес де Альмендарес в пышном и богатом дорожном наряде.
Первой заговорила дуэнья Ортигоса, воскликнувшая:
«Господи Иисусе, что я вижу? Ложе госпожи моей, доньи Клементы, занято, да к тому же еще мужчиной! Чудеса творятся сегодня в этом доме! Поистине, сеньора донья Эстефания хватила через край и злоупотребила дружбой моей госпожи».
«Попомни мое слово, так оно и есть, Ортигоса, — произнесла донья Клемента, — впрочем, я сама во всем виновата; боюсь, как бы мне не пришлось раскаяться в выборе подруги, вошедшей ко мне в доверие тогда, когда это ей показалось выгодным».
На эти слова донья Эстефания ей ответила:
«Не сердитесь, сеньора донья Клемента, и помните, что во всем происходящем есть некоторая тайна, а когда вы ее узнаете, я уверена, вы не станете винить меня и гневаться больше не будете».
В это время я уже надел штаны и камзол. Донья Эстефания взяла меня за руку, вывела в другой покой и там открыла, что подруга ее желает одурачить дона Лопе, который прибыл вместе с нею и которого она наметила себе в мужья; что вся штука в том, чтобы убедить его, будто этот дом и вся обстановка принадлежат ей, и сделать вид, будто это — ее приданое. Если брак будет заключен, донья Клемента не побоится огласить свой обман, так как она уверена в безграничной любви дона Лопе.
«Добро мое тотчас же отойдет ко мне обратно, и никто, конечно, не поставит в вину ни ей, ни всякой другой женщине, подыскивающей себе хорошую партию, что она готова ради этого сплутовать», — закончила донья Эстефания.
Я возразил ей, что она чересчур далеко заходит в своей дружбе и что дело это следует тщательно обдумать, а иначе ей придется, чего доброго, обращаться к суду для получения обратно своего имущества.
В ответ на мои слова она привела столько доводов и столько всевозможных обязательств, вынуждавших ее быть к услугам доньи Клементы в самых серьезных делах, что я — правда, неохотно и вопреки голосу разума — должен был уступить желанию доньи Эстефании, а она стала уверять меня, что комедия эта продлится только неделю, которую мы проведем в доме одной ее знакомой.
После того как мы окончательно оделись, донья Эстефания пошла проститься с сеньорой Клементой Буэсо и сеньором Лопе Мелендес де Альмендарес, а я, велев слуге забрать наш сундук и идти следом за женой, покинул дом, ни с кем, разумеется, не прощаясь.
Донья Эстефания вошла в дом своей приятельницы и перед тем, как впустить меня, долго разговаривала с нею наедине; после этого появилась служанка и сказала, что я и мой слуга можем войти. Она провела нас в тесную комнату с двумя кроватями, стоявшими так близко, что казалось, будто это одна кровать: промежутка между ними; не было и простыни их касались друг друга.
Мы прожили там шесть дней, и за все время у нас часу не проходило без ссоры, причем я доказывал жене, что оставлять свой дом и имущество глупо; глупо даже тогда, когда делается это для родной матери.
Каждую минуту я снова твердил ей то же самое, так что однажды наша хозяйка в отсутствие доньи Эстефании, заявившей, что она пойдет посмотреть, в каком положении находится дело, пожелала выведать у меня причину моих неладов с женой и понять, какую такую вещь она сделала, чтобы ее так попрекать и говорить, что «это, мол, беспримерная глупость, а не какая-то там сердечная дружба». Я изложил ей все по порядку, и когда я начал рассказывать, как я обвенчался с доньей Эстефанией, какое приданое она принесла с собой и как неразумно предоставила свой дом и имущество донье Клементе, желая помочь ей заполучить такого родовитого мужа, как дон Лопе, хозяйка моя стала часто призывать имя божие и так часто креститься и бормотать: «Господи Иисусе, ну и женщина», что повергла меня тем в большее смущение.
Потом она сказала:
«Сеньор поручик, вряд ли я поступлю против совести, если открою вам вею правду: могу я, конечно, и промолчать, но на душе у меня будет неспокойно. Ну, будь что будет: да здравствует истина, и да сгинет обман! Дело, в том, что законной собственницей дома и имущества, принесенного вам в приданое, является донья Клемента Буэсо; все, что вам рассказала донья Эстефания, — ложь, ибо нет у нее ни денег, ни имущества, нет даже другого платья, кроме того, что на ней надето; время и место для этого обмана нашлось потому, что донья Клемента отправилась навестить своих родственников в город Пласенсью и ездила на богомолье к Гуадалупской божьей матери. Присмотр за своим домом она поручила донье Эстефании, которая действительно ее большая приятельница; за всем тем, однако, если здраво рассудить, не приходится строго взыскивать с бедной женщины, сумевшей залучить себе в мужья такую особу, как сеньор поручик».
Этим она закончила свою речь, а я едва не впал в жестокое отчаяние, и так бы оно, конечно, и было, если бы хоть на ничтожную толику пренебрег мой ангел-хранитель делом моей охраны и не поспешил шепнуть моему сердцу, что я христианин и что величайшим грехом для человека является отчаяние, ибо это есть грех дьявольский.
Эта мысль или, вернее, счастливое озарение меня несколько успокоило, но не настолько, однако, чтобы помешать мне схватить свой плащ и шпагу и отправиться на поиски донья Эстефании с намерением учинить над ней примерную расправу; впрочем, случайность, — про которую не смогу сказать, ухудшила ли она или улучшила мое положение, — сделала так, что ни в одном из тех мест, где я думал повстречать донью Эстефанию, ее не оказалось.
Я отправился в Сан Льоренте, помолился богоматери, сел там на скамью, и от тоски напал на меня такой тяжелый сон, что, если бы меня не разбудили, я бы не скоро проснулся.
Полный раздумья и уныния, я направился к жилищу доньи Клементы и увидел, что она тихо и спокойно владеет своим добром; я не посмел сказать ей ни слова, ибо тут же стоял дон Лопе. Я вернулся домой и узнал от хозяйки, что она уже рассказала донье Эстефании про то, как мне стало известно про ее обман и хитрость. Донья Эстефания, оказывается, справилась, какой у меня был вид при этом известии, и узнала, что вид был очень плохой и что я отправился искать ее с недобрыми намерениями и мыслями; в заключение хозяйка сказала, что донья Эстефания забрала с собой все, что было у меня в сундуке, оставив мне только дорожное платье.
Минута была ужасная; и снова удержал меня бог своею рукой; я пошел взглянуть на сундук и увидел, что он открыт и пуст, как могила, ожидающая тела покойника; мне, несомненно, пришел бы тогда конец, если бы в ту минуту у меня хватило сил осознать и почувствовать столь великое несчастье.
— Еще бы не несчастье, — произнес лиценциат Перальта, — ведь сеньора Эстефания унесла с собой целый ворох цепей и шляпных уборов; все мы отлично знаем пословицу: были бы деньги, а с ними всякое горе стерпится.
— Пропажа эта меня нисколько не огорчила, — возразил поручик, — я ведь тоже могу сказать: «Решил наш дон Симуэке, что подсунул мне кривую дочку, а я, ей богу, — сам кривобокий».
— Не понимаю, в каком смысле вы употребили эту поговорку, — заметил Перальта.
— А в том смысле, — ответил поручик, — что весь мой ворох цепей, уборов и украшений стоил всего-навсего десять — двенадцать эскудо.
— Не может быть! — воскликнул лиценциат. — Ведь в той цепи, которую вы носили на шее, золота было не меньше, чем на двести дукатов.
— Да, пожалуй, если бы только ее достоинство соответствовало видимости, но «не все то золото, что блестит»: цепи, уборы, драгоценности и украшения были просто-напросто из латуни, но сделаны так хорошо, что разве только пробный камень или огонь могли бы обнаружить подделку.
— Итак, — произнес лиценциат, — про вашу милость и сеньору Эстефанию можно сказать: «Вор у вора дубинку украл»?
— Украсть-то украл, — ответил поручик, — но собственно не грех было бы начать сначала. Вот что плохо, сеньор лиценциат: она сумела, конечно, разделаться с моими цепями, а вот мне от лживости ее нрава нелегко: что там ни говори, а она все-таки — моя избранница.
— Возблагодарите господа, сеньор Кампусано, — сказал Перальта, — что избранница ваша оказалась с ногами и ушла от вас сама и что вы не обязаны ее разыскивать.
— Так-то оно так, — заметил поручик, — а из головы она у меня не идет, хотя сам я ее не ищу: где бы я ни находился, а обида всегда со мной.
— Не знаю, что вам на это сказать, — произнес Перальта, — разве напомнить двустишие из Петрарки, гласящее:
что в переводе означает: «Кто имеет привычку обманывать и находит в том удовольствие, тот не должен пенять на человека, который обманет его самого».
— Я и не пеняю, я о себе самом сокрушаюсь, — возразил поручик. — Ведь от одного сознания своей вины виновный не перестает еще чувствовать боль наказания. Отлично понимаю, что хотел обмануть, и обманутым оказался сам, и что побили меня моим же собственным оружием, но я не могу в такой мере владеть своими чувствами, чтобы не пожалеть самого себя. Итак, чтобы подойти к самому главному в этой истории (изложенные мною события вполне уместно назвать историей), добавлю следующее. Я узнал, что донью Эстефанию увез ее двоюродный брат, который, как я уже упоминал, присутствовал при нашем браке и который уже с давних пор был ее другом во всех обстоятельствах жизни. Разыскивать ее я не стал, не желая навлекать на себя новых бед. Я переменил место своего жительства, а немного дней спустя пришлось переменить и «шерстку»: стали у меня выпадать брови и ресницы, а затем мало-помалу выпали все волосы, и сделался я раньше времени лысым, ибо объявилась у меня болезнь, называемая «луписия», а если назвать более прозрачным именем — «пеларела». Оказался я в полном смысле слова «голышом», потому что и причесывать и тратить мне было нечего. Болезнь моя шла нога в ногу с бедностью, и так как бедность губит нашу честь и приводит кого на виселицу, кого в госпиталь, а иного заставляет с просьбами и унижениями стучаться в дверь своего врага (что является самым горьким испытанием для человека несчастного), я, дабы не истратить на лекарства свое платье (от которого по выздоровлении будет мне тепло и почет), дождался времени, когда начинается пора «потения» в госпитале Воскресения Христова, получил там койку и отпотел сорок потов. Говорят, что если буду беречься, то выздоровею. Шпага моя — при мне, а все прочее бог пошлет.
Лиценциат снова предложил ему свои услуги и немало подивился всему, что ему было рассказано.
— Ну, не много же нужно для того, чтобы вас удивить, сеньор Перальта, — заметил поручик. — У меня еще остались про запас такие вещи, что превосходят самое пылкое воображение и что стоят вне всяких законов природы. Достаточно, впрочем, будет, если я вам скажу, что все мои несчастья пошли мне на пользу, ибо благодаря им я попал в госпиталь, где узнал все, о чем вам сейчас расскажу и чему вы ни теперь, ни потом не поверите, да и никто на свете никогда не поверит.
Все эти присловья и похвалы самому себе, которые произносил поручик, прежде чем приступить к рассказу о случившемся, до того разожгли у Перальты желание послушать, что он в свой черед рассыпался в похвалах и стал просить своего собеседника немедленно же рассказать ему про все диковинки, которые тот знал.
— Вашей милости, — начал поручик, — наверное, случалось видеть двух собак, которые ходят ночью с фонарями впереди монахов-лукошников и светят, когда монахи просят милостыню?
— Да, — ответил Перальта.
— Весьма возможно, что вы также знаете или вообще слышали, — продолжал поручик, — какие веши про них рассказывают: когда из окна бросают подаяние и оно падает на землю, собаки тотчас же бегут светить и отыскивают, что упало; они останавливаются под теми окнами, откуда им обыкновенно дают милостыню, и, хотя они ведут себя при этом с необыкновенною кротостью и скорее выглядят овечками, чем волками, в госпитале они — сущие львы и несут охрану с великим рвением и бдительностью.
— Мне случалось слышать об этом, — вставил Перальта, — однако я не вижу в этом и не могу видеть ничего удивительного.
— В таком случае то, что я вам сейчас расскажу о них, не только вас самым настоящим образом удивит, но заставит вас также поверить моему рассказу без всяких «охов» и «ахов» и без всяких ссылок на то, что это, мол, дело мудреное или даже невероятное. Дело в том, что я слышал и, можно сказать, собственными глазами видел этих двух псов, из которых один звался Сипион, а другой — Берганса[4]. Однажды ночью — и была то предпоследняя ночь, которую я провел в госпитале, — они расположились за моей постелью, на старых циновках, и в самую полночь, когда я лежал впотьмах и не спал, размышляя о прошлой жизни и нынешних своих несчастьях, я услышал подле себя разговор. Я насторожился, навострил уши, желая узнать, кто это говорит и о чем, и спустя короткое время, на основании того, о чем шла речь у говоривших, догадался, что беседуют две собаки: Сипион и Берганса.
Едва только Кампусано произнес эти слова, как лиценциат встал с места и сказал:
— А не лучше ли будет вовремя остановиться, ваша милость, сеньор Кампусано? До сих пор я еще колебался, верить ли мне или не верить всему, что вы мне рассказывали про свой брак, но когда вы теперь меня уверяете, будто слышали, как говорят собаки, я должен определенно заявить, что я вам больше не верю. Честное слово, господин поручик, не рассказывайте вы никому этого вздора или рассказывайте только тем, кто к вам в такой же мере дружески расположен, как я.
— Не думайте, ваша милость, что я круглый невежда, не понимающий того, что животные иначе как чудом говорить не могут, — отвечал Кампусано. — Я отлично понимаю, что если дрозды, сороки и попугаи говорят, то произносят они только те слова, которые выучивают наизусть, и делать это они могут потому, что язык этих птиц способен выговаривать слова, но из этого вовсе не следует, что они в состоянии говорить и отвечать так осмысленно, как то было с говорившими собаками. Вот почему после того, как я их услышал, я не один раз отказывался верить самому себе и был склонен считать сновидением все то, что я в действительности, наяву и с помощью всех пяти чувств, которые господу было угодно даровать мне, ощутил, уразумел, запомнил и, наконец, записал, не выкинув из общей связи ни единого слова, — а это является достаточной порукой, чтобы люди убедились и поверили истине моих слов. Предметы, коих коснулись они в своей беседе, были весьма серьезны и разнообразны, так что приличнее о них было бы трактовать ученым мужам, а не собакам, а так как сам я их выдумать не мог, то вижу себя вынужденным (хотя это и расходится с моими собственными взглядами) признать, что говорили действительно собаки.
— Черт подери, — воскликнул лиценциат, — к нам, видно, вернулись времена Марикастаньи[5], когда разговаривали тыквы, или времена Эзопа, когда петух беседовал с лисицей и любое животное могло обратиться со словом друг к другу!
— Я первый назвал бы себя ослом, и еще набитым ослом, если бы стал думать, что эти времена вернулись, но не избежать бы мне этого звания и тогда, если бы я перестал верить тому, что сам видел и слышал и в чем готов принести какую угодно клятву, так что самое неверие должно будет мне поверить; впрочем, допустим даже, что я ошибаюсь и что истина, которую я доказываю, всего только сонная греза, и настаивать на ней просто неумно, но разве вам, сеньор Перальта, не будет все-таки интересно узнать из записанной мною беседы, о чем эти собаки — или кто они такие — разговаривали?
— Если только вы не станете меня убеждать, будто слышали говорящих собак, я с превеликим удовольствием прослушаю эту беседу: одно то, что она продиктована и подсказана светлым умом господина поручика, делает ее в моих глазах превосходной.
— Нужно еще заметить, — прибавил поручик, — что слушал я весьма внимательно, ум был у меня ясный; тонкой и свежей была память (благодаря большому количеству изюма и миндаля, которыми я питался), а потому я запомнил все слово в слово и на следующий день записал все в тех же выражениях, что слышал, без всяких украшений и цветов красноречия, без добавок и урезок из соображений занимательности.
Бесед этих было две, потому что продолжались они две ночи сряду, но записал я только одну, а именно жизнь Бергансы; что же касается жизни друга его, Сипиона (рассказанной во вторую ночь), то ее я напишу не раньше, чем увижу, что одной из них уже поверили и ею во всяком случае не побрезговали. Рукопись у меня на груди; я написал ее в разговорной форме во избежание повторений: «сказал Сипион», «ответил Берганса», — которые обыкновенно удлиняют запись.
С этими словами он вынул тетрадь и отдал лиценциату в руки. Тот принял ее с улыбкой, как бы потешаясь над тем, что только что слышал, и над тем, что собрался прочесть.
— Я немного вздремну, — сказал поручик, — а вы, если пожелаете, сможете заняться чтением этих нелепых бредней, вся прелесть которых сводится к тому, что их можно отложить в сторону, если они наскучат.
— Устраивайтесь, как вам удобнее, — произнес Перальта, — а я живо покончу с чтением.
Поручик улегся, лиценциат развернул тетрадку и увидел, что в начале стоял следующий заголовок:
Новелла о беседе,
имевшей место между Сипионом и Бергансой, собаками госпиталя Воскресения Христова, находящегося в городе Вальядолиде, за воротами Поединка, а собак этих обычно называют — собаки Маудеса
С и п и о н
Б е р г а н с а
Брат Сипион, я слышу, что ты говоришь, знаю, что сам говорю, и не смею этому верить и все думаю: ведь уже одно то, что мы разговариваем, нарушает все законы природы.
С и п и о н
Это правда, Берганса, и чудо это тем замечательнее, что мы не просто говорим, а говорим осмысленно, как если бы обладали разумом, будучи в то же время лишены его в такой мере, что все различие между животным и человеком сводится к тому, что человек есть существо разумное, а животное — неразумное.
Б е р г а н с а
Все, что ты сказал, Сипион, я понимаю, и одно то обстоятельство, что ты говоришь, а я тебя понимаю, все более и более поражает и удивляет меня. Правда, в течение моей жизни не раз приходилось мне слышать про наши исключительные способности; и, насколько я знаю, есть люди, склонные думать, что мы от природы наделены весьма живым и во многих отношениях чрезвычайно острым инстинктом, так что, если бы прибавить еще немного, мы без труда доказали бы, что обладаем известной долей сознания и даже способны мыслить.
С и п и о н
Как я слышал, нас хвалят и превозносят за хорошую память, а также за благодарность и за великую нашу верность, так что нас даже принято изображать как символ дружбы. Думаю, тебе случалось видеть (если только ты всматривался), что на алебастровых гробницах, обычно украшаемых статуями покойников, в тех случаях, когда хоронят мужа и жену, между ними, у ног, помещают изображение собаки в знак того, что при жизни они соблюдали дружбу и нерушимую верность.
Б е р г а н с а
Я знаю, что бывали на свете преданные псы, которые бросались вслед за телом своего господина в могилу; иные из них оставались лежать там, где хоронили хозяев, не двигаясь с места и не принимая пищи, так что им тут приходил и конец. Я знаю также, что после слона собака занимает первое место в смысле вероятного обладания разумом, затем уже идет лошадь и, наконец, обезьяна.
С и п и о н
Это так, но сознайся, что тебе никогда не приходилось ни видеть, ни слышать, чтобы какой-нибудь слон, собака, лошадь или обезьяна разговаривали, из чего я заключаю, что этот неожиданно пожалованный нам дар речи относится к разряду явлений, называемых чудесными знамениями, и когда они показываются и объявляются, то, как говорит нам опыт, людям обычно угрожает какое-нибудь великое бедствие.
Б е р г а н с а
В таком случае не будет ничего удивительного, если я сочту чудесным знамением то, что я слышал во время прогулки в Алькалá де Энáрес от одного студента.
С и п и о н
А что такое он говорил?
Б е р г а н с а
Он говорил, что из пяти тысяч студентов, числившихся тогда в университете, две тысячи изучали медицину.
С и п и о н
Какой же вывод ты отсюда делаешь?
Б е р г а н с а
А вот какой: или эти две тысячи врачей должны иметь больных и лечить их (а это означало бы великое несчастие и бедствие), или все они должны помереть с голоду.
С и п и о н
Тем не менее, независимо от того, чудесное ли это знамение или нет, и ты и я сейчас несомненно говорим, и поскольку небо определило, чтобы это было так, никакие старания и никакая мудрость человеческая не властны этому помешать. А поэтому незачем нам рассуждать, как и почему мы разговариваем. Лучше будет не упускать счастливого случая; как-никак, а мы с большим удобством устроились здесь на циновках и не знаем, сколько времени продлится наше счастье; постараемся же воспользоваться им и будем беседовать целую ночь, не дозволяя сну нарушить блаженство, о котором я давно уж мечтал
Б е р г а н с а
Равно как и я, ибо с той самой минуты, как у меня хватило сил перегрызть Кость, я уже мучился желанием говорить и высказывать все, что накопилось у меня в памяти; впечатлений так много, что за давностью они начинают покрываться плесенью и забываться. Ну, а теперь, когда нежданно-негаданно я оказался обладателем божественного дара речи, я намерен насладиться и воспользоваться им как можно лучше, и выскажу все, что припомню, хотя бы даже неясно и путано, ибо не знаю, когда у меня отберут одолженное сокровище.
С и п и о н
Установим такой порядок, друг Берганса: сегодня ночью ты мне расскажешь про свою жизнь и про события, сделавшие тебя тем, что ты есть, а если завтра ночью у нас все еще будет дар речи, я расскажу тебе свою жизнь, ибо куда лучше употребить время на повесть о себе, чем узнавать, как живут другие.
Б е р г а н с а
Всегда, Сипион, я считал тебя умницей и другом, а сегодня даже больше, чем когда бы то ни было, ибо ты, будучи другом, изъявляешь желание рассказать мне свою жизнь, а будучи, кроме того, умницей, распределил время так, чтобы можно было успеть все сделать; посмотри сначала, однако, не подслушивает ли нас кто-нибудь?
С и п и о н
Думаю, что никто; хотя тут поблизости лечится потением солдат, но в такой час у него на уме, должно быть, сон, а не желание кого-либо слушать.
Б е р г а н с а
Итак, если все благополучно и нам можно говорить, слушай; а когда я тебе надоем своим рассказом, выбрани меня или вели замолчать.
С и п и о н
Говори до самого рассвета или до тех пор, пока нас не заметят, а я буду слушать с великим удовольствием и перебивать буду только в случае необходимости.
Б е р г а н с а
Сдается мне, что я впервые увидел свет в Севилье, на Бойнях, стоящих за Мясными воротами, из чего можно бы заключить (если бы не то, о чем скажу после), что родители мои были из аланских псов, тех самых, что выкармливают приспешники этого кромешного заведения, именуемые резниками. Первый хозяин, которого я узнал, был некто Николас Курносый, здоровенный и рыжий парень, вспыльчивый, как и все, кто занимается убоем. Этот Николас учил меня и других щенят бросаться вместе с большими аланскими псами на быков и вцепляться им в уши. Без особого труда я стал докой по этой части.
С и п и о н
Удивляться не приходится, Берганса; делать зло — наше врожденное свойство, а потому научиться ему нетрудно.
Б е р г а н с а
Что же тебе сказать, брат Сипион, о том, что я видел на Бойнях, о тех поразительных вещах, которые там творятся?
Прежде всего, ты должен заметить, что все, кто там работает, от первого до последнего, — народ с весьма покладистой совестью, люди отпетые, не боящиеся ни короля, ни суда его; все они по большей части распутники и живут как плотоядные хищные птицы: и сами они и подруги их существуют одними кражами. Каждое утро в скоромные дни, еще до рассвета, собирается возле Боен толпа женщин и мальчишек с мешками. Приносят они их пустыми, а уносят набитыми кусками мяса, потрохами, шулятами, а то и целыми частями филея. Нет такой убитой скотины, от которой эти люди не урвали бы частицы, и притом самой вкусной и лакомой; дело в том, что в Севилье не имеется подрядчика, и каждый желающий поставляет мясо, какое вздумается, так что сортá, посылаемые на убой, бывают иногда очень хорошие, а иногда очень плохие. Такой порядок поставок всегда обеспечивает полное изобилие. Скотоводы вступают в согласие с мошенниками, о которых я рассказываю, но не для того, чтобы защитить себя от покраж (это дело невозможное), а для того, чтобы те ограничивали себя в поборах и выемках с убитых животных, ибо они подчищают и подрезывают их так, как если бы то были ивы или виноградные лозы. Ничто, однако, меня так не поражало и ничто не казалось столь ужасным, как сознание, что с такой же легкостью убивают эти мясники человека, как и корову: в одно мгновение ока, раньше чем успеешь сказать «дважды три», всаживают они нож с желтым черенком в живот человека и закалывают его, словно быка. Если день проходит без драк, без ранений или без убийств, это чудо; все они выдают себя за храбрецов и головорезов, а бывает, что и совсем худым делом занимаются. Ни одного нет такого, у кого не было бы на площади св. Франциска своего ангела-хранителя[6], «умасленного» филеем и воловьими языками. Одним словом, по отзыву одного неглупого человека, которого я слышал, тремя вещами следовало бы королю овладеть[7] в Севилье: Охотной улицей, Костанильей и Бойнями.
С и п и о н
Друг Берганса, если на описание хозяев, у которых ты служил, и недостатков их ремесла у тебя будет уходить столько времени, как сейчас, нам придется молить небо о продлении дара речи по меньшей мере на год, да и тогда, пожалуй, с таким ходоком, как ты, не дойдешь и до половины рассказа.
Мне хочется обратить твое внимание на одну вещь, в справедливости коей ты убедишься, когда я буду рассказывать историю моей жизни. Дело в том, что бывают рассказы, прелесть которых заключается в них самих, в то время как прелесть других рассказов состоит в том, как их рассказывают; я хочу сказать, что иной рассказ пленяет нас независимо от вступлений и словесных прикрас, другой же приходится рядить в слова, и при помощи мимики, жестов и перемены голоса из ничего получается все: из слабых и бледных делаются они острыми и занятными. Помни об этом указании и постарайся воспользоваться им в течение рассказа.
Б е р г а н с а
Так я и буду делать, если только смогу и если не поддамся великому своему искушению — поболтать; думаю, однако, что при большом старании я сумею взять себя в руки.
С и п и о н
Возьми лучше в руки язык: ибо в нем сосредоточено великое зло жизни человеческой.
Б е р г а н с а
Итак, продолжаю. Хозяин научил меня носить в зубах корзинку и защищать ее от нападений грабителей. Он показал мне также дом своей подруги и тем самым избавил ее от необходимости посылать служанку на Бойни, ибо ранним утром я относил ей все, что он успевал наворовать за ночь. Однажды на рассвете, когда я старательно нес ей паек, мне послышалось, будто из окна меня кто-то окликнул по имени; подняв голову, я увидел замечательно красивую девушку; я остановился на минуту, она подбежала к воротам и снова начала звать; я подошел, делая вид, что желаю узнать, чего ей от меня надобно, а надобно ей было только одно: выхватить содержимое из корзины и сунуть туда старый башмак.
«Эге, — подумал я про себя, — мясо-то хочет к мясу!»
Отобрав у меня говядину, девушка прибавила:
— Слушай, Гавилан, или как тебя звать, передай своему хозяину Николасу Курносому, чтобы он не полагался на животных и что, мол, с лихой собаки хоть… мяса клок.
Я легко мог отобрать у нее мясо обратно, но не пожелал поднять свою грязную, мясницкую морду на ее чистые белые ручки.
С и п и о н
И отлично сделал, ибо право на уважение есть законное право красоты.
Б е р г а н с а
Поступив таким образом, я вернулся к своему хозяину без пайка, но зато с башмаком в корзине. Ему показалось, что я вернулся чересчур быстро; увидев башмак и сообразив, что тут насмешка, он выхватил желтый черенок и нанес такой удар, что, не отскочи я в сторону, никогда бы не слыхать тебе ни этого рассказа, ни тех, что я собираюсь еще рассказать. Я дал тягу и заработал всеми четырьмя лапами по дороге, что за кварталом св. Бернарда, пустившись по этим богоспасаемым равнинам, куда глаза глядят. Первую ночь я провел под открытым небом, на вторую судьба мне послала стадо овец и баранов. Увидев его, я решил, что нашел себе мирное пристанище, почитая прямым и естественным для собаки занятием охрану стада, что есть дело, заключающее в себе немалую доблесть: оберегать и защищать от сильных и гордых кротких и беззащитных. Заметив меня, один из трех пастухов, стерегших стадо, обратился ко мне со словами: «На, на…» Этого мне и надо было: я подошел к нему, опустил голову и вильнул хвостом. Погладив меня по спине, он открыл мне рот, плюнул туда, осмотрел зубы, определил возраст и объявил остальным пастухам, что у меня все стати породистого пса. В это время подъехал верхом на серой кобыле владелец стада, при копье и щите, так что он больше походил на берегового дружинника, чем на хозяина стада.
Он обратился к пастуху:
— Что это за собака? Вид у нее такой, будто она хорошая.
— Будьте покойны, ваша милость, она очень хорошая, — ответил пастух, — я ее отлично рассмотрел: в ней нет такой стати, которая бы не подтверждала и не показывала, что это прекрасный пес; она только что пришла, а чья она — не знаю, хотя знаю, что в стадах нашей округи такой собаки не было.
— Ну, если так, — сказал хозяин, — сейчас же надень на нее ошейник околевшего Леонсильо и положим ей такие же харчи, как и другим собакам. Ласкай ее побольше, чтобы она полюбила стадо и на будущее время осталась при нем.
С этими словами он уехал, а пастух надел мне на шею утыканный стальными шипами ошейник, а еще раньше принес мне в корытце добрую толику молочною супу. Он позаботился выбрать мне имя и назвал меня Барсино.
Почувствовав себя сытым и довольным на службе у нового хозяина, я стал выказывать рвение и заботливость в деле охраны стада, отлучаясь от него только на время сьесты, которую я проводил иногда в тени дерева, холма или скалы, иногда же в тени кустарника или на берегу какого-нибудь ручейка: их в тех местах пробегало множество. Часы отдыха я посвящал праздности, занимая свои мысли воспоминаниями о разных вещах, а главным образом о жизни на Бойнях, о жизни своего недавнего хозяина и всех тех, кто, подобно ему, потакал бесстыдным прихотям своих возлюбленных. Много интересного мог бы я тебе рассказать про то, чему я обучился в школе «мясницкой» дамы, госпожи моего хозяина. Но, пожалуй, лучше будет помолчать: иначе ты примешь меня за болтуна и сплетника.
С и п и о н
Я слышал, что знаменитый античный поэт сказал: «Воздержаться от сатиры — дело трудное»[8], а потому я готов тебе позволить посплетничать, но только слегка и отнюдь не злостно; я хочу сказать, что ты можешь порицать людей, но не поносить и не подымать их на смех, ибо сплетня, смешащая многих, все же дурна, если она копает яму хотя бы одному человеку. Если ты сумеешь быть приятным без злословия, я буду считать тебя умницей.
Б е р г а н с а
Последую твоему совету и буду ждать с нетерпением, когда придет твой черед рассказывать свою жизнь: ибо от того, кто умеет так хорошо отмечать и исправлять недостатки моего рассказа, естественно ожидать повести, которая в одно и то же время будет наставлять и очаровывать.
Итак, дабы восстановить прерванную нить беседы, скажу, что в тишине и одиночестве своих сьест я размышлял, между прочим, о том, что все, слышанное мною о жизни пастухов, — неправда; особенно, если иметь в виду пастухов, о которых читала дама моего мясника в каких-то книгах во все те разы, когда я ходил к ней на дом. Все эти книги толковали о пастухах я рассказывали, что жизнь их проходит в пении и игре на волынке, свирелях, равелях, гобоях и других диковинных инструментах.
Я подолгу слушал ее чтение, а она читала о том, как чудесно и божественно пел пастух Анфрисо, восхваляя несравненную Белисарду[9], и во всех горах Аркадских не было дерева, у ствола которого он не располагался бы петь с той самой минуты, когда солнце пробуждается в объятиях Авроры, и до той поры, когда оно отходит в объятия Фетиды; и даже после того, как черная ночь распускала по лицу земли свои черные, мрачные крылья, он не прекращал своих сладкогласных и слезообильных воздыханий. Не обошла она молчанием и пастуха Элисьо[10], скорее нежного, чем решительного, о котором заметила, что, невзирая на любовь свою и на стадо, он всей душой уходил в чужие страдания. Она находила также, что знаменитый пастух Филиды, неподражаемый автор всем известного портрета, был более легковерен, чем счастлив. Относительно обмороков Сирены и раскаянья Дианы она отозвалась в том смысле, что следует-де возблагодарить бога и мудрую Фелисью[11] за то, что она своей волшебной водой свела на нет все запутанные козни и лабиринты всякого рода препятствий. Вспоминал я еще о множестве других книг в том же роде, которые она читала, хотя они и не стоили того, чтобы загромождать ими память.
С и п и о н
Слова мои идут тебе на пользу, Берганса: посудачил, почесал язык — и довольно; пусть помыслы твои преисполнятся невинности, несмотря на распущенность языка.
Б е р г а н с а
В этих случаях язык почти никогда не погрешает, если предварительно не погрешают помыслы; ну, а если по недосмотру или лукавству мне случится сболтнуть что-нибудь лишнее, то хулителю своему я отвечу то же самое, что ответил Маупéон[12], невежда-поэт и горе-академик Академии подражателей[13]: когда у него спросили, что значит deo a deo, он сказал: «будь что будет»!
С и п и о н
Такие речи приличествуют глупцу, а если ты — умница или хочешь быть умницей, никогда не говори вещей, в которых после приходится раскаиваться. Рассказывай дальше.
Б е р г а н с а
Итак, все эти и еще многие другие размышления помогли мне увидеть, насколько нравы и обычаи моих пастухов и пастухов всей нашей округи отличаются от того, что мне читали про пастухов из книг. Хотя пастухи мои и пели, но это были совсем не сладкогласные и стройные песни, а какая-нибудь: «Эй, куда волк пошел, эй, Хуаника!» или другие вещи в том же роде; пели они совсем не под звуки гобоев, равелей или волынок, а постукивая одной дубинкой о другую или прищелкивая черепками, зажатыми в пальцах; и опять-таки не нежными и пленительными голосами, а голосами хриплыми, производившими такое впечатление, будто и порознь и вместе голоса эти не поют, а орут или хрюкают. Большую часть дня они проводили в искании на себе блох и починке сандалий, называя при этом друг друга не Амарилис, Филида, Галатея или Диана, равно как и не Лисардо, Лаусо, Хасинто или Рисело, а все больше Антон, Доминго, Пабло, Льоренте, почему я и пришел к выводу, с которым, наверное, многие согласятся: что пастушеские романы — вымышленные и красиво написанные сочинения, предназначенные для услаждения праздных людей, но только правды в них нет никакой. Будь это иначе, среди моих пастухов несомненно сохранился бы какой-нибудь отголосок этой блаженнейшей жизни, всех этих отрадных Лугов, привольных лесов, священных холмов, прекрасных садов, прозрачных ручейков и хрустальных потоков, всех этих прелестных и столь искусно выраженных воркований, этих обмороков, когда тут валится пастух, а там пастушка, этих мелодий, когда один играет на свирели, а другой — на флейте!
С и п и о н
Довольно, Берганса; теперь выходи на прямую дорогу — и с богом!
Б е р г а н с а
Спасибо тебе, друг Сипион; я так было разошелся, что без твоего увещания я продолжал бы до тех пор, пока не пересказал целой книги из разряда этих вымышленных сочинений. Ну, да придет время, и я все это изложу гораздо лучше и толковее, чем сейчас.
С и п и о н
«Павлин, павлин, взгляни себе на ноги и подбери-ка хвост»; советую тебе, Берганса, помнить, что ты животное, лишенное разумна, и если сейчас у тебя появились мысли, то, как мы уже установили, это вещь сверхъестественная и никем никогда еще не виданная.
Б е р г а н с а
Охотно бы с тобой согласился, если бы я по сей час оставался при первоначальном неведении, но я только что вспомнил одно обстоятельство, с которого мне собственно и следовало начать нашу беседу, а потому я не столько удивляюсь своему дару речи, сколько ужасаюсь вещам, которые обхожу молчанием.
С и п и о н
Но разве ты мне не можешь сказать, что тебе сейчас припомнилось?
Б е р г а н с а
Это история, случившаяся со мной у одной знаменитой колдуньи, ученицы Камачи Монтильской.
С и п и о н
Пожалуйста, расскажи ее, прежде чем продолжать повесть своей жизни.
Б е р г а н с а
Этого я ни в коем случае не сделаю; наберись терпения и слушай по порядку все мои приключения: тогда они доставят тебе гораздо больше удовольствия, если только тебя не разбирает охота середину услышать раньше начала.
С и п и о н
Не теряй же слов и рассказывай, что и как тебе вздумается.
Б е р г а н с а
Итак, говорю я, обязанность охранять стадо пришлась мне по вкусу: я видел, что в поте лица зарабатываю трудовой хлеб и что праздности — основы и матери всех пороков — не было тут и в помине по той простой причине, что если я благодушествовал днем, зато не знал покоя ночью, так как волки делали частые набеги и поднимали нас на ноги.
Стоило пастухам сказать: «Барсино, волки!» — и я раньше всех псов поспешал к указанному месту: я обегал долины, обыскивал горы, рыскал по лесу, перескакивал через овраги, проносился по дорогам и, изранив лапы о колючки, поутру возвращался к стаду, не найдя ни волка, ни его следов, запыхавшийся, усталый, совсем разбитый. В стаде же оказывалась иногда убитая овца, иногда баран, зарезанный и наполовину обглоданный зверем. Я приходил в отчаяние при мысли, как мало пользы приносили мои заботы и усердие. Приезжал хозяин стада. Пастухи выходили его встречать со шкуркой убитого животного; он укорял пастухов за небрежность и наказывал собак за леность: на нас сыпались градом палки, на них — выговоры. И вот, когда меня однажды без вины наказали (ибо ни заботливость моя, ни проворство, ни отвага не помогли мне изловить волка), я решил изменить свое поведение и при поисках волков не уходить далеко в сторону, как обыкновенно делал, а оставаться при стаде неотлучно, ибо если волк приходил сюда сам, поймать его на месте было всего вернее.
Тревога у нас бывала каждый день; в одну непроглядно темную ночь я высмотрел, наконец, волков, от которых нельзя было уберечь стадо. После того как другие собаки, мои однокашники, пробежали вперед, я притаился за кустом и оттуда разглядел и подстерег, как двое пастухов схватили лучшего в овчарне барана и убили его таким образом, что наутро действительно могло показаться, будто его зарезал волк.
Я оторопел и ошалел, обнаружив, что волками оказались пастухи, опустошавшие то самое стадо, которое должны были охранять. Они немедленно дали знать хозяину о нападении волков, вручили ему шкуру и часть мяса, а сами съели самую большую и хорошую долю. Хозяин стал их снова бранить, собак снова стали наказывать; волков не находилось, стадо таяло; мне очень хотелось открыть, в чем дело, но — увы! — я нем. А между тем события эти вызывали во мне удивление и тревогу.
«Боже правый, — говорил я самому себе, — кто тут поможет горю? Кто будет в силах доказать, что охрана преступна, что часовые спят, что тот, кто нас сторожит, нас губит?»
С и п и о н
Ты отлично выразился, Берганса, ибо нет более опасного и хитрого врага, чем домашний вор; вот почему доверчивые люди гибнут чаще, чем осторожные; но несчастье в том, что как же человеку жить на свете, если никому не верить и не доверять? Впрочем, на этом следовало бы остановиться: я нахожу, что нам незачем превращаться в проповедников. Продолжай.
Б е р г а н с а
Продолжаю; я порешил оставить эту должность, хотя она мне и казалась почтенной, и подыскать себе такое место, где за исправную работу если и не вознаграждают, то по крайней мере не наказывают. Я вернулся обратно в Севилью и поступил на службу к одному очень богатому купцу.
С и п и о н
А каким образом находил ты себе хозяев? Ведь при наших порядках с большим трудом удается теперь порядочному человеку поступить на службу к господину. Очень уж непохожи земные владыки на владыку небесного: первые, принимая слугу, начинают сразу копаться в его происхождении, проверять его пригодность, изучать его привычки и стараются даже узнать, сколько у него платья; а для того, чтобы послужить господу, самый бедный человек и есть самый богатый, самый смиренный — безупречного рода, и если только он от чистого сердца вознамерится служить богу, немедленно же отдается приказ записать его в книгу окладов, причем оклад назначается такой завидный, что большего и лучшего вряд ли возможно желать.
Б е р г а н с а
Все это, друг Сипион, одни «проповеди».
С и п и о н
Так оно и мне кажется, а посему умолкаю.
Б е р г а н с а
Ты спрашивал меня, какого порядка я держался, отыскивая себе хозяина; думаю, тебе отлично известно, что смирение есть основание и прообраз всех добродетелей и что без него не может обойтись ни одна добродетель на свете. Оно устраняет затруднения, оно побеждает препятствия, оно является средством, ведущим нас к достойнейшим целям; врагов оно превращает в друзей, оно сдерживает ярость гневливых, пресекает высокомерие гордых; смирение есть мать скромности и сестра умеренности — одним словом, никакой порок не в силах успешно противостоять смирению, ибо о мягкость и незлобивость его притупляются и обламываются стрелы греха.
Смирением-то я и вооружался, когда хотел поступить на службу в какой-нибудь дом, причем предварительно соображал и прикидывал, такой ли это дом, где могут держать и прокормить большую собаку; затем я прислонялся к дверям, и когда, на мой взгляд, входил человек посторонний, я лаял, а когда входил хозяин, то опускал голову и, виляя хвостом, направлялся к нему и облизывал ему языком сапоги. Если меня шали палкой, я сносил это и с прежней кротостью начинал ласкаться к бившему меня, так что никто меня не бил во второй раз, видя мою настойчивость и благородный характер. Таким образом, после двух попыток я обыкновенно оставался в доме, и если служил хорошо, то со мной обращались отлично и никогда не прогоняли, разве что я сам уйду, или, вернее сказать, убегу; иной раз я находил себе таких хозяев, что и по сей день, наверное, жил бы в доме, если бы меня не преследовала злодейка судьба.
С и п и о н
Таким же способом и я находил своих прежних хозяев; можно подумать, что мы читали мысли друг друга.
Б е р г а н с а
Если не ошибаюсь, в этих вещах мы с тобой действительно сходимся, и мы еще о них поговорим, как я тебе обещал, а теперь послушай, что случилось со мной после того, как я покинул стадо, оставив его на произвол пастухов-негодяев.
Как уже было сказано, я вернулся обратно в Севилью, приют всех бедных и убежище всех отверженных, ибо величие ее таково, что там не только легко помещаются люди убогие, но я сильные мира сего бывают едва заметны. Я прислонился к дверям большого приличного дома, проявил обычное старание и сразу получил место. Меня взяли для того, чтобы днем я сидел на привязи у ворот, а ночью бегал на воле; служил я весьма усердно и прилежно: на чужих — лаял, на людей малознакомых — рычал, ночами бодрствовал, осматривал загоны для скота, взбегал на террасы — одним словом, стал неусыпным стражем своего хозяина и соседей.
Моя добрая служба понравилась, и хозяин отдал приказ обращаться со мной хорошо, а харчи мне выдавать из хлеба и костей, убиравшихся со стола, и из кухонных остатков; за это я выказывал ему большую привязанность и без конца прыгал при его появлении, особенно же когда он приходил домой, и я проявлял столько радости и столько делал прыжков, что хозяин велел отвязать меня и оставлять на свободе днем и ночью. Увидев себя на воле, я подбежал к хозяину и стал увиваться вокруг, не смея, однако, положить на него свои лапы, ибо помнил басню Эзопа, в которой один осел выказал себя таким ослом, что пожелал приласкаться к своему господину совершенно так, как его балованная собачка, за что его тут же отколотили палками. Басня эта, думается мне, проводит мысль, что иные вещи смешны и забавны у одного, но совсем не подходят другому: пусть кривляется и передразнивает шут, пусть показывает ловкость рук и жонглирует скоморох, пусть кричит по-ослиному бродяга, пусть подражает пению птиц, жестам и движениям людей и животных простолюдин, занимающийся этим делом, но пусть не, берется за такие вещи человек знатный, которому ни одно из этих ловкачеств не принесет ни почета, ни славы.
С и п и о н
Ну, ладно, Берганса, продолжай свой рассказ; я тебя понял.
Б е р г а н с а
О, если бы с такою же легкостью поняли меня люди, о которых я говорю. У меня несомненно есть врожденное благородство, и поэтому я глубоко страдаю при виде того, как какой-нибудь кавальеро превращает себя в шута, гордится уменьем жонглировать стаканчиками и орешками или хвастается, что никто так не протанцует чакону, как он. Знал я одного кавальеро, который похвалялся тем, что по просьбе ризничего вырезал из бумаги тридцать два узора для возложения на Монумент поверх черных сукон, причем он сделал из этого целое событие и водил своих знакомых смотреть на узоры, словно это были вражеские знамена и доспехи, возложенные на гробницу его дедов и праотцов.
У моего купца было два сына; одному исполнилось двенадцать, другому — почти четырнадцать лет; оба они обучались латыни в школе Общества Иисуса[14]. Они ходили туда очень пышно: с дядькой и двумя слугами, таскавшими книги и так называемый vademecum.
Посмотрев на подобную роскошь — в жаркое время их носили в ручном возке, в дождливую погоду отправляли в карете, — я невольно подумал о скромности, с какой их отец выезжал на биржу делать свои дела: при нем не бывало других слуг, кроме негра, и очень часто он не стыдился сесть на обыкновенного мула, к тому же в весьма неказистой сбруе.
С и п и о н
Необходимо заметить, Берганса, что в Севилье и в Других городах у купцов существует особая повадка и обычай: показывать свое богатство и пышность не на себе, а на детях; ибо в торговом деле важен не сам купец, а его добрая слава; поскольку же купцы, как общее правило, обращают внимание на одни только сделки и договоры, то обычно они содержат себя в большой скромности; но честолюбие и богатство желают проявить себя во что бы то ни стало и всецело переносятся на детей, которых купцы воспитывают и холят, как принцев. Находятся среди них и такие, что добывают для детей титулы и нагрудный знак[15], который сразу отличает человека знатного от простолюдина.
Б е р г а н с а
Честолюбие человека, стремящегося улучшить свое положение без ущерба для другого, есть честолюбие благородное.
С и п и о н
Но ведь очень редко, а вернее — никогда не бывает так, чтобы наше честолюбие не приносило вреда другому.
Б е р г а н с а
Помни, мы обещали, что не будем злословить.
С и п и о н
Да, обещали, но я ведь ни про кого и не злословлю.
Б е р г а н с а
Благодаря тебе я получил, наконец, возможность подтвердить много раз наблюдавшуюся истину: едва только злоречивый сплетник опорочит десять семейств и оклевещет двадцать праведников, как в ответ на упрек в клевете заявляет, что он, мол, ничего такого не говорил, а если что и сказал, то совсем не в том смысле; ну, а если бы знал, что это кого-нибудь обидит, то, наверное, не сказал бы ни слова. Поистине, Сипион, нужно быть большим умницей и нужно очень следить за собой, чтобы, поддерживая разговор в течение двух часов, ни разу не удариться в сплетни. Я по себе сужу (а ведь я всего только — животное): стоит мне открыть рот, как слова идут на язык, словно москиты на вино, и всё мерзостные и нехорошие. А поэтому я снова повторяю то же, что всегда говорил: погрешать словом и делом повелось у нас еще от прародителей, и привычку эту мы всасываем с молоком кормилицы. Обрати внимание, что когда у младенца хватает сил, чтобы высунуть из пеленок руку, он поднимает ее с таким видом, будто хочет посчитаться с тем, кто, по его мнению, его обижает, а первый членораздельный звук, который он произносит, это, пожалуй, слово «кака», обращенное к няньке или матери.
С и п и о н
Да, ты прав; сознаю свой промах и прошу извинить меня, поскольку я тебя тоже много раз извинял; «потопим это дело в море», как любят выражаться ребята, и не будем отныне сплетничать. Продолжай же свой рассказ, который оборвался на том, с какой пышностью дети купца, твоего хозяина, ходили в школу Общества Иисуса.
Б е р г а н с а
Иисус да благословит меня во всех делах моей жизни… а так как отвыкнуть от сплетен дело, на мой взгляд, трудное, я намерен прибегнуть к средству, применявшемуся, как я слышал, одним неисправимым ругателем. Поклявшись бросить свою дурную привычку, он всякий раз, когда бранился, щипал себя за руку или целовал землю в наказание за грех и, несмотря на это, все-таки продолжал ругаться. Я сделаю так: всякий раз как я погрешу против данного тобою наказа и против собственного зарока не злословить, я буду прикусывать кончик языка для того, чтобы, почувствовав боль, вспомнить о своей слабости и больше в нее не впадать.
С и п и о н
Это опасное средство; применив его на деле, ты, пожалуй, будешь кусать себя так часто, что останешься без языка и, таким образом, действительно не сможешь больше злословить.
Б е р г а н с а
Во всяком случае я приму с своей стороны меры, а в остальном возложу упование на небо.
Итак, однажды дети моего хозяина забыли на дворе тетрадь в то самое время, когда я там находился; приучившись у мясника носить хозяйскую корзинку, я схватил vademecum и отправился за ними следом, решив не отдавать его до самой школы. Все вышло так, как я предвидел; хозяева, заметив, что я явился с vademecum во рту, осторожно придерживая его за тесемки, велели было слуге отобрать его, но я воспротивился и отдал его только при входе в аудиторию, что заставило рассмеяться всех студентов.
Подойдя к старшему из моих хозяев, я — с большой, на мой взгляд, учтивостью — сдал ему тетрадь на руки, а сам уселся у дверей аудитории, не спуская глаз с маэстро, читавшего на кафедре.
Есть какое-то особое очарование в добродетели, ибо, несмотря на то, что она мне почти — или, вернее, совсем — неизвестна, мне сразу понравилось видеть любовь, благочиние, усердие и искусство, с какими эти святые отцы и наставники обучали детей и выращивали нежные побеги юности, дабы не искривились они и не уклонились с пути добродетели, в которой наравне с науками они их укрепляли. Я обратил внимание, как мягко они им выговаривали, как снисходительно наказывали, как воодушевляли примерами, поощряли наградами и как разумно жалели; как они расписывали им ужас и безобразие пороков, как изображали красоту добродетелей для того, чтобы, возненавидев первые и возлюбив вторые, их питомцы исполнили цель своего воспитания.
С и п и о н
Правильно подмечено, Берганса; мне самому приходилось слышать, что вряд ли где на свете отыщешь более рассудительных руководителей в делах мирских и что в то же время вряд ли кто может сравниться с этими святыми людьми, когда они ведут и направляют нас по дороге небесной. Они суть зерцала, отражающие в себе благочиние, истинное католическое учение, высокую рассудительность, а кроме того, и глубокое смирение — основу, на которой зиждется все здание небесного блаженства.
Б е р г а н с а
Все это совершеннейшая истина, но продолжу свою историю: хозяевам моим захотелось, чтобы я им всегда носил vademecum, что я и делал с превеликой охотой и жил благодаря этому по-царски, а то, пожалуй, и лучше, ибо жизнь моя была беспечальной.
Дело в том, что студенты привыкли шалить со мной, и я с ними до того приручился, что мне в рот стали вкладывать пальцы, а кто поменьше, тот забирался ко мне на спину. Они швыряли на землю береты и шляпы, а я их аккуратно приносил, выказывая при этом! большую радость. Они стали меня кормить, чем могли, и приходили в восторг, когда видели, что полученные орехи я чистил, как обезьяна, отбрасывая скорлупу, и съедал только ядрышко; среди юнцов нашелся любитель, вздумавший для испытания моих талантов принести мне в платке ворох салата, который я съел совсем как человек. Время было зимнее, когда в Севилье бывают в большом ходу молочные хлебцы с маслом, которыми меня так потчевали, что не одна пара Антоньев[16] была заложена или продана из-за моего завтрака. Одним словом, я жил по-студенчески и не знал, однако, ни голода, ни паршей, а это в данном случае есть наивысшее благо, ибо если бы парши и голод не составляли нечто неотделимое от студента, никакая другая жизнь не могла бы быть более разнообразной и приятной, ибо добродетель здесь как бы состязается с радостью и юные годы проходят в науке и удовольствиях.
Этого блаженства и покоя лишили меня так называемые «приличия», а когда начинают считаться с ними, тогда не считаются со многими другими соображениями. И вот однажды господа наставники высказали мысль, что получасовую перемену между занятиями студенты проводят не за повторением уроков, а в шалостях со мной, а потому они велели моим хозяевам не брать меня больше в школу. Те послушались и отправили меня домой сторожить, как и раньше, ворота. Старик купец позабыл о дарованной мне льготе ходить днем и ночью на свободе, и снова моя шея оказалась на цепи, а тело на подстилке, которую положили для меня за дверью.
Увы. друг Сипион, если бы ты знал, какая жестокая вещь переживать переход от счастливого состояния к несчастному! Заметь: если испытания и бедствия идут сплошной полосой и бывают непрерывны, если они заканчиваются смертью или если самая их непрерывность вырабатывает привычку и навык сносить их, это в самые трудные минуты служит нам облегчением, но когда после состояния несчастного и бедственного нежданно-негаданно начинаешь вкушать от иной судьбы, удачной, счастливой и радостной, а затем вдруг снова возвращаешься к минувшим мучениям, к прежним страданиям и несчастиям, — тогда испытываешь столь ужасную боль, что если она и не убивает сразу, то только для того, чтобы замучить до смерти оставлением в живых!
Итак я снова перешел на свой собачий паек и на кости, которые бросала мне служившая в доме негритянка, причем часть их раскрадывали два полосатых кота: они были проворны и гуляли на свободе, а потому без особого труда хватали то, что падало далеко от моей цепи. Друг Сипион, не сердись, ради бога, позволь мне сейчас немного пофилософствовать, и да пошлет тебе небо всех благ, каких ты сам себе пожелаешь; если я пропущу случай высказать то, что пришло мне сию минуту в голову и что имеет отношение к случившимся в это время событиям, то история моя окажется, пожалуй, неполной и бесплодной.
С и п и о н
Подумай, Берганса, не есть ли охватившее тебя желание философствовать — искушение дьявольское? Ибо что, в самом деле, может послужить для злоречивого сплетника более надежным покровом, оберегающим и защищающим его испорченность и распущенность, как не мысль, что его слова суть философские изречения и что злословить значит то же, что укорять, а обличать чужие недостатки есть, мол, похвальное рвение; между тем нет такого сплетника, чья жизнь не была бы — если ее разобрать и исследовать — исполнена пороков и гнусностей. Теперь, когда ты все это выслушал, можешь философствовать, сколько душе угодно.
Б е р г а н с а
Успокойся, Сипион, сплетничать я больше не буду: это дело решенное. Нужно тебе сказать, что по целым дням, бывало, я предавался праздности, а так как праздность — мать размышления, я стал мысленно перебирать кое-какие латинские фразы, уцелевшие в памяти из того множества выражений, которые я слышал в школе, когда ходил туда вместе с хозяевами. Мне показалось, что речения эти слегка просветили мой разум, а потому я возымел намерение (словно я и в самом деле умел говорить) пользоваться ими при случае, но не так, однако, как иногда ими пользуются невежды. Бывают такие неучи, которые время от времени вставляют в разговор какое-нибудь краткое и сильное изречение, желая выказать себя хорошими латинистами перед людьми, не знающими по-латыни, а на самом деле они едва умеют просклонять существительное или проспрягать глагол.
С и п и о н
Я считаю, что это еще не такое большое зло, как поведение иных, бесспорно знающих латинистов, среди которых попадаются иногда люди столь неразумные, что в разговоре с сапожником или портным льют свою латынь, как воду.
Б е р г а н с а
Из этого можно было бы заключить, что в такой же мере погрешает человек, приводящий латинские изречения тем, кто в них не разбирается, как и человек, произносящий латинские слова, не понимая их смысла.
С и п и о н
Можешь сделать и другой еще вывод: бывают люди, которым знание латыни не мешает все-таки быть ослами.
Б е р г а н с а
Да кто же в этом сомневается? Дело ясное: поскольку во времена римлян все говорили по-латыни, то есть на своем родном языке, должны же были тогда существовать остолопы, которых умение говорить по-латыни не спасало от глупости.
С и п и о н
Для того чтобы уметь помолчать по-испански и говорить по-латыни, нужно мозгами шевелить, брат Берганса.
Б е р г а н с а
Совершенно верно, потому что с таким же успехом можно говорить глупости по-латыни, как и по-испански; мне случалось встречать образованных тупиц, незадачливых грамотеев и недоучек, которые так щеголяли лоскутами своей латыни, что каждому слушателю становилось тошно, и не один, а много-много раз.
С и п и о н
Ну, довольно об этом; начинай свою философию.
Б е р г а н с а
Да я уже ее изложил: она заключена в только что сказанных мною словах.
С и п и о н
Каких?
Б е р г а н с а
Да вот о латинских цитатах и испанском языке: я начал, а ты кончил.
С и п и о н
Итак, ты называешь философией сплетню? Вот оно как! Кади, Берганса, кади фимиам мерзостной язве злословия, называй ее какими угодно именами, а она украсит нас прозванием циников, что значит псы злословящие; заклинаю тебя, заткнись и продолжай свой рассказ!
Б е р г а н с а
Как же я буду продолжать, если замолчу?
С и п и о н
Я хотел сказать, чтобы ты все излагал по порядку, а то рассказ твой выглядит осьминогом: ты все время к нему хвосты приделываешь.
Б е р г а н с а
Выражайся, пожалуйста, точно: у осьминога эта часть называется не «хвост», а совсем иначе.[17]
С и п и о н
Ты повторяешь ошибку, в которую впал человек, сказавший, будто нет ничего гнусного и порочного в том, чтобы все вещи называть своими именами, но на самом деле, разве не лучше в тех случаях, когда бывает необходимо назвать некоторые предметы, прибегнуть к иносказанию и оговорке, смягчающим отвращение, которое мы испытываем, слушая подобные выражения? Пристойные слова свидетельствуют о добрых нравах того, кто их произносит или пишет.
Б е р г а н с а
Готов с тобой согласиться и продолжаю: итак, судьба не удовольствовалась тем, что отняла у меня науки и ту веселую, достойную жизнь, которою я тогда жил; ей было мало того, что она снова посадила меня на цепь у ворот, что от щедрот студентов она заставила меня опять перейти на нищенский корм негритянки, — она распорядилась внести смятенье даже туда, где я мечтал обрести себе отдых и покой.
Выслушай, Сипион, и заметь, как я сам заметил, одно несомненное и достоверное правило: несчастного несчастья ищут и находят, даже если бы он от них спрятался в отдаленнейший угол земли. Говорю я так потому, что наша негритянка была влюблена в негра, нашего раба, а негр этот ночевал в подворотне, то есть между наружной дверью и внутренней, за которой помещался я; сходиться они могли только ночью и для этого они выкрали и подделали ключи; и вот во все почти ночи негритянка спускалась вниз и, сунув мне в пасть кусок мяса или сыру, открывала негру и приятно проводила с ним время; устраивалось это с помощью моего молчания и за счет тех бесчисленных кусков, которые воровала негритянка. На некоторое время подачки ее заставили меня поступиться совестью: мне казалось, что без них у меня совсем подтянет брюхо и из мастина я превращусь в борзую, но вместе с тем, прислушиваясь к голосу своей благородной натуры, я хотел исполнить долг перед хозяином, на жалованье которого я жил и хлеб которого ел; собственно говоря, так следует поступать не одним нам, честным собакам, удостоившимся прозвания благодарных, но и всякому, кто состоит на службе.
С и п и о н
Вот это — да, вот эти слова, Берганса, я действительно согласен признать философией, ибо они заключают в себе настоящую истину и вполне разумный смысл; ну, а теперь продолжай и не делай никаких мостов (чуть было не сказал «хвостов») в своем рассказе.
Б е р г а н с а
Но предварительно я попрошу тебя объяснить (если только ты знаешь), что значит слово «философия»; хотя я его и употребляю, но не знаю, что это такое; знаю только, что вещь хорошая.
С и п и о н
Скажу кратко. Слово это состоит из двух греческих слов, а именно: «филос» и «софия»: «филос» значит «любовь», а «софия» — «знание»; так что «философия» означает любовь к знанию, а «философ» — любитель знания.
Б е р г а н с а
Большая у тебя ученость, Сипион. И какой черт обучил тебя греческим словам?
С и п и о н
Поистине, Берганса, ты простец, если придаешь этому вздору значение; это — вещи, известные даже школьникам; а затем, разве нельзя прослыть знатоком греческого языка, не зная его; подобно тому как можно сойти за латиниста, ничего не смысля в латыни.
Б е р г а н с а
Совершенно с тобой согласен. И было бы очень недурно положить всех этих знатоков под пресс да выжать из них сок их настоящего знания; пусть бы они не дурачили людей сусальным золотом своих рваных штанов[18] и своей поддельной латынью: ни дать ни взять — португальцы, надувающие негров в Гвинее![19]
С и п и о н
Теперь, Берганса, ты с полным правом мог бы прикусить, а я прищемить свой язык, потому что все наши речи — сплошные сплетни.
Б е р г а н с а
Но я вовсе не обязан поступать так, как поступил, по рассказам, некий туриец по имени Хоронд[20], установивший закон: чтобы никто в городе, под страхом смертной казни, не смел являться в собрание вооруженным. Позабыв об этом, он пришел однажды на заседание, опоясанный мечом; спохватившись и вспомнив об установленном наказании, Хоронд в ту же минуту обнажил меч и пронзил себе грудь, и вышло так, что он первый установил закон, первый его нарушил и первый понес наказание. Дело в том, что я не устанавливал никакого закона, а просто дал слово, что прикушу себе язык, как только начну сплетничать, но нынче нравы у нас не такие суровые и строгие, как в древности: сегодня у нас вводят закон, а завтра его нарушают, и, пожалуй, так этому и следует быть. Сейчас тебе человек обещает исправить свои пороки, а через какую-нибудь минуту впадает в другие, более тяжкие грехи. Одно дело восхвалять строгость, а другое — подвергать себя ее действию: ведь от слова до дела не рукой подать. Пусть его прикусывает язык леший, а я не хочу разыгрывать благородство тут, на этой циновке, где нет никого, кто бы мог меня видеть и отметить мою похвальную решимость!
С и п и о н
Отсюда следует, Берганса, что, родившись человеком, ты, наверное, стал бы лицемером, и все твои поступки были бы внешние, притворные и поддельные; ты прикрывал бы их покровом добродетели только для того, чтобы тебя хвалили, как это делают вообще все лицемеры.
Б е р г а н с а
Не знаю, право, как бы я тогда поступил, но зато мне вполне ясно, чего я не буду делать теперь: не стану я себе прикусывать язык, поскольку мне предстоит столь длинный рассказ, что я даже сообразить не могу, когда и каким образом успею я все закончить; к тому же я сильно побаиваюсь, как бы с восходом солнца мы не оказались во тьме, то есть не утратили дара речи.
С и п и о н
С помощью кеба все устроится к лучшему. Продолжай свой рассказ, не сбиваясь с прямого пути за неуместными отступлениями, и тогда, как бы длинен он ни был, ты скоро его окончишь.
Б е р г а н с а
Итак, убедившись в нахальстве, воровстве и бесстыдстве негров, я, как хороший слуга, порешил бороться с ними всеми возможными средствами, и мне так повезло, что я вполне преуспел в своем намерении. Мною было уже отмечено, что негритянка спускалась вниз ублажаться с негром в полной уверенности, что бросаемые ею куски мяса, хлеба и сыра сделали меня немым… Ах, Сипион, большую силу имеют взятки!
С и п и о н
Да, большую, но не уклоняйся в сторону, продолжай.
Б е р г а н с а
Помнится, что когда я ходил в школу, то слышал от одного наставника латинскую поговорку, так называемый адагий, гласивший: habet bovem in lingua.[21]
С и п и о н
Ну, и не вовремя же ты применил свое изречение! Так скоро позабыть, что мы сейчас говорили о людях, вставляющих в испанскую речь латинские слова!
Б е р г а н с а
Моя латынь подходит сейчас как нельзя более кстати: заметь, что у афинян была в обращении, наряду с другими деньгами, монета с изображением быка, и когда какой-нибудь судья бывал подкуплен и начинал говорить или поступать неосновательно и несправедливо, то они говаривали: «у него на языке лежит бык».
С и п и о н
Применение пословицы неясно.
Б е р г а н с а
Почему же неясно, если подачки негритянки заставили меня на много дней онеметь, так что, когда она приходила на свидание к влюбленному негру, я ни разу не посмел на нее залаять? А поэтому я еще раз повторю: большую силу имеют взятки!
С и п и о н
Я уже ответил тебе, что большую; мне не хочется пускаться в пространные отступления, но я мог бы показать на тысяче примеров, какою огромною силой обладают взятки; впрочем, может быть, кое-что и скажу, если небо предоставит мне время, место и дар слова, необходимый для повести о моей жизни.
Б е р г а н с а
Да ниспошлет тебе бог то, что ты себе желаешь, и слушай. В конце концов мое доброе намерение взяло верх над позорными подачками негритянки, и когда в одну очень темную ночь она спустилась вниз для обычной своей забавы, я напал на нее, не залаяв, дабы не переполошить домашних, в один миг разорвал в клочья ее рубаху и отхватил ей кусок ляжки; шутка эта оказалась настолько серьезной, что продержала негритянку в постели больше недели, причем ей пришлось выдумать для хозяев какую-то болезнь. По выздоровлении она однажды ночью явилась снова; я опять завязал драку с рабыней и, не укусив ее ни разу, исцарапал ее так, словно прочесал на ворсильных щетках, как одеяло. Наши схватки происходили в глубоком молчании, и я всегда оказывался победителем, а негритянка — потрепанной и страшно обозленной; досада ее скоро отразилась на моем здоровье и шкуре, ибо она наложила руку на паек и кости, так что мало-помалу на хребте у меня стали ясно обозначаться позвонки. За всем тем, хотя у меня и отняли пищу, но лай мой остался при мне, а поэтому негритянка, желая разом доконать врага, угостила меня поджаренной в масле губкой; я сразу почуял подвох и помял, что угощение это будет почище крысиного яда, ибо от него сразу вздувается живот и губка выходит из тела только вместе с жизнью; увидев, что мне не уберечься от происков столь бесчеловечных врагов, я порешил убежать от них прочь, чтобы глаза мои их больше не видели.
Когда меня спустили однажды с привязи, я, не прощаясь с домашними, пробрался на улицу, где через какую-нибудь сотню шагов судьба послала мне навстречу альгуасила, о котором в начале рассказа я упомянул как о большом приятеле моего мясника Николаса Курносого; с первого же взгляда он узнал меня и окликнул по имени. Я его тоже узнал и подошел на его зов с обычными своими приветствиями и ласками. Он схватил меня за шиворот и, обращаясь к двум полицейским, сказал:
— Это отличная, обученная собака, принадлежавшая моему близкому другу; возьмем ее к себе.
Полицейские обрадовались и объявили, что если собака обучена, то она, несомненно, принесет им большую пользу. Они хотели было схватить меня и тащить силой, но хозяин сказал, что хватать меня незачем и что я пойду сам, потому что хорошо его знаю. Я забыл сказать, что ошейник со стальными шипами, который я унес с собой при побеге из стада, с меня снял на постоялом дворе один цыган, так что в Севилье я ходил без ошейника; теперь альгуасил надел на меня ремень, украшенный мавританской латунью. Подумай только, Сипион, об изменчивом колесе фортуны: вчера я — студент, а сегодня уже — полицейский!
С и п и о н
Да ведь так всегда бывает на свете, тебе незачем преувеличивать внезапные перемены судьбы: какая же разница между слугой мясника и прислужником полицейского? Я просто не выношу и не в состоянии терпеть, когда иной человек, для которого наивысшим счастьем было бы место какого-нибудь дворецкого, начинает жаловаться на судьбу. Как клянет он свою жизнь, какими поношениями ее бесчестит! И все это для того, чтобы слушающий мог подумать, что к тому жалкому убожеству, в котором он живет, он пришел с высот благополучия и счастья.
Б е р г а н с а
Ты прав; нужно тебе заметить, однако, что альгуасил мой водил дружбу с писцом, который служил вместе с ним. Оба они находились в сожительстве с двумя бабенками, которые вели себя не так, чтобы немножко «не того», а совсем-таки «не того»; правда, лицом они были довольно смазливы, но в душе — беззастенчивые, продувные шлюхи. Обе женщины служили сетью и крючком для ловли рыбки в мутной воде, и вот каким образом: они одевались с таким расчетом, чтобы по крапу нетрудно было отгадать карты, и на арбалетный выстрел показывали, что они — дамы легкого поведения; охотились они всегда на иностранцев, и когда в Кадис или Севилью приходили корабли, а вместе с ними надежда на наживу, редкому чужеземцу удавалось избегнуть их нападений; когда же кто-нибудь из «чумазых» сходился с одной из наших «чистеньких», те сообщали альгуасилу и писцу, куда и в какую гостиницу они отправляются, и едва только дамы замкнутся с приезжим наедине, как появлялись наши герои и брали их под стражу как развратников; правда, они обычно не отправляли их в тюрьму, так как иностранцы откупались от наказания деньгами. И вот случилось, что Колиндрес — так звали подругу альгуасила — подцепила на свою удочку грязного «замазулю»-чужеземца, сговорилась с ним на ужин и на ночь, передала удилище в руки своего друга, и едва они с гостем разделись, как альгуасил, писец, двое полицейских и я очутились тут как тут. Прелюбодеи переполошились, альгуасил расписал страшными красками их преступление, велел им немедленно одеваться и идти в тюрьму; иностранец приуныл; писец, вняв голосу сострадания, стал улаживать дело и после долгих просьб сбавил пеню до ста реалов. Бедняга спросил было свои замшевые шаровары, где находились деньги для выкупа, но шаровары, оставленные на стуле у изголовья, не объявлялись, да и не могли объявиться; дело в том, что когда я попал в комнату, до носа моего донесся запах сала, который меня сразу очаровал; я чутьем добрался до него и увидел, что еда лежит в сумке, подвешенной к шароварам. То был кусок великолепной ветчины; чтобы отведать его и без помех извлечь наружу, я выволок шаровары на улицу и полакомился ветчиной вволю. Когда я вернулся в комнату, приезжий кричал и вопил на ломаном, варварском (хотя и понятном!) языке, чтобы ему вернули его штаны, где у него было «пятьдесят золотых скуди в золоте». Писец заподозрил в краже Колиндрес и полицейских; альгуасил подумал то же самое: он отозвал их в сторону, но никто не сознался, и тогда началось беснование. Сообразив, в чем дело, я вернулся на улицу, где оставил шаровары, с бескорыстной надеждой их отыскать, но шаровар нигде не было; видно, их унес с собой какой-то счастливый прохожий. Когда альгуасил убедился, что иностранцу взятки не заплатить, он пришел в отчаяние и порешил выманить у хозяйки дома деньги, причитавшиеся с приезжего. Она явилась на зов едва одетая; когда она услышала крики и жалобы чужеземца, увидела голую, плачущую Колиндрес, разгневанного альгуасила, беснующегося писца и полицейских, совавших в карман все, что попадалось под руку, это ей совсем не понравилось.
Альгуасил велел ей одеться и отправиться с ним в тюрьму за то, что она пускает в дом мужчин с непотребными женщинами. Тут-то и заварилась каша, поднялись крики и началась суматоха, потому что хозяйка обратилась к ним таким образом:
— Сеньор альгуасил и сеньор писец! Что вы со мной хитрите: все это белыми нитками шито; все ваши штучки и выверты не про меня; наберите лучше в рот воды и уходите с богом, а не то, вот вам крест, я своего добра не пожалею, но выведу на чистую воду всю подноготную этой истории! Мне отлично известна не только сеньора Колиндрес, но и то, что ее покровителем с давних пор состоит сеньор альгуасил; не заставляйте меня высказываться яснее, возвратите деньги этому сеньору и будем снова друзьями. Помните, что я женщина честная и что муж мой имеет дворянскую грамоту с perpenan rei de теmoria[22] и свинцовыми печатями, слава тебе господи; дело свое я веду чисто, ни себе, ни людям не в обиду; цены у меня прибиты на гвоздике и висят на виду; нечего мне очки втирать: я и так гляжу в оба. Хороша бы я была, если бы с моего ведома женщины помещались вместе с постояльцами! У них есть ключи от своих комнат, и я тебе не рысь, чтобы через семь стен насквозь видеть!
Писец и альгуасил вникнули в отповедь хозяйки и, сообразив, что она прочитала им историю их жизни, сначала оторопели, но, прикинув в уме, что если не она, то никто больше не выложит им денег, уперлись на том, чтобы вести ее в тюрьму. Она возносила к небу жалобы на произвол и несправедливость, чинимые над ней в отсутствие ее мужа, известного высокородного идальго. Иностранец вопил о своих «пятидесяти скуди». Полицейские уверяли, что они не видели шаровар и что «господь бог никогда бы не допустил до этого». Писец, по-прежнему подозревая в краже Колиндрес, втихомолку настаивал, чтобы альгуасил обыскал ее платье: у нее-де есть привычка шарить по фалдам и карманам людей, которые с ней гуляют. Та заявила, что чужеземец пьян и что про деньги он, несомненно, врет.
Под конец поднялась страшная перепалка, раздались крики и ругательства, никто не мог успокоиться, да и никогда бы не успокоился, если бы в комнате неожиданно не появился заместитель наместника, явившийся осмотреть гостиницу: шумные голоса привлекли его к месту ссоры. Он осведомился о причине криков. Хозяйка объяснила все с большими подробностями. Она описала личность нимфы Колиндрес, успевшей к тому времени одеться; объявила во всеуслышание про ее связь с альгуасилом, на всю улицу прокричала про ее плутни и воровские ухватки; стала доказывать, что с ее ведома ни одна подозрительная женщина к ней не хаживала; изобразив себя святой, а мужа своего угодником, она крикнула служанке, чтобы та сбегала и вынула из сундука дворянскую грамоту ее мужа на просмотр господину заместителю, прибавив, что тогда он сам увидит, может ли такая порядочная женщина сделать что-либо дурное; если же она занимается сдачей комнат, то делает это по необходимости, и один только бог знает, как это ей тяжело и как она все время мечтает о какой-нибудь ренте и хлебе насущном, а совсем не о таком ремесле…
Заместитель, выведенный из себя ее многословием и похвальбой дворянской грамотой, сказал ей:
— Дорогая хозяюшка, я готов поверить, что у мужа вашего есть дворянская грамота, но тем самым вы должны сознаться, что он и есть у вас трактирный дворянин.
— И весьма тем гордится, — отвечала хозяйка, — а где такой род на свете найдется, хотя бы даже и самый знаменитый, в котором ни сучка, ни задоринки не было бы?
— На это я, моя милая, скажу так: одевайтесь и пойдемте с нами в тюрьму.
Слова эти сразили ее окончательно. Она исцарапала себе лицо, подняла вой, и тем не менее заместитель проявил необычайную строгость и отправил в тюрьму их всех, то есть иностранца, Колиндрес и хозяйку. Впоследствии я узнал, что иностранец к потерянным «пятидесяти скуди» приплатил еще десять за судебные издержки; хозяйка внесла за себя столько же, а Колиндрес получила свободу и была отпущена подобру-поздорову. В тот самый день как ее выпустили, она подцепила какого-то моряка, который тоже попался в расставленные силки и вознаградил ее за невыгодного чужеземца. Сам посуди, Сипион, сколько бед и хлопот натворило мое чревоугодие!
С и п и о н
Правильнее было бы сказать: плутни твоего хозяина.
Б е р г а н с а
Нет, послушай: мои молодцы еще не такие коленца откалывали; впрочем, мне как-то неловко осуждать альгуасилов и писцов.
С и п и о н
Дело в том, что осудить одного еще не значит осудить всех поголовно; на свете, несомненно, существует великое множество порядочных, честных и справедливых писцов, людей вполне доброжелательных и не обижающих просителя; ведь не все они затягивают тяжбы и входят в сделки со сторонами; не все набавляют пошлины, не все они вторгаются и вмешиваются в чужую жизнь с тайным намерением создать судебное дело; не все они действуют заодно с судьей: ты, мол, меня побрей, а я тебе тупей[23] отделаю; ведь не все альгуасилы вступают в соглашение с бродягами и мошенниками, не все они заводят себе таких беспардонных подруг, как твой хозяин. Очень и очень многие среди них по природе своей — подлинные идальго и ведут себя совсем как идальго; многие из них не озорники, не нахалы, не невежи, не прохвосты и не чета иным альгуасилам, являющимся в гостиницы вымеривать шпаги у приезжих: обнаружив, что шпага хоть на волос длиннее установленного образца, они разоряют владельца поборами; да, не все они такие, что сначала возьмут под стражу, а потом выпустят; сначала поиграют в судью, а потом в защитника.
Б е р г а н с а
Мой хозяин метил высоко и пути выбирал особенные; ему хотелось прослыть отчаянным храбрецом и захватывать опасных преступников; он поддерживал свою славу без всякого риска для собственной жизни, жертвуя одним кошельком.
Однажды близ Хересских ворот он в одиночку напал на шестерых отъявленных подкалывателей. Я ему даже и помочь не мог, потому что на морде у меня была веревочная узда (так он водил меня днем; ночью узда снималась). Я очень подивился его отваге, лихости и бесстрашию; он так легко и непринужденно себя чувствовал под шестью шпагами этих разбойников, как будто имел дело с ивовыми прутиками; поистине стоило посмотреть, с какой быстротой он наступал, как выпадал и отбивал удары, каким неусыпным и бдительным глазом следил, чтобы его не обошли с тыла. Одним словом, не только я, но и все, кто видел или слыхал об этой схватке, признали, что мой хозяин — второй Родомонт, ибо он заставил своих врагов пятиться от Хересских ворот до мраморных колонн Коллегии Маэстро Родриго, что составляет более ста шагов. Загнав их туда, он вернулся, подобрал боевые трофеи, то есть трое ножен, и сейчас же пошел показать их наместнику, которым, если только правильно вспоминаю, был тогда лиценциат Сармьенто де Вальядарес[24], прославившийся впоследствии разгромом Сауседы[25].
Все пялили глаза на моего хозяина, когда он проходил по улицам, и указывали на него пальцами, как бы желая сказать:
— Вот храбрец, не побоявшийся схватиться в одиночку с отборными разбойниками Андалусии.
В этой прогулке по городу с целью выставить себя напоказ прошла остальная часть дня, а ночь застала нас в Триане[26], на улице, неподалеку от Пороховой мельницы. «Пустив глазенапа» (как выражаются воры) на случай, если бы кто-нибудь за ним следил, он юркнул в один дом, а я за ним следом. Во внутреннем дворике мы застали всех героев недавней схватки без плащей, без шпаг и с расстегнутым воротом; один из них, должно быть, главарь, держал в одной руке большой кувшин вина, а в другой — большую кабацкую кружку, которую он наполнял до краев благородным шипучим вином и подносил всем товарищам. Заметив моего хозяина, все бросились к нему с распростертыми объятиями и стали пить за его здоровье; он выпил со всеми и, если бы было нужно, охотно выпил бы и еще, потому что отличался обходительным нравом и не любил обижать людей из-за пустяков.
Если бы я вздумал описать, о чем они толковали, какой они ужин себе закатили, о каких побоищах вели речь, о каких кражах рассказывали, каких дам они ставили в образец, а каких осуждали, каких отсутствующих молодцов поминали, с каким знанием говорили об искусстве владеть оружием (причем вставали из-за стола и показывали, в какие положения они попадали, фехтуя для этого руками), какие щегольские словечки употребляли; если бы я захотел, кроме того, сказать, какого полета был сам хозяин, почитавшийся у них отцом и владыкой, — это значило бы пуститься в лабиринт, из которого я при самом большом желании, наверное, не сумел бы выпутаться. В заключение я с полной ясностью уразумел, что хозяин дома, по имени Мониподьо, был укрыватель воров и опора подкалывателей и что опасная схватка моего хозяина была заранее подготовлена вплоть до подробностей отступления и потери ножен, за которые мой хозяин тут же рассчитался наличными, а заодно уплатил (по предъявленному Мониподьо счету) и за ужин, закончившийся почти на заре к великому удовольствию всех участников. На сладкое хозяин мой получил… донос на одного бандита, чужого и никому не известного, недавно прибывшего в город. Он, видимо, был храбрее их всех, а поэтому из зависти они его выдали. Мой хозяин захватил его следующей ночью раздетого и в постели, ну, а в одежде (я это заключил по его внешнему виду) он, наверное, не позволил бы взять себя голыми руками. Это событие, случившееся вскоре после схватки, еще больше увеличило известность нашего труса, а хозяин мой был труслив, как заяц, и поддерживал славу храбреца одними угощениями да выпивкой, попутно стараясь использовать для этих целей свое служебное положение и всякого рода сговоры. Наберись, однако, терпения и прослушай историю, которая с ним случилась, причем я не прибавлю к ней и не убавлю ни единого слова.
Два вора украли в Антекере великолепную лошадь, привели ее в Севилью и, для того чтобы безопаснее было продать, прибегли к хитрости, на мой взгляд, очень тонкой и неглупой: они остановились в разных гостиницах, и один из них отправился в суд и подал прошение о том, что Педро де Лосада должен ему четыреста реалов, как это явствует из расписки, скрепленной подписью, каковую расписку он и представил.
Наместник постановил, чтобы Лосада признал свою расписку, а в случае признания подвергся либо взысканию с имущества в указанной сумме, либо заключению в тюрьму. Исполнение приговора было возложено на моего хозяина и его друга писца; вор свел их в гостиницу к товарищу, и тот немедленно признал свою подпись и долг, а в виде уплаты представил коня. При взгляде на коня у моего хозяина глаза разбежались, и он тут же решил прибрать его к рукам, если только будет назначена продажа. Первый вор заявил, что законный срок уже истек: лошадь продали с торгов и уступили за пятьсот реалов посреднику, подосланному моим хозяином. За коня можно было спросить в полтора раза больше назначенной цены, но так как продавцу было важно продать его как можно скорее, он с первой же ставки уступил свой товар. Получил один вор деньги, которые ему никто не был должен; другой получил справку об уплате, в которой совсем не нуждался, а хозяину моему достался конь, не менее роковой для владельца, чем пресловутый Сейянов[27] конь. Воры поспешили «сняться с якоря», а дня через два мой хозяин, справив лошади сбрую и кое-какие мелочи, выехал на площадь св. Франциска более напыженным и важным, чем мужик, разодевшийся на праздник. На него посыпались тысячи поздравлений с удачной покупкой; все стали уверять, что дать за такого коня сто пятьдесят дукатов — такое же верное дело, как заплатить мараведи за яйцо, а между тем мой хозяин, гарцуя на лихо играющем коне, разыгрывал свою собственную трагедию на подмостках уже поименованной мною площади.
Когда он весь с головой ушел в свои «винты» и «повороты», подошло двое изящных, отлично одетых мужчин и один из них сказал:
— Боже мой, да ведь это «Неутомимый» конь, которого недавно украли у меня в Антекере!
Четверо слуг, сопровождавших незнакомца, подтвердили, что это — правда и что конь этот — уворованный у них «Неутомимый». Мой хозяин растерялся, владелец коня заспорил, оба начали приводить доказательства, и владелец так определенно настоял на своих правах, что приговор был вынесен в его пользу, и хозяин мой лишился коня. Все узнали про хитрую проделку воров, сумевших продать краденое при поддержке и соучастии властей, и очень многие порадовались, что альгуасила ударила по карману его собственная жадность.
Несчастья его на этом не окончились; в ту же самую ночь на ночной обход вышел сам наместник, извещенный о том, что в квартале св. Хулиана шатаются воры; на одном перекрестке заметили, как бегом пробежал какой-то человек; в ту же минуту наместник схватил меня за ошейник и стал науськивать:
— Гавилан, вор! Голубчик Гавилан, вор, вор!
Мне давно уже наскучили темные дела альгуасила; я исполнил приказ сеньора наместника и, не сморгнув глазом, бросился на своего хозяина. Прежде чем он успел что-нибудь предпринять, я повалил его наземь и, не оттащи меня люди, я, наверное, отомстил бы за многих; нас рознили к великому неудовольствию обоих. Полицейские хотели было меня наказать и избить насмерть палками; мне пришлось бы подвергнуться пытке, если бы не наместник, сказавший:
— Не смейте его трогать: собака сделала то, что я приказал.
Намек был понят, и я, ни с кем не прощаясь, через отверстие стены выбрался в поле и еще до рассвета очутился в Майрене, находящейся в четырех милях от Севильи. Оказалось, что там стоит полк солдат, двигавшийся, по моим сведениям, на посадку в Картахену. Там было четверо солдат из числа преступного люда, близко дружившего с моим прежним хозяином, а барабанщик раньше служил в полиции и был лихим краснобаем, как и все вообще барабанщики.
Меня узнали, со мной заговорили и стали так подробно расспрашивать о хозяине, как будто я был в состоянии дать им ответ; больше всего расположения выказал ко мне барабанщик, так что я решил пристроиться к нему и, буде он пожелает, отправиться с ним в дорогу, хотя бы даже в Италию или Фландрию, ибо мне думается (да и ты, наверное, разделяешь это мнение), что, вопреки пословице, гласящей «кто в деревне дурак, останется дураком и в Кастилии», путешествия по чужим краям и общение с людьми развивают ум человека.
С и п и о н
Это несомненная истина; помнится, я слышал как-то от одного из своих хозяев, обладавшего большими познаниями, что знаменитый грек, по имени Уллйс, удостоился прозвания умного как раз за то, что объездил много земель и общался с самыми разнообразными людьми и народами; я вполне одобряю принятое тобою намерение отправиться в путешествие.
Б е р г а н с а
Дело в том, что барабанщик, желая блеснуть своим скоморошеством, стал учить меня танцевать под звуки барабана и выкидывать разные штуки, которые вряд ли оказались бы под силу другой собаке, кроме меня, как это ты увидишь, когда я о них расскажу. Мы уже выступили за границы своего округа и медленно подвигались вперед; комиссара, который мог бы мешать, при нас не было; наш командир был молодой, но примерный кавальеро и обращался с нами по-простецки; поручик всего несколько месяцев как покинул столицу и господский кошт, а сержант, продувной и дошлый малый, смотрел за солдатами в оба, начиная с места набора и до самой посадки на корабль. Полк наш кишел закоренелыми в дезертирстве бродягами, чинившими насилия по деревням, которыми мы проходили, так что все осыпали проклятиями власть, а она была тут совсем ни при чем; таково уже несчастье владык, ибо подданные клянут их за проступки других подданных по той простой причине, что каждый гражданин может стать палачом другого без всякой вины со стороны властителя; сам же он, даже если бы хотел и старался, не в силах помочь беде, ибо всё (или почти всё), связанное с войной, неизбежно порождает суровость, жестокость и притеснения.
Итак, меньше чем в две недели, благодаря моему личному дарованию и усердию, вложенному в дело тем, кого я избрал в наставники, я выучился прыгать через обруч «в честь французского короля» и «в честь хорошей таверны». Я умел делать «курбеты» не хуже неаполитанского коня; ходил по кругу, как мул, вертящий мельницу, знал и другие вещи; если бы я из осторожности не удерживался, то несомненно вызвал бы подозрение, что какой-то демон в образе пса выделывает эти штуки. Он прозвал меня «ученый пес», и едва мы, бывало, придем на постой, как он уже бьет в барабан, идет по селу и оповещает желающих взглянуть на диковинное искусство и способности ученого пса; смотреть их можно в таком-то доме или в таком-то госпитале за плату от четырех до восьми мараведи, в зависимости от величины поселка. После таких похвал редкий человек не поддавался соблазну взглянуть на меня, и совсем не находилось людей, остававшихся после посещения равнодушными или недовольными. Хозяин был в восторге от больших доходов, и шестеро товарищей кормились при нем, как цари. Жадность и зависть пробудили у бродяг желание выкрасть меня, и они только поджидали удобного случая, ибо возможность заработать на хлеб играючи привлекает множество лакомок и любителей; вот почему в Испании так много марионетчиков и показывателей «вертепов», так много продавцов булавок и стишков: всего их имущества, если его пустить в продажу, не хватит на дневное пропитание, а между тем и те и другие не выходят из кабаков и таверн целый год; ясно, что совсем иными источниками, а не этим ремеслом поддерживают они поток своего бражничанья. Все это — народ слоняющийся, никчемный и бесполезный: винные губки, саранча, поедающая хлеб!
С и п и о н
Ну, довольно, Берганса; не стоит повторять старые ошибки; рассказывай дальше: ночь проходит, и мне не хотелось бы, чтобы с восходом солнца мы погрузились во тьму молчания.
Б е р г а н с а
Не нарушай же его сам и слушай. Так как добавить что-нибудь к готовому изобретению — вещь нетрудная, мой хозяин, заметив, что я отлично изображаю неаполитанского скакуна, справил мне попонку из травчатой кожи и небольшое седло, надевавшееся на спину; сверху он посадил чучело человека с копьем для игры в кольца и обучил меня попадать прямо в кольцо, помещенное между двух палок; когда настал день выступления, хозяин стал выкликать, что сегодня ученый пес будет ловить кольца и покажет новые и невиданные приемы, которые мне приходилось выдумывать из головы, чтобы не выставить лгуном своего хозяина. Итак, медленными переходами мы добрались до Монтильи, владения знаменитого и благочестивого маркиза де Приего[28], владельца майората Агилар-и-Монтилья. Моего хозяина, по его настоянию, поместили в госпитале; он тотчас же кликнул обычный клич, а так как молва нас уже опередила и повсюду разнесла весть про искусство и способности ученого пса, меньше чем в полчаса дворик наполнился народом. Хозяин обрадовался, предвкушая обильный урожай, и выказал себя в тот день необычайным потешником. Первое, с чего он начал представление, были скачки через обруч решета, ничем не отличавшегося от обруча с бочки; без умолку балагуря и задавая обычные вопросы, он опускал вниз ивовый прутик, бывший у него в руке, и это значило, что нужно прыгать; когда же он поднимал его вверх — значит, нужно оставаться на месте. Первая прибаутка этого дня (памятного среди всех остальных на свете) была такая:
— Ну, дружок Гавилан, поскачи-ка в честь мышиного жеребчика, которого ты отлично знаешь, того самого, что ваксит себе бороду; а если не хочешь, так поскачи в честь роскошной доньи Пимпинелы де Плафагонья, горничной девушки галисийской поденщицы, служившей в Вальдеастильясе. Что, не нравится прибаутка, дружок Гавилан? Ну, так поскачи в честь бакалавра Пасильяс, что подписывается «лиценциат», а степени никакой не имеет. Э, да ты лентяй! Что ж ты не скачешь? А, понимаю, догадываюсь, что у тебя на уме: а ну-ка, поскачи в честь влаги, изготовляемой в Эскивьяс, столь же знаменитой, как Сьюдад Реаль[29] Сан Мартин и Ривадавья.
Он опустил прутик, я прыгнул и подтвердил этим его ехидные шутки и лукавые намеки. Он тотчас же повернулся к зрителям и сказал:
— Пусть высокое собрание не думает, что собака обучена каким-нибудь пустякам, — она у меня знает по меньшей мере двадцать четыре фокуса, и из-за самого плохонького можно тридцать миль пешком сделать, только б увидеть: она у меня танцует сарабанду и чакону получше, чем изобретательница этих танцев; умеет осушить меру вина, не оставив на дне капли, и споет вам «соль, фа, ми», что твой ризничий; все эти фокусы и еще многие другие ваши милости могут увидеть во все дни, что здесь простоит наш полк. Теперь пусть наш ученый еще попрыгает, а потом перейдем к более важному.
Этими словами хозяин очаровал своих слушателей и возбудил у них желание во что бы то ни стало посмотреть на мое искусство. Он снова повернулся ко мне и сказал:
— А ну-ка, дружок Гавилан, постарайся проворством и ловкостью затмить свои прежние прыжки; ты должен это сделать из почтения к знаменитой колдунье, которая жила, говорят, в этих местах.
При этих его словах вдруг раздался голос смотрительницы госпиталя, старухи, которой по виду было уже за шестьдесят:
— Ах ты, мошенник, шарлатан, надувало, шлюхин ты сын, не было здесь никакой колдуньи, а если ты намекаешь на Камачу, так она уже искупила свой грех и находится там, где бог обитает; если же ты, скоморох, про меня это говоришь, то я не колдунья и в жизни ею не была; правда, ходили про меня такие слухи по милости разных лжесвидетелей, нарушителей закона и неосмотрительного, плохо осведомленного судьи, но теперь все люди на свете знают, что я все время каюсь, но каюсь не в колдовстве, которым не занималась, а совсем в других делах, коими я, как великая вообще грешница, погрешила, а потому, мошенник ты барабанный, пошел вон из госпиталя, а не то, вот тебе крест, ты у меня выкатишься быстрее быстрого!
Тут она стала испускать такие крики и осыпала моего хозяина таким градом ругательств, что привела его в смущение и замешательство; одним словом, она не позволила продолжать представление.
Хозяин не очень огорчился переполохом, поскольку деньги остались при нем, и перенес на другой день и в другой госпиталь неудачно начавшееся дело. Народ разошелся, проклиная старуху и ругая ее не только колдуньей, но и старой ведьмой, да к тому же еще бородатой. Тем не менее мы остались в этом госпитале на ночь, и старуха, повстречав меня, сказала:
— Не ты ли это, сынок Монтьель? Вдруг, на мое счастье, это ты, сынок!
Я поднял голову и пристально на нее поглядел; заметив это, она со слезами на глазах подошла ко мне, обвила мою шею руками и, если бы я не уклонился, поцеловала бы меня в губы, но мне стало противно, и я не позволил.
С и п и о н
И хорошо сделал, потому что обниматься со старухой или принимать от нее поцелуи — не радость, а мученье.
Б е р г а н с а
То, о чем я тебе сейчас расскажу, мне следовало бы сообщить в начале беседы; нам не пришлось бы тогда удивляться, что у нас неожиданно объявился дар речи, ибо старуха, нужно тебе сказать, заговорила со мной таким образом:
— Чадо мое, Монтьель, иди за мной, посмотри, где я живу, и постарайся, чтобы сегодня ночью мы повидались с тобой наедине. Я оставлю дверь незакрытой; знай, что я могу тебе рассказать много весьма полезных вещей о твоей жизни.
Я склонил голову в знак согласия, вследствие чего она окончательно утвердилась в мысли, что я тот самый пес Монтьель, которого она (как потом сама мне сказала) разыскивала. Я был поражен и смущен словами старухи и стал дожидаться ночи, любопытствуя узнать, что выйдет из этого загадочного и странного приглашения; я слышал, что люди называли ее колдуньей, и поэтому многого ожидал от этой встречи и разговоров.
Наступила, наконец, минута, когда я очутился вместе с нею в темной, тесной и низкой комнате, освещенной слабым светом находившейся там глиняной лампы; старуха ее зажгла, уселась на сундучок, привлекла меня вплотную к себе и, не произнося ни слова, стала снова обнимать меня, и я снова начал следить за тем, как бы она меня не поцеловала.
Первые ее слова были следующие:
— Я твердо уповала на небо, что прежде чем глаза мои сомкнутся для последнего сна, я увижу тебя, дитя мое; теперь, когда я тебя увидела, пусть приходит смерть и пусть она уберет меня с постылого света. Да будет тебе известно, дитя мое, что в этом селении жила самая знаменитая на свете колдунья, по имени Камача Монтильская. Она не знала соперниц в своем ремесле, и ни Эрихто, ни Цирцея, ни Медея, именами которых, как я слышала, полны все сказания, не могут с нею равняться. Она сгущала, по желанию, облака и закрывала ими лик солнца; по прихоти своей делала солнечной самую ненастную погоду; доставляла людей из самых далеких стран; чудесным образом врачевала девиц, допускавших неосторожность в соблюдении своего целомудрия; укрывала вдов таким образом, что они с пристойностью могли вести себя непристойно; разводила замужних и женила всех, кого хотела; в декабре у нее в саду цвели розы, а в январе она убирала с поля свой хлеб. Вырастить салат в квашне было для нее таким же пустячным делом, как показать в зеркале или на ногте младенца живых и покойников, которых ее просили вызвать. Про нее ходила молва, что она превращает людей в животных и что у нее под видом осла самым настоящим и подлинным образом прослужил шесть лет один ризничий. Я никак не могла понять, как это делается, потому что весьма сведущие люди уверяют, будто все россказни про древних волшебниц, превращающих людей в животных, обозначают только то, что они своей необыкновенной красотой и своими ласками старались влюбить в себя мужчин и покорить их в такой мере, что те, подчинившись их желаньям, начинали походить на скотов. Но относительно тебя, дитя мое, опыт показывает обратное: мне известно, что ты — существо, одаренное разумом, а между тем я вижу тебя в образе пса. Возможно, впрочем, что тут замешалась наука, по названию магия, силою которой одна вещь начинает походить на другую. Как бы там, однако, ни было, мне все-таки очень горько, что ни я, ни твоя мать (а мы — ученицы старой Камачи) не могли приобрести таких знаний, какие были у нее, и не по недостатку дарований, сноровки и смелости (у нас их было скорее много, чем мало), а из-за чрезмерного лукавства старухи, ибо она ни за что не хотела обучить нас самому главному и все берегла про себя. Твоя мать, дитя мое, звалась Монтьела; после Камачи она была самая знаменитая; меня зовут Каньисарес, и хоть я не такая умудренная, как они обе, но все же и у меня доброй воли было не меньше, чем у каждой из них. Правда, смелость, с какой твоя мать входила в начерченный на земле круг и бесстрашно оставалась лицом к лицу с легионом демонов, вряд ли могла бы проявить и сама Камача. Что до меня, то я все-таки малость робела; мне и пол-легиона заклясть бывало довольно; зато (не в осужденье им обеим будь сказано) в искусстве приготовлять мази, которыми мы, ведьмы, смазываемся, ни одна из них не могла бы со мной сравняться, как не сравняются со мной и те, кто ныне исполняет и блюдет наш устав; нужно тебе знать, дитятко, что как увидела я (как и теперь, правда, вижу), что жизнь, поспешающая на быстрых крыльях времени, приходит к концу, я тотчас же решила расстаться с пороками колдовства, одолевавшими меня с давних пор, и позволила себе одну только прихоть: быть ведьмой[30], ну, а этот порок не так-то легко побеждается! С твоей матерью было то же самое: она избавилась от многих пороков, сделала в своей жизни очень много добра, но умерла все-таки ведьмой и умерла не от болезни, а потому, что ее жестоко обидела ее наставница Камача, невольно позавидовавшая ученице, которая грозила перещеголять ее своими знаниями и стала ей поперек горла; возможно, впрочем, что тут имело место столкновение на почве ревности, оставшееся для меня неизвестным.
Когда мать твоя забеременела и ей приспело время рожать, Камача навязалась ей в повитухи и, приняв собственными руками рожденный плод, заявила, что мать твоя родила двух собачонок. Старуха взглянула на них и сказала: «Тут не обошлось без злого дела, тут есть плутни; но я, милая Монтьела, тебе друг, я утаю от всех эти роды; постарайся скорее оправиться и прими меры, чтобы несчастье не получило широкой огласки. Огорчаться случившимся не следует; ты ведь знаешь, да и мне отлично известно, что, кроме поденщика Родригеса, твоего любезного, ты давно уже ни с кем не водишься, так что собачий этот приплод имеет особую причину и связан с какой-то тайной». Твоя мать и я (мне случилось присутствовать при разговоре) были поражены этим диковинным случаем. Камача удалилась и унесла с собой щенят, а я осталась ухаживать за твоей матерью, которая никак не могла поверить этому событию.
Но вот Камаче пришло время умирать, и в последнюю минуту жизни она позвала к себе твою мать и открыла, что это она превратила ее детей в собак в отместку за полученную обиду, но пусть-де подруга не тревожится: к детям вернется их истинный облик, когда они меньше всего будут этого ожидать, но это может случиться никак не раньше наступления следующих обстоятельств:
Вот что сказала Камача твоей матери в последнюю минуту своей жизни, как я уже тебе говорила. Твоя мать закрепила эти слова записью и запомнила их наизусть; то же самое сделала и я, в надежде, что со временем мне удастся сообщить их кому-нибудь из вас. Чтобы не пропустить случая вас узнать, я всех собак твоей масти подзывала именем вашей матери, отлично понимая, что собаки не обязаны знать ее имя: мне просто хотелось проверить, откликнутся они или нет, если позвать их столь непохожим на собачью кличку образом. И вот, когда я сегодня вечером увидела, как ты проделываешь разные штуки, и услыхала, что все тебя величают «ученый пес», когда я заметила, с каким видом ты поднял голову и взглянул, когда я позвала тебя у нас на дворе, я решила, что ты — сын Монтьелы, и поэтому я с величайшей радостью сообщаю о постигшей тебя судьбе и о способе, каким ты можешь снова вернуться в свое прежнее состояние. О, как бы мне хотелось, чтобы этот способ был так же прост, как тот, о котором рассказывает Апулей в «Золотом осле»: там следовало съесть одну розу. Но, увы, твое спасение зависит от посторонних людей, а не от твоего собственного усердия. Тебе, дитя мое, остается поручить себя от всего сердца господу богу и ожидать, что эти (не смею сказать) пророчества, вернее догадки, исполнятся скоро и счастливо; если старая Камача пообещала, значит, все это несомненно сбудется: ты и брат твой (если он еще жив) снова увидитесь, как вы оба того желаете. Меня огорчает, однако, что конец мой уже близок и мне не придется присутствовать при вашей встрече.
Много раз я порывалась спросить у нашего козла, чем окончатся ваши приключения, но не решилась, потому что он не отвечает на наши вопросы прямо, а прибегает к словам, порождающим кривотолки, так что у этого господина и сеньора нашего ничего не следует спрашивать: к истине он всегда примешает тысячу врак. Разобравшись в его ответах, я поняла, что о будущем он не знает ничего достоверного и всегда говорит предположительно, тем не менее он так нас, ведьм, одурачил, что, несмотря на все его издевательства, мы с ним не в силах расстаться.
Мы ездим к нему в гости далеко-далеко, на большое поле, где собирается множество ведьм и колдунов; там он нас угощает мерзостной пищей и там творятся такие вещи, что о них даже стыдно говорить: не хочется оскорблять этой грязью и гнусностью твой целомудренный слух. Существует мнение, что поездки на эти пиршества происходят лишь в нашем воображении и что Дьявол внушает нам образы вещей, о которых мы потом рассказываем как о своих переживаниях; существует также другое мнение, согласно которому мы присутствуем там душой и телом; сама я оба мнения считаю возможными, поскольку никто из нас не знает, когда он бывает там только мысленно, а когда на самом деле: ибо все, проносящееся в нашем воображении, до такой степени ярко и сильно, что его никак не отличить от подлинных к несомненных переживаний. В этом смысле сеньорами инквизиторами были произведены опыты над попадавшими в их руки ведьмами, и выводы их, по-видимому, подтверждают мои слова. Мне очень бы хотелось, дитя мое, отстать от своего греха, и я уже приложила к этому некоторые старания: я стала заведовать госпиталем и ухаживать за нищими: одни из них перед смертью оставляют мне на жизнь по завещанию, другие зашивают деньги в заплаты одежды, которую я потом тщательно обыскиваю. Богу я молюсь мало и все больше на людях, а злословлю много и тайком. Мне гораздо выгоднее лицемерить, чем выставлять свой грех напоказ; благое дело, которым я теперь занимаюсь, понемногу изглаживает в памяти людей мои прежние злые деяния. И то сказать, напускная праведность никому не вредит, кроме тех, кто к ней прибегает. Послушай, сынок Монтьель, какую заповедь я тебе дам: добрым ты можешь быть всеми возможными способами, но если захочешь быть злым, старайся не подавать в том вида… тоже всеми возможными способами. Я — ведьма, и скрываться не стану; ведьмой и колдуньей была твоя мать — этого я тоже скрывать не стану, но наше показное благонравие постоит за нас перед целым светом. За три дня до ее кончины мы вместе с ней проводили время в одной пиренейской долине[31] и там у нас шел пир горой, но, несмотря на это, смерть ее была вполне серьезна и пристойна, и если бы не две-три рожи, которые она скорчила за четверть часа до того, как отдать душу богу, всякий подумал бы, что в последнюю минуту, лежа на смертном ложе, она чувствовала себя словно в цветущем брачном чертоге.
Она терзалась сердцем за своих сыновей и не хотела, даже при последнем издыхании, простить Камачу: такая она была стойкая и крепкая в своих делах. Я ей закрыла глаза и проводила до самой могилы; там я с ней простилась навеки, хотя все-таки не теряю надежды свидеться с нею до смерти, ибо по деревне прошел слух, будто кто-то видел, как она бродит по кладбищам и перекресткам, принимая разные обличья; возможно, что я когда-нибудь тоже с ней повстречаюсь и спрошу, не могу ли я чем-нибудь облегчить ее совесть.
Каждое слово старухи в похвалу той, кого она называла моей матерью, поражало мое сердце, как удар копья; меня так и подмывало броситься на нее и разорвать ее в клочья, и если я этого не сделал, то единственно из опасения, что смерть застанет ее в такой богомерзкой жизни.[32] В заключение она сообщила мне, что сегодня ночью непременно намажется мазью, поедет на свое обычное пиршество и по прибытии на место спросит своего господина об ожидающей меня судьбе. Мне захотелось узнать, о каких это мазях она говорила, но, по-видимому, она сама угадала мое намерение и ответила на мою тайную мысль так, словно я ей задал вопрос:
— Мазь, которой смазываются ведьмы, состоит из сока самых истомных трав, а не из крови удушенных нами детей, как о том говорится в народе. Ты мог бы попутно задать мне вопрос: какую радость или какую пользу получает дьявол, толкая нас на убиение младенцев; ему ведь отлично известно, что они крещены, безгрешны и невинны и поэтому попадают сразу на небо, а между тем каждая ускользающая от него христианская душа доставляет ему страшную муку; на это я могла бы ответить словами пословицы: «Иной себе оба глаза выколет, лишь бы только враг его на один глаз окривел»; ясное дело, он рассчитывает при этом на страдания, причиняемые родителям смертью ребенка, то есть на величайшее из всех мучений, какое можно себе представить. Самое главное для него — устраивать так, чтобы каждая из нас почаще совершала жестокие и богопротивные дела, и все это дозволяет господь по прегрешениям нашим; ибо без воли господней, я это знаю по опыту, дьявол не в состоянии обидеть и муравья; это такая правда, что, когда я попросила его однажды разрушить виноградник моего врага, он ответил, что не в силах коснуться даже единого листика, ибо это не угодно господу богу. Из этого ты, когда подрастешь, сможешь сделать вывод, что бедствия, приключающиеся с людьми, государствами и городами, как-то: внезапная смерть, поражения и гибель, иначе говоря, всякое сокрушительное зло происходит от всевышнего и его попустительствующей воли; тогда как вред и зло, именуемые проступками, происходят и ведут свое начало от нас самих. Бог непогрешим, а потому, следовательно, мы сами повинны в грехе, ибо совершаем его делом, словом и помышлением; за грехи наши и дозволяет господь, как я уже сказала, всякие дьявольские козни. Ты еще, пожалуй, спросишь (если ты меня вообще понимаешь), кто меня обучил богословию, а то, чего доброго, подумаешь про себя: «Ах, чтоб ты лопнула, старая шлюха! Зачем же ты остаешься ведьмой, если все тебе отлично известно? Почему ты не обратишься к богу, отчетливо понимая, что он охотнее прощает грехи, чем их дозволяет?» На это я отвечу тебе, как если бы ты меня действительно спрашивал: привычка к пороку — наша вторая натура, и когда становишься ведьмой, влечение это входит в твою плоть и кровь; великий жар, которым мы всегда пылаем, заключает в себе, однако, и холод, с такой силой пронизывающий душу, что он охлаждает и отяжеляет веру, отчего душа погружается в самозабвение и не помнит ни страхов, которыми грозит ей господь, ни блаженств, которыми он ее ободряет; наш грех — грех плотской утехи и услады, а потому он неизбежно притупляет все чувствования, одурманивает их и расслабляет, не позволяя им исполнять свое дело как следует. Душа делается бесплодной, дряблой и косной: у нее не хватает сил осознать важность самой мысли о благе, а потому, опустившись в глубокую пропасть немощи, она не хочет воздеть свою руку к деснице божьей, протянутой к ней по милосердию небес для того, чтобы ей можно было воспрянуть. Моя собственная душа тоже такая, как я тебе сейчас описала: я все вижу и все понимаю, но соблазны оковали путами мою волю, и я как была, так и впредь останусь во зле.
Но довольно об этом; вернемся к нашим мазям; они такие истомные, что после смазывания мы теряем сознание и падаем голыми на пол; очевидно, тогда в воображении нашем проносится все то, что нам кажется творящимся наяву. Иной раз после смазывания нам представляется, что, переменив свой облик и превратившись в петухов, сов или воронов, мы отправляемся туда, где нас поджидает наш господин, и, возвратив себе человеческий облик, вкушаем там такие услады, что их даже неловко назвать: память стыдится их вспомнить, язык не решается о них говорить. Итак, я ведьма, прикрывающая плащом лицемерия свои великие грехи.
Правда, находятся люди, искренне считающие меня доброй христианкой, но немало есть и таких, что в самые уши кричат мне известное прозваньице: то самое, что им подсказала остервенелость одного осатанелого судьи, судившего в давние годы меня вместе с твоею матерью и предавшего нас в руки палача. Палач не был подкуплен, а потому выказал всю свою силу и жестокость на наших плечах; ну, да все это прошло; все на свете проходит, воспоминания исчезают, былая жизнь не возвращается, языки устают болтать, новые дела заставляют забывать о старых. Я теперь занята госпиталем и умею выставить в должном свете свое поведение; мои мази доставляют мне приятные минуты; я не настолько стара, чтобы не прожить какой-нибудь год, хотя мне и стукнуло семьдесят пять; правда, я не могу поститься по старости, не могу молиться от головокружений, не могу ходить на богомолье из-за слабости ног, не могу подавать милостыню по бедности, не могу думать о добре, потому что люблю позлословить, а ведь для того, чтобы сделать добро, нужно прежде о нем подумать, так что все мои мысли всегда устремлены на дурное, но тем не менее я понимаю, что бог благ и милосерд и отлично знает, что со мной станется. Но довольно, прекратим этот разговор, а то, по правде сказать, он на меня грусть нагоняет. Пойди-ка сюда, сынок, и посмотри, как я буду смазываться, потому что «был бы хлеб, а с ним всякое горе стерпится», «счастливый день запирай в свою горенку» и «от радости плакать не станешь», я хочу этим сказать, что как ни лживы и обманчивы утехи, посылаемые нам дьяволом, а все-таки они — утехи, несмотря на то, что даже самые лучшие из них происходят не наяву, а в воображении, тогда как с подлинными наслаждениями бывает как раз наоборот.
Закончив свою длинную речь, она поднялась, взяла лампочку и прошла в другую комнату, много поменьше первой, а я поплелся за ней, обуреваемый мыслями, дивясь всему слышанному и тому, что предстояло еще увидеть.
Каньисарес подвесила лампочку к стене и проворно разделась до рубашки; достав из угла муравленый горшок, она запустила в него руку и, бормоча себе что-то под нос, натерлась с ног до головы, на которой не было «токи». Еще до окончания смазывания она сказала мне, что ее тело останется бездыханным в этой комнатке или вовсе исчезнет, но мне не следовало пугаться, а нужно ждать до утра и узнать от нее, что со мной станется еще до наступления совершеннолетия.
Я наклонил голову в знак того, что все будет исполнено; она кончила смазывание и замертво повалилась на землю; я поднес свою морду к ее рту и увидел, что она совсем, совсем не дышала.
Должен открыть тебе правду, друг Сипион, мне стало очень страшно, что я заперт в тесной комнате с глазу на глаз с такой образиной, которую сейчас опишу, как только могу лучше. Роста в ней было побольше семи футов; она имела вид скелета, обтянутого черной, волосатой и словно дубленой кожей; брюхо, как будто выделанное из овечьей шкуры, покрывало ее срамные части и свисало почти до колен; груди у нее были как пустые бычьи пузыри: сухие и сморщенные; губы — черные, зубы — выкрошенные, нос — приплюснутый и крючком вниз, глаза — навыкате, голова — простоволосая, щеки провалились, шея высохла, грудь глубоко запала; одним словом, вся она была тощая и дьяволоподобная. Я стал было внимательно ее разглядывать, но меня разобрал страх, едва только я задумался над отвратительным зрелищем этого тела и гнуснейшим употреблением его души; мне захотелось укусить старуху и посмотреть, не очнется ли она, но на всем ее теле я не нашел места, в которое не было бы противно вцепиться; тем не менее я ухватил ее за пятку и выволок на дворик, но и тут она не обнаружила признаков сознания. Увидев над собой небо, а вокруг просторное место, я освободился от страха; во всяком случае, страх ослабел, и я решил подождать и узнать, чем окончится путешествие и возвращение этой скверной бабы и что она расскажет про мои дела.
Тем временем я стал спрашивать самого себя: кто мог сделать эту дрянную старуху столь разумной и гнусной? Откуда ей известно, какое зло сокрушительно и какое преступно? Почему это она все отлично понимает и говорит о боге, а сама поступает по-дьявольски? Как может она так омерзительно погрешать, не будучи в состоянии сослаться на неведение?
За этими размышлениями прошла ночь и наступил день, заставший нас обоих посреди дворика: она все еще была в беспамятстве, а я сидел в ожидании рядом, созерцая ее ужасный и гнусный вид. Сбежались люди, живущие в госпитале, и под впечатлением такого зрелища одни сказали:
— Ну, вот блаженная Каньисарес преставилась; посмотрите, как измучило и истощило ее покаяние.
Другие, более осмотрительные, пощупали ей пульс и, обнаружив, что пульс бьется и что она не умерла, сделали отсюда вывод: она-де в состоянии экстаза и «восхищена» за свои добродетели. Раздавались и такие голоса:
— Эта старая шлюха безусловно ведьма и сейчас, должно быть, натерта мазью; где ж это видано, чтобы святые были «восхищены» в непристойном виде, а до сих пор люди, ее знающие, считали ее не столько святой, сколько ведьмой.
Нашлись любопытные, которые стали втыкать ей в тело булавки от кончика до самой головки; но она и от этого не очнулась и пришла в себя только к семи часам утра. Когда старуха почувствовала, что она вся истыкана булавками, что пятки у нее искусаны, что вся она в ссадинах от тасканья по земле, что она не в комнате, а выставлена напоказ, и все на нее глазеют, она сразу решила, и решила правильно, что виновником ее позора был я, а потому, набросившись на меня и ухватив меня обеими руками за шею, она стала меня душить, приговаривая:
— Ах ты, мошенник, неблагодарный! Ах ты, невежа криводушный! Вот как ты мне отплатил за добро, которое я оказывала твоей матери, и за все то, что я хотела для тебя сделать!
Быстро сообразив, что жизни моей грозит опасность от когтей этой ужасной гарпии, я встряхнулся и, вцепившись в длинные складки ее живота, стал трепать ее и таскать по всему дворику. Старуха вопила, чтобы ее вырвали из пасти нечистого духа. Слова негодной бабы навели большинство присутствующих на мысль, что я, несомненно, дьявол, у которого всегда бывают нелады с добрыми христианами; кое-кто поспешил спрыснуть меня святой водой; другие не отваживались подойти и унять меня; все прочие кричали, что меня нужно заклясть; старуха жаловалась, я еще крепче сжимал зубы; суматоха все увеличивалась, а хозяин мой, явившийся нэ шум, пришел в бешенство от того, что присутствующие называют меня дьяволом. Несколько человек, мало смысливших в экзорцизмах[33], прибегли к помощи трех или четырех палок и стали обрабатывать мою спину; от этой выдумки мне пришлось очень солоно, я отпустил старуху и в три прыжка очутился на улице. Еще немного — и я уже бежал из селения, преследуемый ватагой ребятишек, которые громкими голосами выкрикивали:
— Прочь с дороги: ученый пес сбесился!
Иные из них замечали:
— Не сбесился он вовсе: это — дьявол в образе пса.
Получив такую нахлобучку, я, как под набат, летел прочь из села, а за мною следом увязалась куча народа, искренне поверившего, что я действительно — дьявол, и это все из-за штук, которые я проделывал у них на глазах, и из-за слов, произнесенных старухой, очнувшейся от своего проклятого сна. Я с такой поспешностью улепетывал и так торопился укрыться от посторонних глаз, что всем показалось, будто я сгинул, как нечистый дух; в шесть часов я сделал двенадцать миль и прибыл в цыганский табор, стоявший неподалеку от Гранады. Там я вздохнул свободнее: кое-кто из цыган знал меня как ученого пса, а потому меня приняли с радостью и укрыли в пещере, оберегая от розысков, с тем расчетом (я потом только это сообразил), чтобы наживаться на мне точно так же, как мой хозяин-барабанщик. Я прожил с ними три недели и успел за это время узнать и в подробностях изучить их жизнь и обычаи, а так как все это весьма примечательно, мне необходимо будет рассказать и об этом.
С и п и о н
Берганса, прежде чем продолжать, было бы недурно остановиться на россказнях ведьмы и установить, можно ли признать истиной те бесстыдные враки, которым ты склонен верить.
Послушай, Берганса: было бы величайшей глупостью думать, будто Камача превращала людей в скотов и что какой-то ризничий под видом животного служил ей столько лет, как об этом рассказывали; все штуки в этом роде — несомненные выдумки, ложь или наваждение дьявола. Если же нам самим сейчас кажется, будто мы обладаем кое-каким смыслом и разумом, поскольку мы разговариваем (хотя на самом-то деле мы — просто собаки или сохраняем, во всяком случае, обличье собак), то мы ведь уже порешили, что это чудесный и невиданный случай, и, несмотря на то, что мы осязаем его своими руками, мы ни в чем не можем быть уверены до тех пор, пока события не покажут, чему нам следует верить. Угодно тебе убедиться в истинности моих слов с полной ясностью? Обрати внимание, в каких вздорных вещах, в каких нелепых подробностях заключается, по словам Камачи, наше спасение; то, что кажется тебе пророчеством, не больше как небылицы и сказки (вроде лошади без головы или магической палочки), которыми развлекают себя старухи у камелька в длинные зимние ночи; если бы ее слова представляли собою что-либо иное, они давно бы уже исполнились; возможно, правда, что их следует понимать в другом смысле, так называемом аллегорическом, каковой смысл обозначает не прямое значение, а нечто иное, отличное от него и вместе сходное; в таком случае слова:
понимаемые в том смысле, о котором сказано выше, должны, по-видимому, обозначать, что прежний свой облик мы обретем тогда, когда увидим, как счастливцы, еще вчера стоявшие на вершине колеса Фортуны, будут растоптаны, повержены под ноги злополучия и унижены людьми, почитавшими их превыше всего; кроме того, мы увидим, что люди, еще два часа тому назад существовавшие на этом свете единственно для того, чтобы увеличивать собою число его обитателей, вдруг вознесутся на высоты благополучия, и мы их потеряем из виду; и если раньше мы их не замечали по убожеству их и малости, то теперь не сможем достать до них рукой вследствие их величия и высокопоставленности. Если от этого зависит возвращение нам первоначального облика, то такого рода вещи мы видим и видели на каждом шагу, из чего я заключаю, что не в аллегорическом, а в буквальном смысле следует толковать стихи Камачи; но и этот смысл не заключает в себе нашего спасения, ибо мы множество раз наблюдали предмет, о котором здесь говорится, и тем не менее, как ты видишь, остались собаками, так что Камача твоя просто-напросто — обманщица и лгунья, Каньисарес — пройдоха, а Монтьела — дура, сплетница и мошенница (не в обиду ей будь сказано, если она нам обоим или тебе одному приходится матерью; что до меня, то я такой матери знать не хочу). Итак, следовательно, истинный смысл предсказания: игра в кегли, где с неослабным старанием свергают тех, кто стоит прямо, а потом возносят вверх повалившихся, и все это делается: рукою, властной это совершить. Подумай сам, сколько раз в течение жизни видели мы игру в кегли, и разве от этого мы превратились в людей, если только мы с тобой действительно — люди?
Б е р г а н с а
Должен тебе сказать, брат Сипион, что ты прав и что ты гораздо умнее, чем я раньше думал; твои слова наводят меня на мысль, что все пережитое нами до сих пор и все, что мы теперь переживаем, есть сон и что мы все-таки — собаки; тем не менее не будем упускать случая и насладимся как можно дольше, ниспосланным нам сокровищем — даром слова — и великими преимуществами человеческого разума, а потому не побрезгуй прослушать рассказ о том, что случилось со мной у цыган, спрятавших меня в пещеру.
С и п и о н
С большим удовольствием; надеюсь, что со временем ты тоже (если будет на то соизволение неба) выслушаешь повесть о приключениях моей жизни.
Б е р г а н с а
Время, проведенное мною у цыган, ушло на то, чтобы разобраться в бесчисленных хитростях, надувательствах и обманах, а также кражах, которыми они занимаются (все равно: цыганы и цыганки) чуть ли не с той самой минуты, как покидают пеленки и начинают ходить. Ты знаешь, какое множество цыган рассеяно по Испании. Так вот, все они находятся в сношениях, имеют сведения друг о друге и сваливают и перекладывают кражи с одного на другого, а второй — на первого.
Повинуются они не столько своему королю, сколько цыгану, носящему кличку Граф, за которым, равно как и за его преемниками, утвердилось прозвание Мальдонадо, отнюдь не вследствие происхождения от этой благородной фамилии, а потому, что однажды слуга знатного кавальеро того же прозвания влюбился в цыганку, согласившуюся ответить на его любовь при условии, что он сделается цыганом и возьмет ее себе в жены. Слуга исполнил ее волю и очень понравился цыганам, так что они провозгласили его сеньором, изъявили ему покорность и в знак вассальной зависимости выделяли ему долю от краж в тех случаях, когда кражи бывали значительны.
Для сокрытия своей праздности они занимаются выделкой из железа всевозможной домашней утвари, по-своему облегчающей им их воровское ремесло; ты всегда можешь видеть, как они продают на улицах щипцы, буравы и молотки, в то время как цыганки разносят треножники и лопатки. Все цыганки — искусные повитухи; в этом отношении они превосходят наших женщин, ибо без всяких затрат и хлопот обслуживают своих младенцев сами, причем они купают их тут же в холодной воде; вот почему с самого рождения и до смерти цыгане закалены и отлично переносят непогоду и стужу, вот почему все они молодцы, превосходные наездники, бегуны и танцоры. Браки цыгане заключают всегда в своей среде, для того чтобы их пороки не получали широкой огласки; цыганки весьма почитают своих мужей и в самых редких случаях согласятся опозорить мужа с человеком чужого им племени. Собирая милостыню, они выманивают ее выдумками и краснобайством, а не молитвами; под тем предлогом, что им никто не доверяет, они нигде не служат и живут, ничего не делая; почти ни разу не случалось мне видеть цыганок у подножия алтаря, принимающими причастие, хотя я очень часто заглядываю в церковь. У них одна забота: придумать, как бы кого обмануть и где украсть. Они сообщают друг другу про покражи и про ухватки, испробованные на деле. Таким-то образом один цыган рассказал при мне своим товарищам, как он ловко надул и обворовал крестьянина. У цыгана этого был осел с обрубленным хвостом, и вот к остатку хвоста, лишенному волос, он приделал роскошный хвост, ничем не отличавшийся от настоящего. Приведя осла на рынок, он продал его за десять дукатов какому-то крестьянину; когда сделка состоялась и деньги были получены, цыган заявил, что если покупатель желает купить второго осла, брата только что проданного и такого же хорошего, как первый, он уступит его по более сходной цене. Крестьянин согласился, велел цыгану сходить за ослом и доставить его на место, а сам тем временем повел домой приобретенную скотину. Крестьянин ушел, цыган — за ним, и вышло так, что цыган изловчился украсть у крестьянина проданного осла; отрезав ему в ту же минуту поддельный хвост, он снова сделал осла бесхвостым. Цыган переменил седло и уздечку и не постеснялся снова разыскать крестьянина для того, чтобы совершить продажу; он встретил его еще до того, как тот хватился скотины, и в несколько минут вторая сделка тоже была закончена.
Платить мужик отправился на постоялый двор, где один осел не замедлил обнаружить пропажу другого, и, несмотря на всю свою глупость, крестьянин догадался, кто его обокрал, и не пожелал было платить. Тогда цыган нашел свидетелей, привел людей, получивших пошлину с первой продажи, и те клятвенно подтвердили, что цыган продал крестьянину длиннохвостого осла, совсем не похожего на того, о котором сейчас препираются. При споре присутствовал альгуасил, с такой решительностью ставший на сторону цыгана, что крестьянину пришлось заплатить за осла дважды.
Рассказывали они и про другие кражи, но все больше про кражу скота, в чем они являются настоящими доками и по большей части только этим и занимаются. Одним словом, плохой они народ, и хотя за них принимались многие искусные судьи, тем не менее цыгане не исправляются.
Прошло около трех недель, и они вздумали взять меня в Мурсию; мы добрались до Гранады, куда в это время прибыл капитан, барабанщиком которого был мой хозяин. Узнав об этом, цыгане заперли меня в комнате постоялого двора, на котором они стояли. О причине я услыхал от них самих; но мне не понравилось предпринятое путешествие, я порешил удрать и привел это в исполнение. На окраине Гранады я забежал на огород к какому-то мавру, который принял меня с большой радостью, да и сам я был очень доволен. Я рассудил, что буду нужен ему только для присмотра за огородом, а, на мой взгляд, это было полегче, чем охранять стадо; поскольку нам не пришлось торговаться относительно жалованья, он без всякого труда залучил себе батрака на работу, а я стал на службу к хозяину. Я у него прожил больше месяца, но не потому, чтобы мне там было по вкусу: мне хотелось изучить жизнь своего хозяина и тем самым составить себе представление о маврах, обитающих в Испании. О, сколько вещей и каких вещей мог бы я рассказать тебе, друг Сипион, об этой мавританской сволочи, если бы не мысль, что для такого рассказа мне и двух недель будет мало! А если бы я стал входить в подробности, я не кончил бы и в два месяца; кое-что тебе все-таки сообщу, а потому прослушай, пожалуйста, в общем виде все, что я подробно высмотрел и заметил в этом честнóм народе.
Было бы чудом отыскать среди них одного мавра, искренне верящего в святой наш христианский закон: вся их забота состоит в том, чтобы копить деньги и беречь накопленное. С этой только целью они и работают, отказывая себе даже в еде: когда к ним в руки попадает реал, в особенности же не простой, они присуждают его к пожизненному тюремному заключению; таким образом, все время наживая и ничего не расходуя, они собирают и хранят у себя огромные деньги, из тех, что обращаются в Испании. Они — ее копилки, ее моль, ее сороки и ее хорьки: всё они собирают, всё прячут и всё поглощают. Не следует забывать, что их много и что каждый божий день они понемногу наживают и откладывают (а медленная лихорадка подтачивает жизнь с такой же силой, как и скоротечная); поскольку, однако, мавры все время размножаются, все время увеличивается и число укрывателей, причем опыт показывает, что они множатся и будут множиться без конца. Дело в том, что за целомудрием они не гонятся и в монастыри не вступают; все они женятся и плодятся, потому что умеренная жизнь увеличивает силы деторождения. К тому же от войны им погибать не приходится, и военные труды не надрывают их силы. Они нас спокойно обкрадывают и, перепродавая плоды наших полей, богатеют, обрекая нас на верную бедность. Слуг они не держат и прислуживают себе сами; на обучение детей не тратятся, потому что вся наука у них сводится к грабежу нашего добра, а этому они скоро выучиваются. Слышал я, что от двенадцати сыновей Иакова, вступивших в Египет, к тому времени, когда Моисей освободил евреев из плена, произошло шестьсот тысяч мужей, не считая жен и детей; разочти же теперь, сколько людей наплодят мавры, которых у нас несравненно большее количество?
С и п и о н
От всех зол, которые ты отметил и описал в общих чертах, многие уже искали спасения, и мне отлично известно, сколько ужасных язв ты сейчас обошел молчанием. До сих пор никому не удалось изыскать надлежащие меры, но государство наше имеет разумных рачителей, способных понять, сколько мавританских змей растит и отогревает на своей груди наша Испания, а потому, с божьей помощью, они найдут от этого зла скорое, надежное и верное средство.[34] Можешь продолжать.
Б е р г а н с а
Хозяин мой был такой же скряга, как и все вообще люди его племени, и посылал мне корм от своего стола: хлеб из проса и остатки мучной похлебки; впрочем, небо помогло мне перенести нищету с помощью одного странного способа, о котором ты сейчас услышишь.
Каждое утро, на рассвете, под гранатовым деревом (а их было немало на огороде), появлялся молодой, ученого вида человек, одетый в байку, не то чтобы очень черную и ворсистую, скорей порыжевшую и вытертую. Он писал что-то в большой тетради и время от времени ударял себя ладонью по лбу, кусал ногти и возводил глаза к небу; иногда он впадал в глубокую задумчивость и не делал движений ни руками, ни ногами, ни… ресницами: такая на него находила одурь! Как-то раз я незаметно для него подошел совсем близко и услышал невнятное бормотание; после весьма продолжительного молчания он воскликнул:
— Клянусь богом, это лучшая октава, написанная за всю мою жизнь, — и стал быстро строчить в тетради, сияя великою радостью; по этим признакам я заключил, что бедняга этот — поэт. Я стал, по своему обыкновению, к нему ласкаться (чтобы убедить его в своей кротости) и прилег у его ног, а он, почувствовав безопасность, снова погрузился в размышления, стал почесывать голову, задумываться и записывать свои мысли. В это время в саду показался еще один юноша, изящный и щеголеватый, державший в руках листки, в которые он изредка заглядывал; он дошел до того места, где находился первый, и спросил:
— Ну, что, кончил первый акт?
— Только что закончил, — ответил поэт, — и так блестяще, как только можно желать.
— А как? — осведомился второй юноша.
— Вот как, — сказал поэт. — Выходит его святейшество папа в одеянии первосвященника, а с ним вместе двенадцать кардиналов, и все они в фиолетовом, потому что ко времени событий, излагаемых в моей комедии, наступила пора mutatio capparum, когда кардиналов одевают не в красный, а в фиолетовый цвет; для соблюдения точности моим кардиналам полагается быть фиолетовыми; для театра это вопрос весьма существенный, иначе легко попасться впросак и наделать тысячу нелепостей и глупостей; ну, а я ошибиться не мог: я нарочно прочел весь католический церемониал, для того чтобы разобраться в облачениях.
— Откуда же выложит вам хозяин труппы, — возразил собеседник, — фиолетовые облачения для двенадцати кардиналов?
— Если он выкинет хоть одного из них, — ответил поэт, — то не видать ему моей комедии до тех пор, пока я не выучусь летать! Черт побери! Неужели же пропадет такой грандиозный выход? Вы только подумайте, как это будет выглядеть на театре: римский первосвященник, двенадцать важных кардиналов и свита из священнослужителей, которая непременно явится вместе с ними. Разрази меня небо, это будет такое пышное и великолепное зрелище, какого, наверное, не встречалось в самых лучших комедиях, вроде Букета Дарахи![35]
Тут я окончательно убедился, что один из собеседников был поэт, а другой — актер. Актер стал было советовать поэту несколько сократить число кардиналов, иначе хозяину труппы будет трудно поставить комедию, но поэт заявил, что пусть, мол, ему будут и за это благодарны, а то он мог бы еще изобразить целый конклав, собравшийся одновременно с достославным событием, которое он вознамерился напомнить людям в своей несравненной комедии. Актер посмеялся и, предоставив поэту заниматься своим делом, принялся за разучивание роли в какой-то новой пьесе. После того как поэт написал несколько слов своей бесподобной комедии, он со спокойным и важным видом достал из кармана немного хлеба и веточек двадцать сушеного винограда; помнится, я их сосчитал, но тем не менее я не уверен, что их было именно столько, потому что они сбились в один комок с налипшими на них крошками хлеба. Он подул на крошки и стал медленно глотать виноград вместе с веточками (не помню, чтобы он выбросил хоть одну), помогая себе кусками хлеба. От ворсистой материи его кармана хлеб потемнел и казался покрытым плесенью; корки были такие строптивые, что, несмотря на все старания их умягчить и переложить с одной стороны рта на другую, он ничего не мог поделать с их неподатливостью, так что дело окончилось в мою пользу: поэт выбросил корки вон и сказал:
— На, возьми; кушай себе на здоровье!
«Ишь ты, — подумал я про себя, — видно, поэт угощает меня тем самым нектаром и амброзией, которыми, по преданию, питаются на небе боги и сам Аполлон». Короче говоря, бедность поэтов поистине бывает чудовищной, но моя собственная бедность была еще ужаснее, ибо мой поэт кормил меня тем, что выбрасывал сам.
За все то время, что поэт сочинял комедию, он неизменно появлялся в саду, щедро снабжая меня ломтями хлеба; после еды мы вместе отправлялись к колодцу, и там я прямо с земли, а он из черпалки утоляли жажду, как какие-нибудь принцы.
Но поэт исчез, и меня так одолел голод, что я решил покинуть мавра и искать удачи в городе, ибо человеку, не сидящему на одном месте, часто везет. Войдя в город, я увидел, что из знаменитого монастыря св. Херóнимо показался мой поэт; он узнал меня и поспешил мне навстречу с распростертыми объятиями; я подошел и тоже выказал свое удовольствие и радость; в ту же минуту он стал вынимать из кармана куски хлеба, много помягче тех, которые он приносил в сад, давая мне их прямо из рук и не запуская предварительно в свой рот, отчего я еще с большим наслаждением утолил свой голод. Свежий хлеб и появление поэта из здания упомянутого выше монастыря[36] навело меня на мысль, что муза его живет подаянием, как это часто бывает с поэтами. Он направился в город, а я последовал за ним в надежде избрать его, в случае его согласия, себе в хозяева; я рассудил, что от избытков его роскошного замка легко прокормится и моя хижина. И какое обеспечение может быть обильнее и лучше даров сострадания? Рука дающего щедра и не знает нужды и бедности; я смотрю на дело иначе, чем пословица, утверждающая, что «от скупого наживешься, не от голого»: ни скряга, ни скупец никогда не дадут нам того, что подарит щедрый бедняк, который, если нечего дать, порадует одним своим добрым расположением.
Мы очутились, наконец, в доме хозяина труппы, имя которого, если правильно вспоминаю, было Ангуло Скверный, что стояло в связи с другим Ангуло, не предпринимателем, а актером, едва ли не самым потешным и даровитым из всех лицедеев, выступавших и в наше и в былое время в комедиях. Вся труппа явилась слушать комедию моего господина (я уже считал, что он — мой), но к половине первого акта, сначала поодиночке, а потом по двое, из комнаты удалились все, кроме хозяина труппы и меня, продолжавших еще следить за чтением. Комедия оказалась плохой, и хотя я, конечно, осел в вопросах поэзии, но я все-таки решил, что ее сочинил сам сатана на погибель и беду моему писателю, который чуть было не подавился слюной, увидев, в какую пустыню обратилась его аудитория. Видно, вещая душа поэта уже тогда почуяла грозившее ему несчастье: дело в том, что актеры, которых было больше двенадцати, вернулись обратно и, не проронив ни слова, подошли было вплотную к читавшему; если бы их не остановило приказание хозяина труппы, подкрепленное увещаниями и возгласами, они, несомненно, покачали бы автора на одеяле. От такого оборота дела я пришел в великое изумление, хозяин труппы насупился, актеры развеселились, а поэт был до крайности раздосадован; впрочем, он с большой выдержкой, но с перекошенным лицом, собрал свою комедию, сунул ее за пазуху и, процедив сквозь зубы: «Не мечите бисера перед свиньями», с важным видом вышел из комнаты. От стыда я не нашел в себе ни охоты, ни сил отправиться за ним следом и отлично сделал, потому что хозяин труппы так меня обласкал, что я вынужден был у него остаться.
Через какой-нибудь месяц я прогремел в интермедиях и неподражаемо исполнял роли без речей. На меня надели кромчатый намордник, научили преследовать на сцене кого покажут и, в то время как в других театрах интермедии по обычаю оканчивались палками, у моего господина они оканчивались тем, что меня науськивали, и я валил с ног и трепал кого попало, приводя в восторг всех невежд и доставляя крупный заработок своему хозяину. О, если бы я мог рассказать тебе, Сипион, все, что я увидел в этой и еще в двух труппах, в которых я служил! Но всего никак не уместить в краткий и сжатый рассказ; мне придется повременить до другого раза, если только в другой раз нам удастся поделиться мыслями. Ты знаешь, что я долго рассказывал. Ты слышал про самые разнообразные приключения. Ты должен был обратить внимание на мои скитания и на моих бесчисленных хозяев, но все слышанное тобою — пустяки по сравнению с тем, что я мог бы рассказать, после пристального наблюдения актеров, про их обычаи, нравы, занятия, про их страдания, праздность, невежество, остроумие и многое, многое другое: кое-что можно шепнуть только на ухо, кое-что позволительно сказать во всеуслышание, а все вместе хорошо было бы сохранить в памяти в назидание тем, кто боготворит эти показные личины, эту искусственную, ряженую красоту.
С и п и о н
Я отлично вижу, Берганса, что перед тобой открывается обширное поле, соблазняющее тебя затянуть свой рассказ, но я думаю, что этот предмет следует затронуть особо, когда ничто не будет смущать наш покой.
Б е р г а н с а
Пусть будет так, и слушай дальше. С одной актерской труппой я прибыл сюда, в Вальядолид; здесь во время интермедии мне нанесли тяжелую рану, которая чуть было не свела меня в могилу; отомстить я не мог, мне помешал намордник, но потом, когда гнев прошел, я одумался и нашел, что заранее обдуманная месть говорит о жестокости и малодушии. Новое ремесло мне прискучило, и не столько своими трудностями, сколько тем, что мне приходилось видеть вещи, требовавшие исправления и наказания, а так как мне можно было только скорбеть о них, а не наводить порядки, я счел за благо совсем их не видеть и обратил свои взоры к святости, уподобляясь в этом людям, покидающим свои пороки в такое время, когда они не в силах им предаваться: все же лучше поздно, чем никогда.
Когда я однажды увидел, как ты носишь ночью фонарь, шагая рядом с примерным христианином Маудесом, я понял, как отрадно, свято и праведно проводишь ты свои дни; исполнившись благородной зависти, я решил подражать тебе и с этим похвальным намерением предстал перед Маудесом, который сразу сделал меня твоим товарищем и поселил меня в этом госпитале. Я пережил здесь довольно много и не мог бы обо всем рассказать в короткое время; но мне хочется выделить разговор четырех больных, которых нужда и случай загнали к нам в госпиталь, где все четверо попали на четыре кровати, составленные попарно. Прости меня, рассказ мой будет не долог, а отложить его я просто не в силах, к тому же он, как нельзя более, кстати.
С и п и о н
Ладно, прощаю; но торопись, мне кажется, день не за горами.
Б е р г а н с а
Итак, на четырех кроватях, в углу палаты, лежали: на одной — алхимик, на другой — поэт, на третьей — математик, а на четвертой — так называемый «прожектёр».
С и п и о н
Мне помнится, я видел эту честную компанию.
Б е р г а н с а
И вот прошлым летом, во время сьесты, когда окна были прикрыты и когда я, ища прохлады, валялся под одной из этих кроватей, поэт стал горько жаловаться на судьбу, и на просьбу математика объяснить, в чем дело, он сослался на преследующие его неудачи.
— Как же мне, в самом деле, не жаловаться? — спросил он. — Я последовал правилу, возвещенному в поэтике Горация: выпускать свое творение после того, как со времени его написания пройдет десять лет[37]; я работал над своим сочинением лет двадцать, употребив двенадцать лет на предварительную выучку; произведение же мое воспевает высокий предмет, замечательно и самобытно по замыслу, написано торжественным стихом, изобилует интересными эпизодами, безупречно по построению, ибо начало его вполне согласуется с серединой и концом, и в целом оно представляет собою высокую, звучную, героическую, сладостную и содержательную поэму, а между тем я никак не могу найти вельможу, желающего принять посвящение. Я разумею вельможу просвещенного, щедрого и великодушного. О времена, о жалкий, погибший век!
— А о чем рассказывается в вашей книге? — осведомился алхимик.
— Она повествует о событиях из жизни короля Артура Британского, которых не коснулся архиепископ Турпин, и, кроме того, имеет особое приложение — «Поиски святого Бриаля»[38]; причем все это изложено героическим размером (иногда октавами, иногда белым стихом) с применением «дактилей», то есть собственно одних дактилических существительных, без единого глагола.
— Я, — заметил алхимик, — мало смыслю в поэзии и не могу оценить по-настоящему ваше несчастье, но как бы велико оно ни было, оно все-таки не сравнится с моим, ибо я, не имея ни приборов, ни вельможи, способного поддержать меня и снабдить принадлежностями для алхимических исследований, теряю возможность утопать в золоте и владеть богатствами, превосходящими сокровища Мидасов, Крассов и Крезов[39].
— Значит, вам, сеньор алхимик, — произнес в эту минуту математик, — удались опыты по добыванию серебра из других металлов?
— До сих пор, — отвечал тот, — я его еще не добыл, но наверное знаю, что добыть можно; мне потребовалось бы не более двух месяцев для того, чтобы отыскать философский камень, с помощью которого обыкновенный булыжник превращается в серебро и золото.
— Поистине вы преувеличиваете свои несчастья, — заявил математик, — ведь как-никак у одного из вас есть книга для посвящения, а у другого — близкая возможность найти философский камень; что же в таком случае сказать о моем горе, когда ему, можно сказать, даже Опереться не на что? Вот уже двадцать два года, как я стараюсь отыскать неподвижную точку[40]: то она у меня пропадает, то снова находится; стоит мне только поверить, что я ее нашел и что она от меня больше не уйдет, смотришь — опять я от нее так далеко, что просто диву даешься! Не лучше обстоит у меня дело и с квадратурой круга: одно время я был так близко к цели, что до сих пор мне кажется, будто решение лежит у меня в кармане. Муки мои похожи на муки Тантала, который, стоя перед плодами, умирает от голода и, видя вблизи воду, погибает от жажды. Минутами мне кажется, что Я приближаюсь к разгадке, но через мгновение я опять далеко, и мне снова приходится карабкаться на гору, откуда я только что сошел, влача на спине, подобно Сизифу, камень своей мучительной пытки.
До сих пор «прожектёр» ни разу не нарушил молчания, но тут он заговорил и сказал следующее:
— Бедность собрала в этом госпитале таких четырех жалобщиков, что хоть в подарок посылай самому турецкому султану! Плевать я хочу на ремесла и занятия, не приносящие работнику ни радости, ни куска хлеба. Я, сеньоры мои, «прожектёр» и в разное время представил его величеству великое множество планов, полезных как для него, так и для всего государства. Сейчас у меня готова записка, в которой я прошу короля указать, с кем мне следует обсудить новый план, одним махом уничтожающий всю королевскую задолженность; впрочем, судя по вниманию, которым были встречены прежние записки, мое новое предложение, очевидно, очутится на кладбище. А чтобы вы, господа, не приняли меня за безумца, я, нисколько не опасаясь последствий гласности[41], сейчас вам открою, в чем дело. Я считаю необходимым провести через кортесы[42], чтобы все подданные его величества, в возрасте от четырнадцати до шестидесяти лет, обязались один день каждого месяца питаться водой и хлебом, причем день следует наметить заблаговременно; стоимость всякого рода еды (фрукты, мясо, рыба, вино, яйца и овощи), приуроченной к этому дню, надлежит представить в деньгах и сдать их его величеству с клятвенным поручительством, что не было утаено ни копейки. Таким образом в двадцать лет государь освободится от ростовщиков и долговых обязательств. В самом деле, по произведенному мною подсчету, в Испании, безусловно, наберется свыше трех миллионов человек означенного возраста, не считая больных, стариков и детей, причем никто из них не истратит в день (и это на самый худой конец) меньше, чем полтора реала; пусть даже это будет только один реал, дешевле не выйдет: мякина дороже стоит! Неужели же это пустяки: каждый месяц получать чистоганом три миллиона реалов? А между тем такой порядок может принести не убыток, а выгоду самим же постникам, ибо постом своим они одновременно угодят небу и послужат своему королю; возможно также, что среди них найдутся люди, которым пост принесет немалую пользу для здоровья. Вот вам мой план во всей его чистоте! Деньги можно будет собирать по приходам, не прибегая к посредничеству грабящих казну комиссаров.
Все посмеялись над планом и над его составителем; причем сам он тоже хохотал над собственной глупостью. Я немало подивился речам этих чудаков и тому обстоятельству, что, по моим наблюдениям, все люди подобного склада по большей части кончают дни свои в госпитале.
С и п и о н
Ты правильно говоришь, Берганса. Подумай, что ты хочешь еще рассказать?
Б е р г а н с а
Остались еще две вещи, которыми я закончу беседу, а то, кажется, уже наступает день. Как-то ночью я вместе со своим надзирателем отправился за подаянием к коррехидору нашего города, подлинному кавальеро и образцовому христианину; мы увидели, что он в доме один, и мне вдруг вздумалось использовать этот случай и сообщить ему некоторые соображения, высказанные при мне одним больным стариком нашего госпиталя. Старик предлагал разные меры для отвлечения от позорной жизни бродяжничающих девиц, которые, не желая служить, заражаются дурными примерами и, надо сказать, так успешно заражаются, что каждое лето заваливают наши госпитали своими негодными кавалерами. Это ли не великое зло, требующее быстрых и решительных мероприятий? Я решил изложить ему свою мысль и возвысил голос, вообразив, что я могу говорить, но вместо осмысленных слов я разразился столь быстрым и громким лаем, что вспыливший коррехидор велел слугам выгнать меня из комнаты палками, причем один из лакеев, явившихся на его зов (и почему только он тогда не оглох!), схватил попавшийся под руку медный кувшин и так меня отделал по ребрам, что еще и теперь у меня сохранились следы от ударов.
С и п и о н
И у тебя хватает духу на это жаловаться?
Б е р г а н с а
Да как же мне не жаловаться? Ведь боль до сих пор еще сказывается, а кроме того, я глубоко убежден, что мой добрый порыв не заслуживал подобной кары!
С и п и о н
Слушай, Берганса: никогда не суйся туда, куда тебя не просят, и не берись за дела, которые тебя не касаются. Запомни, что советов бедняка, как бы хороши они ни были, никто никогда не слушает; бедному и смиренному человеку незачем надоедать советами вельможам и самоуверенным людям, полагающим, что они сами отлично во всем) разбираются. Мудрость бедняка всегда остается в тени, ибо бедность его и нужда заволакивают эту мудрость туманом; если же она случайно прорвется наружу, люди считают ее глупостью и ею гнушаются.
Б е р г а н с а
Да, ты прав; постараюсь зарубить это на носу и во всем слушаться твоих советов… А то пришел я однажды ночью в дом одной знатной сеньоры, на руках у которой сидела собачонка (так называемая комнатная), такая маленькая, что нетрудно было бы спрятать ее за пазуху. Как только она меня увидела, она сию же минуту спрыгнула с рук своей госпожи и с лаем набросилась на меня, да так дерзко, что успокоилась только после того, как укусила меня в ногу. Я взглянул на нее с почтительною досадой и подумал про себя: «Если бы я повстречал тебя, дрянная шавка, на улице, то и внимания на тебя бы не обратил или же разорвал бы тебя зубами в клочья». Я понял тогда, что когда малодушный трус попадает в фавор, он наглеет и не боится оскорблять людей, более значительных, чем он сам.
С и п и о н
Лучшим доказательством справедливости твоих слов являются людишки, задирающие нос оттого, что их берут под свою защиту сеньоры; когда же смерть или иная перемена Фортуны свалит дерево, дающее им опору, то убожество их сразу обнаруживается и становится явным для всех, ибо поистине цена их определялась пробой, поставленной на них их господами и покровителями. Добродетель и ум всегда остаются самими собой и всегда неизменны: в богатстве и в бедности, в одиночестве и в окружении свиты. Правда, люди могут иногда их неверно оценивать, но это отнюдь не сказывается на их внутренней сущности, важности и значении. На этом мы и закончим свою беседу; свет, пробивающийся сквозь щели, указывает на то, что час уже не ранний. Сегодняшняя ночь, если только мы не утратим великого и благодатного дара речи, принадлежит мне и будет посвящена истории моей жизни.
Б е р г а н с а
Быть по сему; да не забудь явиться на это же самое место.
Лиценциат, окончивший чтение Беседы в ту самую минуту, когда наш поручик проснулся, сказал:
— Хотя беседа эта — выдумка и никогда не имела места в действительности, но, по-моему, она так хорошо написана, что господин поручик может с успехом приняться за вторую.
— Такой отзыв, — ответил поручик, — меня ободряет; я буду писать дальше, не вступая сейчас в пререкания о том, разговаривали собаки или не разговаривали.
— Господин поручик, — ответил на это лиценциат, — к чему нам споры? Я оценил искусство и замысел этой беседы: вот и весь сказ! Пойдем-ка на Эсполон[43] и порадуем телесные очи после того, как я порадовал очи духовные.
— Пойдем, — сказал поручик.
И оба вышли.
Приложение.
Подставная тетка
— Сеньоры, с неделю тому назад в этом доме поселилась одна приезжая дама очень набожных и строгих правил; при ней находится девушка поразительной красоты и осанки, по-видимому, ее племянница; из дому дама эта выходит с лакеем и двумя дуэньями, так что, насколько я могу разобрать, люди они почтенные и чинные. До сего дня я еще не видел, чтобы кто-нибудь из; наших городских или приезжих приходил их навестить, и не могу сказать, откуда они прибыли в Саламанку; знаю только, что девушка эта — красавица и по виду скромница, а пышность и важность тетки говорит не о бедности.
Сообщение, сделанное соседом-мастеровым, разожгло у обоих студентов желание довести до конца это приключение; как-никак, а, несмотря на отличное знание Саламанки и точное обследование всех окон, где виднеются горшки с базиликой и «токи», они даже и не подозревали, что в городе существуют тетка и племянница, «проходящие курс наук» в Саламанкском университете и проживающие к тому же в том самом «податном» доме, где всегда торговали «пособиями» для студентов, хотя и не очень высокого качества. Дело в том, что в Саламанке, как и в других городах, есть такие дома, в которых обычно поселяются куртизанки или, как их называют, «трудовые» или «нежные» женщины.
Было уже недалеко до полудня, а упомянутый нами дом все еще был заперт снаружи, из чего студенты заключили, что обитательницы его обедали где-то на стороне или должны были вскоре вернуться; предположение это оказалось верным, и, немного погодя, они увидели приближающуюся пожилую даму в белоснежной «токе», длиной своей не уступавшей стихарю португальского каноника и собранной на лбу складочками. С шеи дамы до самого пояса спускались огромные четки из бубенчиков, таких же больших, как на четках Сантенуфло; на ней был полушелковый плащ, новые белые перчатки без отворотов, а в руках палка из американского камыша с серебряным набалдашником. С левой стороны ее вел под руку лакей времен Фернана Гонсалеса в кафтане из плиса с потертым ворсом, в ярко-красных штанах, в мягких бехарских сапогах, в плаще, отделанном шелком, в миланской шапке поверх стеганой ермолки (он страдал головокружениями), в грубых перчатках и с наваррской шпагой на перевязи. Впереди шла племянница, девушка на вид лет восемнадцати, с лицом степенным и серьезным, скорее продолговатым, чем круглым; с глазами черными, большими и только по небрежности сонными; с тонкими и хорошо очерченными бровями, длинными ресницами и румяным личиком. Судя по прядям, выпущенным на висках, волосы у нее были белокурые и искусно завитые; на ней была тонкая шерстяная юбка, корсаж из завитой байки, высокие туфли из черного бархата с накладными украшениями и бахромой из блестящего серебра и перчатки, надушенные, однако, не простым порошком, а жидкою амброю. Манеры ее были серьезны, взгляд пристоен, походка изящна и легка, как у цапли. Если разбирать ее по частям, впечатление она оставляла отличное, а если взять в целом, то казалась еще лучше. Оба ламанчца своим нравом и наклонностями были подобны молодым воронятам, бросающимся на любой кусок мяса, и поэтому, выглядев молодую цаплю, они впились в нее всеми пятью своими чувствами, очарованные и покоренные необычайной грацией и совершенством: такова уж власть красоты, пленяющей нас иногда и в посконном наряде. Сзади шли две дуэньи, одетые в таком же роде, как и лакей.
Итак, с великою пышностью почтенная дама приблизилась к дому; лакей открыл дверь, и все вошли. Надо сказать, что при этом оба студента сорвали с себя шапочки с совершенно исключительной вежливостью и почтительностью, переходящей в нежность, — слегка согнули при этом колени и опустили глаза с таким видом, как если бы они были самыми елейными и учтивыми кавалерами на свете. Дамы проследовали в дом; юноши остались на улице, погруженные в задумчивость, почти влюбленные, теряясь в догадках, что им предпринять. Они склонились к мысли, что поскольку эти дамы приезжие, то они, очевидно, прибыли в Саламанку не для того, чтобы изучать законы, а для того, чтобы их нарушать.
Тут же было решено устроить серенаду сегодня ночью; это первый знак внимания, какой оказывают своим дамам бедные студенты. Затем они отправились свести счеты со своею бедностью, иначе говоря, с очень скудной едой; пообедав, они созвали друзей, собрали гитары и другие инструменты, сговорили певцов и обратились к одному из тех поэтов, каких немало насчитывает этот город, с покорнейшей просьбой сочинить для сегодняшней серенады слова с обращением к Эсперансе[45], ибо так называлась «она», надежда их жизни (а она уже успела ею сделаться!), и особенно настояли на том, чтобы в стихи непременно было вставлено имя Эсперансы. Поэт взял на себя эту заботу и в недолгий срок, почесав себе виски и лоб, покусав губы и ногти, состряпал сонет, который бы сделал честь любому сукновалу или чесальщику шерсти. Он прочел этот сонет обоим поклонникам; те одобрили и условились с автором, что он сам будет читать его певцам, потому что не было времени выучить его наизусть.
Тем временем наступила ночь, и вот, в подобающий для такого рода торжественных выступлений час собрались девять ламанчских головорезов, четыре певца с гитарами, морская труба, арфа, бандура, двенадцать бубенцов, саморская волынка, тридцать щитов и столько же панцирей; все это было роздано целой ватаге однокашников или, вернее, собутыльников наших студентов. Это пышное шествие направилось к околотку и к дому любезной сеньоры; свернули в улицу, и безжалостные бубенцы загремели так оглушительно, что, хотя ночь давно переступила порог безмолвия и все соседи кругом спали так же сладко, как шелковичные черви, им пришлось все-таки отогнать в сторону сон. Во всей округе не оказалось ни одного человека, который бы не проснулся и не подбежал к окну. Вслед за тем волынка заиграла «гамбетас» и закончила «эстурдьоном»[46] только под самыми окнами дамы. Тогда, под сопровождение арфы и по указке поэта, читавшего свое творение, певец (один из тех, что не заставляют себя долго просить) приятным и чистым голосом запел следующий сонет:
Едва этот окаянный сонет был окончен, как один из стоящих поблизости прощелыг, удостоившийся ученой степени в гражданском и каноническом праве, громким и звучным голосом сказал своему соседу:
— Черт побери, за всю свою жизнь я не слыхивал лучших стишков! Обратили вы, ваша милость, внимание на сладкозвучность виршей, на обращение к Амуру, на игру слов с именем дамы, на это ловко вклеенное «молю тебя», на то, как искусно приплел он года девушки, на удачнейшее противопоставление понятий «меньше нет» и «великаном»? Эх, как хотите меня ругайте и называйте, а будь я знаком с писателем, сочинившим этот сонет, я — дьявол меня разорви! — за это чудесное и звучное словечко «дров» завтра же послал бы ему полдюжины колбасок, которые мне привез на этой неделе мой земляк, погонщик мулов.
При одном слове «колбаски» присутствовавшие порешили, что почитатель сонета, несомненно, эстремадурец; так оно в действительности и оказалось, ибо впоследствии им стало известно, что он был родом из одной деревни в Эстремадуре, поблизости от Харайсехо. С тех пор он прослыл человеком ученым и сведущим в искусстве поэтики. Эта слава установилась за ним на том лишь основании, что многие слышали, как он разбирал по частям пропетый и восхитивший его сонет.
А между тем окна дома оставались закрытыми, как утроба матери, что сразило надежды обнадеженных было ламанчцев. Тем не менее для второго раза был исполнен тремя голосами под звуки гитар следующий романс, тоже наскоро сработанный и приспособленный для настоящего случая:
Когда певцы дошли до этого места в романсе, они увидели, что окно отворилось и в нем показалась одна из дуэний, сопровождавших в этот день Эсперансу. Она сказала им тоненьким и жеманным голосом:
— Сеньоры, моя госпожа, донья Клаудия д'Астудильо-и-Киньонес, благодарит ваши милости и просит оказать ей милость продлить вашу музыку где-нибудь в другом месте, во избежание скандала, соблазна для соседей и потому еще, что у нее в доме живет барышня, ее племянница и моя сеньора, донья Эсперанса де Торральба Менесес-и-Пачеко. При ее звании и положении отнюдь не подобает, чтобы у ее дверей творились подобные вещи. Ваши милости могли бы оказать ей внимание каким-нибудь иным способом, в иной форме и без такого скандала.
На это один из поклонников ответил:
— Окажите мне ласку и милость, сеньора дуэнья, и попросите сеньору донью Эсперансу де Торральба Менесес-и-Пачеко подойти к этому окну; я хочу сказать ей всего лишь два слова, но они безусловно окажут ей весьма полезную услугу.
— Пфуй, пфуй! — сказала дуэнья. — Разве моя сеньора донья Эсперанса де Торральба Менесес-и-Пачеко какая-нибудь такая?! Знайте, сеньор мой, что она не из тех, о ком вы думаете. Моя сеньора — очень знатная и очень добродетельная, очень скромная, очень смышленая, очень остроумная, очень музыкальная, очень начитанная и очень написанная. И не сделает она того, о чем вы ее просите, даже если бы ее перлами осыпали.
Во время этой увеселительной беседы с жеманной дуэньей, не скупившейся на «пфуй, пфуй!» и на «перлы», на улице появилась большая толпа народа. Певцы и вся братия решили, что это городская полиция; а поэтому построились в круг и поместили в середину отряда музыкальный обоз; при приближении полиции они начали греметь щитами и звенеть панцирями; услышав эти звуки, полиция не пожелала танцевать танец со шпагами, исполняемый садовниками на празднике «тела господня» в Севилье, и прошла дальше, потому что альгуасилы, нижние чины и сыщики не почуяли себе большой наживы от здешней ярмарки. Наши храбрецы возликовали и хотели было продолжать начатую серенаду; но один из главных устроителей потехи заявил, что музыки не будет до тех пор, пока сеньора донья Эсперанса не покажется у окна. Но как они настойчиво ее ни вызывали, на крики не вышла даже дуэнья. Все были рассержены и пристыжены и собирались забросать дом камнями, разбить решетчатые ставни, устроить страшный кавардак и кошачий концерт, то есть поступить так, как свойственно поступать юнцам в подобных случаях. Тем не менее, несмотря на свою досаду, они решили еще раз «пропустить по маленькой музыке» и сыграли несколько вильянсиков; затем снова зазвучала волынка, оглушительно-резко зазвенели бубенцы, и на этом серенада окончилась.
На рассвете ватага рассеялась; но не рассеялась досада ламанчцев, увидевших, что музыка их пропала даром. В таком настроении явились они в дом одного кавальеро, своего приятеля, из числа тех, кого в Саламанке называют «вельможами» и кого всюду сажают на почетное место. Он был молод, богат, расточителен, любил петь, ухаживать и охотно водил дружбу с отъявленными подкалывателями. Изложив ему во всех подробностях свое приключение, студенты описали красоту, привлекательность, осанку и изящество девушки, важность и широкие замашки тетки и указали на полное отсутствие надежды овладеть юной красавицей, потому что устроенная ими серенада — первый и последний знак внимания, какой они могли ей оказать, — не принесла никакой пользы и привела лишь к тому, что обозлила и опозорила ее во всей округе. Кавальеро, причислявший себя к числу людей, прямо идущих к цели, в ту же минуту дал слово завоевать эту девушку какою угодно ценой. В тот же день он отправил сеньоре донье Клаудии письмо, столь же пространное, сколь и учтивое, предлагая к ее услугам свою особу, свою жизнь, свое состояние и свое покровительство. Хитрая Клаудия расспросила слугу о положении и родословной его господина, о его доходах, характере, времяпрепровождении и занятиях, как если бы она на самом деле прочила его себе в зятья. Слуга сказал всю правду и дал такой портрет своего господина, что донья Клаудия осталась очень довольна и отправила вместе со слугой дуэнью «Пфуй, пфуй!» с ответом, не менее пространным и учтивым, чем полученное ею послание.
Дуэнья вошла в дом кавальеро, который принял ее очень любезно. Он усадил ее в кресло рядом с собой, снял с ее головы покрывало, подал ей кружевной платок, чтобы отереть пот с лица, так как дуэнья была несколько утомлена дорогой, и, прежде чем она успела слово сказать о своем поручении, велел подать ей коробку пастилы и собственноручно отрезал два больших куска, а для «полоскания рта» предложил ей глотков тридцать «святого» винца. От этого дуэнья стала краснее мака и расцвела так, как если бы ей пожаловали каноникат. Затем она изложила данное ей поручение, прибегнув к помощи привычных для нее жеманных и вычурных выражений. Она закончила явною ложью, а именно, будто сеньора ее, донья Эсперанса де Торральба Менесес-и-Пачеко, ныне так же невинна, как и тогда, когда ее мать родила (скажи она «так же невинна, как мать, которая ее родила», это было бы, пожалуй, вернее), и несмотря на это дверь ее сеньоры не останется все же закрытой для его милости. Кавальеро ответил, что поскольку речь идет о достоинствах, отменных качествах, красоте, добронравии, скромности и, употребляя ее собственные слова, знаменитости ее сеньоры, он готов ей беспрекословно поверить, но невинность Эсперансы возбуждает в нем некоторое сомнение, потому он и просит дуэнью открыть ему истину. При этом он поклялся ей словом кавальеро, что если она выскажется начистоту, то он подарит ей покрывало из самого добротного шелка.
Этого обещания было достаточно, чтобы без каких-либо дальнейших настояний и понуждений жеманная дуэнья выложила всю правду. Поклявшись сегодняшним днем и часом собственной смерти, она удостоверила, что донья Эсперанса де Торральба Менесес-и-Пачеко являлась уже предметом трех сделок или, вернее, продаж, причем тут же была указана цена, покупатель, точное место купли и еще тысяча других подробностей, вполне удовлетворивших дона Фелиса (так звали кавальеро), ибо теперь он знал все, что ему было нужно. Под конец он сговорился с дуэньей, что этой же ночью она впустит его в дом, где он переговорит наедине с Эсперансой без ведома ее тетки. Он простился с дуэньей, велев ей передать всякого рода любезности и предложения услуг ее госпожам, и выдал ей деньгами стоимость черного покрывала. Он условился с ней о том, как ему пройти этой ночью в дом, после чего дуэнья удалилась вне себя от радости, а дон Фелис остался один, размышляя о предстоящем свидании и дожидаясь ночи, медлившей, как ему казалось, целую тысячу лет: очень уж ему хотелось поскорее приступить к своей хитроумной затее.
Назначенный срок настал, ибо нет такого срока, который не наступает. Дон Фелис тщательно вооружился и, не взяв с собой ни друзей, ни слуг, прибыл туда, где, по условию, его дожидалась дуэнья. Открыв ему дверь, она осторожно и тихо впустила его в дом и спрятала его в комнате сеньоры Эсперансы за пологом кровати, попросив не производить ни малейшего шума. Дуэнья сказала, что сеньора донья Эсперанса уже извещена о его приходе и, склонившись на уговоры, дала согласие удовлетворить желанья дона Фелиса тайком от своей тетки. Пожав ему руку в знак того, что все будет устроено, дуэнья вышла из комнаты, а дон Фелис остался за кроватью Эсперансы, выжидая, чем окончится его хитрая затея.
Когда дон Фелис вошел в дом, было около девяти часов вечера. В комнате, смежной с той, где он находился, в низеньком кресле со спинкой сидела тетка, напротив на помосте сидела племянница, а посредине стояла освещавшая помещение жаровня. Весь дом был погружен в молчание; лакей уже спал, вторая дуэнья тоже ушла почивать, и только та, что была в заговоре, оставалась на ногах, стараясь спровадить спать старую сеньору. Она уверяла, что часы пробили не девять, а десять, горя желанием, чтобы поскорей увенчались успехом ее шашни, о которых она договорилась со своей молодой сеньорой. Было решено обделать дело без ведома Клаудии, удержать в свою пользу деньги и приношения дона Фелиса и начисто обойти старуху, так как последняя была очень скаредна и скупа и прибирала к рукам все, что зарабатывала и наживала племянница, не выдавая ей ни единого реала, когда дело шло о вещах не первой необходимости; вот почему заговорщицы задумали урвать у нее одну получку из числа тех многих, которые ее ожидали в будущем. Но хотя наша Эсперанса и знала, что дон Фелис находится в доме, ей не было, однако, известно, в каком именно месте он спрятан.
Под впечатлением ночной тишины и удобного времени Клаудия почувствовала желание поболтать и негромким голосом заговорила с племянницей следующим образом:
ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА И ФИНАНСЫ
— Много раз я говорила тебе, милая Эсперанса, чтобы ты твердо помнила о тех советах, поучениях и наставлениях, которые я тебе постоянно давала. Если ты будешь их соблюдать как следует и как ты мне это обещала, они принесут тебе великую пользу и выгоду; опыт и время, этот великий учитель и обличитель всех вещей, тебе это когда-нибудь докажет. Не думай, что мы находимся сейчас в Пласенсии, где ты родилась, или в Саморре, где ты впервые вкусила знание света и плоти, или еще в Торо, где мы сняли третью жатву твоей плодородной нивы. Все эти края населены людьми добрыми и простыми, бесхитростными и чистосердечными, а не такими продувными и искушенными во всякого рода плутнях и дьявольских штуках, как жители этого города. Заметь, дочь моя, ты находишься в Саламанке, во всем мире именуемой матерью наук, оплотом художеств и сокровищницей талантов, где обычно обучается и проживает от десяти до двенадцати тысяч студентов: народ молодой, причудливый, порывистый, вольный, щедрый, влюбчивый, расточительный, смышленый, проказливый и непостоянный. Таковы они вообще; а что касается частностей, то ввиду того, что все они по большей части приезжие и уроженцы разных стран и областей, не у всех из них одинаковые свойства. Бискайцы, которых здесь не больше, чем ласточек, делающих весну, на слова не богаты, но если уж погонятся за какой-нибудь красоткой, то кошелек у них легко открывается; они плохо разбираются в металлах и на свои удовольствия и на жизнь тратят серебро с такою щедростью, словно дело идет о железе, в изобилии добываемом у них на родине. Ламанчцы — это такие сорвиголовы, что хоть святых вон выноси, а кроме того, они питают большую любовь к потасовкам. Здесь есть еще целая куча арагонцев, валенсианцев и каталонцев; все это народ деликатный, раздушенный, хорошо воспитанный и очень образованный; но больше с них ничего не следует спрашивать, а если спросишь, то знай, дочь моя, что шутить они не любят, и если рассердятся на женщину, то становятся жестоки и печень у них пошаливает. Жители Новой Кастилии — люди благородного образа мыслей, и когда у них есть деньги, дают, а когда ничего нет, то во всяком случае ничего сами не просят. У эстремадурцев бывает всего понемногу, как в лавке аптекаря: они вроде лигатуры у алхимиков: прибавить ее в серебро — выйдет серебро, прибавить к меди — медью и останется. А вот чтобы иметь дело с андалусцами, дочь моя, нужно иметь не пять, а пятнадцать чувств: до того они остры, проницательны, хитры и пронырливы; и при этом совсем не скупые; если же андалусец родом из Кордовы, тот будет, пожалуй, и того почище. О галисийцах я не стану говорить, это — люди настоящие. Астурийцы хороши для суббот, так как они всегда приходят домой жирными и просаленными. Многое можно было бы сказать об особенностях и свойствах португальцев: все они страдают усыханием мозга, а потому каждый из них — сумасшедший и притом по-своему; впрочем, есть и нечто общее в этом безумии: знай, что, несмотря на всю свою нищету, они все-таки умеют любить. Помни же, Эсперанса, с какими разнообразными людьми тебе придется иметь дело и как важно тебе, пускающейся в плавание по морю, столь богатому рифами и опасностями, иметь под рукой меня для того, чтобы показывать тебе компас и путеводную звезду и направлять и наставлять тебя, а иначе придется пустить ко дну корабль наших намерений и помыслов, направленных на то, чтобы обчищать и обирать мужчин; придется бросить в воду и товар, то есть твое приятное и статное тело, столь щедро наделенное прелестью, изяществом и соблазном в глазах тех, кто к нему тянется. Прими во внимание, дочь моя, что самый знаменитый профессор в этом университете не так искушен в своей науке, как искушена я в том житейском искусстве, которым мы с тобой промышляем. Я так много лет им жила и кормилась и приобрела такой опыт, что могла бы удостоиться юбилейного чествования. И хотя сегодняшние мои слова не более, как часть того, что я уже много раз тебе говорила, я все-таки хочу, чтобы ты со вниманием преклонила к моим речам свое ухо, потому что моряк не всегда держит паруса наготове и не всегда их убирает прочь, а каков ветер, такова и его повадка. Все это время малютка Эсперанса сидела, потупив Глаза, опустив голову, и молча перемешивала ножом угли в жаровне; казалось, что она покорно и с удовольствием слушает слова тетки. Но Клаудию это не удовлетворило, и она сказала:
— Подними голову, дочь моя, и оставь в покое огонь; смотри мне прямо в глаза и не засыпай. Чтобы усвоить и понять то, что я сейчас скажу, тебе следовало бы иметь еще пять чувств, кроме тех, которые у тебя есть.
На это Эсперанса ответила ей:
— Сеньора тетя, не утомляйте себя и меня продолжением и без того уже длинной речи; у меня скоро голова треснет от нескончаемых проповедей и указаний, что мне делать и как поступать; хорошо ли будет, если она у меня окончательно лопнет? Ну, что такое нашли вы у саламанкских мужчин, чего бы не было у мужчин других городов! Разве все они не из мяса и костей? Разве не у всех у них одна душа с тремя способностями и пятью чувствами? Подумаешь, какая важность, что одни более грамотны и учены, чем другие? Наоборот, я полагаю, что люди ученые ослепляются и падают скорее других, и это в порядке вещей, так как ум помогает им познать и оценить красоту. Что мне нужно еще уметь, кроме того, чтобы возбуждать холодного, соблазнять целомудренного, отказывать чувственному, поощрять робкого, ободрять ненаходчивого, обуздывать самоуверенного, пробуждать сонного, завлекать неосторожного, напоминать о себе забывчивому, писать отсутствующему, льстить глупому, восхвалять умного, ласкать богатого, выводить из заблуждения бедного, быть ангелом на улице, святой в церкви, красавицей в окне, добродетельной дома и дьяволом в кровати? Все это, сеньора тетя, я знаю уже наизусть. Придумайте для меня новые советы и указания, которые мы отложим, однако, до другого раза, так как я, должна вам сознаться, совсем сплю и не в силах вас слушать. Одно только хочу я сказать и подчеркнуть для того, чтобы вы раз навсегда это запомнили: отныне я не позволю вам больше мучить меня своими руками, ни за какие блага на свете. Я отдала уже вам три цветка, которые вы продали, и три раза прошла сквозь нестерпимые муки. Неужели же, в самом деле, я сделана из бронзы? Или мое тело лишено чувствительности? Или оно только и годится на то, чтобы тыкать в него иглой, как в рваное и трепаное платье? Клянусь жизнью матери, которой я, однако, не видела, я на это больше не пойду. Пора уже, сеньора тетя, пустить в ход остатки виноградника; ведь иной раз бывает, что остатки оказываются слаще первого сбора. Если же вы твердо решили, что мой сад нужно каждый раз продавать как цельный, непорочный, нетронутый, придумайте другой, более нежный способ замыкать его калитку, а о том, чтобы я еще раз позволила иголкой и шелковой ниткой прикоснуться к моему телу, и думать не смейте!
— Глупенькая ты, глупенькая, — отвечала старая Клаудия, — мало ты смыслишь в вещах подобного рода. Да что же другое в таких случаях может сравниться с иглой и красной шелковой ниткой: все остальные средства — одни пустяки. Дубильный корень и толченое стекло ничего не стоят; еще меньше проку от пиявки; мирра не приносит никакой пользы, равно как и морской лук, голубиный зоб и другие никчемные снадобья; все это — вздор, потому что теперь мужика такого не сыщешь (если только он хоть капельку разбирается), который бы сразу не заподозрил подделки. А потому — да здравствует мой наперсток и игла, и да укрепляются вместе с тем твои выносливость и терпение, и тогда нам не страшны никакие мужчины на свете: все они останутся в дураках, ты — при своей чести, а я при капитале и очень даже большой наживе!
— Я этих доводов не оспариваю, — отвечала Эсперанса, — но я все-таки не изменю своего решения, хотя бы это и отразилось на моем заработке. Как-никак, а откладывая продажу, мы теряем ту прибыль, которую могли бы выручить, открыв лавку немедленно, тем более, что мы не собираемся обосноваться на жительство в этом городе. Если мы, по вашим словам, должны поспешить в Севилью ко времени прибытия флота, это еще не обязывает нас терять даром время в ожидании четвертой продажи моего цветка, который уже так поблек, что стал совсем черным. Ступайте вы, с богом, спать и обдумайте все это; а завтра мы примем решение, которое вам больше понравится, ибо в конечном счете я все-таки последую вашему совету, так как вы для меня родная мать и даже больше, больше, чем мать.
Когда разговор тетки с племянницей дошел до этого места, дон Фелис, слышавший всю беседу и до крайности удивленный обманами, гнездившимися в этих двух женщинах, на вид таких порядочных и далеких от грязных дел, не будучи в состоянии сдержаться, начал чихать с такой силой и шумом, что его легко можно было услышать на улице. При этом звуке перепуганная и взволнованная Клаудия вскочила с места и, взяв свечу, гневно прошла в комнату, где стояла кровать Эсперансы. С таким видом, будто все ей было уже известно и рассказано, она направилась прямо к постели и, откинув полог, увидела там сеньора кавальеро, схватившегося за шпату, со шляпой, надвинутой на глаза, и грозным лицом человека, приготовившегося к бою. Как только старуха разглядела его, она стала часто креститься и проговорила:
— Господи Иисусе! Какое горе, какое несчастье! В моем доме мужчина, и в таком месте, и в такой час! О, горе мне, злополучной! Чего только теперь не наговорят, если это узнается!
— Успокойтесь, ваша милость, сеньора донья Клаудия, — отвечал дон Фелис, — я явился сюда не для того, чтобы вас позорить и вам вредить, а чтобы принести вам выгоду и честь. Я — кавальеро, богат и умею молчать, а кроме того, я влюблен в сеньору донью Эсперансу. Чтобы добиться того, к чему стремится моя пылкая любовь, я постарался заключить одно тайное соглашение, о котором вы, ваша милость, в свое время узнаете, и пробрался сюда, не имея иных намерений, кроме одного: упиться вблизи видом женщины, сумевшей лишить меня жизни издали. Если эта вина заслуживает какой-либо кары, я готов: время и место для этого самое подходящее, но всякую кару, исходящую от ее руки, я почту великим блаженством, тем более, что никакая кара не подвергнет меня такой пытке, какой терзает меня любовь.
— О, я несчастная! — снова начала Клаудия. — Каким только опасностям не подвергаются женщины, живущие без мужей и без мужчин, способных оказать им защиту и покровительство. О, как мне тебя сейчас не хватает, горемычный дон Хуан де Бракамонте, — не подумайте, что я про хересского архидиакона говорю! — мой несчастный супруг; если бы ты был жив, никогда бы я не приехала в этот город и не пережила бы такого позора и тревоги, как в эту минуту. Потрудитесь, сеньор мой, немедленно выйти отсюда той же дорогой, какой вы пришли; если вам что-нибудь угодно в этом доме от меня или моей племянницы, пройдите на улицу, там мы сможем переговорить с вами без всякой спешки — мы ведь вас не гоним и не выставляем — и тогда ни честь наша, ни выгода, ни удовольствие не пострадают.
— Сеньора, для того, что мне угодно в этом доме, — отвечал дон Фелис, — самое лучшее будет оставаться на месте, ибо чести вашей от меня не убудет; деньги, можно сказать, у вас в руках, а это и есть ваша выгода; а что касается удовольствия, то я уверен, что и за ним дело не станет. В доказательство того, что это не просто слова и что я говорю правду, пусть поручится за меня эта золотая цепь.
Тут дон Фелис снял с себя хорошую золотую цепь весом в сотню дукатов и надел ее на шею старухи.
В ту же минуту дуэнья, состоявшая в заговоре, слыша такие слова и видя столь щедрую плату, еще раньше, чем госпожа ее успела что-нибудь ответить и принять подношение, воскликнула:
— Найдется ли на свете какой-нибудь князь, папа, император, Фуггер, посол, кассир торгового дома, перуанец[47] или даже каноник — quod magis est[48] — способный проявить подобную щедрость и великолепие? Сеньора Клаудия, умоляю вас, не толкуйте вы больше об этом деле: считайте, что оно уже сделано, и немедленно предоставьте этому сеньору все, что ему будет угодно.
— В своем ли ты уме, Грихальба (так звали дуэнью), в своем ли ты уме, сумасшедшая дура? — сказала донья Клаудия. — Да разве речь у нас идет не о чистоте Эсперансы, не об ее непорочном цветке, не об ее незапятнанной девственности? Так я и стану рисковать ею и продавать ее здорово-живешь, позарившись на какую-то цепочку! Да неужели же я такая безмозглая, что меня можно ослепить ее блеском, опутать ее звеньями и оплести ее застежками? Клянусь жизнью покойника, этого не будет! Вы, ваша милость, наденьте вашу цепь на себя и постарайтесь посмотреть на нас другими глазами и понять, что хоть мы и одинокие женщины, но роду мы знатного, что эта малютка осталась такой же, какой ее мать родила, и что ни один человек на свете про нее иначе не скажет, а если вам кто-нибудь про нас наврал, так знайте, что все они заговариваются и что в свидетели своих слов я призываю опыт и время!
— Молчите, сеньора, — сказала в эту минуту Грихальба, — конечно, я, по-вашему, дура, но пропади я на этом месте, если сеньор не знает уже всей правды про нашу девицу.
— Что он может знать, бесстыжая, что он может знать? — воскликнула Клаудия. — Скажите, неужели вам неизвестна чистота моей племянницы?
— Уж я ли не чистеха? — сказала Эсперанса, стоя посреди комнаты, удивленная и озадаченная тем, как отзываются об ее теле. — Я большая чистеха! Ведь какой-нибудь час тому назад я, несмотря на холод, надела чистую рубашку.
— Как бы там ни было, — сказал дон Фелис, — но, после того как я увидел образчик сукна, я не выйду из лавки, прежде чем не куплю всего куска. А чтобы продажа не расстроилась из-за недоразумения или ненужного кривлянья, знайте, сеньора Клаудия, что я слышал всю проповедь и все поучения, которые вы только что читали вашей племяннице, и каждый стежок вашей иглы задевал меня за живое: ибо если бы мне первому удалось подрезать эту лозу и собрать первый урожай с виноградника, я охотно присоединил бы к этой цепи золотые кандалы и алмазные поручни. А так как вся истина мне доподлинно известна и у меня есть доказательства, то напрасно вы так мало цените мои дары и мои данные и так нелюбезно обращаетесь со мной, ибо я серьезно заявляю вам и даю вам слово и клятву, что никто на свете не узнает от меня о бреши, приключившейся в этой вашей твердыне, и что я буду повсюду разглашать о ее непорочности и несокрушимости.
— Ладно, — сказала Грихальба, — пусть она пойдет ему на доброе здоровье, пусть берет себе свое сокровище, пусть наперекор зловредным и подлым людям станут они оба «во плоть едину», я их соединяю и благословляю.
И, взяв за руку девушку, она подвела ее к дону Фелису. Увидев это, старуха так рассвирепела, что сняла с себя высокую туфлю и затеяла с Грихальбой, можно сказать, «сечу вокруг вражеской ставки»[49]. Та, не стерпев оскорбления, вцепилась в «току» сеньоры Клаудии и стащила ее с головы старухи, так что все вдруг увидели лысину, сделавшую бы честь любому монаху, и клочок парика, сбившийся набок, отчего сеньора приобрела вид самой гнусной и отвратительной образины на свете.
Видя подобное обращение со стороны собственной служанки, старуха стала вопить, кричать и звать полицию; по первому же ее зову, как по волшебству, в комнату вошел коррехидор города, а вместе с ним человек двадцать случайных прохожих и полицейских. Коррехидор еще накануне получил сведения о лицах, живущих в этом доме, и решил навестить их как раз сегодня ночью. Он уже стучался в дом, но его не услышали, так как все были заняты ссорой.
Тогда полицейские, пустив в ход два лома, которыми они запасаются по ночам для подобного рода случаев, взломали наружную дверь и вошли в сени так тихо, что их никто не заметил. С самого начала проповеди тетки и вплоть до драки старухи с Грихальбой коррехидор стоял в сенях у дверей и слушал, не пропустив ни слова. Войдя в комнату, он сказал:
— Да, непочтительно вы обращаетесь со своей сеньорой, сударыня ключница!
— Не только непочтительно, сеньор коррехидор, — сказала Клаудия, — эта мерзавка дерзнула поднять руку на то, чего ни одна рука не касалась с тех самых пор, как господу угодно было извергнуть меня в этот мир!
— Это вы правильно сказали, что он вас извèрг, — сказал коррехидор, — так как вы только в `изверги и годитесь. Оправьте свой головной убор, почтенная дама, все прочие пусть сделают то же самое, и отправляйтесь в тюрьму!
— В тюрьму, сеньор! За что? — воскликнула Клаудия. — Видно, у вас в городе плохие порядки, если с людьми такого знатного звания, как я, допустимо подобное обхождение!
— Не кричите, сеньора; идти вам все равно придется, и вместе с вами отправится и эта трехцветковая (разумея ее обращение со своим наследственным добром) госпожа.
— Пусть меня убьют, — вскричала Грихальба, — если сеньор коррехидор не слышал нашего разговора; ведь это он на Эсперансу намекнул, когда сказал «трехцветковая».
В эту минуту в беседу вмешался дон Фелис и, отойдя с коррехидором в сторону, стал просить его не брать под стражу этих сеньор и отпустить их на поруки; но на коррехидора не подействовали ни просьбы, ни обещания.
Между тем судьбе было угодно, чтобы среди прохожих, сопровождавших коррехидора, оказались два студента-ламанчца; они присутствовали при всей сцене. Увидев, что тут происходит, и убедившись в том, что так или иначе, а Эсперансе, Клаудии и Грихальбе придется отправиться в тюрьму, они в один миг сообразили, как им следует поступить. Никем не замеченные, они вышли из дома и спрятались за углом улицы, по которой должны были пройти задержанные. К ним присоединилось шестеро лихих друзей, которых им посчастливилось встретить и которых они попросили помочь им в серьезном деле против городской полиции. На подобное предложение друзья их откликнулись с еще большей готовностью и охотой, чем если бы их позвали на знатную пирушку.
Вскоре показалась полиция и пленницы; стоило страже приблизиться, как студенты тотчас же напали на нее с таким пылом и храбростью, что через несколько минут улица была очищена от полицейских. Впрочем, им удалось отбить одну Эсперансу; дело в том, что когда впереди завязалась свалка, стражники, сопровождавшие Клаудию и Грихальбу, свернули вместе с ними в другую улицу и доставили их в тюрьму. Коррехидор, пристыженный и посрамленный, отправился домой, дон Фелис тоже, а студенты пошли к себе в гостиницу. Один из них, тот самый, что отбил Эсперансу у полицейских, хотел было овладеть ею этой же ночью, но второй студент этого не допустил и пригрозил товарищу смертью, если тот отважится на покушение.
О диковинные события, приключающиеся на свете! О дела, о которых следует рассказать осторожно, а иначе им не поверят! О могущественная сила страсти, увлекающая нас в самые диковинные положения! Все это говорится нами потому, что освободитель красавицы, которому его друг так упорно и настойчиво препятствовал насладиться ею, не вдаваясь в долгие размышления и не задумываясь над последствиями своего поступка, заявил:
— Хоть ты мне и запрещаешь насладиться любовью женщины, из-за которой я многим рискнул, и не хочешь, чтобы она сделалась моей возлюбленной, а все-таки тебе придется сознаться, что, когда она станет моей законной женой, ты ее у меня не отнимешь. — И, обратившись к девушке, которую все время держал за руку, он сказал ей:
— Прелестная сеньора, до сих пор эта рука была рукой вашего защитника, теперь же, предлагая вам ее, я прошу позволения стать вашим законным супругом.
Эсперанса охотно бы согласилась и на менее почетный выход, а потому в ответ на это предложение тотчас же сказала «да, да», и не один, а много раз, и обняла студента как своего супруга и господина. Товарищ его, удивленный столь странным решением, не произнося ни слова, покинул их и удалился в свою комнату. Жениху стало страшно, что друзья его воспрепятствуют осуществлению его желания и помешают браку, который не был еще заключен по всем обрядам, каких требует святая мать-церковь; поэтому он в ту же ночь прошел на постоялый двор, где проживал его земляк, погонщик мулов. Счастливая звезда Эсперансы устроила так, что погонщику этому нужно было выехать на другой день рано утром. Новобрачные отправились вместе с ним. Рассказывают, что студент по приезде домой убедил отца, будто прибывшая с ним сеньора — дочь знатного кавальеро, которую он увез из родительского дома, пообещав на ней жениться. Отец его был дряхл и без труда поверил словам сына; увидев красивое личико невестки, он остался очень доволен и стал всячески расхваливать благоразумное решение своего сына.
Менее удачно сложилась судьба Клаудии, так как на основании ее собственных показаний было установлено, что Эсперанса не приходилась ей ни племянницей, ни родственницей, а была девочкой найдена на церковной паперти. Она созналась, что Эсперансу и еще двух девушек она много раз продавала разным лицам под видом девственниц, указав, что это, собственно, и составляло ее основное ремесло и занятие, которым она зарабатывала на жизнь. Была установлена равным образом ее причастность к колдовству; за все эти преступления коррехидор велел дать ей четыреста плетей и выставить ее посреди площади на помосте, в клетке, с позорным колпаком на голове. Это был самый приятный день в году, выпавший на долю мальчишек города Саламанки.
Вскоре распространились слухи о свадьбе студента. Нашлись люди, пожелавшие написать отцу всю правду о предосудительном образе жизни его невестки; но она так хитро и умно сумела угодить и понравиться своему свекру, что если бы отзывы о ней были еще хуже, он все равно с радостью назвал бы ее своей дочерью. Вот какую силу имеют ум и красота и вот какая беда приключилась напоследок с сеньорой доньей Клаудией д'Астудильо-и-Киньонес, и пусть такая же кара постигнет всех тех, кто живет и ведет себя так, как она! Немного, впрочем, найдется на свете таких Эсперанс, которые после своей горькой жизни приходят к покою и тихой пристани, доставшимся на долю нашей красавице, ибо большинство ей подобных заполняют койки госпиталей, где они и умирают в нищете и горе; и, по соизволению божию, выходит так, что те самые женщины, которые в молодости восхищали собою взоры всех, не находят больше никого, кто удостоил бы их хотя бы единого взгляда.
Послание к Матео Васкесу[50]
ГАЛAТEЯ
К любознательным читателям
Боюсь, что писание эклог[56] в наше, в общем весьма неблагоприятное для поэзии, время будет признано малопочтенным занятием, а потому мне, в сущности, следовало бы представить удовлетворительные объяснения тем из моих читателей, которые все, что не отвечает врожденной их склонности, расценивают как даром потраченное время и труд. Однако, памятуя о том, что с людьми, замыкающимися в столь тесные рамки, спорить бесполезно, я обращаюсь к иным, беспристрастным, читателям: с полным основанием не усматривая разницы между эклогой и поэзией народной, они вместе с тем полагают, что те, кто в наш век посвящает ей свои досуги, поступают опрометчиво, издавая свои писания, и что их побуждает к этому страсть, которую обычно питают авторы к своим сочинениям, — я же со своей стороны могу на это сказать, что склонность к поэзии была у меня всегда и что возраст мой, едва достигший зрелости, думается, дает мне право на подобные занятия. К тому же никто не станет отрицать, что такого рода упражнения, в былое время по справедливости столь высоко ценившиеся, приносят немалую пользу, а именно: они открывают перед поэтом богатства его родного языка и учат его пользоваться для прекрасных своих и возвышенных целей всеми таящимися в нем красотами с тем, чтобы на его примере умы ограниченные, усматривающие предел для кастильского словесного изобилия в краткости языка латинского[57], поняли, наконец, что перед ними открытое, широкое и плодородное поле, по которому они могут свободно передвигаться, наслаждаясь легкостью и нежностью, важностью и великолепием нашего языка и постигая многоразличие тех острых и тонких, важных и глубоких мыслей, что по неизреченной милости неба плодовитый испанский гений столь щедро повсюду рождал и продолжает всечасно рождать в счастливый наш век, чему я являюсь нелицеприятным свидетелем, ибо знаю таких, у которых есть все основания для того, чтобы без той робости, какую испытываю я, благополучно пройти столь опасный путь. Однако же трудности, возникающие перед людьми, неизбежны и многообразны, их цели и дела различны, — вот отчего одним придает храбрости жажда славы, другие же, напротив, страшась бесчестия, не осмеливаются издавать то, что, сделавшись всеобщим достоянием, обречено предстать на суд черни, опасный и почти всегда несправедливый. Я лично не из самонадеянности дерзнул выпустить в свет эту книгу, а единственно потому, что до сих пор не решил, какая из двух крайностей хуже: легкомысленно выказывать дар, коим тебя наградило небо, и предлагать незрелые плоды своего разумения отечеству и друзьям, или же, проявляя чрезвычайную щепетильность, кропотливость и медлительность, вечно будучи недоволен тем, что у тебя задумано или же сделано, находя удачным лишь то, что не доведено до конца, так никогда и не отважиться выдать в свет и обнародовать свои писания. Ведь если излишняя смелость и самонадеянность могут быть осуждены как непозволительная дерзость, на которую подбивает человека самомнение, то не менее предосудительны крайняя медлительность и неуверенность в себе, ибо тогда те, кто ждет и чает помощи и достойного примера, дабы усовершенствоваться в своем искусстве, слишком поздно или даже совсем не воспользуются плодами разумения твоего и трудов. Из боязни впасть в какую-либо из этих крайностей я не издавал до сих пор этой книги, но и не хотел долго держать ее под спудом, оттого что сочинял я ее отнюдь не только для собственного удовольствия. Мне хорошо известно, что всякое нарушение того стиля, коего в сем случае должно придерживаться, вызывает нарекания, — даже столп поэзии латинской подвергся нападкам за то, что некоторые его эклоги написаны более высоким стилем, нежели другие, — а потому меня не очень смутит обвинение в том, что я перемешал философические рассуждения пастухов с их любовными речами и что порою мои пастухи возвышаются до того, что толкуют не только о деревенских делах, и притом с присущею им простотою. Если принять в соображение, — а в книге я на это не раз намекаю, — что многие из моих пастухов — пастухи только по одежде, то подобное обвинение отпадет само собой. Что же до недостатков в изобретении и расположении, то да простит их рассудительный читатель, который пожелает к книге моей отнестись непредвзято, и да искупит их желание автора по мере сил своих и возможностей ему угодить; если же эта книга надежды автора не оправдает, то в недалеком будущем он предложит вниманию читателя другие, более занимательные и более искусно написанные.
Два друга
Все пастухи столь мелодично на инструментах своих заиграли, что одно наслаждение было их слушать, и в тот же миг, словно в ответ им, божественною гармонией зазвучали хоры великого множества птиц, ярким своим опереньем сверкавших в густой листве. Так шли некоторое время пастухи, пока не приметили давным-давно прорытую в горе пещеру, находившуюся совсем близко от дороги, а потому они явственно различили звуки арфы, на которой играл некий пещерный житель, и тут Эрастро, прислушавшись, молвил:
— Остановитесь, пастухи! Сегодня, кажется, все мы услышим то, что я вот уже несколько дней мечтаю услышать, а именно — пение одного милого юноши, который недели две тому назад здесь поселился и ведет столь суровую жизнь, какую, по моему разумению, в его молодые лета вести не должно, и когда мне случалось проходить мимо, до меня доносились звуки арфы и до того сладкое пение, что мне хотелось слушать его еще и еще, однако ж всякий раз я заставал лишь конец песни. И сколько я ни заговаривал с юношей и сколько ни старался войти к нему в дружбу, обещая сделать для него все, что только в моих силах, он так и не сказал мне, кто он таков и что принудило его в столь юные годы полюбить одиночество и бедность.
Рассказ Эрастро о юном отшельнике вызвал и у других пастухов желание узнать, что с ним приключилось, и они порешили сперва подойти так, чтобы он их не увидел, к пещере и послушать его пение, а потом уже начать с ним разговор. И тут им посчастливилось найти укромное место, где они, оставшись незамеченными, и прослушали все, что пребывавший в пещере под звуки арфы выразил в этих стихах:
Вместе с последними звуками жалостной песни из груди пребывавшего в пещере отшельника вырвался глубокий вздох; тогда пастухи, убедившись, что он умолк, тотчас вошли все вместе в пещеру и увидели сидевшего в углу, прямо на жестком камне, милого и приятного юношу лет двадцати двух, в домотканой одежде, босого, подпоясанного грубой веревкой, заменявшей ему ремень. Голова у него свесилась набок, одною рукой он держался за сердце, другая же была бессильно опущена вниз. Найдя его в таком состоянии и заметив, что, когда они вошли, он не пошевелился, пастухи догадались, что юноше дурно, и они не ошиблись, ибо, вновь и вновь возвращаясь мыслью к своим несчастьям, он почти каждый раз доходил до обморока. Как скоро к нему приблизился Эрастро и взял его за руку, он очнулся, однако же вид у него был до того растерянный, словно он припоминал тяжелый сон, каковые знаки немалой печали опечалили вошедших, и тут Эрастро сказал:
— Что с вами, сеньор? Какая печаль теснит измученное ваше сердце? Не таитесь, — ведь перед вами тот, кого не устрашат никакие муки, лишь бы вас ему избавить от мук.
— Не в первый раз, любезный пастух, обращаешься ты ко мне с этим предложением, — слабым голосом заговорил юноша, — и, верно, не в последний приходится мне от него отказываться, ибо судьба устроила так, что ни ты не можешь быть мне полезен, ни я, при всем желании, не могу воспользоваться твоими услугами. Прими же слова мои как дань благодарности за твою доброту, и если ты еще что-либо желаешь знать обо мне, то время, от коего ничто не скроется, скажет тебе даже больше, чем мне бы хотелось.
— Если вы предоставляете времени удовлетворить мое любопытство, — возразил Эрастро, — то подобное вознаграждение чрезмерно щедрым назвать нельзя, оттого что время, к нашему прискорбию, выдает самые заветные тайны наших сердец.
Тут пастухи принялись наперебой упрашивать юношу, чтобы он поведал им свою кручину, особливо Тирсис, который, приводя разумные доводы, объяснял ему и доказывал, что нет такого горя, коему нельзя было бы помочь, разве что смерть, гасительница человеческих жизней, преградит нам путь. К этому он присовокупил еще и другие доводы, после чего упорный юноша согласился удовлетворить всех, кто желал выслушать его историю, и обратился к пастухам с такими словами:
— Приятные собеседники! Хотя мне надлежало бы прожить остаток дней моих без вас и провести его в более строгом уединении, однако ж, дабы знали вы, сколь дорого мне ваше участие, решаюсь я рассказать вам все, что почту нужным, — рассказать, как довела меня своенравная Фортуна до того жалкого положения, в коем я нахожусь ныне. Но как час теперь должен быть довольно поздний, злоключениям же моим нет числа и, прежде нежели я кончу свой рассказ, нас может застигнуть ночь, то лучше нам всем отправиться в деревню; я намеревался пойти туда завтра утром, но могу совершить этот путь и сейчас: ведь мне все равно нужно быть в вашей деревне, — там я достаю себе пропитание, — и дорогой я поведаю вам, как сумею, все мои горести.
Слова юного отшельника всем пришлись по душе; взяв его с собою, пастухи неспешным шагом двинулись по направлению к деревне, и тут несчастный начал рассказ о своих невзгодах:
— В старинном и славном городе Хересе, коего жители особым покровительством Минервы и Марса пользуются[59], родился Тимбрио, отважный кавальеро, чьи добродетели и величие духа было бы мне весьма затруднительно описать. Довольно сказать, что то ли редкая его доброта привлекла меня к нему, а может статься, таково было влияние светил небесных, только я приложил все усилия, дабы сделаться самым близким его другом, и небо явило мне столь великую милость, что вскоре многие, словно забыв, что его зовут Тимбрио, а меня — Силерьо, стали называть нас просто два друга, мы же, всюду появляясь вместе и оказывая взаимные услуги, старались оправдать это название. Так, в неописуемой радости и веселии, проводили мы юные свои годы, то выезжая в поле, на охоту, то в городе, в потехах досточтимого Марса участие принимая[60], как вдруг случилась одна из многих бед, коих свидетелем поставило меня безжалостное время, а именно: у друга моего Тимбрио произошла крупная ссора с одним могущественным кавальеро, жителем того же города. Дело кончилось тем, что честь кавальеро была задета, и Тимбрио, дабы умирить яростную вражду, уже вспыхнувшую между их семьями, принужден был уехать, оставив письмо, в коем он уведомлял своего недруга, что когда тот, как истинный кавальеро, захочет потребовать у него удовлетворения, то найдет его в Италии, в городе Милане или же в Неаполе. Раздоры между семьями обоих тотчас утихли; решено было, что оскорбленный кавальеро, Прансилесом именовавшийся, вызовет Тимбрио на смертный и честный бой и, выбрав подходящее место, даст ему знать. Тогда же решилась и моя участь, ибо в то самое время, когда происходили эти события, меня сразил жестокий недуг, так что я почти не вставал со своего ложа и по этой причине не мог сопровождать Тимбрио куда бы то ни было, — Тимбрио же перед отъездом, к немалому своему огорчению, со мною простился, взяв с меня слово, что как скоро я окрепну, то отправлюсь в Неаполь, и с тем он и уехал, оставив меня в столь глубоком горе, что мне не под силу будет теперь его описать. Однако ж спустя несколько дней, едва желание видеть его превозмогло мою немощь, я, не теряя ни минуты, отбыл. И, дабы сделать мой путь возможно более кратким и верным, судьба в виде особой удачи послала мне четыре галеры: они стояли у славного острова Кадиса оснащенные и готовые к отплытию в Италию. Я сел на одну из них, и благодаря попутному ветру в скором времени мы могли уже различить очертания берегов каталонских. А как морское путешествие несколько утомило меня, то, когда наше судно причалило к ближайшей гавани, я, удостоверившись прежде, что нынче ночью галеры никуда отсюда не уйдут, в сопровождении одного моего приятеля и слуги сошел на берег. Однако еще не наступила полночь, как моряки и путешественники, видя, что безоблачное небо предвещает тишину или попутный ветер, во время второй вахты, дабы не упустить благоприятного случая, подали знак к отплытию, в мгновение ока выбрали якоря, погрузили весла в тихую воду и подставили паруса дуновению легкого ветра. И все это, повторяю, с такою поспешностью было проделано, что, сколько я ни торопился, а все же к отплытию опоздал и остался стоять на берегу, мучимый досадой, которую способен понять лишь тот, кто побывал в моем положении, ибо под рукой у меня не оказалось многого из того, что необходимо путешественнику, желающему двигаться сушей. Полагая, однако ж, что от сидения на берегу большого проку ждать нечего, рассудил я за благо возвратиться в Барселону: Барселона — город большой, — думалось мне, — быть может, мне посчастливится встретить там человека, который снабдит меня всем, чего мне недостает, распоряжение же об уплате долга я перешлю моему доверенному лицу в Хересе или в Севилье.
Сия надежда придала мне бодрости, и, решившись привести замысел свой в исполнение, я ждал лишь, чтобы стало светлее, но не успел я собраться в дорогу, как земля кругом загудела, и я увидел, что по главной улице города валит народ; когда же я спросил, что случилось, мне ответили: «Идите, сеньор, вон до того перекрестка, — там вы все узнаете у глашатая». Так я и сделал, и первое, что меня поразило, это — огромное распятие и рев толпы: явные признаки того, что ведут приговоренного к смерти, каковое предположение оказалось справедливым, ибо глашатай объявил, что за грабеж и разбои суд приговорил одного человека к повешению, и в этом человеке, когда его провели мимо меня, я сейчас узнал милого моего друга Тимбрио: он шел со связанными руками, с петлей на шее и, впиваясь глазами в распятие, которое несли впереди, выражал свое негодование шедшим с ним рядом священникам, призывал в свидетели истинного бога, — того, кому он вскоре намеревался принести полное покаяние и чей образ находился у него перед глазами, — что никогда за всю свою жизнь не совершал он преступления, которое влекло бы за собою позорную казнь на глазах у всего города, и молил умолить судей отсрочить ее, дабы он мог доказать свою невиновность.
Вообразите себе, если только воображение ваше на это способно, что должен был испытывать я, когда ужасное зрелище открылось моим глазам. Одно могу сказать вам, сеньоры, что я оцепенел, я ничего не видел и не слышал, все чувства во мне притупились, так что мраморною статуей, верно, казался я тем, кто смотрел на меня в эту минуту. Однако мало-помалу слитный гул толпы, пронзительные крики глашатаев, жалостные слова Тимбрио и утешительные — священников, а также твердая уверенность в том, что я вижу перед собою милого моего друга, вывели меня из оцепенения; закипевшая кровь, поспешив на помощь к ослабевшему сердцу, пробудила в нем гнев, а вместе с гневом — великую жажду отомстить за нанесенное моему другу оскорбление, и я, думая не о грозившей мне опасности, а только о Тимбрио, желая спасти его или уж перейти вместе с ним в жизнь вечную и мало заботясь о сохранении собственной жизни, выхватил шпагу, вне себя от ярости ринулся в самую гущу смятенной толпы и пробился к Тимбрио, — он же, не зная, для какой цели обнажено столько шпаг, в горестном недоумении взирал на происходящее, пока я не сказал ему: «Где, о Тимбрио, сила твоего смелого духа? На что ты надеешься и чего ты ждешь? Зачем не воспользуешься ты представляющимся тебе случаем? Попытайся, о верный мой друг, спасти свою жизнь, пока моя служит тебе щитом от несправедливости, жертву коей ты, как я полагаю, ныне собою являешь». Стоило мне произнести эти слова, стоило Тимбрио узнать меня — и он, забыв всякий страх, разорвал веревку, связывавшую его руки. Однако ж смелый этот поступок не привел бы ни к чему, когда бы движимые состраданием священники, желая помочь Тимбрио в осуществлении его намерения, не подняли его над толпой и, преодолев сопротивление тех, кто тщился воспрепятствовать этому, не унесли его в ближайшую церковь[61], оставив меня среди стражей, настойчиво пытавшихся схватить смельчака, чего они в конце концов и достигли, ибо их собралось так много, что у меня недостало сил с ними бороться. И, нанеся мне столько оскорблений, сколько, по моему мнению, проступок мой не заслуживал, они меня, дважды раненного, препроводили в тюрьму.
Дерзость моего поведения, а также то обстоятельство, что Тимбрио удалось скрыться, усугубили мою вину в глазах судей и распалили их злобу; рассмотрев со всех сторон совершенное мною преступление, они сочли меня повинным смерти, тут же объявили мне жестокий приговор и назначили казнь на завтра. Сия печальная весть дошла до Тимбрио, когда он находился в церкви, и, как я узнал впоследствии, она взволновала его сильнее, нежели в свое время весть о том, что он сам приговорен к смерти, и, дабы спасти меня, возымел он намерение снова отдаться в руки правосудия. Священники, однако ж, заметили, что этим он цели не достигнет, напротив, это родит лишь новую беду и новое несчастье: меня он все равно, мол, не освободит и сам не избегнет наказания. Доводы эти были слишком слабы, чтобы убедить Тимбрио не отдаваться в руки правосудия, но он успокоился на ином решении, задумав сделать для меня завтра то же, что я для него сделал сегодня, отплатить мне тою же монетою или погибнуть, добиваясь моего освобождения. О замыслах его я узнал от священника, который явился меня исповедовать и которого он просил передать мне, что наилучшее средство выручить меня из беды — это бежать ему самому и попытаться как можно скорее уведомить о случившемся барселонского вице-короля, прежде нежели местные судьи приведут в исполнение свой приговор. Тут же уразумел я, за что друг мой Тимбрио был осужден на мучительную казнь, а дело, по словам того же священника, было так: ехал-ехал Тимбрио по каталонской земле, как вдруг однажды, в двух шагах от Перпиньяна, напала на него шайка разбойников, атаманом же их и главарем был некий доблестный каталонский кавальеро, который, не стерпев воздвигнутого на него гонения, ушел к разбойникам[62], а в том краю так уж повелось издавна, что люди знатного рода, подвергшись гонению, становятся врагами общества и всем причиняют зло, не только убивая, но и грабя, то есть занимаясь делом, противным всякому истинному христианину, и вызывая в нем чувство глубокого сожаления.
Случилось, однако ж, так, что в ту самую минуту, когда разбойники принялись грабить Тимбрио, подоспел их атаман и предводитель, а как он все же был кавальеро, то и не мог он допустить, чтобы в его присутствии какая-либо обида Тимбрио чинилась; напротив, желая прослыть в его глазах человеком достойным и великодушным, он оказал ему всякого рода любезности и предложил провести с ним эту ночь в ближайшем селении, пообещав завтра утром выдать охранную грамоту, дабы он безбоязненно мог покинуть эти края. Не нашел возможным Тимбрио отказать учтивому кавальеро в его просьбе, ибо почитал его своим благодетелем и чувствовал себя перед ним в долгу. Оба сели на коней и вскоре прибыли в одно небольшое селение, коего жители радостно встретили их. Однако ж судьба, продолжавшая насмехаться над Тимбрио, распорядилась так, что в ту же ночь разбойников окружили солдаты, которых нарочно с этою целью отрядили и которые, застигнув шайку врасплох, без труда обратили ее в бегство, и хотя поймать главаря им так и не удалось, зато они взяли в плен и перебили много других; среди пленников оказался и Тимбрио, и его приняли за одного знаменитого разбойника из этой же шайки, на которого он, как видно, и впрямь был очень похож, ибо сколько другие пленники ни уверяли судей, что это не тот, кого они ищут, и ни рассказывали все как было, озлобленные судьи, не разобрав как следует дело, подписали ему смертный приговор, каковой они не замедлили бы привести в исполнение, если б небу, споспешествующему всяким благим намерениям, не угодно было, чтобы галеры ушли, а я, оставшись на суше, совершил все, о чем я вам уже рассказывал.
Словом, Тимбрио все еще находился в церкви, собираясь ночью бежать в Барселону, я же — в темнице, питая надежду на то, что ярость рассвирепевших судей утихнет, как вдруг надвинувшаяся на них самих более грозная опасность внезапно отвела угрозу от меня и от Тимбрио. Но нет, пусть бы небо на меня одного обратило ярый свой гнев, чем на этот маленький несчастный городок, подставивший беззащитную грудь остриям бесчисленных вражьих мечей! Было уже, наверное, за полночь — самое удобное время для разбойничьих нападений, час, когда трудовой люд простирает усталые члены на ложе мирного сна, — и вот, нежданно-негаданно, с улицы донесся неясный шум голосов, в коем, однако, можно было различить: «К оружию, к оружию, турки на нашей земле!» В сердце какой женщины не поселили бы страх сии зловещие голоса, и могли ли они не смутить даже сильных духом мужей? Словом, сеньоры, злосчастный городок в одно мгновение так дружно запылал, что, казалось, даже камни, из коих были сложены дома, являли собой вполне пригодную пищу для всепожирающего огня. Озаренные яростным пламенем, уже засверкали кровожадные ятаганы и замелькали белые чалмы остервенелых турок, выламывавших топорами двери, врывавшихся в дома и выходивших оттуда с пожитками христиан в руках. А иной тащил за собой обессилевшую мать, иной — малое дитя, и те, издавая чуть слышные, слабые стоны, тщетно звали друг друга; иной святотатственною рукою разлучал новобрачных, препятствуя их законному стремлению продолжить свой род, и в этот миг заплаканным очам несчастного супруга, быть может, представлялось, что похищают плод его любви, коим в скором времени он мечтал насладиться. Это всеобщее смятение, этот многоголосый крик невольно повергали в страх и трепет. Хищный, бесноватый сброд, встретив слабое сопротивление жителей, осмелился проникнуть в святые храмы и, протянув поганые руки к святыням, сорвать украшавшее их золото, самые же святыни с ужасающим презрением швырнуть наземь. Священнику не служил более защитой его священный сан, иноку — уединение, старцу — почтенные седины, юноше — веселая младость, младенцу — чистота и невинность, — никого не пощадили окаянные псы и, спалив дома, разорив храмы, обесчестив девушек и умертвив защитников города, скорей усталые, нежели довольные поживой, с рассветом беспрепятственно возвратились на свои корабли, которые они уже успели нагрузить всем, что было ценного в городе, а город, между тем, был пуст и безлюден, оттого что большую часть жителей они увели с собою, прочие же скрылись в горах.
У кого сие печальное зрелище не исторгло бы слезы, кого не призвало бы оно на подвиг? Но увы! жизнь наша так бывает порой тяжела, что даже узнав о столь прискорбном событии, иные христианские души возликовали, и то были души тех, кто томился в темнице и кто на общем несчастии воздвигнул свое счастье, ибо, выломав тюремные двери и очутившись на воле, они, вместо того чтобы ринуться на защиту города и сразиться с неверными, помышляли о том, как бы спастись самим, и вместе с ними столь дорогою ценой обрел свободу и я. Убедившись, что никто не решается схватиться с неприятелем из боязни подпасть под его иго или же снова быть ввергнутым в узилище, я покинул разрушенный город и, испытывая острую боль как от всего, что мне довелось видеть, так и от нанесенных мне ран, тронулся в путь вместе с одним человеком, который взялся проводить меня до расположенного в горах монастыря, где, как он уверял, я не только залечу раны, но и найду защиту в случае, если меня снова попытаются схватить.
Итак, я последовал за этим человеком, томимый желаньем узнать о судьбе друга моего Тимбрио, но лишь много позднее мне стало известно, что он, отделавшись несколькими ранениями, бежал из города и что потом, другой горной тропою, а не той, которой шел я, ему удалось добраться до гавани Росас; там он провел несколько дней, стараясь узнать, что сталось со мною, и в конце концов, не получив никаких известий, сел на корабль, который благодаря попутному ветру и доставил его вскорости в великий город Неаполь. Я же вернулся в Барселону, запасся в дорогу всем необходимым, а затем, оправившись от ран, проследовал дальше, без всяких приключений доехал до Неаполя и нашел Тимбрио лежащим в постели, и как мы оба тогда обрадовались — этого никаким пером не опишешь. Мы дали друг другу полный отчет в том, что с нами произошло и что мы за это время испытали, однако ж радость моя омрачалась тем, что не в добром здравии застал я Тимбрио; напротив, вид у него был до того нездоровый и столь странный мучил его недуг, что, замешкайся я в пути, пришлось бы, пожалуй, не встречу с ним праздновать, а последний долг ему отдавать. Расспросив меня обо всем, он со слезами на глазах молвил:
«О друг мой Силерьо! Я верю, что небо нарочно опутало меня цепью невзгод, дабы я, обретя спасение благодаря вашей самоотверженности, вечно чувствовал себя обязанным вам».
Слова Тимбрио тронули меня, но и удивили, ибо подобные учтивости были у нас с ним не приняты. Я не стану утруждать вас обстоятельным изложением того, что я ему на это ответил и что возразил он мне, — скажу только, что несчастный Тимбрио влюбился в одну знатную сеньору, проживавшую в этом городе, испанку по крови, но уроженку Неаполя. Звали ее Нйсида, и была она так прекрасна, словно природа осыпала ее лучшими своими дарами, причем с ее красотою соперничала ее скромность, и что разжигала одна, то другая тотчас же охладить старалась, и те желания, какие прелесть ее до небес возносила, скромная ее степенность пригибала к земле. Оттого-то Тимбрио был столь же беден надеждами, сколь богат мечтами, оттого-то он и занемог и, не решаясь с ней объясниться, готовился к смерти, — так силен был почтительный страх, который внушала ему прелестная Нйсида. Однако ж, сведав причину его недуга и удостоверившись в знатности и родовитости Нисиды, решился я пожертвовать для Тимбрио своим состоянием, жизнью, честью — всем, что только у меня есть, и пустился на такую необыкновенную хитрость, о которой вам, уж верно, не приходилось читать или слышать, а заключалась она вот в чем: задумал я вырядиться шутом и с гитарой в руках проникнуть в дом Нисиды, куда такие люди захаживали часто, ибо это был один из самих богатых домов во всем городе. Выдумка моя пришлась Тимбрио по нраву, и с той минуты он всецело положился на мою предприимчивость. Тотчас нацепил я на себя множество разных одеяний и выступил на новом поприще перед Тимбрио, он же много смеялся, глядя на мой шутовской наряд, а затем, пожелав удостовериться, насколько искусство мое соответствует одежде, уговорился со мной, что он будет владетельный князь, а я, мол, еще раз войду и что-нибудь ему скажу. И если память мне не изменит и если вы, сеньоры, не устали меня слушать, то я спою вам мою песню точь-в-точь, как пел ее в тот раз.
Пастухи, признавшись, что ничем не мог бы Силерьо доставить им такое удовольствие, как повестью об этом своем похождении, упросили его рассказать им все до мельчайших подробностей.
— Коль скоро есть на то ваше соизволение, — сказал отшельник, — то я не премину вам сообщить, с чего начал я безрассудную свою затею, и сейчас вы услышите песню, которую я пел, обращаясь к другу моему Тимбрио, изображавшему вельможу:
Эту и другие песенки, но только посмешней и позабавней, пел я тогда Тимбрио, стараясь придать движениям своим легкость и грацию, дабы все во мне изобличало заправского шута. Первые же мои представления прошли так удачно, что слух об испанском шуте распространился с быстротою молниеносною: спустя несколько дней обо мне уже прослышала вся городская знать, и, наконец, меня пожелали видеть родители Нисиды, каковое желание мне было весьма легко исполнить, однако ж я нарочно дожидался, когда меня позовут. Но как-то раз не устоял я против соблазна и явился к ним на вечеринку, и тут предо мною предстала истинная виновница мучений Тимбрио, предстала та, что была создана небом, дабы отнять у меня радость дней, которые мне еще осталось прожить. Я увидел Нисиду, Нисиду увидел я, и больше уже ни на кого не смотрел, да и не в состоянии был смотреть. О всемогущая сила любви! Пред тобою бессильны даже сильнейшие духом! Возможно ли, чтобы так, разом, мгновенно, рухнули все столбы и подпорки, на коих держалась дружеская моя верность? О, если б я вовремя не оглянулся на себя, не вспомнил о своем постыдном обличье, о своей дружбе с Тимбрио и о той недосягаемой высоте, на которой находилась Нисида! Словом, если б не все эти преграды, то нежданно вспыхнувшая страсть могла бы породить надежду на взаимность, а надежда — это посох, с которым любовь на первых порах движется вперед или же возвращается вспять. Итак, увидел я эту красавицу, видеть же ее мне было необходимо, и потому я всячески старался снискать расположение ее родных и близких, пленяя их своею благовоспитанностью и остроумием и выполняя свои обязанности со всею доступною мне тонкостью и обаянием. Когда же один из сидевших за столом кавальеро попросил меня что-нибудь спеть в честь красавицы Нисиды, то мне, к счастью, вспомнилась песня, которую я давно уже сочинил на такой же примерно случай, и, воспользовавшись ею для этого случая, начал я петь:
Эта и другие вещицы, исполненные мною в тот день, слушателей моих привели в восхищение, особливо родителей Нисиды, и они, обещая наделить меня всем, в чем я имел нужду, просили приходить к ним ежедневно. Итак, хитрость моя никем не была обнаружена или заподозрена, а между тем ближайшей своей цели я достиг, то есть проник в дом Нисиды, которая, кстати сказать, была в восторге от моих шалостей. И вот мало-помалу постоянное общение мое с Нисидой, а также знаки особого расположения, оказываемые мне домашними ее, отчасти рассеяли тучи безумного страха, находившего на меня при мысли о предстоящем с ней объяснении, и решился я, наконец, попытать счастья для Тимбрио, который надеялся только на мое усердие. Но увы! Сам я тогда находился в столь плачевном состоянии, что, вместо того чтобы лечить других, мне было впору искать целебного средства для врачевания собственных язв, ибо прелесть, красота, величавость и рассудительность Нисиды породили в душе моей не менее пылкую страсть и не менее жгучую боль, чем в душе несчастного Тимбрио. Пусть ваше скромное воображение дорисует вам, что должно было чувствовать мое сердце, когда веления дружбы боролись в нем с велениями неумолимого Купидона — когда одни призывали исполнить то, чего они купно со здравым смыслом от него требовали, другие же, напротив, вынуждали его отдаться своему влечению. Эти тревоги душевные, эти всечасные распри с самим собою до того меня истерзали, что, не поправив здоровья друга моего, я только расстроил собственное свое здоровье и стал до того бледен и худ, что люди без сострадания не могли на меня смотреть; в особенности были ко мне внимательны родители Нисиды, и она сама из чистых и истинно христианских побуждений неоднократно старалась допытаться, чем же я болен, обещая найти средство от моего недуга. «Ах! — говорил я себе, когда Нисида обращалась ко мне с подобными предложениями. — Как легко было бы тебе, прелестная Нисида, облегчить муки, которые мне приходится терпеть из-за твоей красоты!» Однако, хотя это невозможное средство представлялось мне наиболее верным, я, помня о Тимбрио, не почитал для себя возможным его добиваться. И оттого, раздираемый столь противоречивыми чувствами, я не находил слов для ответа, что и Нисиду и ее сестру Бланку, которая, будучи моложе годами, отличалась не меньшею рассудительностью и красотою, в немалое изумление приводило; смущение мое еще сильнее возбуждало их любопытство, и они с превеликою настойчивостью просили меня рассказать им все без утайки. И вот, видя, что сама судьба благоприятствует хитроумному моему замыслу, я как-то раз, когда Нисида и ее сестра по счастливой случайности были одни и когда они снова обратились ко мне все с тою же неизменною просьбой, сказал им:
«Не думайте, сеньоры, что, скрывая до сих пор от вас причину моей скорби, я тем самым выражал нежелание вам повиноваться, — напротив, вам хорошо известно, что если в моем угнетенном состоянии духа я и способен чему-нибудь радоваться, так это возможности бывать у вас и служить вам как простой слуга, — меня удерживала лишь мысль, что откровенность моя доставит вам еще большее огорчение, ибо вы убедитесь, как трудно рассеять мою печаль. Но коль скоро мне теперь ничего иного не остается, как исполнить ваше желание, то знайте, сеньоры, что в этом городе находится некий кавальеро, мой соотечественник и в то же время наставник мой, друг и покровитель, благороднейший, умнейший и добрейший человек, какого мне когда-либо приходилось встречать, и вот этот-то кавальеро по некоторым обстоятельствам принужден был покинуть возлюбленную свою отчизну и приехать сюда в надежде, что если там, в родном городе, он нажил себе недругов, то здесь, в чужом, у него не будет недостатка в друзьях. Мечты, однако ж, обманули его, и один-единственный недруг, которого он, сам того не желая, здесь себе нажил, довел его до такого состояния, что если небо не придет ему на помощь, то он скоро умрет, и тогда уже у него не будет ни друзей, ни врагов. Между тем мне ведомы достоинства Тимбрио, — так зовут того кавальеро, о злосчастии коего я веду свой рассказ, — мне ведомо, что в нем потеряет мир и чтó потеряю в нем я, оттого-то я, как вы заметили, и хожу такой угрюмый, и это еще слабое проявление моего горя, сравнительно с опасностью, грозящей Тимбрио. Я уверен, сеньоры, что вам не терпится знать, кто сей недруг, приведший на край гибели доблестного кавальеро, о достоинствах коего вы можете судить по моему описанию, однако я уверен также и в том, что когда вы узнаете, кто он, вас удивит одно: как это Тимбрио до сих пор не зачах и не умер. Недруг его — Амур, вечный нарушитель нашего покоя и благополучия. Этот-то коварный враг и овладел всем его существом. Приехав сюда, Тимбрио встретил однажды некую прекрасную даму редких душевных свойств и красоты и при этом столь знатного рода и столь скромного нрава, что несчастный так до сих пор и не осмелился с ней объясниться».
Тут меня прервала Нисида:
«Не знаю, Астор, — под этим именем знали меня тогда в Неаполе, — точно ли сей кавальеро так доблестен и благоразумен, как ты его описываешь, коль скоро он так легко подчинился внезапно вспыхнувшей в нем пагубной страсти и без всякой причины впал в отчаяние. И хотя я в сердечных делах разбираюсь плохо, все же кажется мне, что со стороны того, кто обременен этими делами, было бы непростительным малодушием и недомыслием не объясниться с виновницей своих страданий, как бы добродетельна она ни была. Что же тут для нее обидного — знать, что она любима, и что горше смерти может принести ему суровый и безжалостный ее ответ? Ведь он все равно погибнет, если будет упорно хранить молчание. Не лучше ли, дабы сохранить за собой заслуженную славу стойкого человека, воспользоваться своим правом? Представим себе, что такой робкий и молчаливый влюбленный, каков на самом деле твой друг, умирает, — скажи, назовешь ли ты жестокой ту даму, в которую он был влюблен? Конечно, нет. Никто из смертных не способен помочь горю, о котором ему ничего неизвестно и о котором он и не обязан знать. Итак, прости, Астор, но поступки твоего друга показывают, что он не вполне достоин расточаемых ему тобою похвал».
Выслушав Нисиду, я чуть было не признался ей во всем, однако ж, оценив всю ее доброту и бесхитростность, вовремя удержался и, решившись подождать более удобной минуты, когда мы останемся с нею вдвоем, ответил ей так:
«Прелестная Нисида! Кто смотрит на поведение влюбленного со стороны, тот замечает в нем столько разных сумасбродств, что оно невольно вызывает у него вместе с сочувствием смех. Но у кого душа опутана хитросплетенной любовною сетью, тот пребывает в сильнейшем расстройстве чувств, тот уже не помнит себя, так что память служит ему лишь стражем и хранителем образа той, на кого устремлен его взгляд, разум — только для того, чтобы познавать и оценивать достоинства его возлюбленной, воля же следит лишь за тем, чтобы память и разум не занялись чем-нибудь другим. И вот, точно в кривом зеркале, все предметы для него увеличиваются: когда его дарят благосклонностью — растет надежда, когда же его отвергают — растет боязнь. И что случилось с Тимбрио, то случается со многими: ведь если вначале предмет, на который они взирают, покажется им слишком высоким, они тотчас теряют надежду когда-либо к нему приблизиться, а все же где-то в глубине души Амур нашептывает им: „Кто знает! Может статься…“, и оттого упование движется у них, если можно так выразиться, между двух встречных потоков, но совсем не исчезает, ибо исчезни упование — исчезла бы и любовь. Так, между робостью и отвагой, движется сердце влюбленного, и столь глубокое охватывает его в ту пору уныние, что он, вместо того чтобы излить свою скорбь другому, весь в нее погружается, замыкается в ней и ждет спасения неизвестно откуда, хотя оно от него далеко. В таком-то мрачном расположении духа нашел я Тимбрио, однако, по моему настоянию, он все же написал письмо своей возлюбленной и дал мне его почитать и проверить, нет ли там какой неучтивости, дабы он после исправил ее. Попросил он меня также изыскать способ вручения этого письма владычице его души, но это показалось мне неосуществимым, и не потому, что тут есть для меня некоторый риск, ибо ради Тимбрио я бы и жизнь свою, не задумываясь, поставил на карту, а потому, что вряд ли я сумею передать письмо».
«Прочти мне его, — сказала Нисида, — послушаем, что пишут рассудительные влюбленные».
Тут я вынул письмо Тимбрио, написанное назад тому несколько дней и дожидавшееся случая, когда его можно будет показать Нисиде, и, воспользовавшись ее предложением, прочитал его вслух; читать же мне его приходилось не раз, и потому оно запечатлелось в моей памяти, так что теперь я могу вам его привести слово в слово:
«Положил было я, прелестная сеньора, сделать так, чтобы печальный конец мой открыл Вам мое имя, ибо, — говорил я себе, — лучше утешать себя тем, что Вы воздадите хвалу молчанию моему после моей смерти, нежели выслушивать от Вас порицание моей дерзости при жизни; полагая, однако ж, что душе моей, осененной Вашею благодатью, надлежит покинуть сей мир, оттого что в мире ином Амур не откажет в воздаянии страдальцу, рассудил я за благо уведомить Вас о том состоянии, в какое меня привела Ваша божественная красота; состояние же мое таково, что если б даже нашлись у меня слова для его изображения, оно не стало бы лучше, ибо из-за такой малости никто не дерзнул бы тревожить несравненное Ваше благородство, от какового, а равно и от безгреховного Вашего великодушия, я ожидаю, что оно вернет мне жизнь, дабы я мог служить Вам, или же принесет мне смерть, дабы я Вам никогда больше не докучал».
Когда я кончил читать, Нисида, все время с великим вниманием слушавшая, сказала:
«Даме, которой оно предназначено, не на что тут обижаться, разве только ей во что бы то ни стало захочется покапризничать, — как известно, этим пороком страдают почти все дамы в нашем городе. Со всем тем, Астор, ты непременно вручи ей письмо: ведь, как я уже сказала, горших бедствий, нежели то, которое, по твоим словам, терпит ныне твой друг, ожидать от ее ответа не должно. А дабы придать тебе бодрости, я хочу еще прибавить, что самая целомудренная женщина, вечно стоящая на страже своей чести, жаждет видеть и знать, что она любима, ибо это укрепит ее в том мнении, какое она составила о себе; если же она удостоверится, что никто по ней не вздыхает, — значит, мнение ее было ложно».
«Я отлично сознаю, сеньора, что вы правы, — отвечал я, — однако ж меня повергает в ужас мысль о том, что, осмелившись передать письмо, я, во всяком случае, не смогу уже больше бывать у вас в доме, а это послужит во вред как мне, так и Тимбрио».
«Не спеши, Астор, подписываться под приговором, раз что его еще не вынес судья, — возразила Нисида. — Покажи свою храбрость: ведь ты не на лютую битву идешь».
«О, когда бы, прелестная Нисида, мне предстояло идти на битву! — воскликнул я, — Легче мне подставить грудь тысячам смертоносных орудий, нежели протянуть руку, дабы вручить любовное послание той, которая, почтя себя оскорбленною им, пожалуй, обрушит на мои плечи кару за чужой грех. Как бы то ни было, я все. же намерен, сеньора, последовать вашему совету: мне надобно лишь превозмочь страх, овладевший всем моим существом, а до тех пор — умоляю вас, сеньора: вообразите, что письмо послано вам, и дайте мне какой-нибудь ответ с тем, чтобы я сообщил его Тимбрио; этот обман поможет ему немного рассеяться, мне же время и обстоятельства покажут, что я должен делать».
«Плохое ты средство придумал, — сказала Нисида. — Положим даже, я от чужого имени дам тебе благоприятный или уклончивый ответ, — неужели ты не понимаешь, что время, разгласитель наших тайн, обнаружит пред всеми обман и Тимбрио не только не будет доволен, но, скорее всего, рассердится на тебя? И раз что до сего времени ты не передавал ему ответа на его послание, то и не следует начинать с ответов вымышленных и ложных. Впрочем, мне свойственно действовать наперекор своему рассудку: если ты скажешь, кто эта дама, то я научу тебя, что сказать твоему другу, дабы он временно успокоился. И пусть впоследствии дело обернется не так, как он предполагал, — от этого ложь не станет явной».
«О Нисида! Не требуйте от меня невозможного! — воскликнул я. — Одна мысль о том, что я должен открыть вам ее имя, повергает меня в такое же точно смятение, как и мысль о том, что я должен передать ей письмо. Удовольствуйтесь тем, что она из весьма родовитой семьи, красота же ее, не в обиду вам будь сказано, ни в чем не уступит вашей, а в моих устах это высшая похвала».
«То, что ты говоришь обо мне, меня не удивляет, — заметила Нисида, — лесть — это главное занятие людей твоего положения и образа жизни. Но не об том сейчас речь; мне важно, чтобы ты соблюдал интересы доброго своего друга, а потому вот что я тебе советую: скажи Тимбрио, будто ты отправился с письмом к его даме и имел с ней беседу, — при этом ты, не пропустив ни единого слова, передашь ему содержание нашего с тобой разговора, — а затем прочел ей письмо, и она, воображая, что все это относится не к ней, благословила тебя доставить письмо по назначению; и еще постарайся внушить ему, что хотя ты и не осмелился говорить с ней без околичностей, однако же когда она поймет, что письмо написано ей и что она была введена в заблуждение, то большего неудовольствия это у нее не вызовет. Так ты несколько облегчишь его сердечные муки; со временем же, когда той даме станут известны намерения Тимбрио, ты сможешь передать ему ее ответ, но до тех пор ложь пусть остается в силе, истина же должна быть от него тщательно скрыта, дабы он ни на мгновение не заподозрил обмана».
Подивился я разумному наставлению Нисиды; к тому же показалось мне, что хитрость моя ею разгадана. Облобызав ей руки за добрый совет и обещав уведомлять ее обо всем, что бы впредь ни случилось, я отправился к Тимбрио и сообщил ему о своем разговоре с Нисидой, отчего в его душе вновь вспыхнула надежда и принялась изгонять из нее сгустившиеся тучи леденящего страха. И радость его все возрастала по мере того, как я повторял, что для меня нет большей радости, как стараться и в дальнейшем оказывать ему подобные дружеские услуги, и что в следующую мою встречу с Нисидой ловко задуманное предприятие мое несомненно, увенчается успехом, коего чаяния Тимбрио заслуживают. Но я забыл вам сказать одну вещь: во все то время, пока я беседовал с Нисидой, ее сестра Бланка не вымолвила ни слова; до странности молчаливая, она жадно внимала моим словам. И смею вас уверить, сеньоры, что хранила она молчание не потому, чтобы не умела здраво рассуждать или не обладала даром красноречия, ибо этих двух сестер природа осыпала всеми своими дарами и щедротами. Не знаю также, сознаться ли мне вам, что я был бы рад, если б небо воспрепятствовало моему знакомству с обеими сестрами, особливо с Нисидой, с этим главным источником всех моих бедствий. Однако ж смертный не властен изменить предначертание судеб, а потому — рассудите сами — что же мне оставалось делать? Я горячо полюбил, люблю и буду любить Нисиду, но, как это явствует из пространного моего повествования, любовь моя ничем не повредила Тимбрио, ибо я говорил о своем друге только хорошее, ценою нечеловеческих усилий подавляя собственные свои страдания, дабы облегчить чужие. Однако ж дивный образ Нисиды столь ярко запечатлелся в моей душе с той самой минуты, как я увидел ее впервые, что, не в силах будучи таить в глубине души бесценное сие сокровище, я, когда мне случалось быть одному, или же нарочно от всех уединиться, слагал в его честь жалостные любовные песни, набросив на него покров вымышленного имени. И вот как-то ночью, в дальних покоях, где, по моим соображениям, ни Тимбрио, ни кто-либо другой не мок меня услышать, я, дабы оживить усталый мой дух, под звуки лютни спел одну песню, коей суждено было повергнуть меня в столь ужасное смятение, что я долгом своим почитаю сейчас ее вам исполнить:
Полет моего воображения так меня всегда увлекал, что я и тут не соразмерил силы своего голоса, место же это было не настолько укромное, чтобы Тимбрио не мог оказаться поблизости, и как скоро услышал он мое пение, то пришла ему в голову мысль, что всеми моими помыслами владеет любовь и — о чем он заключил из слов песни — не к кому иному, как к Нисиде. Постигнув истинные мои чувства, он не постиг, однако ж, истинных моих стремлений и, превратно истолковав их, положил в ту же ночь удалиться и отправиться туда, где бы его невозможно было найти, — только для того, чтобы я безраздельно отдался вспыхнувшей во мне страсти. Все это я узнал от его слуги, верного хранителя его тайн, — тот явился ко мне весьма опечаленный и сказал:
«Скорей, сеньор Силерьо! Мой господин, а ваш приятель Тимбрио хочет покинуть нас и сею же ночью уехать, куда — этого он мне не сказал, а велел выдать ему на дорогу денег и никому не говорить, что он уезжает; при этом он строго-настрого наказывал, чтобы я ничего не говорил вам, а задумал он уехать после того, как услышал песню, которую вы только что пели; судя же по отчаянному его виду, я полагаю, что он и руки на себя наложить способен. Оттого-то, решив, что благоразумнее будет оказать ему помощь, нежели исполнять его приказание, я и обратился к вам, — только вы и можете удержать его от безрассудного шага».
С необычайным волнением выслушал я то, что сообщил мне слуга, и опрометью бросился к Тимбрио, однако ж прежде, чем войти к нему в комнату, остановился посмотреть, что он делает, — а он лежал ничком на своей постели, проливая потоки слез и испуская глубокие вздохи, и в его чуть слышном и бессвязном шепоте я различил такие слова:
«Постарайся, истинный друг мой Силерьо, сорвать плод, который ты вполне заслужил своими хлопотами и трудами, и не замедли — что бы ни повелевал тебе долг дружбы — дать волю своей страсти, я же намерен укротить свою хотя бы с помощью крайнего средства — с помощью смерти, от которой ты было избавил меня, когда столь самоотверженно и бесстрашно вышел один против множества злобных мечей, но которой ныне я сам обрекаю себя, дабы хоть чем-нибудь отплатить тебе за твое благодеяние и, устранившись с твоего пути, предоставить тебе наслаждаться тою, что олицетворяет собой небесную красоту, тою, что была словно создана Амуром для вящего моего блаженства. Об одном грущу я, милый мой друг: ведь я даже не могу проститься с тобой перед своим печальным уходом, но причиной его являешься ты, и это да послужит мне оправданием. О Нисида, Нисида! Красота твоя навек пленила того, кому смертью своей надлежит искупить вину другого, дерзнувшего созерцать ее. Силерьо ее узрел, и, не оцени он ее по достоинству, я перестал бы уважать его вкус. И коли уж так судил мне рок, то да будет ведомо небесам, что я все такой же друг Силерьо, как и он мне, и, дабы доказать это, пожертвуй, Тимбрио, своим счастьем, беги от своего блаженства, разлучись с Силерьо и Нисидой, двумя самыми дорогими и близкими тебе существами, скитайся бесприютным странником по свету!»
Вдруг, заслышав шорох, в порыве ярости поднялся он со своего ложа, распахнул дверь и, увидев меня, воскликнул:
«Это ты, друг мой? В столь поздний час? Верно, что-нибудь случилось?»
«Случилось то, от чего я до сих пор не могу опомниться», — отвечал я.
Не желая задерживать ваше внимание, скажу одно: в конце концов мне удалось внушить ему и доказать, что он ошибся — что я, точно, влюблен, но не в Нисиду, а в ее сестру Бланку. И до того правдоподобно сумел я все это изобразить, что он мне поверил, а дабы у него не оставалось и тени сомнения, память подсказала мне строфы, которые я когда-то давно сочинил в честь одной дамы, носившей такое же имя; ему я сказал, что они посвящены сестре Нисиды, и так они кстати тогда пришлись, что хотя, быть может, вы и найдете это лишним, я все же не могу вам их не прочесть:
Эти строфы, якобы сочиненные мною в честь Бланки, убедили Тимбрио, что страдаю я не от любви к Нисиде, а от любви к ее сестре. Уверившись в том окончательно и извинившись за напраслину, которую он на меня возвел, Тимбрио снова обратился ко мне с просьбой помочь его горю. И могу сказать, что, позабыв о своем, я сделал все, дабы эту просьбу исполнить. В течение нескольких дней судьба не предоставляла мне такого благоприятного случая, чтобы я рискнул поведать Нисиде всю правду, хотя она постоянно спрашивала, как идут сердечные дела моего друга и знает ли что-нибудь его дама. Я же отвечал, что из боязни оскорбить ее не дерзаю начать с ней разговор. Нисиду это каждый раз выводило из себя, и, обозвав меня глупцом и трусом, она прибавляла, что трусость моя, видимо, объясняется тем, что Тимбрио вовсе не так страдает, как я это расписываю, или же тем, что я не такой ему верный друг, каким прикидываюсь. Все это побуждало меня принять твердое решение и при первом удобном случае ей открыться, что я однажды и сделал, когда мы остались с нею вдвоем, и она необычайно внимательно меня выслушала, я же превознес до небес душевные качества Тимбрио, искренность и силу его чувства к ней, каковое, — прибавил я, — принудило меня заняться презренным ремеслом шута только для того, чтобы иметь возможность все это высказать ей, а затем привел еще и другие доказательства, которые, на мой взгляд, должны были убедить Нисиду. Однако же она тогда не захотела выразить словами то, что впоследствии раскрыли ее дела; напротив, с величественным и строгим видом она пожурила меня за излишнюю смелость, осудила мою дерзость, выбранила меня за то, что я отважился с подобными речами к ней обратиться, и заставила меня пожалеть о том, что я выказал слишком большую доверчивость, и все же я не почувствовал необходимости избавить ее от своего присутствия, а этого я особенно боялся; она лишь сказала мне в заключение, что впредь мне следует щадить ее скромность и вести себя так, чтобы тайна моего маскарада никем не была разгадана. И этим своим заключением Нисида довела до конца и довершила трагедию моей жизни, ибо тут я уразумел, что она вняла жалобам Тимбрио.
Чья душа при этом не наполнилась бы до краев лютою скорбью, какая в сей миг пронзила мою, ибо преграда, которую встретила на своем пути самая сильная ее страсть, означала в то же время крушение и гибель ее мечты о счастье? Я не мог не радоваться, что с моею помощью дело Тимбрио пошло на лад, однако радость эта лишь усиливала мою печаль, ибо я имел все основания полагать, что Нисида будет принадлежать ему и что мне не суждено обладать ею. О всемогущая сила истинной дружбы! Как далеко простираешь ты свою власть и на что ты меня вынуждаешь! Ведь я сам, повинуясь тебе, отточил на оселке своей хитрости нож, обезглавивший мои надежды, и те, погребенные в тайниках моей души, воскресли и ожили в душе Тимбрио, едва он узнал, как отнеслась к моим словам Нисида. Впрочем, она все еще проявляла сугубую сдержанность и не подавала виду, что мои старания и любовь Тимбрио ей приятны, но, вместе с тем, не выказывая ни малейшей досады или неудовольствия, отнюдь не побуждала нас бросить эту затею. И так продолжалось до тех пор, пока известный уже вам хересский кавальеро Прансилес, найдя, наконец, удобное и надежное место для поединка в государстве герцога Гравинского, не потребовал от Тимбрио удовлетворения и не предложил ему прибыть туда спустя полгода со дня получения настоящего вызова, каковой, причинив моему другу новое беспокойство, не явился, однако ж, достаточной причиной для того, чтобы он перестал беспокоиться о сердечных своих делах, напротив — благодаря моим удвоенным стараниям и его домогательствам Нисида уже готова была принять его у себя в доме и увидеться с ним, при условии, если он обещает соблюдать приличия, коих-де требует ее скромность. Между тем срок, назначенный Прансилесом, истекал, и Тимбрио, сознавая всю неизбежность этого испытания, стал собираться в дорогу, но перед отъездом он написал Нисиде и этим своим письмом сразу добился того, на что я бесполезно потратил так много времени и так много слов. Послание Тимбрио, которое я знаю на память, имеет прямое отношение к моему рассказу, а потому я позволю себе его прочитать:
Не могу вам сказать, что именно убедило Нисиду: доказательства, приведенные в этом послании, бесчисленные ли доказательства, которые еще раньше приводил я в подтверждение искренности чувств моего друга Тимбрио, необыкновенная ли его настойчивость, а быть может, так было угодно небу, — только по прочтении письма Нисида обратилась ко мне и со слезами на глазах молвила:
«Ах, Силерьо, Силерьо! Боюсь, что заботы о здоровье друга твоего будут стоить мне собственного моего здоровья! Молю судьбу, пославшую мне это испытание, чтобы речи твои и дела Тимбрио оказались не лживыми; если ж и те и другие меня обманули, то да отомстит за меня небо, ибо оно видит, что я уже не могу более таить свое чувство — так сильна его власть надо мной. Но какое же это слабое оправдание для столь тяжкой вины! Ведь я должна была бы молча умереть, дабы честь моя осталась жива, тогда как после этого разговора мне придется похоронить ее, а затем и самой покончить все счеты с жизнью».
Слова Нисиды и в особенности то волнение, с каким она их произносила, смутили меня, и я начал было уговаривать ее объясниться начистоту, но она не заставила себя долго упрашивать и тут же призналась, что она не просто любит, что она обожает Тимбрио, но что она утаила бы от всех эту страсть, когда бы вынужденный отъезд Тимбрио не вынудил ее открыть тайну своей души.
Что испытывал я, слушая речи Нисиды и наблюдая за всеми проявлениями ее страсти к Тимбрио, — это не поддается никакому описанию, да я и рад, что такая чудовищная пытка неописуема, — рад не потому, чтобы мне тяжело было счастливого Тимбрио себе представить, а потому, что мне тяжело было видеть самого себя отчаявшимся когда-либо вкусить блаженство, ибо я тогда уже ясно видел, что не могу жить без Нисиды и что, уступая ее другому, я тем самым, как я вам уже говорил, навсегда отказываюсь от всех земных радостей и утех; единственно, что мне удалось насильно вырвать у судьбы, — это счастье друга моего Тимбрио, вот почему я не умер в тот миг. Более того, я, сколько мог спокойно, выслушал признание Нисиды и обрисовал ей, как сумел, душевную прямоту Тимбрио; она же ответила, что доказывать ей это теперь уже незачем, ибо у нее нет никаких оснований мне не верить, но что она просит меня об одном: нельзя ли, если только это возможно, уговорить Тимбрио под благовидным предлогом уклониться от поединка, но тут я возразил ей, что это значило бы себя обесчестить, с чем она согласилась и, сняв с себя некие драгоценные реликвии, вручила их мне для передачи Тимбрио. Тогда же мы условились, как нам действовать дальше: дело состояло в том, что ее родители, желавшие посмотреть на битву Тимбрио с Прансилесом, собирались взять с собой обеих дочерей, но как присутствовать при этой жестокой схватке было свыше ее сил, то положила она — притворившись в дороге больною, пребывать безотлучно в загородной вилле, в которой предполагали остановиться ее родители и которая находилась в полумиле от места дуэли, и там дожидаться решения своей участи, всецело зависевшего от участи Тимбрио. А дабы сократить минуты мучительного неведения, дала она мне белый платок и велела привязать его к рукаву в случае, если Тимбрио выйдет победителем, если же он будет побежден, то не подавать никакого знака, — и так мне еще издали предстояло возвестить ей начало ее блаженства или же конец ее дней. Обещав исполнить все, что она мне приказала, я взял реликвии и платок и с весьма горьким чувством, но и с чувством самого полного удовлетворения, какое мне когда-либо приходилось испытывать, с нею простился: грусть возникала от сознания постигшей меня неудачи, великая же удача, выпавшая на долю Тимбрио, приводила меня в восторг. Явившись к Тимбрио, я рассказал ему о своем свидании с Нисидой, и он был так счастлив, горд и доволен, что даже смертельная опасность, коей он подвергался на поединке, представлялась ему уже теперь ничтожной, — он полагал, что смерть бессильна перед тем, кому оказывает покровительство его повелительница. Я не стану приводить те похвалы, которые в благодарность за мое усердие расточал мне тогда Тимбрио, ибо чрезмерность их показывает, что он просто обезумел от радости.
Воодушевленный и окрыленный этою доброю вестью, Тимбрио, выбрав себе в секунданты некоего знатного испанского кавальеро и одного неаполитанца, тронулся в путь. И, к вящей славе этого необычного поединка, вслед за ним устремилось чуть ли не все королевство, в том числе Нисида и Бланка со своими родителями. Желая показать, что не тот или иной род оружия, но его правота дает ему превосходство над врагом, Тимбрио остановил свой выбор на шпаге и кинжале и не взял с собой никаких доспехов. Нисида, вместе со своими родными и многими другими кавальеро покинувшая Неаполь за несколько дней до поединка, приехала первая, и все это время она постоянно напоминала мне о нашем с ней уговоре. Однако ж слабая моя память, вечно доставлявшая мне одни огорчения, и на сей раз осталась верна себе: она ухитрилась так прочно забыть все, о чем мне твердила Нисида, что после этого я должен был или покончить с собой, или уж избрать тот горестный удел, который, как видите, в конце концов и стал моим уделом.
Итак, в день жестокой схватки Нисида, сославшись, как было между нами условлено, на недомогание, осталась в загородной вилле, в полумиле от места дуэли; и, провожая меня, она еще раз мне наказала возвращаться как можно скорей с платком или без платка, каковой знак должен был возвестить ей победу или поражение Тимбрио. Я же, в глубине души подосадовав на нее за то, что она словно не надеется на мою память, снова обещал исполнить ее приказание и на этом простился с нею и с Бланкой, не захотевшей покинуть сестру. Прибыл я на поединок, когда уже время было начинать, и вот, после того как секунданты покончили со всеми приличествующими случаю церемониями и обратились к обоим кавальеро с наставлениями, те заняли свои места и, едва зловеще и хрипло протрубил рожок, выказали такое искусство и ловкость, что все невольно ими залюбовались. Амур или, вернее сказать, собственный разум Тимбрио давал ему столь мудрые советы, что вскоре он уже, отделавшись несколькими ранениями, поверг к своим ногам израненного и окровавленного противника и предложил, если тот желает сохранить себе жизнь, немедленно сдаться. Однако ж несчастный Прансилес молил умертвить его: спокойней-де и легче было б ему пройти через тысячу смертей, нежели хотя бы единожды сдаться. Со всем тем великодушный Тимбрио не стал убивать своего врага, он даже не требовал, чтобы тот признал себя побежденным, — он хотел одного: пусть Прансилес объявит во всеуслышание, что Тимбрио так же честен, как и он, и тот весьма охотно на это пошел, что, впрочем, не составляло для него никакого труда, ибо он, и не будучи побежденным, отлично мог бы это признать.
Зрители, слышавшие все, о чем Тимбрио говорил со своим недругом, оценили его благородный поступок и воздали ему должную хвалу. Я же, как скоро дождался счастливой развязки, не чуя ног под собой от радости, полетел к Нисиде. Но увы! тогдашняя моя беззаботность взвалила мне на плечи новую заботу. О моя память, о моя память! Для чего покинула ты меня в то время, когда я в тебе особенно нуждался! Видно, так уж судил мне рок, что радости моей и счастью пришел столь скорый и ужасный конец. Я стрелой летел к Нисиде, но без белого платка на рукаве. Между тем Нисида, стоя на высокой галерее и зорко вглядываясь в даль, со все возрастающим нетерпением ждала меня, но платка на мне не было, и, заметив это, она вообразила, что с Тимбрио непоправимая стряслась беда; и так она это живо себе представила и так была этим потрясена, что тут же упала без чувств, и глубокий ее обморок все приняли за смерть.
Когда я вошел, в доме уже суетились встревоженные слуги, а над телом бедной Нисиды предавалась безысходному отчаянию Бланка. Будучи твердо уверен в том, что она умерла, и чувствуя, что схожу с ума от горя, я, из боязни как-нибудь проговориться и выдать свою тайну, поспешил уйти и направился к несчастному Тимбрио уведомить его о новом несчастье. Злая скорбь подточила, однако ж, мои душевные и телесные силы, и оттого шаг мой оказался не столь быстр, как у того, кто нес печальную эту весть родителям Нисиды и кто потом передал им за верное, что во время сердечного припадка их дочь скончалась. Тимбрио, должно быть, об этом услышал, и, должно быть, это подействовало на него так же, как на меня, а может быть, даже еще сильнее; как бы то ни было, когда я, уже в сумерках, достигнул того места, где надеялся встретить его, то один из его секундантов сказал мне, что он с другим секундантом отправился на почтовых в Неаполь и что до того он был удручен, как если б его победили и обесчестили, на поединке. Тогда я, догадавшись, в чем дело, пустился за ним вдогонку и, еще не доезжая до Неаполя, получил точные сведения, что Нисида не умерла, — правда, обморок ее длился целые сутки, но потом она пришла в себя и теперь все только, мол, вздыхает да плачет. Достоверные эти сведения порадовали меня, и я уже с иным чувством прибыл в Неаполь, где рассчитывал встретить моего друга, однако вышло не так: кавальеро, с которым он сюда приехал, сообщил мне, что в Неаполе Тимбрио молча расстался с ним и ушел неизвестно куда, но что, судя по его печальному и мрачному виду, не иначе как он намерен лишить себя жизни. Подобная весть могла лишь вновь исторгнуть у меня слезы, однако на этом злоключения мои не кончились: спустя несколько дней приехали в Неаполь родители Нисиды, но без нее и без Бланки, и вскоре уже всему городу стало известно, что ночью, по дороге в Неаполь, сестры бежали и что с тех пор о них ни слуху ни духу. Я был до того этим ошеломлен, что положительно не знал, как мне быть и на что решиться. И еще не прошло у меня это состояние странного оцепенения, как вдруг получаю сведения, правда, не совсем достоверные, о том, что Тимбрио сел в Гаэте на корабль, отходивший в Испанию. Показалось мне это похожим на правду, и я отправился вслед за ним: побывал и в Хересе, и куда-куда я только ни заезжал в чаянии встретить его, но так и не напал на след. В конце концов очутился я в Толедо, где живет вся родня Нисиды, но и тут ничего не удалось мне узнать, кроме того, что родители ее переехали сюда и что судьба их дочерей им по-прежнему неизвестна.
Итак, потеряв из виду Тимбрио, находясь вдали от Нисиды, угнетаемый мыслью, что если даже я их и увижу, то для них это будет удовольствие, а для меня погибель, усталый и разуверившийся в обманчивой прелести мира сего, решился я обратить свои взоры к иной путеводной звезде и посвятить остаток дней моих тому, кто судит страсти и дела человеческие, как они того заслуживают. Вот почему, облекшись в одежду, которую вы на мне сейчас видите, я поселился в пещере, которую вам приходилось видеть не раз, и здесь, в сладостном уединении, смиряю я свои страсти и направляю дела свои к иной, высшей цели, и хотя волна прежних моих дурных наклонностей приходит ко мне издалека, все же не так-то легко остановить ее бег, ибо и память, едва отхлынув, возвращается вновь и вступает со мною в борьбу, в ярких красках изображая минувшее. И вот тогда-то, под звуки арфы, которую избрал я подругой моих одиноких дней, я и пытаюсь облегчить бремя тяжких моих забот и буду пытаться до тех пор, пока обо мне не позаботится небо и не призовет меня в мир иной. Вот, пастухи, история моего злополучия, и если я долго вам ее рассказывал, то единственно потому, что слишком долго преследовала меня судьба.
На этом кончил Силерьо свой рассказ, и сколько ни упрашивали его Тирсис, Дамон, Элисьо и Эрастро провести наступивший день с ними, он, расцеловав их всех, удалился.
Подойдя к ручью, пастухи заметили, что сюда же, свернув с дороги, направляются три кавальеро и две прекрасные дамы: их манила к себе приютная и прохладная древесная сень, и они, усталые и измученные, решились укрыться здесь от полдневного зноя. Шли они в сопровождении слуг, так что, судя по всему, то были знатные люди. Пастухи хотели было уступить им этот уголок, но один из кавальеро, по-видимому, самый знатный, поняв, что искать себе другого места заставляет их долг вежливости, сказал им:
— Если вам доставляет удовольствие, любезные пастухи, проводить час полуденного отдыха в прелестном этом уголке, то этим вы и нам доставите удовольствие, ибо учтивость ваша и манера держаться ничего, кроме удовольствия, не сулят. Места же здесь хватит на всех, а потому вы обидите и меня и наших дам, если не исполните того, о чем я от их и от своего имени вас прошу.
— Исполняя ваше желание, сеньор, мы только исполним собственное свое желание, — отвечал Элисьо, — мы именно и желали провести здесь в приятной беседе томительные часы полдневного зноя, но если б даже это было и не так, все равно мы исполнили бы то, о чем вы нас просите.
— Знаки вашего расположения к нам таковы, что я почитаю себя в долгу перед вами, — отвечал кавальеро, — но, дабы я совершенно в чувствах ваших уверился, сделайте мне, пастухи, еще одно одолжение: сядьте возле родника и отведайте, прошу вас, тех лакомств, что наши дамы взяли с собою в дорогу: они вызовут у вас жажду, которую вы потом утолите холодной водою прозрачного сего ручейка.
Пастухи, очарованные любезным его обхождением, согласились. До сих пор дамы скрывали свои лица под искусно сделанными масками, но тут они их сняли, видя, что пастухи остаются, и те замерли от восторга пред той ослепительною красотою, какая открылась в сей миг их глазам. Обе дамы были равно прекрасны, но одна из них, та, что выглядела старше, казалась еще изящнее и обворожительнее. После того как все устроились и разместились, другой кавальеро, не проронивший доселе ни слова, обращаясь к пастухам, молвил:
— Когда я думаю, друзья мои, о том преимуществе, какое имеет скромная жизнь пастуха перед роскошною жизнью иного столичного жителя, мне становится жаль самого себя, а к вам я начинаю испытывать благородную зависть.
— Почему же, друг Даринто? — спросил первый кавальеро.
— А вот почему, сеньор, — отвечал тот. — Сколько усилий тратите и вы, и я, и все, кто ведет подобный образ жизни, на то, чтобы украсить свою особу, понежить свою плоть и умножить свои доходы, а впрок это нам не идет, ибо от не вовремя принимаемой и вредной для желудка пищи, от всех этих дорогих, но невкусных блюд мы так всегда дурнеем, что ни злато, ни парча, ни пурпур ни в малой степени нас не красят, не молодят и не придают нам блеску, тогда как деревенские труженики в сем случае являют собою полную противоположность, чтó вы можете наблюдать на примере сотрапезников наших, ибо они, вернее всего, довольствовались прежде и довольствуются ныне пищей простою, не похожею на наши затейливые, но непитательные кушанья, а между тем взгляните на их загорелые, пышущие здоровьем лица и сравните с нашими, бледными и испитыми; взгляните, как свободно чувствует себя мощное и гибкое тело пастуха в овчинном тулупе, как хорошо сидит на нем серая шапка, как идут ему длинные шерстяные чулки, — уверяю вас, что своей пастушке он кажется милее, нежели светский щеголь — какой-нибудь даме, живущей в деревенской глуши. А что скажете вы о простоте нравов, какою славятся пастухи, о свойственном им прямодушии, о чистоте их любви? Я же одно могу сказать: все, что мне удалось узнать об их жизни, так меня соблазняет, что я хоть сейчас готов поменяться с ними.
— Позвольте от лица всех пастухов выразить вам свою признательность за ваше лестное о нас мнение, — сказал Элисьо. — Должен, однако ж, заметить, что и наша деревенская жизнь полна превратностей и огорчений.
— Не могу с тобой согласиться, друг мой, — возразил Даринто. — Правда, все мы знаем, что земное наше существование — это война, но здесь она меньше чувствуется, нежели в городе, оттого что деревенская жизнь не в такой степени зависит от разных случайностей, волнующих дух и возмущающих покой.
Тут одна из дам, обратись к другой, молвила:
— Сдается мне, сеньора Нисида, что если мы желаем завтра же увидеть наших родителей, то нам пора в путь.
При этих словах Элисьо невольно подумал, что перед ним та самая Нисида, о которой столько рассказывал отшельник Силерьо; подобная же мысль одновременно мелькнула у Тирсиса, Дамона и Эрастро, и, дабы удостовериться в том, Элисьо, обратясь к Даринто, сказал:
— Сеньор Даринто! Имя, которое только что изволила произнести эта дама, знакомо и мне и другим пастухам, но тот, из чьих уст услышали мы его впервые, произносил его с глубоким волнением и со слезами на глазах.
— Верно, так зовут кого-нибудь из ваших пастушек? — осведомился Даринто.
— Нет, — отвечал Элисьо, — та, о которой я веду речь, возросла на далеких берегах славного Себето[68].
— Что ты говоришь, пастух? — вскричал первый кавальеро.
— То, что вы слышите, — отвечал Элисьо, — и вы можете услышать от меня еще больше, если разрешите мое сомнение.
— Поделись им со мной, — предложил кавальеро, — может статься, я и сумею его рассеять.
Тогда Элисор спросил:
— А вас, сеньор, не Тимбрио ли зовут?
— Ты угадал, — признался кавальеро, — точно, меня зовут Тимбрио, и хотя я предпочел бы до более благоприятного времени скрыть от тебя мое имя, однако желание знать, откуда оно тебе известно, велит мне открыть все, что ты желал бы знать обо мне.
— В таком случае, — продолжал Элисьо, — вы не станете также отрицать, что эту даму зовут Нисида, а другую, если не ошибаюсь, Бланка и что это родные сестры.
— Все это истинная правда, — подтвердил Тимбрио, — но коли я ответил на все твои вопросы, то ответь теперь и ты: по какой причине ты обратился с ними ко мне?
— Благородная эта причина к вящему вашему удовольствию скоро откроется, — отвечал Элисьо.
Но тут не выдержал Дамон:
— Не томи ты Тимбрио, Элисьо, раз что можешь ты его порадовать доброю вестью!
— А я, — подхватил Эрастро, — поспешу к несчастному Силерьо с вестью о том, что Тимбрио отыскался.
— Благие небеса! Что я слышу! — воскликнул Тимбрио. — Что ты говоришь, пастух? Ужели это тот самый Силерьо — верный мой друг, сокровище души моей? Я так мечтаю с ним свидеться! Более страстной мечты у меня сейчас нет. Рассей же мое сомнение, ибо оно все растет, подобно как растут и множатся твои стада на зависть соседям!
— Не волнуйтесь, Тимбрио, — заметил Дамон, — ведь Силерьо, о котором толкует Элисьо, и есть тот Силерьо, о котором толкуете вы, тот, который думает не столько о собственном своем здоровье и благополучии, сколько о том, благополучно ли вы здравствуете на свете. Как он нам рассказывал, горечь разлуки с вами, а равно и другие утраты, которые он от нас также не утаил, столь сильно на него повлияли, что он поселился неподалеку отсюда, в небольшой пещере, и, ведя крайне суровую жизнь, мечтает ныне только о смерти, оттого что его жажда узнать о вас до сих пор не могла быть утолена. Все это доподлинно известно Тирсису, Элисьо, Эрастро и мне, ибо он сам рассказал нам о вашей дружбе и обо всем, что с вами обоими произошло вплоть до того дня, когда роковое стечение обстоятельств вас с ним разъединило, а его обрекло на столь строгое уединение, что вы диву дадитесь, как скоро его увидите.
— Увидеть его и тут же умереть! — подхватил Тимбрио. — Так вот, зная, сколь свойственна вам, милые пастухи, жалость к людям, я прошу вас: сжальтесь вы надо мной и скажите, где та пещера, в которой живет Силерьо!
— Лучше сказать, где он умирает, — поправил его Эрастро, — но появление ваше вернет ему жизнь, и коли вам не терпится порадовать его и себя, то вставайте, и мы вас проводим, с условием, однако ж, что по дороге вы расскажете нам обо всем, что с вами случилось после того, как вы уехали из Неаполя.
— Немногого же ты хочешь за такое великое одолжение! — заметил Тимбрио. — Да я не только это, а все что угодно готов тебе рассказать!
Затем он обратился к своим спутницам:
— Итак, счастливый случай избавляет нас с вами, драгоценная Нисида, от необходимости скрываться под чужими именами, на радостях же от получения столь доброй вести я осмеливаюсь обратиться к вам обеим с просьбой: пойдемте скорее к Силерьо, — ведь мы с вами, сеньора Нисида, обязаны ему жизнью и нашим счастьем.
— Меня не нужно просить, сеньор Тимбрио, о том, чего я сама так жажду, тем более, что мне так легко будет это исполнить! — молвила Нисида. — Поспешим же! Право, мне каждое мгновение представляется вечностью.
С теми же словами обратилась к Тимбрио и сестра Нисиды Бланка, которую, видимо, особенно радовала предстоящая встреча с Силерьо. Дорогой влюбленного
Тимбрио и красавиц-сестер, Нисиду и Бланку, охватило такое страстное нетерпение, что быстрый их шаг казался им слишком медленным; Тирсис же и Дамон, видя, что Тимбрио теперь не до того, не напоминали ему его обещание рассказать по пути к пещере обо всем, что с ним приключилось после того, как он расстался с Силерьо.
Боясь взволновать отшельника неожиданным своим появлением, Тимбрио, Нисида и Бланка порешили к нему не входить. Опасения их были, однако ж, напрасны, ибо Тирсис и Дамон, заглянув в пещеру, с удивлением обнаружили, что там никого нет. Но в это самое время послышались звуки арфы, возвестившие им, что Силерьо должен быть где-то поблизости, и, пойдя на звон ее струн, они его вскоре увидели: сидя на срубленном оливковом дереве, в полном одиночестве, если не считать вечной его спутницы — арфы, он извлекал из нее столь нежные звуки, что, дабы упиться сладостною их гармонией, пастухи не стали его окликать, а тут еще, как нарочно, Силерьо чудным своим голосом запел эту песню:
Пастухи, оставшись незамеченными, прослушали до конца всю песню и вернулись обратно с намерением предложить остальной компании нечто такое, о чем вы сейчас узнаете, а именно: сообщив, где находится Силерьо и где они его отыскали, Тирсис обратился к Тимбрио со следующей просьбой: пусть все незаметно подойдут поближе, а затем Тимбрио или Нисида что-нибудь споют. И все это Тирсис затеял, дабы продлить удовольствие, которое сулила отшельнику столь приятная встреча. Тимбрио согласился; Нисида, которой он передал просьбу Тирсиса, также изъявила согласие. И вот, когда они уже подошли так близко, что Силерьо мог их услышать, Тирсис подал прелестной Нисиде знак, и та начала петь:
Если чарующий голос прекрасной Нисиды наполнил негой сердца ее спутников, то какие же чувства должен был вызвать он у Силерьо, который, затаив дыханье, следил за всеми его переливами? Все это время ее голос пел в его душе, не умолкая, и вот теперь, придя в волнение и затрепетав от восторга при первых же его звуках, Силерьо мгновенно превратился в слух и забыл обо всем на свете. И, хотя то был явно голос Нисиды, он все никак не мог этому поверить, ибо не чаял уже встретиться с нею, да еще в таких пустынных местах. Но в это время по знаку Дамона Тимбрио запел тот сонет, который он сочинил в разгар своего увлечения Нисидой и который Силерьо знал не хуже его самого:
Сонет остался недопетым, — Силерьо и этого было довольно для того, чтобы по голосу узнать Тимбрио; он мигом вскочил и кинулся к нему на шею, однако от полноты чувств он не мог выговорить ни слова и стоял неподвижно, в каком-то оцепенении, так что присутствовавшие, решив к великому ужасу своему и прискорбию, что ему дурно, начали уже осуждать Тирсиса за неуместную его затею. Но никто так не сокрушался, как прекрасная Бланка, ибо она нежно любила Силерьо. Вместе с сестрой своей Нисидой она поспешила к нему на помощь, и он вскоре очнулся.
— О всемогущее небо! — воскликнул Силерьо. — Ужели предо мною верный мой друг Тимбрио? Тебя ли я, Тимбрио, слышу? Тебя ли я, Тимбрио, вижу? Так, это ты, если только судьба надо мною не насмехается и глаза мои меня не обманывают.
— О нет, милый мой друг! — отвечал Тимбрио. — Судьба над тобою не насмехается и глаза твои тебя не обманывают, — я тот, кто не жил все это время и кому не ожить бы вовек, когда бы небо вновь нас с тобой не соединило. Да иссякнут же слезы твои, друг Силерьо, если только ты их из-за меня проливаешь, ибо перед тобою — я, и да сдержу я свои, ибо ты — передо мною, ибо в награду за все напасти и беды я, счастливейший из смертных, ныне могу назвать Нисиду своею и могу неотрывно глядеть на тебя.
Только тут вполне уразумел Силерьо, что пела ту песню Нисида и что она же стоит перед ним; окончательно же он в том уверился, когда она сама обратилась к нему:
— Что все это значит, милый Силерьо? К чему это уединение и зачем на тебе эта одежда — знак безутешной печали? Верно, некое ложное заключение тому виною, верно, ввел тебя кто-то в обман, если мог ты решиться на такую крайность, не помыслив о том, что жизнь наша с Тимбрио в разлуке с тобой была бы до краев полна скорби — и все из-за тебя, даровавшего нам жизнь.
— Да, то был обман, прекрасная Нисида, — молвил Силерьо, — но раз что за ним скрывалась столь отрадная истина, то я готов благословлять его до конца моих дней.
Во время этого разговора Бланка не спускала с Силерьо глаз, держа его руку в своей и роняя слезу за слезою, — так она рада была его видеть и так болела у нее душа за него. Я не стану приводить здесь ласковые и нежные слова, какими обменялись Силерьо, Тимбрио, Нисида и Бланка, — все это было до того трогательно, до того умилительно, что глаза пастухов увлажнились слезами радости. Силерьо вкратце рассказал о том, как, не получая ни от кого известий, задумал он провести остаток дней своих в этой пещере, в полной безвестности и уединении, и от этих его слов в душе Тимбрио еще ярче запылал огонь любви и дружбы, а красавица Бланка прониклась еще большей к нему жалостью. Рассказав обо всем, что с ним приключилось с того времени, как он покинул Неаполь, Силерьо предложил Тимбрио последовать его примеру, ибо он страстно желал выслушать его повесть; при этом он предупредил его, что пастухов стесняться не должно, оттого что они уже осведомлены о связующей их тесной дружбе и о многих событиях из его жизни. Тимбрио охотно согласился. Когда же все, расположившись на зеленой лужайке, напрягли внимание, он начал рассказ о своих приключениях:
— После того, как столь же благосклонный, сколь и враждебный рок дал мне сперва одолеть моего недруга, а затем сразил меня самого ложным известием о смерти Нисиды, я, снедаемый скорбью неизъяснимою, прибыл в Неаполь, но, получив подтверждение, что Нисиды нет в живых, решился немедля покинуть этот город, дабы не видеть больше ее родного дома, в стенах которого я виделся с нею, и дабы окна ее комнаты, дабы улицы и прочие места наших встреч беспрестанно не напоминали мне о былом счастье, и, пойдя наугад, без всякой определенной цели, дня через два очутился в Гаэте, где уже стоял корабль, который вот-вот должен был вступить под паруса и отойти к берегам Испании. Пустился я в плаванье лишь для того, чтоб навек сокрылась от очей моих ненавистная эта земля, где довелось мне вкусить неземное блаженство. Только успели проворные моряки выбрать якоря и поставить паруса, только успели мы выйти в море, как вдруг, откуда ни возьмись, налетел ураган и с таким остервенением принялся трепать наше судно, что под его напором сломалась фок-мачта, а бизань-мачта дала огромную трещину. Тут сбежались расторопные моряки и с величайшим трудом убрали все паруса, ибо ураган свирепел, море становилось все грознее, меж тем как небо предвещало долгую и страшную бурю. О возвращении в гавань нечего было и думать: мистраль дул с такой неистовой силой, что парус с фок-мачты пришлось поставить на грот-мачте и, ослабив, как выражаются моряки, носовой шкот, отдаться на волю стихий. И вот, влекомый их яростью, корабль с такою стремительностью понесся по бурному морю, что спустя два дня все острова остались у нас позади; не имея возможности пристать к какому-либо из этих островов, мы лишь проходили в виду их. так что ни Стромбсли, ни Липари не укрыли нас от бури, равно как и Цимбано, Лампедуза и Пантеллерия не послужили нам пристанитем; от Берберии же прошли мы так близко, что нам видны были недавно разрушенные стены Голеты, а затем и древние руины Карфагена показались. Путешественников объял великий страх: ведь если б ветер еще хоть немного усилился, то мы, обессиленные, принуждены были бы высадиться на земле наших врагов, однако в тот миг, когда это уже казалось неминуемым, о нас позаботилась сама судьба, а быть может, небо услышало наши обеты и клятвы, — словом, мистраль сменился южным ветром, и вот этот южный ветер, приближавшийся по силе к сирокко, еще через два дня к великой нашей радости пригнал нас в ту же самую гавань Гаэту, откуда мы вышли, и тут иные путешественники, исполняя обет, данный в минуту опасности, отправились на поклонение святым местам. Корабль простоял в гавани четверо суток, после же исправления повреждений, дождавшись благоприятной погоды и попутного ветра, снова снялся с якоря, и еще издали увидели мы живописную Геную с ее роскошными садами, белыми домиками и сверкающими шпилями башен, на которых солнечные лучи зажигали ослепительные отблески, так что больно было глазам. Упоительный этот вид хоть кого мог привести в восхищение, и точно: спутники мои им залюбовались, на меня же навеял он грусть. Единственное мое развлечение состояло в том, что я сетовал на свои невзгоды и воспевал, или, лучше сказать, оплакивал их под звуки лютни, принадлежавшей одному из моряков. И вот как-то ночью, помнится мне, — да и могу ли я этого не помнить, коли в ту ночь впервые забрезжил для меня утренний свет! — в час, когда на море воцарилась тишина, ветер упал и паруса повисли, в час, когда моряки, улегшись кто где, крепким сном спали и сам рулевой задремал, убаюканный штилем, который, как это ему предсказывало ясное небо, мог простоять еще долго, — в этот час, когда ничто кругом не нарушало безмолвия, я, окруженный роем печальных дум, не дававших мне сомкнуть вежды, поднялся на бак и, взяв лютню, начал слагать стихи, которые вы сейчас и услышите, ибо я хочу показать вам, сколь неожиданно вознесла меня судьба из бездны отчаяния к вершинам счастья. Вот что, если память мне не изменяет, я тогда пел:
Помнится мне, что дальше продолжать я не мог: в наболевшей груди моей теснились рыданья и стоны, перед мысленным взором моим проходили все былые несчастья, и от одной лишь душевной муки я внезапно лишился чувств. И так я долго лежал без памяти, а когда тягостное это состояние прошло и я открыл томные свои очи, то увидел, что какая-то женщина в одежде странницы держит мою голову у себя на коленях, а другая, одетая так же, сидя возле меня, держит мои руки, и обе горькими слезами плачут. Я был так изумлен и растерян, что все это показалось мне сном, ибо доселе ни разу не встречал я на корабле этих женщин. Однако ж прелестная Нисида, — а ведь это она под видом странницы передо мною предстала, — тотчас вывела меня из оцепенения, воскликнув:
«Ах, Тимбрио, истинный мой повелитель и друг! Какие ложные домыслы, какие печальные происшествия довели вас до этого? А ведь нам с сестрой пришлось из-за вас пренебречь своей честью, пришлось оставить возлюбленных родителей наших, менять привычную одежду на одежду странниц и, невзирая ни на какие препятствия, искать встречи с вами, дабы доказать вам, сколь ложен был слух о том, что я умерла, — слух, который вполне мог явиться причиною вашей, Тимбрио, смерти».
Слова Нисиды окончательно уверили меня, что я не грежу, что все это не сон и что не воображению моему, всечасно с ней пребывавшему, обязан я тем, что вижу ее теперь наяву. Я забросал сестер вопросами, и ни одного из них они не оставили без ответа, уверив меня предварительно, что я в здравом уме и что предо мною, точно, Нисида и Бланка. Когда же я услышал это из их уст, то уже от радости, а не от горя чуть было снова не потерял сознание. Далее Нисида рассказала мне, как из-за роковой ошибки с платком и из-за твоей, Силерьо, беспечности она, вообразив, что со мною случилась беда, упала в обморок, и этот глубокий обморок всеми, не исключая и нас с тобою, Силерьо, был принят за смерть. Еще узнал я от Нисиды, что по прошествии некоторого времени она очнулась и что когда до нее дошли слухи о моей победе, а также о моем внезапном и поспешном отъезде и о твоем, Силерьо, исчезновении, то она готова была совершить нечто такое, после чего вновь распространился бы слух о ее кончине, и на сей раз уже верный. Однако ж в последнюю минуту что-то удержало ее от этого шага, а вместо этого они с Бланкой задумали бежать, переодевшись странницами, что однажды ночью, по дороге в Неаполь, им и удалось с помощью ловкой служанки, и в ту же ночь родители их вернулись в Неаполь, а сестры добрались до Гаэты; прибыли же они в эту гавань как раз, когда на нашем корабле были исправлены все причиненные бурей повреждения и он готовился к отплытию. Сказав капитану, что они направляются в Испанию, в галисийский город Сант Яго, и уговорив его взять их с собой, сестры сели на корабль с тайным намерением пробраться в Херес, где они рассчитывали встретить меня или, по крайней мере, что-нибудь обо мне узнать. Капитан отвел им помещение в носовой части судна, и четверо суток они оттуда не выходили; как же скоро до них донеслось мое пение, они, узнав меня по голосу и по содержанию известной вам песни, явились ко мне, а что произошло дальше — вы уже знаете; ознаменовав счастливую нашу встречу слезами радости, долго глядели мы друг на друга, но никто из нас не находил слов для выражения внезапного и нечаянного своего восторга — восторга, который, все возрастая, достиг бы тех границ и пределов, коих он достиг ныне, когда бы мы хоть что-нибудь знали о тебе, друг Силерьо. Радость ведь никогда не бывает полной, чем-либо не омраченной: так точно и наша радость омрачалась тем, что тебя не было с нами и что ты не подавал о себе вестей.
Светлая ночь, приятный, прохладою веявший попутный ветер, который в это самое время начал уже осторожно шевелить паруса, тихое море, безоблачное небо — все, казалось, и вместе и порознь, праздновало нашу встречу и разделяло радость наших сердец. Однако ж непостоянная Фортуна, чей нрав известен своей переменчивостью, позавидовала нашему счастью и наслала на нас величайшее из всех несчастий, от коего нас потом избавило время и благоприятное стечение обстоятельств. Вот как было дело: чуть только ветер усилился, заботливые моряки прибавили парусов, вызвав этим всеобщее ликование и обеспечив себе и другим скорый и благополучный конец путешествия. Но в это время один из тех, кто сидел на корме, увидев при свете полной луны, что к нашему кораблю, подгоняемые широкими взмахами весел, с великой поспешностью и быстротой приближаются четыре многовесельных судна, и тотчас догадавшись, что это вражеские суда, начал громко кричать: «К оружию, к оружию! Турецкие суда показались!» Этот внезапно раздавшийся боевой клич посеял в наших сердцах тревогу, и мы, еще не сознавая всей опасности своего положения, испуганно переглянулись. Наш капитан, оказавшийся человеком бывалым, поднявшись на корму, дабы определить, каких размеров эти суда и сколько их всего, обнаружил еще два и установил, что это вооруженные галиоты, от коих немалой беды ожидать должно. Не теряя, однако, присутствия духа, он тут же приказал, пока вражеские суда будут разворачиваться, выдвинуть орудия и взять паруса на гитовы с тем, чтобы потом врезаться в гущу вражеских судов и открыть огонь на оба борта. Моряки бросились к орудиям и, заняв каждый свое место, изготовились к встрече с противником.
Могу ли я передать вам, сеньоры, то мучительное чувство, которое я испытывал, видя, как стремительно рушится мое счастье и как близок я к тому, чтобы утратить его окончательно? Однако еще тяжелее мне было смотреть на Нисиду и Бланку: в ужасе от поднявшегося на корабле грохота и шума, они молча переглядывались, я же умолял их запереться у себя и молить бога, чтобы он не предавал нас в руки врагов. Мгновения эти были таковы, что как вспомнишь о них, воображение тотчас никнет. Обильные слезы Нисиды и Бланки, а также те усилия, которые я прилагал, чтобы удержать свои, не давали мне подумать о том, чтó я должен делать и как мне следует и подобает вести себя в минуту опасности. Все же я доставил близких к обмороку сестер в отведенное им помещение и, заперев их снаружи, бросился к капитану за получением приказаний. Вверив спутнику моему Даринто охрану юта, а мне — охрану бака, заботливый наш капитан, отличавшийся редким благоразумием и предусмотрительностью, вместе с некоторыми моряками и путешественниками предпринял тщательный и подробный осмотр корабля. Противник не замедлил подойти к нам на близкое расстояние, и в довершение всех наших бед не замедлил утихнуть ветер. Наступившее безветрие не дало, однако, противнику возможности сцепиться с нами вплотную, и он положил ждать рассвета. Так он и поступил, и на рассвете мы насчитали уже не шесть, а пятнадцать крупных судов, чтó сулило нам верную гибель. Со всем тем отважный капитан, равно как и его команда, духом не пал; он отдал приказ внимательно следить за действиями турок, — турки же, чуть свет спустив на воду с флагманского судна шлюпку, выслали к нам для переговоров некоего вероотступника, и этот вероотступник сказал нашему капитану, чтобы он сдавался, ибо против стольких судов ему все равно, мол, не устоять, тем более что это лучшие алжирские суда; если же, — добавил вероотступник, — наш корабль хоть раз выпалит по туркам, то капитана их главный начальник арнаут Мами вздернет на рее и не пощадит и других. Вероотступник настойчиво уговаривал капитана сдаться, но тот предложил ему убраться восвояси, а не то, мол, он, капитан, велит своим канонирам пустить его шлюпку ко дну. Выслушав ответ капитана, арнаут приказал зарядить все орудия и столь яростно и неумолчно принялся обстреливать нас, что от одного грохота можно было сойти с ума. Мы тоже открыли огонь, да еще такой меткий, что малое время спустя нам удалось потопить турецкое судно, атаковавшее наш корабль с носа: ядро повредило ему баргоут, другие суда не сумели прийти к нему на помощь, и потерпевшее судно стало добычею волн. Но это лишь ожесточило турок: за четыре часа мы выдержали четыре их атаки, причем они всякий раз отступали, сами терпя огромный урон и нам нанося немалый.
Боясь утомить вас подробным изложением хода событий, скажу лишь, что после шестнадцатичасового боя, после того как был убит наш капитан и почти все матросы, разъяренные турки, предприняв десятый по счету абордажный приступ, ворвались на корабль. Изъяснить же, какую муку я терпел от сознания, что две мои драгоценные жемчужины, коих лицезреньем ныне я наслаждаюсь, попадутся и достанутся этим хищным зверям, я был бы не в силах, даже если б хотел. И вот, влекомый гневом, который во мне пробудила сия ужасная мысль, я с голыми руками ринулся на врагов, ибо легче мне было пасть от свирепости их мечей, нежели допустить, чтобы на моих глазах свершилось то, чего я ожидал. Судьба, однако ж, распорядилась иначе: в меня вцепились три ражих турка, я стал от них отбиваться, в пылу драки мы со всего размаху толкнули дверь, за которой находились Нисида и Бланка, дверь, не выдержав столь сильного напора, мгновенно рухнула, и, как скоро глазам алчных врагов открылось таившееся от них доселе сокровище, один из них схватил Нисиду, другой — Бланку, я же, вырвавшись из рук третьего турка и ударив его с такой силой, что он тут же испустил дух, собирался так же точно разделаться и с остальными, но те, бросив свою добычу, нанесли мне две тяжкие раны, после чего я потерял сознание, и тогда Нисида, припав к моему окровавленному телу, жалобным голосом начала умолять турок умертвить и ее.
В это время, привлеченный воплями и стенаниями Нисиды и Бланки, в каюту вошел командующий турецким флотом арнаут и, спросив у моряков, что тут происходит, распорядился перевести женщин на свою галеру, а как я подавал признаки жизни, то по просьбе Нисиды велел он вместе с ними переправить и меня. Когда же я, в бессознательном состоянии, был доставлен на флагманскую галеру, Нисида, в расчете на то, что корыстолюбивые турки, соблазнившись выкупом, который могут они за меня получить, обратят внимание на мое здоровье, сказала капудан-паше, что я человек весьма состоятельный и знатный, и тем обеспечила мне сносный уход. Случилось, однако ж, так, что во время перевязки жестокая боль привела меня в чувство, и, оглядевшись по сторонам, я увидел, что нахожусь в плену у турок, на вражеской галере. Но еще горше было мне видеть Нисиду и Бланку сидящими на палубе у ног собаки-капудана и проливающими потоки слез, что являлось знаком беспредельной их скорби. Ни ожидание позорной смерти, от которой ты, добрый друг мой Силерьо, избавил меня, когда мы встретились с тобой в Каталонии, ни ложное известие о смерти Нисиды, которому я поверил, ни боль от моих смертельных ран и никакая иная беда не причиняли мне и не могли причинить таких страданий, как то, что Нисида и Бланка находятся во власти нечестивого турка и что чести их грозит столь близкая и явная опасность. От этой горестной мысли я снова впал в беспамятство, после чего пользовавший меня лекарь отчаялся вернуть мне здоровье и жизнь; будучи уверен, что я уже мертв, он прекратил перевязку и объявил, что я перешел в мир иной. Что должны были испытывать, получив такое известие, несчастные сестры — об этом Пусть они скажут вам сами, если только найдутся у них слова, я же узнал потом, что они вскочили и, рвя на себе волосы, эти чудные золотистые волосы, и царапая прекрасные свои лица, устремились к моему бесчувственному телу, так что никакая сила не могла их удержать, и жалобный их плач смягчил даже каменные сердца варваров. То ли слезы Нисиды, капавшие мне на лицо, то ли сильная боль, которую мне причиняли незаживавшие раны, привела меня в чувство, но только я снова очнулся, для того чтобы тотчас же вспомнить о новом моем горе. Боясь омрачить нашу общую радость, я не стану приводить вам жалостные и нежные слова, коими в злосчастную ту минуту обменялись мы с Нисидой, равно как не стану подробно описывать борьбу, которую пришлось вести Нисиде с арнаутом и о которой она сама мне рассказала; должно заметить, что, очарованный ее красотою, капудан-паша всякого рода обещаниями, подарками и угрозами добивался от нее, чтобы она откликнулась на зов преступной его страсти, однако, держа себя с ним столь же непреклонно, сколь скромно, и столь же скромно, сколь непреклонно, она весь день и всю ночь отбивалась от несносной назойливости корсара. Но как присутствие ее с каждым мгновеньем все сильней распаляло в нем похоть, то можно было опасаться, — а я и впрямь испытывал живейшие опасения, — что, не вняв ее мольбам, он применит силу; зная же душевную чистоту Нисиды, можно было предположить заранее, что он скорей отнимет у нее жизнь, нежели честь.
Наконец Фортуна, дабы мы еще раз уверились, что не напрасно идет молва об изменчивом ее нраве, пожелала извлечь нас из пучины бедствий, но не прежде, нежели мы в грозный час воззвали к небу о помощи, ибо гибелью грозили нам высокие волны вдруг разбушевавшегося моря; надобно вам знать, что на третий день нашего плена, как скоро мы взяли курс прямо на Берберию, подул бешеный сирокко; море, обрушивая на нас целые водяные горы, совсем уже захлестывало пиратскую армаду, и тогда выбившиеся из сил гребцы, сложив весла, прибегли к испытанному способу перемещения паруса с фок— на грот-мачту, а затем отдались на волю ветра и волн, ураган же все усиливался и в какие-нибудь полчаса рассеял и разметал турецкие суда в разные стороны, так что ни одно из них не могло уже следовать за флагманским судном; словом, все суда мигом разбросала буря, а наше всеми покинутое судно оказалось в наиболее опасном положении, ибо вода с такой быстротою вливалась во все его щели, что, сколько ее ни вычерпывали, все же в трюме доходила она до колен. И, к умножению всех наших несчастий, настала ночь, всегда в подобных случаях наводящая страх и уныние, а тут еще такая темная и такая бурная, что у всех нас, сколько нас ни было, сколько-нибудь твердая надежда на спасение уступила место отчаянию. Довольно сказать, сеньоры, что турки умоляли пленных христиан, которых они посадили за весла, призвать на помощь Христа и всех святых и помолиться об избавлении от такой страшной напасти, и далекое небо, услышав мольбы несчастных христиан, сжалилось над ними, но, сжалившись, оно не укротило бурю — напротив, порывы ветра становились все неистовее и стремительнее, и на рассвете, который мы могли определить лишь по песочным часам, наше плохо управляемое судно так близко подошло к берегу Каталонии, что команда, ввиду полной невозможности от него отойти, вынуждена была прибавить парусов для того, чтобы поскорее пристать к видневшейся впереди широкой песчаной отмели: рабство уже не пугало турок, страх смерти оказался сильнее.
Не успела галера пристать, как на берегу появилось множество вооруженных людей, чья одежда и говор указывали на то, что это каталонцы; пристали же мы неподалеку от того городка, где, рискуя собственной жизнью, ты, друг Силерьо, спас жизнь мне. Кто взялся бы описать вам восторг христиан, очутившихся на свободе и сбросивших с себя тяжкие и несносные оковы горестного плена, и кто взялся бы изобразить ужас турок, еще недавно свободных, а ныне вынужденных слезно молить бывших своих пленников отвести от них гнев возмущенных каталонцев, ибо те собрались на берегу, побуждаемые желаньем отомстить за зло, которое им причинили эти же самые турки, разграбив их городок, чему ты, Силерьо, явился свидетелем! И страх турок был не напрасен: ворвавшись на галеру, врезавшуюся носом в песок, каталонцы учинили им столь жестокую резню, что лишь весьма немногие из корсаров остались в живых.
Сойдя на берег и оглядев знакомые места, я тотчас уразумел всю опасность своего положения, и от мысли, что меня могут узнать и подвергнуть незаслуженной каре, мне стало не по себе, а потому я попросил Даринто, предварительно объяснив ему мои обстоятельства, возможно скорей переправить нас всех в Барселону. Но как раны мои все еще на заживали, то я принужден был на несколько дней здесь задержаться, приняв меры к тому, чтобы, кроме врача, никто из местных жителей про то не узнал. Пока Даринто ездил в Барселону, дабы произвести необходимые закупки, мне стало лучше, я уже чувствовал себя бодрее, и, как скоро он возвратился, мы, все четверо, отправились в Толедо к родственникам Нисиды узнать о ее родителях, которым мы уже сообщили в письме обо всех происшествиях, попросив прощения за то, в чем мы перед ними провинились. И во все время нашей с тобою разлуки, Силерьо, отсутствие твое каждый раз облегчало муку, которую нам доставлял любой из описанных мною несчастных случаев, или же, напротив, омрачало радость, которую нам доставлял случай счастливый. Но раз что небо избавило нас от всех бед и напастей, то нам остается лишь возблагодарить его за все явленные им чудеса, тебе же, друг Силерьо, — рассеяв былую грусть, самому преисполниться веселья и постараться развеселить ту, что из-за тебя веселье позабыла давно, о чем ты узнаешь подробнее, когда мы останемся с тобою наедине. Я мог бы еще кое-что рассказать о своих странствиях, да боюсь, что длинная повесть моя и так уже наскучила пастухам, которым я всецело обязан счастьем моим и блаженством. Вот, друг Силерьо, и вы, друзья пастухи, вся моя история: судите же, какое название после всего, что мне пришлось испытать и что я испытываю ныне, мне больше пристало: несчастнейшего или счастливейшего человека в мире.
Так закончил свою повесть ликующий Тимбрио, и счастливая ее развязка вызвала всеобщее ликование, Силерьо же в неописуемом восторге снова бросился к нему на шею, а затем, — снедаемый желаньем узнать, кто сия особа, которая из-за него лишилась покоя, — извинившись перед пастухами, отозвал Тимбрио в сторону, и тот ему сообщил, что прекрасная Бланка, сестра Нисиды, давно уже любит его больше жизни.
Наутро кавальеро, дамы и пастухи, пребывавшие на верху блаженства, отправились в деревню; с ними, уже в ином одеянии и в ином расположении духа, шел и Силерьо, из отшельника превратившийся в веселого жениха, ибо он уже обручился с прекрасною Бланкой на радость и себе, и ей, и добрым друзьям своим Тимбрио и Нисиде, склонявшим его на этот брак, и тем положил конец своим горестям, душа же его, истерзанная бесплодной мечтою о Нисиде, обрела наконец мир и покой. Дорóгой Тирсис попросил Тимбрио спеть тот сонет, который ему накануне не дал докончить Силерьо, и Тимбрио, сдавшись на уговоры, нежным и чудесным своим голосом запел:
Самый этот сонет и прелестное его исполнение так понравились всем пастухам, что они стали умолять Тимбрио еще что-нибудь спеть, но тот попросил своего друга Силерьо, неизменно приходившего к нему на помощь в более опасных случаях, выручить его и на этот раз. Не мог отказать своему другу Силерьо и, весь сияя от счастья, запел:
Кончив петь, Силерьо предложил Нисиде огласить своим пеньем поля, и та, взглядом попросив позволения у своего любимого Тимбрио, после того, как он взглядом же ответил ей утвердительно, с очаровательнейшею приятностью начала петь этот сонет:
Исполнив просьбу Силерьо, Нисида объявила, что теперь очередь Бланки, и та, не заставив себя долго упрашивать, столь же очаровательно спела этот сонет:
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПАРНАС
К читателю
Если, любознательный читатель, ты случайно окажешься поэтом и в твои (хотя бы и грешные) руки попадет мое Путешествие и если ты обнаружишь, что тебя назвали и упомянули в числе хороших поэтов, то за эту честь воздай хвалу Аполлону[69]; если же не обнаружишь, все равно воздай ему хвалу. И да хранит тебя господь.
Путешествие на Парнас
Добавление к «Парнасу»
После столь длительного путешествия я несколько дней отдыхал, и наконец вздумалось мне людей посмотреть и себя показать, выслушать приветствия друзей и, кстати, заметить на себе косые взгляды врагов, ибо хотя я ни с кем как будто не враждовал, однако вряд ли мне удалось избежать общей участи. Когда же я однажды утром вышел из монастыря Аточа, ко мне приблизился вылощенный, расфуфыренный, шуршащий шелками юнец лет двадцати четырех или около того; он поразил меня своим воротником[98], таким огромным и до того туго накрахмаленным, что, дабы поддерживать его, казалось, нужны были плечи второго Атланта. Под стать воротнику были гладкие манжеты: начинаясь у самых запястий, они взбирались и карабкались вверх по руке, словно для того, чтобы взять приступом подбородок. Не столь ретиво тянется обвивающий каменную стену плющ от подножья к зубцам, сколь сильно было стремление этих манжет, растолкав локтями локти, пробить себе дорогу вверх. Словом, голова юнца утопала в гигантском воротнике, а руки — в гигантских манжетах. И вот этот-то самый юнец, подойдя ко мне, важным и уверенным тоном спросил:
— Не вы ли будете сеньор Мигель де Сервантес Сааведра, тот самый, который назад тому несколько дней прибыл с Парнаса?
При этих словах я почувствовал, что бледнею, ибо у меня тотчас же мелькнула мысль: «А ну как это один из тех поэтов, о которых я упомянул или не упомянул в своем Путешествии? Уж не желает ли он со мной разделаться?» Взяв себя в руки, я, однако ж, ответил:
— Да, сеньор, тот самый. Что вам угодно?
Выслушав мой ответ, юноша раскрыл объятия и обвил мне шею руками с явным намерением поцеловать меня в лоб, но ему помешал его же собственный воротник.
— Перед вами, сеньор Сервантес, верный ваш слуга и друг, — сказал он, — я давно уже полюбил вас как за ваши творения, так и за кроткий ваш нрав, о котором я много наслышан.
При этих словах я облегченно вздохнул, и волнение в моей душе улеглось; осторожно обняв юнца, дабы не помять его воротник, я сказал ему:
— Я не имею чести знать вашу милость, хотя и готов служить вам. Однако ж по всем признакам вы принадлежите к числу людей весьма рассудительных и весьма знатных, а такой человек не может не вызывать к себе уважение.
Долго еще продолжался у нас обмен любезностями, долго еще мы с ним состязались в учтивости, и, слово за слово, он признался:
— Да будет вам известно, сеньор Сервантес, что я милостью Аполлона — поэт, по крайней мере, я хочу быть поэтом, а зовут меня Панкрасьо де Ронсесвальес.
Мигель. Если б вы сами мне не сказали, никогда бы я этому не поверил.
Панкрасьо. Но почему же, сеньор?
Мигель. Потому что поэт, разряженный в пух и прах, — это большая редкость: в силу своего строгого и возвышенного образа мыслей питомцы вдохновения заботятся более о душе, нежели о плоти.
— Я, сеньор, — возразил юноша, — молод, богат и влюблен, и та неряшливость, какою отличаются стихотворцы, мне не к лицу. Молодости обязан я своим изяществом, богатство дает мне возможность блеснуть им, влюбленность же — враг неопрятности.
— Почти все, что нужно для того, чтобы стать хорошим поэтом, у вас есть, — заключил я.
Панкрасьо. Что же именно?
Мигель. Богатство и предмет страсти. Свойства богатого и влюбленного человека таковы, что они отпугивают от него скупость и влекут к щедрости, меж тем как половину божественных свойств и помыслов бедного поэта поглощают заботы о хлебе насущном. А скажите на милость, сеньор, какой род поэтического мастерства вас более всего утруждает, или, вернее, услаждает ваш досуг?
На это он мне ответил так:
— Я не понимаю, что значит поэтическое мастерство.
Мигель. Я хочу сказать, к какому роду поэзии вы более всего склонны: к лирическому, героическому или же к комическому?
— Мне любой стиль дается легко, — признался он, — однако ж я охотнее упражняюсь в комическом.
Мигель. В таком случае у вашей милости должно быть уже немало комедий?
Панкрасьо. Много, но представлена была только одна.
Мигель. И имела успех?
Панкрасьо. У простонародья — нет.
Мигель. А у знатоков?
Панкрасьо. Тоже нет.
Мигель. В чем же дело?
Панкрасьо. Нашли, что рассуждения в ней длинны, стих не весьма исправен и мало выдумки.
— От таких замечаний не поздоровилось бы и Плавту[99], — заметил я.
— Да ведь они не могли оценить ее по достоинству, оттого что из-за их же свиста представление не было окончено, — возразил он. — Со всем тем директор поставил ее вторично, но, несмотря на все его ухищрения, в театре собралось человек пять, не больше.
— Поверьте, ваша милость, — сказал я, — что у комедий, как у иных прелестниц, день на день не приходится: их успех столько же зависит от дарования автора, сколько и от чистой случайности. При мне одну и ту же комедию забросали камнями в Мадриде и осыпали цветами в Толедо — пусть же не смущает вашу милость первая неудача, ибо часто бывает так, что совершенно для вас неожиданно какая-нибудь комедия вдруг принесет вам известность и деньги.
— Деньгам я не придаю значения, — сказал он, — а вот слава мне дороже всего на свете: ведь это так приятно и так важно для автора — стоять у входа в театр, смотреть, как оттуда валом валят довольные зрители, и получать от всех поздравления.
— Подобного рода неудачи имеют и свою смешную сторону, — заметил я, — иной раз дают до того скверную комедию, что и публика не решается поднять глаза на автора, и автору совестно окинуть взглядом театр, да и сами исполнители ни на кого не смотрят, опозоренные и устыженные тем, что попались впросак и одобрили комедию.
— А вы, сеньор Сервантес, когда-нибудь увлекались театром? — спросил он. — Есть у вашей милости комедии?
— У меня много комедий, — отвечал я, — и если б даже их написал кто-нибудь другой, я все равно отозвался бы о них с похвалою: таковы, например, Алжирские нравы, Нумансия, Великая турчанка, Морское сражение, Иерусалим, Амаранта, или вешний цвет, Роща влюбленных, Единственная, или отважная Арсинда и другие, коих названия я уже не помню. Но та, которую я ставлю выше всех и за которую я особенно себя хвалю, называется Путаница : смело могу сказать, что среди тех комедий плаща и шпаги[100], какие были играны доныне, она занимает одно из первых мест.
Панкрасьо. А новые комедии у вас есть?
Мигель. Целых шесть да еще шесть интермедий.
Панкрасьо. Почему же их не ставят?
Мигель. Потому что директоры театров во мне не нуждаются, ну, а я не нуждаюсь в них.
Панкрасьо. Верно, они не знают, что у вашей милости есть новые пьесы.
Мигель. Знать-то они знают, да у них свои авторы, с которыми они друзья-приятели, с которыми очень легко ладить, и они от добра добра не ищут. Однако ж я предполагаю издать свои комедии, дабы то, что, мгновенно промелькнув на сцене, ускользнуло от внимания зрителей или же осталось для них непонятным, объяснилось при медленном чтении. К тому же всякой комедии, как и всякой песне, — свое время и своя пора.
На этом, пожалуй, и кончилась бы наша беседа, но тут Панкрасьо сунул руку за пазуху, достал аккуратно заклеенное письмо и, поцеловав, вручил его мне[101]; на конверте было написано следующее:
Мигелю де Сервантесу Сааведра, на улице Уэртас, против домов, некогда принадлежавших марокканскому принцу, в Мадриде. За доставку — 1/2 реала[102], то есть семнадцать мараведи.
Эта приписка, указывавшая, что мне надлежит уплатить семнадцать мараведи, меня рассердила. Вернув письмо моему собеседнику, я сказал:
— Как-то раз, когда я жил в Вальядолиде, пришло письмо на мое имя, причем доплатить за него нужно было один реал. Приняла его и уплатила за доставку моя племянница, но уж лучше бы она его не принимала. Правда, после она ссылалась на мои же слова, которые она не раз от меня слышала, а именно: что деньги приятно тратить на бедных, на хороших врачей и на оплату писем, все равно — от друзей или от врагов, ибо друзья предупреждают об опасности, письма же врагов дают возможность проникнуть в их замыслы. Ну так вот, распечатал я конверт, а в нем оказался вымученный, слабый, лишенный всякого изящества и остроумия сонет, в котором автор бранил Дон Кихота. Мне стало жаль моего реала, и я велел не принимать больше писем с доплатой за доставку. А потому, ваша милость, если вы намереваетесь вручить мне что-нибудь в этом роде, то лучше возьмите письмо обратно: заранее могу сказать, что оно не стоит причитающихся с меня семнадцати мараведи.
Сеньор Ронсесвальес весело рассмеялся и сказал:
— Хотя я и поэт, но все же не такой бедный, чтобы польститься на семнадцать мараведи. Да будет вам известно, сеньор Сервантес, что письмо это не от кого-нибудь, а от самого Аполлона: он написал его назад тому недели три на Парнасе и вручил мне его для передачи вашей милости. Прочтите же его, — я уверен, что оно доставит вам удовольствие.
— Я готов последовать вашему совету, — сказал я, — но сперва доставьте же и вы мне удовольствие и расскажите, как, когда и зачем попали вы на Парнас.
Вот что он мне сообщил:
— На ваш вопрос, как я туда добрался, отвечаю: морем, ибо я и еще десять поэтов нарочно для этого зафрахтовали в Барселоне фрегат. На вопрос — когда, отвечаю: шесть дней спустя после сражения между хорошими и плохими поэтами. На вопрос же — зачем, отвечаю: к этому меня обязывало мое ремесло.
— По всей вероятности, господин Аполлон рад был вас видеть? — осведомился я.
Панкрасьо. Да, хотя он был очень занят, и он и госпожи Пиэриды[103], ибо все они вспахивали и посыпали солью поле битвы. Я спросил, для чего это, и он мне ответил, что, подобно как из зубов Кадмова дракона[104] нарождалось множество воинов, подобно как у гидры[105], которую убил Геркулес, на месте каждой отрубленной головы вырастало семь новых, а из капель крови, что лилась из головы Медузы, нарождались змеи, которые потом заполонили всю Ливию[106], так точно из гнилой крови плохих поэтов, уничтоженных в этом бою, стали выползать новые стихоплеты, размерами и всем своим поведением напоминавшие ползучих гадов, и этот гнусный приплод чуть было не заполонил всю землю, почему и пришлось перепахивать это место и посыпать солью, как если бы там прежде стоял дом предателя.
Выслушав этот рассказ, я вскрыл конверт и прочитал следующее:
Податель сего, сеньор Панкрасьо де Ронсесвальес, расскажет Вам, сеньор Мигель де Сервантес, чем я был занят в тот день, когда он явился ко мне со своими друзьями. Я же скажу, что я Вами весьма недоволен, ибо Вы обошлись со мной неучтиво: Вы отбыли с нашей горы, не простившись ни со мною, ни с Музами, хотя Вам хорошо известно, как расположен к Вам я и, следственно, мои дочки; впрочем, если Вы спешили на знаменитые неаполитанские торжества[108] — повидаться со своим меценатом, великим графом Лемосским, то это причина уважительная, и я Вас прощаю.
После того, как Вы покинули наши края, на меня со всех сторон посыпались беды, и я очутился в весьма затруднительном положении, главным образом потому, что мне предстояло истребить и уничтожить потомство погибших на поле брани плохих поэтов, рождавшееся из их крови, но теперь, хвала небесам и моей находчивости, порядок уже восстановлен.
То ли от шума битвы, то ли от испарений, поднимающихся от земли, пропитанной вражьей кровью, у меня начались головокружения, и от них я словно бы поглупел и не могу сочинить ничего приятного и ничего полезного. А потому, если Ваша милость заметит там, у себя, что иные поэты, хотя бы из числа самых знаменитых, пишут и сочиняют всякий вздор и разные безделицы, то в вину им этого не ставьте, ниже пренебрегайте ими, но отнеситесь к ним снисходительно, ибо если уж я, отец и изобретатель поэзии, горожу чепуху и кажусь дурачком, то не удивительно, что кажутся таковыми и они.
Посылаю Вашей милости мой указ, содержащий в себе льготы, правила и наставления для поэтов: Вашей милости надлежит беречь его и исполнять буквально, для чего я предоставляю Вам все требующиеся законом полномочия.
Иные из поэтов, приезжавших ко мне с сеньором Панкрасьо де Ронсесвальес, жаловались на то, что их нет в списке, посланном в Испанию Меркурием, а также на то, что Ваша милость ни словом о них не обмолвилась в своем Путешествии. Я им сказал, что виноват в этом я, а не Ваша милость, и что это поправимо при условии, если они прославят себя своими произведениями, ибо удачные произведения сами принесут им широкую известность и славу, и тогда им уже не придется выпрашивать себе похвалу.
Далее: если случится оказия, то я пришлю Вам грамоту с новыми льготами и уведомлю обо всем, что произойдет на нашей горе. Ваша милость также, надеюсь, известит меня о своем здоровье, а равно и о здоровье всех своих приятелей.
Славному Висенте Эспинелю[109], одному из самых старых и верных моих друзей, прошу передать привет.
Если дон Франсиско де Кеведо[110] еще не уехал в Сицилию, где его ожидают, то пожмите ему за меня руку и скажите, чтобы он не преминул со мной повидаться, — ведь он будет от меня совсем близко, — а то когда я последний раз приезжал в Мадрид, вследствие его внезапного отъезда в Сицилию нам так и не удалось побеседовать.
Если Ваша милость встретится с кем-либо из тех двадцати[111], что перешли в стан врага, то не говорите ему ничего и не обижайте его: ему и без того не сладко, ибо перебежчики, подобно бесам, вечно пребывают в тоске и смятении.
Берегите, Ваша милость, свое здоровье, следите за собой и бойтесь меня, особливо в жаркую пору, ибо тогда я уже не помню себя и не считаюсь ни с дружескими своими привязанностями, ни с велениями долга.
С сеньором Панкрасьо де Ронсесвальес водите дружбу и передайте ему содержание этого письма; он богат и потому может позволить себе роскошь быть плохим поэтом. Засим да хранит господь Вашу милость, чего я Вам от души желаю.
Парнас, 22 июля 1614 года — день, когда я надеваю шпоры, дабы подняться на Сириус.
Слуга Вашей милости светлейший Аполлон.
На особом листе было написано следующее:
Во-первых, поэтам, славящимся своею неопрятностью, надлежит прославиться также и своими стихами.
Item, если кто-либо из поэтов скажет, что он беден, то все должны верить ему на слово, не требуя от него никаких особых клятв и уверений.
Всем поэтам вменяется в обязанность иметь кроткий и тихий нрав, и пусть не гневаются они даже в том случае, если на чулках у них спустятся петли.
Item, если кто-либо из поэтов, зайдя к своему другу или знакомому, застанет его за принятием пищи и тот пригласит его к столу, а поэт поклянется, что уже ел, то не верить ему ни под каким видом, а принудить есть силой, каковое насилие особой неприятности ему не доставит.
Item, самый бедный из всех поэтов, каких только видывал свет со времен Адама и Мафусаила, имеет право сказать, что он влюблен, хотя бы это было и не так, и назвать свою даму как ему заблагорассудится: хочет — Амарилис[112], хочет — Анардой, хочет — Хлорой, хочет — Филисой, хочет — Филидой, даже Хуаной Тельес — словом, как ему вздумается; спрашивать же с него в сем случае резонов воспрещается.
Item, повелеваю — всех поэтов, независимо от их чина и звания, почитать за дворян, ибо право на то дает им их благородное занятие, — ведь и так называемых подкидышей принято у нас почитать за христиан.
Item, да остерегутся поэты сочинять стихи в честь принцев и вельмож, понеже ни лесть, ни ласкательство не должны переступать порог моего дома, — таково мое желание и таково мое последнее слово.
Item, тот комический поэт, коему посчастливилось увидеть на сцене три свои комедии, имеет право бесплатно посещать театры и занимать стоячие места; по возможности же следует предоставлять ему бесплатно и сидячие.
Item, предупреждаю, что буде кто-либо из поэтов пожелает выдать в свет книгу своего сочинения, то пусть он не воображает, что, посвятив ее какому-либо монарху, тем самым он обеспечил ей успех, ибо если она плоха, то никакое посвящение ее не спасет, хотя бы она была посвящена настоятелю Гуадалупской обители.
Item, предупреждаю, что ни один поэт не должен стыдиться своего звания, ибо еслч он хорош, то он достоин похвалы, если же плох, то все равно найдутся такие, которые его похвалят, — было бы корыто, и т. д.
Item, все хорошие поэты могут располагать мной и всем, что ни есть на небе, по своему благоусмотрению; настоящим доводится до их сведения, что они вольны приписывать свойства моих лучевидных кудрей[113] волосам своей возлюбленной и уподоблять ее очи двум солнцам: таким образом, вместе со мной, их окажется три, и земля будет ярче освещена; звездами же, знаками Зодиака и планетами они могут пользоваться как им угодно, и так, незаметно для них самих, образуется новая небесная сфера.
Item, всякий поэт, которому собственные его стихи доказывают, что он поэт, волен чтить себя и глубоко уважать, согласно поговорке: дрянь тот, кто дрянью себя почитает.
Item, всем возвышенным поэтам воспрещается бродить по людным местам и читать свои стихи, ибо истинным питомцам вдохновения подобает читать их в афинских дворцах, а не на стогнах.
Item, матерям, у которых дети — шалуны и плаксы, особо рекомендуется пугать и стращать их новой букой, а именно: «Берегитесь, дети! Вон идет поэт Имярек! Своими скверными стихами он вас живо сбросит в тартарары».
Item, если в постный день поэт, сочиняя стихи, грыз ногти, то это отнюдь не значит, что он оскоромился.
Item, если кто-либо из поэтов слывет драчуном, хвастунишкой и забиякой, то пусть он на этом славном поприще сломит себе шею и да отлетит от него слава, которую он мог бы стяжать хорошими стихами.
Item, предупреждаю, что поэта, который присвоил чужой стих, за вора почитать не следует, а вот если он украл чужую мысль или целую строфу, тогда он прямой Как.
Item, всякий хороший поэт, — хотя бы он и не сочинил героической поэмы и не наводнил мировую сцену великим множеством произведений, — за то немногое, что им создано, может получить название божественного, подобно Гарсиласо де ла Вега[114], Франсиско де Фигероа, полководцу Франсиско де Альдана[115] и Эрнандо де Эррера[116].
Item, поэтам, пользующимся покровительством кого-либо из сильных мира сего, советую ходить к нему пореже, ничего не просить и всецело положиться на судьбу, ибо тот благодетель, который питает всех земляных и водяных червей, прокормит и поэта, будь он так же прожорлив, как червь.
Я прочитал вышеприведенный указ, переданный мне сеньором Панкрасьо де Ронсесвальес, и мы расстались друзьями, уговорившись в ответном послании сообщить господину Аполлону все столичные новости. Объявляю сие во всеобщее сведение, дабы все его приверженцы последовали нашему примеру.
Драматические произведения
К читателю
Не суди меня строго, дражайший читатель, если тебе покажется, что автору этого предисловия изменила обычная его скромность. На днях я встретился с друзьями, и у нас зашел разговор о комедиях и обо всем, что до них касается, причем собеседники мои разобрали их до тонкости и так разукрасили, что, казалось, прибавить тут нечего. Говорилось и о том, кто первый в Испании вынул их из пелен, облек в праздничный наряд и придал им пышности и блеску. Будучи старше всех в этом обществе, я вспомнил представления великого Лопе де Руэда[117], мужа, славившегося остротой своего ума и своею игрою на сцене. Этот уроженец Севильи, мастер-золотобой, умевший выделывать из золота тонкие листочки, дал изумительные образцы пасторальной поэзии — в этом его никто до сих пор не превзошел. Я был тогда еще совсем мальчик и мог ошибиться в оценке его стихов, но некоторые из них запечатлелись в моей памяти, и вот теперь, уже в зрелом возрасте, послушав их со сцены, я понял, что был прав. И если бы это не выходило за рамки предисловия, я привел бы здесь несколько примеров в доказательство верности моего суждения. Во времена этого славного испанца все театральное имущество помещалось в одном мешке и состояло примерно из четырех белых, обшитых золотом тулупов, четырех бород и париков и четырех посохов. Комедии представляли собою написанные в форме эклог диалоги между двумя или тремя пастухами и пастушкой. Сдабривали их и начиняли двумя или тремя интермедиями — то о негритянке, то о мошеннике, то о дураке, то о бискайце — этих четырех персонажей, как и многих других, упомянутый Лопе изображал превосходно и удивительно верно. В те времена театральной машинерии не существовало, пеших и конных поединков между маврами и христианами на сцене не устраивалось; не было люка, из которого, точно из преисподней, вылезал бы или делал вид, что вылезает, какой-нибудь персонаж, — сцену составляли образовывавшие квадрат четыре скамьи, на которые были настелены четыре или шесть досок, и она возвышалась над полом всего на четыре пяди; с неба не спускались тогда облака с ангелами и духами. Декорацией служило державшееся на двух веревках старое одеяло, отделявшее подмостки от того, что теперь именуется актерской уборной, и скрывавшее от публики хор, который без всякого аккомпанемента пел какой-нибудь старинный романс. Когда Лопе де Руэда скончался, его, как человека достойнейшего и знаменитого, похоронили в кордовском соборе (в Кордове он и умер), между хорами, где был похоронен и знаменитый безумец Луис Лопес[118].
На смену Лопе де Руэда пришел Наварро[119], уроженец Толедо, отлично игравший трусливых мошенников. Он несколько улучшил декорации и заменил мешок для костюмов сундуками и баулами; он вывел певцов, до того скрывавшихся за одеялом, на подмостки; упразднив бороды, — а прежде никто не играл без накладной бороды, — он добился того, что все актеры стали выходить на сцену без этого украшения, кроме тех, кто изображал стариков или же каких-либо других персонажей, требовавших от исполнителя изменения лица; он изобрел театральные машины, молнию, гром, облака, придумал, как устроить сражения и поединки; со всем тем ему не удалось поставить театр на ту высоту, на какой он находится ныне.
И вот здесь я поневоле должен поведать одну истину и выйти за пределы моей непритязательности; дело состоит в том, что в театрах Мадрида были играны Алжирские нравы, принадлежащие моему перу, а также Разрушение Нумансии и Морское сражение, где я осмелился свести комедию к трем действиям вместо прежних пяти[120]; я показал публике или, точнее, я первый олицетворил таимые в душе мечты и образы и вывел на сцену при восторженных и дружных рукоплесканиях зрителей аллегорические фигуры. В то время я написал комедий двадцать или тридцать, и ни одну из них зрители не потчевали ни огурцами, ни какими-либо другими метательными снарядами, — их представления не сопровождались ни свистом, ни криком, ни перебранкой. Но потом меня отвлекли другие дела, я отложил в сторону перо и комедии, и тогда появился чудо природы — великий Лопе де Вега и стал самодержцем в театральной империи. Он покорил и подчинил своей власти всех комедиантов и наполнил мир своими комедиями, счастливо задуманными, удачно исполненными и составляющими в общей сложности более десяти тысяч листов, и, что самое поразительное, он все их видел на сцене или, по крайней мере, знал, что все они ставились; те же, кто пытался соперничать с ним и разделить его славу, — а таких было много, — все вместе не написали и половины того, что написал он один.
Но если не за плодовитость, — ибо господь не всех одарил поровну, — то все же у нас до сих пор чтут доктора Рамона[121], кстати сказать, после великого Лопе самого плодовитого нашего автора; ценят у нас и в высшей степени тонкое искусство ведения интриги, коим отличается лиценциат Мигель Санчес[122], высокий дух, коим проникнуты творения доктора Мира де Мескуа[123], гордости нашего отечества, глубину и богатство мыслей в творениях каноника Тáррега[124], мягкость и нежность дона Гильена де Кастро[125], остроумие Агилара[126], пышность, живость, блеск и великолепие комедий Луиса Белеса де Гевара[127], изящное дарование дона Антоньо де Галарса[128], имя которого ныне у всех на устах, и многообещающие Плутни Амура Гаспара де Авила[129], — все эти авторы и некоторые другие помогли великому Лопе тащить эту огромную махину.
Несколько лет тому назад я вернулся к былой своей праздности и, полагая, что еще не прошла пора, когда меня восхваляли, снова стал сочинять комедии, однако новым птицам на старые гнезда не садиться. Я хочу сказать, что не нашлось ни одного директора театра, который попросил бы у меня комедий, хотя все знали, что они у меня есть, и тогда я запрятал их поглубже в сундук и предал вечному забвению. Вскоре, однако ж, некий книгоиздатель в разговоре со мной признался, что он купил бы их у меня, если бы директор одного привилегированного театра не сказал ему, что от прозы моей можно ожидать многого, от стихов же — ничего. Откровенно говоря, мне, конечно, больно было это услышать, и я подумал: «Или я стал другой, или времена изменились к лучшему, хотя обычно бывает наоборот, ибо всегда хвалят времена минувшие». Я пересмотрел свои комедии, а заодно и некоторые интермедии, погребенные мной вместе с ними, и нашел, что и те и другие не так уж плохи и, во всяком случае, достойны того, чтобы, выйдя из мрака, в который погружен разум упомянутого директора, выслушать о себе просвещенное мнение других, менее придирчивых и более сведущих. В конце концов мне все это надоело, и я продал их вышеупомянутому книгопродавцу, он же выпустил их в том виде, в каком я ныне их предлагаю твоему, читатель, вниманию. Он назначил мне за них умеренную плату, и я взял свои деньги, довольный уже тем, что мне не придется вступать в пререкания с актерами. Я хотел бы, чтобы эти мои сочинения были лучшими в мире или, по крайности, сносными. Ты сам их оценишь, читатель, и если найдешь в них хоть какие-нибудь достоинства, то при встрече с тем злоречивым директором скажи ему, чтобы он изменил свое мнение, ибо я ничей вкус не оскорбляю, и чтобы он обратил внимание на то, что в них нет явных и очевидных нелепостей, что стихотворная речь у меня такая, какая и должна быть в комедиях, что из трех стилей я пользуюсь лишь низким и что все персонажу моих интермедий выражаются так, как им свойственно выражаться в жизни. И еще передай ему, что, дабы убедить его окончательно, я представлю на его суд комедию под названием Обман для глаз, которую я теперь сочиняю и которая, если только она меня не обманывает, должна его удовлетворить. Засим да пошлет тебе господь здоровья, а мне терпения.
НУМАНСИЯ[130]
Трагедия в четырех актах в стихах
Действующие лица:
Римляне
Сципион.
Югурта.
Квинт Фабий.
Гай Марий.
Эрмилий.
Лимпий.
Солдат Гай.
Солдаты.
Нумансианцы
Теогéн.
Карабино.
Маркино.
Мильвио.
Марáндро.
Сервий, мальчик.
Воины.
Правители.
Послы.
Леонисьо.
Лира.
Мальчик, брат Лиры.
Жена и дети Теогена.
Вириáт, мальчик.
Жрецы.
Горожане.
Слуги.
Женщины и дети.
-----
Испания.
Река Дуэро с тремя притоками.
Война.
Болезнь.
Голод.
Слава.
Демон.
Труп в саване.
АКТ ПЕРВЫЙ
Входят Сципион, Югурта, Марий и Квинт Фабий, брат Сципиона, римляне.
С ц и п и о н
Ю г у р т а
С ц и п и о н
С ц и п и о н
М а р и й
С ц и п и о н
М а р и й
С ц и п и о н
Марий уходит.
Ю г у р т а
С ц и п и о н
За сценой передают после сигнала к сбору такой приказ:
Ю г у р т а
К этому времени подходит Гай Марий и с ним множество солдат в парадных доспехах, вооруженных на античный манер, т. е. без аркебузов (огнестрельного оружия). Сципион поднимается на высокий камень и говорит солдатам:
С ц и п и о н
Солдаты смотрят один на другого, делая знаки одному из своих товарищей, также носящему имя Гая Мария, который от лица всех говорит следующее:
М а р и й
С о л д а т ы
В с е
С ц и п и о н
Входит солдат.
С о л д а т
С ц и п и о н
С о л д а т
С ц и п и о н
С о л д а т
С ц и п и о н
П е р в ы й п о с о л
С ц и п и о н
П е р в ы й п о с о л
С ц и п и о н
В т о р о й п о с о л
С ц и п и о н
П е р в ы й п о с о л
С ц и п и о н
В т о р о й п о с о л
С ц и п и о н
В т о р о й п о с о л
Послы уходят, а брат Сципиона Квинт Фабий говорит:
К в и н т Ф а б и й
С ц и п и о н
Ф а б и й
С ц и п и о н
Выходит дева. На ней корона из башенок[137], а в руке модель замка. Эта дева изображает Испанию. Она говорит:
И с п а н и я
Выходит река Дуэро и три речки: их изображают три мальчика[142], одетые так, чтобы по одежде было видно, что это три притока, впадающие в Дуэро около города Сории, который в то время назывался Нумансия[143].
Д у э р о[144]
И с п а н и я
Д у э р о
И с п а н и я
Коней первого акта.
АКТ ВТОРОЙ
Теоген и Карабино с четырьмя другими нумансианцами, составляющими правительство Нумансии, и кудесник Маркино В дальнейшем действии Труп в саване. Идет заседание совета.
Т е о г е н
К а р а б и н о
П е р в ы й н у м а н с и а н е ц
В т о р о й н у м а н с и а н е ц
Т р е т и й н у м а н с и а н е ц
Ч е т в е р т ы й н у м а н с и а н е ц
М а р к и н о
Т е о г е н
К а р а б и н о
П е р в ы й н у м а н с и а н е ц
В т о р о й н у м а н с и а н е ц
Т р е т и й н у м а н с и а н е ц
Выходят два нумансианских воина — Марандро и Леонисьо.
Л е о н и с ь о
М а р а н д р о
Л е о н и с ь о
М а р а н д р о
Л е о н и с ь о
М а р а н д р о
Л е о н и с ь о
М а р а н д р о
Л е о н и с ь о
М а р а н д р о
Л е о н и с ь о
М а р а н д р о
А в них недоставать не может
Не разума, но остроты?
Л е о н и с ь о
М а р а н д р о
Л е о н и с ь о
Только что вошли два нумансианца в одеяниях древних жрецов. Они ведут за рога большого барана. Животное украшено ветвями оливы, плющом и цветами. За ними отроки: один с серебряным блюдом и полотенцем через плечо, другой несет кувшин с водой, третий — с вином; у четвертого в руках также серебряное блюдо, на котором лежат благовония; в руках у пятого — щепочки и зажженный фитиль. Еще один отрок ставит и накрывает скатертью стол, на который все это кладется. Между тем выходят в надлежащих одеяниях все действующие в пьесе нумансианцы. Из двух жрецов первый, выпуская барана, говорит:
П е р в ы й ж р е ц
В т о р о й ж р е ц
П е р в ы й ж р е ц
В т о р о й ж р е ц
П е р в ы й ж р е ц
В т о р о й ж р е ц
П е р в ы й ж р е ц
О д и н и з т о л п ы
В т о р о й ж р е ц
О д и н и з т о л п ы
П е р в ы й ж р е ц
В т о р о й ж р е ц
П е р в ы й ж р е ц
Кропят вином жертвенник и вокруг. В огонь бросают ладан, и второй жрец говорит:
В т о р о й ж р е ц
П е р в ы й ж р е ц
В т о р о й ж р е ц
П е р в ы й ж р е ц
Слышен шум; под сценой перекатывают бочку с камнями, а вверх пускают ракету.
В т о р о й ж р е ц
П е р в ы й ж р е ц
В т о р о й ж р е ц
В т о р о й ж р е ц
П е р в ы й ж р е ц
Вырывает несколько волосков у жертвенного барана и кидает их в воздух.
Из люка появляется Демон до половины тела и, стремительно схватив жертвенного барана, скрывается с ним, а затем сейчас же снова выскакивает, тушит и рассыпает пламя очага, разбрасывая все приготовленное для жертвоприношения.
П е р в ы й ж р е ц
В т о р о й ж р е ц
О д и н и з т о л п ы
Все расходятся; остаются лишь Марандро и Леонисьо.
М а р а н д р о
Л е о н и с ь о
М а р а н д р о
Л е о н и с ь о
Тут выходит Маркино в широкой черной бязевой хламиде, в черном головном уборе, но с голыми ногами; он будет нести в плетеном мешке три колбочки, наполненные водой. Одна из них черная, другая шафранного цвета, а третья прозрачная. В одной руке у него лакированное черное копье, в другой — книга. С ним идет Мильвио. Они постепенно приближаются к Леонисьо и Марандро.
М а р к и н о
М и л ь в и о
М а р к и н о
М и л ь в и о
М а р к и н о
М и л ь в и о
М а р к и н о
М и л ь в и о
М а р к и н о
(Омывает водой из прозрачной бутылки железный наконечник копья и тотчас же ударяет им по столу; тогда за сценой либо взрывают ракету, либо производят шум катанья бочки с камнями.)
(Окропляет водой гробницу, и та раскрывается.)
Показывается Труп, одетый в саван; вместо лица бледная, как лицо мертвеца, маска. Он выходит постепенно, а выйдя, падает на сцену и до поры до времени не движет ни рукой, ни ногой,
М а р к и н о
(Кропит тело золотой водою, постегивая его.)
(Он поворачивается, а тело сильно вздрагивает.)
Т р у п
(Бросается в гробницу и произносит еще следующее.)
М а р к и н о
М а р а н д р о
Л е о н и с ь о
М и л ь в и о
Конец второго акта.
АКТ ТРЕТИЙ
Сципион, Югурта и Гай Марий.
С ц и п и о н
При этих словах раздается трубный звук со стены Нумансии.
Ф а б и й
С ц и п и о н
На стене показывается Карабино с белым флагом на копье.
К а р а б и н о
М а р и й
К а р а б и н о
С ц и п и о н
К а р а б и н о
С ц и п и о н
К а р а б и н о
Карабино уходит за сцену и тотчас возвращается со всеми нумансианцами — теми, кто выходил на сцену в начале второй хорнады, за исключением Маркино, оставшегося в гробнице; Марандро тут.
Т е о г е н
К а р а б и н о
М а р а н д р о
Тут выходят не менее четырех нумансианок. С ними Лира. У женщин на руках фигуры детей, других они ведут рядом с собою, исключая Лиры, с которой никого нет.
П е р в а я ж е н щ и н а
В т о р а я ж е н щ и н а
Т р е т ь я ж е н щ и н а
Л и р а
Т е о г е н
К а р а б и н о
Т е о г е н
П е р в а я ж е н щ и н а
Л и р а
Все идут, а Марандро при выходе берет Лиру за руку и держит.
М а р а н д р о
Л и р а
М а р а н д р о
О солнце дней моих! Ужели…
Л и р а
М а р а н д р о
Л и р а
М а р а н д р о
Л и р а
М а р а н д р о
Л и р а
Леоиисьо видел и слышал все происходившее между другом его Марандро и Лирой.
Л е о н и с ь о
М а р а н д р о
Л е о н и с ь о
М а р а н д р о
Л е о н и с ь о
М а р а н д р о
Л е о н и с ь о
Марандро и Леонисьо уходят; входят два нумансианца.
П е р в ы й
В т о р о й
В одну дверь входят, а через другую выходят несколько человек со свертками носильного платья.
Проходит женщина; один ребенок у нее на руках, другого она ведет за руку.
М а т ь
С ы н
М а т ь
С ы н
М а т ь
С ы н
М а т ь
С ы н
М а т ь
С ы н
М а т ь
Женщина с ребенком уходит, два нумансианца остаются.
В т о р о й
П е р в ы й
Уходят.
Конец третьего акта.
АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ
В лагере тревога. На шум выходят Сципион, Югурта и Гай Марий.
С ц и п и о н
Выходит с обнаженной шпагой Квинт Фабий и говорит:
К в и н т Ф а б и й
С ц и п и о н
Сципион со своими уходит; тогда суматоха начинается в городе. Показывается Марандро, весь истекающий кровью; в левой руке у него белая корзинка, в которой лежит несколько окровавленных сухарей. Он говорит:
М а р а н д р о
Выходит Лира с охапкой платья, которое она несет, чтобы сжечь на костре.
Л и р а
М а р а н д р о
Л и р а
М а р а н д р о
Падает мертвым, а Лира кладет его к себе на колени.
Л и р а
В это время входит на сцену мальчик; он слабо бормочет. Эго брат Лиры.
Б р а т Л и р ы
Л и р а
В этот момент показывается бегущая женщина, которую преследует солдат-нумансианец с кинжалом в руке. Он хочет ее убить.
Ж е н щ и н а
С о л д а т
Л и р а
С о л д а т
Л и р а
С о л д а т
Л и р а
С о л д а т
Они уносят тела. Выходит с копьем и щитом в руке женщина, изображающая Войну и ведущая за собой Болезнь и Голод. Болезнь опирается на костыль; голова у нее обвязана, лицо закрыто желтой маской. Голод выходит тощий как смерть, в одеянии из желтой бязи и в пепельно-бледной маске.
В о й н а
Б о л е з н ь
Г о л о д
В о й н а
Уходят.
Выходит Теоген с двумя мальчиками и девочкой. С ним жена.
Т е о г е н
Ж е н а
Т е о г е н
С ы н
Ж е н а
Они уходят, и выбегают два мальчика, из которых один впоследствии бросится с башни вниз.
М а л ь ч и к
С е р в и й
М а л ь ч и к
С е р в и й
М а л ь ч и к
С е р в и й
М а л ь ч и к
С е р в и й
М а л ь ч и к
Уходит, а выходит Теоген, с двумя обнаженными мечами и окровавленными руками. Сервий, как только его заметил, сейчас же убегает за кулисы.
Т е о г е н
Н у м а н с и а н е ц
Т е о г е н
Н у м а н с и а н е ц
Т е о г е н
Уходят.
Сципион, Югурта, Квинт Фабий, Гай Марий; с ними несколько римских солдат
С ц и п и о н
М а р и й
С ц и п и о н
М а р и й
Э р м и л и й
М а р и й
С ц и п и о н
М а р и й
Ю г у р т а
М а р и й
С ц и п и о н
М а р и й
С ц и п и о н
Ю г у р т а
Югурта прыгает в город, а Квинт Фабий говорит:
Ф а б и й
С ц и п и о н
Гай Марий возвращается, соскакивая со стены. Он говорит:
М а р и й
С ц и п и о н
Ф а б и й
Югурта возвращается с той же стены.
Ю г у р т а
С ц и п и о н
В и р и а т
С ц и п и о н
В и р и а т
Ф а б и й
С ц и п и о н
В и р и а т
Вириат бросается с башни, а Сципион говорит:
С ц и п и о н
При звуках трубы выходит в белом одеянии Слава.
С л а в а
ИНТЕРМЕДИИ[163]
Саламанкская пещера[164]
Лица:
Панкрасьо.
Леонарда, его жена.
Кристина, горничная,
Сакристан[165] Репонсе.
Николас Роке, цирюльник.
Студент.
Леонисьо, кум Панкрасьо.
Сцена первая
Комната в доме Панкрасьо.
Входят Панкрасьо, Леонарда и Кристина.
П а н к р а с ь о. Осушите слезы, сеньора, и прервите вздохи! Подумайте! Четыре дня отсутствия - ведь не вечность. Я возвращусь, уж самое большее, на пятый день, если, бог даст, не умру. Хотя, конечно, будет лучше не расстраивать вас, нарушить обещание и оставить эту поездку, потому что сестра может выйти замуж и без меня.
Л е о н а р д а. Не хочу, Панкрасьо, муж и сеньор мой, чтобы из угожденья мне вы сделали невежливость. Отправляйтесь в час добрый и исполняйте ваши обязанности, их нельзя нарушать; а уж я перемаюсь со своим горем и скоротаю как-нибудь одиночество. Об одном прошу: возвращайтесь и не оставайтесь долее назначенного вами срока. Держи меня, Кристина, у меня замирает сердце! (Падает в обморок.)
К р и с т и н а. Ох, уж эти мне свадьбы и праздники! Ну, сеньор, по правде вам сказать, если бы я была на месте вашей милости, ни за что бы я не поехала.
П а н к р а с ь о. Поди-ка, дитя мое, принеси стакан воды; надо плеснуть ей в лицо; или нет, постой, я скажу ей на ухо словечко, которое женщин в чувство приводит. (Шепчет какие-то слова, Леонарда приходит в чувство.)
Л е о н а р д а. Довольно; нужно быть твердой! В самом деле, должны же мы иметь терпение, радость моя! Чем более вы здесь медлите, тем более отдаляете мое благополучие. Ваш кум, Леонисьо, должно быть, уже ждет вас в карете; идите с богом, и пусть он возвратит вас так скоро и в таком добром здоровье, как я того желаю.
П а н к р а с ь о. Мой ангел, если хочешь, чтобы я остался, я не двинусь с места, как статуя.
Л е о н а р д а. Нет, нет, опора моя: мои желания - это ваши желания; и теперь для меня лучше, чтобы вы ехали, чем оставались, потому что ваша честь моя честь.
К р и с т и н а. Образцовые супруги! По правде, если б все жены любили своих мужей так, как моя сеньора Леонарда любит своего, так было бы для них лучше, другая бы музыка была.
Л е о н а р д а. Поди, Кристина, принеси мне манто: я хочу проводить твоего господина и дождаться, пока он сядет в карету.
П а н к р а с ь о. О нет, ради любви моей! Обними меня и оставайся. Ну, ради жизни моей! Кристиночка, старайся развлекать свою сеньору; я, когда возвращусь, подарю тебе башмаки, какие ты желала.
К р и с т и н а. Поезжайте, сеньор, и не беспокойтесь о моей сеньоре; я надеюсь уговорить ее; мы повеселимся так, что ей в голову не придет, что вашей милости нет дома.
Л е о н а р д а. Мне веселиться? Хорошо же ты меня знаешь, глупенькая! Нет!
П а н к р а с ь о. Наконец я не могу выносить этого. Будь покойна, свет очей моих, и не видать этим глазам никакой радости вплоть до моего возвращения и свидания с тобой. (Уходит.)
Л е о н а р д а. О, чтоб провалиться тебе в преисподнюю, лазутчику! Убирайся, и век бы тебя не видать! Выжига! Нет, уж, клянусь богом, на этот раз не помогут тебе ни твоя премудрость, ни твои хитрости.
К р и с т и н а. Я тысячу раз дрожала от страха, что ты своими необыкновенными чувствами остановишь его и помешаешь нашим удовольствиям.[166]
Л е о н а р д а. А придут нынче ночью те, кого ждем-то?
К р и с т и н а. Еще бы не прийти! Я им весточку послала, и они так хорошо ее приняли, что сегодня вечером с нашей доверенной прачкой прислали нам целую корзинку с подарками и съестным; та и протащила ее, как будто с бельем. Эта корзинка похожа на те, которые посылает король в великий четверг своим бедным или скорее уж на пасхальную, потому что там и пироги, и холодное жаркое, и куриная грудинка с рисом, и два каплуна, еще не ощипанные, и всякие фрукты, какие в эту пору водятся, да кроме того, бурдючок вина, побольше полпуда весом, и такого крепкого, что так в нос и бьет.
Л е о н а р д а. Это очень учтиво, да он и всегда был таков, мой Репонсе сакристан моего существа.
К р и с т и н а. А чего же не хватает моему мастеру Николасу? Он тоже цирюльник всего моего существа и бритва моих печалей! Как только я его увижу, так он у меня всякое горе обстригает, как будто ничего и не бывало.
Л е о н а р д а. Ты спрятала корзину-то?
К р и с т и н а. Она у меня в кухне стоит, покрыта мешком из-под золы, чтобы не заметили.
Стучат в дверь, потом, не дождавшись ответа на свой стук, входит студент.
Л е о н а р д а. Кристина, посмотри, кто там стучит.
С т у д е н т. Сеньоры, это я, бедный студент.
К р и с т и н а. Это сейчас видно, что вы и бедный, и студент; что вы студент, видно по вашему платью, а что вы бедный - по вашей дерзости. Только вот это странно, что бедный не дожидается за дверью, пока ему вынесут милостыню, а врывается в дом до самого последнего угла, не рассуждая, беспокоит ли он спящих или нет.
С т у д е н т. Другого, более мягкого приема ждал я от вашей милости; я никакого подаяния не прошу и не ищу, кроме конюшни или сарая с соломой, чтобы на эту ночь укрыться от немилостей неба, которое, как, я предчувствую, хочет показать земле всю свою свирепость.
Л е о н а р д а. Откуда вы, милый друг?
С т у д е н т. Я саламанкинец, сеньора моя, то есть я хочу сказать, что я из Саламанки. Я ходил в Рим с дядей, и он умер на дороге, в середине Франции. Тогда я пошел один; я решился возвратиться в свою землю. В Каталонии меня ограбили слуги или товарищи Роке Гинaрде[167]. Сам он был в отсутствии, а будь он там, он не позволил бы обидеть меня, потому что он очень учтив, честен и даже милостив. Теперь застала меня ночь у ваших святых дверей; я такими их считаю и прошу помощи.
Л е о н а р д а. Кристина, право, этот студент возбуждает во мне сострадание.
К р и с т и н а. Да и меня уж берет за сердце. Оставим его ночевать у нас; от излишков замка можно прокормить целый полк, говорит пословица; я хочу сказать, что остатками нашей провизии он может утолить свой голод, и, сверх того, он поможет мне щипать живность, которая в корзине.
Л е о н а р д а. Однако как же это, Кристина? Ты хочешь, чтобы у нас в доме были свидетели нашего легкомысленного поведения?
К р и с т и н а. Ну, кажется, от него слова-то, как от рыбы, не скоро дождешься. Подите сюда, друг мой! Умеете вы щипать?
С т у д е н т. Как это - "умею щипать"? Я не понимаю, что значит "щипать". Мне кажется, ваша милость хочет посмеяться над моей ощипанностью. Так уж это зачем же? Я и сам признаюсь, что я величайший оборванец в мире.
К р и с т и н а. Нет, совсем не то, по душе вам говорю; я хотела только знать, сумеете ли вы ощипать две или три пары каплунов.
С т у д е н т. На это, сеньоры, я могу вам ответить, что я, по милости божией, имею ученую степень бакалавра Саламанки; я не говорю, чтобы...
Л е о н а р д а. Да, коли так, кто же может сомневаться, что вы сумеете ощипать не только каплунов, но и гусей и дроф! А хранить тайну - как вы насчет этого? Не нападает ли на вас искушение рассказывать то, что вы видите, предполагаете или думаете?
С т у д е н т. Вы можете пред моими глазами перебить людей побольше, чем баранов на бойне, и я все-таки не раскрою губ, чтобы проронить хоть одно слово.
К р и с т и н а. Итак, зажмите ваш рот, привяжите шнурком ваш язык, навострите ваши зубы и пойдемте с нами, и вы увидите тайны и будете есть чудеса, и можете потом на соломе протянуть ноги во всю длину постели.
С т у д е н т. Это ровно в семь раз больше того, что мне нужно; я не жадный человек и не избалован.
Входят сакристан Репонсе и цирюльник.
С а к р и с т а н. Да будут благословенны антомедоны[168] и кондукторы повозок наших удовольствий, лучи в наших потемках, и две взаимные склонности, которые служат базами и колоннами любовной фабрики наших пожеланий.
Л е о н а р д а. Ведь вот только это и противно в тебе, Репонсе: говори ты, как все говорят, чтоб тебя понять можно было, и не заносись ты так высоко, что тебя не достанешь.
Ц и р ю л ь н и к. Вот у меня это дело идет настоящим порядком; моя речь льется гладко, как подошвы у башмака: хлеб вместо вина, и вино вместо хлеба, или вообще как следует выражаться...
С а к р и с т а н. Да, но только в том и разница между сакристаном-грамматиком и цирюльником-романсистом[169].
К р и с т и н а. Для того, что мне нужно от моего цирюльника, он знает по-латыни очень довольно и даже больше, чем у Антоньо де Небриха[170] вычитать можно; да и нечего теперь спорить ни о науках, ни об уменье говорить; пусть каждый говорит если не по-ученому, то как умеет; и пойдемте, примемся за работу, нам еще много нужно сделать.
С т у д е н т. И много щипать.
С а к р и с т а н. Кто это, этот добрый человек?
Л е о н а р д а. Бедный студент саламанкский; он просит пристанища на эту ночь.
С а к р и с т а н (вынимая деньги). Я дам ему два реала на ужин и ночлег, и пусть идет с богом.
С т у д е н т (принимая деньги). Сеньор сакристан Репонсе, принимаю и благодарю вас за милость и милостыню. Но я молчалив и сверх того беден, что и нужно для этой сеньоры девицы, у которой я в гостях; и я клянусь, что... что уж в эту ночь не уйду из этого дома, хотя бы даже весь свет меня гнал. Ваша милость, доверьтесь каторжному человеку моего пошиба, который довольствуется ночлегом на соломе. Что же касается до ваших каплунов, то пусть их щиплет турка, и подавиться бы вам ими.
Ц и р ю л ь н и к. Мне кажется, он больше мошенник, чем бедняк. У него такой вид, как будто собирается поднять весь дом вверх дном.
К р и с т и н а. Что бы там ни было, а эта смелость мне нравится; пойдемте все и по порядку примемся за дело; бедняк будет щипать и будет молчать, как за обедней.
С т у д е н т. Уж верней сказать: как за всенощной.
С а к р и с т а н. Этот студент меня пугает; я бьюсь об заклад, что он знает по-латыни больше меня.
Л е о н а р д а. Оттого-то он, должно быть, такой и смелый. Но не раскаивайся, мой друг, в своей благотворительности, потому что это во всяком случае, дело хорошее.
Уходят все.
Сцена вторая
На улице.
Входят Панкоасьо и кум его Леонисьо.
К у м. Я сейчас же заметил, что колесо у нас сломается. Но извозчики все без исключения народ упрямый; если бы он поехал в объезд, а не прямо через этот овраг, мы были бы за две мили отсюда.
П а н к р а с ь о. Для меня эта беда не большая; мне гораздо приятнее возвратиться и провести эту ночь с моей женой Леонардой, чем на постоялом дворе. Ведь она, несчастная, чуть не умерла сегодня вечером от горя, что я уезжаю.
К у м. Великая женщина! Наградило вас небо, сеньор кум. Благодарите его за жену.
П а н к р а с ь о. И то благодарю, как умею; но, конечно, меньше того, чем бы должен: никакая Лукреция ей не под стать; ни одна Порция с ней не сравнится[171]: честность и любовь к уединению так и живут в ее душе.
К у м. Ну, и моя, если б не была ревнива, так и мне лучше не надо. Мне по этой улице ближе к дому, а вы тут идите, по этой, и мигом будете дома. Завтра увидимся; за экипажем дело не станет. Прощайте!
П а н к р а с ь о. Прощайте.
Уходят.
Сцена третья
В доме Панкрасьо.
Входят сакристан и цирюльник (с гитарами), Леонарда, Кристина и студент. Сакристан, подобравши сутану и завязавши концы пол кругом пояса, пляшет под звуки своей гитары и при каждом скачке припевает.
С а к р и с т а н. Отличная ночка, отличная пирушка, отличный ужин и отличная любовь!
К р и с т и н а. Сеньор сакристан Репонсе, теперь не время танцевать; садитесь честь-честью ужинать и заниматься разговорами и отложите танцы до более удобного времени.
С а к р и с т а н. Отличная ночка, отличная пирушка, отличный ужин и отличная любовь!
Л е о н а р д а. Оставь его, Кристина, мне очень приятно видеть его веселым.
Стук в дверь и голос Панкрасьо.
П а н к р а с ь о. Сонный народ! Не слышите, что ли? Зачем так рано заперли двери? Вот до чего доходит скромность моей Леонарды!
Л е о н а р д а. Ах, я несчастная! По голосу и по стуку это мой муж Панкрасьо; с ним что-нибудь случилось, вот он и воротился. Сеньоры, скрывайтесь в угольницу, то есть в чулан, где у нас уголь. Беги, Кристина, проводи их, а я удержу Панкрасьо, сколько будет нужно.
С т у д е н т. Скверная ночь, дрянная пирушка, плохой ужин и еще хуже любовь!
К р и с т и н а. Как снег на голову! Пойдемте, пойдемте все.
П а н к р а с ь о. Что там за черт такой! Да что ж вы не отпираете, сони?
С т у д е н т. Вот что: я не хочу быть заодно с этими сеньорами; пусть прячутся, где хотят, я пойду на солому; хоть там меня и найдут, все-таки примут за бедного, а не за любовника.
К р и с т и н а. Пойдемте, а то он так стучит, что того гляди расколотит дом.
С а к р и с т а н. У меня душа в зубах трепещется.
Ц и р ю л ь н и к. А у меня ударилась в пятки.
Все уходят, остается Леонарда одна.
Л е о н а р д а. Кто там? Кто стучит?
П а н к р а с ь о. Твой муж, Леонарда моя. Отопри, уж я полчаса колочу в двери.
Л е о н а р д а. По голосу-то мне кажется, как будто это мой чурбан Панкрасьо; но ведь голоса-то - что у того, что у другого петуха - все похожие; не могу сказать наверное...
П а н к р а с ь о. Вот умная-то жена! Какая необыкновенная осторожность! Это я, жизнь моя, твой муж, Панкрасьо; отпирай, не сомневайся.
Л е о н а р д а. Подите-ка сюда; вот я посмотрю. Что я делала, когда муж уезжал сегодня вечером?
П а н к р а с ь о. Вздыхала, плакала и, наконец, упала в обморок.
Л е о н а р д а. Правда. Но все-таки скажите мне еще: какие у меня знаки на плече, и на каком?
П а н к р а с ь о. На левом родимое пятно величиной в полреала, с тремя волосками, как три золотые ниточки.
Л е о н а р д а. Правда. А как зовут девушку-служанку в доме?
П а н к р а с ь о. Ах, дурочка, довольно, надоела! Кристиночкой ее зовут; ну, что тебе еще?
Л е о н а р д а. Кристиночка, Кристиночка, это твой сеньор; отопри, дитя мое.
К р и с т и н а. Иду, сеньора. Ну, вот, чего же лучше! (Отпирая.) Что это, сеньор мой? Что это вы сегодня так скоро вернулись?
Л е о н а р д а. Ах, блаженство мое! Говорите скорей! Я так боюсь, не случилось ли какой беды с вами, что у меня все жилы болят.
П а н к р а с ь о. Ничего такого не случилось. Только в одном овраге сломалось колесо у кареты, и мы с кумом решили возвратиться, чтобы не ночевать в поле. Завтра утром мы сыщем подводу, потому что время еще не ушло. Что это за крики?
Издали слышится голос студента.
С т у д е н т (за сценой) . Выпустите меня, сеньоры, я задыхаюсь!
П а н к р а с ь о. Это в доме или на улице?
К р и с т и н а. Ну, убейте меня, если это не бедный студент, которого я заперла в чулане, чтобы он там переночевал эту ночь.
П а н к р а с ь о. Студент заперт у меня в доме и в мое отсутствие? Нехорошо! Сеньора, если б я не был так уверен в вашей добродетели, то это прятанье возбудило бы во мне некоторое подозрение. Однако ж поди выпусти его. Должно быть, там вся солома на него повалилась.
К р и с т и н а. Я иду. (Уходит.)
Л е о н а р д а. Сеньор, это бедный саламанкинец: он просил Христа ради пустить его переночевать эту ночь хоть на соломе. Вы знаете мой характер, я ни в чем не могу отказать, коли меня просят; ну, мы пустили и заперли его. Вот он, посмотрите, в каком он виде!
Входят Кристина и студент; у него в бороде, в волосах и на платье солома.
С т у д е н т. Вот если б я не боялся и не был так совестлив, я бы не подвергал себя опасности задохнуться в соломе; я бы хорошо поужинал и имел бы более мягкую и менее опасную постель.
П а н к р а с ь о. А кто ж бы вам дал, мой друг, лучший ужин и лучшую постель?
С т у д е н т. Кто? Искусство мое; только бы страх суда не вязал мне руки.
П а н к р а с ь о. Значит, ваше искусство опасное, коли оно суда боится.
С т у д е н т. Знания, которые я приобрел в пещере Саламанкской (я родом из Саламанки), если только употребить их в дело и не боясь святой инквизиции, таковы, что я всегда могу ужинать и пировать на счет моих наследников, то есть даром. И я не прочь употребить их в дело, по крайней мере на этот раз, когда необходимость меня к тому принуждает и, следовательно, оправдывает. Но я не знаю, умеют ли эти сеньоры молчать, как я умею.
П а н к р а с ь о. Не заботьтесь об них, друг мой. Делайте, что вам угодно; я заставлю их молчать. Я желаю от всего сердца видеть что-нибудь из тех диковин, которым, как говорят, обучаются в пещере Саламанкской.
С т у д е н т. Будет ли довольна ваша милость, если я прикажу двум дьяволам, в человеческом виде, принести сюда корзину с холодным кушаньем и прочим съестным?
Л е о н а р д а. Дьяволы в моем доме, в моем присутствии? Боже, спаси меня от напасти, от которой сама спастись не умею!
К р и с т и н а. Сам черт сидит в этом студенте. Дай бог, чтоб эта проделка добром кончилась! У меня сердце в груди замирает.
П а н к р а с ь о. Ну, хорошо; если только это не опасно и не ужасно, я очень желаю видеть сеньоров дьяволов и корзину с холодным кушаньем. Но я вам повторяю: чтоб вид их не был ужасен.
С т у д е н т. Они покажутся в виде сакристана приходской церкви и цирюльника, его друга.
К р и с т и н а. Что он там толкует о сакристане Репонсе и о господине Роке, нашем домашнем цирюльнике? Несчастные, они должны превратиться в дьяволов! Скажите мне, родной мой, это будут дьяволы крещеные?
С т у д е н т. Вот новость! Когда ж дьявол бывает крещеным дьяволом? Да и зачем крестить дьяволов? А может быть, эти и крещеные, потому что не бывает правила без исключения. Посторонитесь, и увидите чудеса.
Л е о н а р д а. Ах, я несчастная! Теперь все пропало; все наше плутовство откроется. Я умираю.
К р и с т и н а. Смелей, сеньора! Смелый из воды сух вылезет.
С т у д е н т
А! Теперь я знаю, как мне вести себя с этими воплощенными дьяволами. Я пойду к ним и наедине поговорю с ними, да так крепко, что они мигом выскочат; свойство этих дьяволов таково, что их убедишь скорее разумными советами, чем заклинаниями. (Уходит.)
П а н к р а с ь о. Вот что я вам скажу! Если все выйдет так, как он говорит, так это будет такая новая и такая диковинная штука, каких еще на свете не видано.
Л е о н а р д а. Да, конечно, выйдет. Какое сомненье! Что ему нас обманывать!
К р и с т и н а (прислушиваясь) . Там возня поднимается. Бьюсь об заклад, что это он их гонит. Да вот он с дьяволами, и целая кладовая в корзине.
Входят студент, за ним сакристан и цирюльник несут корзину.
Л е о н а р д а. Господи Иисусе! Как они похожи на сакристана Репонсе и цирюльника с площади.
К р и с т и н а. Смотрите, сеньора, при дьяволах не говорят: "господи Иисусе!"
С а к р и с т а н. Говорите что угодно: мы, как собаки у кузнеца, которые преспокойно спят под шум молотков; нас уж ничто не испугает, не возмутит.
Л е о н а р д а. Подойдите поближе, я хочу попробовать то, что в корзине. И вы тоже возьмите что-нибудь.
С т у д е н т. Я во славу божию отведаю и начну отведыванье с вина. (Пьет.) Хорошо. Это эскивийское, сеньор ваше дьявольство?
С а к р и с т а н. Эскивийское, клянусь вам...
С т у д е н т. Довольно, черт вас возьми, не продолжайте! Я хорошо знаком с дьявольскими клятвами. Дьявольство дьявольством, а все-таки мы пришли сюда не за тем, чтобы творить смертные грехи, а только приятно провести время час-другой, поужинать и отправиться со Христом.
К р и с т и н а. И они будут ужинать с нами?
П а н к р а с ь о. Э, что ты! Дьяволы не едят.
Ц и р ю л ь н и к. Ну, некоторые едят; конечно, не все; но мы из тех, которые едят.
К р и с т и н а. Ах, сеньоры, оставьте здесь этих бедных дьяволов; они нам ужинать принесли; это будет не очень учтиво, если мы отпустим их умирать с голоду. Они, как кажется, дьяволы очень честные и очень порядочные люди.
Л е о н а р д а. Они нас не пугают; так, если моему мужу угодно, пусть остаются на здоровье.
П а н к р а с ь о. Пусть остаются; я хочу видеть, чего сроду не видел.
Ц и р ю л ь н и к. Господь вам заплатит за ваше доброе дело, сеньоры мои.
К р и с т и н а. Ах, какие образованные, какие учтивые! Клянусь вам, если все дьяволы точно такие, так с этих пор они станут моими друзьями.
С а к р и с т а н. А вот слушайте, так, может быть, вы их и вправду полюбите. (Играет на гитаре и поет.)
Ц и р ю л ь н и к
С а к р и с т а н
Ц и р ю л ь н и к
С а к р и с т а н
Ц и р ю л ь н и к
С а к р и с т а н
Ц и р ю л ь н и к
С а к р и с т а н
Ц и р ю л ь н и к
К р и с т и н а. Довольно! Мы видим, что и дьяволы поэты.
Ц и р ю л ь н и к. И все поэты дьяволы.
П а н к р а с ь о. Скажите мне, сеньор мой, - дьяволы все знают, - где изобретены все эти танцы: сарабанда, самбапало и особенно знаменитый новый эскарраман[174]?
Ц и р ю л ь н и к. Где? В аду; там они имеют свое начало и происхождение.
П а н к р а с ь о. Да, я этому верю.
Л е о н а р д а. Признаюсь, я сама немножко помешана на эскаррамане, но из скромности и из уважения к положению, в котором нахожусь, не осмеливаюсь танцевать.
С а к р и с т а н. Если я буду вашей милости показывать по четыре тура в день, то в неделю вы будете неподражаемой танцовщицей; вам для этого очень немногого недостает.
С т у д е н т. Все это придет со временем; а теперь пойдемте ужинать; это дело отлагательства не терпит.
П а н к р а с ь о. Пойдемте. Я желаю увериться, едят дьяволы или нет, а также во многом другом, что говорят про них; и, ради бога, чтобы не уходили они из моего дома, пока не передадут мне науки и всех знаний, которым учатся в пещере Саламанкской.
Теaтр чудес
Лица:
Чанфалья Монтьель.
Чиринос.
Карапузик-музыкант.
Лиценциат Гомесильос, гобернадор[175].
Бенито Репольо, алькальд.
Тереса, его дочь.
Хуан Кастрадо, рехидор.
Хуана, его дочь.
Педро Капачо, письмоводитель.
Репольо, племянник алькальда.
Фурьер.
Жители местечка без речей.
Сцена первая
Улица.
Входят Чанфалья и Чиринос.
Ч а н ф а л ь я. Чиринос, не выпускай из памяти моих наставлений, в особенности относительно новой проделки; нужно, чтоб она удалась нам на славу.
Ч и р и н о с. Знаменитый Чанфалья, все мои способности в твоем распоряжении: и моя память, и рассудок, и, сверх того, желание сделать тебе угодное превосходит границы возможного. Но скажи мне, зачем нам этот Карапузик, которого мы наняли? Разве мы вдвоем с тобой не можем исполнить нашего предприятия?
Ч а н ф а л ь я. Он нам необходим, как насущный хлеб, чтобы играть в промежутках между выходами фигур в нашем представлении чудес.
Ч и р и н о с. Нет, вот чудо-то будет, если нас не побьют камнями за этого Карапузика[176]; потому что такого несчастного недоноска я во всю свою жизнь не видывала.
Входит Карапузик.
К а р а п у з и к. Будет мне какое-нибудь дело в этом городе, сеньор директор? Я готов умереть, чтобы ваша милость видели, что я вам не в тягость.
Ч и р и н о с. Четверых таких мальчиков, как ты, можно в горсть взять, так уж какая тут тягость! Если ты так же велик в музыке, как ростом, так будем мы в барышах.
К а р а п у з и к. А вот это как вам покажется: мне было сделано письменное предложение войти в долю в одной компании, нужды нет, что я мал.
Ч а н ф а л ь я. Если будут мерять твою долю по твоему росту, так тебе достанется такая малость, которую и разделить нельзя. Чиринос, вот мы мало-помалу добрались до городка; и те господа, которые идут к нам, без сомнения, должны быть гобернадор и алькальды. Пойдем им навстречу. Наточи свой язык на камне лести, только смотри, не переточи.
Входят гобернадор, Бенито Репольо - алькальд, Хуан Кастрадо - рехидор и Педро Капачо - письмоводитель.
Целую руки ваших милостей. Кто из ваших милостей гобернадор этого местечка?
Г о б е р н а д о р. Я гобернадор. Что вам угодно, добрый человек?
Ч а н ф а л ь я. Если б у меня было только две унции смысла, и то я сейчас же должен был бы догадаться, что этот перипатетический[177], пространный и торжественный выход не может принадлежать никому другому, кроме достойнейшего гобернадора этого города, который вы, ваша милость, скоро покинете, заняв должность наместника целой области.
Ч и р и н о с. Да, клянусь жизнью сеньоры и маленьких сеньоров, если сеньор гобернадор их имеет.
К а п а ч о. Не женат сеньор гобернадор.
Ч и р и н о с. Ну, когда будут; от моих слов убытка нет.
Г о б е р н а д о р. Ну, чего же вы хотите, честный человек?
Ч и р и н о с. Много честных дней желаем вашей милости за оказанную нам честь: наконец, дуб дает желуди, груша - груши, виноградные лозы - кисти, от честного человека - честь, иначе и быть не может.
Б е н и т о. Цицерониаское выражение, ни прибавить, ни убавить нечего.
К а п а ч о. "Цицероновское" - хочешь сказать, сеньор алькальд Бенито Репольо.
Б е н и т о. Да, я всегда хочу сказать как можно лучше, но по большей части это у меня не выходит. Наконец, добрый человек, что вам угодно?
Ч а н ф а л ь я. Я, сеньоры мои, Монтьель - содержатель театра чудес. Меня вызвали из столицы сеньоры госпитального братства[178]; у них нет ни одного содержателя театра, а они умирают от желания иметь театр; с моим прибытием все дело поправится.
Г о б е р н а д о р. А что это значит: театр чудес?
Ч а н ф а л ь я. От чудесных вещей, которые на этом театре изъясняются и показываются, произошло и название театра чудес. Этот театр изобрел и устроил мудрец Дурачина, под такими параллелями, румбами, звездами и созвездиями, с такими условиями, особенностями и соблюдениями, что чудес, которые на нем представляют, не может видеть ни один из тех, которые имеют в крови хоть какую-нибудь примесь от перекрещенцев[179] или которые родились и произошли от своих родителей не в законном браке. И кто заражен этими двумя столь обыкновенными недостатками, тот лучше откажись видеть никогда невиданные и неслыханные представления моего театра.
Б е н и т о. Вот, извольте видеть, каждый день какие-нибудь новости являются на белом свете. А этот мудрец назван Дурачиной оттого, что он театр изобрел?
Ч и р и н о с. Дурачиной он назван потому, что родился в городе Дураково поле. Про него идет молва, что у него борода была по пояс.
Б е н и т о. Люди с большими бородами по большей части мудреные.
Г о б е р н а д о р. Сеньор рехидор Хуан Кастрадо, с вашего позволения, я полагаю, что сегодня вечером выходит замуж сеньора Тереса Кастрада, ваша дочь, которой я довожусь крестным отцом. Для увеселения на этом празднике я желаю, чтобы сеньор Монтьель дал в вашем доме свое представление.
Х у а н. Я всегда готов к услугам сеньора гобернадора, с мнением которого я соглашаюсь, которое утверждаю и к которому присоединяюсь, и ничего против не имею.
Ч и р и н о с. Вот что имеется против: если нам за наш труд не будет вперед заплачено, то мы с нашими фигурами останемся, как раки на мели. Ваши милости, сеньоры судьи, есть ли в вас совесть и душа? Куда как хорошо это будет: сегодня вечером весь ваш городок сберется в дом сеньора Хуана Кастрадо, или как там зовут его милость, да и удовольствуется этим спектаклем; а завтра, когда мы захотим дать представление для народа, так не явится ни одной живой души. Нет, сеньоры, ante omnia[180] пусть нам заплатят, что следует.
Б е н и т о. Сеньора директорша, здесь нет никакой Антонии[181], никакого Антония, чтобы заплатить вам. Сеньор рехидор Хуан Кастрадо заплатит вам более чем честно; а если не он, так общинный совет. Его знают здесь хорошо. Здесь, родная моя, мы не дожидаемся, пока какая-нибудь Антония заплатит за нас.
К а п а ч о. Ах, грехи тяжкие! Опять вы, сеньор Бенито Репольо, не туда попали. Сеньора директорша не говорит, чтобы ей платила какая-то Антония, а только чтоб заплатили ей немедленно, прежде всего; это и значит ante omnia .
Б е н и т о. Ну так, письмоводитель Педро Капачо, заставьте, чтоб со мной разговаривали начистоту, тогда я пойму все без сучка и задоринки; вы и начитанный и письменный человек, вы можете эти арабские выверты понимать, а я нет.
Х у а н. Ну, хорошо. Доволен будет сеньор директор, если я заплачу ему сейчас же полдюжины дукатов? И, кроме того, мы примем предосторожности, чтобы сегодня вечером жители местечка не входили в мой дом.
Ч а н ф а л ь я. Я доволен, я доверяю себя распорядительности вашей милости и вашему разуму.
Х у а н. Пойдемте со мной, получите деньги, посмотрите мой дом и удобства, какие он имеет для устройства театра.
Ч а н ф а л ь я. Пойдемте, но не забывайте, какие качества должны иметь зрители, которые хотят видеть чудесное представление.
Б е н и т о. Это уж мое дело. Что касается меня, то я должен сказать, что могу идти на суд с уверенностью, потому что мой отец был алькальд. Четыре пальца старого христианского жиру со всех четырех сторон наросло на мое родословное дерево; вот и посудите, могу ли я видеть представление.
К а п а ч о. Все надеемся видеть, сеньор Бенито Репольо.
Х у а н. Мы тоже не выродки какие-нибудь, сеньор Педро Капачо.
Г о б е р н а д о р. По моему мнению, все будет как надо, сеньоры алькальд, рехидор и письмоводитель.
Х у а н. Пойдемте, директор, и за работу. Меня зовут Хуан Кастрадо, сын Антона Кастрадо и Хуаны Мача; и больше я ничего не скажу, кроме того, что, по совести и чести, могу с открытым лицом и смелой поступью идти на сказанное представление.
Ч и р и н о с. Ну, дай бог!
Хуан Кастрадо и Чанфалья уходят.
Г о б е р н а д о р. Сеньора директорша, какие поэты в настоящее время пользуются в столице славой и почетом, особенно из так называемых комических? Я сам чуть-чуть поэт и имею претензию на комизм и комическую маску. Я написал двадцать две комедии, все новые, и одна другой стоит. И я жду только случая отправиться в столицу и обогатить ими с полдюжины антрепренеров.
Ч и р и н о с. На ваш вопрос о поэтах, сеньор гобернадор, я вам хорошенько ответить не умею, потому что их так много, что из-за них солнца не видать, и все они считают себя знаменитостями. Теперь комические поэты все заурядные, такие, как и всегда, и нет надобности называть их. Но скажите мне, ваша милость, прошу вас, как ваше имя?
Г о б е р н а д о р. Мое имя, сеньора директорша, лиценциат Гомесильос.
Ч и р и н о с. Боже милостивый! Ваша милость - сеньор лиценциат Гомесильос, тот, который написал эти знаменитые стихи: "Захворал Люцифер тяжко; он по родине тоскует"?
Г о б е р н а д о р. Эти стихи приписывают мне злые языки; они столько же принадлежат мне, как и турецкому султану. Я писал стихи и не отказываюсь, но то были другие: в них я описывал наводнение в Севилье[182]. Хотя поэты постоянно воруют один у другого, но я себе не позволял никогда украсть даже малости. Помоги мне бог писать стихи, а ворует пусть, кто хочет.
Возвращается Чанфалья.
Ч а н ф а л ь я. Ваша милость, сеньоры, пожалуйте! Все готово, остается только начать.
Ч и р и н о с (тихо). Деньги в кармане?
Ч а н ф а л ь я. У самого сердца.
Ч и р и н о с. Заметь, Чанфалья, гобернадор - поэт.
Ч а н ф а л ь я. Поэт! Как бы не так! Нет, это ты в нем ошиблась; все эти смешные люди только для насмешек и созданы: ленивы, легковерны и простодушны.
Б е н и т о. Пойдем, директор! Меня так и поджигает видеть чудеса.
Все уходят.
Сцена вторая
Комната в доме Кастрадо.
Входят Хуана Кастрада и Тереса Репольо, первая в венчальном платье.
К а с т р а д а. Вот здесь можешь ты сесть, милая Тереса Репольо, чтобы сцена была прямо перед нами. Ты ведь знаешь, под каким условием можно смотреть это представление; не забудь, а то будет большая беда.
Т е р е с а. Ты знаешь, Хуана Кастрада, что я твоя родственница, больше я ничего не скажу. Как твердо я уверена, что буду на небе, так же уверена и в том, что увижу все, что на этом представлении будет показываться. Клянусь жизнью моей матери, я готова выколоть себе оба глаза, если случится со мной какая-нибудь беда. Ничего со мной не будет, вот что!
К а с т р а д а. Потише, сестрица, все идут сюда.
Входят гобернадор, Бенито Репольо, Хуан Кастрадо, Педро Капачо, директор и директорша, музыкант, некоторые из жителей местечка и племянник Бенито, человек ловкий, мастер танцевать.
Ч а н ф а л ь я. Садитесь все; представление будет за этим занавесом, и директорша там же, а здесь музыкант.
Б е н и т о. Это музыкант-то? Уж и его тоже за занавес; за то только, чтоб не видать его, я с удовольствием откажусь его слушать.
Ч а н ф а л ь я. Вы, ваша милость, сеньор алькальд Репольо, без всякого основания недовольны музыкантом. Он поистине очень добрый христианин и идальго, от известного корня.
Г о б е р н а д о р. Эти качества необходимы, чтоб быть хорошим музыкантом.
Б е н и т о. Чтоб деревом - допускаю; но музыкантом - abrenuncio[183].
К а р а п у з и к. Да, действительно тот должен считать себя дураком, кто явился играть перед таким...
Б е н и т о. Нет, ей-богу, мы видывали здесь музыкантов совсем не таких, как...
Г о б е р н а д о р. Оставьте ваши обоюдные возражения, как сеньор Карапузик, так и алькальд; а то они могут затянуться до бесконечности. Сеньор Монтьель, начинайте свое дело.
Б е н и т о. Не много ж утвари у директора великого спектакля.
Х у а н. Тут, должно быть, все чудеса.
Ч а н ф а л ь я. Внимание, сеньоры! Начинаю. О ты, кто б ты ни был, ты, который устроил этот театр с таким чудесным искусством, что он получил имя театра чудес! Ради добродетели, которая в нем заключается, заклинаю тебя, заставляю тебя и приказываю тебе, чтобы сейчас, сию минуту показал ты некоторые из тех чудесных чудес этим сеньорам, для их утешения и увеселения, без всякого скандала. Но вот я уж вижу, что ты мою просьбу исполняешь, потому что с этой стороны является фигура сильнейшего Самсона, обнимающего столбы храма, чтобы повергнуть их на землю и отомстить своим врагам. Стой, храбрый рыцарь, стой ради самого бога! Удержись от такого злого дела! Ты разрушишь дом и превратишь в яичницу столь многих и благородных людей, каковы собравшиеся здесь.
Б е н и т о. Остановись, прах тебя побери! Хорошо будет, если вместо удовольствия, за которым мы пришли, нас расплюснут в лепешку. Остановись, сеньор Самсон, чтоб тебе провалиться! Тебя просят честные люди.
К а п а ч о. Видите вы его, Кастрадо?
Х у а н. Еще бы не видать! У меня глаза-то на затылке, что ли?
К а п а ч о. Удивительное это дело: я так же вижу там Самсона, как турецкого султана; хотя поистине я законный сын и старый христианин.
Ч и р и н о с. Берегитесь! Идет бык, тот самый, который убил носильщика в Саламанке. Ложись, ложись! Сохрани тебя боже! Сохрани тебя боже!
Ч а н ф а л ь я. Ложитесь все, ложитесь все! Ух, ух, ух!
Все ложатся и трепещут.
Б е н и т о. В этом быке сидит сам дьявол: он с боков черноват и пегий. Если я не присяду, он меня вздернет кверху.
Х у а н. Сеньор директор, постарайтесь, если можно, чтоб не выходили фигуры такие страшные, они нас пугают. Я говорю не про себя, а про этих девочек... в них кровинки не осталось при виде такого свирепого быка.
К а с т р а д а. Да еще как, отец! Я думала, что три Дня не приду в себя. Мне показалось, что я уж на его рогах, которые у него такие острые, как шило.
Х у а н. Не была ты, дочка, на рогах и их не видала.
Г о б е р н а д о р (про себя). Ну, пускай все видят го, чего я не вижу; под конец и я скажу, что все видел; а то стыдно будет.
Ч и р и н о с. Это стадо мышей, которое появляется перед вами, происходит по прямой линии от тех, которые были в Ноевом ковчеге. Вот тут белые, а тут пестрые, тут крапчатые, а тут синие; и, наконец, все это мыши.
Х у а н а К а с т р а д а. Боже! Горе мне! Держите меня, я выпрыгну в окошко. Ах, я несчастная! Милая, обожми крепче твои юбки и смотри, чтобы тебя не укусили. Нет, их тут не стадо, клянусь жизнью моей бабушки, их больше тысячи!
Т е р е с а. Я несчастная-то, потому что они забрались ко мне, так что и не выгонишь; одна гнедая мышь влепилась мне в коленку. Силы небесные, помогите мне, на земле нет мне помощи!
Б е н и т о. Однако хорошо, что я в штанах; ни одна мышь ко мне не залезет, даже самая маленькая.
Ч а н ф а л ь я. Эта вода, которая с такой стремительностью низвергается из облаков, есть тот источник, который дал начало и происхождение реке Иордану. У каждой женщины, если ей плеснуть этой воды в лицо, оно превратится в гладкое серебро, а если мужчинам, то у них бороды сделаются золотыми.
К а с т р а д а. Слушай, милая, открой лицо - ты увидишь то, что тебе нужно. О, какая вкусная вода! Закройся, отец, не замочись!
Х у а н. Все закроемся, дочка.
Б е н и т о. От плеч вода пробралась у меня до главного шлюза.
К а п а ч о (про себя). Я сух, как ковыль.
Г о б е р н а д о р (тоже). Это черт знает что такое! На меня не попало ни одной капли, а все промокли! Как, неужели же я, между столькими законными детьми, один незаконнорожденный?
Б е н и т о. Уберите вы от меня этого музыканта; иначе, клянусь богом, я уйду и не увижу больше ни одной фигуры. Черт тебя побери, музыкант-оборотень! И пусть идет представление без треску и без звону.
К а р а п у з и к. Сеньор алькальд, не злобьтесь на меня! Я играю так, как мне бог помог выучиться.
Б е н и т о. Тебе-то бог помог выучиться? Ах ты, червяк! Убирайся за занавес! А то, ей-богу, я запущу в тебя этой скамейкой.
К а р а п у з и к. И черт меня занес в этот город!
К а п а ч о. Свежа вода святой реки Иордана; хоть я и закрывался, как только мог, но все-таки мне немного на бороду попало, и я пари держу, что она у меня светится, как золото.
Б е н и т о. И даже в пятьдесят раз хуже.
Ч и р и н о с. Теперь является около двух дюжин свирепых львов и седых медведей: все живое берегись! Хотя они и призрачные, но не преминут наделать каких-нибудь бед и даже воспроизвести подвиг Геркулеса с обнаженными шпагами.
Х у а н. Эй, сеньор директор! Вы, провалиться на месте, хотите прогнать нас из дому, что ли, своими медведями да львами?
Б е н и т о. Ваш Дурачина должен бы нам соловьев и жаворонков показывать, а не львов да драконов. Сеньор директор, или пусть являются фигуры более приятные, или с нас довольно того, что мы видели; и убирайтесь с богом и не оставайтесь дольше ни одной минуты в нашем местечке.
К а с т р а д а. Сеньор Бенито Репольо, пусть являются медведи и львы, хоть только для нас, женщин, нам будет очень приятно.
Х у а н. Как же, дочка, давеча ты испугалась мышей, а теперь захотелось тебе медведей и львов?
К а с т р а д а. Все новое заманчиво, сеньор отец.
Ч и р и н о с. Вот является девица, милая и учтивая; это так называемая Иродиада , пляска которой стоила головы Предтече[184]. Если бы взялся кто-нибудь потанцевать с ней, вы бы увидали чудеса.
Б е н и т о. Это так! Фу ты пропасть, какая милая фигурка, приятная и светленькая! Ах ты, шлюха! Как вертится-то девчонка! Племянник Репольо, ты кой-что умеешь на кастаньетах, пособи ей, и пойдет у вас пир горой.
П л е м я н н и к. Я здесь, дядя Бенито Репольо. (Танцует сарабанду, Карапузик играет.)
К а п а ч о. Клянусь дедушкой, значит сарабанда и чакона очень древние танцы.
Б е н и т о. Эй, племянник, держись крепче за эту плутовку жидовку! Но если она жидовка, как же она может видеть чудеса?
Ч а н ф а л ь я. Нет правила без исключения, сеньор алькальд.
За сценой трубят, входит фурьер кавалеристов.
Ф у р ь е р. Кто здесь сеньор гобернадор?
Г о б е р н а д о р. Это я. Что вам нужно?
Ф у р ь е р. Приготовьте сейчас же помещение для тридцати кавалеристов, они будут здесь через полчаса и даже раньше; уж слышны трубы! Прощайте! (Уходит.)
Б е н и т о. Я бьюсь об заклад, что эту конницу послал наш мудрец Дурачина.
Ч а н ф а л ь я. Ну, нет, это отряд конницы, который был на постое в двух милях отсюда.
Б е н и т о. Ну, теперь я знаю вашего Дурачину, знаю и то, что вы и он величайшие мошенники, не исключая и музыканта. Слушайте же! Я вам приказываю приказать Дурачине, чтобы он не смел присылать этих солдат, иначе я им всем поодиночке закачу в спину по двести плетей.
Ч а н ф а л ь я. Говорю вам, сеньор алькальд, что их послал не Дурачина.
Б е н и т о. А я говорю, что их послал Дурачина, как он послал и всех других гадов, которых я видел.
К а п а ч о. Мы всех их видели, сеньор Бенито Репольо.
Б е н и т о. Я и не говорю, что вы не видали, сеньор Педро Капачо. Не играй больше, ты, разиня-музыкант, а то я тебе голову разобью,
Возвращается Фурьер.
Ф у р ь е р. Ну, готовы квартиры? Кавалеристы уж в городе.
Б е н и т о. Так Дурачина хочет на своем поставить? Ну, так я клянусь этому директору пустяков и плутней, что он мне за это поплатится.
Ч а н ф а л ь я. Будьте свидетелями, что алькальд мне грозит.
Ч и р и н о с. Будьте свидетелями, что про посланных от его величества алькальд говорит, что они посланы от мудрого Дурачины.
Б е н и т о. Самой-то тебе одурачиться бы пошли боже всемогущий!
Г о б е р н а д о р. А я сам про себя думаю, что эти кавалеристы, должно быть, настоящие, а не в шутку.
Ф у р ь е р. В шутку, сеньор гобернадор? Да в уме ли вы?
Х у а н. Очень может быть, что они дурачковские, как все, что мы видели. Сделайте милость, директор, заставьте девицу Иродиаду выйти в другой раз, чтобы вот этот сеньор видел то, чего никогда не видывал. Может быть, мы его подкупим этим, чтобы он поскорее ушел из этого местечка.
Ч а н ф а л ь я. Это извольте. Смотрите же, как она покажется, мигните вашему танцору, чтоб он ей опять помог танцевать.
П л е м я н н и к. Уж, конечно, за мной дело не станет.
Б е н и т о. Так, племянник, замучь ее, замучь ее! Поворот, еще поворот! Ей-богу, это ртуть, а не девчонка! Живо, живо! Еще, еще!
Ф у р ь е р. С ума сошел, что ли, этот народ? Какой тут дьявол, какая девушка, и что за пляска, и что за Дурачина?
К а п а ч о. Значит, сеньор фурьер не видит иродианскую девушку?
Ф у р ь е р. Да какого черта и какую девушку мне видеть?
К а п а ч о. Довольно, ex illis est[185].
Г о б е р н а д о р. Ex illis est, ex illis est.
Х у а н. Он из тех, сеньор фурьер, из тех, он из тех.
Ф у р ь е р. Что за подлая порода! А вот, клянусь богом, коли положу я руку на шпагу, так придется вам в окна метаться, а не в дверь.
К а п а ч о. Довольно, ex illis est .
Б е н и т о. Довольно, он из тех, потому что не видит ничего.
Ф у р ь е р. Ах, гнусные канальи, если еще раз вы мне скажете, что я "из тех", на вас живого места не останется.
Б е н и т о. Никогда еще перекрещенцы и незаконные храбры не бывали; и потому мы можем сказать: он из этих, он из этих.
Ф у р ь е р. Ах, проклятая деревенщина! Погодите ж!
(Берет шпагу и дерется со всеми. Алькальд бьет палкой Карапузика, Чиринос сдергивает занавес.)
Ч и р и н о с. Черт их принес, эту трубу и кавалеристов; точно их в колокол сзывали!
Ч а н ф а л ь я. Мы имеем необыкновенный успех. Хорошие качества нашего театра обнаружились, и завтра мы можем показать его городу, а сами можем воспеть триумф этой битвы, восклицая: "Да здравствуют Чиринос и Чанфалья!"
Два болтуна[186]
Лица:
Сармьенто.
Прокурадор[187].
Рольдан.
Беатрис, жена Сармьенто.
Инес, горничная.
Альгуасил.
Письмоводитель.
Сыщик.
Сцена первая
Улица.
Входят прокурадор, Сармьенто и Рольдан (дурно одетый, в кожаной куртке, коротких штанах, со шпагой).
С а р м ь е н т о. Вот, сеньор прокурадор, двести дукатов! Даю вам слово, что я заплатил бы и четыреста, если б рана была шире.
П р о к у р а д о р. Вы нанесли ее как кавалер и как христианин заплатили. Я беру деньги и очень доволен, что я с барышом, а он с лекарством.
Р о л ь д а н. Кавалер! Вы прокурадор?
П р о к у р а д о р. Да. Что вам угодно?
Р о л ь д а н. Что это за деньги?
П р о к у р а д о р. Я получил их от этого кавалера, чтобы заплатить моему клиенту, которому он нанес рану в двенадцать линий.
Р о л ь д а н. А много ли денег?
П р о к у р а д о р. Двести дукатов.
Р о л ь д а н. Ну, ступайте с богом!
П р о к у р а д о р. Счастливо оставаться. (Уходит.)
Р о л ь д а н. Кавалер!
С а р м ь е н т о. Вы это мне, благородный человек?
Р о л ь д а н. Да, вам.
С а р м ь е н т о. Что вам угодно? (Снимает шляпу.)
Р о л ь д а н. Наденьте шляпу, иначе слова от меня не услышите.
С а р м ь е н т о. Я надел.
Р о л ь д а н. Сеньор мой, я бедный идальго; однако я видал себя в чести. Я в нужде. Я слышал, что вы дали двести дукатов человеку, которому нанесли рану; если вам подобное занятие доставляет удовольствие, я готов получить рану куда вам угодно. Я вам сделаю пятьдесят дукатов уступки против других.
С а р м ь е н т о. Если б я не был так расстроен теперь, ведь я должен бы был расхохотаться. Да вы не шутя это говорите? Послушайте! Вы думаете, что раны наносятся так, без причины и кому ни попало, а не тому, кто этого заслуживает?
Р о л ь д а н. Однако кто же больше заслуживает, как не нужда? Разве не говорят: нужда смотрит анафемой? Так разве не лучше иметь рану, чем физиономию анафемы?
С а р м ь е н т о. Вы, должно быть, не очень начитаны. Латинская пословица говорит: necessitas caret lege , это значит: нужда закона не знает.
Р о л ь д а н. Вы изволили очень хорошо сказать, потому что закон изобретен для спокойствия, и разум есть душа закона. У кого есть душа, у того есть и душевные способности; душевных способностей три: память, воля и рассудок. Вы имеете очень хороший рассудок; рассудок сейчас видно по физиономии; у вас физиономия искаженная от соединенного влияния Юпитера и Сатурна[188], хотя Венера находилась в квадрате и в восхождении по восходящей линии по вашему гороскопу.
С а р м ь е н т о. И черт меня занес сюда! Этого только еще недоставало; двести дукатов за рану заплатил, да еще...
Р о л ь д а н. "Рану", изволите говорить? Очень хорошо. Рану нанес Каин своему брату Авелю, хотя тогда и ножей еще не было; рану нанес Александр Великий царице Пантасилее, когда взял хорошо укрепленную Саморру[189]; точно так же и Юлий Цезарь - графу дон Педро Ансуресу во время игры в кости. Нужно вам знать, что раны наносятся двумя способами: есть предательство и есть вероломство; предательство против короля, а вероломство против равных: оно бывает и в оружии, - и если я пользуюсь преимуществом, потому что, говорит Карранса в своей философии шпаги и Теренций в заговоре Катилины...
С а р м ь е н т о. Убирайтесь к черту! Вы меня с ума сведете! Что вы мне за чушь несете!
Р о л ь д а н. "Чушь", вы изволили сказать? Это очень хорошо, потому что чушь, хвастовство, фанфаронады по-испански называются бернардинами[190]. Одна женщина, которую звали Бернардиной, принуждена была сделаться монашенкой святого Бернарда; а вот если бы ее звали Франсиской, так она не могла бы этого сделать; в Франсисках четыре еф. Fe - есть одна из букв азбуки; букв в азбуке двадцать три. Букву ка мы чаще употребляем в младенчестве, - стоит только повторить ее, сказать в два приема. В два приема хорошо пить и вино; в вине много великих достоинств; но не надо пить его натощак, а также и разбавленное водой, потому что тонкие частицы воды проникают сквозь поры и поднимаются в мозг; таким образом...
С а р м ь е н т о. Остановитесь, вы меня уморили! Точно дьявол сидит у вас в языке.
Р о л ь д а н. Вы изволили сказать: "в языке"? Это очень хорошо. Язык до Рима доводит. Я был в Риме и в Манче, в Трансильвании и в городе Монтальване. Монтальван был крепостью, в которой был Рейнальд; Рейнальд был один из двенадцати пэров Франции и из тех, которые кушали с императором Карлом Великим за круглым столом. Потому он круглый, что был не четверо- и не осьмиугольный. В Вальядолиде есть маленькая площадь, которая называется Осьмушкой. Осьмушка есть половина четверти, или кварты. Кварта состоит из четырех мараведи. В старину мараведи стоил столько же, сколько теперь эскудо; эскудо два рода: есть эскудо терпения и эскудо...
С а р м ь е н т о. Господи, помоги мне перенести все это! Постойте, я совсем потерялся.
Р о л ь д а н. "Потерялся", вы изволили сказать? Это очень хорошо. Потерять - это не то, что найти. Есть семь родов разных потерь: можно потерять в игре, то есть проиграть, потерять состояние, положение, потерять честь, потерять рассудок, потерять по небрежности перстень или платок, потерять...
С а р м ь е н т о. Довольно, черт вас подери!
Р о л ь д а н. Вы изволили сказать: "черт"? Это очень хорошо. Потому что черт искушает нас разными соблазнами, главнейшим образом посредством мяса. Мясное - это не рыбное. Рыба флегматична, а флегматики не холерики. Человек составлен из четырех элементов: из желчи, крови, флегмы и меланхолии. Меланхолия - это не веселость, потому что веселость зависит от того, есть ли у человека деньги. Деньги делают людей людьми. Люди не скоты... скоты пасутся на траве, и, наконец...
С а р м ь е н т о. И, наконец, вы сведете меня с ума; вы можете это сделать. Но я умоляю вас, выслушайте, хоть из учтивости, одно слово, и чтоб от вас ни слова, ни звука, иначе я тут же умру на месте.
Р о л ь д а н. Что вам угодно?
С а р м ь е н т о. Сеньор мой! У меня есть жена, и, по грехам моим, величайшая болтунья, каких еще не бывало с тех пор, как женщины существуют на свете. Она так болтает, что уж я несколько раз ощущал в себе решимость убить ее за разговоры, так же, как других убивают за дурные дела. Искал я средств, но ни одно не помогает. Теперь мне пришло на мысль, что если я возьму вас с собой домой и потолкуете вы с ней шесть дней кряду, то окажется она перед вами, как новичок перед человеком бывалым. Пойдемте со мной, умоляю вас; я скажу, что вы мне двоюродный брат, и под этим предлогом вы будете приняты в моем доме.
Р о л ь д а н. Вы изволили сказать: "двоюродный"? Это очень хорошо. Мы все сродни, и всё одно другому сродни; сродни прима секунде на гитаре; на гитаре пять струн, а ниществующих монашеских орденов четыре. В четырех есть недостача до пяти. В древности был обязан драться с пятерыми тот, кто вызывал на поединок всех, как это было с дон Дьего Ордоньесом и с сыновьями Арьяса Гонсало, когда король дон Санчо[191]...
С а р м ь е н т о. Ради бога, перестаньте! Пойдемте ко мне, там договорите остальное.
Р о л ь д а н. Идите вперед! Я берусь, что через два часа ваша жена будет нема, как камень; потому что камень...
С а р м ь е н т о. Я не хочу слова слышать.
Р о л ь д а н. Идите! Я вылечу вашу жену.
Уходят.
Сцена вторая
Комната в доме Сармьенто.
Входят донья Беатрис и Инес.
Б е а т р и с. Инес, эй, Инес! Долго ль мне звать? Инес, Инес!
И н е с. Слышу, сеньора, сеньора, сеньора!
Б е а т р и с. Бездельница, дерзкая! Как смеете вы отвечать таким образом? Разве вы не знаете, что скромность есть первое украшение женщины?
И н е с. Вашей милости разговаривать хочется, а не об чем, вот вы и кличете меня двести раз.
Б е а т р и с. Бесстыдная! Двести раз уж очень много; пожалуй, можно сказать и двести тысяч раз, - только нолей прибавить: ноли ведь сами по себе ничего не значат.
И н е с. Сеньора, уж это я слышала; скажите, что мне делать, а то мы только прозу сочиняем.
Б е а т р и с. А проза эта в том состоит, чтобы накрывать стол, кушать вашему господину. Вы знаете, что он приходит сердитый; а когда муж сердит, то это бывает причиной, что поднимается палка и, начиная с прислуги, доходит она и до хозяйки.
И н е с. Если больше ничего, как только стол накрывать, так я лечу. (Уходит.)
Входят Сармьенто и Рольдан.
С а р м ь е н т о. Эй! Или никого в доме нет? Донья Беатрис!
Б е а т р и с. Я здесь, сеньор. Зачем вы так кричите?
С а р м ь е н т о. Вот я привел гостя, кавалера, - он солдат и мой родственник; я пригласил его обедать. Ласкайте и ублажайте его хорошенько. Он ищет службы в столице.
Б е а т р и с. Если ваша милость идете в столицу, так имейте в виду, что столица существует не для робких людей, потому что робость есть дочь глупости. А глупый почти всегда человек загнанный, да и стоит того, потому что ум есть свет для человеческих дел. Каждое дело зависит...
Р о л ь д а н. Позвольте, позвольте, прошу вас... зависит от расположения, комплекции; а комплекция действует посредством телесных органов и располагает чувствами. Чувств пять: ходить, осязать, бегать, думать и не мешать другим; всякий, кто мешает, есть невежа, а невежество состоит в том, что человек не попадает в раз. Но кто падает и возвышается, пошли тому бог хорошие праздники. Главных праздников четыре: рождество, богоявление, пасха и пятидесятница. Пятидесятница - слово изысканное.
Б е а т р и с. Как изысканное? Плохо ваша милость знает, что такое изысканное. Все изысканное необыкновенно; обыкновенное не удивляет; удивления порождают дела великие; самое высочайшее дело в мире есть спокойствие, потому что никто его не достигает; самое глупое - это злость, потому что в нее все впадают. Падать необходимо, потому что все имеет три степени: начало, возвышение и склонение.
Р о л ь д а н. Вы изволили сказать: "склонение"? Это очень хорошо. Имена существительные склоняются, а глаголы спрягаются, и те, кто женятся, тоже спрягаются, и супруги обязаны любить друг друга, как того требует наша святая мать церковь. Причина этому та, что...
Б е а т р и с. Постойте, погодите! Муж мой, кто это? В уме ли вы? Что это за человек? Кого вы привели в наш дом?
С а р м ь е н т о. О боже! Как легко мне! Я нашел, чем отомстить ей! Скорей накрывайте стол, будем обедать. Сеньор Рольдан прогостит у меня шесть или семь лет.
Б е а т р и с. Семь лет! Ах, черт возьми! Ни одного часу, муж мой, или я лопну с отчаяния.
С а р м ь е н т о. Я слишком хорош для того, чтобы быть вашим мужем. Эй, давайте кушать!
Входит Инес.
И н е с. У нас гости? Стол готов.
Р о л ь д а н. Кто это, сеньор?
С а р м ь е н т о. Наша горничная.
Р о л ь д а н. Горничная в Валенсии называется fadrina, в Италии masara, во Франции gazpirria, в Германии filimogina[192], при дворе sirvienta, в Бискайи mosсоrrа, у мошенников daixa. Пойдемте веселей за обед. Я хочу вам показать, что я обедаю по обычаям Великобритании.
Б е а т р и с. Мне осталось только с ума сойти, муж мой! Мне хоть лопнуть, да только бы разговаривать.
Р о л ь д а н. Ваша милость изволили сказать: "разговаривать"? Это очень хорошо. В разговоре узнается ум человека; ум образуется из понимания; кто не понимает, тот не чувствует; кто не чувствует, тот не живет, а кто не живет, тот умер. А кто умрет, тот меньше врет...
Б е а т р и с. Муж, муж!
С а р м ь е н т о. Что вам угодно, супруга моя?
Б е а т р и с. Пошлите этого человека ко всем чертям. Мне хоть лопнуть, да говорить.
С а р м ь е н т о. Имейте терпение, супруга моя! Прежде семи лет, как сказано, он не уйдет от нас, потому что я дал слово и обязан сдержать его, или я буду не я.
Б е а т р и с. Семь лет? Нет, прежде вы увидите меня мертвой. Ай, ай, ай!
И н е с. Обморок! Вам хотелось этого видеть, сеньор? Посмотрите, она умерла.
Р о л ь д а н. Боже! Отчего с ней такая беда?
С а р м ь е н т о. Говорить не дали.
А л ь г у а с и л (за сценой). Отоприте правосудию! Отоприте правосудию!
Р о л ь д а н. Правосудие! Ай, горе мне! Мне бы бежать надо; если меня найдут, так упрячут в тюрьму.
С а р м ь е н т о. Сеньор, вот средство: полезайте в эту циновку[193], ее сняли и свернули для чистки; там вы можете спрятаться, а другого средства я не знаю.
Рольдан прячется в циновку, свернутую кольцом.
А л ь г у а с и л (за сценой). Отопрут мне сегодня или нет?
Входят альгуасил, письмоводитель и сыщик.
С а р м ь е н т о. Что же угодно будет приказать вашей милости? Что-то уж очень грозно вы входите.
А л ь г у а с и л. Сеньор гобернадор, не довольствуясь тем, что ваша милость заплатили двести дукатов за нанесенную рану, приказал, чтобы вы подали тому человеку руку, обнялись с ним и стали друзьями.
С а р м ь е н т о. Я сейчас сажусь обедать.
П и с ь м о в о д и т е л ь. Он здесь, и ваша милость можете сейчас же возвратиться и кушать в свое удовольствие.
С а р м ь е н т о. Ну, так пойдемте в добрый час.
Уходят.
И н е с. Сеньора, приди в себя. Ведь обморок у тебя оттого, что разговаривать не давали; теперь ты одна, разговаривай сколько угодно.
Б е а т р и с. Слава богу, наконец-то я могу прервать свое молчание!
Р о л ь д а н (показывая голову из-под циновки). Ваша милость изволили сказать: "молчание"? Это очень хорошо. Молчание всегда восхвалялось мудрецами; мудрые молчат вовремя и говорят вовремя, потому что есть время говорить и есть время молчать. Кто молчит - тот соглашается, а согласие предполагает условие; условие требует трех свидетелей, а завещание семи, потому что...
Б е а т р и с. Потому что убирайся ты к черту и вместе с тем, кто тебя привел! Видана ли где такая величайшая подлость? Нет, я опять в обморок.
Входят Сармьенто, альгуасил, письмоводитель и сыщик.
С а р м ь е н т о. Теперь, после мировой, я прошу вас выпить и закусить. Эй, подайте похолоднее вина и грушевого киселя.
Б е а т р и с. Зачем вы пришли в эту комнату? Разве вы не видите, что мы выколачиваем эти циновки. Инее, вот палка, бери другую и выколотим их начисто.
Принимаются выбивать.
Р о л ь д а н (из-под циновки). Тише, тише, сеньоры! Я не за тем здесь; языком болтайте, а рукам волю не давайте.
А л ь г у а с и л. Что такое? Кто это? Никак это мошенник Рольдан, болтун и бездельник?
П и с ь м о в о д и т е л ь. Он самый.
А л ь г у а с и л. Вы арестованы, арестованы.
Р о л ь д а н. Ваша милость изволили сказать: "арестован"? Это очень хорошо. Кто арестован, тот не свободен; а свобода...
А л ь г у а с и л. Нет, нет, теперь уж болтовня не поможет; теперь уж вы отправитесь в тюрьму.
С а р м ь е н т о. Сеньор альгуасил, прошу у вашей милости одолжения: пусть он побудет у меня в доме; на этот раз не берите его. Я даю вам слово, что предоставлю ему возможность найти приличное занятие, если он вылечит жену мою.
А л ь г у а с и л. От чего он ее лечит?
С а р м ь е н т о. От разговоров.
А л ь г у а с и л. Чем?
С а р м ь е н т о. Разговорами. Он так ее заговаривает, что она немеет.
А л ь г у а с и л. Я был бы очень рад видеть такое чудо. Только вот условие: если он ее вылечит, вы сейчас же известите меня; я его возьму к себе домой; моя жена тоже имеет эту слабость, и я был бы очень доволен, если б он мне ее сразу вылечил.
С а р м ь е н т о. Я вас уведомлю об успехе лечения.
Р о л ь д а н. Я знаю, что я ее вылечу.
А л ь г у а с и л. Прочь, болтливый негодяй!
С а р м ь е н т о. А, это стихи? Я люблю стихи.
А л ь г у а с и л. А если любите, слушайте, во мне есть небольшая поэтическая жилка.
Р о л ь д а н. Как? Ваша милость изволили сказать: "поэтическая жилка"? Так погодите, вас нужно приветствовать. (Аплодирует.)
А л ь г у а с и л
(начинает глоссу[194])
П и с ь м о в о д и т е л ь
И н е с
Я желаю кончить этот куплет.
П и с ь м о в о д и т е л ь.
Говорите, послушаем.
И н е с
С а р м ь е н т о
(жене)
Б е а т р и с
Р о л ь д а н
Б е а т р и с
Р о л ь д а н. Слушайте, ваши милости, и мои стихи будут не хуже!
Весело уходят.
Ревнивый старик
Лица:
Каньисарес, старик.
Лоренса, жена его.
Ортигоса, соседка.
Кристина, служанка Лоренсы, ее племянница[195].
Кум Каньисареса.
Альгуасил.
Музыканты и плясун.
Молодой человек (без речей).
Сцена первая
Комната.
Входят донья Лоренса, Кристина и Ортигоса.
Л о р е н с а. Это чудо, сеньора Ортигоса, что он не запер дверь; он моя скорбь, мое иго, мое отчаяние! Ведь это в первый раз с тех пор, как я вышла замуж, я говорю с посторонними. О, как бы я желала, чтоб он провалился не только из дому, но и со свету белого, и он, и тот, кто меня выдал замуж!
О р т и г о с а. Ну, сеньора моя, донья Лоренса, не печальтесь уж очень. Вместо старого горшка можно новый купить.
Л о р е н с а. Да, вот такими-то и другими подобными пословицами и прибаутками меня и обманули. Будьте вы прокляты его деньги, исключая крестов[196], будьте вы прокляты его драгоценности, будьте вы прокляты наряды, и будь проклято все, что он мне дарил и обещал! На что мне все это, коли я среди роскоши и бедна и при всем изобилии голодна?
К р и с т и н а. Вот правда, сеньора тетя, справедливо ты рассуждаешь. Я лучше соглашусь ходить в тряпках, одну повесить сзади, другую спереди, только б иметь молодого мужа, чем погрязнуть с таким гнилым стариком, за какого ты вышла.
Л о р е н с а. Я вышла? Что ты, племянница! Меня выдали, ей-богу, выдали; а я, как скромная девчонка, лучше умела покоряться, чем спорить. Если б тогда я была так опытна в этих вещах, как теперь, я б лучше перекусила себе язык пополам, чем сказала это "да". Скажешь только две буквы, а плачь потом две тысячи лет из-за них. Но уж я так думаю: чему быть, того не миновать; и уж чему надо случиться, так ни предупредить, ни отвратить этого нет никакой человеческой возможности.
К р и с т и н а. Боже мой, какой дрянной старик! Всю-то ночь двигает под кроватью эту посуду. "Вставай, Кристина, погрей мне простыню, я иззяб досмерти; подай мне тростник, меня камень давит". Мазей да лекарств у нас в комнате столько же, как в аптеке. У меня и одеться-то нет времени, а я еще служи ему сиделкой. Тьфу, тьфу, тьфу, поношенный старикашка! Грыжа ревнивая! Да еще какой ревнивый-то, каких в свете нет!
Л о р е н с а. Правда, племянница, правда.
К р и с т и н а. Помилуй бог, чтоб я солгала когда!
О р т и г о с а. Ну так, сеньора донья Лоренса, сделайте то, что я вам говорила, и увидите, как это будет хорошо. Молодой человек свеж, как подорожник; очень любит вас, умеет молчать и быть благодарным за то, что для него делают. А так как ревность и подозрительность старика нам долго разговаривать не позволяют, то будьте решительнее и смелей; и я тем самым порядком, как мы придумали, проведу любезного к вам в комнату и опять уведу, хотя бы у старика было глаз больше, чем у Аргуса, и пусть он, как Сагори[197], видит на семь сажен в землю.
Л о р е н с а. Для меня это внове, и потому я робка и не хочу из-за удовольствия рисковать своей честью.
К р и с т и н а. Сеньора тетенька, это ведь похоже на песенку про Гомеса Арьяса[198]:
Л о р е н с а. Ведь это в тебе нечистый говорит, племянница, коли разобрать твои слова.
К р и с т и н а. Не знаю, кто во мне говорит, только знаю, что, как сеньора Ортигоса рассказывает, я все бы это сделала точь-в-точь.
Л о р е н с а. А честь, племянница?
К р и с т и н а. А удовольствия, тетенька?
Л о р е н с а. А если узнают?
К р и с т и н а. А если не узнают?
Л о р е н с а. А кто мне порукой, что все это не будет известно?
О р т и г о с а. Кто порукой? Наше старание, ум, ловкость, а больше всего смелость и мои выдумки.
К р и с т и н а. Ну, сеньора Ортигоса, приведите к нам любовника, чистенького, развязного, даже немножко и дерзкого, и пуще всего молодого.
О р т и г о с а. Все это есть в нем, про кого я говорю-то, да еще и другие два качества: богат и щедр.
Л о р е н с а. Я не ищу богатства, сеньора Ортигоса; у меня пропасть драгоценных вещей, и уж я совсем запуталась в разных цветных платьях, которых у меня множество; в этом отношении мне и желать больше нечего. Дай бог здоровья Каньисаресу, он меня рядит в платья, как куклу, а в драгоценности, как витрину у богатого бриллиантщика. Вот если б он не забивал окон, не запирал дверей, не осматривал поминутно весь дом, не изгонял котов и собак за то, что носят мужские клички; если б он не делал этого и разных других штук, и в сказках не слыханных, я бы охотно отдала ему назад его подарки и деньги.
О р т и г о с а. Неужели он так ревнив?
Л о р е н с а. Я вам лучше скажу: он недавно продал очень дорогой ковер, потому что на нем были вышиты мужские фигуры, и купил другой, с деревьями, заплатил дороже, хотя он хуже. Прежде чем войти в мою комнату, надо пройти семь дверей, исключая наружной, и все запираются на ключ, а ключи, - я до сих пор не могу догадаться, куда он их прячет на ночь.
К р и с т и н а. Тетенька, я думаю, что он прячет их под рубашку.
Л о р е н с а. Не думай, племянница; я сплю с ним вместе и знаю, что при нем нет ключей.
К р и с т и н а. Да еще всю ночь ходит, как домовой, по всему дому; и если случайно услышит музыку на улице, бросает камнями, чтобы уходили. Он злой, он колдун, он старый! Больше нечего и сказать о нем.
Л о р е н с а. Сеньора Ортигоса, смотрите, брюзга скоро воротится домой, он может вас застать - и все пропало. А что он захочет сделать, так делает скоро; и все это мне так опротивело, что остается только надеть петлю на шею, чтоб избавиться от такой жизни.
О р т и г о с а. А вот, может быть, как начнется для вас новая жизнь, эти дурные мысли и пройдут, и придут другие, более здравые и более приятные для вас.
К р и с т и н а. Так и будет; я за это готова дать себе палец на руке отрубить. Я очень люблю сеньору тетеньку, и мне до смерти жаль видеть ее такой задумчивой я скучной и под властью такого старого и перестарого, и хуже, чем старого; я никак досыта не наговорюсь, что он старый, старый...
Л о р е н с а. Однако он тебя любит, Кристина.
К р и с т и н а. Оттого, что старый. Я часто слыхала, что старики всегда любят молоденьких девочек.
О р т и г о с а. Это правда, Кристина. Ну, прощайте; я хочу вернуться домой к обеду. Держите на уме то, о чем мы уговорились; вы увидите, как мы обделаем это дело.
К р и с т и н а. Сеньора Ортигоса, сделайте милость, приведите мне какого-нибудь школьника-мальчонка[199], чтобы и мне какая-нибудь забава была.
О р т и г о с а. Я этому ребенку рисованного доставлю.
К р и с т и н а. Не хочу я рисованного, мне живого, живого, беленького, хорошенького, как жемчужинка!
Л о р е н с а. А если его дядя увидит?
К р и с т и н а. Я скажу, что это домовой, дядя испугается, а мне будет весело.
О р т и г о с а. Хорошо, я приведу; и прощайте. (Уходит.)
К р и с т и н а. Вот что, тетенька, если Ортигоса приведет любовника, а мне школьника, и сеньор их увидит, нам уж больше нечего делать, как схватить его всем, задушить и бросить в колодезь или похоронить в конюшне.
Л о р е н с а. А ведь ты, пожалуй, готова и сделать то, что говоришь.
К р и с т и н а. Так не ревнуй он и оставь нас в покое! Мы ему ничего дурного не сделали и живем, как святые.
Уходят.
Сцена вторая
Улица.
Входят Каньисарес-старик и его кум.
К а н ь и с а р е с. Сеньор кум, сеньор кум, если семидесятилетний женится на пятнадцатилетней, так он или разум потерял, или имеет желание как можно скорее отправиться на тот свет. Я думал, что донья Лоренсика будет мне подругой и утешением, будет сидеть у моей постели и закроет мне глаза, когда я умирать буду; но едва я успел жениться на ней, как стала меня одолевать тоска да беспокойство всякое. Было хозяйство, так хозяйку захотел; мало было горя, так прибавил.
К у м. Была, кум, ошибка, но небольшая; потому что, по словам апостола, лучше жениться, чем страстями распаляться.
К а н ь и с а р е с. Где уж мне распаляться! Каждая малая вспышка обратит меня в пепел. Я желал подруги, искал подругу и нашел подругу; но упаси господи от такой подруги, какова она!
К у м. Вы ревнуете жену, сеньор кум?
К а н ь и с а р е с. К солнцу, которое на нее смотрит, к воздуху, который ее касается, к юбкам, которые бьются об нее.
К у м. Подала она повод?
К а н ь и с а р е с. Ни малейшего, да и не может ничем, никак, никогда и нигде; окна не только заперты, но закрыты занавесками и ставнями; двери не отпираются никогда; ни одна соседка не переступает моего порога и никогда не переступит, пока я, благодаря бога, жив. Кум, дурное приходит в голову женщинам не на юбилеях, не на процессиях или других народных увеселениях; где они портятся, где они извращаются и где сбиваются с пути, так это у своих соседок и приятельниц. Дурная подруга прикроет срамных дел больше, чем даже покров ночи. Связи начинаются и устраиваются более у приятельниц, чем в разных собраниях.
К у м. Да, я то же думаю. Но, если сеньора донья Лоренса не выходит из дому и к себе никого не принимает, так об чем же, кум, вам печалиться?
К а н ь и с а р е с. А о том, что недалеко то время, когда Лоренса догадается, чего ей недостает. Это будет очень дурно, так дурно, что я и вздумать боюсь; а от боязни прихожу в отчаяние и с отчаянием-то живу да маюсь.
К у м. Да и есть причина вам бояться, потому что женщины желают пользоваться вполне тем, что им предоставляет супружество.
К а н ь и с а р е с. Моя более других чувствует, что такое супружеская жизнь.
К у м. Это тоже плохо, сеньор кум.
К а н ь и с а р е с. Нет, нет, нисколько! Потому что Лоренса проще голубя и до сих пор ничего не понимает в этих глупостях. Прощайте, сеньор кум, я пойду домой.
К у м. Я тоже хочу пойти с вами, посмотреть на сеньору Лоренсу.
К а н ь и с а р е с. Знайте, кум, что у древних римлян была пословица: amicus usque ad aras . Это значит: друг только до домашнего алтаря, то есть надо делать друг для друга все, что не противно богу. А я говорю, что у меня мой друг usque ad portam , - только до двери, потому что никто не перешагнет моего порога. Прощайте, сеньор кум, и извините меня. (Уходит.)
К у м. В жизнь свою не видал человека более подозрительного, более ревнивого и более грубого. Он из тех людей, которые сами на себя цепи накладывают и которые всегда умирают от той болезни, которой боятся. (Уходит.)
Сцена третья
Комната.
Входят донья Лоренса и Кристина.
К р и с т и н а. Тетенька, дядя что-то долго замешкался, а сеньора Ортигоса еще дольше.
Л о р е н с а. Да уж лучше б он и совсем не приходил, а она и подавно; он мне надоел, а она меня в стыд вводит.
К р и с т и н а. Все-таки всякое дело надо прежде испробовать, сеньора тетенька; ну, а не выйдет толку, можно и бросить.
Л о р е н с а. Ай, что ты, племянница! Уж в этих делах я или не знаю ничего, или знаю и скажу тебе, что вся и беда-то в том, что попробуешь.
К р и с т и н а. Надо правду сказать, сеньора тетенька, у вас мало смелости; будь я на вашем месте, да я бы никаких волков не побоялась.
Л о р е н с а. В другой раз я тебе говорю и тысячу раз еще скажу, что сатана в тебя вселился да и разговаривает. А ведь это сеньор! Как он вошел?
К р и с т и н а. Он, должно быть, отпер своим ключом.
Л о р е н с а. Ну его к черту с его ключами!
Входит Каньисарес.
К а н ь и с а р е с. С кем вы разговаривали, донья Лоренса?
Л о р е н с а. С Кристиной разговаривала.
К а н ь и с а р е с. То-то же, вы смотрите, донья Лоренса!
Л о р е н с а. Я говорю, что разговаривала с Кристиной. С кем же мне еще разговаривать? Разве есть с кем?
К а н ь и с а р е с. Не желал бы я, чтобы вы и сами с собой разговаривали, это всегда ко вреду для меня.
Л о р е н с а. Не понимаю я этих ваших разглагольствований, да и понимать не хочу. Дайте хоть сьесту[200] мирно провести[201].
К а н ь и с а р е с. Да я даже и во время ночного бдения не желаю воевать с вами. Но кто это так сильно стучит в дверь? Посмотри, Кристина, кто там, и если нищий, так подай милостыню, и пусть идет дальше.
К р и с т и н а. Кто там?
О р т и г о с а (за сценой). Это соседка Ортигоса, сеньора Кристина.
К а н ь и с а р е с. Ортигоса, да еще и соседка? Сохрани господи! Спроси, Кристина, чего ей нужно, и дай ей, но с условием, чтоб не всходила на крыльцо.
К р и с т и н а. Что вам угодно, сеньора соседка?
К а н ь и с а р е с. Слово "соседка" меня возмущает; называй ее по имени, Кристина.
К р и с т и н а. Скажите, что вам нужно, сеньора Ортигоса?
О р т и г о с а. Я хочу попросить сеньора Каньисареса об одном деле, которое касается моей чести, жизни и души.
К а н ь и с а р е с. Скажи, племянница, этой сеньоре, что у меня есть дело, которое тоже касается всего этого и даже больше, и чтобы она поэтому не приходила сюда.
Л о р е н с а. Боже, вот дикий поступок! Разве вас нет здесь, со мной? Что ж, меня съедят, что ли, глазами-то? Или на воздухе унесут?
К а н ь и с а р е с. Ну, коли вы желаете, так пусть войдет, сто тысяч ей чертей!
К р и с т и н а. Войдите, сеньора соседка!
К а н ь и с а р е с. Ах, роковое это слово для меня: "соседка"!
Входит Ортигоса; у нее в руках ковер, по четырем углам которого изображены Родамонт, Мандрикардо, Руджеро и Градассо[202]; Родамонт изображен закутанным в плащ.
О р т и г о с а. Сеньор души моей, подвигнутая и возбужденная доброй славой о вашем великом милосердии и многих благодеяниях, я осмелилась прийти просить вашу милость оказать мне такое одолжение, милосердие, помощь и благодеяние - купить у меня этот ковер. Мой сын взят под стражу за то, что ранил цирюльника. Суд приказал произвести хирургу осмотр, а мне нечем заплатить ему, последствия могут быть опасные и очень убыточные, потому что мой сын парень отчаянный. Я хотела бы выкупить его из тюрьмы сегодня или завтра, если возможно. Работа хорошая, ковер новый, и при всем том я отдам его за такую цену, какую ваша милость назначит, хоть и в убыток. Сколько я в свою жизнь вот так-то растеряла добра! Держите, сеньора моя, развернем его, чтобы сеньор мог видеть, что в моих словах нет обмана. Подымите выше, сеньора. Посмотрите, как хороши коймы. А фигуры по углам совсем живые.
Когда поднимают перед Каньисаресом и показывают ему ковер, входит молодой человек и пробирается во внутренние комнаты.
К а н ь и с а р е с. О, это милый Родамонт! Что ему нужно в моем доме, этому закутанному сеньору? Если б он знал, как я люблю эти подходы и прятанья, он бы ужаснулся.
К р и с т и н а. Сеньор дяденька, я ничего не знаю о закутанных; и если кто вошел к нам в дом, так по воле сеньоры Ортигосы, а я, пусть черт меня возьмет, если я словом или делом виновата в том, что он вошел; говорю по совести. Уж это будет черт знает что такое, если вы, сеньор дядя, подумаете, что это я виновата в том, что он пришел.
К а н ь и с а р е с. Да, я вижу, племянница, что виновата сеньора Ортигоса. Я и не удивляюсь этому, потому что она не знает ни моего характера, ни того, как я не люблю таких рисунков.
Л о р е н с а. О рисунках он говорит, племянница, а не о другом чем-нибудь.
К р и с т и н а. Да я про то же говорю. (Про себя.) Ах, господи помилуй! Опять душа на свое место стала, а то было в пятки ушла.
Л о р е н с а. На кой черт мне этот трехполенный верзила, да и к тому же поводись я с этими ребятами, так...
К р и с т и н а (про себя). Ай, как неловко, в какую беду влететь можно с такими проказами!
К а н ь и с а р е с. Сеньора Ортигоса, я не охотник до закутанных лиц и ни до какого переряживанья; вот вам дублон, этого довольно на ваши нужды, и уходите из моего дома как можно скорей, сию же минуту, и возьмите свой ковер.
О р т и г о с а. Продли бог вашей милости веку больше, чем Мордасуилу иерусалимскому[203]. Вот клянусь жизнью этой сеньоры, имени я их не знаю, пусть они приказывают мне, а я буду служить, день и ночь, телом и душой, потому что у них душа, надо полагать, как есть у горлинки невинной.
К а н ь и с а р е с. Сеньора Ортигоса, кончайте и уходите! Не ваше дело чужие души разбирать.
О р т и г о с а. Если вашей милости нужно какого-нибудь пластыря против болезни матки, так у меня есть удивительные, и против зубной болезни я знаю такие слова, которые всякую боль как рукой снимают.
К а н ь и с а р е с. Кончайте, сеньора Ортигоса; у доньи Лоренсы нет ни болезни матки, ни зубной боли, все у ней здоровы и целы, и во всю ее жизнь еще не выпало ни одного.
О р т и г о с а. Еще выпадут, бог даст; ей господь долгую жизнь пошлет, а старость уж вконец зубы-то сокрушает.
К а н ь и с а р е с. Ах, господи, нет возможности отделаться от этой соседки! Ортигоса, дьявол ли ты, соседка ли, или кто бы там ни было, убирайся, освободи нас!
О р т и г о с а. Справедливо говорить изволите. Не сердитесь, ваша милость, я ухожу. (Уходит.)
К а н ь и с а р е с. Ох, уж эти мне соседки, соседки! Разжигало меня каждое слово этой соседки, и именно потому только, что она соседка.
Л о р е н с а. А я вам говорю, что у вас характер совсем как у варвара и у дикого. Что такое сказала эта соседка, что вы так взъелись на нее? Вы ко всякому доброму делу примешиваете какой-нибудь смертный грех. Волчий рот, скорпионов язык, бездонная яма злости!
К а н ь и с а р е с. Нет, нет, остановите вашу мельницу, а то это добром не кончится. А вот не нравится мне, что вы так заступаетесь за вашу соседку.
К р и с т и н а. Сеньора тетенька, шли бы вы к себе в комнату и позабавились чем-нибудь; оставьте дядю в покое: он, кажется, сердит.
Л о р е н с а. Я так и сделаю, племянница, и не покажусь ему на глаза целых два часа. Божусь тебе, я его так отпотчую, что он доволен останется. (Уходит.)
К р и с т и н а. Дяденька, видели, как она скоро дверь-то защелкнула? Я думаю, она теперь ищет какой-нибудь запор, чтоб припереть ее покрепче.
Л о р е н с а (за сценой). Кристиника, Кристиника!
К р и с т и н а. Что угодно, тетенька?
Л о р е н с а. Если б ты знала, какого мне любовника судьба послала! Молодой, красивый, смуглый и весь померанцевыми цветами продушен.
К р и с т и н а. Боже мой, какие глупости, какое ребячество! Вы с ума сошли, тетенька?
Л о р е н с а. Ничуть, в полном своем разуме. Ну, божусь тебе, если бы ты увидела, ты бы возрадовалась.
К р и с т и н а. Боже мой, какие глупости, какое ребячество! Дяденька, побраните ее, она даже и в шутку не должна говорить таких непристойностей.
К а н ь и с а р е с. Ты дурачишься, Лоренса? Но я тебе серьезно говорю, я совсем не в расположении терпеть от тебя такие шутки.
Л о р е н с а. Не шутки, а правда; да еще какая правда-то! Чего лучше не бывает!
К р и с т и н а. Боже мой, какие глупости, какое ребячество! Скажите, тетенька, уж не там ли и мой школьник?
Л о р е н с а. Нет, племянница. Он придет как-нибудь в другой раз, если захочет Ортигоса, соседка.
К а н ь и с а р е с. Лоренса, говори, что хочешь, только слова "соседка" не произноси никогда; у меня трясутся все члены, как я его услышу.
Л о р е н с а. И у меня тоже трясутся, только от любви к соседке.
К р и с т и н а. Боже мой, какие глупости, какое ребячество!
Л о р е н с а. Теперь-то я увидала, каков ты, проклятый старик! А до сих пор, пока я жила с тобой, ты меня все обманывал.
К р и с т и н а. Побраните ее, дяденька, побраните ее, дяденька, уж очень она бесстыдничает.
Л о р е н с а. Я хочу помочить бородку моему милому ангельской водой из бритвенного тазика; он так хорош лицом, вот как есть ангел писаный!
К р и с т и н а. Боже мой, какие глупости, какое ребячество! Расшибите ее на мелкие части, дяденька!
К а н ь и с а р е с. Не ее, а двери, за которыми она прячется, я расшибу на мелкие части.
Л о р е н с а. Незачем; видите, они отворены. Войдите и увидите, что я правду говорила.
К а н ь и с а р е с. Хоть я и знаю, что ты шутишь, но я войду, чтоб тебя на ум наставить. (Идет в дверь. В дверях Лоренса выплескивает ему в глаза воду из бритвенного тазика. Каньисарес возвращается и протирает глаза; Кристина и донья Лоренса окружают его. В это время молодой человек пробирается из комнаты и уходит.)
К а н ь и с а р е с. Ведь, ей-богу, ты меня чуть не ослепила, Лоренса! К черту эти шутки, от них без глаз останешься.
Л о р е н с а. Посмотрите, с кем меня судьба связала! С самым-то злым человеком на свете! Посмотрите, он поверил моим выдумкам, по своей... только потому, что я его ревность поддразнила! Как испорчено, как загублено мое счастье! Заплатите же вы, волосы, за злодеяние этого старика! Оплакивайте вы, глаза, грехи этого проклятого! Посмотрите, как он мою честь и славу поддерживает! Подозрения он принимает за действительность, ложь за правду, шутки за серьезное, забаву за преступление! Ах, у меня душа расстается с телом!
К р и с т и н а. Тетенька, не кричите так; все соседи соберутся.
А л ь г у а с и л (за сценой). Отоприте двери! Отоприте сейчас, или я расшибу их в прах!
Л о р е н с а. Отопри, Кристиника, и пусть весь свет узнает мою невинность и злобу этого старика.
К а н ь и с а р е с. Господи помилуй! Да ведь я сам говорил тебе, что ты шутишь. Потише, Лоренса, потише!
Входят Альгуасил, музыканты, танцовщик и Ортигоса.
А л ь г у а с и л. Что это? Что за ссора? Кто кричал здесь?
К а н ь и с а р е с. Сеньор, ничего нет; ссора между мужем и женой; она сейчас же и кончилась.
М у з ы к а н т. А мы, черт возьми, то есть я и мои товарищи, мы, музыканты, были здесь неподалеку, на сговоре, и прибежали на крик с немалой тревогой, полагая, что это что-нибудь другое!
О р т и г о с а. И я тоже, грешным делом, подумала.
К а н ь и с а р е с. По правде сказать, сеньора Ортигоса, если бы не вы, так не вышло бы того, что вышло.
О р т и г о с а. Это по грехам моим; я такая несчастная, что нежданно-негаданно на меня всякие чужие грехи сваливают.
К а н ь и с а р е с. Сеньоры, отправляйтесь подобру-поздорову! Я благодарю вас за ваше доброе желание, но уж теперь мы опять примирились с женой.
Л о р е н с а. Примиримся, если вы прежде попросите у соседки прощения за то, что дурно думали о ней.
К а н ь и с а р е с. Если у всех соседок, о которых я дурно думаю, мне просить прощения, то этому конца не будет. Но все-таки я прошу прощения у сеньоры Ортигосы.
О р т и г о с а. Ия вас извиняю и теперь, и напредки.
М у з ы к а н т. Ведь не напрасно же мы сюда пришли: играйте, товарищи, пляши, плясун! Отпразднуем замирение песенкой.
К а н ь и с а р е с. Сеньоры, я не люблю музыки; я наслушался ее довольно.
М у з ы к а н т. Да хоть бы вы и не любили, мы все-таки споем.
М у з ы к а н т ы
(поют)
Плясун пляшет.
М у з ы к а н т ы
(поют)
К а н ь и с а р е с. Вот вы сами видите, ваши милости, в какое беспокойство и расстройство поставила меня соседка. Так прав ли я, что не люблю соседок?
Л о р е н с а. Хоть мой муж и не любит соседок, но я целую ваши ручки, сеньоры соседки.
К р и с т и н а. Ия тоже. А если б моя соседка привела мне школьника, то была бы она самая лучшая соседка. Прощайте, сеньоры соседки!
Судья по бракоразводным делам
Судья по бракоразводным делам.
Письмоводитель.
Прокурадор.
Старик.
Марьяна, его жена.
Солдат.
Донья Гьомар, его жена.
Подлекарь[204].
Донья Альдонса, его жена.
Крючник[205].
Два музыканта.
Зала суда.
Входит судья, письмоводитель и прокурадор; судья садится на кресло. Входят старик и Марьяна.
М а р ь я н а (старику очень громко). Ну, вот, сеньор судья бракоразводных дел сел на свое судейское кресло; вот теперь как хочу... хочу брошу дело, хочу в ход пушу. Но нет, уж теперь я хочу жить на воле, проживать безданно-беспошлинно, как птица.
С т а р и к. Ради бога, Марьяна, не суетись ты так со своим делом! Говори ты потише, богом прошу тебя. Досмотри, ведь ты всполошила всех соседей своими криками; вот теперь сеньор судья перед тобой, ты и без крика можешь объяснить ему свою просьбу.
С у д ь я. Что у вас за спор, добрые люди?
М а р ь я н а. Развод, сеньор, развод, и опять развод, и тысячу раз развод!
С у д ь я. С кем и почему, сеньора?
М а р ь я н а. С кем? С этим стариком, который перед вами.
С у д ь я. Почему?
М а р ь я н а. Потому, что не могу я переносить его причуд, не могу постоянно ухаживать за его болестями, которых у него несть числа. Меня мои родители воспитывали совсем не в сиделки или сестры милосердия. Я хорошее приданое принесла этому костяному скелету, который только жизнь мою заедает. Когда я шла за него замуж, так у меня лицо-то светилось, как зеркало, а теперь оно точно суконка. Ваша милость, сеньор судья, разведите нас, коли вам нежелательно, чтоб я удавилась. Смотрите, смотрите, какие борозды у меня на лице, - это все от слез, которые я каждый день проливаю, как только вздумаю, что я замужем за этой анатомией!
С у д ь я. Не плачьте, сеньора! Умерьте ваш голос и утрите слезы, я рассужу вас по справедливости.
М а р ь я н а. Позвольте мне плакать, ваша милость; в этом одно мое утешение. В королевствах и республиках, хорошо-то устроенных, время супружеской жизни надо бы ограничить; через каждые три года браки-то нужно бы разводить или утверждать еще на три года, вот как аренды; и чтоб уж никак не тянулись они всю жизнь, на вечную муку для обеих сторон.
С у д ь я. Если б это можно или должно было сделать, так уж во что бы то ни стало, а давно бы это сделали, сеньора; но определите мне точнее причины, которые вас заставили просить развода.
М а р ь я н а. Его дряхлость и мои цветущие лета; никакого сна, потому что должна я вставать в полночь, греть платки да мешочки с отрубями и прикладывать ему к бокам и накладывать то ту, то другую перевязку, а гораздо бы мне приятнее было видеть, чтоб ему пеньковую перевязку на шею присудили; и всю ночь сторожить, чтобы поднимать повыше подушки, подавать сиропы да мягчительные, чтоб ему не теснило грудь; и принуждена я еще терпеть дурной запах у него изо рта, которым разит от него на три выстрела из аркебуза.
П и с ь м о в о д и т е л ь. Это, должно быть, оттого, что у него коренной зуб гниет.
С т а р и к. Нет, не должно быть; потому что у меня во рту давно уж сам черт не только коренного, а и никакого зуба не найдет.
П р о к у р а д о р. Я слышал, что и закон такой есть, будто бы единственно за дурной запах изо рта можно развести жену с мужем и мужа с женой.
С т а р и к. По правде сказать, сеньоры, этот дурной запах, о котором она говорит, совсем не от гнилых зубов, потому что у меня их нет, и не от желудка, который совершенно здоров, а все это умысел ее злой души. Ваша милость, вы мало знаете эту сеньору; а кто ее знает-то, так, божусь вам, либо отмалчивается от нее, либо открещивается. Двадцать два года живу я с ней мучеником, и нет-то мне никакого утешения в жизни, терплю ее блажь, крики да причуды; и уже вот два года я каждый день получаю от нее потасовки и побои чуть не насмерть. От ее крику я почти совсем оглох и уж начисто помешался. Если она и ухаживает за мной во время болезни, как она вам говорит, так делает это скрипя зубами, а совсем не так заботливо и ласково, как лекаря. Словом сказать, сеньоры, от этого брака я умираю, а она живет, потому что она полновластная госпожа всего моего хозяйства.
М а р ь я н а. Вашего хозяйства? Да какое ж у вас хозяйство, кроме того, что вы приобрели на мое приданое? И половина всего благоприобретенного моя. Уж как вам этого ни жалко, а из этого и из приданого, если я сегодня умру, я вам не оставлю ни на копейку, чтобы только доказать, какова моя любовь к вам.
С у д ь я. Скажите, сеньор, когда вы женились на вашей супруге, вы были еще молодцом, здоровым, крепким человеком?
С т а р и к. Я уж говорил, что прошло целых двадцать два года с тех пор, как я поступил под ее команду, вот точь-в-точь как под начальство калабрийского капитана в каторжную работу на галеры; я тогда был так здоров, что, какую хочешь игру заводи, не скоро забастую.
М а р ь я н а. Было-то было, да не надолго хватило, пословица говорится.
С у д ь я. Молчите, молчите, прах вас побери, добрая женщина, и ступайте с богом; я не нахожу достаточного повода для развода. Вы пробовали сладкое, попробуйте и горького. Нельзя обязать мужей не подчиняться быстрому времени и не стареться. Сопоставьте неприятности, которые он вам теперь причиняет, с тем добром, которое он делал для вас, когда мог, и не возражайте более ни одного слова.
С т а р и к. Если только возможно, ваша милость сделали бы мне большое одолжение и облегчение, освободив меня из этой тюрьмы. Оставаться в ней, терпеть от нее побои - это значит попасть в руки палача, который будет меня терзать. А вот бы что сделать: шла бы она в монастырь, а я в другой; разделили бы мы имение и жили бы таким образом в мире, посвятив на служение богу остальные дни своей жизни.
М а р ь я н а. Вот еще, черт тебя возьми! Очень мне нужно запирать себя в монастырь. Я ведь не девчонка; тем, может быть, нравятся сетки, потайные двери, железные решетки в окнах да подслушиванье. Запирайтесь в монастырь! Вам это легко, потому что у вас нет ни глаз, чтоб видеть, ни ушей, чтоб слышать, ни ног, чтоб ходить, ни рук, чтоб осязать. А я здорова и всеми моими пятью чувствами, полными и свежими, хочу пользоваться открыто, а не прятать их так, как игроки прячут свои карты друг от друга.
П и с ь м о в о д и т е л ь. Вольного духа женщина!
П р о к у р а д о р. И муж умный человек; но уж больше ничего не спрашивай.
С у д ь я. Я не могу произвести развода: quia nullam inycnio causam[206].
Входят солдат, хорошо одетый, и его жена, донья Гьомар.
Г ь о м а р. Благодарение господу, желание мое исполнилось, я нахожусь перед вашей милостью. Самым убедительнейшим образом, как только умею, умоляю вас развести меня с этим.
С у д ь я. Что такое "с этим"? Разве у него нет другого имени? Вам бы следовало сказать, по крайней мере: "с этим человеком".
Г ь о м а р. Если бы он был человек, я бы и развода не просила.
С у д ь я. Кто же он?
Г ь о м а р. Полено.
С о л д а т (про себя). Да, клянусь богом, я буду молчалив и терпелив, как полено; я не стану оправдываться, не стану противоречить жене; может быть, судья и сделает такое одолжение, обвинит меня и, в наказание, избавит меня от неволи; ведь бывают же чудеса, и невольники иногда спасаются из тюрем Тетуана[207].
П р о к у р а д о р. Говорите учтивее, сеньора, и объясняйте дело без оскорблений для вашего мужа; сеньор судья, который перед вами, рассудит ваше дело по всей справедливости.
Г ь о м а р. Отчего ж, милостивые государи, вы не желаете, чтоб я назвала поленом статую, в которой движения не больше, чем в бревне?
М а р ь я н а. Ну, видно, мы обе терпим одно и то же горе.
Г ь о м а р. Скажу вам, наконец, сеньор мой, что меня точно выдали за этого человека, если угодно вашей милости, чтоб я его так называла; но ведь это не тот человек, за которого я вышла замуж.
С у д ь я. Как же это так? Я вас не понимаю.
Г ь о м а р. То есть, я хочу сказать: я думала, что выхожу замуж за человека дельного и проворного; а через несколько же дней оказалось, что я вышла, как уже я говорила, за полено. Он не знает, которая у него правая рука; не находит ни средств, ни способов добыть хоть реал для поддержки своего дома и семейства. Утро он проводит по церквам у обеден и толчется у ворот Гуадалахарских, шепчется, разузнает новости, рассказывает и слушает сплетни. После полудня, да и по утрам тоже, шляется по игорным домам, из одного в другой, и только зевак прибавляет; а это такого сорта люди, которые, как я слышала, всем игрокам надоели и которых они презирают. В два часа приходит обедать, не получив с выигрышу ни от кого ни одного реала, потому что теперь уж это вывелось. Потом уйдет опять, возвращается в полночь, ужинает, коли найдет что; а коли нет, крестится, зевает и ложится спать; но всю ночь он не успокоится, а ворочается с боку на бок. Спрошу его: "что с тобой?" Отвечает мне, что сочиняет в уме сонет для друга, который его об этом просил. Он воображает себя поэтом, как будто это такое занятие, которое избавляет от нужды.
С о л д а т. Моя сеньора, донья Гьомар, во всем, что говорила, не перешла границ правды и основательности; и если б я в своих делах был так же основателен, как она в речах, то уж давно бы я достал себе какое-нибудь занятие и хлопотал бы так же, как и другие ловкие и проворные людишки. С хлыстом в руках, на наемном муле, маленьком, худом и злом, без погонщика, потому что такие мулы никогда не нанимаются и ничего не стоят, с перекидной сумкой на крупе, в одной половине воротничок и рубашка, в другой кусок сыру, хлеб и кожаная фляжка, без приличного дорожного платья, кроме пары штиблет об одной шпоре, с беспокойной торопливостью уезжает он комиссионером по Толедскому мосту на ленивом и упрямом муле. Глядишь, и через несколько дней посылает домой окорок ветчины и несколько аршин небеленого полотна, и такими вещами, которые ничего не стоят в той местности, куда он послан, поддерживает свой дом, как только он, грешный, может... Но у меня нет никакой должности, и я не знаю, как добыть ее, потому что ни один сеньор не желает взять меня в службу, оттого что я женат. Так что я принужден надоедать вашей милости, сеньор судья, так как бедные идальги очень надоедливы, да и жена моя того же просит, - разделите и разведите нас.
Г ь о м а р. И еще вот что, сеньор судья. Видя, что мой муж ни к чему не способен и терпит нужду, я умираю, чтоб помочь ему как-нибудь, но не могу, потому что, прежде всего, я женщина честная и ни на какие низости не способна.
С о л д а т. Вот только единственно за это и стоит любви жена моя. Но под этой честностью таится в ней самый дурной характер, какой только есть на свете: ревнует без всякой причины, бранится ни за что, превозносится, ничего не имея; а за то, что я беден, не считает меня за человека. А хуже-то всего, сеньор судья, она желает, чтобы я, ради ее верности ко мне, терпел и скрывал тысячи тысяч ее капризов и пошлостей.
Г ь о м а р. Отчего ж нет? Почему вам не иметь почтения и уважения к такой добродетельной женщине, как я?
С о л д а т. Слушайте, сеньора донья Гьомар, что я желаю сказать вам перед этими сеньорами. Что вы так важничаете тем, что вы честная женщина, коли это ваша прямая обязанность, так как вы происходите от честных родителей, так как вы христианка и, наконец, обязаны быть честной в отношении к самой себе? Хорошо было бы, если б жены требовали от мужей уважения за то только, что чисты и честны; как будто бы только в этом и состоит все их совершенство, и при нем они могут обойтиться без тысячи других добродетелей, которые они обязаны иметь. Что мне из этого, что вы сами-то по себе честны, если вы не смотрите за честностью вашей горничной, если вы постоянно нахмурены, сердиты, ревнивы, надуты, растрепаны, сонны, не одеты, бранчивы, ворчливы и еще с другими безобразиями подобного рода, которые способны сокрушить жизнь двумстам мужей? Но я вам доложу, сеньор судья, что ничего этого в моей сеньоре донье Гьомар нет; и я признаюсь, что я полено, что я неспособный, вялый и рассеянный человек и что только для порядка, хотя бы даже не было никаких других причин, ваша милость обязаны развести нас, потому что я сейчас сим заявляю, что я ничего не имею возразить против того, что говорила моя жена, и что я считаю нашу тяжбу конченной и заявлю удовольствие, если меня осудят.
Г ь о м а р. Да что же можно возразить против того, что я говорю? Что вы не кормите ни меня, ни вашу горничную; и добро б их много было, а то всего одна, да еще семимесячный ребенок, который ест не более сверчка.
П и с ь м о в о д и т е л ь. Потише! Входят новые просители.
Входят подлекарь, в одежде лекаря, и Альдонса де Минхака, его жена.
П о д л е к а р ь. Четыре весьма основательные причины привели меня просить вашу милость, сеньор судья, произвести развод между мною и сеньорой доньей Альдонсой де Минхака, моей женой, которая здесь перед вами.
С у д ь я. Вы начинаете решительно. Скажите эти четыре причины.
П о д л е к а р ь. Первая: видеть ее для меня хуже, чем всех дьяволов вместе; вторую она сама знает, третья... я об ней промолчу; четвертая, что я не хочу попасть к черту на рога, что непременно случится, если всю жизнь проживу в союзе с нею.
П р о к у р а д о р. Он выразил свое желание самым удовлетворительнейшим образом.
А л ь д о н с а. Сеньор судья, выслушайте меня и заметьте, что если у моего мужа четыре причины, чтобы просить развода, то у меня их четыреста. Первая та, что каждый раз, как я его вижу, мне кажется, что я вижу самого Люцифера[208]; вторая, что я была обманута, когда выходила за него замуж; он говорил мне, что он настоящий пульсовый лекарь[209], который щупает пульс, а оказалось, что он просто подлекарь, который делает перевязки и лечит кой-какие неважные болести; и выходит, что он только половина настоящего-то лекаря; третья, что он ревнует меня даже к солнцу, когда оно меня касается; четвертая, что я не могу его видеть и желала бы убежать за два миллиона верст от него.
П и с ь м о в о д и т е л ь. Какой черт теперь справит эти часы, коли все колеса в них в разлад пошли?
А л ь д о н с а. Пятая...
С у д ь я. Сеньора, сеньора, если вы желаете излагать все свои четыреста причин, так я вам скажу, что я слушать их не в расположении, да и времени не имею. Ваше дело отлагается до исследования; и ступайте с богом, у меня есть другие дела спешные.
П о д л е к а р ь. Какие еще исследования, кроме того, что я не желаю умирать с ней, а ей не нравится жить со мной?
С у д ь я. Если б этого было достаточно для развода, то бесконечное число супругов сбросили бы с плеч своих супружеское иго.
Входит крючник в четырехугольной шапке на голове.
К р ю ч н и к. Сеньор судья, я крючник, - это уж я не запираюсь; но, однако, я старый христианин[210] и человек на руку честный, и если бы я иной раз не набирался вина или оно меня не забирало, что вернее, так был бы уж давно старостой в артели крючников[211]. Но это в сторону, у меня есть еще много о чем разговаривать. Желаю я, чтоб ваша милость, сеньор судья, знали, что однажды я, закружившись до одурения от паров Вакха, обещал одной заблудшей женщине жениться на ней. Когда я пришел в себя и поправился, я исполнил обещание и женился на женщине, которую я вытащил из грязи. Посадил я ее фруктами торговать; напала на нее такая гордость и такой дурной характер явился, что ни один-то покупатель не подойдет к ее прилавку без того, чтобы она не поругалась с ним; то у нее весу не хватит, то зачем роются в фруктах; и уж двум из трех непременно пустит гирю в голову или во что попало и срамит их даже до четвертого колена, а с соседками и товарками ни одного часу не живет в мире. И я целый-то день должен держать в руках, точно дудку, свою шпагу наготове, чтоб защищать ее. У нас не хватает всей выручки за неполный вес и на судебные издержки за проигранные тяжбы. Если ваша милость будете так добры, я желал бы, чтобы или развели меня с ней, или по крайней мере переменили ее горячий характер на скромный и тихий; и обещаю я вашей милости, что перенесем мы даром ваш весь уголь, который вы купите этой весной, потому что я в своей артели большой вес имею.
П о д л е к а р ь. Я знаю жену этого доброго человека; она так зла, как моя Альдонса, а выше этого ничего быть не может.
С у д ь я. Слушайте, сеньоры: хотя некоторые из вас присутствующих дали некоторые показания, в которых заключаются некоторые поводы для развода, но при всем том необходимо письменное заявление и свидетели; а потому все ваши процессы я отлагаю до представления доказательств. Но что это? Музыка и гитары в моей присутственной зале? Это какие-то новости.
Входят два музыканта.
М у з ы к а н т. Сеньор судья, те рассорившиеся супруги, которых вы, ваша милость, соединили, согласили и примирили, ждут вашу милость на большой пир в их доме, почему и послали нас просить вас сделать им честь пожаловать к ним.
С у д ь я. Я сделаю эту честь с великим удовольствием. И прошу бога, чтобы все присутствующие примирились так же, как и они.
П р о к у р а д о р. И помрут тогда с голоду и писцы и прокурадоры этого присутственного места. Нет, нет, все просите развода, все; потому что наконец, - наконец, если вас и не разведут, то все-таки нам-то доход от ваших распрей и ссор.
М у з ы к а н т. Теперь пойдемте пировать и веселиться.
Бискаец-самозванец
Лица:
Солорсано.
Киньонес.
Донья Кристина.
Донья Брихида.
Золотых дел мастер.
Слуга или служанка.
Два музыканта.
Альгуасил.
Сцена первая
Улица.
Входят Солорсано и Киньонес.
С о л о р с а н о. Вот два мешочка, они, кажется, очень схожи, и цепочки при них тоже одинаковы. Теперь вам остается только сообразоваться с моим намерением, чтобы провести эту севильянку, несмотря на всю ее хитрость.
К и н ь о н е с. Разве обмануть женщину уж такая большая честь, или тут нужно так много ловкости, что вы употребляете столько хлопот и прилагаете столько старания для этого?
С о л о р с а н о. Если встретится такая женщина, как эта, то обмануть приятно, тем более, что эта шутка не переходит через край. Я хочу сказать, что тут нет ни греха против бога, ни преступления против того, над кем шутят. Что унижает человека, то уж не шутка.
К и н ь о н е с. Ну, если вам угодно, пусть так и будет. Я ручаюсь, что помогу вам во всем, что вы мне сказали, и сумею притвориться так же хорошо, как и вы; потому что превзойти вас я не могу. Куда вы идете теперь?
С о л о р с а н о. Прямо в дом к моей красавице. Вы туда не входите; я вас в свое время позову.
К и н ь о н е с. Я буду дожидаться. (Уходит.)
Сцена вторая
Комната
Входят донья Кристина и донья Брихида. Брихида в манто, трепещущая и взволнованная.
К р и с т и н а. Боже! Что с тобой, милая Брихида? У тебя душа расстается с телом.
Б р и х и д а. Милая донья Кристина, дай мне вздохнуть, плесни мне немного воды в лицо, я умираю, я кончаюсь, душа моя отлетает! Боже, помоги мне! Скорей, скорей духовника!
К р и с т и н а. Что это? Ах, я несчастная! Отчего не говоришь ты, милая, что с тобой случилось? Тебе привиделось что-нибудь? Не получила ль ты дурного известия? Уж не умерла ли твоя мать, не воротился ли твой муж, или не украли ли твои бриллианты?
Б р и х и д а. Ничего мне не привиделось, не умирала моя мать, не вернулся муж, ему еще остается три месяца пробыть там, куда он уехал, чтобы кончить дела; не воровали у меня и бриллиантов; со мной случилось другое, что гораздо хуже.
К р и с т и н а. Ну, наконец, скажи же, Брихида моя! Я исстрадаюсь, истерзаюсь, пока не узнаю.
Б р и х и д а. Ах, желанная моя! то, что случилось со мной, столько же касается и тебя. Помочи мне лицо; у меня все тело облито потом, холодным, как лед. Несчастные те женщины, которые живут свободно, потому что если они захотят иметь хоть маленькую самостоятельность и так или иначе ею пользоваться, - так она сейчас же и свяжет их по рукам и ногам.
К р и с т и н а. Ну, скажи же, наконец, милая, что с тобой случилось и что это за несчастие, которое также касается и меня?
Б р и х и д а. Коснется, и очень; ты поймешь это, если у тебя есть смысл; а у тебя, кажется, его довольно. Ну, слушай, родная моя! Сейчас по дороге к тебе, проезжая ворота Гуадалахарские[212], вижу я, среди бесчисленной толпы полиции и народа, бирюча, который провозглашает следующее правительственное распоряжение, что кареты отменяются[213] и чтобы женщины не закрывали лиц на улицах.
К р и с т и н а. Так это дурная-то новость?
Б р и х и д а. Да разве для нас может быть что-нибудь в мире хуже этого?
К р и с т и н а. Я думаю, родная моя, что по поводу карет должно быть какое-нибудь распоряжение; невозможно, чтоб их совсем отменили; но распоряжение было бы очень желательно, потому что, как я слышала, верховая езда в Испании пришла в совершенный упадок; молодые кавалеры по десяти и по двенадцати человек набиваются в одну карету и снуют по улицам день и ночь, забывая, что есть на свете лошади и кавалерийская служба. Когда же у них не будет удобства земных галер, то есть карет, они обратятся к изучению верховой езды, которой прославились их предки.
Б р и х и д а. Ах, Кристина, душа моя! Я слышала тоже, что хотя некоторым и оставят кареты, но с тем условием, чтобы не ссужали их никому и чтобы в них не ездила ни одна из... ты меня понимаешь.
К р и с т и н а. Пожалуй, что с нами это и сделают. Но успокойся, родная моя, между военными еще вопрос: что лучше, - кавалерия или пехота. Уж доказано, что пехота испанская заслуживает уважения от всех наций[214], и теперь можем мы, веселенькие женщины, пешим образом показывать свою грацию, свою любезность, свое великодушие, и притом же с открытыми лицами, что гораздо лучше; потому что те, которые стали бы за нами ухаживать, уж не ошибутся, они нас видели.
Б р и х и д а. Ай, Кристина, не говори этого! Как приятно ехать, развалясь в задке кареты, передвигаться то на ту, то на другую сторону, показываться кому, как и когда захочешь! И вот, ей-богу, по душе тебе говорю, когда иной раз я достану карету и чувствую, что сижу в ней с некоторым величием, я восторгаюсь до самозабвения; мне представляется, я уверена, что я дама первой степени и что самые титулованные сеньоры могут служить мне горничными.
К р и с т и н а. Видишь, донья Брихида, как умно я сказала, что хорошо бы отнять у нас кареты; мы тогда освободились бы от греха - тщеславия! И вот еще что нехорошо: карета всех равняет, и тех и сех; иностранцы, видя в карете особу, великолепно одетую, блестящую драгоценностями, перестают ухаживать за тобой и ухаживают за ней, считая ее за важную сеньору. Милая, ты не должна печалиться, пускай в дело свою ловкость и красоту, свое севильское манто, тканное из воздуха, и уж во всяком случае свои новые туфли с серебряной бахромой, пускайся по этим улицам - и я тебе ручаюсь, что на такой сладкий мед в мухах недостатка не будет, если только ты пожелаешь, чтоб они слетелись.
Б р и х и д а. Бог тебе за это заплатит, милая; я совсем успокоилась после твоих наставлений и советов и думаю непременно пустить их в дело. Буду рядиться и разряживаться, и показываться с открытым лицом, и постоянно толочь пыль на улицах. Унять мою голову некому; тот, кого считают моим мужем, ведь не муж мне, а только еще дал слово быть мужем.
Показывается в дверях Солорсано.
К р и с т и н а. Боже! Вы так тихо и без доклада входите в мой дом, сеньор! Что вам угодно?
С о л о р с а н о (входя). Извините за смелость! Вором можно сделаться случайно. По пословице: плохо не клади, вора в грех не вводи. Я видел, что двери отворены, и вошел; я решился войти, чтоб служить вам, и не словами, а делом. Если можно говорить в присутствии этой дамы, то я скажу вам, зачем я пришел и какие имею намерения.
К р и с т и н а. От приятного вашего присутствия между нами нам нельзя и ожидать ничего иного, кроме хороших слов и хороших дел. Говорите то, что вы желали сказать; сеньора донья Брихида мой друг - это то же что я сама.
С о л о р с а н о. В таком случае и с вашего позволения я буду говорить правду. Я, по правде вам сказать, сеньора, придворный[215], и вы меня не знаете.
К р и с т и н а. Да, это правда.
С о л о р с а н о. Я уже давно желаю служить вам, побуждаемый к тому вашей красотой, вашими природными качествами, а еще более вашим умением жить; но разные мелочи, в которых никогда не бывает недостатка, до сего времени препятствовали мне привести мое желание в действительность. Теперь судьбе угодно было, чтобы один мой хороший друг прислал мне из Бискайи своего сына, бискайца, для того, чтобы я его отправил в Саламанку[216] и нашел ему общество, которое делало бы ему честь и способствовало его образованию. Но, сказать вам правду, он глуповат и имеет некоторые странности. Кроме того, есть у него еще недостаток, о котором и говорить нехорошо, а уж тем более иметь его, - он иногда придерживается вина, но так, что совсем теряет рассудок; оно его очень волнует. Когда он выпивши и, как говорится, когда у него душа нараспашку, у него является удивительная веселость и щедрость: он раздает все, что имеет, всякому, кто просит и кто не просит. Я желал бы, пока все его состояние не полетит к черту, кой-чем от него попользоваться, и для этого я не нахожу лучшего средства, как привести его к вам: он очень любезен с дамами, очень любит дам, и здесь мы втихомолку оберем его, как липку. Вот для начала я принес вам цепь в этом мешочке, она стоит сто двадцать золотых скуди; вы ее возьмите и дайте мне теперь десять скуди, которые мне нужны на некоторые безделицы, а остальные двадцать заплатите ужином сегодня вечером; придет и наш дурак, или буйвол, я его притащу за нос, как говорится. После двух моих визитов к вам вы будете иметь цепь, потому что я за нее, кроме десяти скуди, которые получу теперь, ничего не желаю... Цепь превосходная, из лучшего золота и дорогой работы. Вот она, возьмите ее!
К р и с т и н а. Целую ваши ручки за то, что вы доставляете мне такой выгодный случай; но я буду говорить откровенно то, что чувствую: такая щедрость меня конфузит и несколько подозрительна для меня.
С о л о р с а н о. Какое же и в чем подозрение, сеньора?
К р и с т и н а. А в том, что эта цепь, может быть, произведение алхимии; недаром говорится пословица: не все то золото, что блестит.
С о л о р с а н о. Вы рассуждаете чрезвычайно умно, и недаром про вас идет молва, что вы самая умная дама в столице; и мне очень приятно видеть, как вы без жеманства и околичностей прямо открываете то, что у вас на сердце. Но, кроме смерти, на все есть средство: надевайте манто или пошлите кого-нибудь, кому вы верите, к золотых дел мастеру и узнайте пробу и вес этой цепи, и, если она чистого золота и имеет те достоинства, о которых я говорил, тогда вы мне дадите десять скуди, сделаете угощение этому дураку и останетесь с цепью.
К р и с т и н а. Здесь рядом живет золотых дел мастер, мой знакомый; он легко рассеет мои сомнения.
С о л о р с а н о. Только этого я и желаю, я люблю и уважаю такое поведение; сам бог благословляет дела, если они ведутся начистоту.
К р и с т и н а. Если вы решитесь доверить мне эту цепь, пока я приценюсь, то, погодя немного, вы можете прийти, и я отдам вам десять золотых скуди.
С о л о р с а н о. Вот хорошо! Да я доверю вам даже честь свою, а еще бы я не доверил цепи! Вы можете пробовать и перепробовать; я теперь отправлюсь и ворочусь через полчаса.
К р и с т и н а. И даже можете раньше, если только мой сосед дома.
Солорсано уходит.
Б р и х и д а. Ну, милая Кристина, какое счастье тебе привалило! А я уж такая несчастная, никто мне ведра воды даром не дает, и то мне трудов стоит. Вот разве только: встретила я недавно на улице поэта, так он мне весьма охотно и очень учтиво предложил сонет о Пираме и Тизбе и обещал написать в честь мою еще.
К р и с т и н а. Лучше бы было тебе встретиться с каким-нибудь генуэзцем[217], тот предложил бы тебе триста реалов.
Б р и х и д а. Уж, конечно, генуэзцы этим отличаются и еще тем, что в руки даются легко, точно прикормленные ястреба; все они меланхолики и скучны, точно по указу.
К р и с т и н а. Я желала бы, Брихида, чтобы ты убедилась, что половина генуэзца стоит больше, чем четыре целых поэта. Ах, смотри-ка, наше дело на всех парусах летит! Вот он сам, золотых дел мастер!
Входит золотых дел мастер.
Что вам угодно, милый сосед? Вы меня освобождаете от манто, которое я хотела накинуть на плечи, чтобы идти к вам.
З о л о т ы х д е л м а с т е р. Сеньора донья Кристина, вы мне сделаете одолжение, если употребите все ваше старание, чтобы увести завтра мою жену в комедию[218], потому что мне нужно, и очень нужно, завтра после обеда быть свободным от надзора и преследования.
К р и с т и н а. Я это сделаю с большим удовольствием. И даже, если сеньор сосед желает, мой дом и все, что в нем есть, к его услугам, - он его найдет пустым и прибранным, потому что я хорошо знаю, что за жена у него.
З о л о т ы х д е л м а с т е р. Нет, сеньора, уведите только жену, с меня и довольно. Но что же вам угодно от меня, зачем вы хотели идти ко мне?
К р и с т и н а. А вот зачем: скажите мне, сеньор сосед, сколько весу в этой цепи и чистого ли она золота и какой пробы?
З о л о т ы х д е л м а с т е р. Эту цепь я имел в руках много раз и знаю, что на вес она стоит полтораста скуди и двадцать второй пробы, и если вы ее покупаете на вес, не считая работы, то в убытке не останетесь.
К р и с т и н а. Работа тоже будет стоить кой-чего, но немного.
З о л о т ы х д е л м а с т е р. Покупайте, сеньора соседка; если вам она не нужна, я дам десять дукатов только за работу.
К р и с т и н а. Я, если можно, постараюсь купить ее дешевле. Но смотрите, сеньор сосед, не ошибитесь относительно чистоты золота и количества веса.
З о л о т ы х д е л м а с т е р. Хорош бы я был, если б ошибался в своем деле! Говорю вам, сеньора, я два раза перепробовал ее по колечку и вешал ее, и знаю как свои пять пальцев.
Б р и х и д а. Этого с нас довольно.
З о л о т ы х д е л м а с т е р. И вот вам еще доказательство: я помню, что приносил ее вешать и пробовать один благородный молодой человек, по имени Солорсано.
К р и с т и н а. Довольно, сеньор сосед. Отправляйтесь с богом, я сделаю то, что вы просили, я возьму ее и удержу два часа и более, если бы было нужно: потому что я знаю, что лишний час вам не может повредить.
З о л о т ы х д е л м а с т е р. С вами жить и умереть! Все-то вы знаете. Прощайте, сеньора моя! (Уходит.)
Б р и х и д а. Нельзя ли подделаться к этому милому Солорсано, чтобы он вытянул для меня у этого пьяницы-бискайца что-нибудь ценное?
К р и с т и н а. Мы еще успеем. Но смотри-ка, он возвращается. Он идет проворно и смело, десять скуди его подгоняют и пришпоривают.
Входит Солорсано.
С о л о р с а н о. Сеньора донья Кристина, вы сделали все, что нужно? Вы убедились в достоинствах моей цепи?
К р и с т и н а. Сделайте одолжение, скажите, как вас зовут?
С о л о р с а н о. Дон Эстебан де Солорсано. Но зачем вы меня спрашиваете?
К р и с т и н а. Чтобы приложить печать к вашей правдивости и учтивости. Поговорите немного с сеньорой Брихидой, пока я схожу за деньгами. (Уходит.)
Б р и х и д а. Сеньор дон Солорсано, нет ли у вас хоть какой-нибудь зубочистки и для меня?[219] Уж не такая же я заброшенная, - и у себя дома я принимаю таких же хороших людей, как сеньора донья Кристина. Если бы я не боялась, что нас услышат, я рассказала бы сеньору Солорсано про ее недостатки. Знайте, что груди у нее, как два пустых мешочка, и дыхание у нее не лучше, потому что она очень красится. И при всем том ее ищут, посещают и любят. Я готова исцарапать себе лицо, скорей от бешенства, чем от зависти; нет человека, который бы подал мне руку, а оттолкнуть меня готовы многие. Да, безобразным счастье.
С о л о р с а н о. Не отчаивайтесь; только бы я был жив, а то другой петух запоет в вашем курятнике.
Входит Кристина.
К р и с т и н а. Вот, сеньор дон Эстебан, десять скуди; а вечером для вас будет готов ужин княжеский.
С о л о р с а н о. Дурак-то наш стоит на улице у дверей ваших; так я пойду за ним. Вы его приласкайте, хотя, конечно, это будет для вас не слаще пилюль. (Уходит.)
Б р и х и д а. Я его просила, милая, чтоб он нашел для меня какого-нибудь щедрого человека; он сказал, что сделает это со временем.
К р и с т и н а. Со временем! Со временем-то на нас никто и не взглянет: немного лет - так много барыша, много лет - много убытку.
Б р и х и д а. Я сказала тоже, как ты хороша, мила, грациозна и что вся ты амбра, мускус и цибет.
К р и с т и н а. Уж я знаю, милая, что ты за глаза про людей всегда хорошо говоришь.
Б р и х и д а (про себя). Вот, изволите видеть, кому любовники-то достаются! У меня подошвы у ботинок лучше и дороже, чем у нее брыжи на шее. Опять-таки скажу: счастье безобразным.
Входят Киньонес и Солорсано.
К и н ь о н е с. Бискаец ручки целуется. Вашей милости приказывать.
С о л о р с а н о. Сеньор бискаец говорит, что он целует ваши ручки и ждет ваших приказаний.
Б р и х и д а. Ах, какой милый язык! Я его плохо понимаю, но он мне очень нравится.
К р и с т и н а. Я целую руки моего сеньора бискайца, и прежде, чем он.
К и н ь о н е с. На вид хороша, прекрасна; ну и вечером ужинаем; цепь остается: ночевать никогда; отдал и довольно.
С о л о р с а н о. Мой товарищ говорит, что вы ему нравитесь, что вы красавица; чтобы ужин был готов, что он дарит вам цепь, хотя ночевать не останется, - что он уже отдал цепь и довольно.
Б р и х и д а. Есть ли еще такой Александр в мире?[220] Счастье, счастье и сто раз счастье!
С о л о р с а н о. Если есть у вас немножко конфект и небольшой глоток вина для бискайца, - так, я знаю, он поплатится за это сторицею.
К р и с т и н а. Как не быть! Я сейчас схожу за этим, и у вас будет закуска лучше, чем у попа Ивана Индейского[221]. (Уходит.)
К и н ь о н е с. Дама остамши так же хороша, как ушомши.
Б р и х и д а. Что он сказал, сеньор Солорсано?
С о л о р с а н о. Что дама, которая осталась, то есть вы, так же хороша, как та, которая вышла.
Б р и х и д а. Сеньор бискаец совершенно прав; и, по правде сказать, в этом деле он не дурак.
К и н ь о н е с. Черт - дурак; бискаец ума хочешь, когда надо.
Б р и х и д а. Я понимаю, он говорит: глуп дьявол; а бискайцы, когда захотят быть умными, так умны.
С о л о р с а н о. Так точно, без малейшей ошибки.
Входят Кристина и слуга, или служанка, которые вносят коробку конфет, графин вина, салфетку и пр.
К р и с т и н а. Извольте кушать, сеньор бискаец; не побрезгуйте: все, что есть в этом доме, есть квинтэссенция чистоты.
К и н ь о н е с. Сладкое со мной, вино и вода называй хорошо. Святое подано, это я пью, да и в другой.
Б р и х и д а. О боже! С каким остроумием говорит этот милый сеньор, хотя я и не понимаю.
С о л о р с а н о. Он говорит, что с сладким он пьет вино так же, как и воду, и что это вино святого Мартина[222] и что он его еще выпьет.
К р и с т и н а. Сколько угодно, душа мера.
С о л о р с а н о. Не давайте ему больше, это ему нехорошо, вы сейчас увидите. Я говорил сеньору Аскараю, чтобы он не пил вина ни под каким видом, да это не помогает.
К и н ь о н е с. Пойдем! А то вино и вниз и вверх, язык кандалы, и ноги колодки. Вечером прихожу, сеньора. Помилуй тебя господи!
С о л о р с а н о. Ну, вот он как разговаривает; вы видите, что я говорил правду.
К р и с т и н а. Что же он сказал, сеньор Солорсано?
С о л о р с а н о. Что вино кандалы для его языка и колодки для ног, что он придет вечером и чтобы вы оставались с богом.
Б р и х и д а. Ах, грех какой! Как у него глаза помутились и язык путается! Боже! У него ноги заплетаются! Он, должно быть, много выпил. Никого в жизни мне так жалко не было, как его; так молод и такой пьяница.
С о л о р с а н о. Он уж из дому пришел готовый. Вы, сеньора Кристина, приготовьте нам ужин; я его заставлю проспаться, и будем мы у вас сегодня вечером как раз в свое время.
К р и с т и н а. Все будет, как следует; идите в добрый час.
Уходят Киньонес и Солорсано.
Б р и х и д а. Кристина, милая, покажи мне цепь, дай мне досыта налюбоваться на нее. Ай, какая красивая, новая, блестящая, и как дешево! Ну, Кристина, уж нечего толковать. Так или иначе, а богатство так и льется на тебя, счастье так и валит прямо в двери без хлопот с твоей стороны. В самом деле, ты счастливая из счастливых. Но, конечно, ты этого заслуживаешь своей бойкостью, красотой и великолепным умом. Этих прелестей достаточно, чтобы покорить самых беззаботных и необузданных людей; да, ты не то, что я, - я неспособна и кота привязать к себе. Возьми цепь, милая, а то я надорвусь от слез; и не оттого, чтобы я тебе завидовала, а себя-то уж очень жаль.
Входит Солорсано.
С о л о р с а н о. Нас постигло величайшее несчастье в мире!
Б р и х и д а. Боже! Несчастье! Что такое, сеньор Солорсано?
С о л о р с а н о. Когда мы шли домой, то на повороте этой улицы встретили слугу отца нашего бискайца с письмами и печальной новостью, что отец его при смерти и что велел ему сию же минуту ехать, если хочет застать его живого. Он привез и денег на дорогу, и без всякого разговора надо отправляться сейчас же. Я принес десять скуди для вас, вот они, и вот еще десять, которые я взял у вас давеча: отдайте мне цепь. Коли отец его жив, он возвратится и привезет вам цепь назад, - или не будь я дон Эстебан де Солорсано.
К р и с т и н а. Признаюсь, мне жаль; я не об интересе говорю, а о молодом человеке, потому что уж я его полюбила.
Б р и х и д а. Хороши и десять скуди, ведь они пришли даром; бери их, милая, и отдай цепь сеньору Солорсано.
К р и с т и н а. Вот, извольте, пожалуйте деньги. Правду сказать, я думала истратить на ужин больше тридцати скуди.
С о л о р с а н о (подменяя мешочек с цепью). Сеньора Кристина, старого воробья на мякине не обманешь; такие штуки можно делать только с простофилями; не на того напали, ищите другого, поглупей.
К р и с т и н а. К чему столько пословиц, сеньор Солорсано?
С о л о р с а н о. Для того, чтобы вы поняли, что жадность прорвала мешочек. Неужели в такое короткое время я мог показаться вам человеком, с которым можно поступать без всякой церемонии. Сеньора Кристина, кто за большим погонится, тот и малое потеряет, да и сам попадется. Вы взяли от меня цепь золотую, а возвращаете мне фальшивую; я не желаю, чтоб так быстро совершались со мной Овидиевы превращения[223]. Ах, канальство, как ловко ее подменили и как скоро!
К р и с т и н а. Что вы говорите, сеньор мой? Я этого не понимаю.
С о л о р с а н о. Я говорю, что это не та цепь, которую я вам дал, хотя и похожа. Эта поддельная, а та золотая, двадцать второй пробы.
Б р и х и д а. Да, да, клянусь вам, то же говорил и сосед, золотых дел мастер.
К р и с т и н а. Да хоть бы сам черт говорил!
С о л о р с а н о. Черт или чертовка! Отдайте цепь и увольте нас от крику; не нужно ни клятв, ни ругательств.
К р и с т и н а. Пусть сам черт меня возьмет, или кто там хочет, если это не та цепь, которую вы мне дали; да у меня никакой другой и в руках не было. Боже правосудный, до какого обвинения я дожила!
С о л о р с а н о. Кричать незачем; на то есть коррехидор[224], чтобы каждого рассудить по справедливости.
К р и с т и н а. Если это дело попадет в руки коррехидора, так я останусь виновата: он имеет обо мне такое дурное мнение, что мою правду примет за ложь и мою невинность за вину. Сеньор мой, если, кроме этой, была какая-нибудь другая цепь в моих руках, то пусть они отсохнут.
Входит альгуасил.
А л ь г у а с и л. Что за шум, что за крики, что за слезы и что за брань?
С о л о р с а н о. Вы, сеньор альгуасил, пришли как раз кстати. Этой даме, высокого севильского полета, я час тому назад оставил цепь за десять дукатов, для известной цели. Возвращаюсь теперь, чтоб выручить ее, и вместо той, которую я дал и которая весила полтораста золотых дукатов двадцать второй пробы, мне отдает она эту поддельную, которая не стоит и двух дукатов. И, вместо надлежащего удовлетворения, хочет провести меня на бобах слезами и криками, тогда как сама знает, что свидетелем справедливости моих слов была эта самая дама, перед которой все происходило.
Б р и х и д а. И происходило, и даже произошло. Клянусь богом и моей душой, я должна сказать, что этот сеньор совершенно прав. Однако я не могу себе представить, как мог произойти подмен, потому что цепь не выходила из этой залы.
С о л о р с а н о. Сеньор альгуасил, сделайте для меня такую милость, доставьте эту сеньору к коррехидору, там мы разберемся.
К р и с т и н а. Я опять-таки говорю, что если меня поставят перед коррехидором, я буду обвинена.
Б р и х и д а. Да, она с ним не в ладах.
К р и с т и н а. Ну, уж теперь я бешусь, теперь я в отчаянии, теперь меня грызут ведьмы!
С о л о р с а н о. Ну, хорошо, я кой-что сделаю для вас, сеньора Кристина, собственно для того, чтобы вас не грызли ведьмы или по крайней мере чтобы вы не бесились. Эта цепь очень похожа на ту настоящую, которая была у бискайца, он сумасшедший и немножко пьяница; я соглашаюсь взять ее у вас и уверить его, что это его цепь. А вы удовлетворите сеньора альгуасила и приготовьте ужин сегодня вечером; и успокойтесь духом, убыток для вас небольшой.
К р и с т и н а. Небо вам заплатит за это. Сеньору альгуасилу я дам полдюжины дукатов и на ужин употреблю один и останусь навсегда рабой сеньора Солорсано.
Б р и х и д а. Я переломлюсь, танцуя на сегодняшнем вечере.
А л ь г у а с и л. Вы поступили, как благородный и добрый кавалер, который считает своей обязанностью служить женщинам.
С о л о р с а н о. Пожалуйте десять скуди, которые я вам дал лишку.
К р и с т и н а. Вот они, а вот шесть сеньору альгуасилу.
Входят два музыканта и Киньонес - бискаец.
М у з ы к а н т ы. Мы все слышали, и вот мы здесь.
К и н ь о н е с. Теперь и я могу сказать моей сеньоре Кристине, что и она на манку идет.
Б р и х и д а. Да где же это видано, чтоб бискаец так чисто говорил по-испански?
К и н ь о н е с. Я только тогда говорю нечисто, когда захочу.
К р и с т и н а. Я позволю убить себя, если не они, не эти мошенники, устроили со мной эту штуку.
К и н ь о н е с. Сеньоры музыканты, исполните романс, который я вам дал! Вы знаете, к чему он клонит?
М у з ы к а н т ы
(поют)
К р и с т и н а. Ну, хорошо, я признаюсь, я обманута, и все-таки я приглашаю вас сегодня на вечер.
К и н ь о н е с. Принимаем приглашение, и пойдет у нас пир горой.
Избрание алькальдов в Дагансо
Бакалавр Песунья.
Педро Эсторнудо[226], письмоводитель.
Рехидоры[227]: Пандуро и Альгарроба.
Земледельцы кандидаты в алькальды[228]: Хуан Беррокаль,Франсиско де Умильос,Мигель Харрете,Педродела Рана.
Слуга.
Подсакристан[229].
Цыгане и цыганки.
Комната.
Входят бакалавр Песунья, письмоводитель Педро Эсторнудо, рехидор Пандуро и рехидор Алонсо Альгарроба
П а н д у р о
А л ь г а р р о б а
П а н д у р о
А л ь г а р р о б а
Б а к а л а в р
А л ь г а р р о б а
П и с ь м о в о д и т е л ь
А л ь г а р р о б а
П а н д у р о
А л ь г а р р о б а
Б а к а л а в р
П и с ь м о в о д и т е л ь
П а н д у р о
А л ь г а р р о б а
П и с ь м о в о д и т е л ь
А л ь г а р р о б а
П а н д у р о
А л ь г а р р о б а
П а н д у р о
А л ь г а р р о б а
П и с ь м о в о д и т е л ь
А л ь г а р р о б а
П и с ь м о в о д и т е л ь
А л ь г а р р о б а
Б а к а л а в р
А л ь г а р р о б а
Б а к а л а в р
А л ь г а р р о б а
Б а к а л а в р
А л ь г а р р о б а
П а н д у р о
П и с ь м о в о д и т е л ь
А л ь г а р р о б а
Б а к а л а в р
А л ь г а р р о б а
П и с ь м о в о д и т е л ь
П а н д у р о
А л ь г а р р о б а
П а н д у р о
А л ь г а р р о б а
П и с ь м о в о д и т е л ь
А л ь г а р р о б а
Б а к а л а в р
Входят Беррокаль, Умильос, Харрете, де ла Рана.
А л ь г а р р о б а
Б а к а л а в р
Б е р р о к а л ь
П а н д у р о
У м и л ь о с
Х а р р е т е
Р а н а
У м и л ь о с
Б а к а л а в р
Р а н а
Б е р р о к а л ь
Б а к а л а в р
У м и л ь о с
Х а р р е т е
Б а к а л а в р
У м и л ь о с
Б а к а л а в р
У м и л ь о с
Б а к а л а в р
У м и л ь о с
Р а н а
У м и л ь о с
Б а к а л а в р
Х а р р е т е
А л ь г а р р о б а
Б а к а л а в р
Б е р р о к а л ь
А л ь г а р р о б а
Б е р р о к а л ь
П а н д у р о
Б е р р о к а л ь
Б а к а л а в р
Р а н а
А л ь г а р р о б а
П а н д у р о
А л ь г а р р о б а
П а н д у р о
А л ь г а р р о б а
П и с ь м о в о д и т е л ь
А л ь г а р р о б а
П и с ь м о в о д и т е л ь
Б а к а л а в р
А л ь г а р р о б а
П и с ь м о в о д и т е л ь
Б а к а л а в р
А л ь г а р р о б а
П и с ь м о в о д и т е л ь
А л ь г а р р о б а
П и с ь м о в о д и т е л ь
У м и л ь о с
Б а к а л а в р
У м и л ь о с
Б а к а л а в р
А л ь г а р р о б а
У м и л ь о с
А л ь г а р р о б а
У м и л ь о с
П и с ь м о в о д и т е л ь
Входит сторож[242].
С т о р о ж
Б а к а л а в р
П а н д у р о
Б а к а л а в р
У м и л ь о с
X а р р е т е
Р а н а
С т о р о ж
Ц ы г а н е - м у з ы к а н т ы
(играют и поют, цыганки пляшут).
X а р р е т е
Истории тут много, в этой песне.
У м и л ь о с
А л ь г а о р о б а
Б а к а л а в р
Ц ы г а н е - м у з ы к а н т ы
(поют)
(Пляшут)
X а р р е т е
У м и л ь о с
Б е р р о к а л ь
Б а к а л а в р
Ц ы г а н е - м у з ы к а н т ы
(поют)
Б а к а л а в р
Б е р р о к а л ь
Ц ы г а н е - м у з ы к а н т ы
(поют)
П а н д у р о
У м и л ь о с
Ц ы г а н е - м у з ы к а н т ы
(поют)
Входит подсакристан , очень дурно одетый.
П о д с а к р и с т а н
Б а к а л а в р
X а р р е т е
Б а к а л а в р
П о д с а к р и с т а н
А л ь г а р р о б а
(Уходит, грозя причетнику.)
П о д с а к р и с т а н
Б а к а л а в р
П о д с а к р и с т а н
П а н д у р о
П о д с а к р и с т а н
Б а к а л а в р
Р а н а
Б а к а л а в р
Входит Альгарроба и тащит на плечах за один конец попону, которая волочится за ним.
А л ь г а р р о б а
Б а к а л а в р
П о д с а к р и с т а н
Р а н а
П о д с а к р и с т а н
Р а н а
Б а к а л а в р
Ц ы г а н
Б а к а л а в р
Ц ы г а н
Б а к а л а в р
П а н д у р о
X а р р е т е
Уходят. Цыгане поют: "Я песочек потопчу..."
Бдительный страж
Солдат.
Пасильяс, сакристан[247].
Грахалес, другой сакристан[248].
Андрес, парень с кружкой для сбора на икону.
Мануэль, другой парень, торгующий в разнос полотном, кружевами и пр.
Башмачник.
Кристина, судомойка.
Хозяин Кристины.
Хозяйка.
Музыканты.
Улица.
Входит солдат отважной походкой, в рваной перевязи и в очках[249]; за ним, в некотором отдалении, плохонький сакристан.
С о л д а т. Что тебе нужно, пустой призрак?
С а к р и с т а н. Я не пустой призрак, я твердое тело.
С о л д а т. Да, но все-таки я заклинаю тебя всем моим злополучием, скажи: кто ты и чего ищешь в этой улице?
С а к р и с т а н. Со всем моим благополучием отвечаю тебе: я Лоренсо Пасильяс, подсакристан этого прихода, и ищу того, что я-то найду, и чего ты тоже ищешь, да не находишь.
С о л д а т. Ты чего доброго не Кристиночку ли ищешь, судомойку из этого дома?
С а к р и с т а н. Tu dixisti[250].
С о л д а т. Ну, так поди сюда, валет[251] сатаны!
С а к р и с т а н. Ну, так я здесь останусь, мне и тут хорошо, кислая пиковая дама.
С о л д а т. Прекрасно: валет и дама! Недостает туза; но ты скоро его получишь. Поди сюда, еще раз говорю я тебе. А знаешь ли ты, Пасильяс, рожон тебе в горло, что Кристина мой предмет?
С а к р и с т а н. А знаешь ли ты, улитка в человечьем платье, что этот твой предмет я выручил и закрепил за себя и что он мой по всем правам и законам.
С о л д а т. Нет, как бог свят, я тысячу раз пырну тебя шпагой и исполосую твою голову в клочки.
С а к р и с т а н. С тебя довольно и тех клочков, которые у тебя на штанах и на колете; а голову мою уж оставь в покое!
С о л д а т. Да ты разговаривал когда-нибудь с Кристиной?
С а к р и с т а н. Всегда, когда только мне угодно.
С о л д а т. Давал ей подарки?
С а к р и с т а н. Много.
С о л д а т. Сколько и какие?
С а к р и с т а н. Я подарил ей коробочку из-под айвы, очень большую, полнехоньку просвирных обрезков, белых, как снег, и на придачу четыре восковых огарка, тоже белых, как горностай.
С о л д а т. А еще что?
С а к р и с т а н. А еще письмо со вложением ста тысяч... желаний служить ей.
С о л д а т. И что ж она тебе отвечала?
С а к р и с т а н. Обнадеживает, что скоро моей женой будет.
С о л д а т. Как, разве ты еще не пострижен?
С а к р и с т а н. Нет, я послушник и могу жениться, как и когда мне в голову придет, что ты и увидишь очень скоро.
С о л д а т. Поди сюда, трепаный послушник, отвечай мне на то, что я у тебя буду спрашивать! Если уж тебе эта девушка так превосходно отвечала, чему я не совсем верю, на твои жалкие подарки, как же она ответит на мои великолепные? Я ей послал недавно любовное письмо, написанное ни больше ни меньше как на обороте мемориала, где я изложил свои заслуги и настоящую бедность, который я подавал его величеству, потому что солдату не стыдно признаться, что он беден. Мемориал этот уже утвержден, о чем и сообщено главному раздавателю милостыни; и, однакож, я, нисколько не жалея и не думая о том, что это, без сомнения, будет мне стоить от четырех до шести реалов, с невероятным благородством и замечательной свободой написал на обороте его, как я уже говорил тебе, свое письмо; и из грешных моих рук перешло оно в ее почти святые руки.
С а к р и с т а н. Еще что-нибудь посылал ты ей?
С о л д а т. Вздохи, слезы, рыдания, пароксизмы, обмороки и всякие необходимые демонстрации, к которым прибегают добрые любовники, чтобы открыть свою страсть, и которыми они пользуются и должны пользоваться во всякое время и при всяком удобном случае.
С а к р и с т а н. А серенады ты ей давал?
С о л д а т. Да, из моих ахов и охов, из моих жалоб и стонов.
С а к р и с т а н. А я так даю ей серенаду колоколами при всяком случае и такую продолжительную, что надоел всем соседям постоянным звоном; и это я делаю единственно для того, чтобы доставить ей удовольствие и чтоб она чувствовала, что я оттуда, с колокольни, заявляю, что всегда готов к ее услугам. Хотя мое дело звонить по покойникам, но я звоню уж и к праздничным вечерням.
С о л д а т. В этом ты имеешь преимущество передо мной: мне звонить не во что.
С а к р и с т а н. И чем же отвечала тебе Кристина на твое бесконечное ухаживанье за ней?
С о л д а т. Тем, что она ни видеть, ни слушать меня не хочет, что проклинает, как только я покажусь на этой улице, что обливает меня мыльной водой, когда стирает, и помоями, когда моет посуду, - и это каждый день, потому что каждый день я на этой улице стою у ее дверей; потому что я ее бдительный страж; наконец потому, что я собака на сене и прочее. Сам я не пользуюсь и не дам пользоваться никому, пока жив. Поэтому убирайся отсюда, сеньор пономарь; а то как бы я, вопреки уважению, которое имел и имею к вашему сану, не раскроил тебе черепа.
С а к р и с т а н. Да, если ты раскроишь так, как раскроилось твое платье, так хоть брось.
С о л д а т. Что платье! Попа и в рогоже знают. Солдат, оборванный на войне, такой же чести заслуживает, как и ученый в истрепанной мантии, потому что она свидетельствует о давности его ученых занятий. Ты смотри, как бы я не исполнил того, что посулил тебе!
С а к р и с т а н. Не оттого ли ты храбришься-то, что я без оружия? Так подожди тут, сеньор бдительный страж, и ты увидишь, кто из нас герой-то.
С о л д а т. Так неужто Пасильяс?
С а к р и с т а н. Слепой сказал: посмотрим! (Уходит.)
С о л д а т. О женщины, женщины! Все вы, или большей частью, переменчивы и капризны. И ты, Кристина, оставила меня, цвет и цветник солдатства, и сошлась с этой сволочью полусакристаном, когда и полный-то сакристан и даже каноник тебе не пара! Но я постараюсь, чтобы тебе не удалось, и, сколько могу, помешаю твоему удовольствию, гоняя с этой улицы и от твоих дверей всякого, кто мечтает о возможности каким бы то ни было образом сделаться твоим любовником. Я добьюсь того, что заслужу имя бдительного стража.
Входит парень с кружкой и в зеленом платье, как обыкновенно ходят сборщики подаяний для икон.
П а р е н ь. Подайте, ради господа, на лампаду на масло святой Люсии, и сохранит она зрение очей ваших. Эй, хозяйка! Подадите милостыню?
С о л д а т. Эй, друг, святая Люсия, подите сюда! Что вам нужно в этом доме?
П а р е н ь. Разве вы, ваша милость, не видите? Милостыню на лампаду на масло святой Люсии.
С о л д а т. Да вы просите на лампаду или на масло для лампады? Вы говорите: "милостыню на лампаду на масло", и выходит, как будто вы просите на масляную лампаду, а не на лампадное масло.
П а р е н ь. Да уж это всякому понятно, что я прошу на масло для лампады, а не на масляную лампаду.
С о л д а т. И вам всегда подают здесь?
П а р е н ь. Каждый день по два мараведи.
С о л д а т. А кто выходит подавать?
П а р е н ь. Да кто случится; но чаще всех выходит судомоечка, которую зовут Кристиной, хорошенькая, золотая девушка.
С о л д а т. Вот как: "судомоечка хорошенькая, золотая"?
П а р е н ь. Жемчужная.
С о л д а т. Так, значит, вам нравится эта девочка?
П а р е н ь. Да будь я хоть деревянный, и то она не может мне не понравиться.
С о л д а т. Как ваше имя? Не все же мне звать вас святой Люсией?
П а р е н ь. Меня, сеньор, зовут Андрес.
С о л д а т. Ну, сеньор Андрес, слушайте, что я скажу вам! Вот вам восемь мараведи; это ровно столько, сколько подадут вам в четыре дня в этом доме и что обыкновенно выносит вам Кристина, и ступайте с богом! Предупреждаю вас, что четыре дня вы не должны показываться у этих дверей ни за что на свете; иначе я переломаю вам пинками ребра.
П а р е н ь. Да я весь месяц не приду, если только помнить буду. Не беспокойтесь, ваша милость, я ухожу. (Уходит.)
С о л д а т. Не дремли, бдительный страж!
Входит другой парень, разносчик, торгующий полотном, нитками, тесемками и другим подобным товаром.
Р а з н о с ч и к (кричит). Кому нужно тесемок, фландрских кружев, полотна голландского, кембрейского[252], португальских ниток?
К р и с т и н а (из окна). Эй, Мануэль! Есть вышитые воротники для рубашек?
Р а з н о с ч и к. Есть самые лучшие.
К р и с т и н а. Войди, моей сеньоре их нужно. (Отходит от окна.)
С о л д а т. О звезда моей погибели, а прежде путеводная полярная звезда моей надежды! Эй, тесемки или как вас там зовут! Вы знаете эту девушку, которая вас кликала из окна?
Р а з н о с ч и к. Знаю; но зачем вы меня об этом спрашиваете?
С о л д а т. Не правда ли, что у ней очень хорошенькое личико и что она очень мила?
Р а з н о с ч и к. Да, и мне тоже кажется.
С о л д а т. Ну, а мне тоже кажется, что вы не войдете в этот дом; иначе, клянусь богом, я разобью вам зубы, так что ни одного живого не останется.
Р а з н о с ч и к. Как же мне нейти туда, куда меня зовут? Ведь я торгую.
С о л д а т. Убирайся, не возражай мне! А то будет сделано то, что тебе сказано, и сейчас же.
Р а з н о с ч и к. Вот какое ужасное происшествие! Успокойтесь, сеньор солдат, я ухожу. (Уходит.)
К р и с т и н а (из окна). Что ж ты нейдешь, Мануэль?
С о л д а т. Мануэль бежал, владычица воротников и всяких петель, живых и мертвых, которые на шею надеваются, потому что ты имеешь власть надевать их и затягивать.
К р и с т и н а. Боже! Что за постылое животное! Чего тебе еще нужно в этой улице и у нашей двери? (Скрывается.)
С о л д а т. Померкло мое солнце и скрылось за облака.
Входит башмачник, в руках пара новых туфель; хочет войти в дом и встречается с солдатом.
С о л д а т. Добрый сеньор, вам нужно кого-нибудь в этом доме?
Б а ш м а ч н и к. Да, нужно.
С о л д а т. А кого, если можно спросить?
Б а ш м а ч н и к. Отчего ж нельзя? Мне нужно судомойку из этого дома; я принес ей туфли, которые она заказывала.
С о л д а т. Так, значит, вы ее башмачник?
Б а ш м а ч н и к. Да, я уж много раз шил для нее.
С о л д а т. Она примеривать будет эти туфли?
Б а ш м а ч н и к. Не нужно; они на мужскую ногу, - она всегда такие носит; так она их прямо наденет.
С о л д а т. Заплачено за них или нет?
Б а ш м а ч н и к. Нет еще; да она сейчас заплатит.
С о л д а т. Не сделаете ли вы мне милость, и очень большую для меня? Поверьте мне эти туфли в долг; я заплачу вам, что они стоят, через два дня, потому что я надеюсь получить очень много денег.
Б а ш м а ч н и к. Конечно, поверю. Пожалуйте что-нибудь в залог; я бедный ремесленник и не могу верить на слово.
С о л д а т. Я дам вам зубочистку, которую ценю очень высоко и не продам даже за скудо. Где ваша лавочка, чтобы мне знать, куда принести деньги?
Б а ш м а ч н и к. На длинной улице, у одного из столбов; а зовут меня Хуан Хункос.
С о л д а т. Сеньор Хуан Хункос, вот вам зубочистка, цените ее дорого, потому что это вещь моя.
Б а ш м а ч н и к. Как, эту спичку, которая не стоит и двух мараведи? И вы хотите, чтоб я ценил ее дорого?
С о л д а т. Ах, боже мой! Но ведь я вам даю ее только для собственной памяти; потому что, как только я руку в карман и не найду там спички, я вспомню, что она у вас, и сейчас пойду выкупать ее. Верьте солдатскому слову, что ни за чем другим, а только за этим я и отдаю ее вам. Но если вам не довольно, так я прибавлю еще эту перевязь и эти очки: хороший плательщик все может отдать в заклад.
Б а ш м а ч н и к. Я хоть и башмачник, а человек учтивый и не осмелюсь лишить вашу милость ваших драгоценностей. Пусть они уж останутся при вас, а при мне останутся мои туфли; так-то будет гораздо складнее.
С о л д а т. Какой номер этих туфлей?
Б а ш м а ч н и к. Без малого пять.
С о л д а т. И я тоже без малого человек, о туфли сердца моего! Потому что у меня нет шести реалов, чтобы заплатить за вас. Послушайте, ваша милость, сеньор башмачник; я хочу импровизировать на эту мысль, которая пришла мне в голову в форме стиха: Туфли сердца моего!
Б а ш м а ч н и к. Ваша милость поэт?
С о л д а т. Знаменитый; вот вы увидите. Будьте внимательны!
А вот импровизация:
Б а ш м а ч н и к. Хоть я и мало смыслю в поэзии, но эти стихи так звучны, как будто их написал Лопе[253]. Уж у меня, что хорошо или что кажется мне хорошим, все это Лопе[254].
С о л д а т. Так как, сеньор, вы не считаете возможным поверить мне эти туфли в долг, что не составило бы для вас большой важности, особенно при тех приятных залогах, которыми я не подорожил, то по крайней мере сделайте одолжение, поберегите их для меня два дня, я приду за ними. А теперь скажу я сеньору башмачнику, что на этот раз он ни видеть Кристину, ни говорить с нею не будет.
Б а ш м а ч н и к. Я исполню все, что приказывает мне сеньор солдат, потому что я вижу, на какую ногу он хромает; он хромает на обе: с одной стороны нужда, а с другой ревность.
С о л д а т. Ну, уж это не башмачницкого ума дело; чтобы судить о таких предметах, надо иметь классическое образование.
Б а ш м а ч н и к. О ревность, ревность! А лучше-то сказать: ах, бедность, бедность! (Уходит.)
С о л д а т. Если не будешь смотреть зорко, бдительный страж, так увидишь, как заберутся чужие мухи в тот улей, где твой мед. Но что это за звуки? О, без сомнения, это моя Кристина разгоняет пением тоску, когда чистит или скребет что-нибудь.
Слышно пение за сценой под звон перемываемой посуды.
Уши мои, что вы слышите! Теперь уж нет сомненья: пономарь друг души ее! О судомойка, самая чистая из всех, какие были, есть и будут в календаре судомоек! Ты так чистишь этот фаянс, что, пройдя через твои руки, он возвращается полированным и блестящим серебром; отчего же ты не вычистишь души твоей от низких и пономарских помыслов?
Входит хозяин Кристины.
Х о з я и н. Кавалер, чего вы желаете и что ищете у этой двери?
С о л д а т. Желаю-то я того, чего лучше требовать нельзя; я ищу того, чего не нахожу. Но кто же вы сами, ваша милость, что изволите спрашивать меня об этом?
Х о з я и н. Я хозяин этого дома.
С о л д а т. Господин Кристиночки?
Х о з я и н. Я самый.
С о л д а т. В таком случае пожалуйте сюда, ваша милость, извольте взять этот сверток бумаг! Там вы найдете свидетельства о моей службе, двадцать два удостоверения от двадцати двух генералов, под знаменами которых я служил, не говоря уже о тридцати четырех других свидетельствах от стольких же полковников, которыми они соизволили почтить меня.
Х о з я и н. Но, как мне известно, столько генералов и полковников в испанской пехоте во сто лет не бывало.
С о л д а т. Ваша милость человек мирный, где же вам, да вы и не обязаны, много-то понимать в военном деле; бросьте взгляд на эти бумаги, и вы увидите одного за другим всех генералов и полковников, о которых я говорил.
Х о з я и н. Ну, положим, что я их всех видел; но к чему все это поведет?
С о л д а т. А к тому, чтобы вы получили доверие ко мне и к тем словам, которые я вам скажу. А именно, что я назначен на первое вакантное место, которое может открыться в одном из трех замков Неаполитанского королевства[255], то есть в Гаэту, Барлету и Рихобес.
Х о з я и н. Все, что ваша милость до сих пор рассказывает мне, нисколько до меня не касается.
С о л д а т. А я знаю, что, коли бог даст, это может касаться и до вашей милости.
Х о з я и н. Каким образом?
С о л д а т. Вот каким! Я непременно, разве уж небу не будет угодно, получу назначение на одно из этих мест и сейчас же желаю жениться на Кристиночке. А как только я буду ее мужем, ваша милость можете мною и моими весьма значительными доходами распоряжаться, как своей собственностью, потому что я не хочу остаться неблагодарным против вас за воспитание, которое вы дали моей желанной и возлюбленной супруге.
Х о з я и н. У вашей милости чердак не в порядке.
С о л д а т. А знаете ли вы, милый сеньор, что вы должны отпустить мне Кристину сейчас, сию минуту, или вы не переступите порога вашего дома.
Х о з я и н. Это что еще за глупости! Да кто ж в состоянии запретить мне войти в мой дом?
Входит подсакристан Пасильяс, в руках крышка от кадки и перержавленная шпага, за ним другой сакристан в каске и с палкой, на конце которой привязан лисий хвост.
С а к р и с т а н. Ну, друг Грахалес, вот он, возмутитель моего спокойствия!
Г р а х а л е с. Жаль, что у меня оружие-то плохое и довольно хрупкое; а все-таки я приложу всяческое старание отправить его на тот свет.
Х о з я и н. Постойте, господа! Что это за безобразие и что за рожон у вас?
С о л д а т. Разбойники, вы по-предательски, целой шайкой! Сакристаны-самозванцы, да я клянусь вам, что проколю вас насквозь, хотя бы в вас сидело всяких правил больше, чем в требнике. Ах, подлец! На меня-то с лисьим хвостом! Что ты, за пьяного меня выдать хочешь или думаешь, что сметаешь пыль с священного изваяния?
Г р а х а л е с. Нет, я думаю, что сгоняю мух с винной бочки.
У окна показываются Кристина и ее хозяйка.
К р и с т и н а. Сеньора, сеньора, моего сеньора убивают! Больше двух тысяч шпаг против него - и блестят так, что у меня в глазах темнеет.
Х о з я й к а. Да, ты правду говоришь, дитя мое. Боже, помоги ему! Святая Урсула и с нею одиннадцать тысяч дев, защитите его! Пойдем, Кристина, сбежим вниз и будем помогать ему, как только можем.
Х о з я и н. Заклинаю вас вашей жизнью, кавалеры, остановитесь и заметьте, что нехорошо нападать обманом на кого бы то ни было.
С о л д а т. Эй ты, лисий хвост, и ты, кадочная крышка, не разбудите моего гнева! Потому что, если вы его разбудите, я вас убью, я вас съем, я вас закину через ворота за пять верст дальше ада!
Х о з я и н. Остановитесь, говорю, или, ей-богу, я выйду из терпения, и тогда уж кой-кому плохо будет!
С о л д а т. Я остановился, потому что уважаю тебя ради святыни, которая находится в твоем доме.
С а к р и с т а н. Хоть бы эта святыня даже чудеса творила, на этот раз она тебе не поможет.
С о л д а т. Видано ли что-нибудь бесстыднее этого негодяя! Он идет на меня с лисьим хвостом, на меня, когда я не побоялся и не ужаснулся громовых выстрелов большой пушки Дио, которая находится в Лиссабоне.
Входит Кристина и ее хозяйка.
Х о з я й к а. Ах, муж мой! Не ранен ли ты, сохрани бог, радость моя?
К р и с т и н а. Ах, я несчастная! Клянусь жизнью моего отца, всю эту ссору подняли мой сакристан с моим солдатом.
С о л д а т. Все-таки хорошо; я с пономарем на одном счету, она сейчас сказала: "мой солдат".
Х о з я и н. Я не ранен, сеньора; но знайте, что вся эта ссора за Кристиночку.
Х о з я й к а. Как за Кристиночку?
Х о з я и н. Сколько я понимаю, эти кавалеры ревнуют ее друг к другу.
Х о з я й к а. Правда это, девушка?
К р и с т и н а. Да, сеньора.
Х о з я й к а. Смотрите, она, нисколько не стыдясь, признается. Кто-нибудь из них тебя обесчестил?
К р и с т и н а. Да, сеньора.
Х о з я й к а. Кто же?
К р и с т и н а. Меня обесчестил сакристан тогда, как я танцевать ходила.
Х о з я й к а. Сколько раз говорила я вам, сеньор, что не надо пускать эту девчонку из дому, что она уж на возрасте и мы не должны ее с глаз спускать. Что теперь скажет ее отец, который сдал нам ее без пылинки и без пятнышка? Куда же, предательница, он заманил тебя?
К р и с т и н а. Да никуда, середи улицы.
Х о з я й к а. Как, середи улицы?
К р и с т и н а. Там, середи Толедской улицы, он, перед богом и всеми добрыми людьми, назвал меня неряхой и бесчестной, бесстыдницей и бестолковой и всякими другими обидными словами, подобными, и все оттого, что ревнует меня к этому солдату.
Х о з я и н. А еще ничего между вами не было, кроме этого бесчестья, которое он сделал тебе на улице?
К р и с т и н а. Конечно, нет, потому что сейчас у него сердце и прошло.
Х о з я й к а. Ну, теперь душа у меня опять дома, а то было ушла в пятки.
К р и с т и н а. И вот еще: все, что он мне говорил, он подтвердил в этой записке, где обязался взять меня замуж. Я ее берегу, как золото, в оберточке.
Х о з я и н. Покажи, посмотрим!
Х о з я й к а. Прочтите громко, мой друг!
Х о з я и н. Писано вот что: "Я, Лоренсо Пасильяс, подсакристан здешнего прихода, говорю, что люблю и очень люблю сеньору Кристину Паррасес; в удостоверение этой истины даю ей эту записку, утвержденную моим подписом. Дано в Мадрите, на монастыре церкви святого Андрея, шестого мая, сего 1611 года. Свидетели: мое сердце, мой ум, моя воля и моя память. Лоренсо Пасильяс". Отличный способ давать брачные обязательства.
С а к р и с т а н. В словах, что я люблю ее, заключается все, что она желала от меня; потому что, кто отдает волю, тот отдает все.
Х о з я и н. Так что, если она пожелает, вы женитесь на ней?
С а к р и с т а н. С величайшей охотой, хотя я уже и потерял надежду получить три тысячи мараведи дохода, которые хотела мне отказать моя бабушка, как мне пишут с родины.
С о л д а т. Если отдать свою волю что-нибудь значит, то уж тридцать девять дней тому назад, при входе на Сеговийский мост, я отдал Кристине мою волю со всеми моими душевными способностями. И если она пожелает быть моей женой, то поймет разницу между кастеляном могущественного замка и не полным пономарем, а только половинным, да и в половине-то кой-чего не хватает.
Х о з я и н. Желаешь выйти замуж, Кристиночка?
К р и с т и н а. Да, желаю.
Х о з я и н. Вот перед тобой двое; выбирай, кто из них тебе больше нравится.
К р и с т и н а. Мне стыдно.
Х о з я й к а. Что за стыд! Кушанье и мужа надо выбирать по своему вкусу, а не по чужому указанию.
К р и с т и н а. Вы меня воспитали, вы и выберите мне мужа подходящего; а и сама бы я тоже не прочь выбрать-то.
С о л д а т. Дитя, взгляни на меня, посмотри, как я изящен! Я солдат; думаю быть кастеляном; имею храброе сердце; я самый любезный человек в мире, и из каждой нитки этого худого колета ты можешь намотать целый клубок моего благородства.
С а к р и с т а н. Кристина, я музыкант, хотя и колокольный; украсить гробницу, убрать церковь к годовому празднику - в этом ни один сакристан не может превзойти меня; эти обязанности я могу исполнять и женатый и тем доставлять себе княжеское пропитание.
Х о з я и н. Ну, девушка, выбирай из двух любого; выберешь, так и я одобрю. Этим выбором ты помиришь двух храбрых соперников.
С о л д а т. Я подчиняюсь ей.
С а к р и с т а н. И я покоряюсь.
К р и с т и н а. Ну, так я выбираю пономаря.
Входят музыканты.
Х о з я и н. Позовите-ка этих молодцов моего соседа-цирюльника! Под звуки их гитар и песен мы пойдем праздновать помолвку, припевая и приплясывая. Сеньор солдат будет моим гостем.
С о л д а т. Принимаю.
М у з ы к а н т. Мы пришли как раз вовремя, и эти ваши стихи будут припевом к нашей песне.
М у з ы к а н т ы
(поют, обратясь к сакристану)
(Обращаясь к солдату.)
Уходят все с пением и пляской.
Вдовый мошенник, именуемый Трампагос
Трампaгос, Чикизнaке, ХуанКлaрос. — Мошенники.
Вадемeкум, слуга Трампагоса.
Репулида, Писпита, Мостренка. — Женщины легкого поведения.
Эскарраман, пленник.
Два музыканта.
Мошенник.
Комната.
Входят Трампагос в траурной мантии, Вадемекум, его слуга, с двумя рапирами.
Т р а м п а г о с.
В а д е м е к у м.
Т р а м п а г о с.
В а д е м е к у м
Т р а м п а г о с.
В а д е м е к у м
Т р а м п а г о с
В а д е м е к у м
Т р а м п а г о с
В а д е м е к у м
(Уходит.)
Т р а м п а г о с
Входит Чикизнаке.
Ч и к и з н а к е
Т р а м п а г о с
Ч и к и з н а к е
Входят Вадемекум со старым, негодным креслом.
В а д е м е к у м
Т р а м п а г о с
В а д е м е к у м
(Уходит.)
Т р а м п а г о с
Ч и к и з н а к е
Т р а м п а г о с
Ч и к и з н а к е
Т р а м п а г о с
Но она всегда из любви ко мне оставалась тверда, как против волн подвижного моря неподвижная скала.
Ч и к и з н а к е
Т р а м п а г о с
Ч и к и з н а к е
О, женщина такая
Гречанок, римлянок великих стоит!
А от чего скончалась?
Т р а м п а г о с
Ч и к и з н а к е
Т р а м п а г о с
Ч и к и з н а к е
Т р а м п а г о с
Входит Вадемекум со стульями.
Ч и к и з н а к е
Т р а м п а г о с
Ч и к и з н а к е
Т р а м п а г о с
Как сад Аранхуэца. Но при этом то, что в ней было здорово, было самое белое и красивое тело, какое когда-либо облекало внутренности. И если бы два года тому назад...
То казалось бы, что, обнимая ее, обнимаешь горшок с базиликом или гвоздиками.
Ч и к и з н а к е
Т р а м п а г о с
В а д е м е к у м
Т р а м п а г о с
В а д е м е к у м
Т р а м п а г о с
В а д е м е к у м
Входят Репулида, Писпита, Мостренка и Хуан Кларос.
Т р а м п а г о с
К л а р о с
Р е п у л и д а
П и с п и т а
М о с т р е н к а
В а д е м е к у м
Т р а м п а г о с
К л а р о с
Т р а м п а г о с
К л а р о с
Т р а м п а г о с
Р е п у л и д а
Я больше не могу: я делаю, что могу, но не то, что хочу.
П и с п и т а
Дороже стоит тот, кому помогает бог, чем тот, кто сам очень старается. Ты меня понимаешь?
В а д е м е к у м
М о с т р е н к а
Не глупа, не безобразна. Дурнушке горя нет, коли ловка: дурен дьявол.
В а д е м е к у м
Ч и к и з н а к е
Т р а м п а г о с
В а д е м е к у м
Т р а м п а г о с
В а д е м е к у м
Я четырем мостовым прачкам могу дать вперед относительно жажды.
Ч и к и з н а к е
Р е п у л и д а
П и с п и т а
Р е п у л и д а
М о с т р е н к а
Р е п у л и д а
П и с п и т а
М о с т р е н к а
К л а р о с
Ч и к и з н а к е
В а д е м е к у м
Р е п у л и д а
К л а р о с
П и с п и т а
Входит один из мошенников, испуганный.
М о ш е н н и к
(Быстро убегает.)
К л а р о с
Т р а м п а г о с
Мошенник возвращается.
М о ш е н н и к
(Уходит.)
Ч и к и з н а к е
Т р а м п а г о с
В а д е м е к у м
Р е п у л и д а
П и с п и т а
М о с т р е н к а
В а д е м е к у м
Т р а м п а г о с
М о с т р е н к а
Т р а м п а г о с
М о с т р е н к а
Т р а м п а г о с
К л а р о с
Ч и к и з н а к е
Р е п у л и д а
П и с п и т а
М о с т р е н к а
Р е п у л и д а
Т р а м п а г о с
(снимая траурный плащ)
В а д е м е к у м
Т р а м п а г о с
Вадемекум уходит с траурным плащом. Трампагос остается без плаща.
Т р а м п а г о с
Р е п у л и д а
Входят два музыканта без гитар.
1-й м у з ы к а н т
Т р а м п а г о с
1-й м у з ы к а н т
2-й м у з ы к а н т
1-й м у з ы к а н т
2-й музыкант уходит.
Входит Вадемекум.
В а д е м е к у м
Т р а м п а г о с
В а д е м е к у м
Т р а м п а г о с
В а д е м е к у м
Входит некто в одежде невольника, с цепью на плечах, смотрит на всех внимательно, и все на него.
Р е п у л и д а
Т р а м п а г о с
П и с п и т а
М о с т р е н к а
Э с к а р р а м а н
Входит цирюльник и приносит две гитары, одну отдает товарищу.
К л а р о с
Ч и к и з н а к е
Э с к а р р а м а н
М о с т р е н к а
П и с п и т а
Р е п у л и д а
Ч и к и з н а к е
К л а р о с
Р е п у л и д а
Ч и к и з н а к е
М о с т р е н к а
В а д е м е к у м
О тебе сложили разные танцы, которые танцуют соседи, и ты одержал победу.
Э с к а р р а м а н
М у з ы к а н т ы
(начинают играть и петь импровизированный романс)
Э с к а р р а м а н
П и с п и т а
В а д е м е к у м
К л а р о с
Э с к а р р а м а н
М у з ы к а н т
Э с к а р р а м а н
Р е п у л и д а
М у з ы к а н т
Ч и к и з н а к е
М у з ы к а н т ы
(поют)
Играют гальярду. Эскарраман танцует. Когда он кончил один тур, музыканты продолжают петь романс.
Она первая, которая нам это показала.
Э с к а р р а м а н
М у з ы к а н т
Э с к а р р а м а н
М у з ы к а н т
Танцуют вильяно; окончив этот танец, Эскарраман танцует другой какой-нибудь и потом:
Т р а м п а г о с
В с е