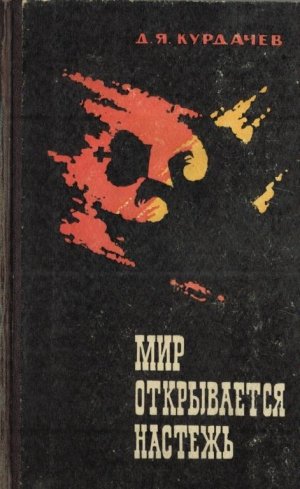
Вечер и ночь на раздумья. Завтра я должен сказать только одно: «согласен» или «не согласен». Если соглашусь, тогда — работа целыми сутками, тогда тяжелые столкновения с десятками людей, постоянная угроза уголовной ответственности. Тогда за три месяца надо возродить то, что умирало годами. Страшно? Конечно, страшно. Но могу ли я отказаться, имею ли право спрятать голову в кусты? И где же еще мне приложить свои силы, попробовать, на что я гожусь? Или там, где много дают и мало спрашивают? Там, где можно заботиться о собственной шкуре и только со стороны поглядывать, как другие надрываются, чтобы вытащить страну из разрухи? Для чего же столько пережил я и перенес, во имя чего безусым юнцом пришел в революцию!..
Я ворочался в постели, перевертывал жесткую, как камень, подушку, натягивал одеяло до подбородка, но сна все не было. Будто снова добрался я до окраины города, увидел полотно железной дороги, поблескивающей под желтым, как кленовый лист, солнцем, бараки военного городка, заколоченные досками. Под ногами похрустывала сухая, колкая трава, словно осыпанная пеплом.
Три длинных одноэтажных корпуса шпагатной фабрики разместились среди пустыря параллельно друг другу, поперек стояло строение конторы. Я миновал проходную и остановился, чтобы оглядеться. По замусоренному двору бродили какие-то женщины с узелками; старик в длиннополом пальто, сморщившись, глядел на раскрытые окна среднего корпуса и моргал мутно-голубыми слезящимися глазами. Из окон валил дым, будто из курной бани. Я подошел поближе — и в носу защипало. Это не дым, это мелкая серая пыль вылетала клубами и висела в воздухе, медленно оседая.
Вдоль внутренней стены корпуса тянулся трансмиссионный вал, с грохотом трепали пеньковое волокно чесальные машины; несколько женщин с замотанными паклею лицами бросали в машины волокно. Все это виделось смутно, будто в густом тумане. Пыль бахромой свисала со стен, холстом заволакивала прядильные и крутильные ватеры, пластами лежала на полу. Нечем стало дышать, горло надрывал кашель; я выскочил наружу, отплевывая черные сгустки.
Как могут работать здесь люди!
По всей фабрике навалены кучи волокна, да еще и эта сухая пыль — зажги спичку, и вспыхнут корпуса, как порох. Нет, правильно решили, что эту фабрику надо закрыть. И нечего ждать три месяца, и вряд ли найдется фантазер, который рискнет подумать об ином ее будущем!..
Я служил во Взрывсельпроме Главного военно-инженерного управления. Мы уничтожали взрывчатые вещества, приходящие в негодность после длительного хранения на складах. Но нелепо впустую расходовать взрывчатку; надо было договариваться с разными организациями, выручать какие-то средства. Мы готовы были разрушать ненужные кирпичные, каменные и железобетонные сооружения, производить землеройные и вскрышные горные работы, углублять реки на перекатах. Но повсюду нам говорили только одно: топлива, топлива, топлива! Замерзали больницы, школы, иней покрывал стены квартир.
Взрывы загрохотали на вырубках в районе деревень Иваньково и Павшино, в окрестностях Иваново-Вознесенска. Пнями отапливались больницы, пни жарко сгорали в топках котлов текстильных фабрик. Текстильщики жили в постоянной тревоге, что вот-вот замрут станки, и все время нас торопили. А сколько предприятий стояло, сколько фабрик, заводов глядели пустыми глазницами на бегущих мимо людей, и по цехам гуляли метели. Раньше я воспринимал это как бы со стороны, хоть и душа болела. А когда меня назначили начальником административно-хозяйственного аппарата Всесоюзного текстильного синдиката и пришлось с головой уйти в новую работу, ни о чем другом думать уже не оставалось времени. И вот в старой шпагатной фабрике на окраине города Орла опять увидел я эту агонию, снова вспомнил: «Революция в опасности!»
Нет, я совсем не намеревался оставлять Москву, совсем не думал, что уеду от Тони, от маленького Володьки. Но в августе 1925 года Центральный Комитет партии объявил мобилизацию коммунистов на помощь народному хозяйству. Тысяча двести человек направлялись на укрепление губернских и уездных партийных организаций, три тысячи — на учебу. В уведомлении ЦК указывалось, что члены партии, выделенные коллективами, должны отвечать требованиям самостоятельной руководящей работы любого губернского или уездного учреждения, что мобилизация должна проводиться не формально, как это нередко бывает, а нужно подбирать наиболее способных, опытных товарищей, за которых первичные партийные организации могли бы нести полную ответственность.
Коммунисты синдиката выдвинули мою кандидатуру. Но управление категорически воспротивилось и предложило другого товарища. Голоса разделились, в спор вмешалась организационная комиссия Цека. Кандидат управления слезно просил никуда его из Москвы не отправлять, искал тысячи причин. Тогда я не выдержал: он старше меня, у него двое детей-школьников, да и вряд ли будет от него в губернии какая-то польза.
— Меня направляют в Орел, — сказал я Тоне. — По крайней мере, это не так уж далеко от Москвы. Первое время постараюсь вас навещать… Ну, а потом перевезу…
Она ничего не ответила. Только лицо ее чуть побледнело и заметнее стал пушок на щеках и над верхней губой. Тоня всегда была мне хорошим другом, но она была коренной москвичкой, и я ее понимал.
— Буду собираться.
Глаза Тони совсем потемнели, глубоко затаились в них слезы, однако ничем больше состояния своего она не выдала…
Что ж, и ее теперь я обману: признаюсь, что струсил, попятился?
Я накурился до тошноты, бросил папиросу, оделся и толкнул дверь. Небо загромоздили тучи, но дождя не было. Позванивали в темноте сухие листья, пахло острым духом соленых огурцов, подмороженной капустой и еще каким-то трудно определимым запахом осени. Дышалось легче, в голове прояснело; я сел на скамеечку, прислонившись спиной к стене, сцепив пальцы.
Надо обдумать все по порядку. Экономический совет республики, рассмотрев баланс Оргумпрома, решил закрыть шпагатную фабрику как убыточную. Не просто было орловскому губисполкому попросить отсрочки на три месяца, нелегко уверить правительство, что будут приняты все меры, чтобы добиться рентабельности фабрики. Губисполком решил, что первая такая мера — назначить директором этой фабрики меня. При этом мне обещали всяческую помощь, любую поддержку. И все же я не мог согласиться, хотя бы не взглянув на то, что мне предлагают.
Три корпуса фабрики. Справа — складской: для сырья, готовой продукции и вспомогательных материалов. Тот, что слева, построен для веревочного производства, но совершенно пустой. Средний корпус — производственный. Он разделен брандмауэрными стенками на три отсека: чесальный, затем ленточных машин, прядильных и крутильных ватеров, шлихтовальных и мотальных операций, а дальше — два дизеля «полляр» и «фельзер» по двести лошадиных сил, которые по старинке крутят динамомашину, трансмиссии, станки. А люди, как они могут вообще-то выживать в этой душегубке! Говорят: шпагатчицы не признают никакого начальства, многие болтаются без дела. Да стоит ли удивляться? А между тем, и они, вероятно, не хуже нас понимают, что беда фабрики — это их беда. Неужели общими силами нельзя вытянуть ее из провала?
Я вернулся в комнату, на ощупь разделся, прилег на остывшую постель, высоко поставив подушку. И, как всякому человеку перед каким-нибудь решающим порубежьем, захотелось оглянуться, проверить себя, подробно оценить науку, которую преподала жизнь за минувшие годы.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Я с детских лет проходил эту науку, где каждое лыко попадает в строку. Ничего не оказалось такого, что бы кануло бесследно. Может быть, потому, что самым главным для меня всегда было — работать, работать, а если не получается, учиться этому, как бы туго ни приходилось.
Совсем недалеко отсюда Калужская губерния, село Троицкое и в нем моя деревня Погуляи, где родился я тридцать два года назад, 11 февраля 1894 года. Сколько воды утекло с тех пор: хватило бы иному на длинную жизнь. Но как видится все, как видится!.. Большой тихий пруд, отраженная в нем белая Троицкая церковь с длинным шпилем. Приземистый рубленый дом, в котором размещалась приходская школа и ночевал одноногий безголосый сторож. Надгробья и холмики кладбища, отгороженного от жизни железной решеткой, резные дубовые листья, хвойные шатры, свечки берез над ними. А дальше фруктовый сад, неоглядный парк со столетними черными липами и обширные хоромы помещика Лаврова, владельца всех угодий.
С первых шажков по земле мы уже знали, куда можно ступать, а куда воспрещается. Но деревня из конца в конец уж тесна, и светлая певучая речка Шуица под ее боком не преграда. Заливные луга поймы, одуряющие запахами трав и цветов, лесные таинственные сумерки и внезапные дикие заросли малинников — разве от этого отлучишь, разве удержишь! Босые ноги в насечке цыпок, облупится нос до крови, живот подхватит от голода, но только бы не загоняли домой, только бы не слышать: «Митька, принеси… Митька, подай!»
Семья у нас была большая. Отец и три его брата, все с женами и детишками, жили под одной крышей крепким трудовым хозяйством. Отец был в семье за старшего и на все руки мастером: и портной, и столяр, и плотник, и печник, первый косарь и не последний пахарь. Сам без дела не слонялся и другим не потакал. Односельчане всегда говорили о нем уважительно, с поднятым пальцем, при нужде звали на помощь, просили совета. Грамоты он не знал, до всего доходил своим мужицким умом.
Однажды селяне на сходе настойчиво выбрали его старостой. Пришлось отцу скрепя сердце согласиться. Среди прочих обязанностей надо было вести учет скота, подушных наделов земли, подсчитывать, сколько дней должен кормить каждый домохозяин общественного пастуха. Расспорятся крестьяне, готовы бороды друг дружке выдрать, — идут к отцу:
— Рассуди, Яков Васильевич! Вот я говорю: завтра пастух переходит к нему; а этот, значит, на дыбы!
Отец снимал с гвоздика свою знаменитую бирку с записями, принимался считать: у тебя коров столько-то, овец столько-то, стало быть, и пастуха держать тебе столько-то дней.
Ошибки никогда не выходило, хотя записи были не совсем обычные. Бирку выстругивал отец из молоденькой прямой березы на четыре грани и гнал по граням зарубки, крестики и точки, значение которых понимал только сам. И хотя письмена эти ничуть его не подводили, он все-таки нередко сокрушался, что не смог выучиться грамоте.
Поэтому понятно, почему я, когда пришла пора, без особого труда был определен в нашу церковноприходскую школу.
Перед самым началом занятий приехала в село из Калуги со старушкой-матерью и братом новая учительница Варвара Ивановна Молчанова. Она вошла в класс как-то незаметно, будто не впервые, и улыбнулась вдруг так открыто, так по-дружески, что у нас от сердца отлегло. Отец Александр, приходский батюшка и наставник по закону божьему, успел напустить на нас страху: несколько человек загнал в угол, на колени, а кой-кого благословил по голове линейкой. Варвара Ивановна заговорила с нами, будто со взрослыми, на равной ноге, не поднимая голоса, не стараясь ничего навязывать. Мы сразу доверчиво ее полюбили и никогда в том не раскаивались. С нею всегда было интересно: ни один наш вопрос без ответа не оставался, ни одного нашего стремления не гасила она неловким движением. Она предложила нам поочередно дежурить по школе; и с какой зоркостью следил я, чтобы на переменках никто не бегал сломя голову и не шумел, с каким тщанием готовил к занятиям мел и тряпку, как восторженно трезвонил колокольцом перед уроками. Да что я — все мы радостно бросались выполнять любое поручение нашей Варвары Ивановны.
И мамаша ее, седенькая, тугая на ухо старушка, тоже была с нами всегда приветлива, добра; мы стали называть ее бабушкой. Иногда после уроков собирались мы возле нее кружком и затихали. Она садилась на низкую скамеечку, брала в руки какое-нибудь вязание и начинала: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком…» Сказок бабушка помнила великое множество, рассказывала их негромко, певуче придыхая, а мы шелохнуться боялись, чтобы не прослушать ни слова.
Мы учились, а на дворе между тем устанавливалась зима, ветра оголили дубы и липы, и только хвоя густо темнела на багрянце холодных зорь. Теперь уже не поднимали меня среди ночи с постели и не тащили полусонного в ригу, где до одури приходилось резать серпом вязки на снопах и распускать их. Можно было побегать всласть по первому снежку, до остуды надышаться легким морозным воздухом.
Однажды мы решили покататься по молодому ледку, совсем недавно застеклившему пруд. Только подбежали к берегу, видим: бойко переваливаясь, опускаются со склона на лед откормленные утки. Остановились, покрякали удивленно и словно бы задумались, что делать дальше. В этот момент кинулась к нам поповская работница, всплескивая руками:
— Ребятушки, помогите загнать окаянных!
Утки встрепенулись и наутек — к середине пруда. Надо было обогнать их, завернуть. Не оглядываясь, запрыгал я по льду. Под ногами хрястнуло, холодом ожгло руки. Плавать я не умел, барахтался, цеплялся за ломкий лед, одежда тянула ко дну.
Ребята закричали, выломили из изгороди жердину, поползли ко мне, просунули под руки. Перетащили меня в церковную сторожку, стянули мокрую одежду, усадили на теплую печь, закутали одеялом. Страха я почему-то не испытывал, только противно стучали зубы и ломило ногти на руках.
Вскоре явился в сторожку сам поп Александр, отчего вся она содрогнулась и стала вовсе тесной. Был он не только в школе, но и в селе человеком заметным не по одному своему сану, а и по весу. Мужики прикидывали, что в нем без малого девять пудов. Когда под колокольный звон шествовал он в церковь, столько торжественной строгости и силы было в его поступи и осанке, что прихожан охватывал благоговейный трепет. И когда я услышал его медный голос, то в ужасе съежился под одеялом, боясь шевельнуться. Однако батюшка разоблачил меня, поговорил со мною ласково, насколько позволял ему его мощный рык, стряхнул мне под бок с ладони плотный кулек конфет, а на прощанье пообещал:
— Летом возьму тебя, Дмитрий, на рыбалку…
Мать вся исхлопоталась, отец тоже считал, что купанье мое просто не обойдется, и то и дело прикладывал к моему лбу твердую, как железо, ладонь. Однако я даже ни разу не чихнул и не пришлось пропускать школу.
А в школе с некоторых пор стало еще интересней. Как-то пришел к нам брат Варвары Ивановны, человек лет двадцати пяти, длинноволосый и толстогубый. На переносье у него сидело пенсне, веревочка от которого приколота была к лацкану форменной тужурки. Поглядел сквозь стеклышки и звучно сказал, что зовут его Всеволодом Ивановичем, что он регент и намерен пробовать наши голоса. Мы обрадовались случаю — заревели. Он протирал пенсне платком, терпеливо выжидал.
— Задумал я настроить хор, — улыбнулся он, когда все, наконец, замолкли. — Научимся петь по нотам, и увидите, как всем нам это будет полезно и, понимаете ли, радостно.
Потом Всеволод Иванович, насторожив оттопыренное ухо, послушал каждого, попросил некоторых повторить за ним перестук по столу костяшками пальцев и, определив способности, велел приходить на спевки. Когда он улыбался, то становился очень похожим на Варвару Ивановну; и, может быть, это привлекло нас на первых порах. Во всяком случае, на спевку никто не опоздал. У меня регент тоже обнаружил голос, назвал его дискантом, поставил меня в хоре по левую свою руку.
Трижды в неделю до сумерек оставались мы в школе. Всеволод Иванович учил нас правильно дышать, верно повторять звуки за смычком скрипки, округлять их, не рвать, четко выговаривать слова. Иногда он позволял нам передышку и рассказывал удивительные разности про театры и кинематографы, про небесные светила, про моря, океаны и заморские государства. Узнавали мы от него об огнедышащих горах, о зарождении рудных жил, о том, как добываются из-под земли железо и уголь. А потом мы снова пели, стройно подчиняясь взмахам тоненького смычка. Все это было ново, приманчиво, интересно.
Спевки шли своим чередом, мы готовились к первому появлению на клиросе.
И вот принаряженные, причесанные стоим мы на возвышении, боимся глаз отвести от лица своего регента. В горле сохнет — кажется, ни одного звука не получится; а взгляд у Всеволода Ивановича за стеклами пенсне спокойный и даже чуточку насмешливый. Над нами в голубоватом тумане округлый расписанный купол; мерцают лампады, потрескивают свечи, озаряя оклады, сердитые лики святых. Внизу толпятся прихожане; среди них наши отцы и матери удивленно, неузнавающе посматривают на нас. Отец Александр, дородный, широкий, похожий в полном облачении своем на огромный самовар, начинает службу. И чудится мне, что голос мой возникает сам по себе, сам согласно сливается с другими голосами, наполняясь трепетом и восторгом…
С этого дня слава о нашем хоре и его регенте облетела всю губернию. Мы разучивали Чайковского, Рахманинова, Дегтярева, Бортнянского; пели не только по большим праздникам, но и в каждое воскресенье; нас нарасхват приглашали в соседние села, в богатые дома, сытно кормили, да и платили не скудно. Родители наши не могли регентом нахвалиться, а заработки своих певунов откладывали про черный день.
Незаметно миновала зима. Оттаяла, вздохнула земля, запарила на припеке, загомонила ручьями. Навалились на березы и липы горластые грачи, золотистыми пчелами вспыхнули под лучами солнца веселые жаворонки. Кончились в школе занятия, кончилась пахота, легли в сараи сохи, остужая раскаленные от работы лемеха. Но спевки продолжались. Иногда, наладив снасти, уходили мы с Всеволодом Ивановичем на ночь к речке, чтобы на вечерней и утренней зорьках поудить.
Но не сама рыбалка притягивала нас. В круглой соломенной шляпе, в русской рубахе, схваченной широким кожаным ремнем, шагал регент по густым прибрежным травам. А мы, стараясь попасть ему в ногу, тесно окружали его.
По деревне тогда шепотком передавалось таинственное и пугающее слово «крамольник». Словом этим называли людей, которые якобы поднимают руку на самого царя. Вот один из нас и спросил Всеволода Ивановича: а почему крамольники против царя?
Регент остановился, протер пенсне, покашлял. Он, как и сестра, всегда отвечал на любой наш вопрос, но на сей раз замялся почему-то.
— Как бы это вам объяснить, — сказал он осторожно.
— Да мы поймем, только расскажите.
— В том-то и беда, что поймете. А потом передадите другим ребятам, те своим родителям… И сами попадете в крамольники, и меня туда же. — Он вроде бы шутил, но глаза не смеялись.
— Не маленькие, небось; сумеем держать язык за зубами.
— Ну, добро. Вот придем на место, сообразим уху, а потом и потолкуем.
Со всех ног кинулись мы на берег. Солнце уже садилось, косыми лучами просвечивало гальки и песок на дне Шуицы, мутно тонуло в омуте. Под ивняками сбросили мы свои пожитки, окунули под берег сетки на раков, набрали сучьев и хворосту для костра, наживили удочки. Всеволод Иванович развел огонь. Вкусно запахло дымком, зашипели, застреляли неуживчивые угольки. Мы вперили в землю рогульки, положили на них перекладинку, подвесили вместительный прокопченный котелок.
Раков в Шуице было видимо-невидимо; прошло не больше часу, а твердые рачьи спинки уже ярко алели в бурлящем кипятке.
От берега упала на воду изломанная тень, прорезались в зеленом небе первые звезды, потянуло сырым ветерком. Мы поближе пристроились к теплу; Всеволод Иванович двумя пальцами снял пенсне, обнял руками острые колени, долго смотрел в огонь. Глаза его стали маленькими, круглыми, язычки пламени дрожали в них.
— Крамольники, — произнес он, будто продолжая только что прерванный разговор, — это просто честные люди, не терпящие несправедливости… Вот, положим, нанялись ваши отцы работать к Лаврову, за определенную плату. Не щадили, понимаете ли, ни сил, ни здоровья; но вскоре догадались, что платит им Лавров не по труду, мало. Пошли к нему просить прибавки, а он ногами затопал. Да ведь не будет же сам Лавров ходить за скотом, пахать землю, варить на своем заводе сыры. Отказались ваши отцы от работы: пускай, мол, попрыгает, пока не передумает. А Лавров вместо этого сообщает властям, что мужики затеяли волынку. Нагрянет полиция, объявит их крамольниками, засудит. А ведь они только требовали у помещика того, что полагается за труд.
Или рабочие в городах. Чем прокормить им свою семью, на что одеть, обуть? Они бастуют: они знают, что не встанет заводчик за станки. Ведь они, рабочие, делают ситец, сукно, бумагу, машины. Вот и бросают они станки, идут к заводчику искать справедливости. Только получают за это то же самое, что получили бы и ваши отцы: как говорится, по шее…
— А царь?
— Что царь! — Всеволод Иванович даже рукой махнул. — Царь без заводчиков, без фабрикантов — нуль без палочки, хотя и самый первый помещик. Это он приказывает сажать забастовщиков в тюрьмы, гнать по этапу в такие глухие места, куда, понимаете ли, и ворон не залетал. А некоторых даже отправляет на виселицу…
Одиноким, трудным голосом скрипел коростель; опадало, меркло костерное пламя. Зашевелились птицы, почуяв рассвет, попискивали в кустах; слышнее побулькивала на перекате разбуженная Шуица. Я чувствовал, как громко под рубашкой колотится сердце, и мурашки пробегали по спине. Так и подмывало спросить Всеволода Ивановича, откуда он все это знает сам; но на такое никто бы из нас не решился. Слишком велик был мир за пределами деревни, слишком грозным казался он, и из этого мира пришел наш регент.
А в деревне несколько дней спустя случилось истинное чудо. Субботним вечером и все воскресенье женщины только и судачили о нем. К матери моей прибежала соседка, встрепанная, рот на сторону; захлебываясь, начала рассказывать:
— Шли это мы с поля мимо кладбища. И видим в небе что-то большое, черное, озаренное золотым сиянием. Да как пригляделись — ахнули, на колени повалились. Летят это, Евдокия, ангелы божий, несут в руках свечи. А с ними музыка, песнопения. Мощи они понесли святые. Гляди, скоро объявятся мощи-то в том месте, где грешат меньше, где люди богу угодней!
Мать поверила, закрестилась вместе с соседкой.
Я еле сообразил, о каких ангелах они говорят, захохотал. Мать сердито на меня посмотрела.
— Да ведь это же мы змея запускали, — доказывал я, давясь от смеха.
Соседка пригрозила мне карой небесной, в сердцах хлопнула дверью.
Но и в самом деле никакого чуда не было. Мы решили соорудить большого змея; собрались на школьном дворе, заспорили, как бы смастерить его покрепче, позабавнее. На гомон вышел Всеволод Иванович, спросил, что это мы затеяли.
— Тогда давайте вместе, — предложил он. — И будет змей таким, какой делал я когда-то в Калуге.
— Запустим в воскресенье, чтоб побольше народу увидело!
— И никому пока ни гугу!
Всеволод Иванович долго глядел в небо, словно припоминая что-то, хмурился, а потом встряхнул волосами и обернулся к нам:
— Ну что ж, за работу?
Нашли два больших тонких листа картона, сшили суровыми нитками, укрепили на каркасе из выструганных лучинок, подвязали длинный мочальный хвост. Из прозрачной бумаги склеили два фонаря; в один насыпали холодных самоварных углей — для шуму, в другом приладили восковую свечу. А на поперечном каркасном стяжке приспособили деревянные дудки разной длины и толщины. Осталось только прикрепить шнур покрепче — и чудище готово.
И все-таки до воскресенья мы не дотерпели. В субботу, когда смерклось, вытащили змея на поле около кладбища, зажгли в фонаре свечу. Ребятня сбежалась со всего села, а вот взрослых было мало. Все примолкли. Всеволод Иванович взмахнул рукой — и змей оперся на ветер, пошел, пошел в темное небо. Загремел уголь, засвистали дудки. Вскоре звуки доносились уже из далекой высоты, стали мягче, музыкальнее, а вместо змея, казалось, парило в небе тихое сияние.
Ребята да и взрослые поочередно держали шнур. Я тоже осторожно принял его из чьих-то рук, уперся обеими ногами в кочку. А шнур упруго дрожал, звенел, сдерживая могучую силу. И эту силу сработали мы, своими руками!
Никому из нас и в голову не пришло, что сельчане примут змея за ангелов. На другой день все, кто был с нами на поле, хохотали над суеверами. Те однако же не сдавались, пошли к самому отцу Александру. О чем толковали они в церкви, никто не узнал, только мощи так и не объявились…
Отец Александр не забыл своего обещания, которое дал зимой. Как-то вечером в окошко постучал кнутовищем мужик и сказал, что батюшка требует на рыбалку. Мать мигом меня собрала, и через полчаса мы уже катили в поповской коляске по пыльной дороге. Я знал, что выезжал батюшка на природу раза два-три в лето и всегда брал с собою все тех же двух мужиков. Один, коряжистый, лохматый, правил кобылкой; другой, длинный, как жердь, с утиным носом, обеими руками охранял корзину с припасами. Сам отец Александр, в круглой шляпе и затертом подряснике, прочно сидел, уставя ноги на свернутый бредень. Всю дорогу он молчал, посапывал в усы или, пугая лошадь, громко прочищал нос от пыли.
Мужик завернул кобылку к воде, распряг, стреножил, пустил лакомиться луговыми травами. Я пригляделся: те же ивовые кусты гибко кивают на ветерке, тот же перекат с монетками галек на дне, а подальше — омут, из которого так и не вытянули мы утром с регентом нашим ни одной рыбешки. И пепельная лысина костра, и желтая перемятая трава… Вот здесь сидел Всеволод Иванович, а теперь развалится этот огромный поп.
— Внимай, отрок, — приметно оживившись, подозвал меня отец Александр. — Приготовишь дровец под костер, рыбки возьмешь из первого улова, сварганишь нам ушицу, а после ее съедения вымоешь посуду. Вот твои заботы. Понятно?
Мужики тем временем растянули бредень, разделись донага; лицо, шея, руки у них показались совсем черными. Отец Александр тоже оголился, колыхая животом, загреб в пальцы мотню снасти, помотал головой, будто отмахиваясь от слепня, и ухнул в воду. Волны плеснули на берег. Мужики, корчась, поеживаясь, поахивая, полезли за ним.
Топлива кругом было сколько угодно; я разжег огонь, подживил его и опять поглядел на речку. Мужики стонали, пыхтели, дергались: бредень, видимо, закоряжился.
— Рыбу только упустите, — наставительно сказал отец Александр, стоя по грудь в воде. Раздул щеки, тяжело осел.
Плескался, фыркал и нырял он с явным удовольствием; мужики многозначительно перемигивались.
Втроем вытянули они бредень. Мелкота кипела в нем; втыкаясь в ячеи, извивалась добыча покрупнее. Я подбежал с корзинкой, отобрал на уху двух увесистых щучек, несколько горбатых окуней, а потом достаточное количество ершиков. Пока чистил рыбу, обтирая руки пучком травы, с речки все доносились шлепки, гогот, сморкание отца Александра. Только когда горошинами побелели у рыбы глаза и потянуло из ведерного котла пахучим паром, покинул батюшка реку.
Мужики, мелко вздрагивая от холода, рысцой побежали к коляске за припасами. Отец Александр похаживал по берегу багровой тушей, с бороды его струями стекала вода.
— Вот так бы и жить, — вздохнул он, подходя к костру. — Красота и никакого смущения.
Пошла по кругу бутылка, вторая, третья; мужики, пьянея, затевали разговоры о покосе, отец Александр их не слушал.
— Ангелы им привиделись, — говорил он сердито костру. — Темнота, невежество… Вокруг изумление, а я сам заковал себя в цепи, из коих освободиться ох как тяжко…
Я жевал поповские конфеты, с опаской ожидая, что будет дальше.
И вдруг все трое поднялись от костра в обнимку, с песнями. Раскинув руки, словно ловя кого-то, ударился батюшка вприсядку, берег заходил ходуном. Мужики голосами изображали гармошку, коряжистый хватал тощего поперек, крутил перед собой, норовя переломить пополам.
Потом они снова подобрались к припасам, и тощий сосал вино через горлышко…
Не знаю, сколько времени они гуляли так: сон сморил меня. Иногда, пробуждаясь, видел я храпящих мужиков и отца Александра, темной глыбой застывшего над сизыми головнями костра.
До осени еще не раз увозил меня на рыбалку отец Александр. Отказываться я не осмеливался, а на берегу так же тоскливо все повторялось. Утром я заливал костер, влезал в коляску и пристраивался на уголок сиденья рядом с попом. После запойной ночи он ничуть не менялся в лице, только опускал на глаза густые брови свои да сопел еще громче.
Никому не говорил я о поповских загулах, но в церковь теперь мне совсем не хотелось: торжественность богослужений не увлекала. Я почему-то жалел отца Александра, когда, широко взмахивая кадилом, разгонял он вокруг аналоя душный голубоватый дым, но жалости этой объяснить не мог.
Между тем в школе все шло по-прежнему, только Всеволод Иванович задумал исполнять службы сразу двумя хорами — левого и правого клиросов. Для управления вторым хором всю зиму готовил регент себе помощника — Михаила Сельченкова, который несколько лет назад закончил школу, но к пению сильно пристрастился. Помощник регента во всем подражал своему наставнику, и мы относились к нему дружелюбно. Мы не знали, чем жил Сельченков помимо спевок; только изредка встречали его на улицах, да и то бывал он под хмельком.
Как-то в один из пасхальных дней набегались мы по веселому селу, заглянули в школу. За окнами слышались гармошки, разгульные голоса; а здесь было тихо и пусто, лишь распятый Христос уныло поглядывал на нас из угла с запылившейся за праздники иконы. Писана икона была маслом по тонкому большому листу железа, вделана в крепкую раму. Перед нею мы обычно молились, начиная и кончая уроки, а в остальное время ее не замечали.
Не заметили бы, наверное, и теперь, если б не вошел следом за нами Сельченков. Он раскачивался, дергал щекой, от него несло перегаром. Дико поглядев на нас, вдруг бросился он прямо к иконе, с размаху двинул по ней кулаком. Железный лист жалобно звякнул, вылетел из рамы, загремел по полу. Сельченков прыгнул на него и молча, остервенело принялся топтать, топтать каблуками.
Кое-кто даже голову руками закрыл: вот сейчас разверзнется потолок, ударит огненная стрела! Но стрелы не было; мы опомнились и общими силами вытолкали Сельченкова на улицу.
Вставить икону в раму нетрудно. А вот как быть дальше? Будто кошки искогтили распятого Христа.
— Погоди, ребята, — сообразил кто-то. — Ну, а если она сама грохнулась, если сама исцарапалась об пол?
— И верно сама! Эк ее угораздило…
Уже волокли лист картона, уже показывали, как икона свалилась, как скользнула по шершавому полу.
— А почему она вылетела?
Мы приуныли, никому из одиннадцати гораздых на всякие выдумки школяров ничего в голову не приходило. Выручила бабушка Молчанова. Она вошла на наши голоса, удивленно ахнула. Слышала она туго, объяснений наших, видимо, не поняла и все спрашивала:
— Да как же она могла очутиться на полу?
— Не знаем. Мы сидели разговаривали, а она вдруг ни с того ни с сего бац!
— Может быть, кто-нибудь из вас хлопнул дверью?..
— Ведь я же выбегал, ребята, — решился я и даже сам себе поверил. — А когда вернулся, вы прилаживали икону!
Бабушка внимательно на меня посмотрела, пожевала губами и вышла.
Вскоре нас допрашивал отец Александр. Утюжа бороду, ходил перед нами взад-вперед, стонал под ним пол.
— Кто из вас свершил святотатство? Говорите, иначе вас покарает бог.
Мы стояли на своем. Я опять показал, как, выбегая, бабахнул дверью. Отец Александр обозрел меня, спрятал глаза под бровями.
— Не могла такая икона сверзнуться сама, — определил он внушительно. — Для того в железе и сработана. Однако верю вам, отроки.
Зато власти не поверили. В селе видели пьяного Сельченкова, приметили, как затащился он в школу, как выперли мы его из дверей. Уездный суд решил призвать помощника регента к ответу. Над нами собралась грозная туча.
В конце августа всех нас вызвали в уездный город Жиздру. Под неусыпным доглядом десятских тряслись мы на двух телегах по долгой пыльной дороге. Матери проводили нас со слезами и причитаниями, словно арестантов; Всеволод Иванович, сомкнув губы, стоял в толпе, и длинные волосы его шевелились. Отца я нигде не заметил, но будто опять услышал слова, сказанные им на сенокосе.
Обычно я приносил воды из родничка, растрясал граблями сено, когда оно хорошо провянет, хоть чем-то стараясь помочь отцу. Вот и в то утро, едва брезжило, забрал я в сенках грабли на плечо, вышел во двор. Отец уже был готов; держал в руках косу и песчанку, на боку у него висела сумка с нашим обедом.
— Что ж ты не берешь свою косу? — удивленно спросил он. — Вон, на стенке!
Я покраснел от радости, осторожно потрогал острое, как бритва, еще ни разу не гулявшее по траве лезвие.
— Тот не мужик, кто на покос без косы ходит, — говорил отец, шагая рядом со мной по увлажненной росою дороге.
А навстречу — соседи, знакомые. И все, казалось, с уважением смотрели на меня: «Сынок-то у Якова Васильевича! Помощничек вырос!»
Мы пришли на свою дольку луга. Травы были высокие, крепкие, от запахов чуточку кружилась голова. Встали с отцом недалеко друг от друга, приладились, разом взмахнули косами. Но скоро я отстал: отец работал размашисто, чисто; ровными полукружьями ложились налево срезанные травы, коса пела легко, звонко, не меняя голоса. А у меня уже рубаха прилипла к спине, пот разъедал глаза. Отец изредка останавливался, показывал, как вернее держать косу, чтобы впустую не намахивать руки.
— Провянет трава, — повороши, а я пойду дальше, — милосердно предложил он и подмигнул ободряюще.
Когда мы возвращались, было уже сумеречно. В окнах помещичьего дома блуждал огонь, дорога едва угадывалась. Я еле передвигал ноги, каждую косточку поламывало. Отец не торопил, задумчиво шел впереди на полшага.
— Слушай, Дмитрий, — сказал он, оборачиваясь. — Ты понимаешь, что судить собираются не Сельченкова, а Всеволода Ивановича? Ведь это под него подкапываются.
Я чуть не присел. Ведь так оно и есть, ведь Всеволод Иванович учил Сельченкова, как всех нас. А если еще всплывут наши разговоры — совсем беда!
— Ничего у них не выйдет, — вслух подумал я.
— Было бы так… Но человек ты самостоятельный уже, тебе виднее…
Ни о чем мы с ребятами не договаривались, сидели на телеге спиной друг к дружке, свесив ноги, уныло поглядывая по сторонам. На душе было муторно, тошнотно, будто осиротели. Липы и березы вдоль дороги чуточку тронула желтизна, порой между ними темным недобрым глазом проглядывали заросшие бочажины. По полям бегали стаи скворцов — кормились перед отлетом.
У серого одноэтажного дома, в котором творил праведные дела уездный суд, сидели на камнях мужики и бабы. Одни отрешенно глядели перед собою в пространство, другие сочувственно вздыхали:
— Гляди-ко, и мальцов не щадят… А чего уж нам-то ждать!
— Одна дорога: либо сума, либо тюрьма…
Оробев, входили мы в тесное помещение, уставленное затертыми скамьями. Спертая духота, запахи древней капусты, чесноку, гнилого дерева. На аналое раскрыто Евангелие, рядом торчит в черной рясе поп, держит в белой руке крест. Каждый из нас должен положить ладонь на святую книгу и повторить за полом слово в слово христианскую присягу. После этого, если мы не станем говорить суду правду, то окажемся клятвопреступниками и господь бог нас жестоко накажет.
Колени у меня не сгибались, в голове колокольно гудело. Я твердил грозные слова, а сам старался покрепче притиснуть ладонь к странице, чтоб не дрожала.
— Так ты говоришь, что хлопнул дверью? — допрашивал меня ядовитый старикашка с жабьими глазами. — А товарищи твои показывают, будто Сельченков сорвал икону и швырнул ее на пол.
Лица ребят замелькали передо мной. Вместе мы бегали на рыбалку, словно одной грудью вздыхали разом, когда регент взмахивал смычком, вместе мастерили змея, учились вместе…
— Все так и было, как говорю! — ответил я, глядя прямо в выцветшие стариковские зрачки.
Недалеко от него сидел безгубый парень, выставив язык, усердно скрипел пером. Старикашка сердито цыкнул на него, а потом велел мне убираться на все четыре стороны.
Господи, какой чистый, какой сладкий был над дорогой воздух! При десятских мы только радостно переглядывались, но зато когда вернулись в деревню, то сами побежали в школу, построились в полукруг и запели…
Сельченков по суду был оправдан.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Мать лежала в гробу, крестом были сложены ее изработанные, иссеченные морщинами руки. Потрескивали свечки, роняя слезу, желтым туманом застилая строгое, тихое лицо. Бормотала старуха в черном глухом платке — читала по покойнице. Отец горбился на скамье, раскачивался, повторял шепотом: «Как же это, мать? Как же?» — а пальцы его все плели, плели чересседельник.
Мы испуганно жались в угол, заливисто плакал маленький Ванюшка. Я слышал разговоры, что скончалась мать от родовой горячки, отмучилась, что на том свете легко ей будет, безропотной труженице, но только теперь вот понял: осиротели — и острый репей зацепился в горле.
Погребли мы ее под березой, бросили на крышку мокрые комышки земли, постояли над голым холмиком.
— Как же ты. Яков Васильевич, с пятерыми-то ребятишками управишься? — сокрушались соседи. Женщины обнимали нас и плакали.
Отец растерянно улыбался, словно в чем-то провинился перед миром, и все оглядывался, оглядывался на кладбище.
Но надо было жить, хозяйствовать надо было…
Шли мы как-то с отцом с поля, нагнал нас батюшка, остановил кобылку, накренив коляску, сошел.
— Ведомо ли тебе, Яков, что сын твой окончил школу первым учеником? — спросил он, тесня нас к обочине.
Отец кивнул, не понимая, к чему он клонит.
— Так вот, решили мы отправить Дмитрия на казенный счет в Мокровскую учительскую семинарию.
У меня даже дух захватило. Только иногда, очень робко, думал я о том, чтобы учиться дальше, надеялся на это, как на чудо. Я, конечно, стал бы таким же, как Всеволод Иванович, я бы, как Варвара Ивановна, пришел на первый урок в маленькую сельскую школу и… Но всех моих однокашников уже впрягло в себя хозяйство, только некоторым еще удавалось вырваться на спевки. Мне так даже Всеволода Ивановича некогда было повидать.
— Что же ты молчишь, Яков, или не рад? — нетерпеливо спросил батюшка.
— Рад не рад… не в этом суть, — печально проговорил отец, ковыряя пыль носком сапога. — До учебы ли нам теперь? Надо сына к земле приспособлять…
— Да имеешь ли ты право губить способности Дмитрия! — вскинулся батюшка, побагровев. — Подумай головой-то своей!
— Вот он сам пусть и думает. — Отец с такой надеждой посмотрел на меня, что выбирать не приходилось.
— Охломоны, темнота, — заругался батюшка, взгромоздился в коляску, в сердцах дернул вожжи так, что кобылка осела назад.
Ах, какой тесной показалась мне деревня, какой низкой была наша пятистенная изба!
В сенках встретила нас моя сестренка Зинка. Губы ее прыгали, в глазах накипели слезы.
— Опять они ругаются.
Я услышал крики теток, услышал, как неловко оправдываются мои дядья.
— На заработки собрались, — наседала одна, — а для кого на заработки-то, для кого?
— Чужих ребят кормить, — вторила другая. — Сколь ни зарабатывай, все одно сожрут.
— Вон их пятеро, а работник один. Мы только на них и гнем спину!
Отец посерел, ссутулился, уронил руки. Я пробежал через сенки, толкнул дверь. Тетки разом осеклись, перевернулись:
— Митенька пришел, сиротка наш!
Дядья виновато отдувались, сучили бороды. Но не было у нас в семье такого, чтобы младшие дерзили старшим, и потому я прикусил губу и ушел на свою половину.
— Неужто жениться придется, — хрипло сказал отец.
Он стоял у окошка, к нам спиной, смотрел на пчелу, которая бессильно билась в стекло.
Зимой возле отца закрутились свахи, елейными голосами так и сяк расхваливая какую-то Марию Рогачеву: она-де и работница, и ласковая, и красавица писаная — лучше на всем свете не найти. Мне так хотелось побежать к Всеволоду Ивановичу, спросить у него, как быть, если отец вдруг приведет в дом мачеху. Но еще в конце лета семья Молчановых уехала куда-то, и даже попрощаться мы не успели. Замолкли в церкви чистые детские голоса, защелкала в школе по стриженным под кружок головам тяжелая линейка.
Лоб отца перечеркнули морщины, глаза потускнели, ходил он как-то боком, осторожно ступая. Но на помощь никого не звал, ничьего совета не спрашивал. И вдруг — свадьба.
Была она вообще-то непышной, гостей собралось мало, по-родственному; но мы с Зинкой почувствовали себя вдвойне сиротами. Как ранили нас разговоры соседей, у которых пережидали мы свадьбу! Пьяненький сосед и его жена вернулись от наших рано. Сосед плевался, стучал полусогнутым пальцем себе по лбу:
— Какими только глазами смотрел человек? Пошто до тридцати лет невеста в девках засиделась? Го-ордый, нет чтобы нас послушать. Вон взял бы солдатку Татьяну. Не баба — конь! Так и тянется к детям. А эта плесень какая-то, тьфу ты господи!
— А ты-то меня до свадьбы видал? — заступилась соседка. — Не тебе жить, не тебе и судить. И зря ушел со свадьбы, обидел Якова Васильевича.
Зинка была старше меня на три года, но вся тряслась, вся изошла слезами, будто предчувствовала, как придется ей жить при мачехе. Я успокаивал ее, уговаривал: мы сами по себе, в обиду ни себя, ни отца не дадим…
И вот мачеха поселилась в доме. Сосед определил верно: была она какой-то белесой, словно безликой, волосы — как выцветший лен, брови, ресницы и даже глаза — белые. Да к тому же и видела плохо. Пришлось Зинке ходить за ней по пятам, подавать всякую мелочь. На нас мачеха не обращала никакого внимания, с тетками нашими ругалась до визгу.
Видел я в лесу мощное, в два обхвата, дерево. Стоять ему вроде бы сотни лет, не ведая порчи. Но однажды затрещало оно, рухнуло, и посыпалась из сердцевины гнилая труха. Так и наша семья. И сколько бы отец ни старался, не стянуть ему было своими руками гибельных трещин.
Я слышал, как стучали дядья мои кулаками по столу, видел, как выбегали на улицу, надевая шапки, а потом возвращались: делили лошадей, на куски рвали хозяйство.
После дележки отец позвал меня. Указал на лавку напротив, помолчал. Лицо его было спокойным, только желваки выпирали на скулах.
— Вот и дожили, — заговорил он, не глядя. — Все могли: и отхожими делами промышлять, и землю обиходить, и скотину… А теперь, в одиночку, живо до нищенской сумы докатимся… Вот что, Дмитрий: знаю, тяжело вам с Марьей Ивановной, но не изводите ее — ребенка ждет. Может изменится, как матерью станет. А тебе с масленой до рождества придется пойти в Дубровки, к Тимофею Пронину — батрачить.
Я чуть не подпрыгнул: хоть чем-то помочь отцу, жить своей работой, да к тому же не слышать визга мачехи, не видеть ее белесого плоского лица!
Деревня Дубровки была от нашей версты за три, и жили в ней не хуже и не лучше, чем в Погуляях: кто посытнее — как мы когда-то, кто поскудней — как мы теперь. Хозяин принял меня ободрительно, особой работой по дому не допекал. Зато хозяйка сочинила занятие — мне на горе, а деревенским ребятам на потеху.
— Не строптивничай, — зорко подметив мою неохоту, поучала она. — Всякое уменье человеку не в тягость. — И протягивала узор, который сама измыслила на бумаге. — Завтра вышьешь.
Субботним вечером мы выгоняли коней в ночное. Спутывали им передние ноги, пускали на луг, а сами пристраивались к костру, до озноба стращали друг друга разными историями из жизни привидений, утопленников и мертвяков. Во всякую нечисть я не особенно верил, а все-таки хотелось оглянуться в темноту, словно глядели оттуда в затылок чьи-то немигающие зрачки. Девчонки, которые тоже батрачили у Пронина и ходили с нами, повизгивали со страху.
Утром я просыпался — они уже сидели на траве, подобрав под себя ноги, ловкие тонкие пальцы мелькали с иголкой над пялами. Ребята возились на берегу, залезали в речку, а я подсаживался к девчонкам, клал на колени ненавистную канву, до крови колол себе пальцы.
Если б не Анюта Григорова, я бы сбежал, наверное, без оглядки. Тоненькая, как камышинка, с большущими теплыми глазами на остреньком лице, она терпеливо учила меня попадать ниткой в игольное ушко, затягивать узелки, подбирать тона, выдергивать канву. Сначала и на нее я злился, но потом стал замечать, как она вспыхивает и отдергивает руку, едва я ее коснусь, приметил и то, что она одна из всех зовет меня Димочкой.
У костра я чувствовал себя теперь крепким и сильным; мне хотелось прикрыть, уберечь Анюту от недоброго глаза, от темноты. Только бы подольше не было обеда, не было колокола. Звон церкви отчетливо заплывал в луга. Кончалась литургия — надо гнать табунок домой. Мы собирали вышивку, ловили своих коней и верхами скакали в деревню. Анюта, вцепившись в гриву гнедка, колотя босыми пятками, ловко обгоняла меня, оборачивалась, показывала язык.
В избе я начинал беспокоиться, торопился к окну: вот сейчас она пройдет! И она пробегала по улице, опустив глаза и все-таки едва уловимо как-то давая понять, что меня видела.
Каким коротким показалось мне лето! Осень подобралась сухая, солнечная, вызолотила листья и травы, навесила в воздухе паутинок. С полевыми работами все уже управились, только кой у кого ждали своего часу темные полоски картофельной ботвы.
Молодежь по вечерам бродила из конца в конец деревни принаряженная, с песнями; впереди гоголем выступал гармонист, терзая меха инструмента. Нам, подросткам, пристраиваться к музыке было еще диковато. А как бы хотелось пройтись с Анютой: пусть глядят, какая она красивая!
Вот в один из таких вечеров вдруг послышались на улице крики:
— Погуляи горят! Погуляи!
Я выскочил за ворота. Небо в стороне нашей деревни ярко вспыхивало, качалось страшным заревом. Все во мне захолодело. Огородами, полем, хватая воздух, помчался я прямо на пожарище. Взбежал на угорышек и увидел темные маленькие избы, будто отодвигающиеся от огня, увидел костры на том месте, где стояли наши усадьбы.
Пожар все ближе, все слышнее. Да это же мы горим, мы!
Сквозь обугленные крыши прорывались столбы пламени, снопы колючих искр; огненный вихрь крутился в воздухе, захватывая соседние избы. Горели дворы, сараи, амбары; жаркий ветер обжигал лицо. Прикрываясь рукавами, люди плескали в огонь из ведер алые полоски, но вода тут же вспыхивала облачками пара.
Подбегая к пожару, я наткнулся на мачеху и сестренок; они сидели на узлах, голосили.
— Ванюшки нету! Ванюшки! — бросилась ко мне Зинка. — В амбаре мы спали.
Крыша амбара уже полыхала. Кашляя от дыма, ударил я ногою в дверь, кинулся через порог. Ванюшка спал на дерюжках, свернувшись в клубок. Я схватил его, прижал к себе, заторопился вон, но успел услышать, что в амбаре еще кто-то копошится.
Мачеха завыла над Ванюшкой, а я опять нырнул в дым. Дерюжки уже тлели, искорки просверкивали по ним. Что-то мягкое, живое было под рукой. Я выбежал — это был петух; крылья его обгорели, он вздрагивал и все норовил сунуть голову ко мне за пазуху.
Погуляевцы тем временем махнули рукой на обреченные дома, отступили за овраг, перерезавший деревню, встали наготове, чтобы не дать огню переброситься дальше. Среди них был и отец. Черный, с обожженной бородой, стоял он в толпе, запавшими глазами смотрел на гибель своего дома, и в зрачках его метались красные блики.
Но, погубив четырнадцать хозяйств, пожар насытился, улегся, лениво погладывая головешки, облизывая печи. Погорельцы, причитая и крестясь, перебрались к добрым людям или в риги, уцелевшие от огня. Наше семейство тоже поселилось в риге. Братья сидели вместе, бессильно бросив на колени руки. Тетки и ребятишки в один голос ревели.
— Слезами горю не поможешь! — крикнул отец в темноту. — Заново все начнем, все вместе!
— Теперь уж нам не подняться, — вздохнул один из дядьев.
— Получим страховые деньги, займем у кредитного товарищества…
— Много ли дадут. Зима на носу.
— Много не много, а крыша над головой будет.
Отец старался бодриться, но я по голосу его понял: и сам он мало верит в свои слова.
— Дмитрий! — окликнул он меня. — А ты наутре пойди обратно. Задаток я у Пронина брал.
Я повалился на солому. Ноги болели; стоило закрыть глаза, и начинали метаться снопы искр. У столба на улице громко жевала и всхрапывала единственная спасенная из огня лошадь. Деревня, сморенная усталостью, горестно затихала.
— Можешь отправляться домой, — сказал хозяин, когда утром я вернулся в Дубровки. — Передай отцу, что отпускаю тебя насовсем ранее сроку и уплаченное вперед просить не буду. Ступай, помогай Якову Васильевичу чем горазд.
Анюта выглянула из своей избы, замахала мне рукой, но я повернулся и зашагал прочь. Что я мог сказать этой девчонке, когда сам не знал, куда завтра ляжет моя дорога?
А назавтра собрались погорельцы, стали делить между собой деревни: кому в какую идти с протянутой рукой. Общественной помощью перевезли купленные взаймы срубы, поставили избы, чтобы семействам кое-как перезимовать, и потянулись по дорогам с котомками за плечами.
Собрались и мы с отцом. Бродили по деревням, стучали в окна, отпинываясь от собак. Возвращались домой, вывертывали котомки, опять уходили, ночевали в банях и в скирдах, на полатях у душевных людей.
— Ничего стыдного в том нету, — говорил мне отец, обдирая с усов колючие сосульки. — У своих берем, в долг. От сумы да от тюрьмы не зарекайся. Только вот подняться нам надо. На будущий год делиться с нами последним не станут — скажут: пора самим справляться с нуждой.
Ветер насквозь просвистывал мой зипунишко, стучали зубы. На пустом поле сиротливо торчали былинки, сгибались, опять вставали, хоть и не было жизни в их сухих телах.
— В заработки бы двинуться, артелью, — продолжал отец. — Да на разведку послать никого не сможем без денег. Вот и выходит колесо.
Мы пробирались к дому. Отец все замедлял и замедлял шаги, а когда завиднелись наши избы, совсем остановился. Вздохнул, поправил тяжелую котомку, до бровей прихлопнул шапку и, словно переступив невидимую черту, ходко, по едва заметной тропке, двинулся к избе.
Мачеха кормила Варьку. Родилась Варька после пожара крикливая — рот больше головы. Но мачеха ничуть не подобрела. И теперь даже не взглянула на нас. Отец бросил котомку, спиной притулился к стене. Я тоже снял свою и чуть не упал — до того оттянуло плечи. В избе гулял холодок: без сеней любая печь не обогреет. Мачеха завернула Варьку тряпками, забросила желтую отвислую грудь за кофту, потянулась к отцовской котомке.
Братишки и сестренки сидели смирной стайкой, посматривали на меня уважительно, на мачеху — со страхом.
Неожиданно в избу вошел сосед, снял шапку, перекрестился на иконы.
— И чего ты сидишь, Яков Васильевич? От подрядчика Морозова человек приехал. Зовет в Брянск и задаток дает. Собирайся мигом!
— Землю нынче не пахать, — наказывал отец немного погодя своим братьям. — Поднимите только огород. Мы с Митькой приедем к сенокосу.
Я скакал от нетерпения. Отец берет меня с собой, берет на заработки! Сколько я слышал всяческих былей и небылиц про дома с такими окнами, что в каждое свободно проедет телега, о паровозах, бегущих по железным линейкам, про пароходы, про разную разность, которую здесь, в деревне, даже не придумаешь. И вот я увижу все это своими глазами. Увижу, может быть, и такое, о чем говорил Всеволод Иванович. Летом мы вернемся, я прибегу к Анюте и сам буду рассказывать ей про большие города и удивительных людей, которые их населяют.
До станции Дубровка не то что до деревни — шестьдесят верст, но пешочком добрались мы к поезду довольно скоро. Я не замечал дороги, лесов, полей и поселений, что мы миновали, ни с чем не прощался. Наверное, я похож был тогда на птенца, который впервые вылетел из тесного гнезда и от восторга, от предчувствия необычайного забыл о родимом дереве.
На станции оказалось не особенно многолюдно; зато мужики, господа в мерлушковых шапках, полицейский с наваченной грудью — все были возбуждены не то бойким буфетом, не то ожиданием чего-то грозного, что таилось вдали. Шел легонький снежок, на рельсах покойно лежали хрупкие звездочки. Рельсы казались мне такими непрочными; я удивлялся, как могут выдержать они столько людей.
И вот они затрепетали, загудели, донесся издали звериный рев, показалось нечто черное, шипящее и фыркающее, как раскипевшийся самовар. Я зажмурился, ладонями зажал уши. Отец подтолкнул меня в спину, вместе с мужиками полезли мы в вагон.
Душно было в вагоне от нагретой чугунной печки, от распаренных овчин. Я пробрался к узкому окну, прижался носом к холодному, в радужных разводьях, закопченному стеклу. Вагон покачивался, стучал, лязгал; и мне казалось, будто стоим мы на месте, а за окном сами по себе движутся, бегут постройки, деревья, волнистые поля.
В Брянске мы плотничали. Отца предупредили, что мне платить будут половину среднего заработка взрослого члена артели, но и эти деньги надо заслужить, чтобы не сидеть на чужом хребте. Сперва я боялся, что мастеровые будут надо мной подтрунивать, старался не мозолить глаза, однако плотники были людьми серьезными, степенными, никто меня не обижал. Я помогал кантовать бревна, ошкуривать, был на подхвате. Работали пока светло, а дни все удлинялись, и к сумеркам меня от усталости пошатывало.
Артелью возвращались в барак, определенный нам под жилье. Я старался подражать отцу, говорить неторопливо, ступать покрепче. Плотники это заметили.
— Ну, подсаживайся, Дмитрий Яковлевич, — сказал мне как-то один из них, хлопая ладонью по скамье рядом с собой.
Я покраснел от удовольствия, и отец одобрительно подмигнул мне из-за стола.
Мы хлебали из одной чашки, потом валились на нары и мгновенно засыпали.
Особой дружбы между артельщиками не получалось. Помимо работы всяк жил сам по себе, да оно и понятно: кончится подряд, и разлетятся они в разные стороны, позабыв друг о друге. Разговоры все больше велись о хозяйстве, о земле и деньгах.
— Нам честным-то трудом не забогатеть, — жаловался косоплечий, в спутанной и набитой опилками бороде, пильщик. — Ныне жуликам вроде нашего подрядчика Морозова — масленица. А мы только одну хитрость и знаем — с зари до зари пятаки на ладонях натирать.
Разговор начался после того, как все мы увидели подрядчика. Богатый дом Морозова высился неподалеку, рядом с домом дымила трубой большая торговая баня. И от этой бани под оркестр шагали человек триста пожарников. Блестели на солнце трубы, сверкали медные начищенные каски. А впереди колонны важно попирал землю знаменитый подрядчик, и на голове его жаром горела пожарная каска. Мещане встречали команду криками ура, полицейские брали под козырек, мальчишки толпами бежали за музыкой.
— С жиру бесится, — сердился пильщик. — А ведь был таким же голодранцем, что и мы.
В артели немало было мастеровых из отдаленных мест; и вечером, после ужина, некоторые из них пристали к пильщику с расспросами.
— Ладно, слушай, — сдался он на уговоры. — Может, кто из вас по его дорожке покатится.
И, выпутывая из бороды опилки, рассказал такую историю. Скуп был в бедности Морозов до удивленья: даже летом ходил в залатанной, засаленной шубе. Кормился от артели в сторонке, занимал деньги, но никогда не отдавал. К любому человеку умел подкатить, мигом учуяв его слабинку, подхалим был редких статей. Вот как-то уговорил он своих земляков собраться в артель, брать работы под ответ всей артели и деньги делить поровну. Морозова выбрали старостой, он сам брал подряды и вел расчеты с артельщиками. Сумел обернуться так, что все остались довольны, а сам он разбогател. С этого и пошел в гору… А дальше помогла ему любовь.
Над рекою Десной — золоченые маковки собора, белая каменная стена женского монастыря… Однажды взял Морозов подряд у самой матушки-игуменьи, артельщики получили доступ за монастырские стены. Матушка-игуменья была женщиной в соку, перед ловким пройдой не устояла, тайком открыла ночью дверь своей кельи. Шире-дале пошло, и в один прекрасный день монастырская касса опустела.
Похватали морозовских артельщиков, но ничего у них не нашли. А Морозов опять к матушке-игуменье: мол, розыски надо прекратить, иначе будет скандал на весь белый свет. Кто поверит, что матушка-игуменья допускала в монастырь посторонних мужиков? Ну, а то, что случилось в обители, — дело не мирское, ответ ей, стало быть держать не перед людьми, а только перед самим господом богом.
Ныне Морозов — самый уважаемый на Брянщине человек. Подарил городу трехэтажные хоромы под гимназию и дворянское собрание, на свой счет содержит церковный причт с клиросом певчих, пожарную команду, все артели мастеровых работают под его прихвати-стой рукой.
Я слушал пильщика, раскрыв рот. Пронин из Дубровки казался мне богатеем. Но ведь его я видел каждый день, от него получал работу. Морозов же даже не подозревает о моем существовании, не знает ни отца моего, ни этого пильщика, а мы допоздна гнем на него спину. Огромным, непонятным оказался мир за пределами нашего села, и затосковал я по своей деревне, где каждый закоулок, каждый перелесок были до черточек знакомы.
К сенокосу мы вернулись в Погуляи. Шли по обочинке дороги, опираясь на батожки, узнавая простроченную кузнечиками тишину, зеленые тени полуденных осинников. С лугов тянуло медовым настоем поспевших трав, насвистывали птицы, позванивала в ивняке веселая речка Шуица. Ноги наши посерели от пыли, пот заливал глаза, но мы почти бежали: мы несли с собой деньги, несли подарки!
Мачеха выскочила навстречу, всплеснула руками, засуетилась, ангельским голоском запела: как же вас усадить, да чем же вас угостить!.. Отец удивленно вскинул брови, нахмурился.
Я важно протянул Зинке платок; она всхлипнула, прикусила губу, выбежала. Я с трудом ее настиг.
— Говори, что случилось?
— Пойдем подальше, Митя, я боюсь…
Мы спустились к Шуице. Я ждал, пока Зинка выревется, жевал травинки.
— Ох, устала я, Митя. Всех нас она измучила. Рассует вещи куда попало, а потом на всю деревню кричит: мы украли. Жалуется соседям: не слушаемся, не помогаем, выводим из терпения. Бьет веревкой. Ванюшку заставляет водиться с Варькой, а он сам вовсе маленький. Я скоро наверно оглохну от ее визгу… Мамочка, хорошая, добрая мамочка, зачем ты нас покинула-а…
Она упала лицом в ладони, зашлась плачем.
— Слезами горю не поможешь. — Я поднялся, спнул в воду комок земли. — Поговорю с отцом, пусть ее приструнит.
Когда мы вернулись, мачеха тучей глянула на Зинку, а меня усадила рядом с отцом, пододвинула чашку. Кусок в горло не лез, я отговорился усталостью, отправился спать…
На другое утро, на сенокосе, так с отцом, и не заговорил. Думал, что сам он все видит и понимает и, наверное, есть у него причины, если молчит. Мы работали рядышком, косы настроились в лад, ложились, ложились перед нами хрусткие душистые травы. Постепенно я увлекся, позабыл обо всем.
Пообедали в тени, запили ломкой родниковой водой, полежали немного. В просторном небе башенками стояли облака, кувыркались бездумные жаворонки, над землей паутинками дрожал нагретый воздух. Я не думал, что вижу все это в последний раз. Под вечер отец сказал:
— Иди-ка домой пораньше. Я еще покошу.
Голос у него был пересохшим, глаза смотрели в сторону.
Я вскинул на плечо косу, быстро зашагал по колючей стерне.
Из нашей избы доносился рев. Я повесил косу, перешагнул порог. Мачеха зажала Ванюшку между ног и остервенело хлестала веревкой розовую его заднюху. Зинка металась вокруг. Я ринулся к мачехе, выхватил веревку, размахнулся и… отступил.
Мачеха помертвела, выпустила Ванюшку. В избе стало так тихо, что слышен был уголек в печи.
— И-и, — взвизгнула мачеха, заметив, что бить ее я не собираюсь, закогтила пальцы, заметалась. Из ощеренного рта хлынула такая площадная брань, какой я еще не знал. Я стиснул в кулаке веревку, молчал, ждал отца.
Едва он открыл двери, мачеха завопила:
— Помогите, спасите, убивают!
Отец широкими глазами глянул на нее, на меня, потемнел, раздул ноздри, повернулся ко мне, сгреб за ворот; треснули пуговицы. Не помня себя, я тоже схватил его за грудки. Мы разом занесли кулаки и вместе опустили.
— Все равно я ее убью! — крикнул я.
— Да перестань ты вопить! — топнул отец на мачеху.
— Ты чего кричишь на меня?!. — взвилась та. — Один бьет, другой орет. Живьем в землю закопать готовы. Уйду, уйду-у… Люди добрые, поглядите, что они со мной делают! — Она выбежала на улицу.
— Прости меня, Дмитрий, — сказал отец. — Не вешать же мне ее, жена все-таки…
Ночевал я у соседей. А на рассвете, в пиджачке и картузе, с рублем в кармане, вышел на дорогу.
Деревня медленно пробуждалась. Над трубами вставали первые дымки, заря чуть алела на востоке, и крест над церковью светился язычком пламени. Я оглянулся на пруд, в котором тонул когда-то, на поле, где запускали мы змея, на окна школы. Пробрался на кладбище, постоял над могилой матери. Крест на ней скособочился, застежила холмик цепкая трава.
Внутри у меня будто что-то оборвалось, а потом закаменело. И уже без боли лопались невидимые корни, привязывавшие меня к земле. Я быстро шагал по прибитой ночными росами дороге, больше не оборачиваясь. Если б я помедлил, может быть, вся дальнейшая судьба моя сложилась по-иному. Но через сотни верст город властно звал меня, и я шел на этот зов, не останавливаясь и не раздумывая.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
— Да, парень, худо бы тебе пришлось. Ты хоть и рослый, но все одно что молоденькое деревце: всякий сломать может. Вот потому я и попросил тебя к себе…
Так говорил дядя Абросим, ловко подсекая мастерком раствор. Я только ахал, когда простецкий кирпич складывался под его колдовскими руками в затейливые узоры. Господи, стану ли я когда-нибудь таким мастером, научусь ли с такой сметкой схватывать чертеж, оживлять его мертвые линии! Но я уже рабатывал со взрослыми, знал, каким по́том дается мастерство, и терпеливо обучался. Дядя Абросим тоже был терпелив, никогда не ругался, не повышал голоса.
Мы высоко стояли на лесах: клали церковные стены. Ветер погуливал вровень с нами, августовский спелый ветер, донося с окрестных полей с детства знакомые запахи. Дядя Абросим уже выслушал мою историю, но причины бегства определил по-своему:
— Время приспело, вот на тебя и накатило…
Попал я на эту стройку в селе Ущиж случайно. Конечно, на станции Дубровка ждал я поезда, который шел на Брянск. А поехал до Ржаницы. Дело в том, что высыпали из вагона мастеровые, поспешили с чайниками за кипяточком. На каждом из них фартук — значит, едут на заработки. Мне уже известно было, что по фартукам подрядчик отличает мастеровых от прочей толпы, выбирает себе столяров, каменщиков, штукатуров, плотников.
— Куда вы собрались? — тронул я за рукав степенного мужика с дымчатой от проседи бородою.
Он оглядел меня с ног до головы, словно прикидывая, куда я могу сгодиться, сказал, что пойдут они в село Ущиж на строительство новой кирпичной церкви, по подряду с господином Морозовым.
— Работенки всем достанется, — добавил он и подмигнул. — Хошь с нами?
Я обрадовался, полез в вагон. Мужик оказался артельным старостой, прямо спросил, а чего я умею.
— Ничего, — признался я.
Он одобрительно кивнул, придвинул ладонью бороду ко рту, отпустил:
— Смолоду только и обучаться…
В селе было многолюдно. На земле, на бревнах, на грудах кирпича сидели пришлые, развязывая узелки, ведя неспешный, больше для виду, посторонний разговор, а сами прислушивались к голосу десятника. Десятник, остриженный под кружок, с постным лицом, определял людей на работы. Я отодвинулся в сторонку, решил терпеливо ждать. Тут-то и нашел меня чернобородый жилистый человек лет пятидесяти, потянул за полу:
— Пойдешь в подручные. Зови меня Абросимом.
Дядя Абросим не стоял в общей захватке на простых ходовых работах. Работа его была сугубой, как объяснял он, деликатной, при ней не надо перетаскивать на себе больших грузов и излишне спешить. Художественная кладка кирпичных узоров, замысловатых перемычек над просветами, забивка круглых и прочих сводов — тут нужен особый глаз, нужна душевная зоркость.
На сезон поселился дядя Абросим у своего зятя, богатого крестьянина, к нему меня и привел. Вечерами при керосиновой лампе читал древние книги, молился по-староверчески, с малым началом, но верой своей никому не докучал, строил православную церковь, по воскресеньям любил побаловаться водочкой.
Я покупал ему бутылочку, наблюдал, как вкусно он пил и похрустывал солеными огурчиками. Глаза его влажнели.
— Не привыкай к этому зелью, Дмитрий. Прежде мастером стань. А уж потом, коль душа праздника запросит…
Как-то я не выдержал, спросил, почему дядя Абросим молится по-старому, а живет, как все. Он засмеялся:
— Вера-то в ребрах, а не в бревнах. — Потом вздохнул: — Все нынче перепуталось: мертвые и живые; одно великое на земле неизменно — мастерство.
То ли от деревенской робости, то ли по каким-то иным причинам с другими мастеровыми и подмастерьями я не сближался. Да и работа дотемна не слишком-то способствовала этому.
А между тем с деревьев покатилась листва, зашлепали долгие дожди. Каменщики засобирались по домам — сезон кончался. При одной мысли о том, что надо встречаться с мачехой, у меня стискивало горло. Нет, домой я не вернусь ни за что: все отрезано раз и навсегда. Но что же делать, где искать работу?
— Жалко мне с тобой расходиться, — говорил дядя Абросим, укладываясь в дорогу. — Есть и сметка у тебя, и хватка, а главное — душа. Только не растеряй ее на перепутьях.
Вместе добрались мы до Ржаницы. С низких туч сыпал редкий сухой снег, застилая дали; под ногами стучала голая задеревеневшая земля. Артельщики шагали споро, переговаривались вполголоса. Думки их были уже там — в родных селах, при хозяйстве, которое мигом поглотит все, что таким по́том заработали они за лето.
— Ну, авось, свидимся, — подал мне руку дядя Абросим. — Езжай-ка в края, откуда птицы дольше не улетают.
И я опять осиротел. Не помнил, как доехал до Брянска, как выскочил из вагона.
У кассы висела цветастая карта железных дорог Российской империи. Москва, Петербург, Урал… Все казалось близко, локтем измеришь. Но я-то знал теперь, какие это пространства, и растерялся перед ними. Тогда, зажмурившись, ткнул я пальцем в низ карты, поближе к синему лоскутку моря. Попал в Екатеринодар.
— Скажите, пожалуйста, — обеспокоил я приличного господина в теплом картузе, прогуливавшегося неподалеку. — В этом вот городе сейчас тепло?
Он подозрительно на меня уставился:
— А зачем это тебе нужно?
Я сбивчиво пояснил, что надо искать заработки. Он отвел мой палец:
— Э-э, должно быть тепло. Там вообще теплей.
Я взял билет до Екатеринодара.
Брянск был еще родным городком: за два-три дня можно было вернуться в Погуляи, опять зажить по-старому. В деревне сейчас с полями убрались, солят капусту. Как-то там отец, Зинка, Ванюшка?.. Отрезанный ломоть… Может, поторопился, сорвался в сердцах… Но поздно рассуждать: грохочет за окнами ночь, покачивается сонным глазом фонарь над дверью.
В вагоне вповалку спят мужики, бабы, ребятишки; густая вонь распирает стенки. Есть вагоны, из которых выходит на станциях погулять чистая публика: господа в котелках, в подбитых мехами пальто, с сигарою под правым усом; дамочки, чистенькие, душистенькие, в теплых накидках, в шляпках и пушистых шалях. Буфетчики перед ними рассыпаются мелким бисером, сами себя готовы зажарить в сметане и подать на стол. А мы пьем чай на заплеванных стойках, торопливо жуем хлеб под свирепым взглядом полицейского.
За окнами пошли степи, беленькие, будто игрушечные, чудные хатки, тополя, словно поставленные торчмя лисьи хвосты. Чем дальше Брянск, тем в вагонах теплее; и я снимаю потрепанное пальтишко, купленное в Ущиже у хозяина. Вот уже солнце в вагоне, травы пошли за окнами, зелень, подхваченная осенью, но еще живая. Ленивые быки с дикими рогами тащат забавные телеги на огромных колесах. Вокруг меня певучий непривычный говор, шуршит под ногами шелуха от подсолнуховых семечек. А люди все те же: мужики, бабы, ребятишки. Куда едут, чего ищут? Неужто, как я, мыкаются по свету в поисках работы?
Быстрая мутная река в кустарниках и деревьях катится рядом с поездом, опасливо отбегает в сторону, опять припадает боком. Похожа она чем-то на Десну, но посмуглее и, видимо, поноровистее характером.
В вагоне засуетились, задастые тетки вытолкнули меня на площадку, выперли вон. Екатеринодар. К чистым вагонам, блестя и звеня бляхами, разлетаются носильщики. Кругом кричат, машут руками, будто насмерть ссорятся. Вислоусые дядьки пробивают плечом дорогу. Господи, зачем я сюда приехал, кому нужен? В кармане совсем мало денег, а работа — где она?
Видимо, недавно был дождь: мостовые блестели, будто вымытые, влажно шелестела листва. Город оказался большим, многолюдным; высоко возносились этажи каменных зданий; по улицам ехали сытые извозчики на таких колясках, рядом с которыми коляска отца Александра казалась бы мужичьей телегой.
Я набрался храбрости и принялся расспрашивать прохожих, не строят ли где-нибудь кирпичных домов, пока, наконец, не увидел стенку и мастеровых, укладывающих кирпич в носилки.
Поздоровался, поинтересовался, где старший. Из проема вышел длинный тощий человек с усиками щеточкой, уставился на меня строго.
— Не нужны ли каменщики? — начал я.
— Пока нужны, а что?
— Меня не примете?
— Вот когда подрастешь, научишься разбираться, на какое ребро кирпич кладут, — приходи.
Мастеровые прислушивались к нашему разговору, над стенкой появились любопытные лица.
— Тогда, может быть, нужны вам десятники? — разозлился я, угадывая, что здесь делать мне нечего.
— Пожалуй, — протянул тощий с издевочкой, слыша за спиной одобрительные смешки. — А что ты можешь делать?
— Все, что десятнику полагается, начиная с разбивки и кончая последним гвоздем.
Вокруг захохотали.
— А ты докажи, — подступал тощий.
— Поставьте на работу, тогда проверите!
— Эх, паря, — посочувствовал кто-то из мастеровых, — вот-вот и нам расчет: скоро холода…
Быстро темнело, тучи наползали на небо, роняя первые грузные капли. Я продрог, сунул руки в рукава, читал вывески на стенах домов. Надо было где-то ночевать, но деньги тратить нельзя: кто его знает, сколько придется жить неприкаянным. На углу какой-то улицы висело объявление: требуются рабочие на бурение артезианских колодцев. Что такое бурение и что это за колодцы — раздумывать я не стал. Была не была, и каменщиком я тоже не родился.
Впереди оказался маленький заводик, по-видимому бондарный, потому что за заборчиком громоздились друг на дружке бокастые бочки. Заводик молчал, не зажигал в сумерки огней. Тихонько протиснулся я в приоткрытую дверь сарая. Внутри было пусто, пахло сырым деревом, в щели немилосердно дуло. Отыскав уголок поукрытей, я натянул пальто на голову, уткнул колени в подбородок.
На улицах было пустынно, только-только начали вылезать дворники, позевывая, почесываясь и поругиваясь спросонок; лучи солнца, проклюнув тучи, пятнами легли на стены. И во дворе третьей полицейской части, куда я пришел по адресу и расспросам, тоже никого не оказалось. Лишь топырилась железная вышка, а рядом с нею дремала на толстых колесах какая-то забавная машина, вроде маленького паровоза. Длинная труба ее была сломлена, покоилась на рогульках вдоль тела. Рычаги, большие круглые часы с одной стрелкой, топка, от которой припахивало горелым. На боку машины сидело маленькое колесо, от него провис к вышке широкий кожаный ремень.
— Интересуетесь? — услышал я за спиной.
Ко мне подошел чернявый скуластый человек в рабочей блузе; живые, чуточку раскосые глаза его улыбались, приподнялись и подрагивали уголки твердых губ.
— Что это за машина?
— Локомобиль, — ответил он просто. — Вы, очевидно, приезжий. Садитесь вот сюда, пожалуйста, и расскажите, откуда.
Я пристроился на скамейке рядом с ним; он закурил, приготовился слушать. Говорил он не так, как другие мастеровые, которых доводилось мне встречать. Мне даже на миг представилось, будто я сижу рядом с нашим регентом Всеволодом Ивановичем.
— Вас на работу не примут, — сказал без обиняков мой новый знакомец, гася о ножку скамейки окурок. — Слишком тяжела. А не согласились бы вы встать к локомобилю? Дело в том, что я машинист и мне срочно необходим помощник. По-моему, у вас получится, — предупредил он, заметив мое замешательство. — Итак, условились. Кенига я уломаю сам. Это наш старший мастер, большой специалист по бурению.
Он встал, протянул узкую ладонь, назвался Иваном Михайловичем Насыровым.
Во двор шумно вшагал рослый, крупный, краснощекий господин в сбитой на затылок шляпе, в распахнутом пальто, выкатил на меня серые светлые глаза и резко закричал:
— А вы к кому, молодой шалавек? Если наниматься, то можете быть свободен: наша работа вам не подойдет.
— Погодите, Егор Егорович, — засмеялся Насыров. — Помните, говорил я вам о том, что не могу без помощника обслуживать сразу три машины в разных частях города. Теперь мы могли бы работать одновременно на всех.
— Шорт с вами, — руганулся Кениг и грозно двинулся на кучку людей, пришедших, по-видимому, по объявлению.
— Добрейшей души человек этот Кениг, — сказал Насыров. — Где вы ночевали? Ах вот как! Ну-с, тогда вечером к мне. Думаю, договоримся и с мамой.
Странное дело, но мать Насырова очень напомнила мне бабушку Молчанову. Только глаза у нее были очень грустные, исплаканные. Встретила бабушка, как я про себя уже называл ее, на редкость приветливо, сыну даже не дала договорить. Пока мы с Насыровым умывались, она успела приготовить мне комнату и распорядиться ужином.
Насыров познакомил меня со своей женой и сестрою, впятером мы сели за накрытый стол. Уютно поварчивал большой начищенный самовар, стучали часы на стене, передергивая тяжелые гири. Со вчерашнего дня я ничего не ел, теперь разохотился, но никого это не настораживало.
Все в просторной квартире на Базовской улице было иным, чем до сих пор я видел. Жили Насыровы не при большом достатке, но по-городскому, и каждый предмет в доме представлялся мне роскошным. Однако очень скоро я освоился; мне казалось, будто живу я здесь уже много лет.
Затемно возвращался я домой, пропахший маслом, утомленно подволакивая ноги. На улице холодало, с моря за десятки верст тянул сырой ветер, приносил липкие снежинки. Но в уюте я скоро отходил, радовался, что будет утро и опять можно бежать к локомобилю.
Одно меня беспокоило: была в семействе Насыровых какая-то грустная тайна, о которой никто из них ни полсловом не обмолвился. Частенько за столом бабушка вспоминала Николая, изредка Василия, но никогда не говорила о своем муже. Я уже знал, что брат моего наставника, Николай Михайлович, был из тех, кого называли социал-демократами; несколько лет назад его арестовали, судили и сослали на каторгу. А другой брат, Василий Михайлович, преподавал в гимназии, жил своей семьей, к матери наведывался редко. Старушка называла его «наш средний», а Иван Михайлович — барином.
Однажды «средний» пришел, наглухо застегнутый, прямой, будто проглотил аршин. Не удостоив меня вниманием, насмешливо ткнул он пальцем в Ивана Михайловича:
— Ты все еще рядишься в эту дурацкую блузу? Это плебейство унижает тебя и всех нас.
— Ну тебя-то это не касается! — отрезал Иван Михайлович.
— То же самое вы говорили, когда я предупреждал, что дурные наклонности приведут Николая на каторгу.
— Перестань, Василий, — взмолилась бабушка, указывая глазами на меня.
Я с самого начала разговора попытался уйти, но было как-то неловко. Теперь я осторожно, по стенке, проскользнул к себе в комнату.
— Вас не спрашивают, сударыня, — услышал я трескучий голос Василия Михайловича.
— Николай всегда был честным человеком, и я рада, что у меня такой сын, — ответила бабушка.
Притворив дверь, я сел на стул, вцепился в него обеими руками. Еще бы немножко, — и я вытолкал бы в шею этого господина.
Но кто-то постучал в дверь. Вошла бабушка, остановилась посреди комнаты, опустив руки, глядя на меня тихими, чуть припухшими глазами, сказала спокойно:
— Извините, Дмитрий, неловко получилось.
Я не знал, что ответить, да она и не ждала каких-нибудь моих слов; ей нужно было высказаться…
Судили Николая Насырова при закрытых дверях; допустили только родственников. Николай пробовал защищаться, но на него обрушили такие факты, которые могли запомнить только очень близкие люди. Я даже не мог представить, слушая бабушку, как пережили Насыровы, когда узнали, что родной отец Николая день за днем по крохам готовил тюрьму для старшего сына, который ничего от него не таил.
Бабушка отреклась от мужа, Иван Михайлович — от отца. А тот в конце концов спился и умер под забором. Только средний из его сыновей чтил память своего родителя…
Рассказывала бабушка коротко и сухо, будто читала по газете заметку в разделе «Происшествия»; и только по растерянному движению пальцев, перебиравших платок, можно было догадаться, чего ей это стоило.
— Иван всех нас кормит, — закончила она, вдруг посветлев, и мелкими шажками вышла.
Что ни день все подробнее узнавал я локомобиль. И машина, словно живая душа, тоже узнавала меня, становилась проще, послушнее. Иван Михайлович, азартно поблескивая глазами, без устали меня натаскивал. Колесо сбоку оказалось маховиком, часы — манометром, показывающим давление пара, железный корпус содержал в себе котел, топку, паровик и питательное устройство. С шумом и фырканьем ходили поршни, посвистывал золотник, из трубы, установленной торчмя, буйно вырывался дым. Литое тело машины трепетало от напряжения, бур на вышке принимал его и яростно проклевывал землю. А машина покорялась мне, потому что без меня не могла жить.
Иван Михайлович был доволен. Иногда прибегал Кениг, дышал мне в затылок, свирепо говорил: «Мальшишка!» А как-то выхватил у Насырова паклю, которой тот вытирал ладони, закричал:
— Шорт з ним, пускай работайт один!
И пребольно хлопнул меня по плечу…
К марту ствол артезианского колодца был пройден. Оставалось поставить фильтры, выложить кирпичную шахту для насоса — и подземная вода пойдет в город.
У ствола появился подрядчик, бойкий шилоносый человечек, определил, что кирпич надо класть на глубину шести метров, диаметр шахты — четыре метра; стало быть, это столько-то штук, и один каменщик вполне справится с работой в положенный срок. Кениг отдувался, фукал, сбивал на затылок шляпу.
— Позвольте выложить мне, — напросился я.
— Ошень шутливый мальшик, — захохотал Кениг, но подрядчик наскочил, затормошил вопросами.
Я знал, что каменщиков в марте не так-то легко найти. Была и другая причина: бурильные работы сворачивались, машинистов локомобилей нигде не требовалось, и Иван Михайлович озабоченно признавался мне, что, пожалуй, подыскать для меня что-нибудь будет весьма затруднительно. Никакого права садиться ему на шею я не имел, рано или поздно надо было уходить из дома Насыровых. И вдруг — такая возможность. Нет, так просто я ее не упущу!
— Хорошо, попробуем, — согласился подрядчик, когда я сказал ему, что знаю даже сложную кладку.
На другой день мне привезли кирпич, замесили раствор, я спустился на дно шахты. Было сыро, зябко, руки сводило; но работал я споро, весело, подымаясь все выше по деревянной времянке.
— Изрядно, — одобрил подрядчик, полазав по шахте и обнюхав кладку. — В конце апреля буду строить епархиальное училище, так что иди ко мне, Курдачев. Положу по два рубля с полтиной в день.
Таких денег я не получал ни разу, даже у локомобиля давали только по девяносто копеек. У меня сердце взыграло. Насыровы брали с меня за квартиру и стол пятнадцать рублей в месяц, теперь я потихоньку, необидно стану подсовывать бабушке прибавку. Да и приодеться надо поприличнее, по низу штанов уже усатилась бахрома. Как-никак, а пошел мне шестнадцатый год; под носом всерьез затемнел пух, на скулах полезли мягкие волоски; я уже раздумывал, оставить ли только усы или пустить окладистую внушительную бороду, такую же, как у дяди Абросима.
Дни прибывали, солнце пригревало заметно, на тополях набухли и с треском взорвались липкие почки. В наших краях еще сосульки плакали под крышей, еще мороз до блеска начищал утрами полевые снега, а тут появились на улицах господа и дамы в легких одеждах, гуляли, опираясь на трости и зонтики. Кубань вздулась, побурела, как перебродившее пиво, затопила пойму. Земля пахла так пряно, так духовито! Я закрывал глаза и видел отца, идущего за сохой, грачей, воровато выхватывающих из-под самых его ног ошалелых червей.
На захватке со мной работал Григорий Круглов, рассудительный, спокойный человек. Приехал он на Кубань из Ряжского уезда Рязанской губернии, намотавшись по разным стройкам, и делом своим очень дорожил. Хотя и был он старше меня лет на двенадцать, мы быстро и ловко с ним сошлись, частенько при гонке в одну чалку опережали другие пары. Как-то на леса взгромоздился десятник заказчика, принялся отвесом проверять точность выкладки столбов. Григорий даже на носки привстал, чтобы следить за гирькой отвеса. Десятник сердито насупился, прошел дальше и вдруг закричал на одного из каменщиков:
— Борода до колен, а что делаешь? Ну куда ты загнул? Вон спроси у мальчишек, как надо работать!
И ногой развалил кладку. Мы с Григорием переглянулись, с трудом скрывая свое торжество.
Но чего оно стоило! Мы сами таскали наверх по шатким доскам кирпичи, песок, цемент, известь, алебастр, надрывая тяжестью жилы. Под палючим зноем рубаха приставала к спине, и я с тревогой поглядывал на солнце, которое все медлило уходить на покой. Домой брел в каком-то красноватом тумане, отказывался от еды, огорчая бабушку, валился на постель, руками подымая с полу набухшие ноги. Ни о чем не думалось, ничего не хотелось. И так день за днем, день за днем, до ряби в глазах, до звона в голове.
— Надорвешься, Дмитрий, — жалела бабушка.
А что я мог поделать, если сил еще не хватало, если рядом так же выматывались другие? Впереди притаилась осень, впереди ожидала зима.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Каждый день я стоял у цеховых дверей, переминаясь с ноги на ногу, словно привязанный. Передо мной был совсем незнакомый мир, полный грохота, лязга, явного и потайного движения. Словно десятки локомобилей сотрясали густой в запахах масла и железа воздух. Барашками завивалась многоцветная стружка, отрываясь от кругляшей с такой легкостью, будто это был не металл, а еловое дерево. Удивляли и рабочие, поодиночке колдующие у своих машин: одни закрепляли металл какими-то завертками, другие снимали блестящие; быстро тускнеющие на воздухе вещицы, третьи подзывали подъемный кран с крюком, похожим на хищно загнутый клюв. И все это без суетни, без лишних разговоров, словно бы каждая минута была здесь драгоценной. И другое привлекало меня: подумать только — никаких тебе дождей, зимой тепло, над головой не изменчивое небо, а прочная крыша. Рядышком всегда одни и те же люди, словно в одной семье. Вот бы поработать в таком цеху! Знай старайся, выкладывайся, насколько можешь, и никто тебе не скажет: собирай, голубчик, манатки, делать больше нечего! До чего же надоела жизнь перелетной птахи.
Я нехотя побрел на стройку. Совсем неподалеку клали мы стены нового цеха. Григорий уже меня ждал, неодобрительно косился.
— Мозги у тебя набекрень, — ворчал он. — Каменщик ты добрый, зарабатываешь нехудо, чего еще-то? Все хочешь потерять ради журавля в небе? Поскакун.
Григорий рассуждал верно: опять начинать с азов, ходить в учениках, в недотепах. А попадется ли еще такой старатель, как дядя Абросим? Да и с Григорием расставаться не хотелось: связали нас дороги одним узелком.
Когда сдали мы заказчику здание епархиального училища, подрядчик поманил артель из Екатеринодара под город Георгиевск строить станцию и казармы у новой железнодорожной ветки. Чуть не со слезами распрощался я с семейством Насыровых. Иван Михайлович проводил меня до двери, тряхнул руку:
— Если будешь в Екатеринодаре, помни: всегда тебе рады.
Ударил колокол, туманом поплыла станция, закачались, загомонили железными голосами вагоны. Григорий осторожно посапывал за моим плечом, наконец потянул:
— Давай в вагон, Митя, просвистит на ветру…
Опять стояли мы в одной захватке, а потом вместе перекочевали из Георгиевска в Царицын. Но работы там не было. Тогда Григорий надумал махнуть в Москву: город огромный, вторая столица, там-то уж наверняка и нам что-нибудь перепадет. Отпрянули, только в памяти остались выжженные, словно выстриженные лишаем степи с редкими кустистыми балочками и унылым журавлем колодца вдалеке. Закружились мимо окна ельники, замелькали белыми вспышками березы, полетели сквозные осинники, родным повеяло от лоскутных полей, от деревушек, бегущих по косогорам. Сколько надежд появилось у нас с Григорием, сколько надежд!
Но Белокаменная приняла меня насмешливо. Григория брали на работу без лишних разговоров, а меня обзывали сосунком, посылали к мамкиному подолу. Григорий доказывал, что я каменщик первой руки, только испробуйте — и уходил вместе со мной.
Недосуг было разглядывать старую столицу, ахать на чудо Василия Блаженного, удивляться твердыне кремлевских стен и стройной четкости Спасской башни. Мелькали бородатые и бритые лица, груды кирпича, подгибались от ходьбы ноги.
— Ты устраивайся, — уговаривал я Григория. — Я что-нибудь потихоньку подыщу.
Но тот и слушать не хотел. Так вместе и отправились мы в Петербург. Вышли с вокзала на Лиговку, и сразу повезло: против завода «Сангали» строили дом генералу Стесселю. Здесь не стали глядеть в зубы, дали работу, поставили меня на фасадную сторону стены. Потом Большая Охта, больница Петра Великого. И вот этот цех на Полюстровской набережной. Кажется, все образовалось, можно было о будущем пока не заботиться; но мне стало невмоготу: все виделись машины, тонкие витки оживающей стружки.
Все-таки я набрался храбрости, подошел к рабочему, лицо которого показалось поприветливей, спросил, как устроиться в ученики.
— Упроси мастера, — посоветовал рабочий. — Приглянешься, возьмет.
У мастера были усы серпом, круглые совиные очки, на которые хмуро нависли брови. Он приподнял одну:
— В цех, говоришь? Я давненько тебя приметил, да вот места пока нет. Освободится — придумаем.
Я совсем лишился покоя. Небо над Петербургом капризничало: то проглянет солнце, то набегут с моря серые тучи, опрокинутся дождем. Зябли руки, трескались на ветру. Но ничего этого я не замечал — едва начинался у нас обед, бежал в цех. И вот мастер поманил меня пальцем, сказал:
— Завтра можешь выходить на смену. Пойдем покажу, куда…
Он подвел меня к невысокому круглолицему человеку с прокуренными усами, чуть сутулому от постоянного наклона.
— Бери, Грачев, себе ученика.
Рабочий кивнул, взглядом проводил мастера, оборотился ко мне. Глаза у него были пристальные, но теплые, с хорошим прищуром, и легкие морщинки рассеивались от них к вискам.
— Что ж, давай знакомиться. Как тебя зовут и откуда будешь?
Я принялся рассказывать, но он остановил меня:
— О том, где родился и откуда появился в Петербурге, послушаю после. А спросил потому, что ты весь не то в извести, не то в штукатурке.
— Да ведь я тут каменщиком!
— Вот как? Тогда к чему тебе в ученики?
— А знаешь, дяденька, скоро зима, строительство закроется, куда же я пойду? Вот и…
— Понятно. Ну, а меня зови Василием Федоровичем. Утром, смотри, не опаздывай — взыщу.
Завтра ожидался огромный праздник. Я вычистил одежду, свернул и положил на дно сундучка потертый заляпанный фартук и затосковал. Вечер оказался таким долгим, таким муторным, что конца ему не было. Со стройки отпустили меня на все четыре стороны, потому что все там готовились к расчету. Только перед Григорием было совестно: ради меня отказывался он от своей выгоды, а теперь я вроде бы бросаю его в беде. Уговаривал я Григория переходить на завод, но не смог.
— Дело свое ни на что не променяю, — упрямо отвечал он. — Ты за меня не переживай: перезимую в своей деревне, а весной опять куда-нибудь катану. О себе подумай.
Теперь он отвернулся к стене, прикидываясь спящим. В окошке комнатки, которую мы вместе снимали у хозяев на Большом Безбородкинском проспекте, клубились сумерки, за стеной лениво били часы. Через день-два на койке будет спать другой, а наши с Григорием дороги расщепятся, может и навсегда… Мне стало невмоготу, я оделся, вышел на улицу.
Было ведрено, сухо, под ноги подбегали заблудившиеся листья. Я брел по проспекту, не сознавая, зачем и куда. До сих пор мне необыкновенно везло на учителей. Я вспоминал отца, тоска по которому глубоко упряталась, но никогда не пропадала. Вспоминал Молчановых, дядю Абросима, Насыровых. Даже Анюту, тоненькую девчушку, обучавшую меня вышиванию крестиком. Каждый из них отдавал мне частицу своей души, каждый на что-нибудь открывал глаза. И потому, быть может, я уверился, что и новый пестун отнесется ко мне душевно.
Примчался я в цех чуть свет, притаился в сторонке. Рабочие проходили мимо, позвякивали полученным в кладовой инструментом, никак не отмечая мое присутствие. Вчерашних надежд как не бывало. А вдруг Григорий смотрел в корень: нельзя так вот бросать, словно изношенный сапог, одно дело и приниматься за новое. А вдруг у меня ничего не получится?
Как спасение, увидел я сутуловатую спину Грачева. Он потолковал о чем-то с двумя рабочими и неторопливо направился к своему месту.
— Здравствуйте, Василий Федорович! — догнал я его.
— А-а, Митюшка, здравствуй, здравствуй. Ну, с чего же мы начнем? Говори!
Я развел руками: не знаю.
— Ты парень видный, уже поработал, кое в чем кумекаешь, — продолжал Грачев, перебирая на тряпочке какие-то железки. — Вот мы и начнем с самого простого, пройдем полный курс науки. Тятьки с мамкой у тебя здесь нету, должен ты свой хлеб есть, вот и нужно скорей научиться на него зарабатывать. Так или нет?
Тут я быстро согласился.
— Ну и хорошо. Сегодня ты постоишь со мной рядышком, у подола, как здесь говорят, поглядишь на наш токарный станок, а завтра начнешь сам.
Грачев стал готовить свой станок к работе и все, что ни брал в руки, к чему ни прикасался, называл и пояснял. Перво-наперво показал он мне резец, форму его и заточку, суппорт, в который этот инструмент закрепляется, шпиндель, патрон. Зажал в патроне заготовку, повертел какую-то рукоятку, и совсем близко от меня началось чудо. Нутро станка заполязгивало, зарокотало, из-под резца барашками ринулась стружка, а за нею следом дымчатым инеем заблестел чистый металл…
В обеденный перерыв Василий Федорович позвал меня в столовую. По пути к проходной Грачева нагнали два его товарища. Они о чем-то приглушенно переговаривались, будто на чужом языке, и странные слова «бойкот», «штрейкбрехер» резко запали в память.
Столовая была неподалеку от завода, и в этот бойкий час народу в ней скопилось много. Бегали вспотевшие официанты с подносами, запахи борща и хлеба щекотали ноздри. Я не помнил, когда в последний раз обедал днем не всухомятку, и нетерпеливо ждал официанта. За некоторыми столами рабочие уже давно ели; и я заметил, что тарелки заранее принесли такие же, как я, парни, наверное тоже ученики.
— Они за несколько минут до перерыва убегают, — сказал Василий Федорович. — Если хочешь, то в следующий раз валяй с ними. Тогда мы успеем пообедать и сделать еще кое-что.
Хочу ли я? Да я готов был на что угодно, лишь бы Василий Федорович остался доволен!
Когда смена кончилась долгим гудком, мы вместе вышли из проходной. Темным сплошняком двигались рабочие по улице, перекликались, обсуждали новости, а я был пока еще чужаком среди них, пока еще не приобщился к их жизни, к их заботам…
Мы обнялись, и Григорий уехал. В комнатке поселился красногубый чубатый парень, рабочий завода «Розенкранц». Вечерами, оттопырив зад, вращался он перед зеркалом, давил прыщи и исчезал допоздна. Возвращался навеселе, снимал влажное от снега пальто, и в комнате скверно пахло духами.
— Чудак ты, Митенька, — разглагольствовал он. — Вина не пьешь, девочек не любишь — какой же из тебя человек! Я, Аполлинарий Сидоров, тебя спрашиваю: какая такая у тебя в жизни линия?
Меня чуть не тошнило. В цехе мне уже дали свой станок, рядом с дядей Васей, как я про себя называл Грачева. Я даже, неожиданно для себя, быстро наловчился: перестал запарывать заготовки, делал простые детали без изъяна. Дядя Вася никогда не хвалил, только похмыкивал, осторожно направляя меня, будто исподволь подводя к чему-то самому важному. А этот слюнявый тип отравлял мне вечера своим нечистым дыханием.
— Единова живем, Митенька, — поучал он, поигрывая начищенным до зеркальности сапогом. — Какие мамзельки у меня, первый сорт! — Он облизывал кончики пальцев и громко рыгал. — Хочешь, познакомлю? Мне они так — времяпровожание. Я женюсь на богатой вдовушке, заведу дело, пущу деньги в рост. А там — рестораны, свое авто, красивые женщины…
«Пильщик когда-то рассказывал, как начинал Морозов, — думал я. — Может, говорил, по этой дорожке кто-нибудь из нас покатит… Тогда я не поверил. А ведь передо мной будущий Морозов». С какой радостью переменил бы я квартиру, если б с жильем около завода было полегче.
— Живи как знаешь, — не выдерживал я, — а меня не трожь: мне работать надо научиться!
— Деньгу зашибать? Из станка много не выжмешь.
— Просто хорошо работать.
— Дур-рак. — Сидоров сморкался в щепоть, вытирал пальцы раздушенным батистовым платком. — Деревня… Или хитришь? — начинал он с другой стороны. — Мужики — все бестии продувные: прикидываются, а сами в кубышку, в кубышку!..
Что он знал о деревне, о мужиках, этот вывертыш? Что он знал о волнении, которое испытывал я, снова и снова проверяя детали, прежде чем сдавать их в кладовую? Мне хотелось одного: чтобы дядя Вася одобрительно хмыкал каждый раз, когда подходил к моему станку поинтересоваться, нет ли у меня какой-нибудь закавыки.
Однажды мне принесли наряд с пометкой, что деталь моя забракована. Я удивился: как это сам не заметил промаха? А дядя Вася, будто почувствовал недоброе, оглянулся, попросил бумажку.
— Как же ты смог? — спросил он.
Я пожал плечами. Лицо дяди Васи потемнело. Денег моих жалеет, что ли? Ну, вычтут из заработка — и все! Однако наставник мой до самого обеда на меня больше не взглянул. Минут за десять до перерыва выскочил я из проходной, занял в столовой места, заказал еду. Появились дядя Вася и два его товарища, сели за стол.
— Все в порядке? — покосился на меня дядя Вася. — Ну так вот: сейчас подадут, и ты отправляйся со своими тарелками за другой стол… С нами будешь обедать, когда работать научишься. Опозорился перед моими товарищами и меня опозорил.
Рабочие согласно кивали, и в глазах у них не было улыбки. Я помертвел, ноги стали будто чужие. Обедать не смог, едва дотерпел до конца смены. Что случилось, неужто за такой пустяк дядя Вася решил меня наказать? Он выходил из цеха, словно не заметив, что я его дожидаюсь. Я все-таки набрался смелости, пристроился рядом.
— Поговорить бы, Василий Федорович, — чуть не со слезами взмолился я.
— Что ж, это можно. — Голос у него был ровным, без всякого выражения. — Только разговаривать буду я, а ты — слушать.
Чуточку поотстав от других, шли мы по проспекту. В бледных сумерках растворялись дома; под ногами повизгивал снег, морозец схватывал дыхание, а мне было жарко.
— Когда ты узнал о браке, — печально напомнил дядя Вася, — это ничуть тебя не обеспокоило. А делать брак у нас считается большим позором. И не потому, что ты бедней станешь, — он быстро глянул на меня, — и не потому, что жалко хозяйского добра… А потому что не появилась у тебя рабочая гордость, и я не смог ее пробудить. Без гордости этой, Дмитрий Яковлевич, мы превратимся в придатки всякой машины, потеряем свою силу и свое значение. Вот мне и больно стало, что каменщиком ты вроде был добрым, а токарем можешь стать никудышным… Подумай об этом, Дмитрий, и крепко подумай!
Он кивнул на прощанье, пошел дальше; а я остался на улице, съежившись, как нашкодивший мальчишка, которого только что высекли.
Сосед мой валялся на кровати с папиросой в зубах, изучал трещины на потолке, любовался носком начищенного сапога.
— Митенька, — приподнялся он, — да на тебе же лица нет!
— Браку наделал, — вырвалось у меня. — И сам не знаю как!
— Ага-а, — обрадовался Сидоров, будто поймал меня за руку. — Деньгу жалеешь! «Просто хорошо работать». Сбегай-ка по молодости за бутылочкой, зальем горе.
Я отмахнулся от него, как от докучного овода, лег на койку, отвернулся к стене. Жалел ли я, что не послушал Григория? Не сбывалось ли опасение дяди Абросима, что порастеряю сметку и хватку на перепутьях? Нет, нет и нет! Ничего, дядя Вася, я выдержу; тебе не придется больше за меня краснеть!..
Как обычно, запустил я станок, подвел к заготовке резец, но вдруг заревел гудок, рабочие зашевелились, стали собираться кучками. Дядя Вася подошел ко мне, подмигнул весело:
— Ну, Митюшка, собирай инструмент: станем бастовать. Ты ступай домой, понял? Завтра приходи с утра.
До сих пор жизнь цеха оставалась для меня загадкой. Я замечал, что рабочие, кроме станков своих, занимаются иными делами, слышал кое-какие разговоры, а связать все это не мог, да и учебой был слишком увлечен. И вот теперь словно прозрел: увидел построжавшие, испуганные и взволнованные лица, сразу вспомнил слова Всеволода Ивановича Молчанова о забастовках и крамольниках. Так вот как это бывает! Во рту стало противно, будто наглотался ржавчины. А если начнут стрелять, хватать, если с дядей Васей стрясется беда — что мне тогда делать? С трудом заставил себя выйти во двор.
А там уже клубилась толпа; на возвышении взмахивал рукой какой-то черноволосый человек без шапки, и голос его надтреснуто звенел в холодном воздухе.
— …Если мы не поддержим наших товарищей, то и нас начнут вышвыривать за ворота без всякого объяснения. Все рабочие города выходят в этот час на улицы в знак протеста против произвола заводских властей!..
Толпа зашумела; крики, свист оглушили меня. Все двинулись по заводу, размахивая кулаками, возбужденно переговариваясь; далеко впереди мелькнула и пропала шапка дяди Васи.
И вот зарябили впереди знакомые решетчатые ворота. Были они закрыты, а за ними стояли рядами пешие и конные жандармы. Сердце у меня упало, я с трудом высвободился из толпы, прижался к стене.
— За ворота не выходить! Будем стрелять! — надрывался жандармский офицер, приподнимаясь на лошади, словно стараясь от нее оторваться.
Передние ряды задержались, начали разбухать, уплотняться, а рабочие все прибывали и прибывали. И вдруг молодой рыдающий голос взвился над ними:
Вразнобой подхватили:
Песня выстроилась, выросла ощутимой громадой, и ворота распались перед нею. И хлынула она по проспекту, затопляя его, к Финляндскому вокзалу:
Перед колонной пятились жандармы, крутились, взмывая на дыбы, лошади. Как пену, как мусор, тащил их перед собой мускулистый поток.
Никогда я не слышал такой песни, никогда не видел такого скопища людей, охваченных единым стремлением. Мурашки пробегали по спине, слезы выбились на глаз. Я не заметил, как очутился в хвосте колонны, рот мой был открыт — я пел.
«Василий Федорович велел идти домой», — опомнился я, когда песня умолкла. Стало обидно, но ослушаться я не посмел и, скорчившись от стыда, отстал, свернул к своему дому…
Сколько вопросов у меня было, сколько вопросов! Они били в виски, не давали спать, подымали с постели. Значит, и в заводе можно остаться без работы, без куска хлеба!.. Но почему сотни совсем незнакомых друг другу людей помогают своим товарищам, не боятся ради этого идти даже на жандармов? Почему в артелях этого почти не было, только Григорий ругался с подрядчиком ради меня?.. И во всей прошлой жизни моей оказалось столько непонятного, что голова шла кругом.
— Вот и побастовали, — как ни в чем не бывало, встретил меня в цехе дядя Вася. — Теперь давай поработаем. Где вчера был?
— Домой пошел, как велели, — сердито сказал я.
Дядя Вася хмыкнул, отодвинулся, словно хотел разглядеть меня на расстоянии.
— И правильно сделал. За толпой всякий бежать может — она подхватывает. Зато и в кусты такой мигом стриганет. А мы не толпа. Станешь сознательным рабочим, тогда пойдешь с нами.
Мирным полусонным баском запел гудок; дядя Вася подтолкнул меня в спину к станку, сам не спеша направился к своему. Детали были сложными, и до обеда я не отвлекался. Да и в цехе все было как позавчера, словно забастовка мне приснилась. Однако в столовой чуть взвинченно шумели и хохотали, вспоминая подробности демонстрации; и я с удивлением узнал, что никто даже не был арестован.
— Обязательно буду сознательным рабочим, — заявил я дяде Васе.
Он засмеялся, отвел меня в сторонку, за высокий железный ящик, скрывавший от цеха скамеечку и бочку с песком, засеянным окурками.
— Ты говорил мне когда-то о регенте Молчанове. Видимо, чудеснейший он человек, но рабочих знал только с одного боку. Да и время тогда было иным, многое переменилось с девятьсот пятого. — Дядя Вася приумолк, словно что-то припоминая, раскурил погасшую папиросу. — Сознательный рабочий, Митюшка, это такой человек, который поступает обдуманно, понимает не только то, что надо делать сегодня, а и впредь. Он знает это не за одного себя, но и за своих товарищей. И в забастовках и в демонстрациях участвует он не для того, чтобы пошуметь… Вот вчера мы еще раз доказали, что рабочие, если они действуют сообща, — такая сила, перед которой отступают даже вооруженные жандармы… Со временем ты разберешься во всем этом сам. А пока без моих советов ничего не делай.
Дядя Вася от многого, по-видимому, еще оберегал меня, но обиды не было: я доверял ему, как ребенок, только начавший ходить, доверяет протянутым к нему рукам.
Я не удивился, когда предложили мне фрезерный станок. Дядя Вася сказал: все нашему брату пригодится. Был фрезерный от него недалеко, и я с увлечением принялся за новое дело, стараясь понатореть до тонкостей. Каким же несчастным я себя почувствовал, когда дядя Вася заявил мне однажды:
— Ну-с, Митюшка, не пора ли тебе самостоятельно обтачивать характер? Отправляйся-ка на завод «Новый Лесснер», там требуются фрезеровщики.
Он заметил, как переменился я в лице, покачал головой:
— Не отделаться от тебя хочу, а наоборот. Завод новый, только разворачивается, и положение твое будет попрочнее. Там у меня есть знакомые ребята — помогут. Да и мы с тобой будем встречаться по общим делам…
Опять кочевье, опять иная работа, иные люди. Давно ли бегал я по деревенским улицам, повторял за Варварой Ивановной азы? А сколько дорог исхожено, изъезжено, сколько лиц мелькнуло и исчезло. Уж не получится ли так, что до старости лет перезнакомлюсь я со всей мастеровой Россией! Подумал о старости — и рассмеялся.
Ладно, «Новый Лесснер» так «Новый Лесснер!» До скорого свидания, дядя Вася, дорогой мой человек!.. А тебе, мой случайный сосед по комнате, желаю жениться на вдовушке, забренчать капиталами. И с тобой мы когда-нибудь встретимся и закончим разговор…
Я и не уловил, как накатила-набежала весна. И пока добирался до завода, ошалел от воробьиных воплей, от солнечного блеска и капельного трезвона. Оказывается, сколько месяцев не видел дневного света, если не считать пробежек в столовку и воскресений, которые до полудня просыпал. А снег у завода был вечно чугунно-серым от копоти.
Откуда они обо мне прослышали, эти ребята — Федор Ляксуткин и Никифор Голованов? Тискают руку, хлопают по плечу.
— Так вот ты какой, — белозубо улыбается Федор. — Значит, нашего полку прибыло!
Никифор рокочет молодым крепким баском:
— Понимаешь, нам надо сколотить крепкое ядро. Чтобы всяких подлипал не налезло. Особенно молодежь организовать. Текучка, неразбериха — так и проморгать можно. С жильем-то устроился?
— А мы его на квартиру к Леше Алексееву, — перебил Федор, словно сообщал радостную новость, — койка у него свободна.
Вместе пошли в Лесное, свернули с Выборгского шоссе в один из переулков.
Алексеев, слесарь соседнего завода, пустил меня охотно, без лишних расспросов. Появилась толстая добродушного вида женщина, застелила мою кровать, сказала, что здесь вроде бы спальня, а рядом наша гостиная. Отерла тыльной стороной ладони полные губы, спрятала под передник простиранные руки.
— Вы уж не обижайте его, тетя Поля, — сказал Федор.
— Сначала погляжу, что за человек. Коль неуживчив, то и обижу.
Квартировали у Алексеевых, как сказали мне ребята, бывший ответственный редактор газеты «Невская звезда», а ныне рабочий Воронов и токарь завода «Парвиайнен» Москвин. Я смотрел на их кровати, только что подправленные тетей Полей, и всерьез думал, удастся ли мне здесь ужиться.
Первым пришел Воронов. Он потирал худые, жилистые руки, говорил о чем-то сам с собой, теребил короткие усы. Живым темным глазом стрельнул в меня, сухо представился и повернулся спиной. «Видимо, очень серьезный и занятой человек», — решил я с уважением. Москвин появился тихо, при виде незнакомого изобразил на помятом лице удовольствие, сказал мягким тенорком:
— Вот и будем обитать втроем…
Кровати наши стояли в одной комнате, но для Воронова и Москвина я, очевидно, не существовал. Работа в цеху была несложной, а потому и малоинтересной; зато дома что ни вечер поднимался дым коромыслом. Воронов выпивал стакан крепчайшего, черного, как деготь, чаю и принимался задирать Москвина:
— Вот опять, дорогуша, ваши буквоеды[1] осветили дорогу пролетариям. И что же в конце дороги — там, где свет рассеивается?
— Да перестаньте вы, Сергей Захарович: право же не время сейчас, — жалобно восклицал Москвин.
— Именно, именно, — Воронов ловил что-то в воздухе и подносил к самому лицу Москвина. — Вы, как французские буржуа, с утра можете даже пострелять на баррикадах, а уж в обед непременно посетите кафе; вечерком же, за чашкой кофе, будете вспоминать, как славно провели день!
Москвин потел, вытирался платком.
— Забастовки, демонстрации, — не унимался Воронов, — и испуганные заводчики сбегут из своих кабинетов, дворяне врассыпную кинутся из особняков, полиция переломит саблю о колено!.. Сказки! Вы же обманщики, дорогуша!
— Нет, позвольте, — Москвин водил потемневшими глазами за бегающим по комнате Вороновым. — Обманщики — вы! Выдвигать лозунг демократической республики преждевременно. Это пагубный путь.
— Вы же говорите с чужого голоса, господин токарь. А мы никого не обманываем, никому ничего попусту не обещаем. Мы говорим: дорога борьбы терниста, по ней тюрьмы, штыки, залпы. Но только силой свергнув старый мир, мы возведем новый; кто был ничем, тот станет всем!
— Ах ты господи, — отмахивался Москвин, — от кого я слышу поучения? Был бы ты настоящим редактором, тогда можно было бы теперь уважать твое мнение. А ты же был редактором для отсидки в тюрьме!
Меня к спору они никаким образом не привлекали, да и многого я не мог понять, но напористые рассуждения Воронова мне больше нравились. Как-то я сказал ему об этом.
— И чудесно, дорогуша, — оживился он, засмеялся: — Значит, я споры заводил не впустую. Поверь, они весьма и весьма примитивны. Если хочешь знать подлинную почву наших разногласий, учись. Я помогу тебе, сведу с нужными людьми.
— Дмитрий, я к тебе, — сказал Никифор, подходя к моему станку. — Помоги одно поручение выполнить. Ты слышал, что скоро должна появиться у нас газета? Надо бы предварительную подписку провести и сбор добровольных пожертвований… Если ты согласен, вот тебе лист на пожертвования, а этот — на подписку. Деньги вносить не обязательно, можно в получку. — И вкратце пояснил, какие вопросы будет газета поднимать.
«Наконец-то и мне доверяют», — обрадовался я, и вдруг словно осенило: так вот для чего посоветовал мне переходить сюда дядя Вася!
Будто на крыльях носился я по цеху. Мастера поглядывали искоса, даже с угрозой. Но газета не запрещена — что они могут поделать! Многие рабочие ставили свои подписи в обоих листках: одни весело, с шуточками, другие с оглядкою. Таких я старался убедить, что без своей газеты нам никак нельзя. Должны же мы знать правду о том, как идут дела на других заводах, что нам предпринимать, если начнут падать расценки, если кого-нибудь выбросят на улицу. А некоторые посылали меня к чертовой бабушке и обещали накостылять шею. Однако это ничуть не сбивало моего настроения.
И вот одним апрельским утром услышал я у проходной крики мальчишек газетчиков: «Газета «Копейка»! Убийство на Невском! Похождения девицы!..» и — задорный голос рыжего от веснушек паренька:
— Газета «Правда»! Есть газета «Правда»! Купите свою рабочую газету «Правду»!
ГЛАВА ПЯТАЯ
С Катей Гусевой познакомился я в «Сампсониевском обществе самообразования». Воронов привел меня в Бабурин переулок, предупредив, что с правлением общества[2] договорился и никаких затруднений не предвидится.
— На первых порах смотри и слушай; будь осторожнее: полиция держит при обществе своих агентов. Смелей, дорогуша!
Разнообразие лиц, возрастов, костюмов меня поразило. В обширном помещении расхаживали, спорили, смеялись рабочие, студенты, девицы с длинными косами и с короткой стрижкой, проходили иногда солидные, пожилые люди. Воронова сразу же окружили как своего человека, он сослался на занятость, назвал меня, просил любить да жаловать и исчез.
Мне казалось, что я попал в шумный поток; сейчас закружусь, захлебнусь и пойду ко дну. Но как ребята вытянули меня когда-то из пруда, так теперь пришли на помощь Федор Ляксуткин и Никифор Голованов. Оба они были в праздничных костюмах, а у Федора даже галстук бабочкой.
— Здравствуй, Митя, — сказал Никифор, ничуть не удивленный, что встретил меня здесь. — Сегодня лекция о вреде никотина и алкоголя.
Федор громко рассмеялся, оглянулся и заметил вполголоса:
— Но мы не для того сюда пришли. Познакомим тебя с ребятами из других заводов, понимаешь? И еще — записывайся в наш кружок по повышению грамотности. А теперь пойдем.
Он подхватил меня под руку и потащил к двум девушкам, стоявшим возле окна. Одна была постарше, со строгими и сухими чертами лица и прямыми волосами, собранными узлом на затылке. Она протянула мне худую руку:
— Гусева.
Другая, совсем еще юная, перекинула на грудь косу, округлое лицо ее дрогнуло в улыбке.
— Гусева, — сказала и она и добавила, подумав: — Катя…
Бесконечными казались мне дни, а вечера мелькали, как поезда. Нам читали лекции по политэкономии, истории, географии; нам говорили, что надо развивать в себе тягу к прекрасному, называли имена великих писателей, композиторов, мыслителей; мы бурно спорили о равноправии наций, о положении женщины в нашем обществе — и все это я связывал с Катей, все мысленно с нею обсуждал.
Она относилась ко мне дружески, но всегда была со своей сестрой, и я не мог завязать никакого сколько-нибудь значительного разговора.
Но вот однажды старшая Гусева подошла ко мне и сказала, что по поручению Кати приглашает в гости, будут только свои; все объяснит и квартиру покажет Ляксуткин…
Деревья стояли притихшие, словно боялись вспугнуть зеленую дымку, окутывавшую их кроны. Острые травинки выбивались из-под булыжников и замирали пораженные светлым простором вечереющего неба. В воздухе плыл едва определимый гул, которого не заглушали ни волны звуков огромного города, ни стук моего сердца.
Мы с Федором опаздывали, почти бежали, и я плохо запомнил дорогу. Вот мы пришли в какой-то двор, напоминающий глубокий колодец, поднялись по темной лестнице, постучали. Открыла какая-то девушка, пригласила в прихожую. И я услышал аккорды гитары и высокий трепещущий женский голос:
Раздались хлопки, голоса, и вслед за Федором я шагнул в комнату. На столе были бутылки с вином и закуски; а на стульях, на диване, на подоконнике и просто у стены расположились человек десять. Катя выпрямившись стояла перед гитаристом, ее лицо побледнело, глаза влажно блестели.
Со многими из гостей я виделся впервые, некоторых узнал, и среди них — гитариста Сердюкова, добродушного украинца, отличного музыканта. Все были немножко взбудоражены вином, к бутылкам больше не тянулись, налили только нам. Я вспомнил: когда-то по воскресеньям тащили меня мастеровые в трактир. Выпивать с ними на равных я не мог, платить «с носа по грошу» — заработка не хватало. Сидел, тосковал, слушал пьяные разговоры…
— Что же вы опаздываете? — спросила Катя, и губы ее сложились властно и капризно.
Старшая Гусева спокойно сидела в уголке, перебирая тонкими пальцами страницы какой-то книги. Катя взглянула на нее и хлопнула в ладоши:
— Давайте танцевать!
Все оживились, заговорили разом, Сердюков отодвинулся со стулом к стене, устроил гитару на колене. Федор подошел к старшей Гусевой, она покорно положила на его плечо руку.
— Что же вы, Митя, спрятались? — Катя приблизилась ко мне.
— Не умею…
— Чепуха. Научу!
Я топтался, стараясь не расплющить ей ногу, конфузился, но ничего не получалось. Рука, которой я поддерживал Катю за талию, окаменела.
— А если мы удерем и побродим? — Катины губы оказались у самого моего уха.
Мы сбежали по лестнице. В колодце двора было уже совсем сумеречно, а на улице еще различимо прорисовывалась кирпичная кладка домов. Молча прошли рядышком до угла, потом обратно.
— Вам у нас понравилось? — наконец выручила меня Катя.
Я кивнул и, поддерживая разговор, сказал:
— Вы хорошо читали стихотворение.
— Я его очень люблю, — ответила она с удовольствием. — Федор утверждает, будто в нем прямой призыв к революции. При желании в любом произведении можно найти такой призыв.
Катя просунула руку под мою и настойчиво принялась расспрашивать, что я читаю, бываю ли в театре.
— Давайте сходим вместе в народный дом. Ну хотя бы послезавтра!.. А сестры не бойтесь, — без всякого перехода добавила Катя, — она очень добрая; только ей не хочется, чтобы об этом знали.
В колодце двора послышались голоса, гитара; Катя протянула мне руку, легонько пожала мою.
Мы возвращались с Федором домой, а я воображал, как сижу рядом с Катей в дорогих креслах среди богатой публики, как провожаю девушку домой по пустынным улицам ночного города…
На спектакле сидел я не в богатых креслах и не рядом с Катей. Мы устроились довольно-таки далеко от сцены, вытягивали шею, чтобы лучше видеть, обок со мной расположился наш гитарист Сердюков. Словом, в народный дом явились почти все, кто был на вечеринке.
Сначала я чуть не взревел от досады. Но в зале, который шумел передо мной, погасили розетки огней, по стеклянным висюлькам пробежали тени, насторожилась тишина. Только занавес ярко светился, и на нем улыбались и плакали какие-то странные лица неведомого мне мира. С шелестом открылся этот мир… Шла пьеса «Принц и нищий». Богатство постановки и декораций, красочные своеобразные костюмы, игра артистов — все это произвело на меня такое впечатление, что в перерывы я оставался на месте и после представления не мог ни с кем из товарищей разговаривать. Они понимали мое состояние, не разбивали его вопросами; только Катя иногда посматривала на меня с интересом.
В Лесном, неподалеку от Муринского проспекта, где я поселился, у Серебряного пруда, был небольшой уютный драматический театр, ставивший Островского, Горького, Чехова. Прежде я проходил мимо, даже не замечая его. Ныне едва выкраивался свободный вечер — я был уже там, с замиранием сердца ожидая, когда раздвинется занавес. Нет, не само зрелище увлекало меня. Мне хотелось постичь мысли и чувства, вызревавшие на сцене. Я перечитывал пьесы, поглощал рассказы, повести, стараясь разобраться в них поосновательней.
Все той же компанией, с трудом набрав денег на билеты, пробивались мы в оперный зал народного дома; и я с волнением слушал, как посвистывают, гудят, трубят настраивающиеся голоса оркестра, всматривался в раскрыленную тень дирижера. И вот зал взрывался восторгом: на сцене возникал Шаляпин. Сначала я не узнавал его. Был он всегда иным: то зловещим и ядовитым дьяволом, то преступным царем, раздавленным угрызеньями совести и собственной гордыней, то хвастливым пьяницей…
И дико и трудно было мне увидеть другого Шаляпина. Случилось так, что Федор Ляксуткин и Никифор Голованов позвали меня на «Мефистофеля». У касс роилась толпа, билетов не было.
— А ну, топайте за мной, — тряхнул головой Федор и устремился к черному ходу.
Он о чем-то поговорил с голубеньким старичком в ливрее; нас пропустили в узкий, полутемный коридор. Пробегали мимо полуголые, смущающего вида девицы, трое парней в блузах тащили кусок картонной скалы. Сладковатый запах помады и ладана щипал ноздри. Федор обратился к тощему вертлявому субъекту во фраке, похожему на жучка.
— Господин распорядитель, позвольте нам пойти рабочими сцены за стоимость билета.
— Опять вы? — распорядитель пожевал, пососал воздух губами, быстро черкнул что-то на клочке бумаги.
Засучив рукава, не щадя своей одежды, кинулись мы на сцену. Мы передвигали какие-то деревянные мостки, ящики, скалы, наклеенные на сетку деревья. Вблизи все казалось смешным, ненастоящим. Только сцена была такой огромной, что я даже зажмурился, вообразив на миг, будто стою на ней один при раскрытом занавесе. За плотной тканью, кое-где просверленной дырочками, глухо рокотало, будто скапливалась там отдаленная гроза…
Шаляпин пел на сцене. Из-за кулис мы лишь иногда видели его туманно-мрачную фигуру со скрещенными руками и землистое лицо со скорбным изломом бровей.
В трех шагах от нас стояла невысокого роста полнеющая артистка, весьма загримированная. Она то порывалась выйти из-за кулис, то отступала, словно не решаясь. Я догадался, что это Нежданова, фамилия которой крупно была напечатана в афише.
Вдруг Шаляпин врывается за кулисы, вихрем проносится мимо нее, на ходу злобно бросает:
— Чего вы ждете? Что же у вас голова на плечах или тумба из уборной?
Нежданова схватилась за виски, вскрикнула и тоже убежала.
За сценой поднялась суматоха. Распорядитель, заламывая руки, метался от Шаляпина к Неждановой, уговаривал, умолял. Шаляпин рычал не умолкая.
Дали занавес, чей-то судорожный голос объявил в залу, что Антонина Васильевна почувствовала себя дурно, ее роль в спектакле будет исполнять артистка такая-то…
— Темперамент-с, — глубокомысленно произнес голубенький старичок, провожая нас. — Однако же второго Шаляпина природа миру не произведет, нет-с.
— Мерзко за кулисами, — пробормотал Никифор, когда мы зашагали по Каменноостровскому проспекту.
Федор остановился, закурил и, крутя в пальцах погасшую спичку, обернулся ко мне.
— Завтра в обществе передай: через неделю, в субботу, массовка у деревни Юкки. На сей раз выедем не поездом, а на лодках. Ночевка на зеленом островке. Пусть по цепочке предупредят своих на заводах: будет выступать Николай Романович Шагов. В четыре часа дня незаметно собираться на большой поляне.
Ляксуткин умел мигом перестраиваться.
Сначала у меня не получалось. Весла цеплялись за воду — летели брызги. Потом я загребал слишком глубоко и отмахал руки. Но в конце концов приладился, погнал тяжелую лодку плавно, без срывов. Федор, что-то насвистывая, держал кормовое весло; Сердюков пристроился на носу, пощипывал полегонечку струны гитары. За моей спиной, в стареньких летних платьях и шляпках с лентами, сидели сестры. Старшая напряженно выпрямилась, будто ожидая столкновения, а Катя, наклонившись, просеивала в пальцах воду. То и дело оборачиваясь, как бы оглядывая путь, я видел ее тронутое загаром похудевшее лицо, завиток волос над ухом, маленькую грудь.
Перед лодкой мы успели поговорить о Шаляпине.
— Я ни разу не была за кулисами, — сказала она сердито. — И не хочу там быть.
С берега нам уже кричали; я так и не понял, почему она обиделась, и от растерянности напросился грести. Нас обгоняли другие лодки. Знакомые рабочие махали руками, кое-кто предлагал взять на буксир. Хохот, песни, гитары, гармошки — будто целый табор снялся с берегов и флотилией плывет по Финскому заливу.
Прогулки свои мы не держали в особенном секрете, да это и невозможно было. Главное, чтобы состоялся митинг, о котором знали далеко не все. Уже не раз внезапно появлялась полиция, и только благодаря бдительности дозоров удавалось вовремя рассеяться. Думалось, что на этот раз все обойдется благополучно. Слепяще блестела вода под вечерним солнцем, на просторе после заводской гари и копоти хорошо дышалось.
Краюшкой хлеба появился островок, и лодки со всех сторон уткнулись в него, словно стая рыб. Чуткие узкие листья ивняка затрепетали, будто потекли по ним зеленые и седые потоки. Наша лодка вторглась в песок; гитарист выпрыгнул первым, протянул руку девушкам. Я насадил весла на цепь, подергал замок, Федор поднял корзинку с припасами.
Катя принялась хлопотать у корзинки, мы набрали хворосту, подкинутых волнами досок и палок, заживили костерок. Потянулся кверху сизый на закатном солнце дым, сливаясь с другими дымами.
— Купаться, — гаркнул гитарист.
Девушки остались у костра; мы разделись за кустами, полезли в воду. Теплой была вода, подхватила тело, обняла, лениво разнеживая. Я приподнялся: там и сям виднелись черные, русые и белые головы; а на берегу, у самой воды, стояла Катя, козырьком ладони заслонив глаза, и смотрела в мою сторону. Солнце просвечивало ее, и мне показалось, будто вся она соткана из розовых лучей. Я зажмурился, ушел под воду, а когда вынырнул и протер глаза, Кати уже не было…
К нам на огонек подбирались знакомые. Гитарист настроился, густо покашлял и раздумчиво проговорил:
откликнулись высокие голоса.
То жалобно, то гневно ширилась песня, захватывая весь островок:
Катя не пела, глядела на костер расширенными зрачками, словно застыла в удивлении.
Сникало солнце, ложились на залив длинные тени, осторожно всплескивала волна, набегая на песок. Темнела, темнела вода, осыпали ее синеватые звезды. Сестра положила голову Кате на колени; а та все сидела неподвижно, закрыв глаза; и черты лица ее казались жесткими в бликах угасающего костра.
Иные заводские парни лихо и ловко обходились с девушками, а потом хвастали своей доблестью, мусоля подробности. Да и в прежней бродячей жизни своей нагляделся и наслушался я всякого. Но зараза не пристала: я думал о Кате стыдливо и робко, не помышляя даже, что будет между нами хоть какая-то близость. И совсем уж не мог я предугадать, тайком разглядывая ее в брезге рождающегося утра, что скоро мы навсегда расстанемся.
Она открыла глаза, туманно на меня посмотрела, позевнула, не разжимая губ, разбудила сестру, вскочила сама.
— Вставайте скорее, — скомандовала она. — Уже светло!
Зашумел, засуетился островной лагерь, будто ожил среди воды муравейник. Лодки построились в несколько рядов, зажурчала туманная, молочная вода.
Вдали показался невысокий берег, уставленный бронзовыми колоннами сосен. С песнями припали к нему лодки. И на зеленой закраине берега, и на полянах под соснами — всюду было многолюдно.
Мы здоровались с пожилыми рабочими, приехавшими сюда не только отдыха ради, встречались со своими сверстниками. Бродили по лесу, похрустывая сухими иглами, прыгали через костер, пообедали бутербродами. Катя все время была со мной, и мне хотелось, чтобы день этот продлился до бесконечности.
Но вот свечерело, из толп стали потихонечку исчезать предупрежденные нами фабричные и заводские товарищи. В версте от гуляний, в тесном осиннике, притаилась округлая полянка, застланная невысокой травой. Заросшая неторная тропинка впадала в нее, как ручеек в озерцо. Сюда-то и сходились по одному, по два те, кто собирался послушать члена Государственной думы большевика Шагова.
Когда мы с Катей выбрались на поляну, рабочие окружили Николая Романовича плотным кольцом. Он говорил что-то под общий сдержанный хохот. Катя стиснула кулаки, глаза ее округлились, губы побелели. Я не знал, трусила она или волновалась, но и виду не подал, что заметил ее состояние.
Кольцо чуть отступило, Шагов продолжал без усилий, звучно, опустив руки и только изредка помогая себе движением ладони.
— Как нарыв, назревает война между Германией и Англией. Нечего закрывать глаза на правду, какой бы горькой она ни была: российский империализм продаст Англии пушечное мясо. Подумайте сами, на что рассчитывает царь и его приспешники…
— Полиция! — выскочили на поляну дозорные.
Рабочие заслонили депутата, двое повели его в заросли. Остальные кинулись врассыпную, затрещали ветки, поднялись испуганные голоса. Я схватил Катю за руку, потащил в осинник, оглянулся. По тропинке, всхрапывая, вскидываясь на дыбы, вымахали на поляну рослые кони. Свистели в воздухе нагайки; люди, не успевшие ускользнуть, падали на колени, защищая руками голову и лицо.
Мы протискивались меж стволов, сухие листья шипели под ногами, ломаясь, громко стреляли сучья. Катя дышала высоко и трудно, все спрашивала о сестре.
«Опять кто-то предупредил полицию», — со злостью думал я.
Осинник кончался, через прогалинку виднелись сосны, их стволы казались раскаленными. Совсем недалеко слышались подвизгивания гармоники, истошные пьяные голоса. Глухо застучали копыта, и на прогалинку вылетел конный жандарм. Я обнял Катю, прижал к себе, жандарм грязно руганулся и ускакал. Катя оттолкнула меня, в глазах ее закипели слезы.
— Идем, — сказала она, — и нечего было этим прикрываться.
Закинув голову, она быстро пошла под сосны. Наши уже ждали, пели под гитару что-то залихватское. Сестра кинулась к Кате, но остановилась, дрожащими пальцами достала из ридикюля платок.
До осени мы встречались с Катей раза два. Говорили о книгах, о всяческих пустяковинах, внезапно замолкая, словно теряя какую-то нить. А между тем забот у меня прибавилось. В начале августа Воронов не вернулся в нашу комнату. Москвин с некоторым удовольствием сообщил мне, что товарищ бывший ответственный редактор арестован. Я разозлился, сказал Москвину, что над чужой бедой смеяться нечего.
— Посидит, отпустят, — пожал он плечами и уткнулся в свою газету.
Поручений у меня было много. Даже несколько раз по гостевому билету бывал я на заседаниях Думы. Видел самого председателя Родзянку, застывшего в своем кресле распертой изнутри каменной глыбой; слышал визг и хулиганские выкрики бессарабского депутата Пуришкевича, подобных ему организаторов «Союза Архангела Михаила» и «Союза русского народа». Вместе с другими рабочими шумно одобрял с галерки набатные слова нашего депутата Алексея Егоровича Бадаева, покрывавшие вой, стук и свистки бесновавшихся правых. Потом надо было обо всем услышанном и подмеченном отчитаться перед своими товарищами по заводу.
А в цехах работы становилось все меньше и меньше, многие стали перекочевывать на другой завод — «Новый Айваз». Завод этот строился совсем неподалеку, в Лесном, на пустыре рядом с Выборгским шоссе, и сразу же открылось там весьма выгодное по расценкам производство. Я едва сводил концы с концами, но все еще колебался.
Мог ли я рассказывать обо всем этом Кате! Я слишком плохо знал ее интересы и склонности, да и она о себе почти ничего не говорила.
Мы бродили вдоль Невы, поеживаясь от холода. Сырой ветер забирался в рукава, за ворот, сеял мелкой и липкой дождевой пылью. Река была стальной, словно ободранной тупым резцом, с заусеницами пены. На той стороне прорисовывался шпиль Петропавловской крепости, напоминающей мне Троицкую церковь далеких Погуляев.
Катя сама предложила пойти сюда, смотрела на Неву, морщила нос. Губы у нее залиловели, на ресницах прицепились капельки.
— Мы уезжаем.
— Куда? — Я даже вздрогнул от неожиданности, отступил на шаг.
— В Харьков… Я не могу отпустить ее одну! — Катя повернулась ко мне и отрезала: — Прощайте.
Я кивнул, разглядывая выщербленный край парапета.
— Идемте, — сказал я, — еще простудитесь перед дорогой.
Мы долго шли и молчали, уже отчужденные, уже отдалившиеся друг от друга на сотни верст. Перед домом Катя остановилась, холодными губами задела мою щеку и убежала.
На улицах было пусто, весь город вымок, серые камни сочились влагой. Я втянул подбородок в воротник, торопливо пробирался на Выборгскую сторону, как будто кто-то меня преследовал.
Двери открыл Москвин, подвигал кадыком, отвернулся к окну:
— Сергей Захарович осужден на два года крепости.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Во втором механическом цехе завода «Новый Лесснер» повесился слесарь Стронгин. Это был тихий еврей, вечно чем-то напуганный, всегда избегающий попадаться на глаза начальству. В цехе пропала бронза, и мастер Лауль обвинил в краже Стронгина. Со слезами доказывал Стронгин свою невиновность, но мастер пригрозил вышвырнуть его за ворота, если не вернет бронзу. Стронгин побелел, ходил по цеху тенью, что-то бормоча.
— Мы пришли в цех, а он висит на перекладине, — рассказывал мне Никифор Голованов, постукивая по столу тяжелым кулаком. — Эта сволочь Лауль подходит к мертвому и говорит: «Ага, признался наконец…» Мы страшно возмутились, работать не стали, подняли шум, сбежались ребята из других цехов, замитинговали. Решили потребовать от заводоуправления: мастера-убийцу из завода долой! Начальство, конечно, отказалось, пригрозило полицией. Тогда мы затолкали Лауля в тачку и выкатили за ворота. И знаешь — вернулся, подлюка!
— Бастовать будете! — кивнул я.
— Бастовать. Мы так и заявили в заводоуправлении: пока Лауль здесь, работать не станем. Нам ответили: «Если с каждым вашим мнением считаться, то в один прекрасный момент вы можете потребовать, чтобы мы уволили сами себя».
— Поддержим, — сказал я и побежал на «Новый Айваз»…
Уже несколько месяцев минуло с тех пор, как я перешел туда. Фрезеровал прицельные рамки, зарабатывал неплохо, но ничуть на завтрашний день не надеялся. На участках то и дело увольняли товарищей, мы протестовали, но безуспешно. Полиция появлялась всегда перед началом митингов — значит, кто-то ее предупреждал, а изловить провокатора нам все не удавалось. Однако я был убежден, что соседям мы все-таки поможем…
На другой день в «Правде» появились подробности новолесснеровской трагедии. Рабочие заволновались, собрались во дворе. Заикаясь, говорил меньшевик Матвеев. Он, несомненно, за поддержку соседей, если они не потеряют благоразумия. Эсер Сурин энергично колотил кулаком воздух, сотрясал его звучными округлыми фразами: на этот раз нужно согласиться с товарищем Матвеевым и всеми силами способствовать тому, чтобы забастовка скорее завершилась.
Это были признанные ораторы. Но я видел, что рабочие слушали вполуха: ждали, что скажет Шурканов. Человек он пожилой, обстоятельный, от большевиков. Шурканов, взвешивая каждое слово на ладони, как новую деталь, убеждал, что требования новолесснеровцев весьма правильные, но дело вовсе не в мастере Лауле. И все же, если удастся Лауля выставить, маленькая победа объединит рабочих, — тут Шурканов даже сцепил пальцы обеих рук… Шурканова проводили одобрительными возгласами.
Но все-таки новолесснеровцы ничего не добились: три месяца голодали, многих повыгоняли из завода, а Лауль только посмеивался.
Тогда забастовали мы. Поднялись против снижения расценок, против беззаконных увольнений, против сверхурочных работ — слишком много накипело на душе. Дирекция объявила о закрытии завода, велела приходить в контору за расчетом. Мы обратились ко всем питерским рабочим с призывом не поступать на «Новый Айваз» до окончания забастовки. В «Сампсониевском обществе» я даже поспорил с некоторыми из своих знакомцев, потому что на многих заводах заказы сокращались.
Нам-то легче было бастовать, чем новолесснеровцам: рядом с нашим начиналась кладка многоэтажного корпуса электролампового завода «Светлана». Почти все новоайвазовцы перебрались туда: кто плотником, кто каменщиком, а иные просто подсобниками. Я вытянул из-под кровати свой сундучок, достал со дна старый фартук. Кой-где въелись в него крапины раствора, ноздри уловили полузабытый запах известки. Впервые я примерил его, когда собирался подняться на леса церкви за дядей Абросимом. В нем выкладывал кирпичную шахту для насоса в Екатеринодаре. Надевал его, чтобы стоять на захвате с Григорием Кругловым. Будто в воду глядел дядя Вася, когда говорил, что все нашему брату пригодится.
Но завязки оказались короткими, под мышками резало — как же я вырос из своего фартука!
Теперь он свернут, опять лежит в сундучке, а я окончательно понял, что душой прикипел к металлу. Когда-то я торопил время, чтобы бежать к локомобилю. А в эти месяцы по-мальчишески тосковал по своему фрезерному, и холодный кирпич валился из рук.
В половине сентября начальство попятилось, стало приглашать рабочих обратно в цеха. Но как быстро осиротели многие станки, с каким вежливым злорадством предлагали тем, кого взяли на карандаш заводоуправление и полиция, отправляться на все четыре стороны! Вот и в моих руках оказалась расчетная книжка. Меня удивило и насторожило то, что Сурин преспокойненько покручивает маховичок суппорта и даже Шурканов вышел сухим из воды…
— Нет, вы скажите все-таки, Сергей Захарович, — спрашивал я Воронова, — откуда полиция узнавала о наших собраниях? Почему Шурканова до сих пор не уволили?
— Постой, не кипятись! — Воронов сердито смотрел на меня, покусывая губу.
Эта привычка появилась у него, видимо, в тюрьме. А в ином он не изменился, разве пожелтел чуть-чуть. Я так и не понял, каким образом он очутился на свободе и сразу был принят на «Новый Айваз». Но расспрашивать об этом не посмел и доверять ему не перестал. Обрадовался, будто родному.
Три месяца мотался я по заводам, и всюду перед носом моим захлопывались двери. Товарищи по «Сампсониевскому обществу», заводские ребята хлопотали за меня — и все впустую. Деньги кончились, и если бы не тетя Поля и Леша Алексеев — хоть околевай под забором. Все чаще подумывал я пойти к дяде Васе: он-то уж помог бы мне. Но откладывал напоследок, когда не будет никакой надежды.
Вечерами Воронов по-прежнему посмеивался над Москвиным, втягивал его в спор. Однако Москвин теперь на удочку не поддавался, надевал валенки и уходил «побродить». Тогда я начинал свой допрос.
— Не все сразу, — останавливал меня Воронов. — Давай рассуждать. Несомненно, провокатор есть, а может быть, и целая стая. Но пока подозрения твои относительно Шурканова я отвергаю. У него часто жил Михаил Иванович Калинин и при своем опыте и чутье мог бы что-то заподозрить. И все же, на всякий случай, доверие ограничим… Меня беспокоит сейчас и другое — твоя работа. Все это взаимно связано, но распоряжение об увольнении в булочной не предъявишь.
За окнами дождь вперемешку со снегом. Хлюпают тяжелые шаги, словно некто бродит по грязи на одном месте, не умея выйти из заколдованного круга. Ни вечер, ни ночь — последние дни перелома от осени к долгой зиме.
Тетя Поля напоила меня чаем, ушла спать. Воронова еще не было, Москвин работал в ночную смену, и я остался в нашей гостиной один. Я сидел у застеленного потертой клеенкою стола, уставясь в книгу, но строчки сливались в серые линии. Наконец я захлопнул книгу, понес ее к этажерке и вдруг заметил газету, которую читал недавно Москвин. Старый «Луч» — за февраль, номер двадцать четыре. Одна мелко набранная заметка обведена красным карандашом:
«18 декабря 1912 года мы, в согласии с пожеланием социал-демократической фракции от 15 декабря, приняли предложение газеты «Луч» о зачислении нас в состав ее сотрудников. С тех пор прошло более месяца. За это время «Луч» не переставал выступать ярым противником антиликвидаторства. Его проповедь «открытой» рабочей партии, его нападки на подполье мы считаем, при настоящих условиях русской жизни, недопустимыми и вредными. Не считая возможным покрывать своим именем проповедуемые «Лучом» ликвидаторские взгляды, просим редакцию исключить нас из состава сотрудников. Члены Государственной думы от рабочих А. Бадаев, Г. Петровский, О. Самойлов, Н. Шагов».
Такую же заметку, помнится, читал я в «Правде». Да вот и эта газета здесь, и тоже красный карандаш. Значит, «Луч» перепечатал заметку из «Правды» — меньшевики высекли сами себя. О чем, интересно, думал Москвин, когда подчеркивал строчки, о чем размышлял, просматривая их теперь?
Кто-то негромко постучал. Я положил газеты Москвина на место, пошел отпирать.
— Ну и погодка! — сказал Сергей Захарович, отряхивая фуражку; разделся, потирая руки, подошел к столу. — Садись, Дмитрий, потолкуем.
Я предложил ему чаю, он помотал головой, внезапно спросил:
— Членские взносы платить будешь?
Стараясь ничем себя не выдать, я только скрипнул стулом. Но голос все-таки дрогнул:
— Давно готов.
— Понятно. Мне поручили… — Воронов сунул руку за пазуху, вытащил маленькую книжечку, на которой кроме печати, суммы взноса и даты ничего не было. — Вот тебе квитанция. Ну и, сам понимаешь, никому не показывай. Полиция за этим весьма и весьма настойчиво охотится…
Он поздравил меня с вступлением в партию большевиков. Потом пожелал спокойной ночи, удалился в спальню. Я набросил на плечи пиджак и выскочил на крыльцо.
Небо посветлело, свежий ветер с Балтики принес холодок и родные запахи зимней хвои. В вышине, очищенной от тягостных туч, проступали колючие зеленые звезды.
Однажды Сергей Захарович протянул мне казенный конверт и, покусав губу, церемонно сказал:
— Милостивый государь, вас просят пожаловать на Аптекарский остров, в дом номер шесть по Песочной улице.
Я не верил своим глазам: меня, это меня приглашают на завод Семенова! О заводе этом я наслышался. Точность обработки деталей там была на редкость высокой, технология — единственно разумной. Знатоки рассказывали, что почти все семеновские табачнонабивочные автоматы покупала Америка и ставила у себя эталонами, по которым проверяла долговечность своих машин.
У меня руки зачесались. Еле дождавшись утра, распрощался я со своими добрыми хозяевами. Тетя Поля промокнула глаза платком, Леша Алексеев чуть не задушил меня. К Федору Ляксуткину и Никифору Голованову заходить не стал: надеялся увидеть их в «Сампсониевском обществе».
Воронов и Москвин провожали меня до шоссе. Было еще темно, скрипел подмороженный за ночь снег. Но по-вешнему пахло яблоками, чудилось в деревьях движение — был март.
Окна завода дрожали желтыми пятнами; похоже было, что над землей парят ровные ряды огней. Я отвернулся от них:
— Ну что ж, не привыкать…
— Именно, — печально подтвердил Сергей Захарович. — Но теперь-то дорога у тебя верная.
— Аллегории, — неожиданно напал на него Москвин, — у вас все время одни аллегории!
Воронов удивленно попятился, впервые атакованный, даже присвистнул. Я оставил их спорить.
…Итак, я на заводе Семенова. Может быть, на этот раз кончится мое кочевье, пока… пока не наступит день, ради которого я стал большевиком.
Новые друзья мои оказались такими же славными ребятами, что и лесснеровцы. Прошло совсем немного времени, а одного я уже запросто называл Петром, другого — Кирюшей. Петр был угловат, мосласт, мог узлом свернуть кочергу, но силы своей стыдился и потому конфузился от каждого неловкого движения. Кирюша, наоборот, ходил порывисто, при разговоре размахивал руками, горячился. Оба они были постарше меня, однако на наши отношения это не влияло.
В нашем фрезерном, да и во всех других цехах, отношения между мастерами и рабочими для меня были совсем непривычными. Мастера не кичились своим положением, а, напротив, вместе с нами обдумывали приспособления к станкам, помогали советом и делом. Даже управляющий заводом, он же главный инженер, господин Кутский был вежлив и обходителен, за прогулы, связанные с идейными убеждениями, никого не наказывал. Зато строго блюл интересы заводчика Семенова, расценки держал самые низкие, но против этого трудно было протестовать.
Петр и Кирюша сразу же после знакомства со мною подробно все мне рассказали. Больше того, оказалось, что они не раз видели меня на собраниях и кое-что обо мне слышали. Когда-то я думал: а не придется ли перезнакомиться со всеми мастеровыми России. Теперь нет-нет да и приходило в голову, что и с большевиками — тоже!
Опять корнетист рылся в моих книгах и бумагах! Все вроде бы на месте, но корешок книги чуть надорван, а выписки из газет перепутаны. Не думает ли этот идиот, что я приношу домой запрещенную литературу или храню под подушкой адреса питерских большевиков! И все же он действует на нервы. Иногда придешь с работы, а он, выпучив глаза, дует в свою музыку так, что воробьи под окнами дохнут. Не понимаю, как терпят его Анна и Лиза, почему Николай Иванович упросил меня временно пустить корнетиста в мою комнату на диван!
Когда я умылся и переоделся, хозяйка позвала:
— Дмитрий Яковлевич, идите пить чай!
Семейство Морозовых, в квартире которых я теперь снимал комнату, сидело за самоваром. Николай Иванович ничуть не похож был на своего однофамильца — подрядчика, о котором наслушался я в отрочестве. Любил Николай Иванович по праздникам пропустить рюмочку-другую, а вообще-то жил спокойно и по скромным своим средствам. Работал он резчиком на мебельной фабрике «Мельцер», и от него всегда хорошо пахло благородным деревом. Старшая дочь его Анна, всегда гладко причесанная, всегда ровная характером, по-видимому, души не чаяла в своем трехлетнем сынишке, но за столом то и дело взглядывала на него, укрощая чрезмерную его резвость. Я не знал, где ее муж, и не любопытствовал; Анна относилась ко мне с неизменным вниманием, читала мои книги, предлагала свои. Зато с ее сестренкой Лизой, моей ровесницей, хохотушкой и озорницей, было нелегко. Она бегала по моей комнате, быстрая и светлая, как солнечный зайчик, мгновенно перевертывала все вверх дном, смеялась над моим затворничеством.
— Не понимаю вас, Митя, нисколечко не понимаю. Вы такой большой, сильный, как вам не надоело корпеть над скучными книжками?
Она садилась на диван, подобрав под себя ноги, допрашивала:
— Любили вы кого-нибудь, Митя; ну, скажите: любили?
Я смущался, мычал что-то невразумительное.
— Нет, так же нельзя! — вскакивала она. — Я непременно, непременно познакомлю вас со своими подругами. Тогда посмотрим!..
Чай она разливала сама, накладывала мне в чашку столько сахару, что во рту склеивалось.
— Да оставь ты Дмитрия Яковлевича в покое, стрекоза, — притворно ворчала мать. — Сбежит он от нас из-за тебя.
Не из-за нее надо было сбегать. Комната, которую мне Морозовы отвели, представлялась прямо-таки царской по сравнению с теми, что занимал я до сих пор; семья мне нравилась, кое-кто в ней даже и волновал… Только наглый корнетист отравлял существование.
Когда все встали из-за стола и женщины принялись прибирать посуду, Николай Иванович пошел на кухню покурить. Я направился за ним. Было свежо, ветерок дул в раскрытое окно, в высоком, словно подернутом прозрачной пленкою небе бледно посвечивал полумесяц. Николай Иванович поглядывал на него, от усов его тянулись струйки дыма.
— Зачем вы подсунули мне этого музыканта? — начал я без обиняков. — Он ведь и вам не дает покоя. Мне кажется, что он роется в моих вещах.
Николай Иванович крякнул, нашарил спички, хотя папироса не погасла.
— Ну прямо не хочется теперь приходить домой! — чуть не крикнул я.
— Он временно, — жалобно сказал Морозов. — Потерпи, пожалуйста. — И, опустив плечи, с папиросой в усах ушел из кухни.
— Чем это вы так расстроили отца? — услышал я за спиной грудной голос Анны.
Она стояла в двери, кутаясь в платок, глаза странно темнели. Я объяснил, сердясь однако на себя за резкость. Анна так близко наклонилась ко мне, что дыхание ее защекотало ухо.
— Мой брат подсадил его к вам; он околоточный надзиратель. Пригрозил отцу…
— Придется менять квартиру, — отодвинулся я.
— Напрасно. Он же ничего не найдет, — улыбнулась Анна. — Этого музыканта я выставлю в три шеи… Поймите сами, что у нас вам будет безопаснее.
Анна, по-видимому, о чем-то догадывалась, но недоверия к ней я не испытывал. Я только не хотел, чтобы из-за меня были у нее неприятности. Она прикрыла за собой дверь: корнетист возвращался с концерта. Был он чуть навеселе, что-то напевал, раскачивая футляр своей дудки. Усики сидели под его утиным носом как пластырь, при улыбке оголялись белые десны.
— Добрый вечер, Дмитрий Яковлевич, — расшаркался он, — воздухом дышите?
Я поманил его пальцем и сиплым от злости голосом сказал:
— У меня под обоями в правом углу тайник.
Он отскочил, как ошпаренный, выронил корнет. Я поднял, подал ему, добавил уже спокойно:
— Мне показалось, что вас это интересует.
— Безобразие! — подпрыгнул он.
— Но вы-то должны соображать, что я сбегу от вашего корнета.
— Вас раздражают мои занятия искусством, — сочувственно сказал корнетист. — Бедный мальчик. — И с достоинством удалился в дом.
Я ушел ночевать к Петру. На другой вечер корнетиста уже не было. Зато, гремя сапогами, появился околоточный надзиратель Морозов. За стенкой произошел очень крупный разговор, потом полицейский заглянул ко мне, свесив усы, взял пальцами под козырек.
Анна была права; полиция ничего не пронюхала, а лучше квартиру, чем у Морозовых, вряд ли бы смог я найти…
После всех этих треволнений сон приходил трудно. Закинув руки за голову, я до рези в глазах всматривался в темноту и думал. Я написал письмо отцу, третье или четвертое за все эти годы, кланялся родным, сообщал, что жив-здоров, и впервые — обратный адрес. Не знаю почему, но мне вдруг так захотелось. В том, что полиция заинтересовалась мною пристально, ничего удивительного не было: околоточный обязан в своих владениях проверить каждого человека. Как далеко ушел я от доброй опеки регента Молчанова, от первых уроков политграмоты! Если бы Всеволод Иванович тогда, у костра на речке Шуице, мог угадать, что в бумагах бывшего хориста Мити Курдачева будет шарить полицейский прислужник!..
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Я постарался успокоиться и только тогда взялся за ручку двери. Окна во всех домах по улице были плотно занавешены, а кое-где и забраны ставнями. Пусто и пыльно, словно никто мимо них давно не ходил. Но за тяжелыми шторами, но за ставнями кто-то затаился, настораживал любопытный глаз. Хорошо, что я прошел прогулочной походкой, будто не бежал только что через переулки, не путал следов.
Хотелось незаметно пробраться к себе, но Лиза выбежала из комнаты, а за нею появилась и Анна.
— Вы пришли? — Лиза схватила меня за рукав, пальцы ее дрожали.
Сестры беспокоились за своего отца; и потому я ответил, что мебельщиков на демонстрации не видал.
— Умывальник полный, — сказала Анна.
Рубаха взмокла от пота, я с трудом из нее высвободился. Вода была тепловатой, но все-таки освежила, взбодрила. А в глазах все еще мелькали разнообразные лица, в ушах раздавался скрежет копыт, сухие хлопки выстрелов. Стоило прикрыть веки, как опять видел я паренька, ползущего по мостовой, а за ним тонкую красную полоску, видел усатого морщинистого рабочего, который баюкал свою пробитую руку. Я подбежал к нему, вытащил носовой платок.
— Не надо. — Белыми от боли губами он постарался усмехнуться. — В то же место попали, что в пятом году.
— Зачем стрелять, зачем стрелять, зачем стрелять, — повторял, словно заведенный, слабогрудый человек в разбитых очках.
Потом все смешалось, толпа подхватила меня, сунула в подворотню.
И все-таки это была не толпа. Не стихией вырвалась она в улицы. Центральный комитет сообщил по заводам, что на Путиловском полиция расстреляла митинг, надо выходить на демонстрацию протеста. Времени для подготовки почти не было. Утром принесли «Трудовую правду», и я решил прочитать ее вслух, а там уж решать, что делать дальше. Я созвал фрезеровщиков, мастера разумно удалились. Замолкли станки, потемнело, остывая, металлическое крошево на столах. Стараясь быть спокойным, я начал:
«Вчера, за два часа до окончания работ, рабочие турбинной, башенной и других мастерских прекратили работу и собрались во дворе завода на митинг. Всего присутствовало на митинге до ста двадцати тысяч рабочих.
Ораторы-рабочие, обрисовав положение бастующих бакинцев, призывали товарищей путиловцев к поддержке стачечников. Перед окончанием собрания появился во дворе завода большой наряд конной и пешей полиции, которая была спрятана на заводе с утра».
Я оглядел напряженные, насупленные лица, набрал в легкие воздуху:
«…Расстрел. Полицейские стали напирать на безоружных рабочих. В ход были пущены нагайки. Командовавший полицейским нарядом офицер потребовал немедленно разойтись, а между тем в этот момент закрылись заводские ворота, выходить было некуда.
Рабочие заволновались, и в тот момент раздалось два залпа. Залпами были убиты двое рабочих и пятьдесят ранены. В порыве самообороны некоторые рабочие схватились за камни.
Избиение рабочих шло и вне завода, на проспекте. Арестовано шестьдесят пять человек. Они под усиленным конвоем отправлены в Нарвскую часть».
— Что ж это делается, братцы! — крикнул кто-то за моей спиной.
— Тихо вы! Читай, Курдачев, дальше!
«…На Путиловский завод немедленно отправился депутат Бадаев. В завод уже никого не пускали. За депутатом Бадаевым немедленно отправились полицейские чины.
Несколько служащих заявили, что есть четыре убитых и много раненых. В заводской больнице ему сказали, что туда никто не доставлен. Управляющий заводом отказался принять депутата Бадаева, заявив, что никаких сведений не дает…
В Петергофском участке депутат Бадаев застал ужасную картину: избитых и стонущих рабочих отливали водой из-под крана. Совершенно ясно, что арестованные избиты.
Пристав отказался дать какие-либо сведения, причем вел себя с депутатом так, что товарищ Бадаев считал нужным довести о его поведении до сведения министра внутренних дел.
Бадаев немедленно обратился с телеграммой в министерство, чтобы получить завтра же прием.
Ночная смена путиловцев забастовала. Четвертого июля в восемь часов утра хоронили убитого рабочего литейных мастерских Проскурякова Ивана…»
Горло у меня перехватило. А фрезеровщики уже бежали к выходу, со всех трех этажей. Через проходную торопились на улицу, заполняя ее.
— Против зверских расправ с рабочими! — сорванным голосом кричал Кирюша на лестнице. — Против глумления над нами на заводах и фабриках! Против правительства и буржуазии!..
Где теперь они, Петр и Кирюша? Я потерял их из виду, когда мы начали отступать. Сходить разве к Петру?
Хлопнула входная дверь. Угадав шаги Николая Ивановича, я вышел к нему. Морозов был бледен, рукав его пиджака висел на нитках.
— Ты дома? — удивился он. — Я не вмешиваюсь в политику, но это, это… — Он сердито крякнул.
Лиза и Анна выглянули на наши голоса, захлопотали возле отца.
Нет, к Петру все-таки нельзя. Притащу за собою хвост: сейчас на каждом углу по филеру. Надо набраться терпения.
На другой после демонстрации день я встретил Петра в цехе. Но и он тоже ничего о Кирюше не знал и очень беспокоился. Лишь спустя некоторое время пришли тяжелые вести: Кирюша арестован и, наверное, брошен в петербургскую Бастилию — «Кресты»; на Выборгской стороне новолесснеровцы и новоайвазовцы построили баррикады, отбивались камнями, чем попало; есть раненые, арестованные. Как мне хотелось помчаться туда, увидеть Федора, Никифора Голованова, Сергея Захаровича! Но Петр пригрозил, что упакует меня в ящик, пока не одумаюсь.
И вот — новое задание: разогнать манифестантов, которые собираются приветствовать французского президента Пуанкаре, а в его лице и Антанту. Правые газеты захлебываются от восторга: мы докажем господину Пуанкаре сплоченность патриотов, трогательное единение России вокруг своего монарха!
Собрать людей на этот раз будет нелегко. На заводе много меньшевиков, эсеров; они воспользовались отступлением демонстрации, замутили воду, стали ловить в ней рыбку. Что греха таить — иного токаря или фрезеровщика не прошибешь никакими словами, пока сам он не заметит, что целятся в него. Общие беды рабочих они еще нутром понимали, а тут меньшевики начинают гадать: может, войны и не будет, зачем рисковать понапрасну…
Обеспокоенный, возвращался я домой. Лиза отперла дверь, сказала с таинственным видом, что у меня гость. Неужели полиция, или опять сынок Морозовых подослал соседа? Бежать, однако, было нелепо. Мне удалось улыбнуться:
— Я его знаю?
— Давно, — расхохоталась Лиза, — с самого детства.
Перепрыгнув порог, я кинулся в свою комнату. Навстречу поднялся отец. Я едва узнал его: рыжеватая борода поседела, крупное лицо поизмялось, плечи обвисли. И ростом он вроде бы осел, глядел на меня снизу.
— Приехал вот… повидаться, — топтался он, то подавая вперед руки, то опуская их.
Мы обнялись. В носу у меня защипало; я вышел из комнаты, но Николай Иванович все уже предусмотрел: подал мне бутылочку, сказал, что жена сейчас принесет закуску.
Батька мой рассолодел, хоть и крепился изо всех сил.
— Барином живешь, Дмитрий Яковлевич, барином. Комната-то какая! И самого не узнать. Ну-ну, наша кость, наша.
Я помалкивал, подливал ему водочки.
— Далеко ты забрался. Говорили про тебя в деревне: босякуешь, — закусив огурчиком, продолжал он. — Вот и решил я сам проведать… Кончили мы плотничать в Новой Деревне; дай, думаю, заверну — рукой подать. Теперь всякой брехне верить не стану.
Полузабытый родной калужский говор. А другое ничего не забылось: и сенокосы с отцом, и первые заработки в Брянске, и ссора…
— Как там у вас? — осторожно спросил я, чувствуя, что отец ожидает, когда поинтересуюсь.
— Худо, Митя; обнищали совсем. «Земли бы нам», — только и стонем. А где ее взять, землю-то?
Я смолчал; знал, что отец примет за насмешку, если скажу, когда у него будет земля.
— Зинаида замуж вышла, в Дубровки. Тоже маются…
Про мачеху я не спрашивал, и отец не заикался о ней: видимо, за эти годы ничего не переменилось.
Внезапно отец засуетился, засобирался. Упросить его заночевать или хотя бы повременить так и не удалось — характер у Якова Васильевича по-прежнему был артельный:
— Обещался. Наутро вместе подадимся из Питера.
Хотел перекрестить меня на прощанье — раздумал; пошел к двери, растерянно сопя. На улице строго посмотрел на меня:
— Работа у тебя хорошая. Жениться надо тебе, хозяйством обзаводиться. Больше ничего человеку не требуется.
Мне почему-то было стыдно. Только раз смог я послать в Погуляи немного денег. Теперь никаких сбережений у меня не было, да и завтра не будет…
Отец, не оглядываясь, скрылся за углом. Когда-то я еще увижу старика? Значительное и малое перепуталось, связалось в одно. И все же отец был неправ: мне нужно было гораздо больше, чем он определил.
Котелки, цилиндры, багровые морды мясников и лавочников, звероподобные и сладенькие попы, дамочки в кружевах, бабы, которым бы играть в цирке пудовыми гирями, какие-то извозчики, сбитые с панталыку мастеровые… Хоругви, иконы, портреты царя, музыка. Валом валят с Невского по Садовой к Марсову полю. Ревут, визжат глотки: «Боже, царя храни!»; «Дать германцу, дать австрияку, турке дать по башке!»; «Да здравствует, ур-ра-а!» Полиции для охраны российских патриотов тьма тьмущая — на конях и пеших.
Мы от Инженерного замка торопимся наперерез: семеновских не так уж много, зато все надежные. С набережной, с Моховой, от Летнего сада, с Марсова поля на выброшенную столицей дрянь идут рабочие других заводов. Идут, как на работу.
Пожилой человек в распахнутом пиджаке хватается за ограду, встает над головами, бросает прокаленным у огня голосом:
— Долой войну! Долой царя-кровопийцу!
Он кричит еще что-то, но сотни людей уже подхватывают: «Долой!»
Свистят полицейские, сталкиваются потоки, бешено кипят…
Петр, хакая, бил, отбрасывал, скручивал, от былой его конфузливости не осталось и следа. Я старался от него не отставать. И вдруг увидел знакомое красногубое лицо под котелком, наглые выкаченные глаза: Сидоров!
— А-а, сосед! — Он кинулся ко мне, размахивая железной тростью.
Но Петр опередил его. Трость согнулась глаголью, Аполлинарий Сидоров, свернутый восьмеркой, исчез в толпе.
Манифестанты дрогнули, рассыпались. На Садовой валялись котелки, зонтики, пиджаки, хоругви, на розовом лице брошенного императора красовалась подошва стоптанного сапога. Потные, разгоряченные свернули мы с Петром в сад. Надо было отдышаться, привести себя в порядок.
— Никогда не видел тебя таким свирепым, — засмеялся я, обрывая болтающуюся пуговицу.
— Какой-то недовертыш ниже пояса вдарил, — стал оправдываться Петр. — А я этого не люблю.
— Курдачев, здорова! — басовито закричал кто-то, и из-за кустов полез гитарист Сердюков, все такой же веселый, но теперь с желваком под глазом. — Водички ищу, радугу снять надо.
— Тебе она к лицу!
— Брось, не до этого. Неужели воевать? — Он погрустнел, потрогал желвак. — А погода-то какая!..
Петр с опаской на него косился. Я их познакомил, втроем мы не спеша пошли по аллейке. Шелестели деревья, мягко хрустел под ногами песок. Летнее небо сквозь листву было таким далеким, таким чистым, что не верилось даже в ту маленькую и в сущности-то бескровную войну, которая только что отгремела близ Марсова поля.
Девятнадцатого июля Германия объявила войну России.
По улицам снова хлынули мутные потоки манифестантов: все на защиту веры, царя и отечества! Были запрещены забастовки, отменен десятичасовой рабочий день, введены сверхурочные. Мелкие лавочники, владельцы колбасных и хлебопекарных заведений поспешили на заводы. Я видел, как приезжали на работу и уезжали домой «фрезеровщики», облитые духами, на откормленных рысаках. Каждый день мне рассказывали, что того-то и того-то из знакомых большевиков отправляли на фронт.
Петр помрачнел, осунулся. Его угнетала не только потеря друга. Он ничего мне не говорил, но я-то понимал, что сковало его по рукам и ногам. Что ни день, то все больше и больше появлялось у станков таких, как он, — призванных в армию, но оставленных при заводе солдат. Лавочники спасали свои шкуры; большевику надо было изучать новые условия и трижды осторожно работать.
Меня еще не призывали, но когда-то и я могу оказаться в таких же путах. Что ж, горек опыт старших друзей, а так необходим.
Однако вскоре партийный комитет завода собрался на явочной квартире, и мы воспрянули духом. От Ленина, от Цека, сверху вниз, по неизвестным мне каналам, по невидимым линиям связи шли до самых маленьких партийных ячеек четкие и прозорливые решения. Я понял, что должен объяснять своим товарищам, какая это война; убеждать, что не победа, а поражение в войне поможет революции; должен сделать все возможное, чтобы солдаты задумались над этим.
На нашей Песочной улице, между мебельной фабрикой «Мельцер» и заводом Семенова, в небольшом полутораэтажном доме прежде была столовая, в которой мы обедали. Теперь в ней расположилась саперная рота. У парадной двери, сменяясь, держали пост часовые. А мы ходили в другую столовую, к Карповскому мосту, и всякий раз — мимо них.
— Давай-ка попробуем, — предложил я Петру, — попробуем расшевелить солдат. Будем говорить погромче. Один-второй услышит, передаст приятелям, авось и задумаются, засомневаются…
— Дельно, — обрадовался Петр. — Эх, Кирюшу бы сюда!
Мы посоветовались с товарищами, прикинули, о чем примерно заводить разговоры, взвесили свои актерские способности и однажды в обед вчетвером степенно двинулись к столовой. Недалеко от крыльца Петру захотелось закурить.
— Вот ты раскуриваешь преспокойненько, — набросился я на него, — а Кирюша, может, в окопе вшей кормит!
— Погоди, — вступились за Петра сразу двое, — разве он виноват? Его пошлют — тоже в окоп попадет. Или еще хуже: башку снарядом — и конец. Не нам война эта нужна, а тем, что сидит во дворцах, с Распутиным водку пьет!
— Крестьян от земли оторвали, в шинелки нарядили, а бабам да ребятишкам с голоду пухнуть? На кой ляд им чужая земля; свою бы пахать…
Мы кричали и спорили долго. Рыжеусый солдат с темным дубленым лицом стоял истово, истуканом: хоть пушкой стреляй, не шелохнется.
На другой день на посту был корявый парень с пушком над губой. Этот повернулся к нам левым ухом, будто рассматривая улицу. «Клюет», — решили мы.
Через некоторое время у дверей опять очутился рыжеусый. Теперь он глядел на нас, даже чуточку подался вперед. И когда на пост стали выходить по двое, мы поняли: солдат проняло.
— Приходите-ка, братцы, на пустырь табачку покурить, — пригласил я однажды.
— Вечером будем, — откликнулся корявый парень, глядя в сторону.
Пустырь, где был огород столовой, отделялся от дома плотным забором. Под этим-то забором мы и устроились на пожухлой траве. Под ногами ползали букашки с синими спинками; бабочка-капустница прыгала над кособокой ромашкой, никак не решаясь присесть; кое-где подымалась картофельная ботва, сиротливо созревшая в затоптанной земле. Мы обсуждали заводские новости, волнуясь, ждали.
— Почтеньице, — вдруг послышалось за забором. — Выходить опасно, так подымим.
В узкой щели виднелось что-то серое, потом мигнул веселый карий глаз.
— Как про землю заговорили, разворошили во мне все, — прогудел прокуренный голос. — А уж думал: умерло.
— Скоро нам в Пруссию, — сказал кто-то. — Так вы и других так же настропалите. Полезно. Опять же, мы сразу поняли, для чего орете перед постовыми.
Мы посмеялись, разговор завязался.
Никак я не думал, что скоро, совсем скоро властно позовет меня к себе тот мир, о котором напомнил мне на прощанье отец.
В доме Морозовых война всполошила всех, но фронт никому не угрожал, и житейские заботы быстро втянули семейство в колею обычных дел. Приближались рождественские праздники. Невский проспект заливали огни; по накатанному до блеска снегу, позванивая бубенцами, бежали лошадки чухонцев; в театрах гремели знаменитости; в ресторанах визжали шансонетки; офицеры и знать Петербурга кутили, паля из бутылок во славу русского оружия. Рабочие Питера подсчитывали копейки; кое-кому думалось: не в последний ли раз встречаем новый год? Забулдыги и сорвавшиеся с железки мастеровые опухали в кабаках.
Морозовы решили отметить праздники по-семейному, как всегда, без особых затрат. Пригласили и меня.
Лиза была сверх меры оживлена, хлопотала на кухне, в гостиной, то и дело обсуждая с матерью и Анной, как лучше накрыть стол, какие закуски куда поставить. Я обеспокоился, уж не ждут ли они кого-нибудь.
— Ждем, ждем, — тряхнула головой Лиза. — Дальних наших родственников Чиносовых. Они бога-атые… Груня вам обязательно понравится. Она такая милая, такая умница!
«Еще не хватало, чтобы мне навязали какую-то девицу», — с досадой подумал я, однако оделся повнимательней.
В назначенный час появились Чиносовы: мать, дочь и сын. Матери было под пятьдесят, но в высокой фигуре ее сохранилась прежняя стать, а лицо осталось не по возрасту свежим. В молодости она была, наверное, очень хороша собой. Груня унаследовала от нее немало, хотя и не казалась особенно красивой. Она смело протянула мне руку, вопросительно посмотрела на меня. Глаза у нее были очень теплого орехового цвета, хоть и падала на них от ресниц густая тень. Лиза оказалась права!
Брат Груни, высокий, болезненный, припадая на правую ногу и постукивая тростью, подошел ко мне, сказал надтреснутым тенором:
— Мы от Лизы о вас наслышаны. Но вы абсолютно непохожи на книжного червя.
Между тем Морозовы приглашали за стол. Меня усадили рядом с матерью Груни и ее братом; подруги разместились напротив, оживленно переговаривались, но я то и дело замечал, что Груня на меня посматривает. Иногда взгляды наши встречались, и мы разом начинали изучать что-нибудь на столе.
О войне даже не обмолвились. Только Николай Иванович предложил выпить за счастливое будущее молодежи. В голове моей подшумливало, губы сами растягивались в улыбку, и вид у меня, вероятно, был весьма глупый.
Лиза и Груня завели граммофон; Николай Иванович пригласил, по-старинному расшаркиваясь, Грунину мать; брат ее раскланялся перед Лизой и довольно ловко закружил девушку по комнате. Я ринулся к Груне, совсем позабыв о том, что танцевать не умею.
— Вы такой сильный, — засмеялась она. Над губой у нее темнел пушок.
Не знаю, что я ногами выделывал, но гибкое тело Груни покорялось каждому моему движению. Сердце ее билось где-то совсем близко, или это мое стучало так громко.
Анна смотрела на нас из уголка, улыбалась, а глаза были совсем грустные. Вскоре она ушла к сыну…
Чиносовы стали прощаться.
— Новый год встречаем у нас, — сказала мать. — И вы, молодой человек, надеюсь, не откажетесь?
— Конечно, — воскликнула Груня, — пусть только посмеет!
Я не посмел.
— Что я говорила, что я говорила, — издевалась надо мною Лиза, когда гости ушли. — Вот и вышло по-моему!
— Да, что вы им наговорили? — сердито спросил я, словно это было сейчас самым важным.
— Если бы плохое, они бы разве пригласили?
— Господи, до чего же вы еще молодые, — вздохнула Анна, которая тоже провожала гостей.
Лиза обозвала ее старой каргой и принялась целовать, а я заперся в своей комнате и блаженно уставился в потолок.
Нет, Груня ничуть не была похожа на Катю Гусеву. Перед Катей я не однажды терялся, как мальчишка. На вид она казалась такой беспомощной, но была в ней страсть всеми руководить. Я благодарен был ей за то, что узнал дверь в театр, что подружился с умными и серьезными книгами. А Груня, Груня! Я представлял, что если б Груня была моей женой, и меня бросало в жар…
Обстановка в доме Чиносовых несколько охладила мой пыл. Из гостиной доносились оживленные голоса, на вешалке было множество шуб и шинелей, а наши пальто приняла прислуга.
Груня выбежала в прихожую, протянула мне обе руки. Густые волосы ее были подняты, заколоты черепаховым гребнем; платье, открывающее смуглые ключицы, обливало всю ее фигуру; и она казалась еще выше и стройнее. В дверях радушно улыбался сам Чиносов, плотный, черноволосый с проседью, в дорогом сюртуке. Николаю Ивановичу он пожал руку, жену его трижды по-родственному поцеловал, Лизу назвал попрыгуньей, а ко мне отнесся так просто, словно хорошо и давно уже знал.
В углу гостиной пышно красовалась елка в фонариках, в дутых разноцветных игрушках, бусах и дожде. Запах смолки и хвои освежал воздух, пока не внесли кушанья. За столом переговаривались какие-то солидные люди с брелоками по жилеткам, три застенчивые девицы, несколько встопорщенных юношей студенческого и чиновничьего вида. Это был совсем иной мир, чем тот, в котором жил я всегда. Здесь не думали о том, что будет завтра, если вдруг администрация урежет расценки, не знали конспирации, паролей и явок, не тревожились, увидит или не увидит Пуанкаре восторженную толпу верноподданных русского монарха. Они служили винтиками гигантской государственной машины и получали за это кое-какое благополучие. Они не были враждебны и не были близки мне, пока не настало время выбирать. Груня сближала меня с ними.
— О чем вы задумались, Дима? — окликнула Груня из-за стола.
Я очнулся. Мать Груни спрашивала, не положить ли мне салату. Глава дома поглядел на часы и почему-то обрадованно сказал:
— Ну-с, проводим старый год, хотя и был он довольно мерзким.
Потянулись с бокалами. Мы дважды с Груней чокнулись, мать ее погрозила нам пальцем. Больше ни о чем я не думал, ничего не хотел, впервые в жизни, пожалуй, дорожа только сегодняшним днем.
Но и этот день уже кончился; резные острые стрелки на огромных с массивными гирями часах подбирались к двенадцати.
В саду перед дворцом Александра Третьего было пусто, снега туго залегли под деревьями, отливали голубоватым блеском. Мы протоптали тропинку к скамье, расчистили сиденье и, приклонившись друг к дружке, шепотом говорили. Мы как будто уже знали друг друга с самого детства… То черные, то пушистые от инея ветви перекрещивались наверху, образуя над нами уютную крышу. А потом мы трудно прощались, не обращая внимания на полицейского, который всякий раз тенью проходил по другой стороне улицы.
На работе было тревожно, заказы иссякали: кому нужны были во время войны автоматы, набивающие папиросы? В декабре объявили досрочную мобилизацию, но мне повестку почему-то не прислали. На следующий раз ошибки уже не будет. Все это выматывало нервы и силы.
Но стоило мне заметить у входа в сад Груню, как тут же вокруг светлело. Отчетливо видел я обломленные птицами кусочки веток, упавшие на снег какие-то крылатые семена, ждущие весну, глубоко дышал морозным воздухом. И приближались, приближались темные под шапочкой глаза Груни, и ничего иного не существовало.
— Завтра у меня день рождения, — шепнула Груня, когда мы уже просрочили у ее дома всякое время. — Жду… Морозовы уже приглашены.
Мне почему-то совестно было встречаться с ее родителями. Лиза все время подтрунивала надо мной; даже Николай Иванович многозначительно хмыкал в усы, когда я воровским шагом пробирался в свою комнату и неожиданно наталкивался на него. А уж Чиносовы подавно встревожены и наверняка заведут со мной разговор, к которому я не готов.
В одном из окошек дома Морозовых горел свет: Лиза ждала меня. Кутаясь в теплый платок, она попросила разрешения войти в мою комнату.
— Мы совсем не видим вас, Митя, — попеняла она, плохо скрывая улыбку. — Приезжала Грунина мама. Просила передать, чтобы вы вместе с нами обязательно были на дне рождения Груни. Обязательно!
Я хотел удивиться, но не получилось.
Она еще хотела что-то сказать, но отвернулась, пожелала мне спокойной ночи…
Анна сослалась на то, что сынишке нездоровится, и мы поехали к Чиносовым вчетвером. Гости были почти те же; Груня не обращала на них никакого внимания, танцевала только со мной. Даже подарки, сложенные в ее комнате, так и остались нераспечатанными; и мать, я слышал, указала Груне на это.
— После, мама, после, — попросила Груня и обернулась ко мне.
В ее движениях, в голосе ее сквозила какая-то тревога, от которой она словно бы старалась спастись и никак не могла. Это состояние передалось и мне; и обостренным вниманием чувствовал я, что отец Груни к чему-то готовится.
Когда гости расходились, он попросил Морозовых остаться на чашку чая в узком семейном кругу. Я стал поспешно прощаться.
— Куда же ты? — чуть не крикнула Груня.
— Но… — начал было я.
— Никаких «но», Дмитрий, — отрезал мне отступление ее отец.
«Что он мне скажет, что?» — беспокоился я, сидя рядом с Лизой за столом и стараясь попасть ложечкой в чашку.
Чиносов начал разговор лишь тогда, когда пригласил Николая Ивановича и меня покурить. Усадил нас в кресла, сам сел напротив, долго и внимательно зажигал папиросу. Руки у меня вспотели, и я не знал, куда их девать. Отец Груни не спрашивал меня, кто я и откуда. Его интересовало другое:
— Вы не обижайтесь, Дмитрий, но мне хотелось бы знать, как вы думаете дальше устраивать свою жизнь, каковы ваши планы.
Внутри у меня все помертвело, губы пересохли; кривить душой я не умел, хотя в этом мог бы найти маленькую отсрочку.
— Война… — чужим хриплым голосом сказал я. — Что можно загадывать? Каждый день я жду повестку и не хочу, чтобы…
— Я мог бы отдать вам один из моих магазинов. И призыв в армию вам бы не угрожал, — медленно проговорил Чиносов.
Он не хотел, чтобы я отвечал сразу, необдуманно, встал и предложил выпить по рюмочке; на лбу у него собрались морщины.
Груня встретила меня отчаянным взглядом.
Я знал, от чего отказываюсь, и это было больно. Как убедить и ее и себя, что надо заглянуть в завтрашний день? Как доказать, что иначе я поступить не могу? Она же многого не знала. Не знала о моей нелегальной работе, не могла и подумать, что в любое время может остаться не только солдаткой, но женой политического арестанта. Сказать об этом я не имел права, а не говорить — все равно что лгать Груне.
Две ночи я почти не спал. Как хотелось очертя голову кинуться в неведомое, а там — будь что будет, жизнь подскажет сама! Но вмешивался разум, и тревога за судьбу Груни одолевала.
Если б умел, я бы, наверное, плакал, когда шел в сад Александра Третьего. Я взял в ладони лицо Груни, встревоженное, родное лицо, потом отвернулся и жестко сказал:
— Не хочу больше играть в прятки.
— Я тоже, — грудным, почти мужским голосом ответила она. — Я понимаю, Дима, я все понимаю…
Мне показалось: она сейчас расплачется. Нет, Груня смотрела на меня, прямо на меня, строго и печально.
— Ты станешь солдаткой, а может быть, вдовой.
— Это общее несчастье, Дима. Но если мы нашли друг друга, были бы… вместе, пока возможно… Не говори, — вдруг остановила она меня, как-то почувствовав, что сейчас я готов на весь мир крикнуть, как ее люблю. — Не нужно. Я готова солдаткой, вдовой… Дело не в этом. Я давно поняла, что́ ты от меня скрываешь. У тебя не хватит сил — со мной… У меня тоже. Я не буду мешать!
Она задохнулась и кинулась бегом по тропинке.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Сверху, с антресолей механического цеха завода «Новый Лесснер», куда мне пришлось перейти с завода Семенова, видны были безобразно раздутые, усаженные острыми бородавками шары якорных мин, длинные со щучьими мордами тела торпед. Люди, хлопотавшие над ними, напоминали поваров, которые со спокойной деловитостью фаршировали для гигантского пира морских чудовищ. Мы на антресолях готовили специи: хитроумные механизмы, благодаря которым пирующим не надо прибегать к помощи ножа.
Так насмешливо и грустно говорил однажды Николай Павлович Комаров, признанный руководитель большевиков второй минной мастерской. Он был старше меня лет на пять, начитанный, остроумный, решительный человек. Молодежь ходила за ним по пятам, беспартийные металлисты верили любому его слову. Шутка ли: совсем недавно он сумел доказать управляющему заводом господину Меерсону, что бронзу крадут совсем не рабочие, и погасил конфликт, последствия которого могли бы быть столько же трагическими, как два года назад, когда повесился Стронгин.
Но на этот раз дело касалось не бронзы. Забастовали подсобные рабочие: просили прибавки к жалованью. Продукты в магазинах вздорожали, а подсобники получали так мало, что и в мирное-то время перебивались с хлеба на воду. Меерсон заявил им: недовольны — берите расчет. Подсобники перестали подносить детали к станкам, мы простаивали, цех начало лихорадить. Мастера потребовали, чтобы мы сами получали заготовки в кладовой. Весь завод взволновался. Для переговоров с начальством выбрали цеховых старост. Во второй минной доверили участвовать в переговорах Комарову и мне.
И вот в обеденный перерыв мы потихоньку собрали большевиков, чтобы посоветоваться. Мой старый друг Федор Ляксуткин пристроился к перилам антресолей, чтобы никто из посторонних незаметно не подошел. Наши товарищи Андреев, Моисеев, Смирнов, Кондратьев, Кушников расположились поудобнее в закутке за станками. Из другого цеха пришли Крайнев, Барышев, Антон Голованов — брат Никифора.
— Обстоятельства сложные, — говорил Комаров, опустив локти жилистых рук на колени. — Общезаводская забастовка в такое время для многих из нас может кончиться плохо. Поэтому мы с Курдачевым попытаемся призвать Меерсона к благоразумию. Надеяться на это нельзя, но мы просто обязаны попробовать.
— Чем черт не шутит, — поддержал Барышев, — ведь разумные же они люди.
— Только разум у них навыворот, — усмехнулся Федор.
— Не удастся, будем итальянить, — полувопросительно-полуутверждая сказал Антон Голованов.
— Иного выхода у нас нет. — Комаров обвел всех погрустневшими глазами. — Покидать станки нельзя, иначе снимут с учета…
Я прислушался: цех жутко молчал. Не было привычного лязга металла, постукивания станков, скрежета фрез, все замерло в огромном, еще вчера на диво слаженном организме. Так в природе, насыщенной электричеством, внезапно воцаряется настороженная тишина, чтобы тем оглушительнее был первый удар грома.
— По местам, — негромко сказал Комаров, и все нехотя, будто стараясь отдалить эту минуту, разошлись.
По антресолям бодро шагал инженер Меерсон. В новом драповом пальто, щеки до блеска выбриты, красиво подстрижена клинообразная бородка. Продолговатое лицо его изобразило внимательную вежливость.
— Разрешите обратиться к вам, господин Меерсон, — напористо сказал Комаров, кивнув мне, чтобы я подошел поближе.
— Чем могу быть вам полезен, господа? — Меерсон приподнял над головой котелок, выгнал на губы любезную улыбку.
— Только что закончились цеховые собрания по поводу вашего отказа прибавить подсобникам семьдесят пять копеек. Неужели из-за такого пустяка стоит раздувать конфликт? — Комаров говорил мягко, словно учитель, который старается убедить не в меру упрямого школяра.
— В нашей мастерской, — вступил я, — подсобников только четверо, а станочников больше полутора сотен. Уже того, что мы сегодня потеряли, не работая, вам хватило бы, чтобы оплатить эту прибавку за несколько месяцев.
Но Меерсон не был школяром.
— Да, господа, прибавка незначительна. Но это же при-бав-ка! Я уже поставил в известность директора завода, он и будет принимать окончательное решение.
— Стоит ли к Стариковичу? — посомневался я, когда Меерсон, для чего-то прогулявшись между станков, спустился вниз.
— Обязательно. Пусть директор выскажется. — Комаров глядел на свой ушибленный чем-то большой палец, на котором облезал ноготь. — Рабочие наши поймут, что без забастовки не обойтись, и меньшевикам не на что будет кивать. Пойдем собирать старост, а потом узнаем, когда Старикович нас изволит принять.
Директор «Нового Лесснера» был в промышленном мире России крупным тузом: председателем союза заводчиков и фабрикантов. Поэтому на успех переговоров мы не надеялись, шли на них ради формы. Небольшой группкой добрались по черному от копоти снегу до заводоуправления, поднялись по лестнице. Из-за многочисленных дверей выглядывали любопытные и испуганные физиономии чиновников. Разыгрывался довольно нелепый спектакль, участники которого хорошо знали свои роли, но пока скрывали это.
Вылощенный чиновник, приятно извиваясь, предложил нам раздеться, просочился в дверь директорского кабинета и с поклоном распахнул ее перед нами.
В просторном помещении, залитом красноватыми лучами вечернего мартовского солнца, потрескивал камин, богатый ворсистый ковер скрадывал шаги. Старикович плотно сидел за массивным столом в кресле, крупная голова его словно ввинчена была в плечи. Когда мы вошли, он поднял ничего не выражающие глаза, жестом разрешил нам приблизиться и первый начал игру.
— С чем пожаловали, господа?
Комаров объяснил суть нашего вторжения и стал смотреть на угли камина, посвечивающие сквозь решетку, давая этим понять директору, что ответ нам заранее известен.
— Я полностью согласен с действиями господина Меереона. — Старикович решил больше не прикидываться. — Пересматривать его распоряжения не намерен. Речь идет не о причинах прибавки, но о самой прибавке. Мы вынуждены держать рабочих, не дающих продукции. Повышать им плату — все равно что выбрасывать деньги в камин. На убытки мы не пойдем.
— Тогда неизбежна забастовка, — сказал я.
— Это печально, конечно. Что ж, придется увольнять.
— На забастовке вы потеряете в сотни раз больше, — вмешался Комаров. — Где же логика?
Старикович снисходительно усмехнулся:
— Именно в этом. Нам выгодней потерять на одном заводе, а на всех остальных сохранить. Если я пойду на уступки, придется уступать и другим. — Он подумал, пожевал губами, поднялся. — Мы можем передать всю сумму, выплачиваемую подсобникам, квалифицированным станочникам, дающим продукцию. Таким образом мы заинтересуем их.
— Штрейкбрехерская идея, — кивнул Комаров. — Но вы же понимаете, что рабочие на такую приманку не клюнут.
Старикович чуть развел короткими руками и вызвал секретаря. Спектакль был окончен.
Крепко пробирал морозец. Рабочие топтались, поглубже втягивали голову в воротники, хлопали руками. Над толпой подымался пар, как будто все закурили. На груду длинных побуревших заготовок, из которых прессуют снаряды, как на трибуну, взбирались ораторы. Комаров, без шапки, в распахнутом пальто, взбежал на заготовки, рабочие сдвинулись теснее. Голос Комарова, чуть надорванный волнением, слышался далеко. Лица людей мрачнели, на лбу у иных выстегивались морщины.
— Предложения дирекции для нас неприемлемы, — доказывал Комаров. — Необходимо сообщить заводоуправлению решение нашего собрания. Если и на этот раз господин директор не образумится, будем бастовать всем заводом.
— Вы с ума сошли! — На заготовки, размахивая рукавами не по объему сшитого пальто, влезал Бройдо, член Военно-промышленного комитета[3]. — Забастовка в то время, когда на наше отечество напал кровавый враг! — Бройдо чуть не рыдал. — Голод, аресты — вот чего вы добьетесь!
— Что же ты, подлюка, делаешь? — загремел из толпы огромный прессовщик. — За сколько продался?
— Выбираем забастовочный комитет! — закинув голову, выставляя кадык, крикнул Федор Ляксуткин.
Все заговорили, подталкивая друг друга, споря до хрипоты. Но вот возгласы объединились:
— Комаров, руководи переговорами! Заставь их понять! За Комарова, за Николая Палыча!
Услышал я и свою фамилию. Я по себе мог судить, чем мы рискуем. Вспомнилась бесконечная вереница полуголых, покрытых пупырышками озноба парней. Несколько суток посменно работала в городском присутствии комиссия по воинской повинности. С офицеров, врачей и чиновников катился пот, а призывники с тоской, с надеждой глядели на их отупевшие, распухшие в духоте лица. Спасения не было. И из присутствия, кто с плачем, кто с кривой усмешкой, кто помертвев, выходили солдатами. Правда, и на этот раз под пули гнали не всех: кое-кого оставили при заводах, но лишили права говорить, думать, протестовать. Меня общупали, обстукали, определили в кавалерию и тоже оставили. В ощущениях своих мне трудно было разобраться, но все-таки станок и винтовка — вещи разные: риск ареста и риск получить пулю либо осколок — несравнимы. При провале забастовки фронта не миновать. Но я знал, на что иду; я думал, что и там, в окопах, смогу быть полезным партии.
Вдевятером мы опять пошли к Стариковичу. Рабочие терпеливо ждали нас на площадке. Но какой ответ мы могли им принести?
Стачечный комитет собрался в Лесном, в доме номер девять по Второму Муринскому проспекту. Зашторили окна, выставили дозорных.
До этого я успел побывать у ответственного секретаря общегородской больничной кассы товарища Черномазова; он обещал помочь нам печатать листовки, рассказал последние новости. В официальных кругах города поднялся настоящий переполох, строятся всевозможные прогнозы, чем может закончиться такая забастовка, когда на фронте положение самое шаткое. «Но вы должны победить, — убежденно сказал Черномазов, — все заводы вас наверняка поддержат».
После июня прошлого года словно метла прошлась по цехам «Нового Айваза» и «Нового Лесснера». Федор Ляксуткин до сих пор не может понять, почему его не забрали, когда Никифор Голованов был схвачен. Ну что ж, постарше мы с ним стали, поосторожнее. Да и пережили, передумали столько, что иной бы на нашем месте давно запел аллилуйю. Но такое уж настало время, когда каждый день мог стоить многих лет…
Когда я вернулся и доложил Комарову о результатах встречи с Черномазовым, Николай Павлович долго молчал, а потом сказал негромко:
— Хоть и знаю его давно, а душа не лежит. Ни разу не видел, какого цвета у него глаза.
И сейчас, когда мы обсуждали план забастовки всех заводов, намечали единый срок, чтобы все поднялись дружно и впечатляюще, Николай Павлович говорил с неохотой, будто чувствовал, что рядом с ним чьи-то чужие уши ловят каждое слово, кто-то накрепко запоминает все, чтобы ловчее было потом ударить в спину.
Один за другим разошлись до утра. Я жил на квартире по тому же проспекту, только почти на другом его конце. Тяжелые сугробы громоздились по сторонам, и, казалось, никакая весна не сможет пробуравить их броневого панциря. В окнах домов клубилась слепая темнота, будто нарочно скрывали они свое нутро, чтобы не выдать сонного равнодушия, отчаяния, либо закипающего гнева. Когда я проходил мимо ночных домов, мне всегда хотелось громко постучать в ставню или калитку, спросить: «Кто вы, с кем по пути?» Но я знал: никто не ответит. Одни не проснутся, другие замрут от щенячьего ужаса, третьи пригрозят участком, четвертые будут осторожны. Война все разграничила, на ее страшном оселке обтачивались и проверялись души.
Снег в пустоте улицы так громко хрустел под ногами, что мнилось, будто шаг в шаг следует за мной неведомый и враждебный человек, который только и ждет случая, чтобы кинуть к губам полицейский свисток. Я оглядывался: фонарями заводские окраины на слишком-то были забалованы, длинные тени лежали поперек проспекта; но и на этот раз никто за мной не крался.
Страха я не испытывал. Просто внутренняя настороженность, давно уже не отпускающая, то ли от слов Комарова, то ли еще по какой-то пока не осмысленной причине обострилась.
Перед своим домом я опять внимательно осмотрелся, отпер ключом дверь, вошел в свою комнату, разделся в темноте, до подбородка натянул тощенькое одеяло. Света мне не хотелось, хотя старушка-хозяйка никаких особых условий не оговаривала. Надо было заснуть: завтрашний день мог быть очень трудным. Как-то Комаров говорил мне и Федору об особом инстинкте подпольщика, появляющемся с годами. Развивается какое-то чутье, предсказывающее опасность там, где ее по внешним признакам не каждому различить. Инстинкт этот не парализует воли, не разжижает разума; наоборот, помогает находить самое верное решение. Очевидно, и я расставался с юношеской бесшабашностью, поднимался на новую ступеньку житейской школы.
Перед проходной серым частоколом выстроились солдаты. Выцветшие шапки их одинаково выравнивались, только высверк штыка нарушал порой это тягостное однообразие. Губернатор в теплой папахе и тяжелой шинели на меху возвышался посередине свиты из армейских и жандармских офицеров, нервно хлопал по обшлагу снятой с другой руки перчаткой. Впереди их бледным пятном выделялось лицо Меерсона.
Мы стояли тесной кучкой у заготовок, на той же площадке между первым и вторым цехами, ожидая, когда подойдут товарищи из других мастерских. Вот уже с полчаса мастера убеждали их, что господин губернатор пошел на уступку и вывел солдат за ворота. Рабочие выходили без охоты, словно ничего от этого митинга не ожидая, разглядывали начальство, закуривали. Запахло табаком, машинным маслом, окалиной — спокойными и сильными запахами цеховой среды.
На заготовках метался представитель каких-то городских заведений, расплодившихся возле солдатских дорог. В котелке, сдвинутом на затылок, и в теплой шубе с воротником шалью, он словно составлен был из двух разных частей: нарумяненное лицо продажной женщины с приклеенными для маскировки усиками и солидное, откормленное тело дельца. Ноги его скользили, он с трудом удерживался на высоте.
— Изменники родины… предатели… Полевым судом! — Слова взлетали и лопались, обрызгивая всех ядовитой слюной. Меня даже затошнило, а Федор Ляксуткин стиснул зубы до скрипа.
Представитель исчез, никто даже не шелохнулся. И другие ораторы, обвинявшие нас во всех семи смертных грехах, витийствовали будто за прозрачной стеной, тщетно стараясь пробить ее пулями, минами и фугасами красноречия. Наконец и губернатор, видимо, понял это, сановито двинулся к заготовкам; услужливые руки свиты вознесли его наверх.
— Г-господа, — голосом, привыкшим повелевать, потряс он морозный воздух, но умело перешел на доверительный рокот. — Мы, конечно, понимаем выше смущение… Поэтому я хочу заверить вас: говорите смело и все, что думаете. Никто из вас за это не понесет наказания. Нам очень важно найти общий язык в интересах родины и фронта. Прошу!
Он приветливо взмахнул перчаткой и сошел, как плохой актер, кончив роль в дурной пьесе.
По заготовкам вбегал наверх Николай Павлович Комаров. Нет, я не думал, чтобы его увлекли обещания губернатора. Но забастовочному комитету теперь нельзя было молчать, чтобы трибуну не захватили Бройдо и ему подобные. Комаров понял это скорее многих и принял рискованный бой. Он повернулся к губернатору и жандармам, сказал с нескрываемой издевкою:
— Вам, господа, по-видимому, неизвестно, что за время забастовки нам ничего не платят? Что же, мы враги сами себе?
По площадке пронесся одобрительный гул. Комаров выпрямился, твердо уперся ногами в железо, тоже повелительным тоном бросил:
— Я как цеховой староста, избранный для переговоров с дирекцией, от имени всех рабочих заявляю: нас вынудили бастовать. Так почему же вы берете на себя смелость обвинять тысячи людей в измене родине? Если бы вы захотели, то истинного виновника обнаружили бы рядом с собой, и все решилось бы просто. Но мы не верим в чудеса, ибо факты говорят иное.
Губернатор закрыл глаза, дернул щекой, жандармские офицеры сделали стойку, готовые ринуться на Комарова по первому знаку. А Николай Павлович спокойно и сжато объяснял причины забастовки.
— Если что и делается здесь в интересах родины, то только нами, рабочими. Вот почему, господа, мы не найдем общего языка!
Стекла зазвенели от криков. Серые шинели за забором зашевелились, будто пришла в движение туча, перед которой освобождалось пространство.
— По цехам, товарищи, по цехам! — услышал я призывы старост и тоже окликнул своих фрезеровщиков.
Комаров шел чуть впереди, окруженный рабочими, как надежной охраной. Мне стало жарко и весело, словно освободились от тяжелого груза ноги. Слух отчетливо и тонко улавливал оттенки голосов, шорох шагов по ступенькам, дальние возгласы команды.
Поудобнее расположившись на ящике возле своего станка, Комаров достал записную книжицу, сунул в рот кончик карандаша. Неподалеку от меня примостился Федор, спрятав ладони в колени, озабоченно двигая разлетистыми бровями. Фигуры людей у станин, прежде такие подвижные и деятельные, теперь замерли, отделив себя от кнопок, рукоятей, приводов. И в этой тишине, сперва как предчувствие, наметилось движение шагов, затем все более различимо стал надвигаться глухой топот. Под антресолями серой струей потекли солдаты. Усатая багровая физиономия одного из них уже появилась над площадкой лестницы, черным пером обозначился штык.
Федор громко кашлянул. Возле него столбом замер служивый с обветренным лицом и красными пятнами на помороженных щеках. Комаров все писал что-то в своей книжице, не принимая во внимание солдата, уже приставленного к его станку. Я услышал за спиною сдержанное сопение: и около меня вырос солдат. У него была короткая верхняя губа, и оттого лицо его казалось удивленным. Но чистой воды синие глаза смотрели в пространство с такой земляной, крестьянской терпеливостью, что мне даже жалко стало его.
— Вот так няньку ко мне приспособили, — дурашливо крикнул кто-то. — Усы до плеч!
— Хоть бы песню спел, что ли, а то как аршин заглотил, — откликнулись от другого станка.
Теперь, разъединенные, солдаты не пугали уже своей поступью; и цеховые остроумцы оживились, по мастерским побежал хохоток. Мой солдатик засопел посерьезнее, начал коситься на меня.
А по ряду станков тараном шел мастер; станки взвизгивали, жужжали и снова глохли, едва он отдалялся. Я вгляделся: мастер сжал руку Комарова, поднял ее к отводке, ткнул ею — фрезерный удивленно лязгнул.
— Работай, аг-гитатор! — рявкнул мастер.
Комаров пожал плечами, потянулся к детали. Мастер, шумно отдуваясь, затопотал к Федору; Николай Павлович опять доставал из кармана книжицу.
Федор сам запустил станок и тут же остановил, я сделал то же. Мастер с богатой руганью прочесал весь ряд, погрозил кулаком и исчез.
— Слушай, Федя, — громко начал я. — И что только с нашим братом мужиком да рабочим делают! На фронте убивают, в тылу голодом морят!..
— На заводе, в деревне ищут изменников, — возмутился Федор. — А какие могут быть изменники?
— Их при дворце надо искать, — пошло по цеху. — Один Распутин чего стоит!
— Вот, делали для фронта мины, снаряды, а теперь нас заставили сидеть сложа руки. Кто же, ежели прикинуть, изменник!..
Из сборочной мастерской загремела команда, солдаты ринулись от нас вниз, тяжело бухая сапогами, словно от зачумленных.
— Итак, — спустя некоторое время сказал Комаров, — смена кончилась, можно и по домам.
Когда мы вышли, солдат уже не было. Снег был вытоптан между цехами там, где рабочие никогда и не хаживали. За забором толпились женщины и ребятишки. Страх, тревога, надежда — все отражалось на вытянувшихся лицах. На секунду почудилась мне в этой загомонившей толпе Груня, но то совсем другая девушка, приподнимаясь на цыпочки, выглядывала кого-то в проходной. Мы с Федором отошли в сторонку; он закурил, горсточкой прикрывая огонек.
— Хорошо, что у нас с тобой их нет, — кивнул он на прессовщика, к которому кинулись заморенная женщина и стайка сопленосых мальцов. — А может быть, мы просто трусы?
Я ничего не ответил, потому что согласиться не мог и оспорить бы не сумел.
— Домой не ходи, — возбужденно остановил меня Федор, рассыпая по снегу табак. — У тебя был обыск… Вещи твои принесут.
Он так и не свернул цигарку, потащил меня за рукав. В переулке было совсем темно. Оттепель разъела снега, под ногами хлюпало. То ли от сырого ветра, то ли от возбуждения меня знобило. Сегодня утром ворота завода оказались на запоре, по двору гуляли жандармы. А на стенах проходной и конторы, на тумбах жирно чернели буквы приказа об увольнении всех рабочих; обратно в цеха можно было поступить только подав заявление, будто заново. Мне сказали, что Комарова схватили прямо на улице, забастовочный комитет арестован, состоящих на военном учете будут отправлять в штрафные роты. Хуже того, на всех заводах, которые должны были нас поддержать в назначенный комитетом час, появились солдаты…
После вчерашнего заседания я ночевал у Федора, на рассвете мы замешкались, пряча за пазуху листовки; может быть, это и спасло нас. Но разве легче нам было?
— Какая гадина выдала! — ругался Федор. — Своими руками бы придушил.
«Неужто предчувствия Николая Павловича оправдались, — горевал я. — Узнать бы, куда делся этот Черномазов!»
О возвращении на завод нечего было и помышлять. Где-то надо было добывать фальшивые документы, укрыться, исчезнуть на время от глаз полиции. Если бы я пришел сейчас к Груне, рассказал обо всем, — поняла бы она, что я был прав? Бегство ли это было с завода Семенова, из семейства Морозовых? Бегство от того, что называют личной жизнью? Или предложение новолесснеровских большевиков возвратиться на завод, где я еще не был на мушке у администрации и мог развернуться, привлекло меня? По полочкам ничего не разложить. И на «Новом Лесснере», пока не втянулся, было не по себе. Алексеевы с Москвиным куда-то переехали; Воронов, как мне ответили, опять сидел в тюрьме; и если бы не дружище мой Федор Ляксуткин, если бы не работа, не заглушить бы саднящей боли. Но разве забудется тепло Груниной руки, ее ореховые глаза, близко и печально на меня глядящие, разве забудется хоть малая малость из того, что было!.. И все-таки я испытывал какое-то горькое удовлетворение оттого, что худшие опасения мои сбываются.
Федор осторожно подкрался к своему дому, я притаился за низеньким заборчиком, оглядывая проулок. Тропинка вилась между сугробов, высвеченная брезгом пасмурного утра, уныривала в растоптанные обочины проспекта. Через час мы с Ляксуткиным уйдем по ней. Уйдем тайком, без имени, без пристанища — и администрация объявит нас дезертирами.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Помогли мне мой двоюродный брат и Москвин. Встретил я Москвина случайно на улице, когда уже почти отчаялся найти жилье и работу. Ночевал у товарищей, по заданию Цека съездил в Самару с нашей литературой, скрываясь в товарных вагонах среди мешочников, беженцев и всяких темных личностей, куда железнодорожные жандармы не рисковали совать свой нос. Все обошлось для меня благополучно, однако надо же было как-нибудь устраиваться на работу. Фальшивые документы лежали в кармане, но для того чтобы стать на военный учет, они явно не годились. Нужно было доказать администрации свою непригодность к военной службе или указать, где состоял на учете. Федор Ляксуткин чудом задержался в каких-то мастерских; но меня, несмотря на все его старания, и туда не брали. Неужели уезжать в другой какой-то город, опять покупать себе фартук? Но где сейчас строят!..
Сунув руки в карманы, я блуждал по городу. Петроград вовсе не был похож на тот Петербург, по которому бродил я несколько лет назад, когда мечтал о заводе. Город потускнел, выцвел, загасил витрины, навесил на двери магазинов замки. Посерели и завяли физиономии буржуа и мелких торговцев; замкнулись рты, восхвалявшие некогда царя и русские штыки. У хлебных лавок длинными хвостами извивались очереди, поносили царский двор, войну, полицию. Освирепевшие жандармы кидались на женщин, шашками плашмя колотили их по чему попало; женщины визжали, царапались, хватали камни. Кариатиды и те, казалось, готовы были швырнуть в жандармов тяжелые карнизы и своды, которые держали на плечах десятки лет…
— Батюшки, кого я вижу! — услышал я знакомый голос.
Я только что миновал одну из таких очередей, бесцельно свернул в переулок, влажный от недавнего короткого дождя. Вода в узеньком канале была маслянисто-черной и даже не колебалась. В ней, как в зеркале, отразилась невысокая фигура человека в шляпе. Я обернулся: ко мне скорыми шажками приближался Москвин. Он пожелтел, рот его чуть завалился, при разговоре в горле что-то потрескивало.
— Как поживаете, Дмитрий? — печально спросил он, явно догадываясь, что́ я отвечу.
Я коротко рассказал, что вот вернулся из Самары — ни жилья, ни работы; кружу по городу, не зная, куда приткнуться. Он подхватил меня под руку, предложил заглянуть в трактир.
В низеньком полуподвальчике устоялся запах табаку и пива, но было почти пусто. Только за столиком в углу дремал неопрятный старик, отвалив мокрую нижнюю губу. Москвин заказал чаю, булок — целый пир.
— По приглашению товарищей уезжаю в город Бердянск, — доверительно говорил он, позвенькивая ложечкой. — А ты поселяйся-ка по моей прописке у Алексеева.
Я чуть не подскочил: уж не сказку ли он сочиняет!
— Да, у Леши Алексеева, — подтвердил Москвин. — У него отдельный домик в две комнаты с кухней. Немножко далековато от станции Озерки, но зато безопасно. Район этот принадлежит к уезду, там свои власти, своя полиция. Запиши-ка адрес: Озерки, Троицкая улица, дом четыре… Тетя Поля тебя часто вспоминает… Да, а фамилия у тебя для прописки будет не особенно благозвучная — Могильный. — Он засмеялся. — Так сегодня же вечером и приезжай.
Булка была необыкновенно вкусной, чай подкрепил меня, и я не раздумывал, кем стал теперь Москвин, найду ли я в Озерках какую-то службу. А Москвин тем временем подозвал полового, скучающего у стойки, заказал две рюмки водки. Старик за столиком зашевелился, мутными глазами поглядел на нас, стянул с шеи истрепанную тряпку, сказал безнадежно:
— Не купите ли, господа?
И опять оцепенело уставился в мокрую клеенку.
Тетя Поля заплакала, увидев меня:
— Исхудал, чистый шкилет…
Она захлопотала, готовя мне комнату, из которой только что, троекратно расцеловавшись со всеми, ушел с двумя чемоданами Москвин-Могильный. Теперь я стал Могильным, но от этого ничего не изменилось. И на маленькую комнату с кроватью, украшенной по углам спинки круглыми шишечками, и на запыленные листья за окошком, и на задрябшие руки тети Поли — на все смотрел я с надеждой и беспокойством.
Леша Алексеев втащил, растопырив локти, давно знакомый мне, с искривленным носиком и потемневшим обмундированием, самовар. Мы, как бывало, устроились за столом, но теперь не было на нем всякой стряпни, на которую тетя Поля была знатная мастерица.
— На Выборгской стороне искать места нечего, — рассуждал Леша. — Там тебя всякая собака знает. Попробуй на Петроградской: заводики там маленькие, тихие, а потому и полиция глядит на них сквозь пальцы.
«Вот он как заговорил!» — подивился я. Прежде был Лешка довольно умеренный в своих взглядах, от споров Воронова и Москвина уходил, отмалчивался.
— Знаешь, кто живет в Озерках? — хитренько спросил Леша, завертывая краник самовара. — Ляксуткин и Грачев!
— Что же ты молчал! — воскликнул я, схватил фуражку и вон из дверей. Леша едва успел прокричать вслед адреса.
И вот мы сидим с Василием Федоровичем Грачевым, с дядей Васей, вспоминаем, как приходил я в цех в замазанном раствором фартуке, как прогнал меня Грачев из-за стола, вспоминаем первую при мне забастовку, разговоры о сознательных рабочих. Дядя Вася подсох, волосы подернулись свинцовой пылью, но в глазах осталась прежняя живулька.
— У нас в Озерках весело, — накинув на плечи пиджак и провожая меня на улицу, говорил дядя Вася. — Многие большевики перебрались сюда, целая колония. Тебя они хорошо знают. Так что поработаем, Дмитрий Яковлевич, еще как поработаем!
Было уже довольно-таки поздно, за заборами лениво перебрехивались собаки, скучный ветерок трогал листву.
— С учетом-то как быть? — опомнился я.
— Сначала устройся, тогда и решим. Попробуй-ка на завод «Дека». Слышал, будто там нужны фрезеровщики.
Уходить не хотелось, но дяде Васе вставать на заре: работал он на заводе Пузырева, добираться неблизко.
Я зашагал вдоль заборов, оглянулся: то возгораясь, то притухая, тлел огонек папиросы — дядя Вася все стоял около дома.
Не теряя времени, на другое утро я поехал на Лопухинскую улицу. Это была настоящая глубинка. От Каменноостровского проспекта до Песочной — почти никаких жилых или административных зданий. Лишь четыре незначительных размерами заводика чадили на ней, отравляя воздух. Одним из них и был «Дека».
Принял меня заведующий производством господин Найденов, презрительно выпятив губу, стряхнув соринку с манжета, спросил, где я до этого работал.
— У Семенова, — смело соврал я.
— Идемте.
В маленьком цехе суетились у станков металлисты. Какой-то изысканных форм фрезерный станок, совсем новенький, сиротливо стоял в стороне, на станине его крупно выделялись буквы не то немецкого, не то английского происхождения. К этому-то станку и подвел меня Найденов.
— Вот ваша проба, — ткнул он пальцем. — Пу́стите станок, будете в цехе; не пу́стите, можете уходить.
Таких универсальных станков я нигде прежде не видел. Я обошел заморскую диковину кругом, попробовал запустить. Не вздрогнул, не потеплел литой металл, неподвижными зубьями щерилась на меня шестерня. В тонком организме красавца не было жизни.
Я отыскал мастера, попросил кинематическую схему. Мастер, моложавый, опрятный, рыжеватый человек, неожиданно для меня протянул руку, сказал мягко и доверительно:
— Анисимов… Знаете ли, цех не справляется с заказами, очень трудно. Так вы постарайтесь, а я вам помогу, если нужно…
«Ну что ж, голубчик, посмотрим, чем ты болен», — мысленно обратился я к станку, отвертывая крышку коробки передач. Рабочие сначала поглядывали на меня, а потом, видимо, решили, что пропал парень, и больше не оборачивались. Я перепачкался смазкой, сбил себе пальцы, но помалкивал. Станок был неправильно собран! Провозившись часа четыре, я тыльной стороной ладони вытер, наконец, вспотевший лоб. Спина гудела, ноги дрожали, но я торжествовал. И вот с мелодичным ропотом ожил, ожил мой фрезерный, закружилась фреза, превращаясь в матовый круг. Анисимов спешил ко мне, оживленно потирая руки.
— Идите в контору, оформляйтесь, — разрешил он.
Ему-то говорить было просто. А меня могла спасти только справка о том, что я непригоден к военной службе. Как пройти медицинскую комиссию, что предпринять? Остается одно: ехать к своему двоюродному брату Георгию Курдачеву на «Новый Лесснер».
Накануне забастовки он появился в моей комнате по Второму Муринскому проспекту в солдатской шинели, пропахшей хлороформом. Глаза его ввалились, нехорошо блестели, белесая щетина плесенью заволакивала впалые щеки. Я не видел его с тех пор, как ушел из дому. Тогда он был совсем мальчишкой, чуть постарше меня. Мы с ним вместе бегали, вместе помогали семье по хозяйству, но особой дружбы между нами не выходило. Я бы не узнал Егорку в этом измученном госпиталями и болью солдате, если б он не назвался сам:
— Здравствуй, Митя, а я — Егор…
— Как же ты меня отыскал? — удивлялся я, угощая его.
— Язык до Киева доведет, — уклончиво ответил он.
Ел он медлительно, часто останавливаясь, будто прислушиваясь к чему-то. А мне вспоминались наши заливные луга, тонкая строчка речки Шуицы, только приторно-сладкий дух хлороформа мешал почуять запахи трав, леса, омутов. Георгий ничего не припоминал, ничего о себе не рассказывал. Лишь когда встали из-за стола, попросил, еле ворочая языком:
— Помоги устроиться на работу…
Георгия приняли в снарядный цех, он снял себе комнатку, жил отшельником. Я надеялся, что контузия когда-нибудь у него пройдет и он будет для нас неоценимым помощником. Но события сложились так, что нам пришлось распрощаться.
Пойдет ли он на риск, да и я имею ли право подвергать его этому риску?
Когда я отправился к Грачеву за советом, голова шла кругом. Василий Федорович покашлял, для чего-то задернул на окошке занавеску.
— Мне кажется, человеку, который каждый день видал смерть, довериться можно. — Он хлопнул ладонью по столешнице. — Поезжай не медля.
Но не понадобилось ехать. Георгий сидел за самоваром, тетя Поля потчевала его чаем: они ждали меня.
— Узнал, что ты здесь, — хмуро сказал Георгий, поднимаясь и опершись рукою о спинку стула. — Приняли?..
Я кивнул, не понимая, как почувствовал он, что необходим. Или в окопах рождается это сверхъестественное чутье момента, когда надо ринуться на помощь, или простое совпадение произошло — я поверил в удачу. Но едва я рассказал ему о своем замысле, он совсем помрачнел, помотал головой:
— Врачей боюсь.
По одежде Георгий мало чем отличался от других рабочих. Но в глазах была все та же тоскливая настороженность, все так же прислушивался он к звукам, что возникали, нарастали и лопались в его оглушенном мозгу. И, словно отгоняя эти звуки, провел он ладонью по воздуху и повторил:
— Боюсь врачей.
Я мысленно выругал себя за жестокость, и все-таки обидно было терять какой-то проблеск надежды. Оставалось только замять неприятный разговор, а потом придумывать что-нибудь иное.
— Но там еще страшнее, — вдруг захрипшим голосом произнес Георгий, сцепил пальцы, подпер ими подбородок. — Скажи, когда…
Тетя Поля, которая оставляла нас вдвоем, прокричала из-за дверей: не сбегать ли за бутылочкой?
В одно воскресное утро я долго провалялся в постели, позволив себе эту редкостную роскошь только потому, что все, как мне представлялось, устроилось. Солнце косо пробивалось в комнату, дрожало на стене, и по желтому квадрату его пробегали струйки, какие бывают в знойный день над нагретым полем. Часы мирно стучали, и зайчик от маятника шмыгал влево-вправо, влево-вправо, будто привязанный к нему невидимой ниткой. Не было ни войны, ни полицейских, — только солнце да еще сильное молодое тело, вдруг потребовавшее движения.
— Вставайте, лежебоки, — позвала тетя Поля, — я молочком разжилась.
Я мигом вскочил, потянулся до хруста, побежал умываться. Оказывается, и Лешка сегодня заспался. Мы встретились у рукомойника, подшучивая друг над дружкой, вместе пошли к столу. Тетя Поля разливала чай, сдабривала его молоком. Леша распахнул окно. Оглушительно митинговали воробьи, издалека пожаловался на что-то паровозный гудок, где-то звякнуло ведро. До чего же я в самом деле истосковался по этаким мирным звукам!
Подув в стакан, я поднес его к губам и чуть не поперхнулся. Как грозный портрет в раме, стоял за окошком помощник пристава. Короткие светлые усики его раздвинулись в улыбочке, глаза весело уставились в меня.
— Приятного аппетита, — сказал полицейский, снимая свою форменную фуражку.
А этот Лешка, которому так до сих пор я доверял, показывает ему рукой на дверь и бежит открывать! Одним прыжком я очутился у окошка. Но тут же остановился: ведь бегством только докажешь правоту полицейского, если он в чем-то тебя подозревает. Помощник пристава уже входил в комнату.
— Доброе утро, — проговорил он чуть нараспев. — Не думал, что вам помешаю.
— Да вы пожалуйте к столу, чайку с нами попейте, — пригласила тетя Поля.
— Не откажусь. — Полицейский бережно положил фуражку кверху донышком на свободный стул, поскрипел ремнями, сел, принял от тети Поли стакан. — Даже с молоком? Редкость в наше время.
Я слушал, как они рассуждали с Алексеевым о погоде, о том, что в это воскресенье пока очень тихо, и чай застревал в моем горле. Полицейский мягко стлал, чтобы мне жестко было спать.
— Теперь, с вашего разрешения, сменим тему нашего разговора, — отодвигая пустой стакан, сказал он. — По долгу службы я должен знать точно, кто вы.
Тут помощник пристава перевел глаза со стола на меня, а я подумал: сужает круги, как опытный хищник. И чему смеется этот Алексеев!
— Разве вам не известно, кто проживает в этих домах? — вопросом ответил я, стараясь быть как можно спокойнее.
— В этом доме прописан Могильный, но мне необходимо в точности знать, кто здесь поселился. Я, например, знаю, что в моем районе живут Ляксуткин, Моисеев, Грачев, Портных, знаю, кто они, и потому за них спокоен.
Провокация или в самом деле кто-то всех выдал? Я похолодел, во рту стало мерзко, на ум приходили всякие нелепости, но что-нибудь да надо было сказать.
— Я Могильный и есть.
— Ну-с, хорошо, не буду вам больше мешать. — Полицейский надел фуражку, привычно подправил ее ладонью. — А с вами мы еще познакомимся поближе, — кивнул он мне, поблагодарил тетю Полю за чай и быстрым шагом вышел.
Алексеев хохотал. Я смерил его с головы до ног недвусмысленным взглядом, побежал к дверям. Надо было скорее предупредить товарищей!.. Полицейского на улице не было. Хватая ртом воздух, я стремглав пустился по ней, потом заставил себя идти. Не помню, как добрался до дома, в котором жил Федор Ляксуткин. Федор колол дрова. Заметив мое разгоряченное лицо, прислонил топор к чурбачку, выпрямился, на лоб полезли морщинки.
— Полиции известны все наши, — тихонько сказал я, хотя в пору было кричать.
— Откуда ты знаешь? — Глаза у Федора стали круглыми и злыми.
— У Алексеева был помощник пристава, сам говорил!
— Уфф, — выдохнул Федор. — Здорово же он тебя нашарохал. Это парень свой. В случае опасности обязательно предупредит. Только об этом, сам понимаешь… а то можем провалить.
От щепок пахло спиртом и смолой. На солнце поленья золотились, словно бронза. Я подхватил топор и смаху развалил узловатый, прошитый сучками пень.
Вскоре помощник пристава опять наведался к Леше Алексееву. Дело было под вечер, мы сумерничали и разговаривали с новым моим знакомцем начистоту. Я немало порассказал о своих скитаниях по городам и заводам, сам порою удивляясь, сколько пришлось исходить и исколесить. Лицо моего собеседника в сумерках было плохо различимо, но по молчанию его я понял: он о чем-то задумался.
— Нда-а, — протянул он. — Каждый из нас по-своему приходит к тому же. У меня все было куда проще. Откровенность на откровенность, но постараюсь покороче. — Он пошевелился на стуле, очевидно собираясь с мыслями. — Так вот. В двенадцатом году отслужил я действительную и был уволен в запас. Не успел отвыкнуть от шагистики, от вывертывания носков, от дикого правила есть начальство глазами и прочих армейских премудростей, как началась война. Меня сразу — на фронт. Под Перемышлем ранило, и пришлось пролеживать койки по разным госпиталям. Наконец, увезли меня в Петроград… И, к счастью, соседом моим в палате оказался питерский рабочий…
Он примолк, наверное колеблясь — сказать или нет фамилию рабочего; не сказал, и это мне понравилось.
— Приходили к нему друзья, обсуждали городские новости. От скуки я прислушивался к ним, понемножку втянулся, прорезались всякие вопросы. Сосед охотно и толково на них отвечал. Больше всего боялся я опять очутиться на фронте: думал, что на этот раз меня добьют.
«Хочешь, — говорит мне однажды сосед, — я тебя так окопаю, что никакая вошь не отыщет? Но сперва докажи, что ты верой и правдой станешь бороться вместе с рабочими против войны и тех, кто ее затеял». — «Что я должен делать?» — Я поверил ему. «Успокойся, делать ничего не надо. Дай честное слово. Я знаю, как ты переносишь боль и чем бредишь». Он посоветовал мне идти в полицию: «Подавай заявление, пока в госпитале. Постарайся понравиться, смелей пробирайся в начальники. Парень ты грамотный, военный к тому же…» Вот, собственно, и все.
Вошел Леша, зажег свет. Лицо собеседника моего было спокойным, даже несколько равнодушным, словно рассказывал он только что незначительный случай о жизни человека, ему безразличного.
— Мы за ним, как за каменной стеной, — сказал Леша.
— Зачем же надо было меня разыгрывать, — все еще обижался я, стыдясь своей паники. — Подожди, не окажешься ли в моем положении…
И все-таки жить под умной и надежной охраной стало как-то спокойнее.
В цехе судьба моя складывалась тоже как нельзя лучше. Называли меня здесь Георгием Алексеевичем — по документам брата, и я довольно скоро привык к своему новому имени. Анисимов предложил мне должность установщика. Настраивать станок, как музыкальный инструмент, пробовать на нем новые детали, приспособления — увлекательная обязанность, что и говорить! Но то ли за время вынужденного безделья истосковался я по работе или на крупных заводах привык к большому ритму, только жизнь цеха меня не удовлетворяла. Расценки здесь были нищенские, заработок умещался в пригоршне, знатоки своего дела у станков не задерживались. Потому в цех напринимали женщин и девушек, которым куда как непросто было где-нибудь устроиться. Я замечал, как маются они над деталями, иногда подходил к ним. Иные уже поглядывали на меня из-под косынок зовущими глазами, норовили обжечь то бедром, то грудью.
Товарищ Лаупман, старый рабочий, большевик, заходивший иногда ко мне по делам, посмеиваясь в усы, предупреждал:
— Берегись, защекотят тебя, все позабудешь.
Но по-прежнему тосковал я ночами по Груне, видел ее около себя, все не пригасала надежда, что настанет такое время, когда скажу я ей те самые слова, которые говорят однажды в жизни. А день захватывал своей суетней, неразберихой, спешкой мелких дел.
— Да вот гляди сам, разве ж это по-хозяйски? Даже дома в одном горшке кашу и редьку не готовим, — застуженным голосом убеждала меня солдатская вдова Зинаида, указывая иссеченной царапинами рукой на станок. — Всякий час иную деталь ставят!
Крупная, костистая, прямая в сужденьях, она давно верховодила цеховыми женщинами, будто старшая сестра, а то и мать.
— Вижу, парень ты башковитый и понаторелый, так давай придумывай что-нибудь, чтобы зря мы пуп не надрывали, — подталкивала она меня.
Ни колеса, ни пороха мне не надо было изобретать. Просто-напросто пошел я к мастеру Анисимову в конторку. Анисимов трудился за столом над какими-то бумагами. В раскрытую фортку тянуло осенними запахами прелой листвы, схваченной первыми заморозками. Я старался быть обстоятельным, перечислил те меры, которые, по-моему, могли бы вызволить цех из тупика. Надо перейти на пооперационную обработку, с упорами, раскрепить детали по станкам, как это делается на заводе Семенова. Сколько сэкономим установочного времени!.. Снизим брак, поднимем производительность, заработки!
Анисимов заинтересованно слушал, отодвинув бумаги.
— Если вы не против, — говорил я, — то немедленно примусь готовить простейшие пооперационные приспособления.
— Не возражаю. — Анисимов поднялся, рассматривая меня, будто какой-нибудь Замысловатый чертеж. — Только скажите, зачем вас, именно вас, все это волнует?
— Я же рабочий, — ответил я. — Был у меня учитель, который говорил, что без рабочей гордости мы превратимся в придатки всякой машины…
— Гм, вам повезло. — Лицо Анисимова вдруг стало очень старым, плечи опустились. — Но время ли сейчас?.. — Он нервно закурил. — Впрочем, действуйте.
Лаупман, когда я спросил его об Анисимове, определил, вероятно, довольно точно: человек хороший, не вредоносный, но среди болота безвольно опустит руки. Не знаю чем, но Анисимов был теперь задет за живое и все время подходил к моему станку на совет без начальников и подчиненных.
Месяца полтора прошло в каком-то угаре. И вот работницы окружили нас с Анисимовым — и давай целовать. Мы еле спаслись бегством. Мастер был очень доволен. Еще бы!.. Все наши предположения начинали сбываться, приобретать определенный вес. Но напрасно я надеялся, что и дальше все пойдет столь же гладко. В цехе появился Найденов, подскочил к моему станку:
— Эт-то чем вы занимаетесь?
— Делаю приспособления.
— Кто вам разрешил?!
— Необходимость.
По его брыластому лицу пробежала судорога.
— Самоуправства не допущу! — завизжал он, брызгая слюной. — Ты не забывай, что принят из милости! Можешь издохнуть под забором, как пес!..
— Послушайте, — уговаривал его Анисимов, прибежавший на крики. — Никакого самоуправства не было. Я разрешил… Это же в самом деле необходимо…
— Слушать не хочу! — Найденов даже зажал уши. — Вон, вон Курдачева из цеха! — И застучал каблуками по настилу.
Анисимов бросился за ним. Я почувствовал равнодушную усталость, словно поднял в гору тяжелый воз, а в нем оказались никому не нужные камни. Женщины обернулись от своих станков к дверям, я посмотрел туда: перед Найденовым и Анисимовым стоял сам директор завода Унковский, в шинели и фуражке, с узкими погонами на плечах — инженер-капитан второго ранга.
Анисимов, прижав ладонь к груди, в чем-то его убеждал. Унковский направился прямо ко мне, глянул на меня выпуклыми глазами и кивнул через плечо Анисимову. Тот раскрыл шкаф, на полочках которого я раскладывал приспособления, начал объяснять, для чего какое из них предназначено.
— Я не против приспособлений, — сказал Найденов, не заметив в лице начальства никакого раздражения. — Но этот Курдачев делает их без чертежей и расчетов, без утверждения документов, дающих цеху право на дополнительные расходы. — Он напыжился, словно ожидая награды.
Женщины стояли за станками, но даже по их спинам я видел, до чего же им хотелось услышать, что решит сейчас высокое начальство. Я исподлобья смотрел на Унковского, еще не зная, бросить ли все к черту или настаивать на своем.
— Затраты невелики, — сказал Унковский Найденову, — а выгода значительная. Пусть делает.
Найденов сморщился так, будто проглотил какую-то гадость, и мелкими шажками засеменил за директором.
Я ничуть не торжествовал:
— Найденов все равно меня съест.
— Дудки, Георгий Алексеевич! — Анисимов засмеялся, потер руки и вдруг перешел на «ты». — Теперь без разрешения Унковского тебя уволить нельзя. А ты понял, почему раскипятился Найденов? Ты же его, так сказать, ограбил. Не понимаешь? Если бы ты посоветовался с ним, он бы одобрил твою мысль, обещал над нею подумать, а потом принес бы чертежик и получил бы за твою идею денежки. Вот тогда тебе беспрепятственно разрешили бы делать что угодно, а Найденов стал бы твоим покровителем.
— Черт с ним, — тряхнул я головой. — Но страху-то я натерпелся.
Теперь Унковский частенько к нам наведывался. А цех богател: завалы деталей были расчищены, работу стали приносить из других цехов, женщины получали за неполную смену больше, чем квалифицированные металлисты. Однако как следует развернуться мы не могли. Какие-то идиоты давным-давно установили потолок наивысшего дневного заработка. Что же оставалось станочницам? Как только подсчитают, что дальше потеть у станка бессмысленно, то идут до конца смены гулять. Однажды директор увидел пустые станки, вздернул брови, грозой двинулся на Анисимова:
— Где люди, почему не работают? Это вы их распустили? Немедленно собрать!
За женщинами побежали их товарки, а Унковский потребовал у мастера объяснений.
— Спросите самих женщин, — бесстрашно ответил Анисимов.
Работницы шумно толпились перед директором, уставляя руки в бока, размахивая косынками и полушалками. Голос Анисимова тонул в криках.
— Тихо! — вдруг рявкнул Унковский, налившись свекольной кровью, и женщины от неожиданности примолкли. — Буду считать ваши отлучки прогулами и увольнять.
Выступила Зинаида грудью на директора:
— За что же это, господин директор? Смотрите, бабы, они желают, чтоб мы гнули спины задарма!
— Хрен на постном масле! Не выйдет!
Женщины завопили так, что у меня заныло в ушах. Я стоял в сторонке, ожидая момента, когда нужно будет вмешаться.
Унковский помотал головой, словно от зубной боли; очевидно было, что с женщинами разговаривать он не умел. Анисимов чуть не в самое ухо пояснял ему суть бабьего бунта.
— Нужно снизить расценки, — придумал директор.
Еще бы минута, и от него остались бы клочья; но Анисимов загородил директора, и женщины отступили.
— Выберите трех человек, с которыми можно говорить, — поднял руки Унковский и чуть ли не бегом затрусил к выходу.
Женщины пребольно вытолкали следом за ним Анисимова, Зинаиду и меня.
— Черт знает что такое, — поругивался Анисимов. — Слабый пол… Мегеры какие-то!
— Настрадались бы вы с наше, — вздохнула Зинаида, — всякое бы терпение лопнуло — хоть на штыки.
— Может быть, и придется, — неосторожно заметил я, подтвердив какую-то догадку Анисимова.
Мастер поймал меня за рукав:
— Понял, понял, Георгий Алексеевич, кто ты такой!.. Но не уразумею, — он понизил голос, — ведь ваши же против войны, а сами…
— Нет противоречия. Подумайте… Мы — за войну, но совсем другую.
Унковский успел уже остыть и выслушал нас со вниманием делового человека. Анисимов и Зинаида говорить доверили мне.
— Мы не возражаем против снижения расценок наполовину, — немного волнуясь, приступил я, — но при условии, если администрация отменит лимит заработка и впредь расценки пересматривать не будет.
Директор быстро забегал пером по бумаге, что-то прикидывая, и внушительно поднялся:
— Я согласен, господа. Взаимная выгода очевидна. Завтра выйдет приказ по заводу. Можете быть свободны.
…Кассир, мусоля пальцы, прикасаясь ими то к напомаженным волосам, то к стопкам монет и кредиток, выдавал зарплату. Женщины шевелили губами над расчетными книжками, радостно смеялись.
— Вашей книжки нет, — сердито произнес кассир, глянув поверх очков.
Мне показалось, что меня захлестнули арканом. Перед глазами зарябили булыжники мостовых, возник за пустым трактирным столиком старик, протягивающий заношенную тряпку. Я бросился к Анисимову.
— Не паникуй раньше времени. Схожу в контору, узнаю. — Но он и сам встревожился.
Пока он не вернулся, я не мог ни за что взяться. Взвешивал свои поступки, которые могли бы меня выдать, и находил, что их вполне достаточно. Вспомнил рабочих, с которыми говорил довольно откровенно, и убеждался, что не на всех можно было положиться. Или это Найденов выбрал момент, чтобы побольнее меня пристукнуть?
Анисимов ничем не мог меня успокоить. Он сказал, что расчетную книжку потребовал сам директор.
Ни Лешу, ни тетю Полю я решил покамест не волновать. На всякий случай перебрал все свои вещи, кое-какие бумажки изорвал и сжег, хотя они не могли особенно повредить; и неожиданно поймал себя на том, что думаю о завтрашнем дне без горечи, уже ко всему готовый.
И все-таки то, что произошло назавтра, я не мог представить, обладай самой свихнутой фантазией. В цехе опять появился кассир, поманил меня пальцем, помусолил его и ребром ладони пододвинул ко мне расчетную книжку и груду денег.
— Что-то многовато, — неуверенно выговорил я. — Какая-то ошибка.
— Была-с, молодой человек, — строго сказал кассир. — Теперь она исправлена. Получайте-с.
Я раскрыл книжку: старая расценка моего рабочего дня зачеркнута, проставлена другая: двадцать шесть рублей. Да ведь такой зарплаты не имел никто из рабочих завода!
«Что бы это могло означать?» — вконец растерялся я и пошел к Анисимову.
Мастер повертел книжку, облегченно вздохнул:
— Ну вот видишь, а ты боялся Найденова. Он тебе мог только соли на хвост насыпать…
Но что бы это могло означать? Почему директор завода «Дека» пошел нам навстречу и даже проявил редкую среди промышленников справедливость? Разумеется, человек он не глупый. Может быть, и он начинает понемножечку прозревать? Нет, скорее всего испугался бабьего бунта и как дальновидный политик стремится быть справедливым в мелочах, чтобы сорвать куш покрупнее.
Скоро Новый год. Свирепеют морозы, белым паром затягивая полосу леса, кусты у домов, а воздух словно бы раскален, в нем густой запах грозы, в нем ожидание взрыва. Пусть на нашем маленьком заводе это чувствуется меньше. Но далеко ли «Новый Лесснер», «Новый Айваз», десятки других заводов, в которых — я знал это — подспудно копятся взрывчатые силы.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
И свершилось. Мозг работал как-то странно: то разом воспринимал застывшие дома с побелевшими окнами, гигантский поток людей, медленно заливающий кварталы, то резко отмечал отдельные лица, фигуры, даже тусклый блеск пуговицы.
Я заметил, как Лаупман смахивает с усов бахромку инея, но сам не чувствовал утреннего февральского морозца, как не ощущали его, по-видимому, и другие большевики, шедшие во главе колонны завода «Дека». Многие распахнули пальто и полушубки, иные были в фуражках, сбитых к затылку.
За спиной послышался хрипловатый голос Зинаиды, грянул смех, немножко преувеличенный, возбужденный необычностью событий. Едва ли кто-нибудь не сознавал, что это не демонстрация своих сил, а прямое их применение и что впереди уже наверняка солдаты загоняют в магазины винтовок смертоносные обоймы.
По Литейному проспекту к Невскому мы прошли беспрепятственно, смешались с рабочими Выборгской стороны, двинулись на Знаменскую площадь. Там колебалось море голов: тесно соединились демонстранты Невской заставы, Большой Охты и других заводов Питера. Сжалась и потемнела Знаменская церковь, будто стараясь вырваться вверх из живых тисков, испуганно отступила Северная гостиница, а памятник императору Александру Третьему раскачивался, словно лишенный опоры. На его пьедестале появился первый оратор; и площадь затихла, с готовностью воспринимая призывы к борьбе против войны и голода, против насквозь гниющего самодержавия.
Но вдруг загудели встревоженные голоса, я вытянул шею. Со стороны Садовой улицы, неспешной цепью пересекая широкий Невский проспект, продвигалась казачья сотня. Жилистые кони сдержанно постукивали копытами, казаки сидели с ленивой небрежностью, будто перед ними была пустая площадь, и в усатых лицах не было даже скрытого напряжения, которое появляется перед атакой.
— Товарищи, расступитесь! — закричал Лаупман.
— Расступитесь, дайте им проехать! — подхватили другие. — Раздайтесь!..
Площадь пришла в движение, образовывая живой коридор, и казаки, перестраиваясь на ходу, втянулись в него. Остро запахло конским потом, дегтем. Сотня достигла Старо-Невского проспекта, повернула и от церкви, перекрывая Лиговскую улицу, охватила митинг подковой.
Опять выступали ораторы; сотня не двигалась, лишь кони мотали головами, словно понимая, что́ говорится с трибуны. Нападение было с другой стороны. Из ворот Николаевского вокзала с руганью, с поднятыми шашками в ножнах выбежали человек тридцать городовых. Впереди, грозно дергая усами, выкатив пуговицы глаз, топотал пристав. Они врезались в толпу, хлеща направо и налево шашками, пробиваясь к памятнику. Раздался многоголосый рев, все смешалось. Один городовой, другой, третий вырвались из цепких рук и, как тараканы, кинулись прочь, к Товарному двору. В этот момент несколько казаков сорвались с места, наметом бросили коней в погоню. В их руках зазмеились нагайки, опоясали тугие спины городовых. Под свист и улюлюканье выпал из толпы растрепанный, с торчащими дыбом волосами пристав, вскочил и вприпрыжку побежал за своими. Выстрела не было слышно, но пристав всплеснул короткими руками, опрокинулся навзничь и исчез под ногами толпы.
— Провокация! Найти, кто стрелял! — взывали с трибуны.
Но где там? К казакам хлынул народ, их стаскивали с коней, обнимали, ликующе вскидывали обратно. Зинаида оказалась там, целовала лошадь в нервную морду, плакала.
— Митинг продолжим у городской думы! К думе, товарищи!
Все пришло в стройное движение.
— Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног, — выговорил Лаупман.
Песня распалась на отдельные голоса, заметалась по площади, объединилась, занялась, окрепла, высоко полилась по Невскому к Садовой. Опять, как четыре года назад, когда я впервые оказался свидетелем рабочей демонстрации, напрягла песня в душе какие-то чувствительные струны. Но в то время я наблюдал со стороны, а теперь шел чуть ли не в голове потока. И потому, когда на перекрестке Садовой и Невского послышалась команда, блеснули штыки, мне некуда было отступать. Да я и не думал в тот момент об этом. Песня ли породила наше бесстрашие или дыханье сотен людей за спиною, но мы, не замешкавшись, шагнули на вздутый Аничков мост, на котором черные обнаженные юноши укрощали чугунных диких коней.
Первая шеренга серых солдат опустилась на одно колено, вторая замерла за нею; обе вскинули стволы. Офицер открыл рот, взмахнул рукой. Из винтовок вырвались белые клубочки, сухо треснуло, потом еще, еще…
— Не бойтесь, товарищи! Они стреляют холостыми! — с надеждой закричал кто-то.
Рядом со мной охнули, прикрываясь руками, повалились люди; я опомнился, увидел кровь на усах молодого рабочего, который только что пел вместе со мной. Колонна заметалась, бросилась к домам, за углы, в подъезды. Меня чуть не сшибли с ног; я побежал к тротуару, где собрались уже несколько наших с «Дека».
— Надо узнать, что за солдаты, — предложил я, отдышавшись.
— Идемте к ним, — сказала Лаупман. — Только осторожнее.
Уже опускались сумерки, белесые, влажные, скрадывая очертания домов и людей; и мы не смогли разглядеть знаки различия на солдатских погонах. Солдаты теперь отупело сбились в кучу, словно ища в этом спасения. Понимал ли кто-нибудь из них происходящее?
Еле сдерживая ярость, я вслед за Лаупманом подобрался вдоль стены поближе, крикнул, какой они части?
— Учебная команда Павловского полка, — ответил ломкий от молодости и потерянный голос.
— Молчать, — оборвал его офицер.
Чуть не бегом заторопились мы к казармам Павловского полка. На улицах сумрачно посвечивали фонари, словно напружиненная тишина Питера подавляла их. Лица моих товарищей побледнели, вытянулись; меня немножко поташнивало, во рту была противная сухость, хотелось воды.
У казарм заученной в уставе командой остановил нас часовой. Мы назвались; он отступил, охотно пропуская нас. Неярко, будто отраженным огнем, светились окошки казарм; вытоптанный снег под нами казался коричневым. Не прошло и минуты как павловцы окружили нас. Были они в полной форме, с винтовками и патронташами, словно только ждали команды.
— Всыплем этим молокососам, — выслушав нас, произнес степенный солдат, шинель на котором выглядела в полутьме крестьянским армяком. Поправил ремень винтовки, пообещал:
— Приходите утресь, двинемся с вами.
Гурьбой проводили нас, рассказывая, что у них много раз бывали агитаторы, есть и свои люди с верным понятием…
Леша домой не приходил. Встревоженная тетя Поля накормила меня, повздыхала, но ни о чем не спросила, заметив, что глаза мои слипаются. А ранним утром я был уже на ногах.
Завод не работал, все были возбуждены надвигающимися событиями. Ночью, как мне сказали, заседал Центральный Комитет, обсуждал план вооруженного восстания. Получив об этом достоверные известия, мы решили, что́ кому из нас предстоит делать. Я должен был поднять дековцев, привести к казармам Павловского полка и с солдатами двигаться к Литейному мосту.
Дековцы собрались быстро; почти не было разговоров, какие обычно возникают в людском скопище; даже наши женщины молчали.
Стараясь быть кратким, я рассказал о вчерашнем расстреле. Многие видели кровь сами, и такой гнев был в их криках, что от вынужденного спокойствия моего и следа не осталось.
— Товарищи! — уже кричал я. — Все заводы поднимаются. Давайте напрямик: если мы согласны с рабочими других заводов, с нашей большевистской партией, то немедленно идем к павловцам и вместе с ними — в бой!
— Оружия у нас мало, — добавил я, переждав, пока уляжется возбуждение. — Добывайте сами!..
Неужели мы запоздали? Куда они ушли? Нет часового, на казармах тяжелые в заклепках замки, по снегу раскиданы бумажки и даже недокуренные цигарки.
Согнутая коромыслом старушка не успела укрыться в оцепеневшие окрестные дома, бойкая молодуха и парень полусолдатского вида оказались на улице, когда мы отхлынули от казарм. Старушка крестилась, бормоча, что на землю идет антихрист; молодуха, подбоченясь, ответила: «За всеми ими не углядишь»; но парень кое-что знал и сказал, будто павловцев ночью офицеры вывели, из казарм и куда-то погнали.
Я решил не терять больше времени и повел дековцев к Литейному. Подобно маленькому притоку впали мы в мощное русло выборжцев, растворились в нем. Весь рабочий Питер вспенился и хлынул на казармы, на полицейские участки, на засиженные царскими орлами здания. У многих уже за плечами, под мышкой, в руке были винтовки; кое-кто нацепил к поясу бомбы и кобуры.
Все последующее — отдельные куски, выхваченные моим сознанием из сотен уличных столкновений, сражений, штурмов, которые каждый видел и переживал по-своему.
Дом на Выборгской стороне. На чердаке закрепились полицейские. Из слухового полукруглого окошка, из каких-то отдушин с коротким стоном лопнувшей струны вырываются пули. Я стреляю из-за угла, за шиворот сыплется штукатурка, под ногой взвихривается снежный фонтанчик. Для чего-то наклонив голову, прыжком бросаюсь через голое пространство. Рядом со мною несколько товарищей. Массивная дверь сухо крякает под прикладом, с лязгом срывается. В прихожей перевернутая мебель, до озноба скрежещут осколки стекла. Лестница, когда-то навощенная, заляпана багровыми пятнами. На площадке скорчился полицейский, совсем молоденький. На белом лице огромные глаза и строчка усов. Его тошнит последней, смертной тошнотою.
Мельком замечаю покинутые соты человеческого жилья, скособоченный портрет женщины с длинной шеей, бегу наверх. Чердачная дверь уже содрогается от ударов. Сладковатый запах пережженного пороха и гари ударяет в нос. Падает поперек входа наш товарищ, которого впервые увидел я лишь сегодня. Пальцы его гладят косяк.
Правое ухо заложило тягучим звоном. Кричу: «Кончайте!» — и не слышу своего голоса. Выстрелом укладываю пулеметчика, остальные поднимают руки.
Пожилой рабочий неумело бинтует голову небритому, с синеватым лицом солдату. Солдат крепится изо всех сил, но в горле клокочет и на глазах проступает влага.
— Какого полка? — спрашиваю его.
— Преображенец…
Сердобольная улица. Коротколапым чудовищем лежит на боку вагон. Мы окружаем стойбище трамвайного парка: там самокатчики; они молчат. Чувствую, что чья-то злая мушка шарит по моей груди. Но нет залпа. Самокатчики выходят, бросают винтовки в снег и растворяются в сумерках. Некоторые остаются с нами…
Уже совсем темно. И тишина, такая тишина, что хочется говорить шепотом. Лишь иногда всполошно грянет выстрел, не выдержав ее. Семейные рабочие разошлись по домам, а нам спать нельзя — на всякий случай. Резко освещены окна столовой и трактира. У дверей толпятся солдаты без погонов и ремней, мастеровые, работяги. Хохот, забористые словечки. Вкусный дух жареного лука. Вспоминаю, что с утра ничего не ел. Во взбудораженной тесноте встаю к столу; обжигаясь, хлебаю горячие щи.
Некоторые еще выходят курить на улицу, но у печки уже дымятся папиросы и самокрутки; уже кое-кто стягивает за каблук сапоги, прилаживается сушить портянки. Греют озябшие руки, прижимаются к теплу.
— Я его, значит, за бороду. А она, братцы, вся в руке так и осталась. А он без бороды — в подворотню! — радостно рассказывает паренек в картузе с расколотым козырьком и в тулупе без пуговиц. — Да вот она, коли не верите. — Он вытягивает из-за пазухи каштановую окладистую бороду.
— Это они лик уже меняют; стало быть, чуют конец, — догадливо басит маленький с огромной головою человек.
— Ничего работенка! — Знакомый веселый голос Федора Ляксуткина. На щеках его пятнами румянец, губы потрескались. — Вся Выборгская сторона под нашим контролем, — нарочито громко говорит он мне; и люди придвигаются, придерживая дыхание. — Московский полк в полном составе перешел к нам. Завтра будем освобождать товарищей из «Крестов» и «Литовского замка».
Почему-то ни разу не приходило мне в голову, что меня могут убить. Столько силы было в теле, такая жажда движения, борьбы. И еще — двадцать три года. И еще, отдаленно-отдаленно, как слабый отблеск костра за беспокойным горизонтом, — надежда встретиться с Груней. Будущее, о котором в столовой никто за всю ночь не обмолвился, но любой, наверное, по-своему думал, мне представлялось солнечным простором, ликующим в зелени и цвету, где глаз еще, как после пробужденья, не различает поразительных подробностей. Ну, а завтра, завтра — суровая и точная прицельность наших лозунгов, бой с теми, кто против них. И приду я в цех к доверенному мне моими товарищами фрезерному станку, и свободным голосом запоет он, не страшась ни расправы, ни сиротства. Я всегда хотел быть рабочим, с детских лет притягивало меня высокое мастерство, я готовился к нему, и вот настанет пора, когда трудом своим смогу отблагодарить многочисленных моих учителей.
Возбужденный мозг не хотел засыпать. В эти минуты я бы смог произнести единственную в своей жизни, самую зажигательную речь. Но время прежних речей миновало, завтрашних еще не пробило — слово осталось за оружием. И я с тяжелой винтовкой шагнул из дверей на предрассветную улицу.
Они в эту ночь тоже не дремали. Поперек Литейного моста ощетинились штыками солдаты, и два затянутых ремнями офицера хладнокровно высчитывали момент, когда ни одна пуля не пропадет даром.
Вчетвером мы отделились от остальных, направились к офицерам. Солдаты схватили винтовки поперек, преградили путь. Но с ропотом хлынула за нами масса вооруженных людей — и офицеры, уже без ремней и погонов, беспомощно закружились в водовороте, покорно сутулясь, пошли перед конвоирами. Мы бросились через мост к следующей серой преграде — и она без сопротивления рассыпалась, на ходу братаясь с нами или же отдавая винтовки в протянутые ладони.
Пробирались вдоль стен, кое-кто лег на оголившийся булыжник, выщелкивая из патронника горячие гильзы. Безумным, беспорядочным огнем встретили нас полицейские и кексгольмцы. Я упал на снег за какую-то проломленную тумбу, огляделся. Больше всего пугали меня броневики, о которых предупредили еще ночью. Бронечасть, как говорили, размещалась на Кирочной улице; и в любой миг могли выкатить на проспект кочковатые тупоносые чудовища, поливая все живое из пулеметов свинцовыми струями.
Я приподнялся на руках, кинулся к подъезду и чуть не вскрикнул: знакомый парень полулежал на ступеньках, уронив голову на распахнутую грудь. Его жилистые пальцы стискивали рукоятку нагана. Это был Петр, Петр с завода Семенова, с которым мы вместе работали, вместе разгоняли манифестантов! А над ним, скорчив горькой гримасой лицо и обнажив голову, замер Кирюша. Я едва узнал его: в провалившихся щеках ни кровинки, вместо волос синяя щетина.
— Тут за углом аптека, — сказал я, — потащим.
Кирюша даже не удивился моему появлению, помотал головой:
— Поздно… Он дал мне винтовку, когда мы вышли из «Крестов».
Он всхлипнул, щелкнул затвором и бешено ринулся к дому, из которого хлопали выстрелы. С мостовой, из-за укрытий кинулись за ним рабочие.
Ногу внезапна ожгло. Я пробежал еще несколько шагов, в голове зазвенело, поплыл розовый туман. Дотронулся до колена, рука стала горячей и липкой.
«Это мне — в аптеку», — подумалось, будто о постороннем.
— Да ведь я же ранен! — удивленно крикнул я, хотя боли не чувствовал.
Нога ослабела, к горлу подступала тошнота. Однако, прихрамывая, я довольно скоро добежал до аптеки, сунулся в тяжелую с разорванными стеклами дверь. На полу, на стульях — люди, стонущие и терпеливые. Девушка с перепуганными глазами и две деловитые женщины хлопочут, разрывая бинты, марлю. Запахи йода, крови, пота. За прилавком, перед разноцветными до нелепости бутылями, человек в пенсне, с козлиной бородкой, наверное аптекарь, преспокойно разводит в стакане чернильно-багровую жидкость.
Все это я воспринимаю отчетливо; значит, рана пустяковая, сейчас перевяжу — и на улицу. Женщина, очень похожая на тетю Полю, велит мне спустить брюки, наклоняется с зондом. От боли темнеет в глазах, несколько мгновений я ничего не вижу и не понимаю.
— Ваше счастье, молодой человек, что уцелело колено, — говорит аптекарь. — Но бедро пострадало основательно.
Повязка была тугая; я, с трудом натянув брюки, заковылял к двери, взял у порога свою винтовку. Вслед мне что-то говорили…
Перестрелка не утихала. Кирюшу я нигде не заметил, Петра на ступеньках не было. Мои товарищи, завидев меня, замахали руками:
— Гляди, Митя, гляди!
Почти напротив нас на Литейный с равнодушным стрекотом выползали броневики. Стрекот заполнил весь проспект, заглушил выстрелы, голоса; но пулеметы молчали, и это молчание пугало. Либо мы показались броневикам слишком мелкой добычей, либо они преследовали иную цель, только они повернулись к нам боком и начали давить колесами талый снег по направлению к мосту.
— На Выборгскую пошли, гады, — догадался кто-то. — Всех по пути перемелют.
— Эх, бомбочки бы нам!
И вдруг оттуда, с моста, грянуло такое мощное, такое ликующее «ура»: бронемашины — наши. А чуть погодя бесстрашно подлетел к нам матрос, перекрещенный зубчатыми лентами, осипшим голосом обрадовал:
— Держись, братишки! Из Ораниенбаума прапорщик Семашко привел революционный пулеметный полк!
Город пропах горячим железом и порохом. Казалось, не вечер, а дым вползает в истоптанные, загроможденные сорванными с привычных мест предметами улицы. Простоволосые женщины с жалобными возгласами искали своих, живых или мертвых. Мы торопились к Ботаническому саду, в казармы гренадерского полка, который, как нам передали, колеблется, сдерживаемый офицерами. Повязка на моей ноге взмокла, колено затекло, одеревенело, но некогда было о себе думать.
Дюжий унтер-офицер и два гренадера, заметив нас, угрозно лязгнули затворами винтовок. Выскочили несколько солдат, оттеснили их, впустили нас во двор.
Гренадеры плохо представляли, что происходит в Питере.
— Господа офицеры здесь с утра, — подсказал густобровый ладный солдат, — так что, понятное дело…
— Нечего ждать! Выходите с нами! — Тут я перечислил все полки, которые приняли сторону революции.
— Брешет он, паршивый пес! Значит, дело у их хана, коли за нами приползли, — завопил невидимый мне гренадер.
— Смир-рна-а! — раздалась команда.
Солдаты вздрогнули, замерли, руки по швам, подобрав животами дыхание. Группа офицеров во главе с самим командиром полка вторглась во двор. Я быстро соображал: еще одно властное слово полковника, и привычка повиноваться одержит верх. Мои товарищи сомкнулись плечами, побледнев от напряжения, в ноге у меня застреляло.
— Р-разойдись по местам! — приказал полковник.
Крупное лицо его подергивалось, а в выпуклых глазах была такая ненависть, что если бы он мог, то испепелил бы нас одним взглядом. Однако гренадеры все так же неподвижно стояли. Тогда полковник допустил еще одну, роковую для него ошибку:
— Вы что, оглохли? Повторить приказ?
По армейскому принципу — разделяй и властвуй — запели, закинув голову, офицеры:
— Солдаты первой роты, немедленно в помещение первой роты!
— Солдаты второй роты, немедленно в помещение второй роты!..
И все перемешалось, полк уже сам строился на дворе, смыкая ряды, с дружным уставным топотом двинулся на улицу. Офицеров разоружили, но не арестовали, как я ни просил.
Мои товарищи пошли с солдатами, а меня уговорили отправиться домой. Нога так болела, что я втягивал воздух сквозь стиснутые зубы, чтобы не стонать. Нет, до Озерков не добраться!.. Без сил прибрел я к заводу. Черный корпус, покачиваясь кораблем, кружился на одном месте… В темноту отворена дверь; это столовая. На ощупь вошел я в нее, взобрался на составленные кем-то столы, поудобнее устроил ногу. И словно окунулся в вязкий омут.
— Николай Последний отрекся от престола. Но это полдела. Самое трудное — удержать власть в своих руках, научиться командовать обстоятельствами, руководить людьми. — Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов Выборгской стороны Василий Павлович Таежный не спал уже трое суток и говорил лихорадочно торопливо, чтобы мысли не путались. В густом табачном дыму лица людей казались мне вырезанными из темного дерева, глаза у всех были воспалены, губы полопались.
— Революция победила, — говорил Таежный, — и какой крови это стоило. Но вот — Временное правительство. В нем ни одного рабочего, ни одного крестьянина! Буржуазия ликует, бьет в колокола: она взяла свое. Двоевластие? Да, двоевластие. Мы же должны установить единую власть — власть Советов!..
На заводе «Дека» был создан ревком во главе со Скороходовым, Скороходова же выдвинули мы представителем своим в Петроградский Совет. Меня ошеломили мои, многочисленные должности: заместитель председателя заводского ревкома, командир заводского отряда красногвардейцев, заместитель председателя районного Совета депутатов Петроградской стороны. Справлюсь или не справлюсь — речь не шла об этом: я просто ничего не знал. И, слушая теперь Таежного, соглашаясь с ним всей душой, думал: мне доверяют, значит я обязан научиться и справляться.
К Таежному попал я не случайно. После ночи на столах я не мог приступить на ногу, судомойки столовой под руки проводили меня в заводскую больницу. Там мне сделали перевязку и посоветовали отправляться домой.
Но в Озерки я все-таки не пошел: водоворот митингов, выборов, хлопот властно захватил меня. Лишь через несколько дней смог я постучаться в домик тети Поли. Дверь была заперта, окна плотно закрыты. Неужто с Алексеевыми что-то случилось? Я в отчаянии забарабанил кулаком.
За дверью под осторожной ногой скрипнула половица.
— Кто там? — спросила тетя Поля.
— Курдачев, который раньше по прописке был Могильным.
Наверное, тетя Поля хотела, чтобы от слез ее я промок до нитки. Она обругала меня бродягой, сказала, что немедленно нагреет воды, сообщила о Леше, который все-таки не чета мне и домой заглядывает.
Впервые за много дней я с наслаждением разделся, вытянул по кровати ногу. Но тут же чуть не закричал: как же наш помощник пристава? На моих глазах в городе судили полицейских и тут же ставили к стенке. Сейчас же надо бежать в райсовет!..
Таежный кончил говорить, в два глотка выхлебнул стакан воды и энергично потряс мою руку. О нем я слышал немало доброго, и он меня знал, потому разговор был коротким.
— Ах ты черт, — забеспокоился Таежный. — Как же это я? Ведь понимаешь, Дмитрий Яковлевич, что может получиться: погонимся за масштабами, а об отдельном человеке забудем! Вот что: бери красногвардейцев, иди к нему на квартиру и под конвоем доставь лично ко мне. Выпишем ему охранную грамоту и вообще отблагодарим…
Я так торопился, что даже не хромал. Четверо красногвардейцев, из которых только один был в солдатской шапке и шинели, поспешали за мной безропотно. За плотным забором зарычала и загремела цепью собака, чьи-то любопытствующие взгляды провожали нас, пока мы не остановились у нужного дома. Стекла в нем были выщелканы, и теперь пробоины заткнуты подушками. На дверях выцарапано было скверное слово, и я понял, что опасения мои не напрасны.
Красногвардейцы стучали в рамы, я чуть не оторвал дверное кольцо, отбил кулак, пока нам не осмелились отпереть. Зябко кутаясь в потрепанную шалюшку, вышла миловидная с измученным лицом женщина, сказала растерянно:
— Я не знаю, где он. Вот уж несколько суток не приходил.
— Передайте, пожалуйста, если появится: был Курдачев. Завтра в девять утра мы придем еще раз. Пусть ничего не опасается.
Отпустив красногвардейцев, я отправился домой, ожидая сильной бури. Но тетя Поля только повздыхала и опять растопила печку. Покрякивая от удовольствия, я вымылся, потом общими силами заменили мы повязку чистым бинтом, который запасливая тетя Поля успела где-то раздобыть. Измаянный болью, я угнездился в чистую постель…
Мне показалось, будто я только-только закрыл глаза. Но в комнате была такая темень, что вытянутой руки не различить. Кто-то вправду стучал в окошко или почудилось? Я сел на кровати; в ушах только тикали ходики. Стук повторился, осторожный, настойчивый. Смутное лицо за стеклом, негромкий голос:
— Открой, Курдачев, открой!
Он не хотел, чтобы я будил тетю Полю, влез в окно, обнял меня. При свете лампы я разглядел его, едва узнавая. Усы он выбрил, отчего нос стал массивнее, а лицо сузилось. В помятом картузе и поношенной шинели вряд ли бросился он кому-нибудь в глаза, если бы не был столько в Озерках известен. Я усадил его, рассказал о решении Таежного.
— Буду проситься на фронт, — произнес он твердо, давая понять, что давно уже это определил.
— Не понимаю. Призывы Временного правительства подействовали?
— Как раз наоборот. Я поеду воевать против войны. Вы посылаете в армию рабочих агитировать… А я человек военный, солдатскую душу знаю да и у вас научился многому. Считаю, что должен быть на фронте.
Это было разумное убеждение, и возражать ему не стоило. Он сунул руку в карман, положил на стол браунинг, тускло блеснувший никелем.
— Льежской работы, — сказал он. — Возьми, Дмитрий, на добрую память.
Рана не на шутку разболелась, и мне пришлось во всем подчиняться тете Поле. Я чуть не ревел от досады. Новости, которые рассказывали навещавшие меня друзья, прямо-таки ошеломляли. Там и сям вспыхивали мятежи всякого сволочья; большевикам стреляли в спину, газеты вопили о свободе, верности обязательствам перед союзниками, войне до победного конца… Как-то Леша принес мне коробку монпансье и газету «Известия Петросовета».
— Помнишь, — шевеля густыми бровями, начал он, — как ты спрашивал Воронова, почему не арестованы и даже не уволены Шурканов и Сурин? Вот теперь все проясняется. — Он встряхнул газетой, однако мне ее не отдал.
Сначала я выслушал коротенькую историю. 26 февраля вечером на Кронверкском проспекте загорелся дом охранки. Рабочие принялись тушить, но в толпе закричали: «Пусть горит это воронье гнездо! Пепел разметать надо!» Горланов оказалось мало; большевики смекнули, что масла в огонь подливают неспроста, потребовали, чтобы не было потеряно ни одного документа.
— Теперь читай, — Леша протянул газету.
Сначала я чуть не подпрыгнул от удивления, а потом даже тошнота подступила к горлу.
«Черномазов… бывший член ЦК, ныне агент, имеет громадные связи за границей и здесь…» Как прав был Николай Павлович Комаров, как прав! «…Был главным руководителем большевистской газеты «Правда», но ввиду единоличного руководства вопреки циркулярам ЦК отстранен».
— Читай, читай, — Леша задвигал желваками. — Вслух читай: полезно.
«Шурканов (Лимонин), Василий Егорович, — с трудом выговорил я, поперхнулся, буквы запрыгали перед глазами. — Рабочий-металлист, получает 75 рублей, работает с сентября 1913 года, член Выборгского райкома, эсдек, большевик, товарищ председателя союза металлистов, в курсе всех дел своего района и через посредников знает, что в ЦК. Жадный, просит прибавки. Ротмистр Иванов».
— Не понимаю, как среди рабочих заводятся этакие гниды! — стукнул Леша кулаком по колену.
«Сурин (Пошехонов), Семен Яковлевич, 60 рублей, рабочий завода «Айваз», осведомлен, для рабочего очень развит, чист от подозрений, хороший».
Я отбросил газету, сказал Леше, чтобы конфеты он отдал тете Поле, и торопливо, словно по тревоге, стал одеваться.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Мы ехали на Турецкий фронт и умирали от жары. Размягченный мозг заплывал туманом, хотелось одного: пить, пить и пить. А вода в чайнике и фляжках была до мерзости теплой, шибала железом. Теплушка, набитая ящиками с махоркой, тюками с разнообразными подарками для солдат, болталась, словно тоже ошалела от зноя, громыхала и стучала перегретыми колесами.
Только под вечер мы немного пришли в себя, как рыбы в садке, на которых плеснули свежей водой. Поезд полз медленно, локомотив ухал и фыркал где-то впереди, будто усталая лошадь, перемогающая с непосильным грузом долгий подъем. И все-таки в дверь вагона пробирался Прохладительный до щекотки ветерок, угощая нас неведомыми запахами остывающей южной земли.
Я подобрался к ветерку поближе, вглядываясь в складки и морщины гор, по краю подола которых шнурочком тянулся наш товарный состав. На склонах, подобно мехам, курчавились темные заросли, бурыми пластами лежали обнаженные породы. А над зубцами, серо-голубыми, неверными, как дым, высокое и легкое воспринималось небо. Иногда поезд совсем притормаживал, и странные звуки плыли с гор: словно стеклянные шарики дрожали над отполированным драгоценным металлом, едва касаясь его. Иногда мимо тесной кучкой пробегали глиняные мазанки, испортив воздух испарениями гниющих бараньих шкур и прогорклого жира.
В вагоне мы поселились впятером. За долгий путь от бледной питерской весны до пекла Кавказа я неплохо распознал своих спутников. Скалов, большевик с завода Фефелова, мне сразу понравился завидной четкостью суждений, лукавинкой в пристальных глазах. Как-то не сговариваясь мы выбрали его нашим главой — и не просчитались. Двумя словами умел он поставить на место распетушенного чиновника, подстегнуть дремлющего дармоеда, и путешествие наше почти ничем не осложнялось. Да и представитель завода «Вулкан» Угаров, широкий, с крестьянской жилкой, рассудительный, сразу устроивший в вагонной коммуне домашний уют, тоже был человеком надежным. Можно было положиться и на Дуновского, делегата от завода «Лангензиннен», чуть язвительного, но несомненно доброго товарища. Кое-кто в Петроградском Совете, видимо, прикидывал, что возглавит нашу группу его депутат эсер Захаров. Однако Захаров, оказавшись среди большевиков, счел за лучшее помалкивать и ни во что не вмешиваться. Он отмалчивался даже тогда, когда мы обсуждали подробности работы, которая нам предстоит. В Тифлисе, в ставке главнокомандующего войсками Турецкого фронта, нам нужно было добиться пропуска в Батум, Трапезунд и даже в Эрзерум — прямо на передовые позиции. Мы знали, что солдаты имеют искаженное представление о событиях, происходящих в Питере. Временное правительство надежно оградило войска от нашей пропаганды, и глупо было бы нам ожидать хлеба-соли. Потому предупреждение Владимира Ильича о том, что препятствия могут быть очень серьезными, то и дело кто-нибудь из нас вспоминал.
Ильич, сунув большие пальцы в проймы жилетки, говорил спокойно, звучным, резковатым своим голосом. Он обратил наше внимание на очень серьезную опасность, которая может иметь тяжелые последствия, если не принять немедленных мер. На сторону революции перешли только военные городских гарнизонов. Что же касается армии, находящейся на фронтах, то она тщательно изолируется от тыловой жизни и имеет представления о революции только по информации офицеров и буржуазных газет. Необходимо архисрочно проделать огромную и очень трудную работу, чтобы армия стала не врагом революции, а союзником ее. Ленин выбросил правую руку, выпрямил ладонь. Нужно разъяснять всем солдатам, что если они стремятся избавиться от несправедливой империалистической войны, они должны защищать революцию. Если они желают быть свободными гражданами свободной страны, они должны защищать революцию. Если они хотят, чтобы вся земля была передана безвозмездно тем, кто ее обрабатывает, они должны защищать революцию. Если солдаты надеются установить в стране такую власть, которая обеспечит необходимые свободы всему народу, они должны защищать революцию.
Владимир Ильич замолк на момент, опустив свой великолепный лоб, сунул руку в карман, поставил большой палец торчком. А когда солдаты поймут, продолжал он, что революция — их кровное дело, тогда не так просто будет генералам и офицерам обмануть солдат и повести на удушение революции. При этом Ленин наклонил голову к плечу, в глазах промелькнула усмешка.
Десятки людей затихли в полутемном зале, людей, уже познавших, почем фунт лиха, уже проверенных на прочность тюрьмами и ссылками, уже обстрелянных. И по мере того как Ленин, снова высвободив руку, убеждал нас в значимости каждой задачи, я все яснее и яснее осознавал, что нужно делать мне, именно мне. Любого солдата, прибывающего по каким-либо причинам с фронта, мы должны приглашать в свои организации и внимательно, терпеливо разъяснять ему задачи революции и нашей партии, помня, что он может передать услышанное своим товарищам. Среди солдат гарнизона вести усиленную работу, отбирая наиболее способных, смелых, желающих поехать на фронт в качестве агитаторов…
— Вот вы говорите — послать агитаторов, — перебил и поднялся кто-то из рядов. — А как они доберутся до солдат? Те же офицеры и генералы их не допустят, а возможно, и арестуют. Как же быть тогда?
— Вопрос правильный! — обрадованно подхватил Ленин. — Препятствия могут быть очень серьезными. Но мы должны найти способы преодоления этих препятствий. Нам надо посоветоваться. — Он задумался, потом оживился еще более, весь как-то устремился к нам. — Одна из возможностей, мне кажется, может быть такой. А что если нам поговорить с товарищами рабочими об отчислении какой-то суммы денег из их заработка? На отчисленные деньги мы могли бы закупить солдатам подарки и послать на фронт, а сопровождать подарки будут рабочие-агитаторы. Вот тогда-то вряд ли рискнут господа офицеры не пропустить их на фронт. За это им солдатики спасибо не скажут!
По залу пронесся смешок, Ленин тоже охотно и весело рассмеялся, на улыбке добавил:
— Наши сопровождающие приедут на фронт, будут раздавать подарки и рассказывать солдатам, кто подарки эти прислал и с какими пожеланиями.
…На другое утро рабочие всех заводов решили отчислить для этой цели однодневный заработок; и вскоре доверенные агитаторы под добрые напутствия своих друзей отправились на многочисленные фронты России. И вот мы, посланцы Совета рабочих и крестьянских депутатов Петроградской стороны, подъезжаем к Тифлису, вываренные зноем, измаянные длинной дорогой, но готовые к любым неожиданностям.
Тифлис! Ровно встали высокие дома, богатые витринами магазины вдоль бульвара. Тяжеловесный дворец, казармы. Все знакомое, словно перенесенное сюда, на юг, из царского Петербурга. Если не считать жесткой и пышной растительности, восточного орнамента, восьмигранных пирамид церковных колоколен. И только не Нева, а мутная Кура ныряла под мосты, и над водою на сваях просвечивали галереи, веранды открытых ресторанов. И сухим жаром дышали голые скалы, желтые и серые, с боков стеснившие причудливый город.
Однако недосуг нам было его осматривать. Даже утром поразило нас обилие на улицах всяких военных чинов. Не слышно было грохота орудий и треска винтовок; солдаты в белых рубахах, обливаясь потом, стучали сапогами по мостовой, то и дело золотом вспыхивали пуговицы и погоны на тонких офицерских френчах.
Вагоны мы оставили в тупике; Скалов решил сначала устроиться с жильем и привел нас к давним своим знакомым — старикам Монтиным. Оба они молчаливо горевали по сыне, большевике Петре Монтине, убитом на митинге в Баку. Старики приняли нас радушно, без назойливых вопросов; Скалов старался ни о чем им не напоминать, хотя долгое время дружил с Петром, а потом и переписывался. Я помнил, как тосковали Насыровы по своему Николаю, но у них-то была какая-то надежда!..
Надо было начинать работу, и утром мы пошли в Тифлисский Совет. Скалов, сунув мандат под нос рыхлому усатому секретарю, первым шагнул в массивную дверь товарища председателя. Навстречу нам поднялся представительный, в белоснежной паре, кучерявый красавец, поднял обрамленное смоляной бородою лицо, сказал с мягким акцентом:
— Ничем, дорогие товарищи, помочь не могу и не обещаю. Над военными мы власти не имеем.
— Мы приехали совсем не для того, чтобы узнавать пределы вашей власти, — сказал Скалов. — Нам нужно содействие Совета.
— Понимаю, дорогой товарищ, понимаю, но помочь не могу.
— В таком случае мы вынуждены действовать сами.
— Желаю удачи. — Председатель со вздохом посмотрел на бумаги.
— Временное правительство, — заметил Угаров, когда мы снова очутились в пекле улицы. — И генерал Юденич, и этот… Изгадят только все.
Скалов покрутил головой:
— Боюсь, что похуже. Вон на той горе укрепятся, окружат себя пушками, штыками — попробуй докажи, какие они временные.
Я тоже подумал, что вряд ли их возьмешь голыми руками. Потому и необходимо нам скорее попасть на фронт. А что если попробовать к самому Юденичу?
Главнокомандующий Турецким фронтом генерал Юденич принял нас в прохладном кабинете, очень просто, даже скудно обставленном. За призадернутой шторой виднелся уголок подробной карты. Огромный стол, наверное, не раз служил ареной самых победоносных баталий, а на зачехленных стульях можно было после них отдыхать. Генерал радушно повел рукой, приглашая садиться, и тяжелое, крупной лепки лицо его изобразило любезную заинтересованность.
Он опередил нашу идею. Когда мы вернулись к Монтиным, у домика, жарко блистая лаком, красовался открытый автомобиль, а щеголеватый адъютант, глядя сквозь нас, коротко процедил, что господин командующий ждет господ рабочих завтра, в десять часов утра, в своей резиденции. Оружия мы не взяли, но предусмотрительный Угаров оставил на столе записку…
— Позвольте вас спросить, господа, — после паузы начал Юденич довольно-таки строго, — кто разрешил вам ходить по частям гарнизона?
Дело в том, что вчера к нам явились делегаты от нескольких полков, и мы читали в казармах «Правду», говорили по душам, стараясь задеть самые чувствительные струнки наболевших солдатских сердец. Скалов припомнил, с какой жадностью слушали нас краснокожие от солнца тоскующие пехотинцы, веско ответил:
— Нас приглашали, господин генерал. Вы нас также пригласили, и нам в голову не пришло обращаться за разрешением в Петроград.
Юденич кашлянул, посмотрел на адъютанта, почтительно остолбеневшего у двери.
— Кроме того, — продолжал атаку Скалов, — мы уполномочены Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов и нуждаемся только в вашем разрешении пропустить нас на фронт.
— А что же вы там будете делать, господа?
— Раздавать солдатам подарки, которые привезли с собой.
— Но здесь уже фронт, — сказал генерал.
Дуновский вздрогнул, захлопал ресницами, даже привстал:
— Как, разве Тифлис был турецким? Или турки его осаждают?
Юденич всем корпусом повернулся к нему и тоном учителя, вбивающего тупому школяру прописную истину, произнес:
— Вы ошибаетесь. Здесь находится штаб главнокомандующего, который, как вам должно быть известно, вне фронта не бывает.
— Но мы имеем наказ от рабочих раздавать подарки только на передовых позициях, — настаивал Скалов.
— Ну, это гораздо проще, чем вы полагаете. Подарки вы можете сдать нам, а мы выдадим письменную гарантию того, что они будут использованы по назначению. Таким образом, вы спокойно отчитаетесь перед рабочими и не будете рисковать своей жизнью.
Генерал поднялся, заканчивая разговор. Мы тоже встали, Скалов сдержанно сказал, что до гарантии мы не додумались и стоит посоветоваться.
— Прошу вас завтра в шесть часов вечера на чашку чая, — с улыбкой хлебосола пригласил Юденич. — Потолкуем, как говорится, расстегнув мундиры.
Отсрочка была кстати. Было ясно, что генерал на фронт нас не пустит и нужно хорошенько взвесить, как вести себя «за чашкой чая». Можно попробовать еще одно средство. Мне казалось, Дуновский нашел его. Скалов сначала намеревался отчитать его за неуместное ерничество, но, подумав, согласился со мной. Именно так: прикинуться простачками, дедами-морозами, не возбуждать излишних подозрений.
Пока мы обсуждали это, в комнату вошел, постучав, высокий грузин в рубашке с распахнутым воротом, сел на предложенный ему стул, опустив тяжелые, с набрякшими жилами руки. Он был членом бюро Тифлисской большевистской организации. Печально он рассказал нам, что власть в Тифлисе пригребли к рукам эсеры, большевики же, по существу, ушли в подполье. Работать очень трудно, но передайте товарищу Ленину — оружия не сложим.
— Надо вам… как это… опасаться, — сказал он, крепко тиская руку каждому. — Убить могут. Если будет необходимо, свяжемся с Петроградом… Э-э, вы скажите Монтиным, Монтины — нам, мы — в Петроград, в Совет. Договорились?
Уходить ему, видимо, не хотелось, но были неотложные дела. Мы же решили на улице сегодня не появляться.
Темнота рухнула на город сразу, словно кто-то прихлопнул его сверху черным колпаком. Вдали, вероятно в парке, играл военный оркестр, хохотали женщины, гуляло офицерье, дико распевая «Алла верди!» Плотные листья, будто вырезанные из жести, заколебались у окошка: с гор спустилась прохлада.
Расчетливый и хитрый враг угощал нас на другой вечер чаем. В походной квартире, нарочито скупо меблированной, только цветастый ковер выделялся на стене и дорогой чешуей переливались скрещенные на нем сабли и ятаганы. Стол был покрыт простой скатертью и не ломился от фруктов, восточных кушаний и вин. Хозяин подчеркивал, что живет сурово, по-солдатски, и только в чай был добавлен ром.
Два офицера прихлебывали чай мелкими глоточками, внимательно слушали. Но в серых выпуклых глазах одного я заметил равнодушное презрение к нам; другой, кажется, ни разу не взглянул на нас.
Разговор начал хозяин. Расстегнув мундир, под которым оказалась оплывшая, просвечивающая сквозь тонкую ткань рубашки грудь, он расспрашивал о жизни Петрограда, о наших взглядах на последние события, хотел бы узнать, какие требования выдвигают рабочие Временному правительству, как мы смотрим на будущее. Явно, что всем этим он искренне интересовался. Однако это могло оказаться и ловко расставленной ловушкой. Наши суждения о войне и мире, об Учредительном собрании, о правительстве и армии могли выдать нас с головой. Многоопытный генерал еще вчера заподозрил, что мы за птицы. Надо было рассеять это подозрение; и умница Скалов отвечал так путано, что можно было предположить, будто в сознании его полный ералаш. Дуновский то и дело расхваливал чай, и в самом деле отличный, остальные поддакивали.
— Ну, так как, господа, вы решили о подарках? — спросил Юденич, отставляя прибор. — Кстати, вчера я совсем забыл спросить, что́ именно вы привезли.
Скалов с готовностью вытащил длинный список и через стол протянул генералу:
— А уж коли мы сюда прибыли, стоит ли вас затруднять? Мы уж поможем вам, с вашего разрешения, раздадим подарки сами.
Юденич пробежал список, засмеялся:
— И газеты вы считаете подарками? Солдаты у нас, к сожалению, сплошь неграмотные. Раскурят вашу «Правду» на цигарки и все. Нет, по-моему, из списка ее нужно исключить.
— До чего же вы правильно заметили, господин генерал, — удивился Дуновский. — Мы же везем махорочку, а ведь ее без газеты курить нельзя!
— Дело в другом, господа. Если я разрешу вам ехать на фронт — значит, беру на себя личную ответственность за вашу безопасность. А теперь время трудное, солдаты озлоблены; скажете не то слово — могут поднять на штыки…
— Хорошо, господин генерал, — ухватился за ниточку Скалов, отбросив всякое притворство. — Мы выдадим вам расписку в том, что если с нами на фронте что-нибудь произойдет, вы ни перед кем никакой ответственности не несете.
Юденич нахмурился, тяжело поднялся, тотчас вскочили офицеры. Но, по-видимому, генерал опасался чего-то, потому что даже не возвысил голоса:
— Нет и нет, господа. Я не могу добровольно допустить штатских людей туда, где каждый шаг опасен для жизни. Это будет с моей стороны преступлением. До свидания, господа!
Мы поблагодарили генерала за гостеприимство и в сопровождении адъютанта вышли. Но гостеприимство Юденича чашкой чая не ограничилось. Едва мы добрались до Монтиных, как снова явился тот же адъютант и торжественно объявил:
— Обеспечивая вашу личную безопасность, его превосходительство приказал взять вас до особого разрешения под домашний арест.
Щелкнул каблуками и удалился. Мы переглянулись. Дуновский даже присвистнул:
— Может генерал подсыпал нам яду? Мне уже худо.
— Возмутительно, — загорячился Захаров. — Надо жаловаться!
— Не жаловаться, а требовать. Будем связываться с тифлисскими большевиками, а через них с Цека.
Когда-то повлекло меня к теплу, к солнцу и, не раздумывая, зажмурив глаза, ткнул я пальцем в самый низ станционной карты, где синим лоскутком лежало море. В те годы не видел я перед собою большой цели, беспокоился только о том, как бы выжить, убежав от голодной и злой зимы. Теперь я глядел на это море и думал: будь оно ледяным, оскаленным бездонными полыньями, свисти над ним штыковой ветер — я все равно пошел бы через него, потому что от меня зависели, может быть, тысячи жизней.
Но море катило к берегу светло-зеленые волны, подергиваясь по гребню мыльной пеной, густо синело сквозь частоколье мачт, пеньки черных труб, переплеты снастей. У причалов толпились чумазые корабли, грузчики муравьями бегали по сходням, лязгало железо, хищно стонали чайки, гудел многоязыкий говор большого порта. И нам нужно было одолевать не пространства, а свирепую ненависть, дремучее равнодушие, закоснелую привычку к покорности.
Нас торопили представители Батумского Совета солдатских депутатов. Они приветствовали делегацию на вокзале, позаботились об охране двух наших отцепленных от состава вагонов. Но первый горький опыт подсказывал: Юденич может пойти на все, даже уничтожить подарки. И Дуновский вызвался остаться при них. Настораживало и то, что встретили нас не рядовые, а два молодых офицера; и слишком предупредительны, слишком медоточивы они были.
— Имеем честь, господа, пригласить вас на пленарное заседание Совета, который собрался по случаю вашего приезда, — прищелкнул каблуками начищенных сапог голубоглазый смуглый поручик.
Море сверкало перед моими глазами; я плохо различал улицы, по которым мы шли, и собрался с мыслями только выходя на сцену, в президиум. Слева и справа от меня за столом поблескивали офицерские погоны. И в небольшом зале, сколько я ни напрягал зрение, не видно было ни одного солдата. Нас разглядывали с любопытством, как смотрели бы на бородатую женщину или на двухголового жеребенка.
Усатый кирпичный от загара подполковник упражнялся в словесности, называя нас представителями славного рабочего класса, с оружием в руках установившего подлинно демократическую власть; говорил, что трогательна забота, которую новая власть проявляет о русском солдате, защитнике великой России, готовом на беззаветные жертвы во имя победы над врагом.
Скалов побледнел, внутренне собрался, будто готовясь к прыжку; Угаров все хотел приспособить свои руки, но они явно ему мешали; а веснушчатое лицо Захарова было таким унылым, словно перед ним положили что-то несъедобное. Но именно Захарову как представителю партии социал-революционеров и предоставил слово подполковник.
— Господа, — начал Захаров, мучительно стараясь выпутаться из трудного положения. — Мы очень тронуты вашим теплым приемом… — Опыт выступлений сказывался. — Но главой нашей делегации избран рабочий одного из петроградских заводов Степан Иванович Скалов, и потому прошу выслушать его.
В зале зашикали, захлопали.
— Глупо агитировать в волчьей стае, — шепнул мне Скалов, поднялся, спокойно объяснил, для чего мы сюда приехали, и снова сел.
Из зала выпрыгнул на сцену красивый чернявый офицерик, погрозил нам пальцем:
— Ваши так называемые подарки подорвут дисциплину в частях. А это в военное время равнозначно чему? Дезертирству! Что же должны сделать мы, которых избрали солдатские массы? Уберечь своих избирателей от пагубного влияния предателей родины!
Зал разразился овацией. Мы давно уже поняли, куда клонится вся эта история, и только не могли угадать, что они приготовили на закуску. Однако ничего нового они не придумали. Подполковник выразил общее мнение: на фронт не допускать, домашний арест до особого распоряжения…
Я представляю, сколько хлопот доставляли товарищам в Цека наши отчаянные телеграммы, чего стоили эти особые распоряжения, помогающие нам приблизиться к цели еще на один маленький шажок. Трудно было отсюда, с окраины государства, вообразить, какие каналы и рычаги действовали на кабинеты Временного правительства; но на швартовах стоял, разводя пары, большой пароход «Петр Великий», далеко выделяясь госпитальными красными крестами, и обнаженные по пояс бурые и потные солдаты грузили наши подарки в один из его отсеков. На крутых бортах плавучего госпиталя волновались отблески воды, в стальном корпусе глухо рокотало и содрогалось, из короткой широкой трубы исходил негустой дым.
Пожилой матрос, завесив глаза пучками бровей, проводил нас по узкому коридору в каюту. Подвесные койки оказались свернутыми, вдоль стенок рыжели два длинных дивана, на которые при нужде можно было удобно прилечь. Дух в каюте был совсем не больничный: прокисшего вина и застарелого табачного дыма. Угаров принялся откручивать большеухие винты иллюминатора, открыл его кверху, зацепил за крюк. Чистый морской воздух ворвался в каюту запахами йода, водорослей, грохотом порта. Матрос не уходил: топтался у порога, поперхивая в кулак, ржавый от веснушек.
— Так что уж вы, ребята, — прокуренным гулким голосом проговорил он, — на палубу-то поодиночке не вылезайте. В кабак его господа офицеры превратили, госпиталь-то, и санитарки, прости господи…
Он осторожно прикрыл дверь.
— Передвижной дом терпимости, — засмеялся Дуновский и вдруг стиснул зубы. — А раненых солдат, конечно, на арбах по пеклу везут!
— Сами себе копают могилу. Но радости в этом мало. — Скалов покрутил головой, поглядел на диван. — Всем нам неплохо бы отдохнуть. Туман перед глазами…
Я тоже об этом подумывал. Ели мы как попало, больше пили, облупились носы и щеки на солнце, от уголков глаз к вискам обозначились белые полосы. Немудрено, что выглядели мы не особенно привлекательно. А у меня к тому же поламывало рубец на ноге, и боль не затихала.
Мы принялись разворачивать койки. В иллюминатор басовито влетел гудок, звуки порта отдалились, пропали, загулял ветер, послышались шлепки и вздохи воды. По легкому дрожанию стенок я понял, что мы плывем.
— По-моему, не следует ни с кем вступать в разговоры, — сказал, укладываясь, Скалов и мгновенно заснул.
Из-за ноги я попросился на диван, постарался поудобнее лечь. Очень хотелось на палубу: увидеть, какое оно, море, вдали от берега. Но Дуновский так сладко всхрапывал на соседнем диване. И мог ли я… мог ли пойти наперекор общему уговору… Волны всплескивали, всплескивали, убаюкивая, словно голос матери.
Наверху началась топочущая суетня. Я открыл глаза, будто совсем и не спал, выглянул в иллюминатор. Сине-зеленое пространство в беспрерывном и беспорядочном движении колебалось, влажно дышало, скручивалось жгутами, выплевывая стружку пены. На неверном горизонте оно дымкой сливалось с небом, и мерещились в ней силуэты военных кораблей.
В круг иллюминатора вплыл берег. Маленькие отсюда, но пестреющие раскраской дома по пологому склону, будто в цирке, спускались к морю. Топырились прямые башенки с круглыми балкончиками у самой макушки — минареты. Похожие на застывшие взрывики деревья у берега. Справа, на бурых скалах, развалины большого и когда-то грозного строения, вроде бы — замка. Турецкий Трапезунд, ныне временная стоянка наших войск…
С опаской мы поднялись на палубу; вечернее солнце чуть не ослепило. Пароход уронил пары, к борту его прибился маленький задорный катер, и морские офицеры брезгливо проверяли на палубе документы. Женщин не было, толпилась кучка протрезвевших, ощупывающих пуговицы прапорщиков, поручиков и капитанов.
Мне стало совсем плохо. В ноге резало, голову обносило, в ушах бился колокольный трезвон. Все воспринималось зыбко, будто сквозь кисею. Я всеми силами старался, чтобы товарищи мои ничего не заметили.
Кажется, Скалов предъявил наши мандаты и другие документы; кажется, «Петр Великий» причалил, и нас пропустили на берег. Какие-то странные лодки, выкрашенные в дикие цвета, поматывали мачтами, на каменных колоннах сушились сети. Мелькнуло лицо офицера, нас повели в узкие жаркие улицы. Полуразрушенная стена, затканная плющом… Смуглые крючконосые люди в красных стесанных сверху колпаках… Солдаты, солдаты, солдаты, в застиранных, побуревших рубахах, в смешных чалмах, от которых свешиваются на затылок грязные лоскуты.
— Видимо, комедия повторится, — издалека доносится голос Скалова.
Полутемный зал. В голове проясняется. Вижу множество офицеров. А этот, за столом с нами, уже чином повыше: сухой, длинный, с тонкими язвительными губами и треугольными глазами полковник.
— Скажите, господа, а сколько вы положили в ветчину стрихнину?
А вот председатель Трапезундского Совета солдатских депутатов, еще молодой поручик. Он долго трясет Захарову руку и вдруг объявляет:
— Ваши подарки арестованы!
— Тише, господа, тише, — восклицает полковник. — Необходимо уничтожить Ленина и его сообщников, всех этих немецких шпионов, продавших родину. Большевики советуют солдатам втыкать в землю штыки и уходить домой, отдавая отечество врагу на поругание! — Спазмы схватывают горло полковника.
Опять в голове у меня мутнеет. Что-то уверенно говорит Скалов, в его руках «Правда». Как хорошо, что мы сохранили у себя несколько важных номеров. Да, он читает выдержки из статей, объясняет позиции большевиков.
Полковник хватается за кобуру, выхватывает револьвер:
— Вы обвиняете во лжи русского офицера, вы оскорбляете нас?
— Уберите ваше устаревшее доказательство, — отмахивается Скалов. — Никого мы не оскорбляем. А если вы стараетесь выдавать желаемое за действительность, то этак, извините, и море можно принять за плац.
…Не знаю, откуда брались силы. Девять дней с утра до вечера ходили мы по клубам и другим городским помещениям от побережья до кварталов, которые лет двадцать назад турки называли Гяур-Мейданом и где когда-то поселялись «неверные». Ныне все в городе перемешалось, нас приглашали сразу в десятки мест, мы выступали под вечереющим, непривычно густым небом, добровольные переводчики помогали нам.
И вот мы устраиваемся спать вместе с солдатами. Только что они накормили нас из своих котелков, развели по казармам. А перед этим был митинг. Офицеры пытались его сорвать, выросший из-под земли, как оперный черт, полковник опять витийствовал и хватался за кобуру. Скалов попросил солдат оградить делегатов рабочего Питера от угроз, и офицеров дружно оттеснили.
В казарме продолжается неспешный и доверительный разговор. Многие спрятали газеты подальше, чтобы потом грамотеи толком все как есть прочитали.
— Турка нынче притих, — рокотал в полутьме глубокий бас. — И ему, видать, воевать надоело.
— Тоска-а. Сколько годов горим, от болезней мрем, а конца нету.
Скрипят под солдатскими спинами бог знает из чего сработанные лежанки.
— Вывели нас на отдых, а после опять… — вздохнул кто-то рядом со мной. — Березки бы хоть перед смертью повидать, роднички. Здесь все вроде декорации, вода из-под земли горячая, тухлятиной воняет.
— А ты Ленина бачив? — спрашивает певучий голос. — Може, вин и шпиен?
Я рассказываю, хотя от боли в ноге впору криком кричать.
— А може, вин прикидывается.
— Цыц, хохля, а не то так прикинем, что сидеть не сможешь!
В казарму приходили матери, жены, невесты; в азиатской духоте казармы зажигались луговые звездочки, проглядывали закраинкой родного неба негромкие зори, тоскливо вздыхала земля. Через казарму протягивался прогрызанный в камне окоп, злое и колючее солнце плавилось над ним. С криком падали на земляной пол, нет — на чужую скудную землю, русские парни, распухая на глазах у еще живых. Или в полубреду, слушая равнодушные от усталости голоса, все это я представил? Нет, все это было!
Однако многие, очень многие молчали. И войди сейчас в казарму полковник — сколько штыков уперлось бы в меня? Одного разговора мало, остальное доскажет жизнь.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В классных комнатах бывшей Гефсиманской духовной семинарии плакали ребятишки. На огромной общей кухне бунтовала в кастрюлях картошка; ворчали женщины, раздраженные, измаянные тревогой за завтрашний день. Петроград мне вспоминался, как оазис в пустыне, хотя у древних стен Троицко-Сергиевской лавры жилось куда тише и сытнее, чем в смятенной столице с осьмушкою хлеба на день. Да и не серый камень, а ограниченные решетками заборов деревья были перед глазами. Леса Подмосковья, то заслоняющие землю прохладной тенью, то цедящие на веселую траву солнечную неразбериху, привольный луг в белых пятнах ромашки, в едва приметных оттенках нехитрых цветков, пруд, в который неподвижно окунулись деревья и осели округлые облака, — все это в иное время насытило бы душу покоем и миром. Но питерцы никогда не изменяли своему городу. А тут еще со дня на день ожидали больших перемен в судьбе Главного военно-инженерного управления, переброшенного из Питера в лавру под Москву. И с фронтов известия приходили самые неутешительные. Словом, поводов для беспокойства было вполне достаточно.
Я вышел из дому, сел на траву, прислонившись спиной к толстому, черному и морщинистому от старости стволу липы. Муравьи работали у самых ног, волоча длинные палки, иглы, кусочки листьев. Неподалеку, по вытертой коленями богомольцев дороге, два сереньких старика, задрав к небу бороды, ползли к Гефсиманскому скиту. Церквушка скита хоронилась в густолесье. Возле нее, под деревьями, врыты были в землю столы, проеденные до дыр. Сколько раз я видел, как обалдевшие богомольцы зубами отрывали от столов щепье, торопливыми пальцами подвязывали его к шее — от недугов.
Причитая и охая, старики уползли в заросли. Я выпрямил больную ногу, обхватил колено другой ладонями и, прислушиваясь к вечерней перекличке птиц, опять стал обдумывать, что скажу Юреневу. Начальник Всероссийского бюро военных комиссаров все-таки должен понять, почему я не могу дожидаться, пока новый руководитель Коллегии по военным делам займется нашим управлением. Я был убежден: мое место — на фронте, а не в пропахшей ладаном лавре. Юреневу я постараюсь это доказать.
Помню, даже в Питере, на койке Петропавловской больницы, выдираясь из бреда, я страдал оттого, что валяюсь в самые решающие дни и врачи собираются штопать мою рану. В забытьи я снова переживал долгую дорогу до Питера, врывающуюся в память острыми осколками. Как жгло солнце! Оно вливалось в голову, растопляло мозг, желтым маревом пылало перед лицом. Пещера, как огромный разинутый рот, держала на языке дома́ старого Маку, города на военной дороге из Трапезунда в Эрзерум. Навстречу нам тощие от зноя лошади волочили пушки, от которых струился жар. Верблюжья изгибистая морда глядела на меня с сонным презрением… Хребты гор, перевал, остудивший створоженную кровь. Крепость на уединенном холме, снежные конусы. Снова тесные, грязные улицы; глиняные, а то из серого камня жилища с проломами вместо двери, мечеть с двумя минаретами, горящая изразцами лазури… Эрзерум. Мы опять в казармах, опять среди солдат. Но в Эрзеруме я выдохся; как ребенка, отправили меня в Питер с провожатым… Выплывало из марева лицо Груни. Я уже не узнавал его, оно ускользало, было чужим, даже враждебным, потому что нельзя мне больше выдыхаться.
После операции я с жадностью набросился на газеты, жадно слушал товарищей, которым изредка удавалось меня навещать. Все они знали, на себе испытывали все, что происходило в Петрограде в эти осенние дни семнадцатого года, полные листопада, дождей и солнца. А я чуть не кусал губы, с осторожных полунамеков понимая, что «Правда» разгромлена; что Ленин обвинен в измене, командующий военным округом генерал Половцев отдал приказ расстрелять Ленина на месте; что состоялся полулегально съезд нашей партии, решавший вопросы вооруженного восстания; что генерал Корнилов поднял мятеж, и его подавили рабочие трудной ценой…
Нет, о своем больничном плене я не стану говорить Юреневу. Не буду рассказывать, как с красногвардейцами нашего района мы загнали в школу озверевших юнкеров и, выкатив пушку, заставили их бросить оружие. Не буду припоминать, как привел свой отряд к Зимнему, но увидел в свете прожекторов прибой человеческих голов, охмеляющую радость победы и еще — визжащих в истерике баб батальона смерти, которых выводили из дворца растерявшиеся от воплей матросы. Тысячи людей делали в эти дни то же, что и я.
Стоит ли упоминать, как я стал заместителем председателя совета военно-инженерного управления? В конце ноября избрали меня дековцы на конференцию представителей заводов, выполняющих заказы инженерных войск. На «Дека» я уже не вернулся.
Николай Ильич Подвойский помогал нам и советом и делом. Ведь мы ничего не знали, ничего не умели. Вот однажды принесли мне на подпись документы, в которых были проставлены общие суммы на выдачу жалованья служащим управления и офицерскому составу, зачисленному в резерв. Я попросил принести платежные ведомости и чуть не ахнул. Количество инженерных частей на фронтах сокращалось, они распадались; офицеры ехали в тыл, зачислялись в резерв и получали деньги, ничего не делая. Резерв катастрофически рос и мог обратиться в сборный пункт офицеров всей старой армии. Это было опасно. Но что же придумать?
Свои сомнения я высказал на совете. Голоса разделились. Одни настаивали на том, чтобы немедленно приступить к формированию инженерных частей из добровольцев, а резерв ликвидировать. Другие доказывали, что многие офицеры вынуждены будут пойти туда, где им станут платить, мы сами толкнем их в объятия контрреволюции.
Все это было резонно, очень резонно. Однако пусть наиболее шаткие откровенно идут в лагерь врагов: это лучше, чем они, объединенные нами же, поднимут восстание. Николай Ильич выслушал нас, все обдумал и с последним доводом согласился.
Однажды вечером зашел в управление сутулый маленького роста прапорщик в шинели нараспашку — без пуговиц; в руке его был затрепанный, побелевший от царапин чемоданчик. Робко озираясь, он приблизился и тихим голосом заговорил:
— Будьте любезны, скажите, к кому мне обратиться по очень важному и совершенно секретному делу.
Я назвал свою должность и добавил, что если он может доверить свое дело мне, то я готов его выслушать.
— Инженер-химик Ройбул, — назвался он.
— Курдачев. Садитесь, пожалуйста. — Я придвинул ему стул.
Прапорщик примостился на краешке, пристроил на коленях чемоданчик, вздохнул жалобно:
— Во многих учреждениях я уже был. Никто не обращает внимания.
Он раскрыл чемоданчик, вытащил оттуда одну стеклянную пробирку, вторую, третью. Из них торчали какие-то странные нити.
— Вот видите. — Ройбул оживился, с силой потянул нить; она упруго сопротивлялась. — Эти нити являются не чем иным, как результатом моего напряженного труда над решением задачи создания продукта, из которого человек может изготовлять очень много различных изящных, прочных, водонепроницаемых и огнестойких изделий, — глаза его увлажнились, он перевел дух, — крайне необходимых в быту, а особенно в армии: гимнастерки, шинели, полотно для палаток и так далее… Новые ткани будут красивы, нарядны, эластичны, а главное — дешевы. Кварцевый песок — разве не даровое сырье? Затраты только на сооружение предприятия, оборудование и освоение технологии производства.
Я слушал его и, грешным делом, подумывал: уж не свихнулся ли бедный прапорщик, ибо на плута он меньше всего похож. Но вскоре и меня увлекла фантастическая идея Ройбула. Он смотрел с такой надеждой, высказывался хотя и странно, но столь логично, что сомнения мои пропали. Отливка пушек, снарядов из новых сплавов, сверхпрочных и в то же время на диво легких! Строительство светлых, солнечных городов, в которых будут жить люди социалистического государства!.. Но разве я мог что-то обещать прапорщику Ройбулу.
— Зайдите через день, — сказал я, провожая его до двери. — Я поговорю со специалистами и членами военного совета…
Отзывы лабораторий, мнения опытных товарищей были настолько интересны, что мы пошли к Николаю Ильичу Подвойскому. Ройбулу выдали три миллиона рублей и направили прапорщика в Среднюю Азию для постройки небольшого опытного завода…
Нет, жаловаться Юреневу на то, что нынешняя работа моя не имеет смысла, не приходится. И все-таки я буду настаивать на своем. Ведь неспроста же так разволновал меня Николай Ильич, когда, приглушая свой могучий голос, вслух мечтал о новой армии. Он говорил, что новая армия прежде всего должна быть добровольной, из самых передовых и наиболее сознательных рабочих и крестьян, чтобы она, если придется воевать, знала, за что воюет и что защищает.
Я много думал над словами Подвойского и вполне сознавал, что армия нового типа уже создается там, на фронтах, и мне вовсе не пристало посиживать в сторонке, наблюдая эту кропотливую глубинную работу. Совсем недавно был я гостем на Первом Всероссийском съезде военных комиссаров и поразился, как беспомощны некоторые из них и политически и практически. А в тылу на искусственно созданных должностях сидят деловые, опытные ребята, всеми силами стараясь приподняться, чтобы не зарасти белесым мохом, как этот вот лобастый камень.
«Вот о чем нужно сказать Юреневу», — решил я и, стараясь не затоптать муравьев, направился к лавре.
Солнце наискосок пробивало лес; кончики хвойных иголок казались раскаленными, листья лип вспыхивали, будто зеркальные, розоватым теплом наливались стволы берез. Над головой ворчливо пролетали мохнатые жуки, а высоко в зеленоватом небе над куполами Успенского и Троицкого соборов охотились пискливые стрижи, предвещая погожую ночь.
Юренев принял меня суховато. За дверью кабинета толпились военные, какие-то подозрительные котелки, густо дымили самокрутками рабочие. В кабинете, если так можно было назвать почти голую комнату с обшарпанным столом и разнокалиберными стульями, тоже клубился махорочный туман, и лицо начальника бюро военных комиссаров, измятое усталостью, казалось зеленоватым.
— Товарищ Юренев, вы, конечно, были на съезде военных комиссаров… — начал я, покрепче усаживаясь против него на скрипучий стул.
— Был, но с какой стати вас это интересует?
— Слышали, как военком Беломорского военного округа сам признался, что малограмотный и беспартийный? Он не мог даже толком рассказать, что в его округе делается. Надо немедленно укреплять фронт такими людьми, которые не только преданы революции, но и могут разобраться, в чем она нуждается, как ее защищать…
— Спасибо за совет, — насмешливо прищурился Юренев. — А кто вы такой и почему думаете, что мы здесь ничего не соображаем?
Я объяснил; Юренев поморщился, постучал ладонью по вороху бумаг и тут же вытер ее платком, словно прикоснулся к чему-то липкому.
— Вы, товарищ Курдачев, уже поставлены на важную военную работу. Без согласия военного комиссара я никуда послать вас не могу.
— Согласие будет. Вы же знаете, что вместо девятнадцати членов совета в ГВИУ останутся лишь трое; остальных можно отпустить на фронт.
— Тогда так и договоримся; как только освободитесь, приходите ко мне.
— Позвольте! — воскликнул я, заметив, что Юренев притягивает к себе бумаги.
— Не позволю. Не будем задерживать людей, пришедших ко мне по делу. До свидания.
«Ну, мы еще посмотрим, каким будет это свидание», — усмехнулся я про себя и зашагал к двери.
— Постойте, Курдачев! А что у вас с ногой, почему хромаете?
— Да так, пустяки, — досадуя, что Юренев все-таки заметил, пожал я плечами, — после ранения не успела зажить.
— Очень хорошо. Когда будете свободны и вылечитесь, будем решать, где ваше место…
Семьдесят километров от Москвы до лавры — не так уж далеко. Часа за три поездом доберусь. Но сначала надо сходить в военный комиссариат и похлопотать об освобождении от должности. Юреневу нечем будет крыть. Буду стучаться к нему до тех пор, пока не допеку.
— Проверяете, у кого крепче нервы? — воскликнул Юренев, когда я в третий раз устроился против него на стуле. — Что вы от меня хотите?
— Все того же: отправки на фронт. В военном комиссариате к просьбе моей отнеслись вполне разумно.
— Но что вы будете делать с такой ногой? Там возиться с вами некому да и некогда! Не мешайте мне работать, Курдачев!
— Я тоже хочу работать и имею на это право.
Мы уже стояли нос к носу, разглядывая друг друга. Видимо, Юренев упирался теперь из принципа. Что ж, я тоже умею поставить на своем. Пусть ждет меня завтра, пусть прислушивается, не хромаю ли я по коридору.
Вечерний поезд, битком набитый мешочниками, солдатами, оборванцами, медленно протащился по мосту над Клязьмой, попыхтел на станции, жалуясь на скудный паек угля и дровишек, двинулся дальше. Меня прижали в угол. Кое-как устроившись, прислушивался я к вагонным разговорам. Может быть, настороженно ухо воспринимало только то, что соответствовало моему настроению. Но бородатый солдат, с крупным носом, в зимней папахе, говорил соседу, кадыкастому жилистому парню:
— Видел я инородцев всяких. Все тоже маются: и татаре, и поляки, и всякие прочие. Всем пожить охота. А тут война за войной. И надо всякими телами мать стоит. Окаменела и стоит. Война-то матери лемехом по сердцу.
Он добыл газетку, сложенную дольками, оторвал в протянувшиеся руки по лоскутку, всех оделил из кисета, сам свернул козью ножку, помусолил, окутался ядовитым дымом.
— И людей я полюбил. Окромя сволочей. Вот комиссары эти тоже. Поставили двух наших офицеров к стенке. Одного-то я сам бы… шкуру бы живьем содрал. А подпоручик меня подбитого на себе приволок. Стоит белехонек и шепчет: «Мама, за что, за что?» Ну, тут капитан, грудь колесом, руку поднял: «Да здравствует Россия, смерть большевикам!» И упали они друг на дружку. Я — к комиссару. Он меня контрой обозвал. А за что? За то, что сам контра: всех под одну гребенку…
Солдат замолчал, уставился в окошко. Лицо его показалось мне знакомым, но припомнить я не мог, как ни силился. Да и не в том была суть. Хотелось, чтобы Юренев послушал, о чем говорят в вагонах.
Когда я снова появился в его кабинете, он даже захватил голову руками, потом позвал секретаря:
— Пошлите Курдачева куда-нибудь. Жить не дает!
Я рассмеялся, Юренев протянул мне ладонь:
— Решили назначить вас на должность военного комиссара группы войск Брянского фронта и ввести в военный совет.
Брянск! Звонкое, как переплеск березника или перекат маленькой речушки, слово пробудило столько воспоминаний, что я и не заметил, как добрался до лавры. Время перекинулось назад; я снова увидел себя парнишкой в плотницкой артели, почувствовал запахи ошкуренного дерева, услыхал отцовский голос за голым столом, на котором вкусно парил общий котел… В Брянск уходил я от дяди Абросима, унося в душе первый восторг перед подлинным мастерством, прислушиваясь, как шелестит под пальтецом новенький фартук. В этом фартуке уехал я из Брянска в Екатеринодар, начиная свое долгое кочевье. И когда-то, собираясь в Самару с партийным заданием, я по-мальчишески похоронил свой фартук в высоких сочных травах, набравших первую зрелость. Далеко ли от Брянска Погуляи! Может быть, выкрою время, хоть краем глаза увижу свою деревню, увижу отца…
В последний раз оглянулся я на дорогу, умятую коленками богомольцев, и, сопровождаемый теплыми напутствиями сослуживцев, зашагал к станции.
Брянский вокзал был совсем маленьким. Вместо карты, по которой гадал я свою дорогу, висели обрывки плаката. В буфете не было прилавка, на заплеванном полу вповалку спали мужики и бабы, отравляя воздух злым духом. Человек с воспаленным от жара лицом метался за печкой, и курносая женщина поила его из кружки, обливая ему бороду, а потом допила воду сама.
Город будто вымер; какие-то бревна и кирпичи валялись на улицах, многие дома были заколочены; в мусорной куче рылись шелудивые собаки и ободранные мальчишки.
В комнатах уездного Совета деловито стрекотали машинки; мимо меня пробегали люди в поблескивающих кожаных тужурках. Я спросил высокую, с короткой стрижкой, девушку, вышедшую за двери с бумагою в руках, где найти председателя Совета. Она оглядела меня строго, кивнула, приглашая за собою, и застучала стоптанными каблуками.
Председатель уездного Совета Панков и руководитель брянских большевиков Фокин рассказали мне, что штаб фронта находится в городе Карачеве. Город сытый, купеческий, гнилой. Председателем уисполкома в нем — меньшевик Кургин, человек скользкий и наглый; уездным комиссаром — бывший царский подполковник Блавдзевич, тоже личность весьма сомнительная. Под их началом — собственный конный отряд. Многие купеческие сынки, что остались в городе после бегства своих папаш, по-видимому, с ним связаны…
Я не согласился отдохнуть с дороги: хотелось быстрее добраться до места, увидеть людей, с которыми придется служить, а может быть, и враждовать. Один на один с самим собой я мог признаться, что представления не имею, что значит быть военным комиссаром, как говорить с командирами, среди которых немало выпестованных царской армией. Я отчетливо помнил слова Владимира Ильича Ленина, что хвала и честь тому военному комиссару, который, организуя Красную армию, сумеет обеспечить ее достойными командирами из числа революционно настроенных офицеров царской армии, готовых бороться за установление нового, революционного строя в стране. И еще — в кармане моем лежала зачитанная памятка, и серые буквы ее, оттиснутые на жидкой бумаге, звучали металлом. Я — доверенное лицо партии и правительства. Я имею право принимать любые решения в интересах революции, вплоть до отмены декретов Советской власти, если проведение их в жизнь в местных условиях может нанести ущерб революции. Но необходимость и своевременность отмены их должна быть доказана военным комиссаром…
Но уже карачевский рынок ошеломил меня. В Петрограде я осторожно держал на ладони кусочек липкого черного хлеба; в лавре совестился, что уж слишком сыто живу, когда на столе рассыпалась разваренная картошка и в кружке голубоватой пленочкой сметаны подергивалось молоко. А здесь, прямо у прилавков, на круглых в осколках костей плахах, дюжие мясники четвертуют коровьи туши, крупной солью поблескивает на лотках розовое сало, висят на спутанных лапах, курганчиками лежат утки, гуси, куры. И хлеб, главное — хлеб! Краснорожий от излишних кровей торговец в белом фартуке картинно стоит над горой пышных караваев, от одного вида которых кружится голова.
Желудок болезненно сжался, и только потому я понял, что не сплю. Бочком, бочком подобрался я к торговцу, спросил, сглатывая слюну:
— Сколько я у вас могу купить?
— А сколь тебе надо?
— Ну, фунта три, — расхрабрился я.
Он хлопнул себя короткими ручками по ляжкам, посинел от хохота, с трудом выдавил:
— Три фунта! А я-то думал, ты у меня весь заберешь… Три фунта, да еще и спрашивает!
Подумать только — я нес в руках двадцать четыре дневных нормы! Я мог их съесть сейчас и вернуться!..
По неширокой улице затопали лошадиные копыта, взметывая клубы желтой пыли. Шелковистые, ухоженные кони помахивали гривами; всадники сидели умело, франтовато. В голове отряда горбоносый с черными усиками и нагловатым прищуром глаз молодец, рисуясь, раскланивался с прохожими, посылал воздушные поцелуи краснеющим от удовольствия девицам.
— Господин Раевский, — ответил мне жиденький с маслеными волосами человек и поперхнулся: — то бишь гражданин. Каждый день в это время демонстрируют…
Есть расхотелось. Я спрятал хлеб в чемодан. Внутри все напряглось, словно Раевский повернул свой отряд на меня. Черт возьми, под самым носом у Военного совета фронта прогуливаются такие лихие рубаки — только ждут сигнала, чтобы вытянуть из ножен шашки!
Я миновал двухэтажный каменный дом, сложенный основательно, на века, как мне сказали, — купцом Кочергиным; подошел к другому, близнецу этого, но поразмашистее, окруженному высокой стеной. Над срезом ее подымались крыши амбаров и какого-то строения, в котором, как я позже узнал, заключена была дизельная электростанция, питающая город. Над входом висела наскоро сделанная табличка с надписью; из окон доносились властные голоса, а возле подъезда отдыхала автомашина с запыленными колесами. Здесь был штаб группы войск Брянского фронта.
Я вспомнил все, что мне говорили в Брянском уисполкоме, подобрался и шагнул на крыльцо.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Секретарь военного комиссариата Борис Миронович Фельдман, подтянутый, чисто выбритый, в обшитых кожею бриджах, сумел быстро ознакомить меня с наиболее важными документами, в общих чертах доложить обстановку, а затем на сердито чихающем от пыли автомобиле чубатый шофер повез в воинские части.
Фельдман в своих оценках оказался прав. Солдаты, призванные еще в царскую армию, понюхали немало пороху. Но второго мая было подписано соглашение о временном перемирии; и пятикилометровую ничейную зону между нами и противником многие фронтовики посчитали за надежную стену, под прикрытием которой можно было отоспаться и помитинговать. «Теперь армия свободная, добровольная: хочу — служу, хочу — ухожу», — бойко выкрикивали ораторы. Бывшие офицеры, а ныне командиры постепенно утрачивали власть и влияние, не в силах разобраться в той политической буре, что долетала до их слуха грозными отголосками. Прежние уставы годны были разве что на закрутки, новых никто еще не произнес. Разум и сердце — вот пока два самых главных параграфа; и от них зависит боеспособность солдат, сорвавших с плеч осточертелые погоны.
Но больше всего беспокоила меня командная верхушка: начальник штаба фронта Латынин, начальник артиллерии фронта Лаппо, комбриг Гетманцев и еще несколько больших и средних чинов, присягнувших народной власти. Ведь нельзя же закрывать глаза на их школу, нельзя забывать, какими высокими словами клялись они умереть за веру, царя и отечество! Все они дрались храбро, ценя солдата и не щадя себя. Но революция отторгла их имения, обрубила карьеру. По Мурманску маршировали вооруженные до зубов англичане; во Владивостоке пытали большевиков вежливые японцы под одобрительные смешки американцев; у Каспия турки резали азербайджанцев и армян; в Сибири и Поволжье ставили виселицы белочехи; немцы топтали Украину; чумные от ненависти белогвардейские полчища рвались к Царицыну. Может быть, вместе с ними — друзья, единомышленники, родня бывших офицеров и генералов Брянского фронта. В кого выстрелят Латынин, Лаппо, если завтра здесь засвистят пули? В кого направите оружие вы, самый главный из них и всеми уважаемый Павел Павлович Сытин?
Я тайком всматривался в крупное моложавое лицо военрука фронта, в его плотную, выправленную долгой армейской службою фигуру, и не мог ничего самому себе ответить. Сытин покачивался рядом со мной на кожаном сиденье автомобиля, пристально смотрел поверх головы шофера, и на твердых властных губах его проскальзывала порой ироническая усмешка. Простроченные белыми стежками волосы на висках припудрила теперь дорожная пыль, щеки и крылья носа посерели; и оттого он казался мне совсем отчужденным. Что заставило его, генерал-лейтенанта, командира армейского корпуса, принять сторону революции? Нет, Павел Павлович, и вы сейчас не ответите. Я заметил, как настороженно приценивались вы ко мне и при первом представлении, и в частях. Ну что ж, начнем работать. Я хочу, Павел Павлович, чтобы вы стали сознательным защитником революционных завоеваний, увлекли за собою других, и сделаю для этого все от меня зависящее.
Не знаю, почувствовал ли он мой мысленный горячий монолог, но улыбнулся уже по-иному, открытее, сказал чуть гнусаво, видимо от старой привычки к французскому:
— Вот и ваш салон, товарищ комиссар.
Салон-вагон полевого комиссариата стоял в тупичке на путях; у подножки похаживал часовой, морщась от фиолетового вечернего солнца. Заметив нас, он вскинул винтовку на караул. Я смутился, Сытин одобрительно кивнул. Мы шли рядом и оба прихрамывали: ухабистая дорога растрясла, натрудила раны. В туалете вагона мы умылись, причем Сытин плескался вкусно, с кряканьем, с наслаждением. Потом он прошел в салон, пригладил волосы и, поглядев на карту фронта, сказал:
— С вашим предшественником, товарищ комиссар, мы ни о чем почти не разговаривали. Нужно было воевать. Теперь хотелось бы обсудить и текущие и, особенно, перспективные наши дела.
Я согласился, но предупредил, чтобы товарищ военрук не слишком-то на меня рассчитывал: в военных делах я разбираюсь очень плохо.
Откровенный ответ пришелся ему по-душе, он доверительно прикоснулся кончиками пальцев к моему рукаву:
— Я понимаю вас, товарищ комиссар. Нам придется помогать друг другу. Я хотел спросить: как вы смотрите на создание Красной армии? Будет ли армия эта добровольной или какой-либо другой?
Сытин мог подавить меня своей образованностью, своим огромным житейским опытом: ему было уже под шестьдесят, мне — двадцать четыре. Однако я прошел иную школу, познав те законы, о которых он имел, вероятнее всего, самое смутное представление, и наделен был особыми полномочиями эти законы объяснять и внедрять. Разница в возрасте сокращалась; Сытин ждал от меня ответов как от равного.
— Вы же знаете, — сказал я, — что Советское правительство приняло декрет о воинской обязанности для всех граждан республики. Этим и определяется характер будущей Красной армии. Добровольной же она сложилась в ходе событий. — Мне хотелось объяснить несколько неуклюжее выражение: — Царская армия, конечно, не могла защищать молодую Советскую Республику. Вот поэтому добровольно взялись за оружие те, кому ненавистен свергнутый режим.
Военрук побарабанил пальцами по краешку стола, обдумывая новый вопрос.
— А как вы смотрите на то, что отдельные лица позволяют недопустимую вольность, стремясь превратить армию в сборище крикунов?
— Полагаю, что это временное явление.
— Значит, против таких лиц можно принимать решительные меры, товарищ комиссар?
— Нет, пока не нужно. Ведь меры эти придется осуществлять командирам; а кто из бывших офицеров чувствует себя уверенно? Мы дадим повод крикунам травить, прикрываясь свободой, своих непосредственных начальников. Возможно, я ошибаюсь, Павел Павлович, а дисциплину на первых порах будем поднимать через политработников, не обостряя отношений между бойцами и командирами.
— Пожалуй, вы правы, — согласился Сытин, — но мне дышать тяжело, когда в армии такой разброд…
Мы пешком направились по улицам, превращенным глухими заборами в душные ущелья. Солнце все еще припекало. На лавочках флиртовали парни и девицы, жались, повизгивали, плевались шелухой семечек. Сытин ушел в себя, ничего не замечал; я старался ему не мешать. Комиссариат располагался за два квартала от штаба, в трехэтажном кирпичном доме. У его крыльца военрук молча взял под козырек.
Каждое утро Сытин стал являться ко мне с докладом о состоянии дел на фронте. Я же считал прямой своей обязанностью знакомиться с этими делами в штабе. Ведь не всякий сотрудник, по различным соображениям, решится постучать в кабинет военного комиссара. А мне так нужно посмотреть, почувствовать, понять, чем они живут, чем дышат. Остается одно: поломать неписаное правило Сытина, опередить военрука.
Опять засиделся я почти до рассвета, чуток вздремнул в кабинете на диване, и пробуждение было довольно скверным. Но улицы за ночь прибрызнула роса, ветерок долетал с лугов медовой свежестью, прочищали глотки громогласные воробьи, и я встряхнулся и совсем уже бодренько открыл дверь сытинского кабинета.
Начальник артиллерии Лаппо, грузный, с тяжелым упрямым подбородком, встретил меня ничего не выражающими серыми своими глазами и, сославшись на что-то, тотчас вышел. Зато у Сытина вскинулись брови, а руки потянулись к папкам, аккуратно сложенным на краю чистого стола.
— Не удивляйтесь, Павел Павлович, но сегодня я решил наведаться к вам.
— Случилось что-нибудь, товарищ комиссар?
— Пока еще нет, — ответил я, досадуя, что военрук упорно не хочет называть меня даже по фамилии. — Хотелось бы заниматься общими нашими делами в штабе.
— Чтобы я не ходил к вам?.. Жалеете старика? — Сытин насмешливо покачал головой.
— Это не жалость, Павел Павлович. Чего мне стоит пробежать два квартала!
— Итак, формирование рот, батальонов, бригад по новым штатным расписаниям, — раскрывая папку, доложил военрук, — производится довольно успешно. Комплектование двадцать шестого полка заканчивается…
На этот полк мы особенно надеялись. В начале июля к нам стали прибывать молодые ребята. Со многими из них я потолковал по душам. Рабочая и крестьянская косточка. Понимают по-своему, но верно, кому и как призваны служить. Да, видимо, и комиссариаты на местах постарались объяснить им это по-товарищески. Не тронутые окопным разложением, не заеденные до остервенения фронтовой вошью, они безусловно оздоровят весь армейский организм. Однако и мы на первых порах решили оградить их от ржавчины и сразу направляли на окраину Карачева в военный городок под опеку и надзор проверенных командиров.
Когда мы выстроили новобранцев на зарастающем репейниками плацу, у меня даже зубы заныли. Волнистая, зигзагами, пестрая линия, носки внутрь или нараскоряку, усердно выпяченные животы — все это полбеды: обучить строю не так уж сложно. Но пиджаки, косоворотки, куртки, армяки, бог знает какие отрепья, сапоги, ботинки, лапти!.. Где взять обмундирование? Начальник снабжения фронта Яковлев только вздыхал сокрушенно. И ни Сытин, ни я тоже покамест ничего поделать не могли. Я понимал, что творится в душе старого генерала, с юности привыкшего к воинственному однообразию полков.
Но Сытин до своей души меня не допускал; и мы обсуждали многочисленные вопросы на деловом расстоянии.
Неожиданно попросил разрешения и вошел начальник штаба Латынин. Его продолговатое подвижное лицо выражало крайнюю озабоченность.
— В уезде восстание. Вот полюбуйтесь, целая волость.
Он, не глядя, взял циркуль и захватил его рожками порядочный кусок карты, пестревшей на стене значками, оставив в центре село Шаблыкино. Сытин поднялся, с любопытством, но учтиво наблюдая за мной. Я обернулся к карте, стараясь не выдать волнения, потом прямо взглянул на Сытина:
— Узна́ю подробности. Очевидно, уисполком уже послал в волость свой отряд.
— Сомнительно, — дернул головой Латынин.
— Посоветуюсь с местными товарищами, о решении сообщу вам, — сказал я и заторопился в комиссариат.
Умница Фельдман уже вызвал Освальда Петровича Грюнберга, вожака большевиков Карачева, и пятерых наших политработников. Когда все собрались и некоторые по привычке сосредоточенно задымили, Грюнберг, то и дело потрепывая пальцами густую шевелюру, подтвердил опасения начальника штаба: отряд Раевского не поднят; военный комиссар уезда Блавдзевич преспокойненько сидит в своем кабинете, чешет под мышками; председатель исполкома Кургин тоже не бьет тревогу. Бездеятельность их весьма подозрительна, а между тем крестьяне, насколько Грюнбергу известно, выступили с лозунгами «Да здравствует Советская власть без коммунистов» и «Бей коммунистов». Такие лозунги выкрикиваются явно с чужого голоса.
— Надо просить у Сытина хотя бы роту, — предложил один из политработников.
Размеры восстания представлялись огромными, бездействие уездных властей уже давало в руки нам какие-то улики, и надо было принимать самые серьезные меры. А не воспользуются ли немцы поводом для удара с фронта? Я думал, на меня смотрели выжидательно, и, наверное, Сытин у себя в кабинете тоже ставил что-то на карту. Но крестьян я знал; я чувствовал какими-то земляными клеточками души, что не могли хлеборобы в зрелой ненависти подняться против власти, которая вторым своим декретом вспомнила о их многовековой нужде. Послать на них солдат — не значит ли намекнуть на прошлое, косвенно подтвердить лозунг, ловко нашептываемый контрреволюцией по всей России? Я поделился мыслями своими с товарищами и, не услышав серьезных возражений, распорядился немедленно переходить к действиям.
Грюнберг вышел последним, сказал перед дверью:
— Придется нам с вами приниматься за самое головку.
— Мы уже принялись.
Я покрутил ручку телефона. Соединили меня быстро. Сытин задышал на том конце провода.
— Павел Павлович, на подавление восстания я послал несколько политработников с группой красноармейцев.
— Это серьезно? — не сдержался он; и мне захотелось увидеть выражение его лица.
— С восстаниями шутить опасно! — сказал я.
Он помолчал, потом сказал, что будет ждать известий, и мы попрощались.
Через открытые окна в салон-вагон вливались потоки теплого света. Потертая обшивка блестела, будто бронзовая, на мягких диванчиках, на которых некогда покоились генеральские зады, дремали солнечные зайчики. Ночью над городом побуянила гроза, поиграла молниями над церковными главами и опрокинулась обложным дождем. А сейчас я с удовольствием дышал запахами созревающих трав и весело поглядывал на Фельдмана, как всегда подобранного и серьезного.
В такое утро не хотелось мрачно смотреть на вещи. И все-таки поводов для большой радости не выискивалось. Политработники вернулись. Оказывается, достаточно было провести по деревням несколько митингов и разъяснить крестьянам всю несуразность их лозунгов, как восстание сникло, словно пламя без топлива. Политработники говорили крестьянам: «Какую же вам нужно Советскую власть без коммунистов, когда и существует-то она только потому, что ее создали, поддерживают и защищают коммунисты? Без них власть эта будет в точности такой, от которой вы недавно избавились. Подумайте хорошенько и сами поймете: вас поймали на удочку заклятые враги Советов и вашими руками хотят поднести хлеб-соль помещикам».
Я вспоминал все, что мне политработники рассказывали, сопоставлял, оценивал. Шаблыкинское восстание похоже было на репетицию. Но кто ее организовал, кто действует за кулисами? В этом необходимо срочно разобраться, иначе худшие опасения могут обратиться в быль… Нет, радоваться, что на сей раз все обошлось, — безумное ребячество!
— Куда прете? — закричал за стенкою часовой. — Назад, говорю! Стрелять буду!
— Пока ты свою палку снимешь, насквозь прошью, — послышался свирепый голос. — А ну, допусти к комиссару!
Через окошко я увидел странных типов, подступавших к часовому. Один тощий, как соломина, в помятом сером костюме; другой пузырем выпирал из форменной тужурки, и на круглой макушке его чудом держалась железнодорожная фуражка; в руке у третьего торчал револьвер, на поясе болталась лимонка, он распахнул бушлат, выказывая полосы тельняшки, сбил на затылок бескозырку и напирал на часового, стараясь оттеснить его от вагона.
— Что вам нужно? — спросил я громко, и трое разом подняли головы, а матрос вдруг преобразился, покачнулся, пьяно забормотал.
— Мы представители местной власти, — раскланялся интеллигент.
— Пропустите их, — приказал я часовому и побежал в тамбур, чтобы внезапно разоружить матроса.
— Милости прошу, — встретил я интеллигента, когда тот, высоко вскидывая колени, влез на подножку. — А вы что, оружием решили разговаривать? — накинулся я на матроса, мигом выхватил у него револьвер, отцепил от пояса лимонку. — Заходите, пожалуйста.
Принюхался, но от матроса и не пахло спиртным. Я спокойно положил его оружие на стол, предложил незваным гостям садиться.
— Ну вот, теперь можно поговорить на равных. Прошу сообщить, с кем имею дело и что вас привело ко мне.
— Мы представители местной Советской власти, — с достоинством дипломата повторил интеллигент и назвал себя педагогом одной из городских школ, соседа своего — членом уисполкома и рабочим мастерских, а матроса — просто Забиякой.
— Его все так зовут, — заблеял учитель, по-видимому, ожидая, что я восприму слова его как шутку.
Фельдман между тем сунул руки в карманы бриджей, где всегда у него был револьвер, и зорко следил за каждым движением дипломатов.
— Нас очень интересует, товарищ комиссар, большевик вы или нет? — перешел к делу учитель.
— Вас лично или еще кого-то?
— Коли мы представители, — протрубил член уисполкома, — стало быть, не одних нас.
Дикий вопрос чуть не рассмешил меня. Стоило немножко подыграть, как можно было изловить представителей на слове. Матрос опять позабыл о своей роли, даже приоткрыл рот. Я пожал плечами:
— А почему это вас заинтересовало?
— Видите ли, — заволновался учитель, — в Шаблыкино было восстание. Но почему вы не привлекаете виновников его к ответственности?
— Вы недовольны моим поведением?
— Отнюдь, отнюдь! Но может ли оно означать сочувствие?
— Если так, то вы бы осудили меня?
— Напротив, — попался учитель, — мы бы это только приветствовали! Значит, вы тоже за Советы без коммунистов!
— Боюсь, что вы неправильно меня поняли. Наказывать виновников восстания — не мои функции, а местной власти, Карачевского уисполкома. Исполком отвечает за порядок в уезде перед вышестоящими советскими организациями, а также перед военным комиссариатом, поскольку Карачев находится на территории действия штаба. Но это иной разговор. Если вам ясна моя точка зрения и обязанности, на меня возложенные, то будем считать, что мы друг друга поняли. Разрешите пожелать вам счастливого пути.
Учитель растерянно заблеял, член исполкома запыхтел, как паровоз на подъеме. Я протянул матросу револьвер и лимонку, тот ошарашенно посмотрел на меня и бросился догонять своих подстрекателей.
Теперь многое для меня стало очевидным. Осталось нащупать самое важное звено: связь исполкома с сынками бежавших купцов. Бывший поручик Кочергин устраивал в своем доме, по соседству со штабом, частые попойки; и командир конного отряда Раевский не раз гулял у него до первых петухов. Вероятно, и кто-то из офицеров штаба пользуется гостеприимством купеческого сынка, но бездоказательно подозревать кого-нибудь было не в моих правилах. Опереться на местную партийную организацию, без шумихи, очень осмотрительно собирать факты, а затем единственно верным ударом прихлопнуть врага — вот, пожалуй, самый разумный план действий.
Но жизнь редко катится по намеченной колее. Даже разбитый штабной автомобиль, на котором я спешу из Брянска в Карачев, и тот вдруг срывается колесами с дороги, судорожно подпрыгивает на закаменелых кочках. Я подлетаю на сиденье, крепко хватаюсь за спинку. Только что меня вызывали в Брянск на переговоры с Калугой: наш город не имеет прямой связи с главным командованием. Член Военного совета телеграфировал мне, что военрук Сытин выдвинут экспертом в комиссию, ведущую переговоры с петлюровским правительством. Как бы ни воспринял Сытин назначение, мне от этого не легче. Все начинать с начала, и, быть может, с военруком, который заметит только мою молодость. Но это еще ничего. Я боялся другого, боялся, что вдруг открою в Сытине не врага, не друга, а человека равнодушного. Теперь Павел Павлович может собирать чемоданы и не думать даже о заявлении немецкого командования.
Заявление это передали в штаб перед самым вызовом моим на брянский телеграф. Написано оно было чистейшим русским языком на лощеной бумаге, но строчки запрыгали и смешались перед моими глазами, листок потемнел, будто облитый чернилами. На нейтральной зоне, в районе пропускного пункта, банда красноармейцев зверски грабит мирных беженцев, которым разрешено перейти через временную границу.
— Фальшивка или в самом деле? — спросил я Сытина.
— Похоже, что не фальшивка.
— Тогда почему мы узнаем об этом от немцев?
— Сведения были, только не столь серьезные. Я уверен, что это не наши солдаты! — Сытин даже взмахнул рукой, словно отметая обвинение. — Там происходит что-то загадочное. Нам необходимо самим выехать и принять меры, иначе немцы представят нас сборищем грабителей.
Ответом Сытина я остался доволен. И потому вдвойне горько было видеть, как обрадовался он теперь, как оживленно переспросил:
— Так, вы говорите, о сроке сообщат через неделю? Я вполне успею подготовиться, сдать дела.
Я занялся карандашом, так ровно и остро отточенным, что кончик переходил в иглу. Сердито зазвенел на стене аппарат. Сытин поднес трубку к уху и загадочно на меня посмотрел.
— Да, здесь!.. Ждем… Это Яковлев, — пояснил он, повесив трубку на крючок.
Хоть бы на этот раз начальник снабжения не принес дурных вестей. Однако по его замедленным шагам я угадал: пришла беда, отворяй ворота.
— В полученной почте никаких новых распоряжений не поступило, товарищ военрук, — печально доложил Яковлев. — Солдат кормить нечем.
— Та-ак. Мы посоветуемся с товарищем комиссаром. — Сытин отпустил Яковлева, прихрамывая, заходил по кабинету. — Что будем делать? Все формальные требования и заявки давно посланы, но продуктов и фуража нет. Военный совет не имеет даже денег. Понятно: теперь мы не воюем; но люди у нас остались те же, их необходимо кормить!
Нет, Сытин пока не собирал чемоданы. Но об этом потом, потом.
— Дайте мне подумать, Павел Павлович.
— Все равно без помощи центра мы обойтись не сможем. — Сытин упрямо поджал губы.
Центр! В Москве мы смотрели на пайку хлеба и не знали, как растянуть ее на сутки. Но зато карачевский рынок ломится от продуктов. Были бы деньги, и я взял бы на себя ответственность за нарушение твердой государственной продполитики. Надо попробовать раздобыть денег…
Но события развивались, не согласуясь с нашими соображениями. Донесения от командиров и комиссаров частей что ни день были отчаянней. Настроение красноармейцев падало, крикуны звали в поход за хлебом по деревням. Возле одного из сел Почепского уезда завязалась перестрелка между крестьянами и бойцами. Дальнейшее промедление было бы с моей стороны равнозначно измене.
От недосыпания меня пошатывало, перед глазами плавали черные мухи, и все-таки я придумал. Сытин встретил меня с беспокойством, словно позабыв, что завтра-послезавтра ему уезжать.
— У нас три выхода, — собираясь с мыслями, сказал я. — Или голодный бунт солдат, или восстание крестьян, или закупать продукты самим под гарантийные расписки вопреки законам. То, и другое, и третье плохо. Но последний выход — самый разумный.
Сытин посмотрел на меня так, будто перед ним возник сумасшедший, вырвавшийся из смирительной рубашки.
— Помилуйте, товарищ комиссар, зачем вам совать голову в петлю! — воскликнул он, впервые сорвавшись с официального тона. — Да разве вы виноваты, что на фронте нет продовольствия!..
В иных обстоятельствах я бы порадовался отеческой озабоченности, прозвучавшей в его голосе. Но он не мог меня понять: мы были на разных полюсах.
— А вы представляете, сколько крови может пролиться? — убеждал я. — Разве можно искупить ее, если даже нас обоих расстреляют! Мы не имеем права терять ни одной минуты.
Старик подобрал губы, в глазах его что-то погасло.
— Расценивайте как угодно, товарищ комиссар, но я согласиться с вами не могу. Меня никто не уполномочивал давать распоряжения вопреки существующим законам Советской власти. Поговорите с командованием, спросите, как поступить. — Он еще пытался уберечь меня.
Звонить в Калугу не было смысла. Военный совет Западной завесы знал о наших бедствиях и если бы имел возможность помочь, спору бы не было. Я понимал, что Сытин, при его положении, вряд ли подпишет опасный приказ. Даже и при удаче бывшему генералу за преступление законов не поздоровится. Ну, а если мы в ближайшее время не получим денег, не сможем погасить наши долги, что тогда? Крестьяне перестанут верить Советской власти, поднимутся снова, теперь уже сознательно!..
— Попрошу вас, Павел Павлович, заготовить распоряжение, в котором следует указать, что за приобретенные продукты командиры частей выдают крестьянам соответствующие документы. В этих документах должно быть отмечено: что закупили, сколько и по какой цене. Нужно подчеркнуть — оплачивает документы штаб фронта… Распоряжение подпишу я.
Сытин облегченно вздохнул, но все-таки с сомнением покачал головой.
Пока в секретариате готовили бумагу, я разглядывал карту. Кружочки населенных пунктов разливались в серые пятна. В них мелькали знакомые лица, я узнавал отца, соседей по своим Погуляям, мастеровых, с которыми хаживал на заработки. В ушах всплескивались гулкие голоса… Как в церкви… Я, мальчишка, стою на клиросе, не сводя глаз со вздрагивающей перед взмахом руки регента. Ноги устали, хочется сесть и нельзя, потому что засну, засну… Я оттолкнулся от карты: Сытин протягивал мне саблю. Еще усилие — и это уже не сабля, а перо с чернилами на кончике.
— Я непременно должен поехать с вами, товарищ комиссар. У меня странное предчувствие, что после разговора многое в жизни моей изменится. И совсем не так, как мы с вами предполагаем.
— Предчувствие, Павел Павлович? А может быть, умение рассматривать явления с разных сторон и делать далеко идущие выводы… — Я прикусил губу, чуть не проговорившись, что Сытин сам колеблется в выборе: нужен только маленький толчок извне, чтобы предчувствие сбылось и он остался в штабе.
Мы сели в автомобиль, окутавшийся густым пахучим дымом. Военрук посматривал на дорогу, задумчиво щурился. У меня тоже были предчувствия: либо на суде стану доказывать необходимость моего самоуправства, либо получу «добро», а потом и деньги. Если случится первое, не хотелось бы, чтобы Сытин это слышал. Но я верил в свою правоту.
Вместе вошли мы в аппаратную. Телеграфист, еще безусый парень, старался солидно морщить лоб, шевелил пухлыми губами, читая ленту, со стрекотом ползущую из аппарата Бодо.
— Пожалуйста, товарищ комиссар, — предложил он, подавая мне кончик бумажной змеи.
Сытин взволнованно дышал за моим плечом. Выходили серые буквы, складывались в слова, смысл которых улавливался не сразу. Из Калуги передавали, что кандидатура Сытина в комиссию отпадает, что военрук по-прежнему остается при своей должности на неопределенное время.
— Вот видите, — усмехнулся Сытин, однако с некоторой обидой. — А все-таки хотелось бы узнать причины. Запросите Калугу, товарищ комиссар.
Я кивнул телеграфисту, гибкие пальцы его замелькали над клавишами. Лента мелкими толчками лезла из нашего аппарата, покрываясь бессмысленными знаками. Но вот знаки организовались, и одновременно с Сытиным я прочитал: «Представители петлюровского правительства отвели кандидатуру как необъективную… Петлюровцы повесили его брата за то, что Сытин служит в Красной армии…»
Лицо у Сытина обвисло и помертвело, побелели сжатые кулаки. Телеграфист, не зная причины, удивленно смотрел на него.
— Клянусь, — тихо, одним дыханием, произнес Сытин, — пока я жив… — повернулся и вышел.
Я нагнал его у автомобиля. Шофер, улыбаясь, открыл дверцу:
— Что так скоро, товарищ военрук?
Сытин не слышал. Сгорбившись, постарев на десяток лет, он раскачивался на сиденье с закрытыми глазами. Я мысленно ругал себя за то, что не отговорил Сытина от поездки со мной, старался доказать себе, будто стечение обстоятельств логично, угадать, стоит или нет оставить его одного; но ничто не могло заглушить тревогу за дорогого человека.
Поползли заборы Карачева, шофер понятливо затормозил возле дома, в котором жил Сытин. Военрук отбросил дверцу и сказал в пространство:
— До свидания.
Никогда я не ожидал в себе такого! Да, я взволновался, я всей душой сочувствовал Сытину. И в то же время как-то подсознательно радовался. Крестил себя эгоистом, черствым и расчетливым делягой, подленькой душонкой — и думал, что только личная трагедия поможет теперь Сытину окончательно разобраться, кто враг ему и кто друг, думал об очистительном ее огне.
Армейский быт налаживался, как часы, только что отремонтированные и смазанные. Начальник снабжения скрупулезно выплачивал крестьянам деньги за продукты, в частях проходили занятия, солдатские комитеты заткнули глотки многим крикунам.
— Вот разрешение немецкого командования, — сказал я Сытину. — Давайте сегодня в ночь отправимся на ничейную полосу и покончим с грабителями. Начнем устанавливать революционный порядок.
И с этим нельзя было медлить. Левоэсеровский мятеж в Москве, провокация с убийством германского посла Мирбаха породили такое эхо, что рука сама тянулась к оружию. Я вспоминал своих товарищей по делегации на Турецкий фронт, и мне так хотелось, чтобы Захаров оказался вместе со Скаловым, с Дуновским и Угаровым. Как бы я хотел, чтобы Сытин был с нами. Но вести из Москвы он воспринял равнодушно, как гранитный камень капли дождя. И теперь он посмотрел мимо меня, вяло протянул руку к телефону и тусклым голосом, сильно гнусавя, распорядился собрать штабной поезд для конного отряда…
Ночь была теплой, будто парное молоко. Стрекотали кузнечики, где-то лягушки затеяли свой концерт. Топотали кони, звякая уздечками. Бойцы штабного отряда, кавалеристы бывшего Каргопольского полка, переговаривались вполуголос, припоминая какие-то будничные подробности. Сытин не вслушивался в звуки ночи. При свете фонаря лицо его казалось безжизненно-сухим, глаза спрятались под бровями. И все-таки он со мной едет, все-таки опять втягивается в деятельность, принимает первую дозу самого целебного лекарства!.. Вагон дернуло, колеса лязгнули, угадали в ритм друг дружке и загрохотали свою железную песню.
На горизонте запламенели высокие облака, небо зарябило перьями, когда к вагонам подкатили станционные строения Почепа. Сытин умело вспрыгнул на загорячившегося коня, чуть оживился, давая шенкеля. Мне приготовили смирную большеголовую кобылку. Память детства не подвела: я довольно сносно утвердился в седле. Правда, в ночное скакал я, держась за гриву, колотя босыми пятками лошадь по брюху. Но эта кобылка будто сама подсунула мне стремена и плавно пошла с отрядом.
Как раз сегодня через пропускной пункт протащилась партия беженцев, и мы появились неожиданно и вовремя. Часовые с нашей и с немецкой стороны, наверное, видели, как отряд развернулся в цепь и двинулся наметом вдоль зоны. Мы с военруком спешились у деревянного домика пропускного пункта, устроились на лавке, стали ждать. Сытин барабанил пальцами по столу, нетерпеливо посматривал в окошко, в квадрате которого виднелся часовой. Я старался себя успокоить и обрадовался, когда вошел и вытянулся перед нами усатый, в застиранной, но аккуратно подобранной рубахе, начальник караула.
— Садитесь, пожалуйста, — сказал я.
Он сел, расставив ноги, покашлял из деликатности в кулак.
— Расскажите, что вам известно…
— Да что там! — Он сердито встопорщил усы. — Уголовники прикинулись добровольцами, а после, подлецы, утекли на свои заработки… А позор на нас!
Зацокотали копыта, замерли; в дверь лихо вошел наш конник, взбросил руку, отрапортовал:
— Первых ласточек доставили, товарищ военрук! Разрешите ввести?
Одной из ласточек был красногубый чубатый парень с наглым лицом. С виду солдат как солдат, только обмотки на ногах подозрительно толстые. А второй, с хорьковым личиком и трусливо бегающими глазками, старался спрятаться за его спиной. В оскале мелких зубов его, в складочках рта угадывалась мерзкая жестокость.
— Документы есть? — спросил я красногубого.
— Беженцы их не требуют, товарищ комиссар, так нам-то к чему?
— Обыщите обоих, — приказал я конникам.
— Обыскали, чтобы разоружить. Вот, глядите. — Конники втащили шинель, на которой грудою лежали кольца, серьги, часы, иные драгоценные безделушки. Наверное, я бы ударил этого красногубого, если бы не сдавил в своем кармане браунинг.
— Развернуть обмотки! — крикнул я. — Ну!
Хорек угодливо размотал ленту, по полу запрыгали золотые кружочки.
Сытин все так же сидел за столом, лишь зрачки сузились и подбородок поддернулся кверху.
— Ты говори. — Я кивнул хорьку.
— Извольте, товарищ комиссар, — вмешался красногубый, который тоже высвободил из-под обмоток золото. — Вас интересует, как мы работали? Очень просто. На ближайших, так сказать, станциях дежурили наши агенты. Глаз у них верный: сразу накнокают, пардон — заметят, имущего. Нарахают его, что на пропускном пункте обирают до нитки. Так и так, господин хороший, не хотится ли вам улизнуть сторонкой, с проводником?..
— Мерзавцы! — побагровел начальник караула.
— Извиняюсь, товарищи. Мы отнимали у буржуев наши трудовые денежки. Буржуи бежали к врагам, чтобы потом стрелять в рабочий класс! — Красногубый подмигнул хорьку. — Их надо ставить к стенке, да, да, к стенке! И вы нас за это хватаете…
Я узнал его, наконец. С первого взгляда почудилось в нем что-то знакомое, но лишь теперь я вспомнил: это же Аполлинарий Сидоров; это он был моим соседом по квартире; это его скрутил Петр, когда мы разгоняли манифестантов у Марсова поля! Он меня не узнал, иначе бы сразу попытался воспользоваться…
— М-молчать! — Сытин грузно поднялся из-за стола. — Мародеры, негодяи!
— Послушай, кто здесь нам говорит? — пожал плечами Сидоров, оборачиваясь к хорьку. — Это говорит белый генерал, который перекрасился, чтобы ударить Советской власти в спину!
— Убрать! — У меня сдавило горло.
Обоих вывели. Сытин закрыл лицо руками, осел на скамью.
— Павел Павлович, перестаньте, поберегите свои нервы…
По улице конники гнали стаю присмиревших хищников, одетых в красноармейскую форму.
Только мы успели сдать грабителей в брянскую тюрьму и вернуться, как Латынин принес новое известие. Я уже начинал доверять начальнику штаба. Внимательнее приглядеться к нему и еще к начальнику артиллерии Лаппо, разведать их склонности и настроения все не удавалось, но надежды я не терял. Если Сытин окончательно вырвет корни из старой гнилой почвы, с его помощью я сумею подобрать ключи и к этим офицерам; с разбегу же в чужую душу не впрыгнешь. Старик гнулся, но не ломался. Я не утешал его, не подталкивал, остерегаясь грубым вмешательством нарушить тяжелую работу, происходившую в нем. И на этот раз снарядил штабной поезд, поднял по тревоге конников и выехал на станцию Зерново без него.
Сигнал был весьма серьезный: красноармейцы и командиры частей, расквартированных по деревням в районе Зерново, попирают крестьян, торгуют мануфактурой, пьянствуют. Это уже не уголовники, проникшие в армию под шумок, это наши, бойцы.
Вагон укачивал, веки облипала дрема, и проснулся я возле станции Суземки. Растер на щеке рубец от рукава, вышел на подножку. К салон-вагону скакали командир бригады Гетманцев и комиссар Бритов; Фельдман предупредил их по телефону. Бойцы загнали их лошадей к своим, поезд опять тронулся. Гетманцев кипел, дул ноздрями дым; Бритов смущенно прятал глаза.
— Вместе разберемся, — миролюбиво сказал я и стал расспрашивать обоих, как они живут и что намечают делать в частях.
Между тем, локомотив, раскидывая усы белого пара, остановился. Конники отодвигали двери вагонов, выводили по мосткам обрадованных свободой животных. Я приказал отряду оставаться на станции, а мы втроем да еще четверо сопровождающих направили коней по дороге. Сама деревня Зерново была от станции верстах в шести, за лиственными перелесками, то зеленовато-стальными, то изжелта-белыми; на стволах осин и берез колебались тени. День хмурился, обдумывая дождь, и фиолетовые факелы иван-чая особенно ярко выделялись на косматых зарослях шиповника…
Командир роты, расквартированной в деревне, бессмысленно таращил младенчески-голубые глаза и пытался сплюнуть с губы налипший клочок газеты. Его заместитель был, видимо, покрепче, только побагровел и старался четче выговаривать слова:
— Б-безделье. От тос-ски употребляем.
Красноармейцы, тоже весьма на взводе, шумели:
— Верно говорит, скука заела! Командиры у нас что надо, в обиду не дадим!
— Чего с ними, с пьяными, толковать, — махнул рукою Бритов.
— Вот что, — сбычился Гетманцев. — Я вас сейчас не могу назвать товарищами красноармейцами. Мы едем в следующую деревню. Когда вернемся, чтобы все были как стеклышки. Ясно!?
— Так точно, ясно! — заиграли голоса.
Мы прыгнули в седла, Гетманцев с досадой ожег коня плеткой. До Полевых Новоселок, миновав бескрылую ветряную мельницу, добрались скоро. По улице в обнимку бродили бойцы, за околицей поросенком взвизгивала гармошка. Но командир роты и два его помощника были на ногах, только лица у всех словно изжеваны вчерашним загулом.
— Отдам под суд! — гремел Гетманцев. — Это хуже дезертирства!
Но мы с Бритовым понимали, что одним разносом ничего не наладить. О мануфактуре никто, как говорили, слыхом не слыхал: откуда у солдат может она появиться? Отнекивались дружно; и нетрудно было догадаться, что и командиров и бойцов связывает круговая порука. Я не стал распекать Бритова; комиссар бригады сначала готов был сквозь землю провалиться, а потом сам сказал мне:
— Налажу, Дмитрий Яковлевич. Большинство бойцов у нас все-таки с понятием.
— Тяжеленько будет.
— Знаю…
— Вы заметили, что деревенские куда-то попрятались?
— Заметил. Как при нашествии каком.
Мы отправили охрану с нашими конями шагов на десять вперед, а сами шли к Зерново пешком, обдумывая меры, которые следовало принять. С крутыми предложениями Гетманцева я не согласился; и он обиженно посапывал, чуть приотстав от нас.
Бурая, потрепанная ветрами, дождем и солнцем башня мельницы была совсем близко, нацелила на нас ржавую ось. И вдруг навстречу двинулись от мельницы человек двадцать: кто в солдатском обмундировании, кто одет по-крестьянски, а иные ни так ни сяк. Вперед вытолкнули беловолосого замурзанного парнишку лет двенадцати и подступили к нам. Через головы я заметил, что наша охрана спешилась и топчется в нерешительности.
— Кто такие? — спросил детина с рваным шрамом через щеку, явно для того, чтобы навязать разговор.
— Разве не видите? — усмехнулся Гетманцев, раздувая ноздри.
— Видно. Важные гости! Чего вынюхиваете?
По дороге застучали копыта. Я понял — охрана наша галопом пустилась наутек, и шепнул Бритову:
— Встанем спиной друг к другу.
Страха не было, я просто не осознавал его. Оскаленные лица мелькали передо мной, и каждое четко врезалось в память. И еще я видел небо, насупленное, низкое, словно собирающееся прихлопнуть нас сверху.
— Вон, даже охрана от начальников удрапала, — измывались в толпе.
— Кончать их надо!
— Судить поведем. Обчеством прикончим. В одиночку-то отвечать придется.
Детина выхватил из кармана лимонку, сунул в руку парнишке:
— А ну шарахни им под ноги!
Гетманцев прыгнул, выхватил гранату у парнишки, дал ему подзатыльника. Все это произошло так быстро, что никто не успел моргнуть.
— Эй, зверье! — страшным голосом закричал комбриг. — Если хотите нас убить, зачем мальчишку губите?
— Бомба без взрывателя, товарищ командир, — заржал детина. — Мы вас укокаем тихонько.
Что это? Конечно, пулемет! С мельницы. Кольцо распалось. По дороге, вытянувшись, с саблями наголо, летел наш отряд. Еще миг, и бандитов окружили, стиснули потными конскими крупами; а Гетманцев уже в седле, уже командует остальным:
— За мной, на мельницу!
Мы с Бритовым во весь опор ринулись вдогонку.
Пулемет трусливо захлебнулся, из дверок с поднятыми руками вылез белый от ужаса боец. Мы вошли в полутемное помещение, пропахшее прогорклой мукой и мышами. Один из сусеков был обшит досками; мы отодрали одну, увидели брезент — под ним скрывались тюки мануфактуры…
На следствии выяснилось, что мануфактуру вывезли из города Шостки, когда еще наступали немцы, и утаили на мельнице. Поставили посменную охрану и понемножку таскали обменивать на продукты и спиртное. При этом командирам, по чину, полагалась материя подороже. Ну, а нас якобы хотели просто запугать.
Я чуть не валился с ног от усталости, не помнил, ел ли что-нибудь как следует за все эти недели. Но о себе можно позаботиться после, когда очистится воздух, когда просторнее станет дышать. Я не скрывал от Сытина многих своих замыслов, все более доверяя ему. Павел Павлович внутренне посветлел, опять обрел прежнюю осанку и необходимо властные нотки в голосе. Однако решительный разговор с ним я все еще откладывал. Не знаю почему, но чувствовал, что военрук к нему еще не готов.
Как-то я пришел домой. В комнатке, выделенной мне хозяйственниками, был нежилой дух. Железная койка с тюфячком и тоненьким одеялом сиротливо жалась к голой стене; рядом с нею нелепо стоял чемодан, так и не разобранный. Я оттолкнул его ногой и повалился на постель. Странное дело — сна не было. Я-то думал: только бы добраться! Но воспаленный мозг крутил кадры дикого фильма, где прошлое смешивалось с сегодняшним и искаженно летело в завтра. И вот я опять увидел себя за фрезерным станком. Нет, совсем не прежнего, а именно такого, каким я стал теперь. И в цехе были прозрачные стены, насквозь прохваченные солнцем, и моторы тихо гудели… Но пронзительный, назойливый звон сверлил это гудение… Телефон, откуда здесь телефон?..
Я вскочил, еще не соображая, вечер или утро за окном, поднял с рожек трубку. Было утро и беспокоил начальник особого отдела.
— Товарищ комиссар, докладываю, что сегодня ночью в Брянске видели Лаппо. Подозреваю, что он сбежал за границу.
— Проверьте самым внимательным образом.
Вспенив обмылок холодной водой, наскоро побрившись, я помчался в штаб. Знал ли Сытин, что Лаппо обдумывает измену? Как он отнесется к новости? Только бы мне не переборщить! Рассказ бородатого солдата в вагоне, когда я ехал из Москвы в лавру, запомнился навсегда.
Сытин спокойно разбирал донесения; я знал, что притворяться он не умеет.
— Павел Павлович, не можете ли вы пригласить его да Лаппо, — после обычных служебных разговоров попросил я. — Он очень нужен, я хочу проверить полученные сведения.
Военрук взял телефонную трубку. Лаппо не отвечал. Удивленный Сытин вызвал дежурного и приказал разыскать начальника артиллерии, а сам вопросительно, с беспокойством на меня поглядывал. Через несколько минут дежурный вернулся: Лаппо не было ни в штабе, ни дома.
— Скажите, Павел Павлович, вы его никуда не отпускали?
— Никуда, — с сомнением, будто припоминая, протянул Сытин. — Никуда! — Он ждал объяснений.
Трудно было предугадать, что бегство Лаппо так на Сытина подействует. Словно лавина обрушилась на него; он согнулся, опустил голову. Я понимал его состояние. Теперь не только мерзавец Сидоров, но любой может показывать пальцем на каждого бывшего офицера, тем более на него, самого главного на Брянском фронте военного руководителя. Ничего, Сытин разумный человек, и если сам справится с новой бедой, я крепко пожму ему руку. Ну, а если… Нет, другой мысли я не хотел допускать.
Прошло несколько дней. Начальник особого отдела подтвердил: Лаппо видели на вражеской территории. Даже искорки надежды на ошибку не стало. А Сытин, может быть, надеялся: успокоился, изредка даже улыбался. Все-таки надо поговорить с ним начистоту. Теперь пора.
Мы сидели в салон-вагоне, опустив все окна. За стеклами накрапывало, по ним медленными бесцветными молнийками змеились струйки. Фельдман ушел, прикрываясь накидкой; мы не зажигали фонаря, и полусумрак и тишина располагали к откровенности.
— Я сам собирался с вами поговорить об этом, но все не смел решиться. Вы мне очень помогли. — Сытин в волнении провел ладонями по вискам. — Мне все казалось, будто вам трудно поверить, что бы я ни сказал…
— Но почему же, Павел Павлович?
— Мы люди разных классов, в принципе враждебных.
— Теперь не так, — попробовал возразить я.
— Это зависит от точки зрения. Большую часть своей жизни я был царским офицером. Нас веками воспитывали на идее верного служения престолу, других идей не допускали. За это мы были привилегированной частью старого общества, ценили свое положение и защищали его. Я тоже был доволен и не представлял, что может существовать какой-то иной, немонархический строй.
Он помолчал, собираясь с мыслями; я не подталкивал, наблюдал за тенями, ползущими от угла к окошку. Сытин пошевелился, вздохнул:
— Но вот, помимо моей воли и воли подобных мне, тот кумир не удержался, был свергнут, а мы уткнулись в разбитое корыто. Что же нам оставалось делать? Средины нет, либо — либо… Но мне-то выбирать было значительно проще. Мои родители жили на доходы со службы; следовательно, спасать от Советской власти мне было нечего, а тем более силой отбирать. У Лаппо, очевидно, было, если он, русский офицер, — голос Сытина зазвенел, — русский офицер бежал от русского народа… Я был слишком занят собой, чтобы что-нибудь раньше заметить… То, на что решился Лаппо, для меня противоестественно. Это обдумано раз и навсегда. Я уже выбрал. И буду служить той власти, в которую верит и которую защищает русский народ…
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Рано утром 31 августа 1918 года Фельдман вошел ко мне в кабинет как-то странно, боком. Волосы его, всегда гладко причесанные, были встрепаны, форменная тужурка застегнута наперекос.
— Вчера было покушение на Владимира Ильича, — негнущимися губами сказал он.
Я выхватил из его рук телеграмму. В кабинете потемнело, бледное лицо Фельдмана стало пятном. Стреляли в Ленина! Эти слова никак не сочетались, сознание не допускало их, отвергало. Я мог сотни раз убеждать себя — я смертен, но зримо представить, что меня нет, — никак не мог. Я видел Ильича, желтоватую кожу на его лбу, жилку на виске; я чувствовал теплое и быстрое рукопожатие, когда он здоровался с нами. Он состоял из плоти и крови, как и все мы, но он был Ленин. Революции угрожает опасность, республика в опасности — это вооружало. Но говорить себе: Ленин может умереть?! Они стреляли в Ленина, они хотели одним ударом обезглавить всех нас… В телеграмме не было призывов, но я вдруг отчетливо услышал резковатый, захватывающий душу голос того, с кем связывалось прошлое, настоящее и будущее нашей борьбы, нашей жизни, — и понял, что нужно делать.
— Борис Миронович, немедленно вызовите Грюнберга, карачевских большевиков.
Фельдман провел ладонью по волосам, застегнул пуговицы и обычными для него четкими шагами вышел из кабинета. И тотчас дверь раскрылась снова, появился военрук Сытин и с порога заговорил:
— Дмитрий Яковлевич, вы знаете?.. — Он впервые назвал меня по имени.
Я кивнул, пригласил его садиться:
— Будем принимать ответные меры.
— Да, да, я тоже кое-что предпринял. Офицеры… кхм… командиры мобилизованы на поддержание порядка и укрепление бдительности.
Я крепко пожал ему руку, он козырнул и вышел.
Кабинет заполнялся народом: вот старый большевик Дмитрий Силыч Петров, Мария Нилова, правая рука Грюнберга, сам Освальд Петрович, другие коммунисты. В Карачеве их не так уж много, но зато на любого можно положиться. Они входили, рассаживались молча, будто раненый Ленин лежал за стеной.
Я тоже невольно приглушал голос. Суть покушения нечего было объяснять: большевики сами смотрели в корень. Многие эсеры и меньшевики всякую речь начинали с убийственных слов: «Как вы знаете, товарищи» — и принимались жевать набившие оскомину истины, чтобы притупить внимание. Мы же мыслили конкретно: на удар отвечать ударом. Мы должны прежде всего разоружить отряд Раевского, выбить из-под ног меньшевистского исполкома, из-под ног Кургина опору. Я берусь добиться, чтобы на место бывшего подполковника царской армии Блавдзевича губернский военный комиссариат назначил большевика. А затем нам нужно быстро и точно установить, чем занимаются офицеры в доме поручика Кочергина, связан ли с ними исполком, какую роль играет Раевский. Я рассказал об имеющихся у меня данных и предположениях.
— Наблюдение за домом Кочергина мы установим, — заметил Грюнберг. — Но как пробраться в самое гнездо?.
Мария Нилова сбросила с головы платок, оглядела всех посветлевшими глазами:
— Погодите, вроде бы я придумала. У Кочергина в домработницах девушка… Смазливенькая такая, фигуристая. Если через нее?
— Не годится. — Петров хлопнул по своему колену бугристой ладонью. — Все провалит. Разбегутся, либо наломают дров. Нужен свой человек.
— Имеется такой! — негромко воскликнул Грюнберг. — А наш венгр! Его сегодня нет, Дмитрий Яковлевич, — пояснил он. — Парень убежденный, находчивый. Красивый… Я с ним поговорю, а ты, Мария, познакомишь его с девушкой. Уверен — не просчитаемся.
Когда товарищи разошлись, я, не теряя времени, вызвал Фельдмана и попросил связаться с губисполкомом, а сам стал обдумывать, с чего начинать подкоп: идти ли в наш исполком вместе с новым комиссаром или выждать, что предпримут Кургин и Блавдзевич…
Случайно бросил взгляд вдоль дороги, по которой шел домой, и удивился. Я и не замечал, что в городе стоят липы в темных богатых кронах. Теперь что-то обострило зрение, и я увидел: бурыми пятнами пестреют деревья; и, медленно покачиваясь, словно стараясь уцепиться за воздух, летят, летят к земле отмирающие листья. А кора хоть и просечена продольными бороздами, но будто темная броня, и надежно сбережет она живые клетки от свирепых морозов.
Как мне хотелось разнести это осиное гнездо, этот уисполком, ко всем чертям! Может быть, я, Дмитрий Курдачев, взял бы за грудки наглого Кургина и тряхнул бы его так, чтоб усы отлетели, отвалился заносистый нос, дух выскочил вон! Но комиссару Курдачеву надо держать себя в кулаке, надо разговаривать. Видите ли, Кургин не согласился сместить Блавдзевича и бесцеремонно вытолкал боевого парня, направленного в исполком губернским военным комиссариатом. Большевик Кургину не понравился! Ну что ж, пока поговорим, побеседуем…
— Пожалуйста, товарищ комиссар, — кисло поморщился Кургин.
На обширном столе, отполированном так, что председатель исполкома мог любоваться отражением своей персоны, лежали газеты с бюллетенями о состоянии здоровья Владимира Ильича. «Радуешься? А нет ли у тебя в кармане револьвера с отравленными пулями?»
— Скажите, товарищ Кургин, на каком основании вы так пренебрежительно отнеслись к кандидатуре губвоенкома?
— Я не могу отвечать за действия президиума. Президиум мне не подчинен.
«Всем своим видом дает понять, что я лезу не в свой огород. Хорошо же…»
— А вы посоветуйте президиуму!
— Разве вы не знаете, что Блавдзевич избран уездным съездом Советов и без съезда никто не имеет права его сместить? Кроме того, кандидатура этого… как бишь… по некоторым соображениям не подходит.
Я крепко уцепился за обмолвку председателя:
— В таком случае попросим у губвоенкома другого товарища. До скорой встречи.
В комиссариате ждал меня Петров. Я не дал ему подняться, сел напротив, окончательно успокоившись, приготовился слушать.
— Времена меняются, — сказал Дмитрий Силыч, постукивая ладонями по коленям. — Теперь они ушли в подполье. Но кишка тонка.
Подозрения нас не обманули. Наблюдатели установили, что дом поручика Кочергина и в самом деле место сборища бывших офицеров, никуда на службу не поступающих. Кроме того, туда частенько наведывается командир артиллерийской батареи, что расположена на окраине города. Спирт для выпивки они достают в авиационном отряде штаба фронта. Но только ли кутежи за толстыми стенами?
Я проводил Дмитрия Силыча до выхода. Уже рано, не по-летнему, темнело, дома стали безликими, слились с заборами. От травы пахло плесенью и грибами. Захотелось вытянуться на койке, без утайки позевать, чтобы затрещало в скулах, даже выпить рюмку.
Но столько неразобранных, неподписанных бумаг. Их никак нельзя сунуть в ящик стола, потому что за каждой — люди. Сколько приказов, распоряжений, планов надо взвесить, продумать, решить! Или в перемирие мы обросли ими, или это та никем не учитываемая частичка моих будней, без которой пока нельзя обойтись?
Звонок телефона поднял меня из-за стола. В трубке очень знакомый женский голос требовал товарища комиссара.
— Это Нилова, Дмитрий Яковлевич… Я звонила вам домой… У вас что-то в полку происходит; кажется, восстание!
Со всех ног бросился я к военному городку. Собаки залютовали за заборами, где-то хлопнула ставня. «Кургин тоже не спит», — думал я, подбегая к солдатским баракам.
На маленьком плацу тесно от красноармейцев. Лиц не разглядеть в темноте. Все кричат, размахивают руками, а ничего не поймешь.
— В чем дело? — Я врезаюсь в самую гущу, чуть не срываю голос. — Кто вам разрешил ночью митинговать?
— Да вот, обмундировку до сих пор не дали.
— Тише, комиссар здесь!
— Но почему об этом надо кричать ночью, да еще на митинге? А ну, кто не получил обмундирование — ко мне!
Ропот пробежал по толпе. Я повторил; никто не вышел. Уже спешили командиры и политработники, власть дисциплины укротила любителей поорать, успокоила растерянных. Красноармейцы сами обошли бараки — подстрекателей и след простыл. Кто-то из командиров заметил, что из-за такого пустяка не стоило поднимать тревогу, беспокоить товарища комиссара. Но карачевские большевики лучше их понимали, как создается слепая взрывчатая смесь.
Надо скорее ловить Кургина с поличным: он уж почуял, что мокрый след его взят и, как хищник, может сделать круг и притаиться в засаде.
Через день я говорил об этом с Порфирием Михайловичем Щербаковым, новым кандидатом в уездные комиссары. Да, орловский военкомат умел подбирать людей. Щербаков был обстрелянным солдатом, немало потрудился на фронте. Мне понравился открытый взгляд Щербакова, молодой звучный голос. Привлекало и то, что не надо было искать подхода, верного тона, — все получилось само собой, словно издавна мы привыкли понимать друг друга.
— Блавдзевич — вдохновитель и защитник отряда Раевского, поэтому с него и начинаем. Следи за Кургиным, чтобы не смылся. И еще учти, Порфирий Михайлович: ты будешь единственным большевиком на весь исполком.
— Закрепимся — пополнимся. А вот, кажется, и сам Кургин!..
Щербаков определил точно: по улице пешочком, явно подделываясь под пролетария, передвигался председатель исполкома. На этот раз я настойчиво пригласил его к себе, недвусмысленно посоветовав разобраться, кто кому подчиняется.
Через порог Кургин прошел важно; на предложенный стул лишь присел, словно на минутку оказывая нам милость.
— Вот новый кандидат на должность уездного военного комиссара, — кивнул я на Щербакова. — Этот по всем соображениям подойдет.
Бывалый солдат так напористо двинулся к Кургину, что тому волей-неволей пришлось вскочить и первому подать руку.
— Предлагаю вам, — едва удержав улыбку, продолжал я, — утвердить его в президиуме.
— Но президиум должен обсудить, — вильнул Кургин. — Я попробую…
— А вы не пробуйте, вы просто утвердите. И это будет правильно. И на очередном съезде доложите. Съезд, конечно, не опротестует. Дайте указания Блавдзевичу, чтобы он немедленно приступил к сдаче дел и не позднее завтрашнего дня закончил. Не позднее! Вы поняли меня? Ну вот и хорошо. А теперь — до свидания!
За растерянными глазами Кургина увидел я другие: холодные, ненавидящие. И лицо его стало на миг умным и жестоким, как будто спала с него плохо пригнанная маска.
Освальд Петрович Грюнберг подробно рассказывал мне о венгре. Сам я венгра не видел, полностью положившись на опыт карачевских большевиков, и только с готовностью ждал часа, когда потребуется мое личное участие. Грюнберг умел так сочно все представлять, что я без особого труда становился как бы свидетелем двойной жизни нашего товарища.
После совещания в комиссариате Освальд Петрович зазвал венгра к себе и поинтересовался, как он мыслит о своем будущем. Вероятно, он думает уезжать на родину? Нет, пока в Венгрии не произойдет такая же революция, как в России, ему туда и показываться нельзя, — покачал головою парень. Тогда Грюнберг предостерег, что это может быть не слишком уж скоро. Именно так считал и венгр, а поэтому далеко не загадывал: он и в Карачеве служит своей многострадальной родине.
Теперь-то уж Грюнбергу не столь трудно было перебросить мостик. Он и в самом деле удивлялся, почему такой интересный парень ни разу не посмотрел ни на одну карачевскую девушку, живет как аскет. Венгр засмущался от неожиданности и ответил, что слишком скверно разговаривает по-русски и хорошая девушка напугается. Тогда Освальд Петрович сказал венгру, какое серьезное задание наметила ему партийная организация. Ну, а если еще и девушка понравится, то и свадьбу всей организацией сыграем.
Грюнберг шутил, но оказался провидцем. Когда Мария Нилова, конечно после соответствующей подготовки, познакомила девушку с венгром, между молодыми людьми сразу возникла дружеская симпатия. Я представляю, насколько непросто было венгру играть свою роль, но все-таки он узнал, какие у Кочергина бывают гости. Однако фактов, интересующих нас, девушка сообщить не могла: во время пирушек в комнаты ее не впускали. Зато когда Кочергин отправлялся куда-то по своим делам, венгр, стараясь не возбудить у девушки подозрений, внимательно обследовал весь дом. Но напрасно; бывшие офицеры умели прятать концы в воду. Тогда венгр положился на свое чутье: спустился в каменный подвал, глубоко врытый под домом, принялся простукивать стены и пол. Ему очень не хотелось лгать встревоженной девушке, но пришлось выдумать, будто он ищет клад: он слышал, что в доме этом до революции жили очень богатые люди; не могли же они все накопленное утащить с собой за границу. Девушка обрадовалась, предложила свою помощь.
Однажды они обнаружили, что удары в пол возле одной стены отдаются не так глухо; быстро раскопали землю. Под нею оказалась железная крышка с кольцом. При свете фонаря поблескивали смазанные и плотно уложенные винтовки, разобранные пулеметы…
С таким известием карачевские большевики пришли ко мне. Грюнберг хитренько улыбался, посматривая на дверь. Сначала я не обратил на это внимания, потому что слушал Щербакова. Щербаков докладывал, что, приняв дела от Блавдзевича, постарался подействовать на председателя исполкома. Но Кургин горой стоит за свой отряд: «Уездная Советская власть должна иметь вооруженный кулак для подавления контрреволюции».
— Разожмем кулак, — сказал я и уставился на дверь.
Там стоял очень знакомый человек, только в выцветшей солдатской форме и в заляпанных уличной грязью сапогах. На лоб его наметало поперечных складок, под глазами обозначились темные тени, но все равно это был он, Федя, Федор Ляксуткин, мой старый дружище!
Я выскочил из-за стола, кинулся к нему; и с минуту, позабыв обо всем, мы тискали друг друга, хлопали, крутили по кабинету.
— Откуда ты, Федя, откуда?
— Работал на фронте, а теперь еду в Москву. Не знаю, в чье распоряжение…
— Никаких распоряжений. Ты останешься у нас, терять я тебя больше не намерен! А завтра вместе будем брать контру.
До конца совещания мы избегали смотреть друг на друга. Федор много курил, слушал внимательно.
Компанию поручика Кочергина прихлопнем разом; завтра вечером у них намечается пирушка. Воспользуемся их самоуверенным обыкновением не выставлять дозорных. Девушка откроет двери, венгр поведет. Дом оцепить своими силами. Из военных привлечь только командира Амелина, человека умного и бесстрашного. Как можно меньше шума, чтобы до времени не вспугнуть уисполком. Итак, завтра в восемь вечера.
— Венгр не оставил следов? — остановил я Грюнберга.
— Он приметлив, сделал все как было.
— Ну, Федя, — позвал я Ляксуткина, — а теперь ко мне!
Если бы посторонний услышал нас, то едва ли понял бы, о чем мы говорили. Смысл отрывочных бессвязных слов был доступен только нам двоим: мы вспоминали «Сампсониевское общество», Шаляпина, забастовки. Мы рассказывали друг другу свое прошлое, которое на отдалении всегда теряет мелочи, некогда принимавшиеся за самое главное. Под ногами чавкало, сверху нудно моросило, а мне рядом с Федей было удивительно хорошо, как в то утро на Финском заливе!
Лишь дома, вскипятив на буржуйке чай, мы наконец, заговорили о будущем.
— Ты вообще-то, Митя, здорово изменился, — отставив стакан, сказал Федор. — Основательней, что ли, стал; появился в тебе крепкий стержень. И не подумаешь, что у станка вертелся!
— А ты все еще будто в рабочие сцены нанимаешься! Шутка шуткой, Федя, но комиссарами мы с тобой стали не случайно и впредь всегда будем ими. Даже у станка. Я вот иногда подумываю: кончим воевать, смажем оружие — и опять к фрезерному. Душа навсегда к нему припаялась.
— Вот именно, — посерьезнел Ляксуткин. — Там, — он махнул рукой на окно, — там такая тоска по мирной работе! А сейчас тем более. Надо всю жизнь строить по-иному, все заново…
Мы говорили о будущем, ни на миг не допуская, что в руках у Кочергина или Раевского может оказаться револьвер.
Никелированный браунинг отяжелил карман моей шинели. Федор тоже осмотрел свой наган. Темнота чувствовалась на ощупь, редко где вырисовывалось окно. Электростанция насыщала воздух ритмическим гулом, но карачевцы прятали свет за плотными ставнями. И в доме поручика Кочергина незаметно было признаков жизни.
В тысячу раз легче было бы мне вместе с товарищами, вместе с Федором; но по должности пришлось остаться в штабе и ждать. Стрелки часов словно приклеились к циферблату. В Карачеве была такая тишина, что выстрел прозвучал бы в ней подобно удару грома. Но никто не стрелял…
Через полчаса я узнал подробности операции.
Товарищи мои остановились в отдалении, на условленном месте — за углом забора, еще раз обсудили все действия. Петров и Грюнберг спустятся в подвал, Мария будет дежурить на улице, двое встанут у черного хода, трое наблюдают за окнами со двора. Амелин, Ляксуткин, Щербаков и венгр ворвутся в помещение.
Хлюпанье шагов сливается с плеском дождя. Вслед за венгром поднялись на каменное крыльцо. Дверь раскрылась.
— Скорее, — зашептала из темноты девушка, — они в сборе!
Оказывается, она протянула по лестнице ковровую дорожку; и четверо продвигаются почти бесшумно. На площадке мерцает электрическая лампочка, еще одна дверь открыта, за нею — освещенный коридор. Венгр ведет к следующей двери. Амелин берет винтовку наперевес, остальные вынимают револьверы.
— Руки вверх! — кричит Амелин.
Комната в синем табачном мареве. За большим столом, уставленным бутылями и закусками, девять человек с поднятыми руками. Красивое лицо Раевского посерело, перекосилось. У Кочергина черные усики дергаются.
— Это недоразумение… На каком основании… — пытается выговорить он, но Амелин перекрывает:
— Именем революции, вы арестованы.
В комнату входят другие товарищи. Отобраны у поручика и Раевского револьверы, разоружены и остальные. Десять минут девятого, а те, кто мечтал повернуть время вспять, медленно сходят вниз, в темноту.
Вид у Павла Павловича Сытина был такой, словно военрук потерял что-то очень дорогое. Он рассматривал надорванный пакет, то поднося его к самым глазам, то отдаляя, словно надумывал попробовать бумагу на вкус.
А я собирался рассказать ему о многом, касающемся событий, связанных с ликвидацией контрреволюционного подполья. Материалы следствия подтвердили, что во главе созревающего заговора стоял Кургин. Председатель исполкома нутром почуял опасность и в одну из ночей сбежал из города. Поймали его на самой границе. Затем состоялся внеочередной съезд Советов Карачевского уезда, на котором решающее слово осталось за большевиками.
Вряд ли Сытин имел возможность следить за «гражданскими» делами. Скоро штабу сниматься с квартир, огнем проверять на прочность все, что сумели сделать за пять напряженных месяцев. Вместе с Павлом Павловичем прочитали мы приказ об отправке всех сформированных нами частей на станции Инза и Балашов; вместе, не скрываясь, порадовались, что Сытин назначен командиром второй Орловской пехотно-стрелковой дивизии, а я — ее комиссаром. Оба мы были солдатами и не собирались обживаться в Карачеве. На бойцов дивизии теперь можно было надеяться, тылы в уезде мы оставляли надежные, что же тогда так обеспокоило Сытина? Нет, по-видимому, рассказывать ему о выигранном сражении сейчас не время.
Я выжидательно остановился, Сытин повертел пакет перед своим носом и, сильно гнусавя, сказал:
— А нам все-таки придется расстаться, Дмитрий Яковлевич. Вот новый приказ. Меня отзывают в Москву, вас назначают военным комиссаром Орловской губернии и предлагают с четвертого ноября приступить к исполнению служебных обязанностей…
По законам кипения перемешивались гигантские слои. С неумолимой логикой революция передвигала, пробовала, испытывала нужного ей человека, определяла ему горизонты, которые дали бы возможность в полную силу проявиться его способностям, знаниям. Я сам ускорял это кипение и сам же зависел от него, сознательно подчиняясь законам революции. И все же я привыкал к людям, влюблялся в людей, уверовав в их чистую душу, и отрываться всегда было больно. Хорошо, когда в этом океане снова встречались наши пути. Но сколько за двадцать четыре года моей жизни было таких встреч!
Я ничего не сказал Сытину, надел шинель, фуражку и пошел в комиссариат. Личные дела политработников надо было передавать в Карачевскую партийную организацию — Федору Ляксуткину, надо было окончательно разобраться с документами и архивами. И еще я обдумывал по дороге характеристику Бориса Мироновича Фельдмана, моего доброго товарища и помощника, которого по его просьбе решил командировать на учебу в Генеральную академию Красной армии.
…Уезжал я тихонько, чтобы никого не отрывать от работы. Федор Ляксуткин и Сытин провожали меня. Ветер сквозь шинель выстуживал спину, руки зябли, губы сводило. От затоптанного перрона пахло мерзлой землей. Оглушительно свистя, завалив набок вязкую черноту дыма, вывернулся из-за поворота локомотив.
— Ну, мы с тобой по-соседству, увидимся еще, — сказал Федор.
Сытин вытянулся, взял под козырек.
— Давайте, Павел Павлович, по-русски!
Мы обнялись, поцеловались троекратно, и я влез на подножку.
— До встречи, товарищ комиссар, — слабым голосом крикнул Сытин и помахал перчаткой.
Меня стиснули со всех сторон, а когда удалось немножко высвободиться, ни вокзала, ни Карачева не было, лишь мелькали желтые деревья, а за ними лежали сизые, голые поля.
Дикая жизнь российских железных дорог никого уже не удивляла. С февраля прошлого года сдвинулась и понеслась она по рельсам, сравняв все классы, не обращая внимания на окраску вагонов. Все куда-то ехало, спешило, мчалось, штурмуя двери, крыши — любую плоскость, на которой могла уместиться нога. И чем теснее сжималась петля Антанты, тем горячечней бились в вагоны хаотические волны, сорванные с обжитых мест страхом, голодом, сиротством. Железнодорожники и комиссары мужественно сопротивлялись стихии. И когда я видел какого-нибудь усатого дядьку, в усталой руке которого еле держался флажок, мне хотелось крикнуть ему что-то доброе.
В вагон я не протискивался, хотя по стенке дуло; Орел недалеко, можно потерпеть. Только бы не стянули чемодан. Поживы в нем мало: сменка белья, кое-какие продукты, книжки… Но все-таки с пустыми руками в Орле появляться не особенно-то приятно.
Когда меня выперли на платформу, чемодан был изувечен, но, к счастью, выдержал. Покряхтывая от боли в ноге, я миновал каменное, похожее на сундук, здание вокзала, прихромал к трамвайной остановке. Трамваи в Орле ходили. Отвлекая себя от воспоминаний, я разглядывал мокрое железнодорожное полотно, бегущее вдоль вагона. Потом трамвай круто повернул, покатил к городу, покачиваясь, трясясь и громыхая, проскочил меж двух высоких колонн Московской заставы, мимо чумазой речушки и заводских цехов, длинношеей церкви, втянулся в квадратную трубу моста через Оку. Река была темной, как остывший металл, и пустынной.
По улице шел красноармейский отряд с винтовками и котомками за спиной. Усатые и совсем юные лица бойцов были острыми, сосредоточенными. Наверное, красноармейцы отправлялись на фронт. Уйдут воевать Павел Павлович, начальник штаба Латынин, уйдут все, с кем я готовился и кого готовил защищать Республику. А мне — снова полугражданские дела.
Рыжебородый гражданин охотно объяснил мне, что надо еще проехать гостиный двор, мосток через речку Орлик, Волховскую улицу и сойти на Дворянской. А там до апартаментов губвоенкомата рукой подать…
Окружным военным комиссаром и командующим войсками Орловского военного округа был Адам Яковлевич Семашко. Именно, тот самый прапорщик Семашко, который в феврале привел из Ораниенбаума первый пулеметный полк в полном составе на сторону революции. Я о нем тогда много слышал и теперь с любопытством входил в приемную.
Начальник канцелярии встретил меня радушно:
— Только что о вас вспоминали. Проходите, командующий ждет.
— Разрешите? — открыл я дверь кабинета.
Из-за стола поднялся белокурый улыбчивый невысокого роста военком, замахал мне рукой, пригласил тенорком:
— Пожалуйста, пожалуйста! Вот, знакомьтесь — председатель губисполкома Борис Михайлович Волин.
За маленьким столиком, приставленным к центру письменного, зашевелился плотный черноволосый человек, протянул руку.
Мы разговорились. Обстановка в губернии во многом напоминала ту, в которую пришлось мне окунуться с самого начала моей работы в Карачеве. Особенно беспокойными были Ливенский уезд, где назойливо вспыхивали мелкие восстания, и город Кромы. И в самом Орле надо было обратить серьезное внимание на настроения красноармейцев, расквартированных перед отправкой на фронт в военном городке.
Оба, и военачальник округа и глава губернского исполкома, люди, наделенные огромной властью и ответственностью, говорили со мной, как со старым другом. Семашко даже краснел иногда, будто смущался от иных своих выражений.
— Вы, кажется, родом из этих краев? — между прочим сказал он.
— Не совсем… Жиздренского уезда.
— Давно не были дома?
— Лет семь, — подсчитал я и подумал: сейчас они зацепят меня за самое больное.
Однако я ошибся. Волин понимающе хмыкнул, а Семашко засмеялся:
— Вот и наведайтесь, Дмитрий Яковлевич! Много не дадим — без дороги только сутки. И неплохо бы добровольцев к нам, молодежь…
— Если есть, приведу.
Сколько раз собирался съездить домой из Карачева, но даже для того, чтобы попить чаю с Федором Ляксуткиным, едва выкроил время. А теперь, пока еще не втянуло меня в водоворот неотложных дел, стоило оглянуться назад, вдохнуть деревенского воздуху.
Мокрые, злые вороны обругали нас и, выгибая выщербленные крылья, перекочевали на другое дерево. Холодная изморось капельками оседала на мохнатый круп мухортой лошаденки, на мешковину, под которую забрался возница, на мою кожаную тужурку. Колеса телеги перекручивали цепкую дорожную грязь. Глубокая осень проредила осинники, вытоптала поля, составив на них набухшие водою следы. Но огуречные, грибные запахи леса и земли, но торжественная тишина окрестностей после города, после душного разболтанного вагона обносили голову, опьяняли.
Мне повезло, необыкновенно повезло. Пусть этот угрюмый крестьянин довезет только до Дубровок. Там, по обочине, доберусь пешком. Ведь так давно не налипали на сапоги желтые листья, травинки, уродливые семена растений.
Сестру я, пожалуй, не найду. Отец не сказал мне ее фамилию, а расспрашивать времени нет. И к Тимофею Пронину, у которого я когда-то батрачил, тоже не пойду. Нужно сразу в Погуляи! Какой стала моя деревня, чем живет? Сумею ли понять, почувствовать?
Вот на этом месте я хотел оглянуться, когда уходил из дому. Тогда играло солнечное, ясное утро, отчетливо были видны даже дымки из труб. А сейчас Дубровки только угадывается за холстиновой завесой.
— Мироедов у нас много, — вдруг подал голос возница. — Довезу уж тебя до места. — Из-под мешковины высунулась пучковатая борода его и скрылась. — Но-о, ирод, шевелись!
Лошаденка заекала селезенкою, запопукивала, но скоро опять повесила голову и потянула шагом.
Речка, быстрая, светлая до дна, петляла в обнаженных берегах, вызванивала песни. Она осталась прежней. Но сыроваренный завод помещика Лаврова был перекрещен досками, но хоромы, словно огромный череп, глядели пустыми глазницами сквозь голые ветки старых лип. Пруд был совсем маленький, и церковь над ним уныло торчала своим обшарпанным шпилем.
Возница остановился, выпростался из-под мешковины, прямо заявил:
— Денег мне не надо. Это нынче сор. Хлеба у тебя у самого нет. Так что прощевай.
И лошаденка вдруг кинулась такой рысью, что я даже ответить ничего не успел.
Избы Погуляев были те же, наскоро отстроенные после пожара, и показались мне слепыми и мелкими. Совсем незнакомые люди с открытыми ртами выглядывали из-за углов. Припадая на ногу, заспешил я к своей избе. Отец в одной распоясанной рубахе вышел навстречу и остановился, поджидая. Изо рта у него свисала дратва.
— Вот почтил, — сказал он, вытянул дратву, навернул на палец. — Почтил, значит.
— Здравствуй, отец. — Я обнял его за мосластые плечи, он отстранился.
— Ну, здравствуй, здравствуй, Митька.
Я-то видел, по глазам его, повлажневшим и прищуренным, по дрожащим рукам, до чего рад он неожиданному моему приезду. В гостях у меня старик мой был куда занозистее: тогда он успел придумать, что преподать мне на будущее.
— Комиссаришь, выходит? — строго спросил он.
— А в избу нельзя?
— Можно в избу, можно, — отец побежал впереди. — Марья, смотри-ка: Дмитрий приехал.
Внутри у меня что-то заглохло, и я увидел мачеху. Щеки ее налились нездоровым желтым жиром, бесцветные волосы посеклись, совсем поредели. Никогда я не был, насколько знаю, злопамятным, а тут прежняя неприязнь всколыхнулась в душе, и только выдержка помогла ее скрыть.
Мачеха поджала губы. Отец ни слова не говорил про семью, подбирал обрезки валенок, подошвы, мотки дратвы.
— А мы все крестьянствуем, — вздохнул он. — Урожай нынче худой был, все по продразверстке забрали. Как дальше жить — не знаю… И земля теперь наша, да ведь без семян-то она не родит… Ну, с приездом, что ли?
Тем временем мачеха покидала на стол чашку с капустой, горбушку хлеба; растопила печь, сунула туда чугунок с картошкой и присела в углу, на нас не глядя. Я, слушая отца, вытащил из чемодана сало, хлеб и еще кой-какие припасы.
За дверью забормотали голоса, она отворилась, и вошли трое. Первый, видимо бывший солдат, шустрый, в шинели, застегнутой веревочками, неуклюже выкидывая деревянную ногу, подбежал к столу:
— Хлеб да соль!
— Ем, да свой, — буркнула мачеха.
— Мы комбеды, — сказал солдат, не обращая на нее внимания. — Это есть представители крестьянской бедноты.
— Да вы садитесь, — нашелся отец, указывая на лавку.
— Поскольку ты, Курдачев, нашенский и комиссар, то пришли мы к тебе за советом, — устраиваясь и вытянув палку, сказал солдат.
— Дали бы человеку передохнуть с дороги, — вмешался отец; и я почувствовал, что он обиделся: советуются не с ним.
— Не дозволим! — пристукнул деревяшкой солдат. — На то и выбраны. Вот ты и скажи, — ткнул он в меня коротким пальцем, — нагрянул к нам продотряд, забрал все подчистую, и еще долг остался за нами. Мужики заголосили: весной бумажки сеять? А командир и говорит: «Кулаков, мать их так, тряхните». А кулаков даже в Дубровках нет — одни середняки. У середняка отбирать нечего: сам все отдал.
Они ждали от меня единственно верного слова, подкрепленного всем авторитетом Советской власти. Что я мог сказать? Только общие слова о том, что без продразверстки мы не победим, что это пока единственная возможность снабжать Красную армию и рабочих. Я теперь не знал деревню и не мог обманывать их пустыми разговорами. Я прямо высказал это..
— А мы-то думали: комиссары до всего дошли, — протянул маленький мужичок со светлыми, как вода, глазами, до сих пор молчавший.
— Нет, не до всего. Мне бы пожить с вами, осторожно порасспросить соседей, особенно ребятишек. И действовать только наверняка… А командир продотряда, пожалуй, прав: кулаки в лохмотья могут нарядиться.
— Научил, — засмеялся солдат. — Мы щупаем, да пока ускользают. Ну а ты-то зачем приехал?
— В гости ко мне, сын. — Отец оглядел всех.
— Не только в гости, — огорчил я его. — По поручению командующего Орловским военным округом мне надо набрать в нашей деревне добровольцев. Без вашей помощи не управлюсь: завтра утром уезжать обратно.
— Да ты поешь, Дмитрий, поешь. — Мачеха бросилась к печке, поддела чугунок рогами ухвата.
— Вот та-ак, — протянул отец, разглядывая таракана, выставившего из щели подвижные усы.
— Служба. — Я хотел напомнить отцу, как он торопился от меня к артели, и раздумал: поймет сам. — А вы, товарищи, пройдите по деревне, потолкуйте с теми, кто, по-вашему, мог бы оставить хозяйство. Ну и особенно с молодежью. А в шесть часов соберемся в школе.
Солдат надел шапку, сунул руку к голове и застучал деревяшкой. Мужики дружно двинулись за ним.
— Боевой парень, — сказал отец вслед. — Все наши его линии держатся.
«А ты? — хотелось спросить мне. — У тебя какая линия? Все только о своем хозяйстве?»
— Ой, беду на нашу голову накличете! — взголоснула мачеха. — Пожгут, постреляют!
Нога всегда ныла к непогоде, а сегодня ее будто обручем стянуло. Да и злобно-льстивые глаза мачехи следили за каждым движением, и от них надо было куда-то укрыться. Как забрала она отца в свои руки, отца, такого прямого и гордого, такого артельного человека? Расхотелось доставать подарки, которые вез я из Орла. Я попросил отца устроить мне где-нибудь постель. Он вскочил, повел меня за выцветшую занавеску, кивнул на кровать. Я помотал головой:
— Лучше на сундук.
Старый, окованный белыми полосками железа, сундук, оставшийся еще от матери. Не знаю, что теперь хранилось в нем, а раньше он был почти пустой. Я согласился взять отцову подушку, сунул под нее браунинг, устроился на старом тулупчике. Занавеска колебалась, за нею сердито шептались. Не надо было ездить, но когда еще-то я увижу отца! Наверное, очень скоро отправлюсь, наконец, на фронт… Дрема настигала мысли, спутывала их, переворачивала и гасила.
— Дмитрий, а Дмитрий…
Я с трудом открыл глаза. Отец сидел на кровати против меня, шевелил скучающими пальцами:
— Ленин-то как, поправился?
— Поправился, отец, выдержал.
— Скажи еще: из каких он будет… слоев?
— Изо всех… Дед его пахал землю, отец выучился, сам стал народным учителем, был произведен в дворянство.
— Спасибо тебе, Дмитрий.
— А я вот ехал сюда и вспоминал, как ты учил меня косить.
Отец хорошо засмеялся, выставил бороду, откинул занавеску.
Теперь я знал, о чем буду говорить вечером. А впрочем, уже и был вечер. Не успел я снова задремать, как изба наполнилась голосами, — пришли за мной.
Чуть подморозило; под ногами, неприметные в темноте, похрустывали ледком и всплескивали лужи. Солдат, чавкая деревяшкой, шел впереди, то и дело оборачиваясь и докладывая новости:
— Парней человек десять пожелали. Мы вам две лошади выделим и охрану… Иные говорят: мол, один черт здесь с голоду помирать. Я бы им за такие понятия!..
А ведь и в самом деле добровольцы могут оказаться просто бегунцами. Убедить, что армия не кормушка, что на войне стреляют. Лишь те нам нужны, кто готов терпеть голод и холод, кто не пожалеет самой жизни во имя свободы всего человечества. Пусть это будут очень высокие слова, но низкими о таком не скажешь.
В тусклом свете керосиновой лампы толпились люди; остро пахло овчиной, луком, землей. Хотя односельчане мои старательно поджимались, я еле протиснулся к столу, покрытому чем-то красным. Солдат мой уже командовал за ним, уже представил меня; кто-то захлопал, кто-то всхохотнул: «Да это ж Митька Курдачев, без штанов бегал!» — на него зашикали.
Я откашлялся и начал рассказывать о Ленине и о войне.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
«Свидетельство о болезни № 14653 от 7 февраля 1921 года. Дано Курдачеву Д. Я. . . . в том, что он одержим обширными рубцами правого бедра после ранения, приросшими к мышцам и сопровождающимися атрофией всей конечности и застойными явлениями в виде каринозных расширений. По изложенному состоянию здоровья и на основании ст. 50 расписания болезней… признан негодным к военной службе с оставлением на учете военнообязанным.
Следовать пешком может, в провожатом не нуждается.
Действующая армия, 7 февраля 1921 года».
С таким документом в кармане я пробирался по Москве к Моховой улице, разыскивая этапного коменданта. Столица все еще напоминала военный лагерь: то и дело среди прохожих мелькали острые шишки буденовок, шапки с красной лентой наискосок, папахи. И мне никак не представлялось, что скоро сниму я шинель, папаху, вместо рукоятки револьвера почувствую в отвыкшей ладони рукоятку маховика. Гражданская война огрызалась последними залпами, надо было работать; и уж кому-кому, а мне-то, фрезеровщику высокой квалификации, самое место теперь у станка. С такой справкой никто задерживать меня не станет; и сегодня же, если будут поезда, я покачу в Питер, в мой город, по которому истосковался.
В приемной было много военных; отчаянно дымили; разговоры не завязывались. Из кабинета коменданта выходили, бережно пряча в карман аттестаты с разрешением на получение продуктов. Но иные со встревоженными лицами читали какие-то бумажки, долго не могли попасть в карман.
— В чем дело? — спросил я пожилого человека с аккуратно выровненной пегой бородкой, только что вышедшего в приемную.
— Побеседовали, отобрали проездные документы, приказали следовать в городской партийный комитет. Ни на одном этапном пункте такого не было!
— Москва это вам не пунктик! — воскликнул кто-то.
Подходила моя очередь. Быстроглазый комендант с зеленоватым от утомления лицом мигом пробежал справку, документы, спросил, куда я намерен ехать и, приметив, что я облегченно передохнул, четко отрезал:
— В Петроград вы, товарищ, не собирайтесь. Вас ждут в Московском горкоме партии… Не задерживайте очередь…
Ну нет, я постараюсь добиться, чтобы меня поняли правильно. Я вовсе не собираюсь валяться на перине, зализывая раны. Я хочу работать там, где смогу принести наибольшую пользу. Но из горкома, куда я пришел в чрезвычайно воинственном настроении, меня вежливо отослали на Воздвиженку, в Центральную Контрольную Комиссию РКП(б). Я ничего не понимал.
Шагая по талому снегу, заполнившему улицы, я перебирал в памяти все свои поступки, большие и малые, которые удалось запомнить. В Карачеве я никаких крупных просчетов не допустил. И в Орле… Что в Орле? Когда я вернулся из Погуляев с добровольцами, была заваруха в военном городке. Мы ее легко ликвидировали, полк отправили на Восточный фронт и получили сообщение о том, что в боях красноармейцы проявляют себя как надо. Потом мы разоружили банду в Ливенском уезде. Страшное восстание кулаков и пошедших за ними крестьян было в Верхне-Боевской волости. Там растерзали комиссара Кузнецова. Мы послали отряд красноармейцев и курсантов, мобилизовали актив города Кромы, изловили зачинщиков… А дальше? Дальше я воевал, как все, с врангелевцами и белополяками; с четырнадцатой армией дошел до Умани. Несколько раз лежал в госпитале из-за ноги. Никого такими сведениями не удивишь; и вряд ли Контрольная Комиссия, совсем недавно созданная, только поэтому заинтересовалась моей личностью. Словом, гадать не стоит!
Мне указали дверь, над которой висела табличка: «Председатель ЦКК РКП(б) Мостовенко».
Я подправил смятые папахой волосы, постучал. Товарищ Мостовенко, в мягком френче с накладными карманами, на которых треугольниками лежали клапаны, усадил меня в кресло напротив стола, заметив что-то в выражении моего лица, дружески засмеялся.
— Расскажите, товарищ Курдачев, поподробнее, где вы жили, работали?
Стараясь не вдаваться в мелочи, я припомнил, как был сезонником, как начал работать в Питере, как пришел в партию большевиков, какие поручения партии выполнял до сих пор. Мостовенко кивал чуть заметно и, когда я замолк, припоминая, не забыл ли что-нибудь, вдруг негромко спросил:
— Вы желаете поехать на работу за границу?
Это было столь неожиданно, что я даже привстал. Я мог предполагать, что меня пошлют куда угодно: в пески, в снега, на дно морское. Я мог быть виноватым в каком-то серьезном проступке, совершенном неумышленно и мною самим незамеченном. Но за границу!..
— Я же не понимаю языков. И не знаю, смогу ли быть полезным…
— Прежде чем предлагать, — остановил меня Мостовенко, — я познакомился с вами. Нахожу, что для выполнения обязанностей коменданта представительства вы вполне подходите. Для этого языки знать не так уж обязательно. В прошлом вы подпольщик, комиссар, так что еще нужно? Приглашаю вас с собою в Литву; я назначен туда полномочным представителем Советской Республики.
Два наших классных вагона, загруженных необходимым имуществом, перецепили на станции Себеж к другому поезду. Пограничные власти придирчиво обнюхали документы, багаж, подозрительно косясь на советских граждан. Ехало нас человек двадцать: сам Мостовенко, его секретари, военный атташе, главный бухгалтер и другие сотрудники полпредства. Все мы с любопытством знакомились с жизнью буржуазной республики, правда пока еще из окон вагонов и на станциях. Бросалась в глаза редкая по изобретательности форма офицеров. Составленные из ядовитых, кричащих красных, зеленых, фиолетовых и совсем немыслимых цветов мундиры блестели погонами, петлицами, галунами, нашивками, какими-то побрякушками, шнурками, плетенками, значками. Офицеры бряцали шпорами, презрительно расхаживали в толпе, как попугаи среди серых куропаток. Мы от души веселились. Еще совсем недавно я хохотал над собой, когда надел черный пиджак, брюки со стрелочками, штиблеты да еще затянул на кадыке, конечно с помощью женщин, солидный галстук. Но эти расфуфыренные модники могли заткнуть за пояс кого угодно.
Развеселили нас и газеты, которых накупили мы в Риге. На русском языке русскими буквами кричали они, что Россия утопает в крови невинных жертв, в Москве не на живот, а на смерть сражаются между собой Красная армия и войска Чека.
Поздно ночью перескочили границу другой буржуазной республики и, не успев даже выспаться, оказались в ее столице — Ковно. Мостовенко, посмеиваясь, объяснил нам, что Европа считает эти маленькие государства надежным карантином от проникновения коммунистической заразы. Скорее всего это будет отличный проводник наших идей.
— Посмотрите, — ахнула одна из наших сотрудниц, — нас встречают!
На перроне играл оркестр; стояли солидные господа в шляпах и пальто, иные с тросточками, военные чины — представители литовского правительства; набегала толпа зевак.
— Торжественная церемония, — показал рукою в окно Мостовенко. — Ну, как говорится, ни пуха ни пера!
Мы покинули вагон. Толстый человечек, обращаясь к Мостовенко, произнес приветственную речь, из которой я не понял ни слова; нас чуть ли не под ручки повели к длинным глянцевитым автомобилям, рядами стоящим у вокзала.
В окошке мелькали дома, стволы и ветви могучих деревьев, сквозивших зеленоватой дымкою ранней весны. Улица была ровной и чистой; и через плечо шофера я видел, что конец ее теряется вдали.
— Лайсвис-аллея, — обернулся шофер, плавно затормозил, выскочил, предупредительно открыл дверцы.
Перед нами был строгий особняк на каменном высоком фундаменте; вправо и влево, словно плечи, протянулся забор, над которым виднелись деревья, крыши сараев, служб. Над особняком плескался большой красный флаг. Это был дом ковенского адвоката Мильштейна, за арендную плату переданный литовским правительством нашему полпредству. Мы должны были обживаться, приниматься за работу.
Мне очень понравились наш торгпред Коробочкин и его секретарь Антонов. Антонов был уже немолодой, очень выдержанный, но при серьезном виде умел так находчиво и умно острить, что все надрывались от смеха. Он немножко заикался, и от этого каждая его шутка получалась вдвойне неожиданной. Коробочкин охотно доверял своему секретарю сложные коммерческие операции. Сам же торгпред умел внушить к себе уважение солидной немногословностью, деловым видом и опытом, и литовские фирмы вежливо с ним раскланивались. Однако и он горазд был на остроумные шутки, только несколько иного масштаба.
Когда мы приехали в Ковно, Коробочкин был озабочен выполнением очень ответственного задания. Требовалось срочно закупить как можно больше семян, в том числе и картофеля, и быстро отправить в Россию. Поля обсыхали после снегов, надо было сеять. А кто из нас не знал, что едят в деревнях и городах…
И вдруг Коробочкин звонит нескольким литовским торговым фирмам и преспокойно заявляет, что деловые встречи с их представителями необходимо отложить, потому что он срочно выезжает для закупки семян в Германию. Фирмы всполошились, повисли на телефонах, забегали. Они кинулись на Коробочкина в атаку, возбужденно добиваясь, чтобы господин торгпред откровенно ответил, какие причины побудили его принять столь опрометчивое решение. Коробочкин невозмутимо объяснял: цены литовского рынка его не устраивают, да и нужным количеством семян вряд ли смогут обеспечить здешние фирмы.
Узнав о размерах закупок, литовские коммерсанты порешили Коробочкина в Германию не пускать и открыли с ним азартную торговлю, постепенно сбавляя цены. Тайно друг от друга конкуренты вели с Коробочкиным переговоры о самых льготных условиях, только бы он брал именно их товар.
В небывало короткие сроки семена были погружены в вагоны, и Коробочкин мог торжествовать, тем более, что в Германию он и не собирался.
Но вот стали поступать тревожные вести: вагоны застревают на станциях, из Литвы в Россию не продвигаются. Лишь там, куда выезжают сотрудники торгпредства, железнодорожники становятся расторопными. Значит, надо посылать людей во все пункты. Коробочкин обратился за помощью к нам.
— К-колеса вагонов н-надо смазывать, — сказал Антонов, когда мы пришли к нему за инструкциями. И это оказалось не шуткой…
На небольшую железнодорожную станцию, название которой никак не запоминалось, я приехал на склоне дня. Деревья, охватив подковкой чистенький вокзальчик, вздрагивали зелеными каплями листвы. Воробьи, отлично чувствующие себя в любом климате и при любом режиме, орали среди ветвей; шуршал рыжеватый галечник, насыпанный между рельсов и по обочинам. Железная сеть многочисленных путей сплеталась и расходилась, держа на себе десятки неподвижных вагонов. Мимо них направился я к товарному складу. Возле небольшого пакгауза у расшатанных грузовых весов неторопливо покуривал трубочку крючконосый рабочий в сбитой блином на затылок фуражке. Я еще на границе заметил, что все литовские железнодорожники довольно чисто говорят по-русски и поэтому не стал тратить времени на пристрелку. Я спросил весовщика, знает ли он, где стоят вагоны под такими-то номерами.
— На девятом пути, — он показал трубкой. — Вон, видите, здание с железной трубой. Это водокачка. Так они около нее…
— Но почему стоят?
— Просто стоят и все, — глубокомысленно ответил весовщик.
— Вам известно, куда они адресованы? — удивляясь его равнодушию, напирал я.
— В Россию.
— Что же нужно делать, чтобы они не стояли?
— Отправить и все. Вы подождите полчаса, я схожу и расспрошу.
Я согласился повременить; бродил между вагонами; обреченно стоявшими в тупике. Их было пятнадцать, доверху нагруженных картофелем и семенами. Надписи на двух языках пестрели по их потемневшей окраске. Я хорошо помнил, о чем говорили мне крестьяне Погуляев, мой отец; сам бы впрягся в эти вагоны, потащил по рельсам! Переворошу всю станцию, но своего добьюсь! «Однако скандал только задержит отправку, — охладил я себя, шагая обратно к пакгаузу. — Нужно докопаться до причин».
Весовщик, попыхивая трубочкой, уже поджидал меня. Он сообщил, что вагоны можно отправлять хоть сейчас. Их надо только обработать, а сделать это некому: все очень заняты. Он подмигнул мне, рассчитывая на мою догадливость.
— Я бы уплатил рабочим, но эти расходы никто мне не зачтет, — сказал я.
— А мы выдадим вам расписки. Мы знакомы с вашими порядками. И не беспокойтесь, это очень недорого.
Мы договорились, весовщик чуть не бегом кинулся от меня по путям. Я давал взятку! Ладно, что хоть рабочим! Теперь-то я представлял, чего стоило Коробочкину и Антонову быть гибкими, отказываясь от многих своих принципов.
В зальце вокзала было сумрачно и пусто. Я сел на деревянный тяжелый диван, будто вырубленный из цельного дуба, и решил терпеливо ждать. Но кто-то выглянул в полукруглое окошечко, и ко мне вышел моложавый человек с тонкими чертами лица, в железнодорожной форме с какими-то знаками различия.
— Помощник начальника станции, — мягким баском отрекомендовался он, добродушно поглядывая на меня светло-голубыми глазами. — Я знаю о вашем деле… Вы не откажетесь, если я приглашу вас к себе? Мы с женой были бы очень рады. Через полчаса я освобожусь.
По-видимому, ему искренне хотелось о чем-то со мной поговорить. Да и провести ночь на этом диване не особенно-то приятно. Я не знал, удобно ли будет предлагать за ночлег деньги, и поэтому надумал купить бутылочку вина.
И вот мы сели за стол. Круглолицая улыбчивая хозяйка, повязав шелковистые белокурые волосы косынкой, хлопотала с ужином. В чистеньком домике было тепло, уютно, хорошо пахло поджаренным салом.
Мы немножко выпили за здоровье хозяйки, разговор заметно оживился. Хозяин расспрашивал меня о жизни в Советской России, и я с радостью убеждался, что это всерьез его интересует.
— У нас тоже свободное государство, — сказал хозяин. — Для немецких товаров и ост-марки. Германия высасывает из нас все соки… Вот вы удивляетесь, что наши рабочие не брезгают взятками, даже вымогают их. Они нуждаются. Нам сулили свободу, самостоятельность, демократию, пугали вашей анархией. Теперь рабочие клянут свое правительство, немцев, русских эмигрантов. Вы переживете трудное время, подниметесь, а там — какая прекрасная перспектива! И какой пример для нас, и какой горький урок за то, что два года назад не сумели… Я не коммунист, но ненавижу всех, кто рвет на куски нашу маленькую страну…
Он оборвал разговор, извинился за горячность, еще выпил и предложил мне поспать.
Когда я проснулся, его уже не было. Хозяйка, показала мне умывальник, подала мохнатое полотенце. Едва я привел себя в порядок, вернулся хозяин:
— Вагонов на станции уже нет. Вот расписка на пятьдесят ост-марок, деньги можете передать весовщику.
— Пятьдесят ост-марок за полтора десятка вагонов? — Я изумился. — Такой пустяк!
— В нашем литовском краю каждый зарабатывает как может, — вздохнул он. — Рабочие берут, так сказать, приличные взятки.
И повсюду, на какую бы станцию я ни приезжал, приходилось так же подмазывать колеса. Наш полпред, когда все мы возвратились в посольство, в интересах дела разрешил бухгалтерии оплачивать расходы по распискам — иного выхода не было.
С утра Первого мая во дворе полпредства шелестели яблони, бросая к подножиям своим лоскутья солнца. Лайсвис-аллея обратилась в сплошную зеленую полосу, уходящую в долину Мицкевича. Долина, названная именем великого поэта его земляками, до самого волнистого горизонта оделась мягкой молодой травой; вековые дубы, липы, кустарники, озолоченные солнцем, казались плывущими в прозрачном воздухе.
С рассвета сотни ковенцев поспешили на природу — в свою долину, и мимо нашего полпредства пестро продвигался оживленный многоголосый шум. Еще накануне я постарался украсить особняк так, чтобы каждому литовцу понятно было, что сегодня не просто воскресный день, а международный праздник всех трудящихся. Мы понавесили множество флажков, над крышей развернули большой шелковый флаг, и алые отсветы его затрепетали по деревьям, по мостовой.
Многие сотрудники тоже отправились в долину и возвратились только к торжественному обеду. Потом все занялись своими развлечениями; а мы, несколько человек, разместились на веранде, выходящей во двор, и ждали чай, который пообещала нам жена полпреда Софья Ильинична.
Полпред у нас был новый, Семен Иванович Аралов. Уже при нем мы заканчивали «вояж Коробочкина», как окрестил Антонов ловкий ход торгового представителя. Мостовенко отозвали на другую ответственную работу, и мы забеспокоились. Каким полпредом окажется товарищ Аралов, согласится ли он с теми порядками, что установил Мостовенко?
Правда, я Семена Ивановича немножко знал. Он был начальником Разведывательного управления Реввоенсовета Республики, когда я работал военкомом Брянского фронта, и мне доводилось несколько раз обращаться к нему по службе. Поэтому я, не кривя душой, надеялся: нового полпреда удастся убедить в том, что мне разумнее быть в Питере. Ведь с обязанностями хозяйственника, насколько я убедился, может справиться любой. А сколько бы я за это время сделал полезного в цехе, скольких людей обучил бы мастерству!
Аралов приехал вместе с женой и двумя сыновьями, Севой и Славой, безо всяких усилий завоевал общее уважение и дружбу. Софья Ильинична, общительная, с мягким, ровным характером, умела создавать у себя дома добросердечную обстановку; и мы всегда охотно у Араловых бывали.
И сегодня мы негромко переговаривались на веранде, ожидая, когда Софья Ильинична приготовит свой отменный чай, слушали отдаленные всплески улицы, по которой возвращались с прогулки ковенцы, представляли, как прошел праздник в Москве.
Но вот появился секретарь торгпредства Антонов. Он вошел очень быстро, губы его были скорбно опущены, глаза улыбались..
— Семен Иванович, п-позвольте рассказать о только что происшедшем со м-мною случае.
— Потерпите немного, — Аралов кивнул на свободное кресло. — Сейчас будет чай, тогда и послушаем.
— Анекдот как раз к чаю.
Софья Ильинична накрыла на стол, все поудобнее разместились с чашками, и Антонов начал:
— Сейчас возвращаюсь домой из долины Мицкевича в таком отличном настроении, что чуть ли, не сочиняю стихи. Недалеко от посольства догоняют меня три русских офицера из полка «Железный волк». Как обычно, весьма на взводе. Одному из них я очень понравился, и он вежливо спросил: «На кой черт большевики повесили на чужом здании свою грязную тряпку?» Я тоже постарался быть вежливым: «Очевидно для того, чтобы кое-что напомнить всякой с-сволочи».
Офицер в знак благодарности выхватывает из кобуры револьвер, но спутники его удерживают. Ну, разумеется, вокруг уже толпа, полиция, уже рассказывают друг другу, что русские убили русских. «Почему вы назвали офицера сволочью?» — допрашивает меня полицейский. «Позвольте, — удивляюсь я, — я только на достойный вопрос дал достойный ответ. А если этот г-господин офицер сам причисляет себя к такой категории людей, то это уже его личное дело. Он себя лучше знает».
Многие в толпе меня поддержали. Полицейские, чтобы успокоить разгневанных г-господ, записали мои координаты, и я попал к вам как раз вовремя.
Аралов посмеялся, но все-таки заметил:
— А вдруг бы пальнул. Они же от ненависти к нам рассудок теряют. Нам надо уклоняться от всяческих столкновений.
Однако и ему приходилось неоднократно испытывать свое терпение. Разговор наш естественно перешел на белоэмигрантские газеты, особенно на «Эхо», которое в упражнениях по лжи и клевете на Советскую Россию творило чудеса. Однажды газета известила своих читателей, что многострадальный и многотерпеливый русский народ не выдержал невыносимого режима Чека, восстал и ведет борьбу. Борьба эта столь успешна, что недалек час, когда верные сыны отечества, вынужденные покинуть его, возвратятся на родину, к своим близким, под родимый кров.
Само собой, наш полпред не мог мириться с тем, что в государстве, с которым мы находимся в дипломатических отношениях, допускаются подобные разнузданные выпады против Страны Советов.
— Министр иностранных дел, — говорил Аралов, — на мои протесты заявляет, что, дескать, официальная литовская печать здесь ни при чем; а лично он, якобы, вообще ничего предпринять не в силах, так как в их стране существует свобода печати.
— Позвольте мне, — предложил я, — рассказать забавный случай…
Я припомнил, как совсем недавно приходил ко мне адвокат Мильштейн получать за свой особняк арендную плату. Розовый, надушенный преуспевающий адвокат был на этот раз особенно оживлен, потирал руки, и в голубых глазах его под рыжими ресницами сквозила еле скрываемая радость. «Я сочувствую вам, — сказал он с подробно разработанным вздохом. — При таком серьезном положении в России вы хорошо держитесь».
Я расхохотался и долго не мог успокоиться. Как же так? Столь образованный, умудренный житейским опытом юрист мог поверить этому «Эхо»? Может быть, хотел поверить! А на послушном лице Мильштейна выразилось недоумение.
«Извините меня, — отдышавшись, попросил я, понимая, что вопрос самому адвокату казался весьма важным, — и разрешите ответить со всей откровенностью. Хотя, возможно, она вам и не понравится». Адвокат был весь внимание. Тут я постарался объяснить ему, какие цели преследует «Эхо». Во-первых, здешнее правительство очень печется о том, чтобы литовцы были напуганы российскими «беспорядками» и не поворачивали бы внимательные уши на голос большевиков. Во-вторых, что самое главное, дуреют эмигранты, хватают «Эхо», как спасательный плот, атакуют банки, требуя продажи царских денег, которые скоро опять будут иметь вес. Банки охотно раскрывают свои мусорные ямы и за бешеные цены освобождают их от никому не нужного хлама. Потом «Эхо» потихоньку начинает трубить отбой, ссылаясь на возрастающие силы Чека; и эмигранты теряют надежды, а вместе с ними и ост-марки, возвращая знаки с царскими орлами в банк по пониженному курсу.
«Ну, знаете ли, — с возмущением воскликнул адвокат Мильштейн, дослушав мою короткую лекцию, — таким методам грабежа даже мне трудно поверить!.. Минуточку, — нашелся он, опять сочувственно и понимающе на меня глянув, — как же в таком случае положение в России подтверждает официальная газета? На днях я читал статью, где на литовском языке черным по белому приводятся те же самые факты». «Совершенно верно! — Я подошел к подшивкам газет, лежащим на столике, полистал помеченные карандашами наших дипломатов страницы. — Но вы не обратили внимания на источник, откуда почерпнуты эти сведения? Вот прочтите — ссылка на уважаемое «Эхо».
«Гм, — произнес раздосадованный адвокат, — если верить вам, то, значит, и я в какой-то мере пострадал…»
Если бы показать Мильштейну наши газеты, газеты моей далекой родины! Любая заметка в них волновала меня, тянула туда, где в трудном, геройском самоотречении недавние солдаты становились к насмерть замороженным печам, к изголодавшимся станкам, своим дыханьем отогревая их; где сращивали переломленные хребты мостов и вывернутые ребра рельсов; где не восстание, а восстановление, а битва за хлеб и машины, за свет и тепло удесятеряла силы. Что мог понять адвокат Мильштейн, о чем бы это ему говорило?..
Когда гости разошлись и вечерние шорохи сада вползли на веранду, мы еще долго говорили с Араловым.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Шторм разгулялся к вечеру; ледяной ветер с Баренцева моря обрушился на деревянную контору, сотрясая ее с такой силою, что, казалось, вот-вот она рассыплется по бревнышку. Мы невольно вбирали голову в плечи, прислушиваясь к реву, свисту и грохоту за стенами. Однако бывший хозяин рыбоперерабатывающего завода ставил контору крепко, на веки, и она выдержала, наверное, не один такой шторм.
Было так холодно, что стягивало руки. Чугунная печь гудела и дрожала, от круглых боков ее подымался жар; но стоило отойти на два шага, и пар от дыхания цеплялся за усы. Мы натянули на себя все, что было: ватные стеганые штаны, шапки, полушубки — и решили по очереди дежурить у печи.
Председатель пограничной комиссии, он же начальник нашей экспедиции в тундру, Василий Павлович Таежный был явно встревожен. Если шторм затянется, мы упустим время, не выполним правительственного задания. А задание это касалось добрососедских отношений двух государств: молодой Советской Республики и Финляндии.
Дело в том, что наше правительство согласилось уступить финнам часть территории, принадлежавшей ранее Российской империи, вместе с городом и портом Печенгой. Направление новой границы, пункты и сроки ее проведения, обязательства обеих сторон и многие другие детали были обусловлены специальным договором. Не успели, как говорится, обсохнуть чернила, а финны уже заявили, что провели границу сами и Советам остается только ее признать. Для проверки финского варианта в тундру была направлена комиссия во главе с работником Наркоминдела Разореновым. Разореновцы три месяца проблуждали по тундре, застряли в болотах и по существу ничего не сделали. Установили только, что никакой границы наши соседи не проводили, порубежные знаки поставили лишь на побережье океана, прирезав себе одну из самых богатых рыбою бухт. Финны, однако, исправлять свои ошибки не согласились; обещали только в нашу новую комиссию прислать представителей для контроля и оформления протоколов. Таким образом они уклонились от ответственности, переложив на нас всю тяжесть работы, а драгоценное время было упущено. Оставалось одно из двух: либо мы должны лететь буквально на крыльях, либо сроки договора истекут и финский вариант автоматически станет законным.
Разумеется, представители Земли Суоми не поспешали. Двое суток ждали мы их на берегу полуострова Рыбачьего. А сегодня нам сообщили, что они приехали в Печенгу, приглашают нас туда, потому что именно оттуда нужно выходить в тундру. Добраться до Печенги можно было только морем, но, в довершение всего, нагрянул шторм. Вполне понятно, почему так тревожился Василий Павлович, да и всем нам вынужденное бездействие ничего доброго не сулило.
Я пристроился у печи, подбрасывая уголь, помешивая его узловатой от нагара кочергой. Синие огоньки копошились поверху, ярко пламенели раскаленные спекшиеся куски; иногда вырывался огонь, обдавая запахом тухлого яйца, и смерчем всасывался в трубу. Горело жарко, а спина мерзла. Я слышал, как ворочается с боку на бок Таежный, как шепотом ругает все на свете топограф Данилов. Лишь один Карлушка, наш переводчик, преспокойно посвистывал пуговичным носом…
Еще совсем недавно мне бы и в голову не пришло, что вдруг я окажусь за Полярным кругом, увижу Северный Ледовитый океан, буду сидеть у старой чугунной печи, постанывающей от порывов ветра.
У огня всегда вспоминается многое. Вспыхивают искорки, высвечивая лица, события; пламя словно выхватывает из памяти прожитые годы. И даже то, мимо чего прежде проходил, что недосуг было оценить, неожиданно становится весомым, значительным, нужным. Или перед далекой неведомой дорогой, по старому русскому обычаю, хочется оглядеть прожитые годы, проверить себя, чтобы не поскользнуться, не утратить и впредь верного душевного настроя?
Нет, я ничуть не сожалел, что оказался на краю света и ждет меня нелегкое и даже, по-видимому, опасное путешествие. С самого раннего детства не обходил я острых углов, не прятался от ветра в тихом закутке. Был и сечен, и кручен; раны все еще дают себя знать. И, может быть, потому спокойно согласился, когда Василий Павлович Таежный сказал мне: «Это, Дмитрий, надо…»
Я только-только приехал в Москву из Ковно. Немалых трудов стоило мне убедить полпреда, что заменить меня очень просто. Я спал и видел, как опять стою у фрезерного станка, держу на ладони теплую, новорожденную деталь. Квалификация у меня высокая; и пользы от меня будет гораздо больше, если пойду на завод. Рабочих рук повсюду не хватает, после войны почти все заводы дышат на ладан — кому же, как не мне, засучивать рукава!
Это же примерно доказывал я и в наркомате. Но здесь оказались еще несговорчивее:
— Никакого отпуска вам, товарищ Курдачев, не будет. Вот направление в общежитие. Отдохните несколько дней… А работу найдем. Много работы.
Дня два или три бродил я по Москве, всматривался в лица, жадно слушал родимый говор. Проходили красноармейцы в буденовках или в кожаных фуражках, озабоченные с усталыми глазами женщины, спешили куда-то рабочие люди с лопатами и ломами на плече, тянулись крестьяне в лаптях и зимних треухах, топыря бороды к церковным главам, сновали вороватые ободранные мальчишки. Листья на деревьях кое-где пожухли, свернулись, но было по-летнему тепло. Новая столица все еще голодала, еще не дышали заводы по окраинам ее; но в разговорах людей, в жестах и взглядах чувствовалась добротная уверенность.
Мне даже как-то неловко было без цели бродить по улицам; я совсем не привык к такой долгой праздности. «Пусть назначают куда угодно, — думал я, шагая к наркомату, — лишь бы не болтаться этаким заграничным наблюдателем».
В коридоре меня окликнули. Я увидел человека, лицо которого показалось очень знакомым. Конечно, это был Василий Таежный, свой, питерский!.. Мы долго трясли друг другу руки, хлопали друг дружку по плечу, то разом заговаривая, то смолкая. Оказывается, он тоже работал в Наркоминделе, а сейчас его назначили председателем пограничной комиссии, и он подбирал людей.
— Так вот, — не дав мне опомниться, заключил он, — будем опять работать вместе. Ты займешься обмундированием и продовольствием. Завтра же и приступай. Времени у нас в обрез!
Одежду, продукты и оборудование мы должны были получить в Питере, там же назначена было встреча с неудачливой комиссией Разоренова, которая возвращалась с Рыбачьего полуострова. Что и говорить, как я разволновался, когда поезд подошел к Петрограду. Ведь город этот стал мне больше чем родным: в нем я по-настоящему учился ходить, думать, глядеть на мир, работать. Но некогда было предаваться воспоминаниям. Приняв от унылых разореновцев имущество и инструменты, мы с утра до вечера обивали пороги всяких учреждений и складов.
Мы еще плохо представляли, какой путь нам предстоит. Знали только, что от побережья надо добраться до горы Корватунтури, а потом обратно по голой тундре. Карты у нас были приблизительные: по одним получалось расстояние верст в триста, по другим выходило даже пятьсот. Во всяком разе, пешком пройти его не шутка. Подсчитали, что при самом экономном пайке каждому из нас придется тащить на спине больше двух пудов груза, — и даже страшновато стало. К тому же мы должны взять с собою по ружью, топоры, теодолиты, кайла и кувалды, чайники, кастрюли и прочее снаряжение.
Но все это еще полбеды. Вот с одеждою нам совсем не повезло. Думали: получим легкую, прочную и теплую, — а выдали нам полушубки, солдатские шапки, ватные штаны и… хромовые сапоги.
— В тундру в хромовых сапожках, — шумел Таежный, когда вдвоем с ним бросились мы к интендантам. — Шутите, что ли, товарищи? Хотя бы валенки!..
— Понимаем, что валенки, — разводили руками интенданты. — А где их изыскать? Мы даже калоши на сапоги предложить не можем.
— Попробуем обменять в Мурманске, — придумал Таежный.
— Мурманск не Питер, — согласился я, — там без валенок не перезимуешь.
Погрузились в вагон. Теперь вся комиссия была в сборе: секретарь Евлампиев, три топографа, переводчик Карлушка и четверо рабочих. Дорогой Таежный то и дело спрашивал меня, как быть, если и в Мурманске не достанем валенок. Так оно и вышло. Предлагали что угодно, а обыкновенных валенок не оказалось ни в одном ведомстве, ни на одном складе. Потрепанный тральщик, свирепо дымя, ждал нас в порту. Мы перетащили на него все свое снаряжение, сдали вагон железнодорожникам на хранение и с тяжелым сердцем отвалили от причала.
Ледовитый океан широко гнал навстречу покатые волны. Тральщик поматывало; он сердито крякал, переваливался с боку на бок. Белесая муть скоро затянула и размыла берег, скалы его только угадывались вдалеке. Чайки с хищными криками увязались за кормой и не отставали. Я ни разу в жизни не выходил в северное море и будто во сне видел теперь молочные отблески воды и неба, слышал вскрипы снастей, запахи рыбы и сырого ветра. Время для меня как-то перестало существовать; и я даже удивился, когда навстречу показались обнаженные угловатые камни. Мы входили в Вайду-губу через узкую горловину. Берега держали ее в себе, как огромную каплю океана; вода была ровной, гладкой, будто застыла, и тральщик без усилий скользил по ней. Правый берег бухты отлого подымался к голым высотам, слева в глубину обрывалась почти отвесная стена, оскаленная пластами пород. Из воды торчал скелет какого-то корабля, а на камнях у моря темнела распластанной рукавицей туша кита, возле которой суетились рыбаки. Позже мы узнали, что корабль напоролся в тумане на каменную отмель, что кит совсем недавно почему-то выбросился на берег.
По дощатым сходням перебрались мы на сушу. Нас встретил финский комендант. Любезно улыбаясь, прикладывая руку к впалой груди, он сказал, что заранее предупрежден о нашем прибытии и имеет поручение от своего правительства оказывать нам всяческое содействие.
И на другой, и на третий день он справлялся о нашем здоровье, сокрушался, что представителей финской комиссии все еще нет, а потом сообщил о приближении шторма. Мы переглядывались с досадою. Срок договора истекал 25 декабря 1921 года. Было 13 сентября — значит, нам всего-навсего оставалось три с половиной месяца…
— Нет, не заснуть, — сказал Таежный, подымаясь и застегивая полушубок покрасневшими пальцами. — Попробуй ты, Дмитрий, а я подежурю.
За стенами истошно завывали тысячи голосов, что-то скрежетало, плакало, рычало. Я прилег рядышком с топографами, поглубже нахлобучил шапку, поставил воротник.
Утром мы не выдержали. Следом за Таежным выскочили из конторы и, падая на плотный ветер, начали пробираться к бухте. Вода и тучи смешались в буро-темную пелену. Цепляясь за камни, мы глянули с крутого берега в бухту. Нет, совсем не тихой было она теперь. Могучие валы, вспенивая гребни, бились о твердь, с грохотом обрываясь в пропасть. Ветер подхватывал их клочья, вышвыривал нам в лицо. То и дело утираясь рукавом, я пытался разглядеть океан. Там все ходило ходуном, кипело, завивалось, будто в гигантском котле. И мне начинало казаться: весь берег раскачивается, отрывается от приколов, вот-вот рухнет вместе с нами в какие-то бездны…
По-видимому, и товарищи мои чувствовали то же самое, потому что Таежный махнул рукой, топограф Данилов вскочил и вприпрыжку бросился к конторе.
— С меня довольно, — сказал Данилов, когда дверь выстрелом захлопнулась за последним. — Никуда я не поеду!
Таежный выпятил подбородок, оглядел нас пристально, будто еще ожидая от кого-то панических слов.
Небо было беспросветным; шторм ни на мгновенье не уставал, все так же сотрясал деревянные стены нашей конторы. Василий Павлович осунулся в лице, стискивал от бессилья кулаки. Он готов был сейчас, сию секунду на чем угодно пуститься в плаванье. Но финские рыбаки только умудренно качали головой.
Они приходили к нам в гости, обветренные до черноты, пропахшие рыбой, приносили в корзинах треску и сельдь, садились у печи на корточки, раскуривали трубки. Рассказывали, что русский купец, владелец завода, гнал их в море даже в шторм. Сколько вдов до сих пор выходят на скалы, ждут своих кормильцев. Когда купец сбежал вместе с царскими чиновниками, стало посветлее, будто солнышко проглянуло. Осторожно расспрашивали нас, что делается в России. Мы радовались таким гостям и не давали усердному переводчику Карлушке отдыха.
Дорога, по словам рыбаков, предстояла нам такая, что не всякий лопарь на нее отважится. Только из вежливости не осмеяли нас, когда Василий Павлович показал наше снаряжение.
— Лыжи надо, другую одежду, — говорили финны, дымя трубками. — Погибнуть можно.
На лыжах никто из нас ходить не умел, иного снаряжения не было. Топограф Данилов перестал бриться, да и у остальных настроение становилось все мрачнее. Чувствовать себя в мышеловке, знать, чего будет стоить вынужденное прозябание, не так-то уж сладко.
Финский комендант, связавшись с Печенгой по телефону, сообщил нам, что господин профессор Бонсдорф и его коллега господин Ханныкайнен желают нам здоровья, просят не волноваться: барометр когда-нибудь подымется.
— Им-то волноваться нечего! — возмутился обычно сдержанный Евлампиев. — Даже погода за них…
Наконец, ветер упал, океан еще погремел и тоже успокоился. Бухта Вайда лежала тихая, светлая, отражая скалы, мягко пришлепывая к берегу прозрачные волны. Весело, громко кричали птицы, стаями обрушиваясь на закраины бухты. Мы тоже готовы были кричать, плясать, петь.
Начисто выбрились, привели себя в порядок. Финский комендант поздравил нас с окончанием шторма, убежал хлопотать об отъезде.
Вскоре к берегу припал маленький рыбацкий ботик. Рыжий, как подсолнух, широкоплечий рулевой с трубкой в зубах, широко расставив ноги в сапогах бутылками, молча наблюдал, как бегаем мы муравьями от конторы и обратно, перетаскивая грузы. Зато синеглазый белозубый моторист весело и умело нам пособлял.
— Скоро будем в Петсамо, — по-русски говорил он, называя, однако, Печенгу по-своему. — Если барометр не начнет падать. — И посмеивался над топографом Даниловым, лицо которого испуганно вытягивалось.
Мы крепко пожали руку участливому коменданту, Таежный от имени комиссии поблагодарил его. Застрелял мотор, мелкой дрожью охватило ноги, вода за кормой взбурунилась; берег медленно пополз назад, отдаляясь. На круче стояли комендант и рыбаки, приветственно вскинув руки. Прощай, тихая бухта, мы выходим в океан!..
Только издали казался океан спокойным. Он мерно дышал, то подымаясь, то опадая; и ботик наш скорлупкою затерялся в его величии. Мне чудилось, будто мы не движемся, а только раскачиваемся вверх — вниз, вверх — вниз на гигантской качели. Таежный, Данилов, Евлампиев, Карлушка и другие позеленели, залегли на дно суденышка. Меня морская болезнь почему-то не брала, и я остался с рулевым.
Вечерело, океан объединялся с небом в серо-белесом тумане. Пустота окружала меня. И если б не посапывание трубки рулевого, не деятельная возня моториста, я бы, наверное, испугался одиночества.
— Петсамо, — неожиданно сказал рулевой, трубкой указывая через мое плечо.
Только что я думал: пока не укатил от всяких артелей в Петербург, вот так же качался вверх — вниз крохотной соринкой в огромном океане. Но, оказывается, мотор все время стучал, все время толкал вперед.
Была ночь — и не было ее. В белесый полусумрак неприметно просочилось утро. Светлели суровые очертания дикого зубчатого берега; все ближе подвигался другой, полого подымающийся от залива.
Теперь нас не качало, и Василий Павлович встал рядом со мною, оглядывая берега. Виднелись деревянные постройки каких-то складов, стайки рыбацких домиков, двухэтажный особнячок на возвышении.
— Гостиница, — опять проговорил рулевой.
— Не заметили, как очутились в другом государстве, — засмеялся Таежный. — Даже не встряхнуло на границе. А где же город?
Рулевой указал на возвышенность, сбегающую к заливу. Механик заглушил мотор и быстро пояснил, что прибыли мы в торговый порт; а Петсамо дальше, отсюда его не видно. В город ходят по тропинке или на лодках.
Несколько рыбацких ботов и три небольших парохода ночевали у причалов. Наше суденышко бесшумно припало к мосткам.
— Земля-то качается, — ахнул Карлушка, широко расставляя ноги.
Все понемногу приходили в себя, пробовали ногами камни, словно испытывая их на прочность, вставали покрепче. Не сговариваясь, двинулись к гостинице. Хотелось помыться, выспаться как следует.
Дверь открыл сам хозяин, высокий, головой под притолоку, с лошадиными зубами финн; радушно повел рукой, пригласил отчетливо по-русски:
— Чувствуйте себя как дома. О вещах не беспокойтесь, я распоряжусь.
В столовой было чисто, светло; потрескивал грудастый камин, сложенный из дикого прибрежного камня. Крупная еще не старая женщина — хозяйка и молоденькая приманчивая девушка споро настелили хрустящие скатерти, подали завтрак.
— Назад приехали, — сказал Данилов, отбрасывая дочиста обглоданный костяк рыбы. — К буржуям.
Впервые за неделю мы ели по-настоящему; поэтому ни спорить, ни соглашаться с топографом не хотелось.
— Отдых до обеда, — приказал Таежный. — Затем идем в город знакомиться с профессором и добывать обувь…
Через несколько часов мы весело направились в путь. Светило нежаркое солнце, непривычно низкое для этого времени; прохладный ветерок от бухты щекотал шею. Каменистая тропинка шла вдоль возвышенности, была хорошо протоптана: по-видимому, местные жители часто ею пользовались.
Чуть отдаленные от нас, беспорядочно толпились деревянные дома; и между ними трудно было угадать улицы, определить центр. Город теснился на площадке — в долине между двумя хребтами, образующими берега бухты.
— Это был самый северный город Российской империи, — рассказывал Таежный. — Возник он на месте древнерусского монастыря, торговал с Мурманском, с Норвегией. Иван Грозный придавал ему весьма серьезное значение как аванпосту на крайнем севере… Теперь финны по-настоящему занялись здесь хозяйничать.
Он указал на берег. Десятка два рабочих долбили кирками черные камни, терпеливо оттаскивали их в сторону, расширяя тропу. Мы узнали, что это из Петсамо в торговый порт пробивают дорогу.
Четверть часа спустя мы уже шагали меж домиками, магазинами и складами к городской гостинице.
Профессор Бонсдорф был невысок, плотно сбит, с железными мускулами, с молодыми светлыми глазами. Приветствовал он нас бурно, пребольно стискивая каждому руку.
— Ну вот и вы, наконец! Гора с горой не сходится, человек с человеком всегда сойдутся!
За одну минуту мы узнали, что долгое время работал профессор в Пулковской обсерватории, попутно изучал русские пословицы и поговорки. Внезапно спохватившись и прервав себя на полуслове, он кинулся к двери:
— Позвольте представить моего коллегу господина Ханныкайнена!
Помощник профессора Бонсдорфа по комиссии был выше его ростом на голову, дороден и увесист и фигурой своей напомнил мне троицкого отца Александра. По-русски он почти не умел и преспокойно помалкивал, предоставляя профессору говорить за двоих.
— Когда же в путь? — приступил Таежный к делу.
— Вы, наверное, мне не поверите, но сейчас ни пешком, ни на лыжах в тундру не пройти! Будем ждать, когда ляжет снег!
Данилов выругался сквозь зубы, а Евлампиев кивнул:
— Вам это выгодно.
— Отчего же, отчего же, коллега? — воздел руки профессор. — Мы отнюдь не намерены саботировать! Если вы не возражаете, то мы перекочуем к вам в гостиницу, будем готовиться вместе…
К сожалению, профессор оказался прав. И хозяин гостиницы, и другие финны в один голос убеждали, что до снега в тундру нет дороги.
— Пусть так, — не сдавался Таежный. — Ну, а если на оленях? Тогда мы наверстаем дни!
Однако и тут нам возразили: лопари еще долго не будут ловить оленей. Что же оставалось делать? Опять, в прямом смысле, ждать у моря погоды? Мы вновь пересчитали все грузы и предметы, вплоть до белья, до каждой иголки. Оставили только самое необходимое; паек на каждого урезали так, что лишь бы не протянуть ноги. Таежный договорился с шестью финскими парнями, но далеко идти с нами они не могли: сами же съели бы те продукты, которые понесут на себе. В городе мы закупили теплые перчатки, шерстяные чулки, легкие и прочные лыжи, но валенок так и не достали. Пришлось довольствоваться тем, что удалось найти. Я раздобыл себе кеньги — просторную и удобную кожаную обувь с мягкой подошвой без каблуков, с загнутыми кверху носами, словно приспособленными для ходьбы на лыжах. Данилов же решил, что неплохо будет и в сапогах, стоит только намотать побольше портянок.
Мы готовились, а снега все не было. Лишь иногда набежит тучка, чуть припорошит камни, и снова солнце, непривычно низкое, засверкает на волнах.
Однажды утром мы снова направились в город. Рыбаки запускали моторы своих ботов, обиходили сети. Огромные собаки с загнутыми кренделем хвостами подбирали на берегу рыбу, уносили в полусомкнутых зубах повыше и раскладывали на солнышке.
— Что это они делают? — спросил я рыбака, вразвалочку проходившего мимо нас. Карлушка тоже с интересом ждал ответа.
— Заготовляют себе еду, — сказал рыбак.
— А разве вы их не кормите?
— Зачем? Они сами ловят рыбу, сушат или морозят, а потом едят…
И он удалился, всем своим видом показывая, что праздные разговоры заводить ему недосуг.
Данилов тем временем опередил нас, шел уже по дороге, которую за вчерашний день успели финны протесать подальше. Вдруг он остановился, нагнулся; в руке его что-то блеснуло. Заметив, что мы с Карлушкой и Евлампиевым его догоняем, он быстро сунул руку в карман.
— Чего ты нашел? — поинтересовался Евлампиев.
Данилов пожал плечами, но в это время с нами поравнялся Таежный, внимательно посмотрел на топографа; у того забегали глаза.
— Покажите! — Таежный протянул ладонь.
Тогда Данилов вытянул из кармана серебряные часы с увесистой цепочкой.
— Положите обратно, — сказал Таежный.
Данилов побледнел, ноздри его задрожали:
— Я не украл! Я нашел, и они мои…
— Приказываю положить, — нажал на голос Таежный. — В противном случае буду вынужден вернуть вас в Петроград, указав причину.
Топограф чуть не швырнул часы на дорогу. В городе он отставал от нас, держался стороной, видимо затаив обиду.
Когда мы возвращались, часов на дороге не оказалось. Финны в этот день почему-то не работали, вокруг — ни души; только море всплескивало внизу, натыкаясь волнами на камни.
— Вот и пожалуйста, — усмехнулся Данилов, — разводим всякую чепуховину…
— Это они! — закричал Карлушка.
И правда, кто-то протиснул в камни ветку и повесил часы на нее. Таежный покачал головой, заговорил строго, собрав возле губ жесткую складку:
— Мы здесь представляем всю нашу Республику. На нас не должно быть ни малейшего пятнышка.
Молча вошли мы в гостиницу. Навстречу вскочил с дивана профессор Бонсдорф в теплом свитере и забавной шапочке:
— Приветствую вас, коллеги, и прошу принять в свою семью. Здесь значительно удобнее готовиться к походу: никто не мешает! Между прочим, в окрестностях множество куропаток. Если есть охотники, можно скоротать время и разнообразить стол!
— Пожалуй, попробую, — сказал я и заторопился к себе.
Вычистил ружье, набил патронташ, пораньше лег спать. Очень хотелось побродить по тундре, да к тому же стоило убедиться, не подведет ли в походе раненая нога.
Но заснуть я не мог долго. Вроде бы пустяковый случай с часами почему-то обеспокоил меня. Я видел, что финны, уходя на обед, без опаски оставляют на дороге инструменты, куртки, шапки. Никого здесь это не удивляло; честность, по-видимому, не ставший в заслугу, она была таким же врожденным свойством, как улыбка. А среди нас, даже среди нас — людей, наделенных особыми полномочиями, проверенных, оказался человек, руки которого сами потянулись к чужой собственности.
Военная привычка еще сказывалась: проснулся я в назначенный самому себе час. Быстренько умылся, взял ружье, стараясь не нашуметь, вышел из гостиницы. Над Печенгским заливом плавал белый туман, стонали голодные птицы. Темное веретенообразное тело поднялось из-под воды, паровозом зашипело, выстрелило вверх фонтаном и опять погрузилось.
Китов я видел в заливе не раз и потому не стал задерживаться. Перевалил через возвышенность; прыгая с камня на камень, спустился в неровную влажную низинку, выбрался на взлобок. Тундра была передо мной. Отчетливо приметны были березы, поблескивали озерца, кое-где темнели хвойные сколки, мельчая, уходя в болото. Все было желтовато-серое, будто подернутое старым пеплом.
Не долго думая зашагал я к березам. И вдруг из-под самых сапог метнулось что-то рыжеватое, с тревожным криком «крэк, крэк», волоча крылья, покатилось в сторону. Березы ожили, защелкали, захлопали. Я приложился; эхо разнесло выстрел и сразу погасло. Две куропатки бились в изверченных ветках. На лапах у них были большие когти и длинные перья. Вскоре я убедился, что куропаток здесь видимо-невидимо, и всякий интерес к охоте пропал. Подвесил к поясу дюжину птиц и повернул обратно.
Боли в ноге не было, я бодренько вошел в гостиницу и раскинул перед хозяйкой свои трофеи. Она поняла, закивала головой, крикнула что-то девушке.
— Наверное, погода скоро переменится, — сказал я Таежному, который сидел у стола, расправив карту.
— Ты пророк?
— Наподобие. Я всегда это чувствовал…
Снег повалил, снег! Да какой богатый, пушистый. Не видно за его мельканием ни залива, ни гор. Мы выскочили из гостиницы, подставляли ладони, ловили губами, кидали друг в друга распыляющиеся комки.
Таежный приказал собираться, к рассвету быть наготове. Но с океана насмешливо присвистнул ветер, разогнал тучи, и мокрые пятна заблестели на скалах. Лишь кое-где в укромных местах снег удержался пушистыми заплатами.
— Это начинает уже напоминать сказку про белого бычка! — кипятился Таежный. — На севере нет снега!? Если бы кто-нибудь в Москве сказал такое, я бы расхохотался в лицо.
К нам подбежал ликующий Карлушка:
— Нашел, Василий Павлович, нашел! Ложбинку нашел… Можно учиться на лыжах.
Мы отперли сарай, где хранились некоторые наши пожитки, разобрали лыжи, перекинули через плечо, как оружие, и устремились за Карлушкой. Профессор Бонсдорф заметил нас через окно, выскочил на улицу, за ним грузно затопал Ханныкайнен.
В ложбине между двумя каменными уступами лежал чистый и плотный снег, согнанный сюда ветром; по нему можно было проехать несколько шагов. Мы долго укрощали лыжи, чтобы пристегнуть их, Карлушка подсказывал. И вот я — на снегу. Делаю первый шаг. Лыжи сразу же выходят из повиновения, скрещиваются ножницами, я падаю на четвереньки. У других получается не лучше. Профессор Бонсдорф хохочет до слез, Ханныкайнен гремит, как горный обвал.
— Ничего, ничего, — подбадривает Карлушка, — еще день, и вы привыкнете.
Но снег мы уже истоптали, обнажив острые камни. Потные, замученные, словно после погрузки, побрели мы домой.
— Проедаем государственные деньги, спим, как сурки, — сокрушался Василий Павлович, стуча лыжами, — а воз и ныне там. Даже на лыжах не умеем! Ну что молчишь, Курдачев?
— Не знаю почему, но все время вспоминаю свое прошлое. То общее, то частности. Словно сам себе пытаюсь что-то доказать…
— И я вспоминаю! Вот сегодня ночью проснулся и подумал: все у нас повторяется, только в других масштабах. Опять учимся ходить, учимся ждать, терпеть, учимся… А ведь так хочется очертя голову ринуться в эту треклятую тундру!
Он насупился, поправил на плече лыжи. Я шел рядом, стараясь осторожнее ступать по камням кеньгами.
— С чего ты начинал, Дмитрий Яковлевич, на «Новом Лесснере»?
Я верно понял вопрос Таежного и ответил, что сначала распространял «Правду», бегал по цехам с подпиской в пользу репрессированных, в пользу их семей, потом передавал сведения по цепочке… Словом, как многие.
— Похоже и у меня… А научиться на лыжах — не подумали.
Я не мог понять его вывода и ничего не сказал.
Бездействие утомляло. Едва я вернулся в гостиницу, как тут же натянул сапоги и направился к морю. Рыбаки выбирали на берег огрузлую сеть, лица их побагровели на ветру, глаза слезились. Я взялся за обмерзший канат; никто не удивился, только освободили мне побольше места. Скользили ноги по камням, тяжела была сеть, словно вытягивали мы из пучин неведомое чудовище, которое с ленивой мощью противилось. Собаки сидели поодаль, приподнявшись на передних лапах, чутко держа по ветру умные морды.
Заволновалась вода, забурлила серебристыми блестками. Совсем близко обледеневшие поплавки. И вот — рыба, рыба, рыба! Сельдь! Рябит в глазах, прыгает, ловит жабрами губительный воздух.
— Твоя, — широко улыбается один из рыбаков, протягивая мне плетеную корзину, — твоя, товарищ!
Я беру свою долю улова, медленно поднимаюсь к гостинице. Горничная, девушка-финка, беловолосая, голубоглазая, ловкая, выскакивает навстречу, отнимает у меня корзину, прижимает к животу.
— Будет обед! — хохочет она.
Фыркнув, стрельнув глазами, убегает; а я гляжу на залив, и мне становится так тоскливо, как не было даже в шторм…
И все же невольное наше заключение кончилось. Мы боялись верить, что наконец-то погода больше не шутит: снегопад разгулялся роскошно, заровнял все побережье. А ночью приударил морозец, вылудил снега так, что они зазвенели. И только черные скалы прорезались зубцами да непокорный залив лежал посреди белизны, дыша туманом.
Василий Павлович Таежный поднял нас затемно. Не знаю, спал ли он, но лицо его было не усталым, а скорее озабоченным, и возле губ пролегли складочки, которых я прежде не примечал. Оказалось, что и завтрак уже на столе: хозяйка задумала накормить нас в дорогу на славу.
Однако благодушествовать за столом не приходилось. Таежный посмотрел на часы и пригласил нас в помещение возле кухни. Заложив руки за спину, прошелся по заскрипевшему полу, круто развернулся.
— Товарищи, — заговорил он, — я хочу напомнить о серьезности и ответственности поставленной перед нами задачи…
Я видел Василия Павловича таким, пожалуй, только в дни революции, когда мы встречались в Выборгском Совете; резко выперлась скулы, глаза сузились в щелки, властно зазвучал голос:
— Нам предстоит работать в условиях слишком суровых и коварных… Нам нельзя заболеть, нельзя потерять или сломать лыжу. Поэтому берегите себя, будьте во всем осмотрительны. Не забывайте: может произойти и такое, что придется избавить товарища от долгой и мучительной смерти. — Он откашлялся, провел ладонью по лицу, поглядел на топографа Данилова, на губах которого мелькнула усмешка. — Отдавая себе полный отчет в возможности такого конца в случае любого несчастья, прошу каждого из вас поступить со мною так же. Такой поступок я буду рассматривать как самую искреннюю товарищескую помощь.
Мы ожидали от нашего руководителя совсем иной речи, более подобающей для начала экспедиции, и все же никто даже глазом не моргнул. Лишь Данилов чуточку побледнел и наклонил голову.
Нога меня не беспокоила, я крепко выспался и радовался, что вынужденное безделье кончается. Может быть, председатель комиссии прав, у порога предостерегая нас от самого худшего; но трудно верить в беду, когда делаешь первый шаг. Да и погода такая бодрящая — только вставай на лыжи.
Мы гурьбой высыпали из гостиницы, разобрали свои вьюки. На всех нас были полушубки, шапки; кроме продуктов и инструмента, мы тащили с собой буржуйку, палатку на шесть человек. Финские же рабочие, нанятые нам на помощь, появились в одних шерстяных джемперах. Они вежливо попросили выдать груз.
— Но вы же к выходу не готовы! — Таежный даже рассердился.
Карлушка перевел, финны смущенно запереминались с ноги на ногу.
— Мы готовы, как полагается, — возразил один из них.
— Я вижу, — возмутился Таежный. — Одевайтесь и не задерживайте нас. Я не хочу отвечать перед вашими родителями, если вы замерзнете.
— Хорошо, — улыбнулся все тот же финн, — тогда выдайте нам грузы; мы быстро оденемся и вас нагоним.
Догнать нас было нетрудно. Только встали мы на лыжи, как раздался дружный хохот. Смеялись хозяин гостиницы и его жена, смеялись рыбаки, вышедшие нас провожать, профессор Бонсдорф и его помощник. Лыжи никак не хотели нам подчиняться, раскатывались в стороны, скрещивались. Мы не обижались на финнов, но все же нам-то было не до смеха.
Карлушка метался на своих лыжах от одного к другому, подправлял, подсказывал. Профессор и Ханныкайнен взмахнули палками и споро покатили вдоль залива, оставляя за собою четкий след.
Пот прошиб меня под жаркими одеждами, не хватало воздуху; но по следу идти было все-таки легче, я начал кое-что соображать, как-то приноравливаться. Постепенно осваивались и мои товарищи: я видел, как выравнивается, смелеет передо мной Евлампиев, как успокаивает дыхание за моею спиной один из топографов.
На возвышении я решил осмотреться. Еще колебалась над тундрой рассветная синева, скрывая подробности. Будто белый океан с застывшими волнами лег на пути, и ниточкой терялся в нем человеческий след.
Из-под лыж выскакивали белые комочки и катились врассыпную. Я пригляделся: куропатки! Давно ли их стрелял, а вот успели перекраситься, приспособиться.
Но поклажа давила плечи, ноги закаменели в коленках, хотелось сбросить полушубок, ватные штаны, шапку, сползающую на глаза. Где уж тут следить за куропатками?
Шаг, второй, третий — и так до бесконечности. Возвышение, впадина, опять лыжи врастопырку, опять скатываешься вниз. Корявые голые березнячки, хвоя, сползающая в болото, измельчавшая в его гнили и теперь прибранная снегом. Заледенелое озерцо, другое; между ними светлая быстрая протока, словно дужка мутных очков. И снова бело, голо — и теряется представление о времени…
Углубились тени, ложбины стали казаться провалами. Скоро и совсем стемнело. Но это была не вязкая чернота южных ночей, не ласковая темень средней России. Тундра призрачно, мертвенно синела; и трудно было избавиться от ощущения, что все вокруг медленно плывет, а ты, будто во сне, на месте передвигаешь ногами.
Но вот мы с облегчением вздохнули: над тундрой сказочно возникла черная макушка церкви, крыши строений, приземистые стены Печенгского монастыря. Они как будто привиделись — не было от них никакой тени. Но к нам навстречу бежал профессор Бонсдорф, крича и размахивая палками:
— Милости прошу к нашему шалашу!
За ним, на лыжах, выставив бороды, поспешали монахи. Молча похватали нашу поклажу, устремились к монастырю. Я чуть не упал назад, когда освободился от вьюка, но силы словно прибавилось. Профессор расхваливал монастырский квас, говорил, что в этом северном оплоте православия охотники знатные и надо опасаться за свои желудки.
Расторопные монахи проводили нас в трапезную за грубые деревянные столы. На столе приготовлены были оленина, рыба, куропатки, жбаны с брусничным квасом. Сверху тяжело давил сложенный из дикого камня потолок; душно коптили фитили, плавающие в каких-то плошках, заполненных жиром; и под низкими сводами в неверном, прыгучем освещении лица всех казались изможденными долгой схимой. Заметив, что никто из нас не перекрестился, могучий косматый старик, переломленный пополам, опираясь на кривой посох, посверкал буравчиками глаз.
— Большевики? — спросил глухо, недружелюбно.
— Большевики, — улыбнулся Таежный.
— Веру порушили?
Василий Павлович пожал плечами:
— У нас одна вера порушена: в незыблемость власти капиталистов.
— А божескую признаете?
— Ни в идолов, ни в богов не верим. Только в силу человеческого разума.
— Едят! Как люди! И рогов нету! — В дверях торчали нечесаные бороды.
Старик замахнулся на них посохом, дремуче оглядел наши лица, предупредил, что всем нам уготована геенна огненная, и ушел, громко стуча. Пламя плошек заколебалось, по стенам запрыгали тени.
— Лют он и страстен, — сказал крепкий чернобородый монах, стоявший до сих пор в сторонке. — Да вы ведь тоже в своей вере люты.
Таежный с возмущением посмотрел на нас, уписывающих еду за обе щеки, и возразил монаху:
— Вера в загробное счастье и вера в счастье на земле — вещи разные. Разные и враждебные друг другу…
Монах отвел глаза, насупился.
— Как там Россия-то? — переменил он разговор, и голос его дрогнул.
— Работает.
Словно и не ожидая иного ответа, монах кивнул, вздохнул продолжительно.
Наутро я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Болела каждая жилочка; и даже при мысли о том, что опять придется вставать на лыжи, бросало в дрожь. Товарищи мои тоже постанывали, кряхтели, и под сводами пристроя, куда нас поместили ночевать, гулко жаловалось эхо. Вчера мы прошли всего двадцать пять — тридцать верст. А что будет дальше?
Таежный заставил себя подняться. Его страшно возмутили финские рабочие. Они приехали в монастырь чуть позже нас и в тех же джемперах.
— Ну, я с ними потолкую, — шумел Таежный, одеваясь и морщась от боли. — Обманщики, мальчишки!
Карлушка вскочил как ни в чем не бывало, посоветовал Василию Павловичу сделать зарядку. Глядя на него, и мы принялись разминаться; и мышцы постепенно разогрелись, отошли.
Только топограф Данилов все лежал на жестком своем топчане и слабым голосом отказывался:
— Никуда я не пойду, я не могу…
Мы поставили его на ноги, с шутками и смехом принудили приседать. Карлушка улыбался:
— Сегодня хорошо пойдем, совсем хорошо.
Наскоро позавтракали, вышли во двор. Было бело, морозно. Монахи кололи дрова, не обращая на нас никакого внимания, от них валил пар.
— Доброе утро! — окликнул профессор Бонсдорф бодрым голосом отлично отдохнувшего человека. — Пора в путь, рабочие уже уехали!
Василий Павлович даже сплюнул с досады. Мы снова навьючились, двинулись за ворота. Чернобородый монах раздвинул их тяжелые железные створы, долго глядел вслед из-под ладони, будто запоминая нашу дорогу.
Карлушка заметил верно: лыжи ходко скользили, я уже не налегал на палки, а отталкивался ими, не тратил впустую движений.
— И все-таки вы передвигаетесь черепашьим шагом, — упрекнул нас Бонсдорф.
— Мы, господин профессор, идем медленно, но верно, — ответил Евлампиев.
Бонсдорф понял намек, хмыкнул и заработал палками.
Весь короткий северный день догоняли мы финнов. Темнело, набегали на тундру серые тени, а профессор, Ханныкайнен и рабочие все не останавливались. Мы знали, что впереди не будет никакого жилья, надо ставить палатку, приспосабливать в ней печку, чем-то ее топить. Финны же, казалось, ничуть о ночлеге не заботились.
Но вот справа затемнел лесок; они свернули к нему, сбросили поклажу, принялись утрамбовывать снег. Наконец-то мы их настигли!
— Собирайте хворост! — приказал Таежный, посматривая на финнов.
Мы с Евлампиевым расстелили палатку, путая в темноте веревки. Топографы сваливали в кучу откопанные из-под снега ветки. А финны между тем рубили толстые стволы, деловито переносили их поближе к своим тюкам.
Один из финнов подошел к нам, подозвал Карлушку, сердито заговорил.
— С таким костром вы замерзнете, — переводил Карлушка. — Заготовляйте-ка лучше еловые лапки для постелей, о тепле подумаем мы.
Василий Павлович согласился. Финны определили ветер, бросили поперек его дуновения на снег бревно, вбили по концам бревна колья. Скоро была готова деревянная стенка из трех венцов, уложенных вперемежку — комель с макухой. Вдоль стенки с подветренной стороны настелили хвою. Один из рабочих поджег стенку посередине — пахну́ло теплом.
Мы уютно устроились на мягкой душистой подстилке, скинув осточертевшие полушубки, поужинали. Ковыряя палочкой в зубах, приблизился профессор Бонсдорф, подсел на корточки.
— Вы напрасно, господин Таежный, ругали рабочих, Именно вы оделись так, чтобы проще было простудиться. Как у вас в России говорят: в каком народе живешь, такого и обычая держись.
— Не совсем так, господин профессор, — оборонялся Василий Павлович, — не совсем так. Эта пословица имеет вариант: с волками жить — по-волчьи выть. Мы же перенимаем только тот опыт, какой считаем для себя полезным.
— Я удивляюсь вам, — необычно серьезно признался профессор. — Мне казалось, что я хорошо знал русских…
Он пожелал нам спокойной ночи и ушел к своему костру.
— Пожалуй, лишнее нам придется отослать с рабочими обратно, — сказал Таежный.
Пламени почти не было. Бревна раскалились докрасна, как металл; только иногда пробегали по ним белые змейки и с треском взрывались. А за костром лежала тундра, седая, безмолвная; и непонятно было, что таится в ее молчании — угроза или равнодушие.
На пятые сутки лыжного пробега мы оказались в поселке лопарей под названием Москва. Кто окрестил поселок этим именем и когда, узнать не удалось, хотя жители, обступившие нас, неплохо говорили по-русски. Были они скуднобороды, грязны, в заношенных, затертых до жирного блеска малицах, или не знаю, как здесь назывались мешки с капюшонами и рукавами. За их спинами виднелись рубленые, из круглого леса, дома, крытые деревянными настилами, корой, а сверху еще и дерном. Одной крышей объединялись жилье, амбары, а кое-где и несколько хозяйств. Довольно толстый слой снега завалил дерн, и дома присели, словно вдавились в вечную мерзлоту.
Лопари разглядывали нас спокойно и даже несколько флегматично, будто мы давно возникли в поселке, как черные камни, высовывающие из-под снега свои зубцы.
— Не купцы однако, — заметил старик с изрубленным морщинами лицом, зорко прицелившись узкими глазами охотника.
— Не купцы, отец, не купцы, — засмеялся Таежный.
— Давно купцов не было, — с сомнением покачал старик головою.
— И впредь не будет.
Данилов морщился: от лопарей тяжело пахло протухшим мясом. Ханныкайнен добродушно посасывал короткую трубочку, профессор Бонсдорф, сбросив лыжи, быстро проговорил что-то по-фински. Старик засуетился:
— У-у какой грамотный человек есть; на войну ходил, весь свет повидал, у-у какой умный!
— Проводите к нему.
Нас ввели в помещение с земляным утоптанным полом. Вместо печи в левом от входа углу красноватым пламенем пылал очаг, бросая на пол и стены торопливые отсветы. Дым уходил под глиняный свод в отверстие, и все-таки я чуть не раскашлялся. Мы разместились на широком деревянном топчане; лопари, пыхтя, втащили котел, подвесили над огнем на металлическом стержне. Следом за ними под уважительный говор вошел совсем еще молодой туземец в круглой солдатской бескозырке, сбитой на левое ухо. Под носом его торчало несколько волосков, тщательно подкрученных.
— Здравия желаю! — бойко сказал он привычным к слушателям голосом.
— Где служили? — спросил я, крайне заинтересованный.
— В Петербурге. Воевать сам пошел. Подумал: зачем помирать? — и сам обратно пошел.
— А шапку оставил, — подмигнул Евлампиев.
— Спрятал, потом надел!
— Ну и как же вам понравился Петербург? — с усмешечкой проговорил Данилов.
— Скучно там! — живо откликнулся лопарь. — Помереть можно от скуки.
— В Петербурге скучно?
— Скучно. Город большой, народу много.
— А здесь, в этой… — Данилов замялся, взглянув на Таежного, — в этой тундре что за веселье!
— Очень весело. Выйду, погляжу кругом — все мое, — лопарь широко повел рукой.
За все время разговора никто из местных москвичей не шевельнулся, хотя все отложили трубки. Лишь при последних словах оживились, кое-кто закивал, а старик победоносно глянул на Данилова: вот, мол, знай наших.
То ли глаза устали за целый день от снежной белизны, то ли духота от очага, табаку и испарений человеческих тел была причиной, но в глазницах у меня поламывало, стучало в виски. Хоть и привыкли к лыжам, и нога меня пока больше не мучила, усталость была слишком велика; манило лечь, вытянуться, заснуть. Однако надо справиться с собою, поесть вместе с гостеприимными хозяевами. Видимо, собрались они у очага неспроста, неспроста пригласили своего бывалого человека. Отголоски потрясений, как круги от взрыва в воде, докатились и сюда, на край земли.
Гостеприимство гостеприимством, а проводника мы еле нашли. Указывать нам дорогу после долгих и, по-видимому, весьма важных размышлений согласился старик лопарь. Несколько раз ударили по рукам, и наконец он бойко побежал впереди на коротких обитых камусом лыжах. Финны легко скользили за ним, а мы еле успевали.
Тундра была все такой же однообразной: закругленные холмы, выдутые до стеклянного блеска озерца, меж которыми стремительно пробиваются незамерзающие протоки, засыпанные снегом болота, уставленные кустарником и чахлыми сосенками. Зато небо помрачнело, серая в чуть приметных лохмотьях пелена заволокла его, предвещая обильный снегопад. Впереди белым горбом замаячила довольно крутая гора. Проводник поджидал нас у подножия, нетерпеливо перебирая ногами.
Топограф Данилов решил подниматься с ходу, напрямик, но старик замотал головой:
— Зачем так лезешь? Будешь падать обратно! — И показал рукой, что взбираться нужно зигзагами.
Дышать было трудно, лыжи при движении вверх становились будто магнитными, их притягивало к горе; зато назад, по склону, рвались — только зазевайся. К тому же на полгоре занялся ветер, давил на грудь. Я нагнул голову, шапкой встречая его, и шел, шел; липкий пот щипал глаза, но нельзя было утереться.
— Беда будет! — кричал проводник. — Скорее надо!
— Привязать лыжи! — скомандовал Таежный.
Выбрав площадку поровнее, я достал бечевку, непослушными пальцами, привязал ее к ремням лыж, определил слабину, примотал к поясному ремню.
— Ура-а! — закричал неуемный профессор Бонсдорф. — Вершина! Лучше гнуться, чем переломиться! — Он протягивал руку Таежному.
Господин Ханныкайнен молча подал мне свою; сила у него была медвежья. С трудом удалось распрямиться: ветер норовил сошвырнуть обратно, высекая слезу. Ни лопарского поселка, ни горизонта не было видно — все сливалось в сплошном тумане. Зато внизу перед нами, примыкая почти к самому подножию, раскачивался макушками сосновый лес, и медные стволы деревьев казались теплыми.
Проводник поставил лыжи рядом, сел на них, вытянув ноги, оттолкнулся палками и полетел вниз, тормозя и управляя то одной ногою, то другой. Хохоча во все горло, ринулся за ним таким же манером профессор; бегемотом на салазках поехал Ханныкайнен. Таежный махнул рукой: «Лыжи берегите!» — и торжественно оттолкнулся. Основательно устроился Евлампиев, Данилов всерьез сказал, что завещание у него в правом кармане, — и они вместе ухнули по склону, взметая ногами снежную пыль.
— Счастливого пути! — крикнул мне Карлушка. — Я последний!
Ветер из врага обратился в друга, смиряя мое падение. Я старался усидеть на лыжах, выкидывая ноги, но делал это почти машинально. Перед глазами все мелькало и рябило…
Товарищи встретили меня веселыми возгласами. Финны уже суетились у своего костра, и вкусный дымок вместе с запахами ужина щекотал ноздри. Когда благополучно спустился Карлушка, мы тоже принялись разводить огонь.
В лесу было уютнее и теплее. Чешуйчатые стволы чуть поскрипывали; иглы на ветвях, сбитых к югу, вверху шипели, а пониже спокойно держали на себе снежные лепехи. Сумрак постепенно завладевал ими, с опаской приближаясь к костру.
Неожиданно шипения и скрипа сосен не стало слышно. Ветер замер, упал; затих даже костер, и беззвучные языки пламени напряженно уставились вверх. Смутная тревога охватила меня, я уронил котелок, приподнялся.
Лопнуло над нами небо, и столб дрожащего света метнулся оттуда, озаряя лица мертвенным сиянием. Лес колебался, закрутился в огневом смерче и понесся куда-то дикой пляской. Фиолетовые, желтые, синие, непрерывно изменчивые полосы, ленты, радуги с шелестом падали сверху, раздвигались занавесы, выбрасывая струи огнистого дождя. Что это? Мировая катастрофа, бред, сказочное сумасшествие?!
Я с усилием пришел в себя: лежу на многоцветном снегу, цепляясь за него руками. Верхушки сосен неподвижны, и земля в тартарары не летит. Это небо над ними кружится и плещет, устроив себе фантастический праздник. Только теперь я сообразил, о чем предупреждал проводник, когда мы взбирались на гору.
Товарищи мои тоже лежали на снегу, уставясь в играющее небо. А старик на коленях крестился на какую-то деревяшку. Мне стало смешно и немножко стыдно за свой суеверный страх.
— Василий Павлович! — закричал я. — Это же сполохи, северное сияние.
Не меняя положения, он откликнулся:
— Разумеется, не второе пришествие. Но какое грандиозное зрелище, какая красота!..
— Этакая силища прорвалась, — подтвердил Евлампиев и потянулся к котелку.
Закопченный очаг в доме лопаря, как двойник похожем на жилье обитателей поселка Москва, обогревал ровно и благодатно. Мы радовались, что опять можно сбросить лишнюю одежду, не оберегать по очереди костер и сон своих товарищей. На добрые полтораста верст по кругу тундра была мерзлой, безлюдной и наш маленький островок тепла и света, укрепленный бревенчатыми стенами, можно было сравнить с кораблем, плывущим по волнистому сумеречному океану.
Старый проводник оставил нас, сунув каждому лодочкой сухонькую, будто из коры выструганную, ладонь, — дальше дорогу он не знал. Хозяин дома отказался его заменить, не соблазнялся ничем: ни деньгами, ни продуктами. Когда мы поужинали вареной и жареной рыбой, он забрался в какой-то закуток и больше не двигался. Мы решили, что утро вечера мудренее, и тоже стали укладываться. Финские рабочие упрямо отказались занять топчан, устроились на земляном полу, натаскав еловых лапок. Мы легли поперек топчана на полушубки, бок о бок с профессором Бонсдорфом и Ханныкайненом. Профессор похохотал немного и по поводу того, что значит в этих местах ходить в гости, вспомнил:
— Как это у вас говорят? Люблю, кума, как я у тебя; а как ты у меня, так смерть на меня.
Мы тоже посмеялись; лишь Ханныкайнен вздохнул, тяжело пошевелился. Молчальником он был не только от природы. Профессор как-то объяснил, что в Хельсинках осталась у Ханныкайнена любимая женщина, разлуку с которой переживает он глубоко и впечатлительно. В огромном теле финна укрывалась, по-видимому, нежная душа.
— Сейчас, господин профессор, — приподнялся на локте Таежный, — наступает пора других пословиц и поговорок. Приезжайте-ка к нам погостить.
— А что же, а что же? Мысль! Именно погостить! — Бонсдорф чуть не вскочил, но теснота помешала. — Я географ. Но меня чрезвычайно интересует ваш план ГОЭЛРО. Ленин решил изменить за десять лет даже географию страны. Я не политик, но…
— Вы неплохо осведомлены, профессор, — поддержал Таежный, когда Бонсдорф замялся, — но это и есть политика.
Профессор засопел, притих: не хотел втягиваться в рискованный для него разговор.
— Василий Павлович, а вы Ленина видели? — швыркнув носом, подал голос Карлушка.
— Как тебя, и не однажды…
— А впервые мы увидели Владимира Ильича на Финляндском вокзале, — сказал я.
— Ты со своими красногвардейцами, насколько помню, был возле гостиницы?
— Точно, — подтвердил я. — Оттуда хорошо видно вестибюль вокзала. И броневик стоял совсем близко от нас.
Василий Павлович сел; на обветренном лице его играли темные и желтые полосы — отсветы очага.
— Никого еще Питер так не встречал.
Я на миг закрыл глаза и увидел площадь в знаменах, в оркестрах, красные повязки на рукавах, огненные пятна лент и бантов. Лучи прожекторов трепетным светом заливали площадь, и броневик был золотым в их сосредоточенном перекрестье.
— Мне кажется, всю жизнь я ждал этого момента.
Я вспомнил, как в пятнадцатом году на квартире у одного из товарищей мы изучали работы Ленина. Много рассказывал о Владимире Ильиче Николай Толмачев, студент политехнического института, пропагандист, умевший говорить образно, емко и так просто, что без особого напряжения мы схватывали самую суть. Прежде я не однажды слышал о Ленине, сам читал в «Правде» его статьи и заметки. Однако не все мог уяснить, не всегда разглядывал дальний их прицел. Сквозь пелену табачного дыма я видел худое смуглое лицо студента, обои на стенах, тусклый прямоугольник окна. Но словно раздвигались пределы комнаты все шире и шире, приоткрывая передо мной тревожный и светлый мир, в который я тогда обдуманно вступал…
— Меня в тот день поразило другое. — Таежный обернулся ко мне. — Речь с броневика на вокзале, речь на Троицкой площади, речь с балкончика дворца Кшесинской, затем, уже глубокой ночью, совещание с членами Цека и питерским комитетом. И все это с такой энергией, с такой яркостью и весомостью мысли! А ведь устал он, наверное, нечеловечески… И так — изо дня в день, уже четыре года.
Таежный слез с топчана, присел на корточки к очагу, подбросил полено. Раскаленный конус взметнулся острием вверх, опал на пламя. Топчан захрустел, подымался Ханныкайнен, доставая из кармана трубку. Огромная тень его заколебалась по стене и потолку, опустилась и застыла. Он грузно сел на засаленный лопарскими одеждами камень, сунул в угли щепку, затянулся.
Никому не спалось, хотя завтра предстоял долгий неведомый путь. И без проводника.
Утром, когда мы пробудились и выскочили из духоты на волю, лопарь подробно объяснил, как двигаться дальше. Под конец дня мы выйдем на большое озеро с островом посередине. Остров зарос лесом и кругом много-много лесу. Но костер надо разводить на другом берегу: там сухой лес.
И опять финны споро побежали, оставив нас далеко позади. Я не знаю, что за существо человек, к чему он только не привыкает! Но бежать по лыжне стало для меня даже удовольствием. Сказывалась добрая закалка прожитых лет, сказывалась молодость. Дыхание было глубоким и верным, лыжи шуршали в одном ритме; и когда, чуть присев и пригнувшись, скатывался я с пологого холма, сердце радостно замирало. Ведь так по-человечески хочется иногда отдаться минуте, забыв, что можно куда-то не успеть!
На склоне дня впереди поднялась негустая хвоя, лыжня зазмеилась меж обветренных, как кожа, стволов. Мы остановились: на озере финны рубили не заматеревший еще лед. Летели матовые осколки, сухие брызги, все глуше тюкали топоры. Наконец профессор Бонсдорф сунул в прорубь шестик, удовлетворенно крикнул Таежному:
— Лед отличный, толстый! Вперед!
Ханныкайнен неуклюже за ним последовал, приотстав на длину лыж, трое рабочих пошли вровень с Бонсдорфом, оттискивая в снегу круглые печати своих палок.
Озеро оказалось довольно обширным. Лишь минут через пятнадцать-двадцать возникла перед нами темная полоса острова. И вдруг впереди кто-то тонким от ужаса и боли голосом закричал. Мы помчались туда.
В черном проломе барахтались финны. Из воды вытянулась голова Ханныкайнена и исчезла.
Мешки на снег… Скорее протянуть лыжи, палки! Профессор Бонсдорф мечется с другой стороны пролома. Вытаскиваем одного рабочего, второго, третьего. Одежда на них мгновенно белеет. Черный пролом курится паром. Глубоко вонзая палки, профессор Бонсдорф бежит прочь, к острову. Мы зовем, свистим, он не оборачивается. Таежный приказывает как можно быстрее возвращаться на берег.
Кто-то пытается развести меж соснами огонь; насквозь простывший бурелом гасит спички.
— На лыжи, — снова командует Таежный. — Скорее обходом на ту сторону! Профессор, наверное, уже там. Идти берегом!
Теперь мы не делились. Вместе, финны и русские, пробирались мы по дикому лесу, стараясь движением заглушить боль. Темнело, совсем темнело, если можно было считать теменью обманные сумерки тундры.
Хрипя, все в поту, обогнули мы озеро; искали, звали стреляли — профессор Бонсдорф исчез…
Наконец, мы заметили огонек на острове. Он то разрастался темно-вишневыми перьями, то бледнел, стискиваясь в точку, словно обессиленный борьбою с морозом и темнотой. Разумеется, никто кроме профессора не мог развести в тундре костер. Тогда мы тоже стали устраиваться. Не было обычного оживления, даже топорами старались стучать потише. Мне думалось, что надо было бы пойти к профессору: может быть, в одиночестве ему совсем худо. Но Таежный не хотел рисковать другими людьми, опасаясь, что и по эту сторону острова может оказаться такой же хрупкий лед. Да и профессор, наверное, заметил наши костры; и лучше подождать, пока он сам сможет к нам присоединиться.
— Вот все и кончилось, — сказал Данилов, протягивая к углям свои ноги в заиндевелых сапогах, и в голосе его не было торжества.
Я, по-видимому, ошибался, когда посчитал его человеком совсем иной закваски, чем остальные. Тундровый ветер сдул с него наносное, обнажив иные грани. Он так же без ропота тянул свою лямку, не прося никакого облегчения. Единственное, чего я никак не мог понять в натуре Данилова, это самоубийственного неумения сопротивляться. Чтобы не замерзнуть после лыж, мы прямо-таки набрасывались на бивачную работу, хотя с нею легко могли справиться два-три человека. А Данилов садился на свою поклажу и замирал, словно цепенея от усталости. И сколько силы надо было употребить Таежному, чтобы раскачать его, придумать ему какое-то подвижное занятие.
— Не забывайте, о чем мы говорили перед выходом в тундру, — в иных случаях напоминал Таежный. — Если вы поморозитесь, пеняйте на себя.
На этот раз Данилов тоже рубил ветки, таскал их к костру, настилал хвою. Мы расположились у огня, кое-как перекусив. Разговаривать не хотелось. Перед глазами все чернел пролом в стеклянных осколках льда. О чем думает профессор Бонсдорф на острове, к какому решению он придет? Это волновало и нас, и финнов. Ясно, что завтра мы примемся искать тело несчастного Ханныкайнена. А потом — все будет зависеть от профессора Бонсдорфа.
Еще совсем не светало, когда с предосторожностями двинулись мы по коварному озеру на огонек. Деревья росли на острове не очень тесно и не заслоняли от нас отблесков костра. Он горел на закраине острова, неподалеку от гиблого места. Профессор стоял к нам спиной, и когда обернулся, я не узнал его лица. Было оно постаревшим, словно раздавленным, уголки губ опустились и вздрагивали. Мы молча подошли, понимая, что любые слова утешения покажутся холодной фальшью. Профессор Бонсдорф справился с собой, заговорил сам:
— Мы должны найти его, обязательно найти.
— Как это случилось? — спросил Таежный.
— Я провалился одной ногой, крикнул, но уже поздно… Почему лед оказался тонким? Нам нужно непременно это исследовать.
— С того и начнем, — кивнул Таежный, — прощупаем лед.
Постепенно проглядывало утро, четче обозначились ветви, за гладью озера уже приметной полосою выделялся лес. Мы отошли от костра, стали прорубать лунки. Тонкий лед тянулся вдоль острова узкой продолжительной лентой. По-видимому, какое-то особое течение теплой воды создало здесь искусную ловушку. Но температуру его измерить было нечем, мы только узнали границу опасности.
Приготовили веревки, стали намораживать лед вокруг пролома, уже залатанного бледным стеклом. Я много видел смертей, но от жути побежали по спине мурашки, когда огромный белый труп с деревянным стуком покатился по льду. Мы положили его на лыжи, сняли шапки.
— Господа, — слишком уж ровным голосом сказал профессор. — Я обязан выполнить свой последний долг и доставить тело моего друга Ханныкайнена в Хельсинки. Считайте, что принят ваш вариант границы. Протоколы оформим в Печенге.
Снег слежался, как свиная кожа. Это только сверху прикидывался он таким пушистеньким. Его надо было грызть, долбить, надо было колоть ледяную землю, чтобы наши пограничные знаки не попа́дали подобно карандашам, поставленным торчмя. Мы выдыхались, одичалые бороды стягивало коркой. А мороз, как назло, усиливался, взбодренный обжигающим ветром. И дни стали короткими. Только посветлеет тундра — и опять вмерзают в небо колючие мелкие звезды. Дежурный каждые двадцать минут поднимает всех, принуждая двигаться, бегать, а потом отогревать у костра залубеневший бок.
Данилов сдавал; все чаще замирал в стороне от работы, плетями свесив руки. Вот и на этот раз он опустился на свернутую палатку и словно задремал, покачиваясь и наклоняясь все ниже.
— Вы с ума сошли! — подбежал к нему Таежный; оскалив от усилия зубы, схватил его под мышки.
Топограф вскрикнул, осел, пополз к огню. Мы стянули с него сапоги: мокрые от ходьбы портянки успели заледенеть, пальцы потемнели, вздулись. Мы оттерли их снегом, переобули Данилова, но и шагу он ступить не мог. Глаза топографа с надеждой и ужасом следили за движеньями начальника экспедиции, который расстегивал кобуру. Я вспомнил слова Таежного перед походом в тундру, и все внутри у меня похолодело. Неужто вот сейчас произойдет то, чему никак не хотелось верить! Я готов был кинуться на Таежного, схватить его за руку. Евлампиев тоже сделал шаг вперед и остановился, тяжело дыша.
Или тундра так ожесточила меня, или до сих пор не умел я распознавать истинную суть человека, но через секунду мне стало стыдно: Василий Павлович отодвинул кобуру и достал из кармана металлическую коробочку. В ней были какие-то продолговатые пилюли.
— Возьмите, — сказал он Данилову, — это вас подкрепит.
Наутро мы приколотили к лыжам поперечины, укутали Данилова мешковиной, полушубком и потащили по сухому, как стеклярус, снегу…
Каждый из нас незаметно прибавлял шагу. Впрягшиеся в самодельные сани быстро выдыхались; их сменяли другие и, наклонив бороды к снегу, тянули, тянули, пока хватало сил. Данилов пробовал встать, но не слушались ноги, и он снова падал. Любой понимал, что можно не торопиться: Печенга никуда не провалится, она вон уже там, за прутиками берез, торчащими из-под завалей, за теми пологими холмами. Но даже самый выдержанный из нас — Евлампиев и тот вымахивал палками.
Только узкое побережье у края бухты притормозило бег. Скалы все так же торчали, черные, как расколотый уголь, и равнодушные. Бухта металась внизу, брызги взмывали в воздух и осыпались звенящими шариками.
— Опять мы застрянем, — подосадовал Евлампиев и вдруг удивленно воскликнул: — Гостиница!
Мне она показалась чудом. И покатая заснеженная крыша, и каменные стены с двумя рядами окон сулили тепло, уют. На настоящей кухне приготовят нам обед; и вымытые, выбритые мы спустимся к столу и будем вспоминать тундру, как длинный сон.
На крыльце, что-то выкрикивая, размахивая длинными руками, волновался хозяин, и его жена стояла рядышком, и девушка-горничная бежала к ним по снегу, волоча за собой корзину.
Но вот они пригляделись, хозяин опустил руки и замер, хозяйка закрыла глаза ладонями. Мне стало неловко за свою забывчивость, и уже без всякого облегчения отвязал я лыжи. Мы по привычке потащили их с собой, но бросили у крыльца: теперь от них ничего не зависело. Хозяин, вздыхая сокрушенно, повел нас в небольшую пустую комнату нижнего этажа, кулаком по рамам распахнул окна. На стенах мигом наметалась куржавина. Мы втащили стол, пододвинули его на холод, осторожно внесли тело Ханныкайнена и долго стояли над ним.
В коридоре профессор Бонсдорф остановил Таежного:
— Оформим протокол.
Василий Павлович удивился, сказал, что это не так уж спешно: сначала приведем себя в порядок, отдохнем.
— Тогда миссию нашу не могу считать законченной, — упрямо ответил профессор. — А мне нужна свобода, чтобы заниматься другими делами.
— Договорились, — понял Таежный и попросил Евлампиева немедленно подготовить необходимые бумаги. — И, пожалуйста, профессор, когда мы уже не будем дипломатами, все-таки помните: счет дружбе не помеха.
Уже третьи сутки непогода держит нас в гостинице: океан словно задумал не пускать нас на родную землю. Привыкшие к ежедневному напряжению, мы изнывали в чистеньких номерах, не зная, куда деть руки. Вынужденный отдых, однако, многим пошел на пользу: заживали помороженные щеки, перестали слезиться намученные блеском снегов глаза. Данилов тоже поправлялся: уже ходил, почти не хромая, с радостной готовностью стараясь каждому чем-нибудь помочь.
Я одевался и выходил на берег, смотрел на волны, на рыбацкий ботик, отданный финскими властями в наше распоряжение, испуганно прыгавший на привязи. А мысли развивались, ширились, приобретая неожиданное значение. В прошлом не отыскивалось, на взгляд издалека, ничего такого, в чем мне приходилось бы горько раскаиваться. Я убежденно верил, что и впредь, при всех внезапных и долгих штормах, буду держаться точного курса. Инстинктивное чувство его выработалось годами, школой жизни, стало второй натурой, угасить которую может только небытие. Но кто в двадцать семь подводит последние итоги? Я очень любил жизнь, пусть ничем она и не баловала меня. И, вероятно потому, что пройден какой-то огромный ее этап, я почувствовал особую ответственность перед настоящим и будущим своей страны…
Василий Павлович Таежный неслышно подошел сзади, и я даже вздрогнул от его голоса:
— Не могу больше, Курдачев. Идем к финнам. По-моему, они что-то хитрят.
Мы отыскали финнов в рыбацком домике неподалеку от гостиницы. Рулевой ботика, маленький ростом, но плотно сбитый и большеголовый, поднялся со скамьи.
— Я отдаю приказ грузиться, — резко сказал Таежный.
— Никак нельзя, господин начальник, никак нельзя: мы не хотим тонуть. Покажет барометр хорошую погоду — поплывем.
Моторист, угрюмый морщинистый человек с красной кожей, исподлобья смотрел Таежному в переносицу.
— И все-таки мы погрузимся. — Василий Павлович круто повернулся, вышел на ветер.
Ботик мотался, дергался; и только хитроумная привязь спасала его от гибельных ударов о причал. Падая, чертыхаясь, глотая ветер, мы перетащили на палубу грузы. В единственную каютку, чуть возвышавшуюся над ботиком, побросали полубушки, одеяла: знали, что всех опять укачает. А мутный день, чуть проклюнувшись, уже гаснул, и все равно надо было ждать до завтра.
Я посмотрел в сторону Печенги. Туда уехали на пароходике профессор Бонсдорф и финны, погрузив длинный ящик. Сейчас профессор уже в Хельсинках. Но легче ли ему, чем нам? Он, наверное, тысячу раз согласился бы снова пройти по тундре, ждать, когда уляжется непогода, чем возвращаться в свою столицу с таким тяжелым грузом.
Бухту застелило потемками, ветер стал совсем ледяным, и на снастях ботика жалобными стеклышками звенели сосульки.
Лишь через день рулевой сам пришел в гостиницу:
— Барометр поднимается. Торопитесь, господин начальник. Погода меняется, очень скоро меняется.
Голос Таежного загремел по этажам. Мы распрощались с хозяевами, откозыряли им по-военному. Гуськом по рыхлому снегу двинулись к причалу. Не вечер и не рассвет, а какое-то призрачное межвременье царило вокруг; и причал, и ботик, и люди возле него странно перемещались, теряли свою реальность. Но палуба ботика ускользала из-под ног, но холодные брызги стягивали кожу, и это было действительностью.
Евлампиев, Карлушка, Данилов и другие сразу попа́дали в каютке; Таежный с трудом держался, силясь разглядеть что-нибудь в крохотное оконце. Низкий потолок каютки вдруг оказывался под углом, перемещался вниз, на место пола. Казалось, еще миг — и мы полетим на него, хватая воздух последним вздохом. А каютка вздрагивала, выпрямлялась, валилась на другой бок. Что-то гремело за дощатыми стенками глухо и разгневанно; и я понял: вышли в океан.
Вместе с ревом в каютку всунулся моторист ботика, поймал длинной рукой Таежного:
— Беда!.. Барометр!.. Вернуться!..
— Барометр? — Таежный описал дугу вместе со стенкой. — К черту барометр!.. Дмитрий Яковлевич, на палубу! Если опасность, принимай решение самостоятельно…
Ветер сильно холодил щеку. Мачта описывала тонким концом странные кривые, жалобно скрипела; посвистывали канаты, свернутый парус колебался, словно силясь распрямиться. Двигатель ботика работал во всю свою мочь; но мне чудилось, что волны увлекают суденышко назад, хотя теперь я понятия не имел, где — вперед.
Но, как и на пути в Печенгу, качка на меня почему-то не действовала. Я не думал сейчас, прав или нет Василий Павлович, — мне нельзя было ошибиться. Рыбаки знали море, и я решил слушать их. Я укрепился за спиной рулевого, держась обеими руками за какую-то скобу.
— Пока нет урагана, бежим обратно, — уговаривал он, — обратно!
— Не успеем, — закричал, подбегая, моторист, словно угадал его слова, и снова скрылся.
— Не успеем, — согласился рулевой, — давайте парус. Найдем добрый берег, высадим людей, спасем бот.
Я порадовался, что они говорят по-русски; финские власти и в этом оказались предусмотрительными. И все-таки я еще колебался.
— Смотри, волны какие, — сказал рулевой.
На верхушках валов, ритмически накатывающихся, виднелись странные полосы, окрашенные, как мне показалось в цвет бутылочного стекла. Верхушки загибались, пенились; и внезапно одна, зашипев, захватила носовую часть палубы, плеснула, докатилась до моих ног. За ней другая, третья… Что-то сломалось в их ритме, все замерло и — застонало, завопило вокруг, ветер мощно ударил мне в грудь.
— На-азад! — что есть силы закричал я.
— Парус! — скомандовал рулевой.
Моторист одним прыжком вырос у мачты. Белая глыба с треском высвободилась, затрепетала, выравниваясь; рулевой крутанул — ботик очутился кормой к ветру. Все это произошло так быстро, что я едва уловил. Лишь всей спиной ощутил напористое давление ветра.
Стало еще темней. Мы убегали от волн, но могли вдребезги разбиться о скалы. Видимо, и финнов беспокоило это: они перебрасывались тревожными словами на своем языке, моторист бегал от двигателя к парусу, для чего-то ложился на палубу, вглядываясь в океан. Я никогда бы не подумал, что такой угрюмый и малоподвижный человек, каким он показался мне на берегу, окажется ловким, как белка.
— Бухта Пуманга! — радостно провозгласил он.
Я ничего не увидел в раскачивающемся полумраке, но состояние рыбаков передалось и мне. Захотелось выкрикивать это дикое слово как заклинание, как призыв.
Не знаю, по каким признакам отыскали наши финские друзья ворота бухты. Но ветер внезапно стих, обвесив усталый парус; и справа мигающими искрами засветились окошки. Мы причалили. Я помог товарищам выбраться из каютки; Василий Павлович мгновенно собрался, растолкал других, приказал разгружаться. Данилова стошнило несколько раз, но и он работал с бешеной энергией, чтобы поскорее перебраться на твердую землю.
На берегу кучкой стояли рыбаки. Один шагнул к нам; плохо выговаривая слова, сказал:
— Не погибли!.. Непонятно как… Все видел, такого не видел.
Пошатываясь, ступили мы на берег. И тут же не стало ни домиков, ни бухты: лавина снега повалила, повалила сверху, будто кто-то огромными ручищами затряс над нами непомерной величины дерево. Мы уцепились друг за дружку, цепочкой продираясь сквозь этот снежный обвал…
Финны развели нас по хижинам; ни о чем не спрашивая, устроили ночевать. Сквозь сон долетал до меня отдаленный раскатистый рев. Суть его я понял только утром, когда мы поспешили на берег. На месте нашей разгрузки был снежный холм; ботик лежал на краю бухты с проломленным боком, и бессильно свисал с него обрывок цепи.
— Да, барометру все-таки надо верить, — сказал Василий Павлович Таежный.
Далеко, еще очень далеко был северный край нашей страны. Далека, так далека была Вайда-губа, бухта Вайда!
Она запомнилась мне тихой, светлой, как летнее небо, — в нее опрокинуты скалы; мягко пришлепывая, уныривает волна. Но я знал: и в этой бухте бывают штормы, если грохочет океан. Но я-то знал, что в нашем климате стрелка барометра чаще всего стоит на «Переменно».
Вспоминаю, переждав шторм, мы на другом ботике доплыли до Вайды-губы; потом на тральщике — до Мурманска, погрузили экспедиционное имущество в вагон; товарищи мои уехали поездом, а мне пришлось задержаться. Я отвечал за имущество и инструменты. Только на восьмые сутки добрался я до Москвы. Выхожу из вагона — бегут навстречу мои друзья, поздравляют. Оказывается, нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин премировал всех участников экспедиции двухмесячным отпуском.
Пользуясь свободным временем, я принялся искать работу по своей специальности. Только удалось устроиться на завод АМО, как вызвали в Московский комитет партии и предложили переходить в Главное военно-инженерное управление. Оно к тому времени переехало из лавры в столицу, на Смоленский бульвар…
И вот я в Орле; вглядываюсь в его улицы, стараясь найти в их облике хоть какие-то перемены. Нет, за эти годы город ничуть не изменился: только потемнел и осел под осенними дождями, и Ока, ныряющая под трамвайный мост, помутнела, вспучилась, размыла берег.
Ни Адама Яковлевича Семашко, ни Бориса Михайловича Волина в Орле не было. Новые люди управляли губернией, выполняли новые задачи. Городские и уездные партийные организации объединял горрайком, во главе которого стоял Петр Иосифович Гусев, бывший рабочий, человек редкой выдержки и незаурядного организаторского таланта. В губпрофсовете председательствовал товарищ Александров, тоже опытный работник. А вот Тихомиров, заведовавший делами губсовнархоза, мне не особенно приглянулся: очень уже легок был на всякие обещания…
Через несколько часов надо идти к Гусеву и Тихомирову, сказать им: пусть директором фабрики будет кто угодно, этот экзамен не по мне. Или же принимать дела.
Давно не было у меня такой длинной ночи. Веки жгло, во рту был противный медный привкус. Я сам себя подвергал перекрестному допросу. С раннего детства самым главным было для меня — работать, работать; а если не получается, — учиться этому, как бы туго ни приходилось. Я вспомнил дядю Васю, вспомнил слова его о рабочей гордости, так поразившие меня когда-то. И нечего себя обманывать, ибо не только рабочая гордость, но и гордость коммуниста не позволит тебе отказаться. С чего начать — это я решу на месте, это мне подскажут обстоятельства…
Девятого сентября приказом по губсовнархозу я был назначен директором шпагатной фабрики. Тихомиров пожал мне руку и сказал заученным тоном:
— Если потребуется что-либо, приходи, поможем.
«Если потребуется», — усмехнулся я про себя и поехал принимать дела.
Коммерческий директор фабрики Рясинцев встретил меня радостно и суетливо. Улыбаясь румяным ртом, многословно рассказывал о плачевном состоянии производства, все время тер ладонь о ладонь, словно умывал руки. Я и без него знал, что сырья нет, а на складе готовой продукции только слой пеньковой пыли. В окно кабинета хорошо был виден двор. Из чесального отделения выходили женщины, срывая с лица паклю, отплевываясь; собрались в кучку, о чем-то разом заговорили, размахивая руками, подтыкая друг дружку под бока. Старик в длиннополом пальто, которого заметил я еще вчера, когда осматривал корпуса, подошел к ним. Женщины не обратили на него ни малейшего внимания.
Я отпустил Рясинцева, и он тут же исчез с вежливым полупоклоном. Надо было встретиться с главным бухгалтером Пановым. Он вошел неторопливо, положил на край стола аккуратно завязанную тощую папку, пригладил и без того безукоризненно зачесанные светлые волосы. На вид ему было лет около сорока. С ним я уже встречался в Оргумпроме, слышал о нем самые лестные отзывы и теперь очень надеялся на его советы. Я попросил Панова сесть; он подтянул потертые на коленях брюки, опустился на стул. Он рассказал, что касса пуста, на текущем счету никаких средств, да еще предстоят платежи, переданные фабрике, когда ее выделили из Оргумпрома на самостоятельный баланс.
— Да-а, положение хуже, чем я предполагал. Что же будем делать, Дмитрий Павлович?
Панов помолчал, посмотрел на меня сбоку спокойными серыми глазами:
— Я только бухгалтер. Меня не приучали задумываться над делами фабрики, меня приучали только выполнять распоряжения.
— Вы главный бухгалтер, — подчеркнул я. — А это означает, что состояние производства вам должно быть знакомо, как никому другому. Ваше мнение о ходе его, насколько я понимаю, каждый день следует докладывать директору фабрики.
— Это никого не интересовало. — Он потрогал тонкими пальцами завязки на папке. — В будущем, если вам угодно, я буду докладывать.
— Но почему же, Дмитрий Павлович, вы сейчас не хотите ничего посоветовать?
— При таком состоянии фабрики мои советы бесполезны. Может быть, Рясинцев что-нибудь подскажет.
— А не виноват ли Рясинцев в том, что у нас нет сырья? Как вы считаете?
— Я и себя считаю виноватым. Только если искать виновников, то и правление Оргумпрома…
— Никто, Дмитрий Павлович, виновников не ищет. Я спросил о Рясинцеве только для того, чтобы узнать, может ли он посоветовать что-нибудь полезное.
— И все-таки Оргумпром, — настойчиво повторил Панов, — когда председателем его был Тихомиров, многое сделал в ущерб фабрике. Спасая положение в торговле, он забирал у нас готовую продукцию, продавал ее, а деньги нам не платил, оставлял их в торговом обороте. Нам нечем было гасить свои долги, а нас заставляли оплачивать векселя. Теперь фабрика выделена в автономное предприятие, но оборотных средств ей не дали и долги не вернули.
Панову было понятно: оттого что сменили дирекцию, положение не изменится. А вот какие меры принимать — ни ему, ни мне ясно не было. Да, пока можно надеяться только на себя и на тех, кто работает на фабрике.
Все-таки я решил съездить к своему недавнему знакомцу Левину, старому коммерсанту, управляющему заготовительной конторой Льнопенькопрома. Ведь под лежачий камень вода не течет, — сказал бы профессор Бонсдорф. Надо действовать: три месяца мелькнут незаметно — и тогда только разводи руками. Контора Левина заготовляет немало пеньки в Орловской губернии, снабжает многие предприятия. Неужто не поделится на первое время, хотя бы на самый малый срок, под честное слово?
Трамвай раскачивался на рельсах, лязгал всеми заклепками, резко звякал звонком на поворотах. Казалось, снова еду я, комиссар фронта, из Карачева, простившись с Федором Ляксуткиным, с Павлом Павловичем Сытиным, и еще впереди Лайсвис-аллея, тундра…
— Приветствую и поздравляю, Дмитрий Яковлевич! — поспешил ко мне Левин, едва я открыл дверь его кабинета. — Очень рад вас видеть! Прошу садиться!
— Здравствуйте. А с чем же вы меня поздравляете, с сумой? — Я даже немножко обиделся.
— Зачем с сумой? С новым назначением и хорошим уже будущим фабрики!
— За поздравление спасибо, а вот о фабрике говорить еще рановато. У нас нет сырья…
— Это дело поправимое: сырье будет, для чего же мы здесь сидим!
Такое начало разговора приободрило меня, а Левин продолжал:
— Решил помочь вам немножко. Думаю, за это не повесят. Я вам ссужу немного пенечки, могу и небольшой давальческий заказик для начала. Я верю, что фабрика уже будет работать хорошо; мы с вами успеем рассчитаться.
Я не знал, как его благодарить, но он замахал руками:
— И не нужно, и не нужно! Мы тоже очень рады, что сменили руководство, выделили фабрику. Поверьте, нам тоже неудобно. В Орловщине столько пеньки, а одну фабрику прокормить не можем: все вывозим. Смешно и обидно! Понимаете, как обидно!
Небо не казалось мне таким сумрачным, в нем пробивались и посвечивали окна; ветер подсушивал тротуары и мостовые. Вот-вот погода снова разгуляется и волны на Оке станут рыжими, веселыми.
Не помню, как добрался трамваем до фабрики, платил ли деньги. Пришедшая в голову мысль о текстильном синдикате становилась весомее, убедительней. Если Левин решил помочь, то уж правление-то синдиката обязано. А если правление откажет — поддержит партийная организация. Ехать в Москву, не теряя времени!..
Здание фабричной конторы уже не было чужим. Его облезлые, давно некрашенные стены, окошки, будто закопченные, не представлялись теперь такими мрачными. В первый раз, когда я шел через пустырь к фабрике, мне почудилось, что надо снова впервые вставать на лыжи, а ночью подкрадывалось то же чувство беспомощности перед стихиями, которое испытал я у Вайды-губы. Но здесь были люди, здесь я мог действовать, мог решать сам.
Старик сторож в залатанной солдатской шинели открыл дверь, взял под козырек, выпятив петушиную грудь. Я поднялся к себе в кабинет, вызвал Панова. Рассказал главбуху об удаче у Левина, спросил, что он думает, если мы вступим пайщиками в текстильный синдикат. Панов осторожно посомневался:
— А что мы выгадаем?
— Очень многое, Дмитрий Павлович. Будем получать производственные задания. Задания эти синдикат обеспечит сырьем. Готовую продукцию будет реализовать в своей торговой системе…
Главбух двигал пальцами, будто отбрасывая косточки счетов, но незаметно было, чтобы он воодушевился.
— Затем, — убеждал я и его и себя, — синдикат может дать нам сырье в кредит. Мы расплатимся готовой продукцией. Разница стоимости будет переводиться на наш расчетный счет. Чего же лучшего еще желать?
— Ничего из этого не выйдет, — скептически сказал Панов. — Нас не примут. Если бы еще не было решения правительства о закрытии фабрики, тогда другое дело. А сейчас синдикат тоже станет выжидать три месяца.
— Они направили меня в Орел и теперь должны помочь!
— Ну что ж, давайте попробуем, — согласился Панов.
Вечером я был на вокзале. Приземистое, похожее на сундук, здание его освещалось вполнакала; холодно в нем было, гулко. Люди сидели на скамьях, сунув руки в рукава, закутавшись во что попало. С закопченными чайниками бегали за кипятком.
Скоро поезд; через несколько часов я буду в Москве, где прожил четыре года, где встретил Тоню и понял, что это по-настоящему и навсегда. Завтра я ее увижу. Может быть нелегкий разговор, но квартиру я сдам синдикату. Удобную квартиру на Смоленском бульваре, в роскошном доме, из которого когда-то сбежали хозяева и весьма богатые жильцы… Так всегда бывает: возвращаешься домой, а мысли давно уже опередили тебя, и душой ты уже там, в обжитой обстановке. И все же квартирка, которую мне выделили в Орле, еще нежилая, пустая, станет теперь нашей. Летом на остекленной верандочке Вове будет хорошо.
Вова подрос за это время, стал бойчее, тверже на ногах. С криком побежал ко мне, раскинув руки, запрокинув голову. И вправду он очень похож на Тоню, только волосы мои, с рыжинкой…
— Мне нужно в синдикат, — сказал я Тоне, когда она захлопотала с обедом. — После все расскажу.
Я видел, как она огорчилась, как подобрала губы, но на моем месте и она бы не смогла иначе. Ночью мне удалось вздремнуть в вагоне самое большее полчаса, есть тоже хотелось — все это так, однако пока не увижу Фрица Фрицевича Килевица, председателя правления синдиката, смогу ли я спать спокойно?
Говорят, если сын очень похож на мать, он будет счастливым. Это старое поверье, но пусть будет так. И эту фабрику мы воскресим ради наших малышей… Кажется, я здорово волновался; и о чем бы по дороге в синдикат ни старался думать, фабрика стояла перед глазами. Я вспомнил Мавзолей на Красной площади, вспомнил леденящие, скорбные дни и ночи января, когда мы осиротели, когда клялись молча и навсегда верности партии, и как-то весь подобрался, готовый убеждать и требовать, чего бы это ни стоило.
Я старался быть очень кратким, касаться только самой сути: положение фабрики, мои затруднения в новой роли; просил принять нас в числю членов-пайщиков синдиката с отсрочкой взноса, дать указание орловской заготконторе, чтобы она отпустила нам сырье в долг. Фриц Фрицевич сидел равнодушный, будто скучал; а когда я закончил, вдруг сказал:
— Посчитаю за особое удовольствие оказать помощь своему выдвиженцу. То, что вы просите, немедленно сделаем. И впредь готов помогать.
Он весело мне кивнул, записал что-то на бумажке.
Назад я торопился. Можно успеть к вечернему поезду и завтра же быть в Орле — ковать железо, пока горячо. Но слишком гладко стелются первые шаги. Не Килевицу, не Левину, не мне стоять у машин. Можно все склады завалить пенькой, но если не удастся увлечь работниц — пиши пропало. Какое-то странное совпадение: экспедиция в тундру тоже началась в сентябре, и сроку нам было тоже три месяца. Там нас держала стихия; не задержит ли она здесь?
— Удалось, — сказал я Тоне, — пока все, Антонина Петровна, удалось.
— Поедешь сегодня, — кивнула она. И я опять удивился, как хорошо она знает меня.
Я отвык уже от домашних обедов, а Тоня была стряпухой отменной; из довольно скудных запасов умела сотворить чудо. Она накрывала стол, двигаясь легко и ловко, спокойно звучал ее глубокий грудной голос. Никаких трудных разговоров не будет…
Прямо с поезда я помчался к Левину. Старый коммерсант смешно воздел кверху короткие руки:
— Вы уже здесь, Дмитрий Яковлевич. Когда же успели?
— С вокзала к вам, как к отцу родному.
— Готов быть вашим отцом, если бы не было у вас отцов поважнее. Вы ходили по Москве, а ваши шаги мы уже слышали здесь. Вчера звонили из синдиката. По приказанию Килевица мы будем отпускать вам сырье под векселя в течение квартала.
Я вздохнул с облегчением, а неугомонный Левин бегал по кабинету, словно волновался больше меня:
— Нет, вы чувствуете, какие у вас отцы? Теперь и моя помощь вам узаконена!
А на фабрике тем временем разгулялись стихии. От Левина я пошел в совнархоз — информировать начальство о результатах поездки. Там остались очень довольны, и я в самом радужном настроении добирался до фабрики. Из раскрытых окон помещения для ожиданий доносились выкрики, шум. Я забеспокоился. Сторож, открывая дверь, крякнул, ткнул большим пальцем себе через плечо:
— Бабы митингуют, товарищ директор.
— То есть как митингуют?
— Собрание, стало быть. А зачем, не ведаю…
«Странно, — подумал я, — никакого разговора о собрании не было. Что же стряслось? Ну, пожалуй, это к лучшему: познакомлюсь со всеми работницами разом».
Двери в помещение распахнуты настежь. Оно довольно вместительно; однако теперь туда невозможно было пробиться, и жаром тянуло оттуда, словно из бани. Работницы набились тесно, кричали ругательные слова, лютовали, грозя кулаками. Понять что-нибудь было немыслимо. Я вспомнил, как на заводе «Дека» женщины набросились на директора Унковского и обратили его в бегство. Но какими словами мог говорить с ними Унковский в том мире, разбитом на куски, как могла ему поверить солдатская вдова Зинаида?
У двери, мотая головой, словно отгоняя слепней, стоял секретарь нашего партбюро Мелешко. Он несколько раз пытался проскочить в помещение, но тяжеловесная щипальщица, которую женщины звали Манефой, прочно заклинила вход. Мелешко заметил меня, пошел навстречу, словно опасаясь, что и я вздумаю повторить его попытки.
— Перед началом смены несколько работниц решили выяснить в фабкоме, когда же будут выдавать зарплату. Секретарь фабкома, вместо того чтобы им разъяснить, тоже стала возмущаться. Ну вот и набрался полный зал. Поставили стол, притащили Сорокина и учинили допрос. — Мелешко даже закашлялся.
Теперь и я услышал голос председателя фабкома:
— Что вы на меня навалились? Один в поле не воин… да! Вот приедет директор, с него и спрашивайте.
— Ты нам директора не подсовывай! — загремела Манефа. — Мы у этого директора не работали, он нам не должал!
— Верно-о, о чем с Курдачевым толковать!
«Вот теперь самое время», — решил я и попросил Манефу посторониться.
Она оглянулась круглыми свирепыми глазами, ойкнула, двинула плечом. Образовался проход, и я направился к столу, за которым вертелся Сорокин, мокрый от пота, с налипшими на лоб кудельными волосами. Шпагатчицы смыкались за мной, напирали, дышали в самый затылок.
— Вот и директор приехал, — возликовал Сорокин, — вот и задавайте ему вопросы!
Я начал, еще не добравшись до стола:
— Если, товарищи, вам не о чем толковать с новым директором, то мне есть о чем разговаривать с вами!
Шпагатчицы притихли, с любопытством разглядывая меня, готовые в любую секунду снова взорваться.
— Я действительно с вами не работал и вам не должал. Но вам должна фабрика, а фабрику принял я. Значит, я должен с вами рассчитываться…
Тишина стала такой, что Манефа спросила шепотом:
— Когда-а?
— Могу сообщить, — ответил я, уверенный, что сейчас и меня и Сорокина сомнут вместе со столом, — могу сообщить, что у фабрики в настоящее время денег нет и расчетов с вами она произвести не может.
Мне показалось, что лопнул потолок; в дверях мелькнуло бледное лицо Мелешко, Сорокин закрылся руками и попятился к стене. Я набрал побольше воздуху:
— Дирекция… будет… принимать все меры… чтобы раздобыть… денег! Но без вашей помощи это невозможно!
Манефа, работая локтями, прорывалась к столу. Я смотрел на раскрасневшиеся лица, на кричащие рты и думал, что эти женщины и девушки в большинстве своем, наверное, очень славные и руки у них золотые; надо только набраться терпения, чтобы они поняли ситуацию.
— Какую же помощь можете оказать вы, работницы? — негромко спросил я, когда первый шквал начал спадать.
Внезапно все замолкли, подталкивая друг дружку под бока.
— Через три месяца фабрику могут закрыть, вы это знаете. Что же вы тогда станете делать, как будете жить? Надо отстоять фабрику!
Я рассказал о поездке в Москву, о договоре с синдикатом, о том, что теперь мы можем работать безубыточно, если шпагатчицы будут относиться к своему делу по-настоящему.
— Да разве из-за нас убытки? — перебила Манефа. — Мы гробимся за девятнадцать рублей в месяц и те вы платить не хотите!
Ее вразнобой поддержали. Осмелевший Сорокин долбил стол карандашом.
— Все это исправимо, — сказал я. — Нужно, прежде всего, убрать с производства лишних людей, которые сами не работают и другим не дают. Необходимо поднять трудовую дисциплину и объявить беспощадную войну пыли!
— А куда лишних денете?.. Увольнять, что ли? — выкрикнули несколько человек.
— Используем на других работах, а потом — на веревочном производстве.
— Дело говорит директор, — обернулась ко всем Манефа. — Поднатужимся, бабоньки.
Засмеялись, затолкались к выходу. Начинался какой-то перелом, значение которого еще трудно было оценивать. Я взглянул на Сорокина, промокавшего лоб платком, и заторопился в кабинет: страшно хотелось пить.
На следующий день был издан приказ о ликвидации коммерческой части вместе с ее директором Рясинцевым. Мелешко, главный механик и другие руководители фабрики согласились со мной и полностью одобрили проект приказа. Затем двести шпагатчиц были переведены на общие работы. Они расчищали двор, воевали в производственном корпусе с пылью, ставили примитивную на первых порах вентиляцию, поливали полы.
Мы же собрались в кабинете и стали обсуждать, каким образом наладить выпуск веревки. Орловщина всегда была богата пенькой; и кустари, всяк на свой манер, плели из нее веревку. Владельцы фабрики в свое время построили новый корпус, размерами равный шпагатному, только без машинного отделения, полов и утепления, и намеревались собрать под его крышей кустарей, обеспечивая их пенькою. Мелешко верно говорил, что если мы наладим дело, то оживятся и крестьяне — опять станут заводить у себя коноплю, а это сейчас для смычки города с деревней весьма важно.
Однако никто из нас и представления не имел, с чего начинать. И тогда Мелешко рассказал о старом мастере Шифельбейне. Смолоду увлекся Шифельбейн шпагатным делом, до тонкостей узнал его, дослужился до мастера. После бегства владельцев фабрики старик поселился на окраине города, в Стрелецкой слободе, тосковал. Вспомнили о нем после гражданской войны, пригласили старшим мастером; но применить свои знания он не мог: фабрика умирала, людей, которые поддержали бы его намерения, не было, и старик замкнулся, стал сдавать.
— Вы пригласите Шифельбейна, Дмитрий Яковлевич. Если он увлечется, то очень поможет.
Через полчаса в кабинет медленно вошел пожилой человек, лет под шестьдесят, в длинном пальто, сгорбленный, с выцветшими, серыми волосами. Это его я видел в тот день, когда знакомился с фабрикой. Теперь он сидел передо мной с таким отсутствующим выражением лица, словно ничто в жизни его уже не занимало. Я спросил, как он смотрит на организацию веревочного производства в пустующем корпусе, если достаточно будет пеньки. Он недоверчиво глянул на меня, и руки у него задрожали.
— Это давняя моя мечта, товарищ директор, давняя… Но меня никто не слушал…
— А с чего бы вы начали?
— Я бы поставил четыре колеса с одного конца корпуса, четыре с другого — и на восьми колесах начал бы вырабатывать веревку. А если пеньки будет много, — заторопился он, — то можно установить колеса и возле корпуса. В хорошую погоду и на улице… Только поручите, пожалуйста, мне; я все сделаю. — Он прижал кулаки к впалой груди. — Вас бы попросил лишь позаботиться о пеньке…
— Ну что ж, действуйте, Василий Федорович.
Он засеменил к выходу, словно опасаясь, что вот сейчас я верну его и скажу, что все это была шутка. Я ничуть не сомневался, что даже при нашей спешке Шифельбейну понадобится не меньше недели, чтобы развернуться. Но, к счастью, ошибся. На другой же день он вежливенько постучал в дверь кабинета и пригласил в веревочный корпус. По пути он сообщил: оборудование делать не нужно. Вечером он переговорил со своими соседями, у которых имелись колеса. Заказов им все равно никто не давал, пеньку покупать было запрещено. Колеса они отдали Шифельбейну и сами попросились на фабрику.
— Такие люди нам очень нужны, — подтвердил я.
Мы пересекли мокрый от дождя двор, вошли в цех. Шумливые прежде женщины без лишних разговоров и суетни устанавливали колеса; тут же, в конторке, назначенные Шифельбейном товарищи отбирали и записывали на рабочие места людей, продумывали расценки. Шифельбейн отдавал распоряжения тихо, но теперь все его слышали. Я крепко пожал ему руку.
А еще через четыре дня мастер появился при галстуке, торжественный, помолодевший и прерывающимся от волнения голосом сказал:
— Товарищ директор. Три колеса установлены. Прошу разрешения начать работу.
— Начинайте, товарищ Шифельбейн!..
Полутораметровые маховые колеса с шестнадцатью спицами. Метра через полтора от каждого из них по прямой линии вбиты в пол деревянные стойки с желобчатыми шкивами, на которых торчат железные крюки, а дальше, по ходу, устроены рогульки с зубцами. У одного из колес, соединенного со шкивами струной, встала прядильщица, взялась за рукоятку. Лицо ее, курносое, конопатое, по-видимому обычно улыбчивое, было на этот раз грозным.
Появился Шифельбейн, обмотанный по груди пеньковым прядевом. Прицепил прядку к железному крюку, перехватил руками в кожаных рукавицах пеньку, сказал: «Крути!» — и попятился, быстро припуская ее.
— Скорее, голубушка, скорее!
Спицы колеса замелькали, прядки пеньки в руках Шифельбейна скручивались в веревку. На новый костюм его и на пол, как песок, посыпалась кострица. А мастер все пятился, пятился по прямой, словно исполнял какой-то ритуальный танец. Дошел до конца, скидывая веревку на зубцы рогулек. На висках его блестели капельки пота.
— А ну, теперь попробуем вместе.
Смекалистые прядильщицы без труда поняли нехитрую первобытную механику работы, надели рукавицы, опутали свои чресла пеньковыми прядями. Но пятиться оказалось не так-то уж просто: бечева рвалась, колесо замирало. Шифельбейн кидался на помощь…
К концу смены я опять завернул в цех. Костюм у мастера был словно засыпан пеплом, лицо посерело, а глаза блестели весело. Он объяснял женщинам правила безопасности. Три бойких молодки еще неумело и все-таки уже сноровистее, зорко перед собой поглядывая, отступали от колес.
Веревочный цех сразу перешел на сдельные расценки и потом скоро перегнал в заработках шпагатный. Шпагатчицы забеспокоились, осадили Сорокина, а тот, разумеется, переслал их ко мне. Прежде мы предлагали им сдельную оплату, но пришлось отступиться. А ныне Манефа, навалившись на стол кулаками, прямо выложила:
— Мы не хуже этих, давай нам так же!
Сказать просто, но в шпагатном никто никогда расценок не устанавливал и сдельно работать не пробовал. Я обещал делегаткам подумать, посоветоваться с Пановым. В конце концов мы решили временно ввести упрощенные расценки: по эквивалентному отношению одного номера шпагата к другому и сменной выработке.
Мы спешили, замыслы свои проводили быстро, все прикидывали по укрупненным меркам, не принимая в расчет незначительные промахи. В такой крутоверти дней я даже не замечал, какая на дворе погода; только чувствовал, что время летит не менее стремительно, а до вершины еще далече. К тому же я был избран членом бюро горрайкома партии, часто бывал на заседаниях, и надо было вникать в вопросы, лишь косвенно относящиеся к фабрике.
Однажды после такого заседания Петр Иосифович Гусев задержал меня:
— Послушай, Дмитрий Яковлевич, что же ты ничего не расскажешь о своих делах? Или ни в чем не нуждаешься?
— Нуждаюсь в том же, в чем и вы, потому и не прошу.
— Что-то на Сорокина уйма жалоб, а ты помалкиваешь, будто все в порядке.
— Молчу потому, что это не от меня зависит.
— А если мы его заменим, как ты на это взглянешь? — Гусев расстегнул пиджак, поудобнее привалился к столу.
— Кем замените — не секрет? — насторожился я. — «Сорокин — человек бесхребетный, ни рыба ни мясо; но могут подсунуть и такого, что с норовом потянет в другую сторону и выбьет нас из колеи».
Гусев постукивал ладонью по столу:
— Прежде всего, нужна женщина. Ведь на фабрике у вас девяносто процентов женщин… Александров рекомендует одну работницу железнодорожного узла. Я ее знаю. Она член партии, жена секретаря Нарышкинского райкома Курнатова. Скромная, толковая. Будто рождена для массовой работы. Ее на узле все уважают, а многие даже обожают. — Гусев улыбнулся. — И ваши шпагатчицы скоро ее полюбят. Ну, так как ты смотришь?
— Думаю, это надо сделать, — сдержанно ответил я.
Гусев поднялся, пододвинул мне листок бумаги:
— Тогда запиши фамилию. Масленникова. Надежда Алексеевна…
Встреча наша состоялась скорее, чем я предполагал. Во второй половине смены в кабинете у меня собрались несколько человек: решали всякие обыденные мелочи. Вдруг дверь открылась и чистый женский голос спросил:
— Можно к вам?
Поднимаю голову — в дверях стоит стройная белокурая женщина, совсем еще молоденькая и очень привлекательная.
— Заходите, пожалуйста.
Она подходит к столу, подает мне руку:
— Масленникова.
Я быстренько отпустил людей, попросил механика позвать Мелешко. Секретарь партбюро пришел мигом; увидев Масленникову, просиял:
— Надежда Алексеевна, здравствуйте! Значит, к нам?
Такое начало меня обрадовало: Мелешко взял инициативу на себя. Вести переговоры с будущим председателем фабкома секретарю удобнее, чем директору фабрики.
— Меня посылают к вам, хоть я никого об этом не просила, — пояснила Масленникова с досадой.
— Зато мы просили. И возражать не будем! — воскликнул Мелешко.
— Подождите, я еще не все сказала. — Масленникова прямо глянула на секретаря. — Как узнаете, сами будете против…
— А мы уже знаем. Согласимся с кандидатурой, товарищ директор?
— Решать будут работницы, а не мы с вами. — У меня получилось резковато, но Мелешко ничуть не изменил шутливого тона:
— Примут с удовольствием, я за это ручаюсь.
Масленникова покачала головой, откровенно призналась:
— Боюсь я сюда идти. Я же ничего не знаю.
— Ну, это не страшно, — возразил я, стараясь смягчить резкость. — Все мы друг другу будем помогать. Только не нужно стесняться вовремя просить помощи.
Она упрямо пристукнула кулаком в ладонь:
— И все-таки прошу вас, товарищи, позвоните: была, беседовали, не подходит.
— Петр Иосифович плохого работника никогда бы не рекомендовал. И вы знаете, что он сказал про вас? Вы рождены, сказал он, для массовой работы.
Масленникова даже руками всплеснула:
— Да я же… И что я из себя представляю — девчонка!.. Боюсь к вам идти, вот и все. Я вон видела ваших работниц. Вы сами посудите, чему я их могу научить? Я и Гусеву, и Александрову еще не то говорила — не слушают.
Мелешко посмеивался; а я не замечал в сопротивлении Масленниковой ничего забавного и старался ее убедить:
— Со стороны виднее, Надежда Алексеевна. Каждый человек сначала ничего не умеет. Потом начинает учиться и выучивается. Может быть, и вправду вы рождены для массовой работы. Давайте попробуем. Мне кажется: раскаиваться не будете.
На том и договорились.
Отчетно-выборное собрание надолго не откладывали. Сорокину можно было продумать свой доклад за полминуты; а чтобы подготовить шпагатчиц, достаточно недели. Мелешко ни от кого не скрывал, что в председатели фабкома рекомендуют Масленникову, работницу железнодорожного узла. Женщины заволновались: кто она такая, чем дышит? Манефа с несколькими товарками пошла в тайную разведку. Облазили весь узел, чинили допросы с пристрастием и вернулись, многозначительно помалкивая.
И вот в назначенный день приехал из губпрофсовета сам Александров, занял за столом место председателя. Шпагатчицы шумели, ядовито покрикивали. К собраниям они не привыкли: Сорокин их не приучал. Масленникова сидела в уголке, румяная от смущения и неловкости; на нее озирались, о ней громко судачили. Я тоже встревожился.
Сорокин пробормотал что-то невразумительное, сел, отдуваясь, утираясь платком; Александров предложил высказываться. И началось. Все закричали разом: «Вы долго будете нас пылью кормить? Почему у нас нет столовой?»; а потом вообще невозможно стало разобрать никаких слов. Александров надрывался, призывая к сознанию, к тишине.
— А ты приходи завтра на щипалку; поглотаешь с нами пыли, тогда поймешь, как тише! — перекрыла гвалт Манефа.
Теперь все обрушились на Александрова, разбирая его на все корки. Пришлось набираться терпения и ждать.
— Прошу высказываться по порядку, — опять сказал Александров.
Все замолчали, удивленно переглядываясь.
— Да мы уже все выговорили, — ахнула Манефа.
Александров не стал настаивать, перешел к выдвижению кандидатур. Теперь выкрикивали поодиночке; только Манефу назвали так дружно, что в стакане на столе созвенело. Манефа грозила товаркам кулаком, а потом махнула рукой и прослезилась.
Масленникову включать в список ни в какую не соглашались:
— На что нам чужих? Наши-то не красивше, что ли!
Улучив момент, Александров поднялся:
— Я выслушал от вас много упреков, и все они вполне справедливы. Но в помощи не меньше вашего нуждаются другие фабрики и заводы. Они тоже только-только начали свою жизнь. И все же мы безусловно виноваты в том, что многое могли бы у вас сделать — и не сделали. Будь у вас другой председатель фабкома, вы бы сами себе достаточно помогли в том, что сегодня от меня требовали. Мы же в свое время не подсказали вам заменить Сорокина, когда вы не догадались. Теперь, хоть и с запозданием, мы исправим свою ошибку. Масленникова с неба звезд не хватает, но с недостатками никогда не смирится, мы в этом уверены. Мы уверены что она не даст покоя и вам, если не будут выполнены ваши же решения…
Манефа вытерла губы ладонью, сказала:
— Ничего плохого мы о Масленниковой не слышали, кроме хорошего!
— Дайте слово Масленниковой, — потребовали шпагатчицы.
Надежда Алексеевна вышла к столу, повернулась к ним. Лицо ее горело, губы пересохли.
— Здесь уж столько наговорили, что и во сне не увидишь. Ну что я из себя представляю? Несколько лет работаю в железнодорожном депо, мою полы в пассажирских вагонах. Живем мы дружно; так ведь без этого нельзя; дружба везде нужна, во всяком деле помогает. Да и вообще — что решим, то и выполняем. Вот, пожалуй, и все.
Шпагатчицы разом захлопали. Они верили Манефе, да и Масленникова им, видимо, понравилась. У меня отлегло от сердца.
Фабрика словно помолодела, отряхивалась от пыли. Шифельбейн настраивал производство, Надежда Алексеевна занялась бытом. Начала она с маленького, но вполне определенного дела. До нее работницы приносили еду в узелочках из дому и жевали всухомятку. Новый фабком позаботился, чтобы в бытовом помещении все время кипел титан, а зал ожидания в обеденный перерыв превращали в столовку.
В районе шпагатной фабрики магазинов почти не было, за хлебом и то нередко приходилось выбираться в город. Масленникова пришла ко мне, попросила кубометр теса — и вскоре около фабрики появился ларек, хоть и неказистый, но зато приметный издалека. Городские организации привезли в него хлеб, огурцы, лук, печенье, конфеты… Надежда Алексеевна приучила своих помощников по фабкому пока ничего не выдумывать, а следить за газетами — где хорошее делают, то и у себя применять. Я удивлялся, откуда в этой маленькой женщине столько живости, сметки, добросердечия, умения находить в людях золотые струнки и бережно задевать их.
Фабрика задышала глубже, как больной человек, поправляющийся после кризиса; и ни Мелешко, ни Шифельбейн не сомневались, что испытательный срок мы выдержим. Только главбух, по свойственной всем финансистам оглядчивости, не очень-то щедрым был на прогнозы. И все-таки я решил: теперь можно съездить в Москву за Тоней и Вовой; надоело жить бобылем, устал без семьи… Очень хотелось повидаться со старыми друзьями по экспедиции, по прежней работе; очень хотелось опять заглянуть в гости к Павлу Павловичу Сытину.
Встретились мы с ним два года назад в Москве. Шел я как-то по Воздвиженке, вдруг кто-то со спины обнял меня:
— Вот где встретились, товарищ комиссар!
Павел Павлович ничуть не постарел, военный френч ладно сидел на его прямой фигуре, в петлицах посвечивали шпалы. За бутылочкой вина вспоминали мы Карачев, борьбу с бандитами, контрой, формирование красноармейских частей.
— Я сейчас самый счастливый человек, — говорил Сытин, посматривая на своих жену и сына, сидевших с нами за столом. — Преподаю в военной академии, все время ощущаю какое-то обновление, возрождение, что ли, как это бывает в юности. Как вы помогли мне, товарищ комиссар!
Я рассказал ему о работе в полпредстве, об экспедиции в тундру, о том, что все-таки оказался не у токарного или фрезерного станка, как мечтал, но ничего не поделаешь — надо. Однако Сытин упрямо продолжал называть меня товарищем комиссаром. По существу-то, если разобраться, он был прав: все мы на любых своих постах оставались комиссарами, хотя значение этого слова расширилось до беспредельности.
Многих хотелось навестить в Москве, со многими попрощаться, но время встреч и долгих воспоминаний было еще далеко.
И как от Сытина заторопился я когда-то, так и теперь спешил из дома по Смоленскому бульвару, из Москвы. Я нес тяжелые чемоданы, Тоня держала на руках сонного сынишку. В глубине площади расплывчатыми огнями светилось приземистое здание Курского вокзала. Оставляя его, я не оглядывался. Все думы, заботы, надежды были там, в Орле, на фабрике, и мне казалось, что поезд идет слишком медленно.
Едва мы приехали в квартиру и обрадованная Тоня вместе с Вовой принялись обихаживать ее, я отправился на трамвайную остановку. Когда-то в Москве, после похода в тундру, раненая нога очень беспокоила меня; но я лечился на грязях, и боли, по-видимому, исчезли окончательно. И теперь свежий влажный ветер обдувал лицо, воздух был чистый, пахучий, как в осеннем лесу; и в каждой клеточке тела ощутил я столько бодрой силы, что едва сдерживался, чтобы не побежать. Это было предчувствие победы.
На фабрике сразу же встретился с Надеждой Алексеевной и Мелешко. Они сказали мне, что работницы поговаривают, а не вступить ли им в соревнование с другими предприятиями города. Я ответил, что обязательно, но сначала надо подождать, какие выводы сделает Панов.
Главбух пришел ко мне без особой торжественности и, как всегда, положил на стол бумаги, покрытые цифрами. Прибыль восемнадцать тысяч рублей! Подумать только, фабрика дала прибыль!
— Сумма очень небольшая, — сказал Панов, но я увидел: глаза у него смеются.
В губсовнархозе, в горрайкоме, в губисполкоме только и говорили о нашей фабрике. Левин доказывал, что это он дал нам для начала особую пеньку, которую стоит потянуть за кончик, как вытащишь шпагат.
— Что думаешь дальше? — спросил меня Гусев.
— Расширять производство. У нас немало свободных площадей, средства потребуются только на приобретение машин и оборудования.
— Ну, теперь совнархоз наверняка утвердит ваш план.
Я кивнул головой, но о самом главном, что волновало меня все эти дни, не обмолвился: еще не пришло время.
Тоня была на каком-то собрании; Вова возился в своем уголке, складывая из кубиков башню. Она разваливалась с грохотом, он сердито сопел и опять начинал строительство.
Окна обметал иней, на улице похрустывал морозец. Да и дома у нас было довольно-таки свежо, но мне казалось: очень жарко. Я все еще переживал перестрелку с инженером Крашенинниковым, представителем текстильного директората ВСНХ. Крашенинников по сути дела бросил мне вызов, и я должен принять его.
Я подсел к столу, опять принялся перелистывать тетради с записями. Где-то в тропических странах растет этот банан, из листовых влагалищ которого вырабатывается волокно — манила. В Центральной Америке из листьев агавы изготовляют «мексиканскую траву» — лубяное волокно сизаль. У нас на Кавказе, на юге Украины и в Средней Азии разводили когда-то похожий на мальву кенаф, стебли которого дают длинные лубяные волокна. Но сейчас кенафа — капля в море. Американцы это знают: у них на чужие беды отличный нюх. Они прекрасно понимают, что без сноповязального шпагата у нас не смогут осенью работать на полях сноповязалки. Учитывают и то: шпагат приходится разрезать, выбрасывать. И опять предприимчивые дельцы за океаном подсчитывают барыши. Валюта! За шпагат из манилы и сизаля они высасывают наше последнее золото, а у нас простаивает оборудование. Подумать только, какая дикость! Не могу понять, как мы с этим смирились.
Помнится, в синдикате с тревогой ждали появления американских дельцов: президента национального банка господина Шлая и одного из хлопковых королей господина Флеминга. Мы закупали в Америке сырье, но в таком мизерном количестве, что текстильная промышленность хронически голодала. За более крупные закупки нечем платить, нужен был солидный долгосрочный кредит. Однако американское правительство не признавало Советы и потому не могло дать своим фирмам никаких гарантий. Тогда мы решили представить синдикат автономной организацией и вести переговоры от своего имени. Американцы возымели желание поближе познакомиться с фирмой, которую они будут кредитовать, — так сказать, пощупать руками ее прочность.
Мы беспокоились: опытным дельцам ничего не стоит рассмотреть, что синдикат — не что иное как государственная организация, и тогда наша затея мигом провалится. Не будут же американцы кредитовать государство, которое для них не существует!
Оба появились в смокингах, расчесанные на пробор, с тросточками из драгоценного дерева. Сухопарый, с потухшими глазами банкир Шлай поворачивался ко всем автоматически, будто заведенная кукла; Флеминг же оживленно размахивал короткопалыми ручками и то и дело улыбался золотыми коронками зубов. Дельцов очень интересовало, сколько трестов и предприятий, торговых отделений и магазинов в синдикате, сколько сырья и материалов мы покупаем в год и какое количество товара продаем. Масштабы экономической мощи синдиката произвели на американцев впечатление. Шлай прикрыл глаза морщинистыми веками и произнес, что долгосрочный кредит под закупки хлопка будет нам предоставлен в размере десяти миллионов долларов. Флеминг недвусмысленно намекнул: политикой пусть занимаются правительства, а нам, деловым людям, нужно торговать.
Выкачивать золото из государства экономически разоренного — это ли не политика! И неужели инженер Крашенинников не видит дальше своего носа?
При всяком удобном случае на собраниях и совещаниях я поднимал этот вопрос, пока не столкнулся с инженером.
— Мы вынуждены вывозить сноповяз из-за границы, — заявил Крашенинников. — На шпагат такого рода требуется грубое волокно, такое как манила и сизаль. Наша отечественная пенька дает волокно мягкое, и шпагат из нее в резальных аппаратах будет только сминаться. К этому необходимо добавить, товарищи, что, изготовляя сноповяз из пеньки, мы бы тем самым уменьшили и без того скудные сырьевые запасы и поставили бы нашу промышленность в еще более тяжелое положение. Еще раз повторяю: пеньковое волокно для изготовления сноповяза практически непригодно.
— А откуда это известно? — не выдержал я. — Кто и когда это установил?
Крашенинников посмотрел на меня с сожалением:
— Такой вывод подтверждается сравнением манилы и сизаля с пенькой.
«Пусть он считает меня кем угодно, — подумал я, — но отступать не буду».
— Скажите, Александр Федорович, а делались ли попытки изготовить сноповяз из пенькового волокна?
Инженер ответил отрицательно.
— Как же вы можете утверждать, что волокно не годится?
— Пока мы не научились обходиться без манилы и сизаля, утверждать приходится.
Я чуть не рассмеялся:
— Но разве можно научиться тому, чего не делаешь? Вы считаете возможным каждый год расточать наше золото и каждый год ничего не предпринимаете! Разве это разумно? И как долго мы намерены бросать деньги на ветер?
— Пока не научимся делать сноповяз из своего сырья.
Собравшиеся на совещание работники промышленных предприятий возмущенно загудели.
— Так заявлять представителю ВСНХ нельзя, недопустимо! — громко выкрикнул я.
Крашенинников понял, что запутался; покраснел, указал на меня пальцем:
— Вы работаете директором шпагатной фабрики, так вам и карты в руки. Попробуйте сами!..
Попробуем, уважаемый Александр Федорович, попробуем. Синдикат не согласился на немедленное расширение фабрики, посоветовал подождать, пока запасы пеньки в стране увеличатся. Ну что ж, мы будем искать резервы, попробуем испытать очес пеньки.
Скоро придет ко мне Шифельбейн. Потолкуем с ним по душам за чашкой чаю, обсудим, как приступить. Редко я предпринимал что-нибудь без совета Василия Федоровича, а в таком деле и подавно.
Вова наконец сложил свою башню, потащил меня за руку: посмотреть. Нам тоже придется складывать — кубик за кубиком.
— Молодец, — сказал я. — Будет время, когда ты станешь строить настоящие башни из стекла и бетона, высокие — под самые облака[4].
Я почувствовал, что к дому подходит Тоня. Не понимаю, чем это объяснить, но и в отрочестве своем я так же вот знал: сейчас появится Анютка — и она пробегала мимо окна. Тоня отряхнула снег, открыла дверь. На ворсистом воротнике, на ресницах капельки, голос чуть захрип: устала. Ликбез, митинги, собрания. Мы видимся очень мало, некогда поговорить.
— Василий Федорович не был? — спросила Тоня.
— Жду с минуты на минуту.
Она стала готовить чай.
Старик постучал точно в назначенное время, словно на службу. Размотал шарф, снял пальто, подбитое когда-то мехом, а теперь полысевшее; остался в пиджачке и жилетке, смущенно покашливая, прошел к столу.
Незаметно за чаем он разоткровенничался, рассказал о себе. Деды его выехали из Германии на Украину и там осели. Отец женился на украинке, мелким кустарным промыслом кормил большую семью. Шифельбейн окончил городское училище, уехал в Клинцы, поступил на пеньковую фабрику. Специалистов на ней не было, и хозяева предложили ему должность старшего мастера. Шифельбейн считал, что теперь выбился в люди: хозяева им были довольны, и до старости лет все это будет неизменно.
— С наступлением войны положение мое сильно ухудшилось, — прихлебывая чай с блюдечка, поставленного на растопыренные пальцы, говорил Шифельбейн. — И только потому, что у меня такая фамилия. Меня стали травить за то, что Германия воюет с Россией; будто в этом виноваты такие немцы, как я. Дела фабрики пошли все хуже и хуже, наконец началась революция. Голодал, продавал все, что мог. Да и рабочие жили так же. Вот и похоронил я все свои надежды, товарищ директор, стал никому не нужным человеком…
— Ну, сейчас вам ли об этом говорить! Мы еще такое сделаем, что сами будете радоваться и удивляться.
— Я уже радуюсь. И кое-что начинаю понимать.
Постепенно перешли на дела фабрики, хотя Шифельбейн чувствовал неловкость, потому что в домашней обстановке к таким разговорам не привык. Я поделился с мастером своими соображениями о сноповязе.
— Хотелось бы знать ваше мнение, Василий Федорович.
Шифельбейн отодвинул чашку, скулы у него порозовели. Ему, видимо, трудно было признаться, что никогда не приходилось изготовлять сноповязальный шпагат.
— Его вырабатывают на машинах длинного прядения, — смущенно сказал Шифельбейн, — а наши — короткого… Но попробовать нужно. Одно плохо: я не знаю, каким требованиям должен отвечать этот шпагат.
— Вот и прекрасно, — засмеялся я, — вы не знаете, и я не знаю. Значит, будем вместе учиться. Если не искать, то безусловно никогда ничего не изменится.
Он потер руки, по-старомодному поклонился Тоне, попрощался с Вовой и ушел, выставив из шарфа бритый подбородок.
— Славный старик, — сказала Тоня.
— Я очень на него надеюсь. Даже имя у него какое-то родное: Василий Федорович. Как у Грачева, первого моего цехового учителя.
Я открыл ящик стола, чтобы взять тетрадку. В углу, обернутый плотной бумагой, лежал никелированный браунинг, подарок «полицейского». Теперь у меня другое оружие…
Не откладывая, мы обдумали примерные технологические требования, которым должен соответствовать сноповязальный шпагат, изготовленный из пенькового очеса. Шифельбейн, хоть предки его и давно обрусели, с немецкой аккуратностью собрал полезные сведения. Итак, сноповяз должен быть грубым, по всей длине относительно ровным, диаметром не более шести миллиметров, выдерживать на разрыв не меньше шестидесяти килограммов; вес одного клубка — два килограмма, при разматывании его нить не должна скручиваться барашками; стоимость самая низкая.
Это основа. Потом, после испытаний, будет корректировка. Что ж, начнем, Василий Федорович, — идем в цех, к шпагатчицам. Надежда Алексеевна уже подготовила их: они ждут, волнуются не меньше нашего…
Рвется, узлится шпагат, растут на моем столе колючие, как ежи, клубки. А над Орловщиной уже весенние ветры, солнце простреливает снега; падает с карнизов блестящими дробинками, сучится пряжею капель. Потом мы вдохнем вешнего воздуха, подставим лицо лучам. А пока работа, работа, работа. Испытания в лаборатории, переделка, снова испытания. У Шифельбейна набрякли под глазами мешки, дрожат пальцы, серая пыль въелась в поры.
Я только на минутку заглянул домой. Под стеклянной верандой вылезли травинки, на тонких ножках качались одуванчики. Вова ловил бабочек и жуков, нос у него облупился от солнца. А у меня, наверное, вид был совсем неважный, потому что Тоня даже вздохнула. Она собиралась куда-то по своим общественным делам, но села напротив меня, положив локти на стол.
— Что-то случилось, Дима?
— От нашего шпагата отказываются. Скоро уборочная, а мы ничего не смогли!..
И все-таки мы делали шпагат. Образцы послали ряду советских хозяйств, испытательным станциям, просили внимательных, строгих и объективных актов.
И вот первые акты, похожие на пощечины. Бумажки, начисто зачеркивающие все, над чем мы мучились столько месяцев! В синдикате создана комиссия из крупных специалистов. Они ждут результатов, после уборочной произнесут окончательный приговор… Фабрика выдержала испытательный срок, я сделал для этого все, что мог. Так стоило ли рисковать, втягивать Шифельбейна, других?..
— Подожди, Дима, — остановила Тоня, понимая, что высказаться мне необходимо, и все-таки предупреждая меня. — Ты просто устал. Я не знаю вашего производства… но не спеши с выводами. Пусть сведения накопятся. Если все будут такими — значит, вы в чем-то ошиблись.
— Тогда целый год мы потеряем, целый год!
— Помнишь, ты мне рассказывал, как в Литве заморозили ваши вагоны с семенами?
— Какое это имеет отношение?..
— Не торопись. Вы поехали на станции и сдвинули их с места.
— Может быть, ты права. Надо подумать.
Мы поручили Вову соседям, вышли вместе. Я проводил ее до трамвайной остановки перед мостом через Оку.
Над рекой погуливал ветер, морщиня воду, на перекаты набегала волна, пеной обдавая отглаженные гальки и обкатанные куски известняка. Пахло смолой, мокрым деревом, пенькой. Из-за Оки к мосту бежал трамвай. Надо ехать на фабрику…
Тоня оказалась прозорливой. Когда началась уборочная, на столе в моем кабинете накопилось две стопы противоречивых актов. Поднося один из них к самым глазам, вконец измотанный Шифельбейн сокрушался:
— Этого быть не может. Образцы вырабатываем по одному техпроцессу, из одинаковых смесок, — и такая пестрота в качестве!
Мелешко курил, сердито жуя мундштук папиросы, желваки выступали на скулах.
— Надо выезжать на места, — решил я.
— Еду! — Мелешко размял окурок в пепельнице. — Сегодня же.
Он порылся в стопе, вытянул какой-то акт и зашагал к двери.
Не прекращая изготовления сноповяза, мы по адресам хозяйств, отказавшихся от орловского шпагата, послали еще несколько человек и стали ждать.
Не знаю, что потянуло меня к старым баракам, дряхлеющим на пустыре. Крапива, чертополох буйно разметались вдоль стен, маленький плац густым подшерстком заполонила трава; но мне почудилось, будто запах казармы все еще не выветрился. Я бродил между бараками, жуя сладковатые стебли травинок, а мысли были там, где воевали теперь Мелешко и другие наши товарищи.
Какая-то женщина вышла из-за угла, остановилась, закинув голову, засмеялась. Я узнал Масленникову.
— Что вы здесь делаете, Надежда Алексеевна?
— Присматриваюсь.
— И что же вы увидели?
— Кое-что… Здесь можно целый завод разместить.
Кто-то громко звал меня. Я взглянул в сторону фабрики. К баракам бежал главный механик, по-журавлиному вскидывая ноги.
— Мелешко приехал! Мелешко-о!..
В кабинете меня уже ждали. Парторг, загоревший докрасна, с белыми лучиками возле глаз, встряхивал актом:
— У них был в запасе манильский шпагат. Наши образцы даже не ставили в машину, браковали по внешнему виду: возиться не хотели. Это в наше-то время!..
Шифельбейн по-детски счастливо рассмеялся.
А когда вернулись остальные наши посланцы и рассказали примерно то же самое, что и Мелешко, мы совсем воспрянули духом. Теперь слово было за Московской комиссией, изучающей акты. Против фактов она не пойдет.
Московские товарищи не стали принимать шпагат «по одежке», совсем непривлекательной рядом с безукоризненной американской отделкою. Они пришли к заключению: отечественный пеньковый сноповязальный шпагат в работе ничем не отличается от импортного, манильского. Как мне хотелось бы увидеть лицо инженера Крашенинникова, как хотелось бы послушать, о чем говорят теперь всякие флеминги и шлаи!
Мы были в кабинете вдвоем с Шифельбейном, когда позвонил Килевиц и поздравил нас. Он добавил, что решен вопрос о расширении фабрики и мы премированы лицензией на закупку в Германии двух систем машин. Долго сидели молча, глядя друг на друга, потом поднялись, оделись и вышли за ворота фабрики. Трава на пустыре опять пожухла, обронила в землю живучие семена. Солнце висело низко, большое, в осеннем багреце. Старик пригладил серые свои волосы ладонью, вздохнул:
— Хорошо-то как!
Я сел на трухлявое бревно, много лет назад брошенное посередине пустыря, вгляделся в бараки, где давным-давно митинговали сбитые с толку красноармейцы. К баракам с ломами и пилами шли женщины нашей фабрики.
ОБ АВТОРАХ КНИГИ
Автор воспоминаний, положенных в основу этого автобиографического романа, Дмитрий Яковлевич Курдачев родился в 1894 году в семье крестьянина деревни Погуляи Жиздринского уезда Калужской губернии. Окончил церковноприходскую школу, с отрочества ходил на заработки, скитался по России. С 1910 года работал на заводах Петербурга, таких как «Новый Лесснер», «Новый Айваз». Здесь начал революционную деятельность. С ноября 1913 года — член Коммунистической партии. Участник Февральской и Октябрьской социалистической революций, заместитель председателя ревкома завода «Дека», член Совета рабочих и солдатских депутатов Петроградской стороны, командир заводского отряда Красной гвардии.
Д. Я. Курдачев — участник гражданской войны. Был комиссаром группы войск Брянского фронта, орловским губвоенкомом, с 14-й армией Южного фронта дошел до Умани. В 1921 году демобилизован по состоянию здоровья. Работал комендантом советского полпредства, аккредитованного в буржуазной Литве, был членом экспедиции в тундру по уточнению советско-финской границы.
С 1922 года Д. Я. Курдачев находился на административно-хозяйственной работе в Главном военно-инженерном управлении и Всесоюзном текстильном синдикате. С 1925 года по партийной мобилизации восстанавливал шпагатное производство в Орле, возглавлял Коноплятрест, был директором крупнейших машиностроительных заводов Воронежа.
В начале Великой Отечественной войны вместе с коллективом и оборудованием одного из предприятий был эвакуирован на Урал, в город Кунгур. С 1945 года Дмитрий Яковлевич Курдачев живет и работает в Перми.
Сейчас Д. Я. Курдачев — персональный пенсионер, активный общественник: член пленума Свердловского РК КПСС, член совета ветеранов революции и гражданской войны.
Литературная запись автобиографического романа «Мир открывается настежь» сделана писателем Авениром Крашенинниковым. А. Крашенинников родился в 1933 году в Перми. Учился в техникуме, был прокатчиком, служил в армии, работал журналистом. С 1964 года член Союза писателей СССР. В Пермском книжном издательстве вышли сборники А. Крашенинникова «Песни камских волн», «Пламенник», книжки для детей «Мастера волшебного города» и «Две сестрички-невелички», повесть «В лабиринтах страны «Карст», исторический роман «Горюч-камень».