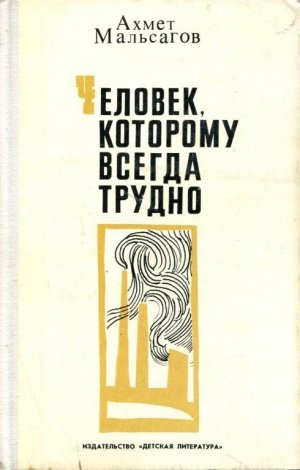
ОТ АВТОРА
Сказать откровенно, я плохо представляю себе, для чего пишутся предисловия. По-моему, они абсолютно необходимы лишь в одном случае: когда нет самой книги. А при данном предисловии книга имеется. Можете пощупать.
Наверное, ни один автор не использовал предоставленное ему вступительное слово для того, чтобы разругать собственную книгу. Я попробую этим заняться. То есть сам роман я критиковать не буду, он мне пока что нравится. Мне не нравится мой главный герой.
Понимаете, этот горский парень, по имени Шамо́, здорово меня подвел: он получился в романе совсем не таким, каким я его хотел видеть. Я думал, что это будет удалой, веселый и немножко бесшабашный юноша, который и в стенах машиностроительного завода умудрится сохранить черты лихого джигита. У него будет безрассудная смелость, какой обладал в молодости его дедушка Марзи́. Будет могучая сила и великолепный рост, как у друга Шамо — Али́ма-Горы. Любовь к шутке и острому слову, как у второго друга — неунывающего Мути́, который на все на свете хотел бы смотреть «попроще». Наконец, я мечтал еще о том, что Шамо будет гордостью цеха: передовиком, рационализатором.
Само собой разумелось, что мой герой может при надобности красиво и изящно одеться, нет у него неуклюжей застенчивости, он находчив и приятен в общении. Словом, может понравиться любой девушке.
Пока я вынашивал свой роман, Шамо целиком соглашался с моим чудесным замыслом. Ему были по душе многие из перечисленных выше черт и качеств, он не прочь был бы ими завладеть и предстать перед читателем образцовым парнем.
Однако, как только я заложил лист в пишущую машинку, Шамо вдруг сказал: «Нет…» — «Что «нет»? Ведь договаривались!» — «Я сам… — тихо сказал он. — Не делайте меня образцовым. Я сам попробую кое в чем разобраться. Может быть, я к чему-то и приду. Мне, конечно, не дано стать красивым или заиметь рост, как у моего друга Алима-Горы — метр девяносто два, мне никогда не научиться шутить или смотреть на жизнь попроще, как требует Мути. Но кое к чему хорошему я, пожалуй, смог бы прийти и сам».
Так рухнул мой замысел. Мне оставалось согласиться, что Шамо сам будет рассказывать свое, а я буду только печатать все, что он рассказывает. И вот родилась эта книга. Странно, что такой молчаливый в жизни парень мог столько наговорить.
Конечно, у любого автора есть полное право не выпускать в свет героя, если тот упрямо самовольничает и становится таким, каким хочет. Почему же я все-таки выпустил Шамо? Совсем не потому, что на заводе, судя по всему рассказанному моим героем, его считают неплохим парнем и даже видят в нем задатки стать прямо-таки прекрасным парнем (пока только задатки!). И не потому, что очень взыскательная и красивая девушка Ке́йпа полюбила этого Шамо (ее любовь к такому зануде и тихоне, когда кругом столько удалых ребят, для меня остается загадкой).
Мне нравится в моем герое только одна черта: он любит людей и верит в них, в этом он тверд как кремень. Он стремится стать хорошим «не для себя», не ради себя, а чтобы хорошо было другим.
Это уже кое-что. Похоже, не все у моего героя получается. Но через свои не очень-то уж великие горести и радости он начинает докапываться до известной миру истины, что любовь ко всему человечеству — штука расплывчатая, пока не уяснишь себе, что должна она начинаться с первого же человека, которого встретишь на своем жизненном пути. А если встретился плохой? Надо презирать и ненавидеть зло. Но без доброты в сердце к людям не сумеешь и отвергать зло — это тоже старая истина.
Шамо поначалу несколько озадачен тем, что быть хорошим — занятие весьма хлопотное. Однако еще ведь предки горские сказали: «Легко быть плохим, трудно быть хорошим». Животворная трудность! Велят нам не бояться ее в деле самовоспитания наша новая мораль, весь наш социалистический образ жизни.
Будь моя воля, я бы не позволил своему герою некоторых завихрений. Так, он одно время слишком уж верит, что все было бы просто и легко, если знать правила взаимоуважительного поведения.
Мне это смешно. Нет, я согласен, что мы, советские, должны предстать перед всем миром не только умнейшими работниками и самыми гуманными людьми, но и людьми самыми воспитанными. Я понимаю, что нельзя выпускать в жизнь юношу, не научив его вести себя. Это все равно что выпускать на улицы водителя, знающего мотор, но не слышавшего о правилах движения: неизбежны аварии, как неизбежны они (жизненные!) и у невоспитанного человека.
Вместе с тем ясно, что еще хуже — человек, назубок знающий правила, но не умеющий водить машину. Тут уже пахнет не штрафом от ГАИ, а катастрофой. Иначе говоря, внутренняя культура человека — основа всему, а культура внешняя — ее обязательное выражение.
Хорошо, что мой герой, кажется, дошел до понимания этого и даже склонен — юморист в душе! — посмеиваться над теми, кто верит лишь во внешний лоск. Иначе не стал бы я ничего из рассказанного моим героем записывать.
Судить Шамо за некоторую путаницу в его мыслях мне вообще не хотелось бы. Ведь он из тех горских ребят, которые, как говорится, только-только сменили черкеску на рабочий комбинезон: завод возник у межи кукурузного поля, в окружении аулов. Старики по привычке тянут к своему, а заводская молодежь работает и живет в атмосфере рабочего коллективизма, по нормам новой морали. Отказываться сплошь от всего старого, даже если оно доброе? Нет, надо становиться старикам не на грудь, а на плечи! Мой герой не сразу приходит к этой мысли, он вначале… Впрочем, пусть рассказывает сам.
Я же расскажу немного о себе. В повествовании, которое ведет Шамо, обо мне ничего не будет, потому что не мой герой меня выдумал, а я — его. Вот только для того, наверное, и нужны авторские предисловия, чтобы автор мог сказать о себе.
Мне пришлось понемножку делать многое: я работал землекопом и копировальщиком, плакатистом и спортивным тренером, был режиссером и солдатом, тридцать лет отдал журналистике, из них десять — пишу книги. На заводе, как мой Шамо, я не работал, но родился я, как и он, в таком же ингушском ауле, знаю людей своего горного края, знаю Кавказ и пишу о нем. Мне почему-то всегда интересно было и поучительно наблюдать людей, которые понимают, что легко быть плохим и трудно быть хорошим. Удивительный педагог В. Сухомлинский верно сказал: «Без познания на собственном опыте, что такое трудно, человек может вырасти бессердечным, бессовестным».
В моих повестях «Расплата», «Звезда над Эльбрусом», «Прими путника, дорога!», «Лоре рисует афишу», «Край вейнахов», в пьесах «Именем ревкома», «Я не буду одинок», книге очерков «На горной тропе», в рассказах «Притчи о горском этикете» выведены героями люди сердечные, добрые, совестливые или хотя бы понимающие, что обязанность людей на земле — быть такими.
Не из их ли числа и мой Шамо, рабочий парень?
ЧАСТЬ I
ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ МОИХ ПРЕДКОВ
По-моему, самая глупая вещь на свете — ругаться, кричать. Человек думает, что я стану умнее, если он накричит на меня. А на самом деле это не так. Я теряюсь и перестаю соображать.
К тому же накричал на меня Джамбо́т несправедливо. Это было на стыке смен. Я закончил работу, навел полный порядок на своем рабочем месте и собрался уходить. Но вспомнил, что надо отдать резец хозяину соседнего токарного станка, Ина́лу.
Конечно, Инала и след простыл. В последнее время он всегда так стал делать: едва закончится смена, бросает неприбранный станок и мчится с завода на трикотажную фабрику, чтобы успеть повидать там возле проходной хоть одним глазом свою ненаглядную.
Я открыл тумбочку Инала своим ключом и положил туда резец. Только повернулся уходить, как услышал за спиной зычный голос:
— Приоделся? Помыл ручки после вахты? Чуб свой не забыл прилизать? Да ты красавец, настоящий красавец! Если бы еще и твой станок был похож на тебя, то из нашего завода мог бы получиться завод!
Это был Джамбот. Он пинал сапогом стружки и ветошь, продолжая отчитывать меня:
— Значит, весь этот базар ты оставил своему сменщику, которому предстоит мучиться в ночную? Вот такие, как ты, и губят производство. Разгильдяи, неряхи!
Я растерялся и не знал, что ответить. Может быть, я от растерянности сказал бы, что это не мой станок. И получилось бы, что выдал Инала, а мне от этого стало бы очень противно, хотя мне Инал совсем и не друг.
— Ты что, старый, накинулся на малого? — сказала проходившая рядом На́ни. — Это же не его станок. Не он хозяин.
— Вот-вот. Был бы станок его собственностью, а то — государственный. Ему и наплевать, — понял слова Нани по-своему Джамбот. — А ты чем лучше, Нани? Почему цветы в пролете не полила?
Я взял у Нани метелку и начал мести вокруг чужого станка.
Нани тоже не положено пререкаться с Джамботом. Не потому, что она всего-навсего подсобница и по совместительству уборщица. А потому, что Нани — женщина.
Но это же Нани! Уж она-то в долгу ни перед кем не останется.
— Ты что, Джамбот, и на меня не прочь покрикивать? — спрашивает она с усмешкой. — Вот бы весь завод удивился, если бы я тебе это позволила! Цветы я и так иду поливать, но уж плакать-то ты меня не заставишь. Вчера, говорят, ты довел своей бранью до слез одну сборщицу. Не-е-ет, Нани ты не доведешь! Да и кто ты такой, чтобы на всех покрикивать? Может, ты повыше самого директора завода? Нет, ты лишь на ступеньку выше старой Нани.
В самом деле, почему Джамбот лезет во все? Говорят, он у нас числится просто комендантом завода, но на дверях его кабинета я видел табличку: «Начальник».
— Иди, ради аллаха иди, — отмахивается от Нани Джамбот. — С тобой только сумасшедший свяжется!
— Наши предки говорили и другое: сумасшедшего даже пьяный стороной обходит! — отвечает тотчас Нани. — Поэтому я и уйду!
Она быстро уходит, очень довольная тем, что последнее слово осталось за ней. Я тоже доволен: хорошо она отбрила этого крикуна.
У меня бы и обиды не осталось на Джамбота, если бы он вдруг не сказал, отходя от меня:
— Не помню, чей ты, но все твои предки до седьмого колена не слышали, наверное, что такое чистота.
Я опять ни слова не сказал, но обиделся. Весь вечер потом не мог успокоиться. Почему я так обиделся за своих предков, сам не знаю. Я их видеть в глаза не видел, этих предков. То есть как не видел? Мой отец жив. Жив и отец моего отца — мой дедушка Марзи́. Пожалуй, оба они — мои предки, но я как-то привык считать, что предки — это те, кого уже нет на свете. Они лежат себе спокойно на кладбище, никому не мешают. Держатся очень скромно, не козыряют ни именами, ни званиями: у нас, ингушей, надмогильный чурт (обелиск) был с древних времен без надписи, а если и есть надпись, то по-арабски. То ли фамилия, то ли, скорее всего, что-нибудь из Корана. Кто это поймет? Ведь наш ингушский язык только с одним языком на свете и схож: с чеченским.
Очень простые, строгие обелиски не всегда отличишь один от другого. Только у одного из самых моих первых предков чурт необыкновенной высоты и ширины. Он сам, предок, завещал поставить себе такой памятник. Но, оказывается, совсем не для того, чтобы выделиться. Умирая, он сказал: «Поставьте на моей могиле простой неотесанный камень, но чтобы он был моего роста».
Лежат себе предки на кладбище, ни во что они уже вмешаться не могут. И все равно ингуши без конца втягивают их в свои житейские дела и разговоры. Одни до невозможности превозносят их, так превозносят, что остановить можно лишь старой поговоркой: «Плохое поколение только предками и хвалится». Другие шагу не могут сделать, не держась за бороду предков. Например, если человек хочет доказать что-то, то непременно вспомнит: «Еще наши предки говаривали то-то…» А если хочет кого-нибудь выругать, то приплетет заодно и его предков. Почему-то до седьмого колена, не дальше.
Во всяком случае, мой дедушка Марзи, когда очень на меня рассердится, то начинает свою ругань непременно со слов: «Ай, чтоб твои предки до самого седьмого колена…» Это он ругает их за то, что они дали миру такого потомка, как я.
Я не могу обижаться на Марзи, потому что он как-никак сам входит в число этих семи поколений наших предков. А какое дело до моих предков Джамботу? Лучше было бы, если бы Марзи, а тем более чужой для меня Джамбот оставил моих предков в покое. Зря я не сказал этого Джамботу. И вообще зря я молчал, когда он меня так отчитывал ни за что ни про что.
Сделать замечание младшему человек имеет право. Даже обязан (конечно, если замечание справедливое). Я — младший, мне двадцать лет, а Джамбот чуть ли не втрое старше. В глазах Джамбота я — мальчишка, у которого еще и ус толком не пробился. Вчерашний пэтэушник. Так оно и есть. А Джамбот… Я вспомнил его массивное лицо, густые сердитые брови, зычный голос, могучую, не по-стариковски, грудь, обтянутую полотняным кителем… Солидный мужчина. И шумит он, наверное, так потому, что переживает за станки, хотя по службе и не отвечает за них. Но предки мои при чем?
В общем, уходил я из цеха расстроенный; добавила мне обиды и Губа́ти. Эта девушка-горбунья, табельщица из сборочного цеха, живет в общежитии рядом через стенку. Она просыпается каждое утро часов в пять и сразу начинает играть на своей старенькой гармошке такие заунывные мелодии, что мне все утро очень и очень грустно. Многие в нашем общежитии сердятся на Губати, обижаются, что она не дает поспать. А я никак не могу сердиться на эту девушку и всегда стараюсь сказать ей что-нибудь веселое, хотя шутник из меня неважный.
Она идет мне навстречу с двумя стульями.
— На один сама сядешь, а на второй — я? — спрашиваю я в шутку.
— А как же, тебя обязательно надо посадить. В грядку! — отвечает она, тряхнув большими круглыми серьгами, сделанными под золото. — Чтобы вместо одного дурака два выросло.
Все, кто идет заступать на ночную смену, хохочут. Приходится смеяться и мне.
Неприятно уходить из цеха дважды обруганным.
— Да говори же наконец, чего ты от меня хочешь? — нетерпеливо пристукивает Джамбот тяжелым кулаком по своему полированному письменному столу.
— Я уже сказал… Очень прошу тебя, Джамбот, не затрагивай никогда больше моих предков.
У нас — ингушей и чеченцев — нет обращения на «вы». Отчества мы тоже не произносим. Так что все сказанное мною сейчас Джамботу — вполне вежливое.
— И ты с этим притащился ко мне в кабинет чуть свет?! — удивленно меряет меня глазами Джамбот. — Иди к станку. Смена начинается. Стой-ка! Оказывается, неприбранный станок был не твой? Почему же ты вчера промолчал?
Я молчу и сейчас. Джамбот вскакивает, упирается обоими кулаками в стол и отчитывает меня:
— Видите ли, его предков я задел! Гордость тебя распирает? А кто ты такой, если вдуматься? И что это мы, ингуши, держимся всегда так, словно из княжеского рода! Ну, вот взять тебя. Кто ты такой? Да ведь люди еще и имени твоего не знают! Ты же, наверное, еще вчера до суппорта своего станка не доставал без подставки. А вот до самых гнусных наших пережитков ты уже успел дорасти. Быстро успел!
— Каких пережитков?
— Промолчал, чей станок? Значит, покрываешь соседа. Значит, этот станочник тебе или дружок, или родственник. Вот это и есть пережиток: круговая порука. Вчера ты «выручил», завтра сосед тебя выручит. Так и прячем наши грехи, а производство страдает. И когда мы эту дурь вышибем из наших людей?
Наверное, я все сумел бы понять и насчет дури и как ее вышибить. И даже высказал бы кое-какие мысли по этому поводу, если бы Джамбот не начал снова кричать на меня…
В эту минуту к нему кто-то позвонил по телефону, а я повернулся и ушел из кабинета. Вышел, оглянулся на обитую кожей дверь с золотыми буквами «Начальник» и подумал: зачем я сюда притащился? А уж раз притащился, надо было высказать Джамботу все, что думал. Но он сбил меня с толку этими словами про пережиток.
Вот в этом помещении, которое теперь стало кабинетом Джамбота, раньше тоже был пережиток. Бытовка была, раздевалка душевой. Специально для нас, молодежи. Понимаете, имелось две мужских раздевалки. По-моему, это было удобно для всех. Потому что есть у горцев такой неписаный обычай: пожилому или старому человеку считается неприличным представать голым перед молодежью. На речке или на пруду, какое бы укромное место для купанья не было, мужчины постарше стараются раздеться где-нибудь в сторонке от ребят. А чаще всего мы, молодежь, деликатно сматываем удочки и ищем себе другое местечко, чтобы не смущать старших.
Так было и в бытовке. Мы молча, не договариваясь со старшими, поделили себе раздевалки: у них своя, у нас своя. Из раздевалок расходимся по душевым кабинам все равно голые, так что, если вдуматься, вся эта игра в «приличия» была не больше, чем фасон. Но нам нравилось. Мы, молодые, свободнее чувствовали себя в своей раздевалке, тут у нас свои шутки и разговоры.
И вот теперь осталась только одна раздевалка. Вторую Джамбот забрал себе под кабинет. Говорят, в завкоме поднялся было об этом разговор, но Джамбот произнес слово «пережиток», и от него сразу отстали. «Где это записано, что старший не должен оголяться при младшем? — спросил, говорят, Джамбот у завкомовцев. — Не от староверов ли это идет? А может, в Коране записано?» Так это смехом и кончилось. Джамбот победил. Он вышиб вот из этих стен бытовки наш «банный пережиток». А только что он вышиб и меня вместе с моим пережитком круговой поруки. До сих пор я даже не задумывался, есть во мне такой пережиток или нет.
Однако предков моих он на этот раз обидеть не посмел.
И все же я заступил на смену в состоянии… сейчас припомню, как это называется, я прочитал об этом вчера вечером в журнале «Знание — сила», — в состоянии эпизодической психической травмы. Если тебя чем-нибудь расстроили, это называется психическая травма. Оказывается, она может влиять на производительность труда. Иногда даже больше, чем производственная травма: выработка за смену может у тебя снизиться на шесть — семнадцать процентов.
Что-то не верится. Я не помню, чтобы нам об этом когда-нибудь говорили по технике безопасности. Может быть, это выдумка ученых? Правда, я раньше иногда замечал, что если ты расстроен, то работа идет хуже. Зато и наоборот бывало, это я точно помню. Однажды я сильно разозлился на мастера. Так разозлился, что работал всю смену как сумасшедший. Всего один раз на перекур пошел. И выполнил полторы сменных нормы.
А может быть, ученые что-то новое открыли? Только мне не верится, чтобы с такой точностью они подсчитали, как влияет психическая травма на производительность труда. По-моему, пока еще нельзя с точностью до процента узнать, что творится у человека на душе.
Сегодня мне некогда думать о психической травме, потому что мастер, вручая наряд, попросил:
— Нажми, Шамо, не тяни с этими деталями. Механический цех просил ускорить.
— За заготовками бегать не придется?
— А что, разве ты каждый раз бегаешь? Вся сотня заготовок уже тут. Ну, запускай станок.
Чепуховский наряд. Месяца два назад я уже точил как раз такие же болтики, могу повторить работу с закрытыми глазами.
— К трем часам сделаю, — сказал я мастеру, уверенно сказал.
А на самом деле знаете что получилось? Я прямо сам не свой стал, когда увидел, что получилось. В три часа я глянул в ящик с заготовками, пересчитал, а их там еще семнадцать штук.
Мастер мне говорит:
— Не успел? Наверное, станок барахлил? Ничего, механическому цеху и этих болтов за глаза хватит. Они всегда норовят с запасом заказать. Да чего ты так расстроился?
Семнадцать штук не доделал… Как раз семнадцать процентов не додал! Прямой результат психической травмы. Значит, правильно пишут в журнале «Знание — сила».
И началось все из-за того, что было сказано недоброе слово о моих предках.
ВСЕ-ТАКИ Я — КТО-ТО…
«Да кто ты такой?» — спросил меня Джамбот у себя в кабинете. А еще до этого, у станка, он сказал: «Не знаю, чей ты…»
Кто я? Ингуш. Один из ста шестидесяти тысяч ингушей. Советский человек.
Чей я? Своего отца и матери. Помню, в ПТУ некоторые ребята называли своих родителей «предки». Мне это не нравилось. Какие же это предки, если они еще довольно-таки молодые люди? Ну, мать свою я еще могу назвать предок, потому что ее уже нет в живых. А отец мой — какой же он предок? Живой, огромный, широкоплечий человек, всегда такой веселый, любитель всяких застолий. Бывший фронтовик с орденом.
И двух лет нет, как он бросил меня с матерью и уехал. Больше ничего плохого люди о нем сказать не посмеют.
В совхозе его считали самым безотказным трактористом. В компаниях он, говорят, бывал иногда вспыльчив и даже скор на руку, если кто-нибудь вел себя за столом неприлично. Это я знаю только по слухам. Меня же и мою мать он, сколько я помню, никогда пальцем не тронул. Даже мрачным я его никогда не видел. Когда он надумал бросить нас из-за одной полюбившейся ему женщины, то, говорят, дедушка Марзи заперся с ним и обломал о его спину кизиловую палку. Может быть, в те минуты отец и был мрачным, не знаю. «Бесполезный, непутевый у меня сын! — говорит о нем часто дедушка Марзи. — Одна радость, что ты, Шамо, на него ни в чем не похож».
Мать же мою покойную, то есть свою невестку, Марзи очень уважал. Да и люди ее любили. Она была гордая, тихая, уважительная со всеми. Она часто твердила мне, даже когда отец бросил нас: «Плохо о своем отце не думай. Он в жизни чужой иголки не взял и всегда готов был поспешить на помощь любому. В этом будь таким же, мальчик. Иначе нет тебе дороги к моему плетню и материнское молоко, которым я тебя выкормила, пусть обернется ядом». Ну что ж. Я стараюсь об отце плохо не думать, хотя это и нелегко.
О дедушке Марзи я попозже расскажу многое. Пока же знайте, что плохим человеком назвать его тоже никто не может. Так что не следовало Джамботу столь пренебрежительно спрашивать у меня: «Чей ты?»
«А сам кто ты такой?» — это тоже он не должен был говорить.
Устаревший он человек, этот Джамбот. У него слишком древний, деревенский взгляд на людей. Это только в старину было так, что парень, которому едва исполнилось двадцать, пока еще никто. Он просто сын или внук такого-то. Вот и все его звание. Он послушно делает то, что скажут старшие, то, что велит обычай. Иначе ему и деваться некуда. Своего плетня у него нет, зарплата ему ниоткуда не идет. Денег для калыма — для уплаты за свою невесту — он в жизнь не соберет, если от него отвернутся родители и родственники. Так было.
А я, сегодняшний парень, вполне самостоятельный человек (про калым тут говорить не будем, я его платить не собираюсь, да мне и думать про женитьбу смешно).
Я — токарь. Специалист. Без токаря не может существовать ни одно предприятие, где имеют дело хоть с одним кусочком железа. Все, что круглое, делает токарь, а видели ли вы какое-нибудь промышленное изделие, которое не имеет круглой детали?
Это вообще о токарях. А теперь скажу о себе. Я нужен любому предприятию. Лично я.
Убедился я в этом сегодня, после той самой смены, когда так позорно снизил производительность своего труда на семнадцать процентов.
Я не пошел после смены ни в столовую, ни в общежитие, потому что не люблю, когда мои друзья видят, что я в плохом настроении. Я пошел через заводской поселок к пруду. Мы называем его озером, а на самом деле это искусственный пруд. Водохранилище, сделанное нашим заводом.
Раскинулось озеро вблизи нашего районного городка Дэй-Мохк. Прямо за заводским поселком, как раз между нашим заводом и трикотажной фабрикой.
Я шел по берегу, чтобы посидеть где-нибудь в безлюдном месте. С горы, от фабрики, спускался мужчина. Я с ним и не знаком, знаю только, что он кадровик на фабрике. Остановиться, поздороваться с ним все равно положено.
Я думал, что он пройдет себе мимо, а он подошел ко мне и затеял со мной длинный, не очень вначале понятный для меня разговор. Спрашивает, какой марки у меня станок и сколько он лет в эксплуатации. Я отвечаю.
— Тебя, кажется, зовут Шамо? Шамо Асла́нов? — спрашивает он. — Да-а, на таком станке много не выработаешь. А мы вот получим на днях новые станки для своей фабрики…
И смотрит на меня так внимательно, будто ждет, что я отвечу.
— На новом станке тоже не сделаешь много, если за ним плохо ухаживать, — говорю я.
— Воллахи[1], правильно, Шамо! А еще вот у нас какая новость. Нашей фабрике разрешили построить еще два жилых дома. Пятиэтажных. И вообще министерство нам ни в чем не отказывает, потому что мы — молодое предприятие. Скоро сможем каждому отдельную квартиру давать! Конечно, своему работнику. Понимаешь? Своему!
Говорит он мне все это так, вроде бы между прочим; зевает, а сам внимательно смотрит на меня. Он не дождался, пока я соображу, что ответить, и спрашивает:
— Слушай, а как у вас на заводе относятся к тем, кто пришел после ПТУ? Не обижают?
Я подумал-подумал, припомнил все, что было на заводе за два неполных года моей работы. Мне почему-то даже не вспомнилась моя стычка с Джамботом. Я подумал только о хорошем. Перед глазами встал мой ремонтно-механический цех. Дружные у нас ребята. И мастер справедливый, и начальник цеха…
Ага, теперь, кажется, понятно, для чего фабричный кадровик завел со мной весь этот разговор. Он меня переманивает с завода к себе! Я слышал давно, что фабрика постоянно занимается этим; предприятие ведь совсем молодое, не имеющее кадров. Но меня лично переманивают первый раз в жизни. Очень интересно!
Только я хотел ответить, что мне нравится на заводе, как прибрежные кусты вдруг зашевелились, и показалась плешивая голова Абуязи́та. Еще один кадровик! Только это уже наш, заводской. Он раздвинул кусты и ринулся снизу вверх к нам. Босиком, штаны засучены. Ему лет сорок, он коротенький, коренастый. Весна, а лицо у него загорелое, как у пахаря.
И я вижу, что лицо у него сердитое. Он с такой злостью смотрит на фабричного кадровика. А тот с улыбкой спрашивает:
— Что, Абуязит, не клюет? Ты, наверное, за время отпуска всю рыбу в нашем озере выловил…
— Озеро не ваше, а наше, заводское, — говорит ему Абуязит. — Но этот разговор оставим в стороне. И шутки — тоже. Ты лучше ответь мне: когда ты наконец перестанешь рыбку ловить?
— Тебе можно, а мне нельзя?
— Я тебе сказал: оставим шутки. Ты не смейся, ты хорошо знаешь, о какой я «рыбке» говорю.
При этом Абуязит посмотрел на меня — на «рыбку», а потом сказал фабричному человеку:
— Эй, мужчина, иди-ка своей дорогой. Воллахи, найду я способ сломать твое удилище! Не говори потом, что не слышал это.
— Э, брось… Кого из ингушей ты напугаешь угрозами? Громко мяукающей кошки мышь не боится! Ладно, я пойду своей дорогой, а ты занимайся себе своими пескарями…
Когда мы остались с Абуязитом вдвоем, он мне сказал:
— Ты что это, мальчик, а? Совесть хочешь потерять? Да я вижу, ты ничего не понял. Держись подальше от этого нехорошего человека! Говорил он тебе, что у них на фабрике молодому парню веселее работать? Девичий коллектив и все такое…
— Нет, этого он не говорил, — краснею я. — А зачем ему переманивать меня, если мне скоро в армию?
Абуязит втолковывает мне, что трикотажники на это не смотрят. Они так хитро поставили дело, что парень заинтересован вернуться после двух лет службы в армии на эту же фабрику. Если он согласится оставить на фабрике свою трудовую книжку, то ему за каждый год службы в армии продолжают начислять тринадцатую зарплату. После демобилизации фабрика дает парню сверх того еще сто рублей: пятьдесят — безвозмездно, а пятьдесят — в рассрочку.
— Интересно, — говорю я задумчиво.
— Что?! Ты забудь мои слова! — спохватывается Абуязит. — На фабрике ребят раз-два и обчелся, там могут себе позволить такие расходы. А ты обязан помнить, что рабочая гордость не на рубли меряется, Шамо. Ты — машиностроитель. Электросверлилки, которые выпускает наш завод, идут на экспорт в тридцать три государства мира. Но тебе, может быть, больше нравится выпускать женские рейтузы? Тогда иди вон туда на горку — на фабрику. А когда явишься в полк, так и доложишь: «Производитель дамского белья Шамо Асланов прибыл в ваше распоряжение!» Смеешься?
Поглядывая в сторону кустов, над которыми торчит воткнутое в берег удилище, Абуязит напоследок наставляет меня, чтобы я не вздумал переметнуться на фабрику, а то он, Абуязит, сделает так, что мне станет тесно и по ту сторону озера и по эту.
— Клюет! — вопит он вдруг так, что я вздрагиваю, и скатывается к берегу, мелькая белыми босыми ногами, продирается сквозь кусты, как спасающийся от погони дикий кабан.
Я вижу, со стороны поселка ко мне идут Алим-Гора и Мути. Это мои лучшие друзья. У нас старая, испытанная дружба, мы ни разу не подводили друг друга ни в чем. Мы втроем дружим чуть ли не с того самого дня, как я начал работать на заводе. Я всегда помню слова Шота Руставели: «Если ты не ищешь друга — самому себе ты враг».
Никакой причины дружить у нас троих нет. Если разобраться, мы совершенно разные люди. А почему-то сдружились. Оба они старше меня. Пожалуй, у Алима-Горы и у Мути еще и можно найти кое-что одинаковое: это довольно-таки известные личности. Мути, широкоплечий крепыш, слывет на заводе первым шутником среди молодежи. Не то чтобы он без конца сыпал шутками и анекдотами, нет. Он просто неунывающий человек и умеет в любой компании подметить что-нибудь смешное. И никто никогда на него за это не обижается, хотя у ингушей и есть поговорка: «Шутки — рожки ссоры». Она придумана, чтобы осторожнее шутили, знали меру.
Алим-Гора шутить не любит. Самый заметный на заводе человек — он благодаря своему росту и силе. Рост у него метр девяносто два. С ним когда разговариваешь, шапка с головы упасть может, такой он высокий. Казбек над всеми горами возвышается. Так и Алим, он выше всех на заводе. Может быть, поэтому его и прозвали «Гора». А я бы скорее сравнил его с одним из тех вот тополей, которые выстроились вдоль берега. Такой же он крепкий, прямой и могучий, как тополиный ствол, этот наш Алим. Не худой и не толстый, как раз в меру. А сила… Помню, однажды он на спор побежал в цехе за автокаром и остановил его, ухватившись одной рукой за задок.
Из нас троих я один — человек малоизвестный. У меня нет ни особой внешности, ни особой силы, а что касается каких-нибудь талантов… Хоть бы что-нибудь! Память у меня, правда, исключительная, но про это на заводе кто обязан знать? Я мог бы, например, вслух повторить только что прочитанную страницу любой книги. Самое удивительное, что я особенно хорошо запоминаю непонятные слова. Наверное, такие слова больше нравятся. Но это ведь не назовешь талантом, если от этого другим никакой пользы. Мог бы я похвастаться тем, что чувствую любого коня. Есть у меня такое. Впрочем, это есть, наверное, у любого, кто в деревне рос. Хвастаться таким «талантом» тем более смешно, что это теперь дело совсем устаревшее: коня в нашем районном городке редко увидишь.
Да, чуть не забыл. В ПТУ я неплохо чертил на уроках и научился рисовать заголовки в стенгазете. Это благодаря усидчивости и уравновешенному характеру, так мне там говорили.
Родом мы, трое друзей, из разных сел. И специальности у нас разные. Я — токарь, Мути — слесарь в нашем же ремонтно-механическом, а Гора — термист, шурует в своей электрической печи, занимается термической обработкой деталей, чтобы эти детали получили нужную закалку. Может быть, поэтому у него такое темное лицо, как у кузнеца. И глаза, глубоко сидящие под черными сросшимися бровями, всегда слегка прищурены, словно Алим постоянно смотрит на пламя своей печи.
Алим-Гора идет ко мне, одолевая горку метровыми шагами, однако Мути изо всей силы тянет его в сторону, говорит с испуганным лицом, дурачится:
— Ты что, Гора?! Нам неприлично беспокоить Шамо! Ведь это человек, который имеет дело только с начальством: с Джамботом, с кадровиками…
— Отстань, Мути… — лениво отмахивается от этой шутки Алим. — Слушай, Шамо, ты чего это стал прятаться? Мы тебя везде искали.
Интересно, откуда они узнали про мою стычку с Джамботом? Проболталась Нани?
Мы идем по берегу в сторону парка, и Мути допытывается у меня:
— А что это наш кадровик тебе грозил пальцем? Не из-за Джамбота ли? Дружно за тебя начальство взялось!
Я рассказываю ребятам о всех своих новостях. Я вижу, что им приятно слушать о моем разговоре с кадровиком. Никто из нас троих не слывет передовиком, не доросли мы еще до доски Почета, но и плохого о нас не могут сказать. Нормальные работяги. И нужные заводу, если Абуязит так здорово отшил из-за меня фабричного кадровика.
— Мы, мы решаем судьбу завода! — говорит Алим-Гора. — А Джамбот кто такой? Он не производственник. И стоило тебе, Шамо, расстраиваться из-за него?
— Правильно, — подхватывает Мути. — Предков твоих затрагивать он, конечно, не имел права. Но я скажу и другое: что-то сильно стали мы, ингуши, носиться с этими предками. Наш заводской врач знаете, что себе нарисовал? Я собственными глазами видел. Дерево нарисовал. А на дереве — все его предки до тринадцатого поколения!
— Хм… — качает головой Гора. — Откуда же он их портреты мог выкопать?
— Нет, он изобразил предков не рисунками. Просто их имена. Каждая ветка — предок. Себе тоже врач отвел один сучочек. Авансом. Он ведь тоже будет чей-нибудь предок. Интересная ботаника! У такого дерева даже название специальное есть…
— Ге…генеалогическое, — припоминаю я.
— Кажется. Предков начали себе собирать не только ингуши, я вам так скажу. Помните, приезжал наладчик из Москвы? Простой парень, без фасона: я позвал его в гости к нам домой, он без разговора пошел. Он как выпил две стопки, так и начал перечислять, сколько поколений его предков были чистыми москвичами. Девять поколений насчитал, а потом начал сбиваться.
— Хуже всего, когда не знаешь, как с людьми держаться… — говорю я, думая о своем.
Мы валяемся на траве в чахлом, совсем еще молодом заводском парке. Увидим, что идет старик с мотыгой или пожилая женщина гонит козу, вскакиваем, поздороваемся, а потом опять валяемся и болтаем о том о сем.
— У нас на заводе есть человек, который мог бы провести со всеми семинар, как надо держаться, — говорит Мути.
— Ты? — спрашивает Алим лениво.
— Нет. Не я, а Зами́р. Не тот, что в техотделе. Из инструментального, контролер ОТК. Он к любому человеку подход имеет, я это заметил. И знаете почему? У него два надежных инструмента есть: лицо и язык.
— А у кого их нет? — спрашивает Алим.
— Ну, твое лицо-то мы видим, — болтает Мути, запрокинувшись на спину. — Когда незнакомый тебе человек посмотрит на твои сдвинутые брови, у него заранее поджилки дрожат и он убегает подальше.
— А если рот до ушей, это лучше? — хмурится Гора.
— Правильно, мое лицо тоже не годится. Может быть, у кого-то горе, а я без конца улыбаюсь. А вот Замир… Помню, нам командир в армии напоминал чьи-то слова: каждый солдат должен знать свой маневр, соображать по обстановке. У Замира лицо знает маневр. Любого подкупает! Верно я заметил, Шамо?
— Да я этого Замира почти и не знаю… А язык? Ты про язык говорил, — напоминаю я.
— Пожалуйста. Объясню. Есть горская поговорка: красивое слово даже змею из норки выманило. Замир это хорошо знает. У вас, токарей, какой порядок? Для обработки разных деталей — разные резцы. Так? Замир меняет в разговоре резцы, понимаешь. Поэтому он может даже самого сердитого в свою пользу обработать шутя. Не понимаешь? Хорошо, возьмем для обратного примера Алима-Гору…
— Отстань ты от меня, Мути, — просит Алим. — Глядите лучше, как солнце красиво за канал опускается…
— Дай досказать. Так вот. У Горы один резец: человек еще не успеет рот открыть, чтобы сказать Алиму неприятность, а Алим ему сразу: «Ты, кажется, хотел мне что-то сказать, мужчина?» Но произносит это Алим так, что человек уже боится и слово произнести.
— Семинар не Замиру бы проводить, а тебе, — говорю я, запихивая голову Мути в прохладную траву.
— Ладно, смейся надо мной. Мути у вас шутник, вы никогда мои слова всерьез не принимаете. Но знай, Шамо: тебе всегда будет трудно в жизни. Я не говорю — плохо. Пусть отсохнет мой язык, если я другу плохого пожелаю. Я говорю: трудно тебе будет. Ты слишком нежный. А в наше время надо быть железным!
— Знаешь что, болтун? Я тебе скажу: Шамо — железный парень, — вмешивается вдруг Гора, и я с удивлением вижу, что говорит он это серьезно.
— Для нас, для друзей, — да, — соглашается Мути. — А для себя… У него всегда царапины будут, потому что он не может видеть и слышать плохое. В душе не терпит.
— Ничего, пройдет термическую обработку, получит закалку, — утешает меня Алим и спрашивает у Мути: — А ты разве терпишь, когда слышишь плохое?
— Я? Я в отличие от вас обоих давно сообразил, для чего мне бог два уха дал: в одно — впускать, в другое — выпускать.
— Жалко, — вздыхает Гора. — А то бы я тебе сказал за то, что ты нагнал тоску на Шамо: когда ты стараешься быть серьезным, ты делаешься глупее…
— Вот это точно, Гора! — тотчас соглашается Мути, хотя и видно, что слова друга пролетели у него через оба уха. — Поехали? Прямо сейчас!
— Куда?! — спрашиваем мы с Алимом враз.
— Даешь Большой город! Хоть раз в ресторане побываем!
Я и Алим мнемся. Мути догадывается, в чем дело.
— Вчера мой зять премию в совхозе отхватил, — говорит он, — так что в моем кармане ветер не гуляет, как у вас.
— И сколько тебе зять отвалил? — интересуется Алим.
— Он отвалит, жди. Я сам потребовал. Двадцатку. По секрету от своих родителей. Хорошо иметь зятя! Раз мы выдали за него мою сестру, он меня на руках должен носить… Ну?
— А переодеться? — колеблюсь я. — Мы же прямо из цеха…
Мути категорически отвергает предложение переодеться, потому что в поселке его может увидеть отец, тоже работающий на нашем заводе. Притормозит нас сразу. Надо прямо через поле — и на автостанцию.
…Мути потом не раз рассказывал ребятам на заводе, что мы втроем провели вечер в ресторане «Терек» «исключительно культурно». Вначале швейцар нас не впускал. Он смерил нас взглядом, отвернулся и сказал: «Мест нет. И не скоро будут». Алим-Гора нахмурился и повернулся было уходить. Однако Мути что-то шепнул пробегавшей мимо официантке, та шепнула швейцару, и он распахнул перед нами двери: «Что же вы, молодые люди? Прошу, прошу…»
Мы распили бутылку вина. Оркестр заиграл лезгинку. Люди за всеми столами зашевелились, но никто не выходил танцевать. Толстый парень-барабанщик, армянин по виду, обвел зал глазами и почему-то кивнул нашему Мути.
— Разрешаешь станцевать? — спросил Мути у Алима-Горы, потому что Гора самый старший из нас троих, а Мути хотел соблюдать в ресторане полный кавказский шик.
Алим помедлил и сказал:
— Пока нет.
Я понял почему. Надо сначала посмотреть на других. Может быть, здесь сегодня такие танцоры, что нам лучше не позориться.
…По-моему, Мути станцевал лучше всех! Наверное, так решил не я один: кто-то прислал нам через официантку бутылку шампанского. Мы заставили ее по секрету сказать — кто. И отправили с ней ответный подарок — две бутылки лучшего грузинского вина «Хванчкара́». Нам хотелось делать все по закону.
За тем столом, куда мы отправили вино, сидело человек шесть осетин. Ребята в возрасте. Они пригласили нас к себе за стол. Мы подошли, но садиться с ними не стали: неудобно, им всем лет по тридцать, не меньше.
Они это тоже оценили. Поняли, что мы знаем, как держаться. Старший из них, тамада́ — главный за столом, — встал и сказал, что ингуши не разучились танцевать. Бывал он в нашем городке, даже на нашем заводе. И теперь видит, что ингуши в комбинезонах танцуют не хуже, чем танцевали раньше в черкесках. И вообще приятно, что молодые ребята умеют соблюдать добрые горские обычаи.
Мы, конечно, были не в комбинезонах, но это он сказал просто так, чтобы красиво связать слова. Все осетины поднялись, Алим-Гора коротко сказал ответное слово. И нам пришлось выпить с этой вежливой компанией по бокалу вина.
…Да, Мути прав, исключительно культурно мы провели там вечер. А добирались домой на попутной машине какого-то незнакомого парня-ингуша, потому что Мути просадил не только двадцатку своего зятя, но и пять рублей, которые мать дала ему на сигареты на целую неделю (отец делает вид, будто не знает, что Мути курит).
— Вот так, жалкие люди, надо жить! — сказал нам Мути, когда расставались. — Вы боретесь за существование, а мне подавай люкс-существование!
…Получается, что Джамбота сняли с работы из-за меня. А я даже имени его не называл.
Шло совещание молодых рабочих, это на второй день после нашей поездки в Большой город.
О чем только не говорили выступающие! О нормах, тарифных сетках, о том, что состаришься, пока тебе разряд повысят, потому что квалификационная комиссия работает плохо.
Почти все заводское начальство тут собралось. Правда, директора нет, он в отпуске. Главный инженер все записывает себе в блокнотик. Секретарь райкома партии очень интересуется выступлениями ребят, вопросы задает. И про бытовые условия спрашивает, про перебои с материалами, про подведение итогов соревнования. Спросил, нравятся ли станочникам конкурсы по профессиям, а у нас только один раз такой конкурс и был. Видно по его вопросам, что знает он все наши дела, а сейчас хочет наше мнение слышать. Ребятам все это приятно, выступают откровенно, некоторые — прямо с азартом.
Я вижу, Хаса́н, наш секретарь заводского комитета комсомола, сидит как именинник. Он всегда очень доволен, если ребята проявляют на собраниях активность. Его тоже критикуют, а он доволен, потому что активные выступления — признак боеспособности комсомольской организации (такие его слова я слышу на каждом собрании).
— Ну, кто еще? — спрашивает главный инженер и оглядывает зал; обращается с улыбкой к Мути: — Говорят, на перекурах ты главный оратор?
— Вот там я и выговорился, — не теряется Мути; а когда все кончили смеяться, он солидно добавляет: — Я думаю, тут справедливые выступления были. Только вот токари почему-то молчат. А ведь здесь и Шамо и другие, которые умеют толково выступать.
Я прямо-таки обомлел, потому что еще ни разу на заводе не выступал. А главный инженер заглянул в список и говорит:
— Шамо? Асланов? Пусть, пусть выскажется. Самые перспективные кадры у нас те, кто кончил ПТУ…
Я встал, кусаю губу. Ноги как ватные. Лица плывут в глазах. Успел я только заметить, что Хасан сморщился, скис. У него всегда, когда на меня смотрит, такой вид делается, словно зуб заболел.
Кто-то ткнул меня в спину кулаком так, что я чуть не задохнулся, и — шепот Алима-Горы:
— Или говори, или сядь, дубина…
— Гора, Гора, не мешай товарищу выступать, — строго постукал главный инженер карандашом по графину.
Так бы я и сел молча, если бы не расслышал сквозь смешок, раздавшийся в красном уголке, как хохотнул Джамбот.
Я почувствовал, как вспыхнуло мое лицо, и произнес:
— Надо, чтобы разговаривали всегда… с уважением. Любой начальник.
— Кого ты имеешь в виду? Кто? — спросил главный инженер.
— Любой начальник.
— Ну-ну. Продолжай…
— А то снижается производительность труда.
— Конкретнее!
— На семнадцать процентов, — ответил я конкретно и сел, потому что все опять засмеялись.
После совещания мы пошли гурьбой по вечернему поселку к бульварчику и расселись на скамейках под лампой дневного света. Я не мог смотреть на этого предателя Мути; Алим-Гора ругал его вовсю. Однако Мути не чувствовал себя виноватым.
— Шамо выступил отлично! — говорил он. — Согласитесь, ребята, он настоящий оратор. Критикует остро, смело. И конкретно, с процентами в руках. Конечно, даром ему это не пройдет, но ты сам говорил, Гора: пусть Шамо проходит термическую закалку.
— Вообще-то правильно, нечего нам помалкивать, — поразмыслил Гора. — Чего же ты, Шамо, прямо не назвал имя Джамбота?
— Думаешь, начальство не поняло? — удивился Мути. — Секретарь райкома переглянулся с главным инженером и так зыркнул глазами на Джамбота… Говорят, женщины уже бегали и в дирекцию, и в райком жаловаться на этого грубияна. Вот увидите, снимут его с работы! Но месть он должен объявить не женщинам, а нашему Шамо.
— Какую месть? — спросил кто-то из ребят. — Что ты выдумываешь.
— Вот чудаки! — рассмеялся Мути. — Вы думаете, заводской забор спасает нас от диких обычаев?
И он взялся расписывать, как все произойдет дальше. Из-за выступления Шамо Джамбот теряет работу. Следовательно, и оклад. Значит, ему нанесен зе — ущерб. Возмещать этот ущерб до тех пор, пока Джамбот не получит новую должность, обязан виновник «зе», то есть Шамо. Думаете, через нарсуд? Нет, Джамбот туда не побежит. Он обратится в самозваный мусульманский суд — «кхел». Это будут несколько нейтральных старикашек, они должны разобрать по совести тяжбу Джамбота к Аслановым. После каждого заседания дедушка нашего Шамо — Марзи — должен резать для «кхел-хо» — судей — барашка, поэтому старички постараются долго тянуть дело и провести побольше «заседаний». Само собой разумеется, после каждого съеденного барашка палка Марзи будет гулять по спине Шамо.
Мути плел под хохот ребят быль и небылицы, а я снова и снова переживал стыд за свое бестолковое, глупое выступление.
К нам подошел Хасан. Его длинная, тонкая фигура начала метаться перед скамейкой; Хасан то поправлял галстук, то пощипывал усики, морщился как от зубной боли и на все лады поносил меня:
— Зачем ты полез выступать, если двух слов не можешь связать?! Это что тебе, пионерский костер? Устроили смех! При секретаре райкома! Ты что, заранее обдумать не мог выступление? Не знал, куда идешь?
— Да я и не собирался выступать. И не буду больше никогда.
— Не будешь? — разозлился еще больше Хасан. — Асланов! Товарищ Асланов! Как бы тебе на комитете комсомола не пришлось выступать. Вы слышали, ребята, как он рассуждает? Это же настоящий балласт для организации, это же…
— Успокойся, Хасан, — вступился за меня Мути. — Выступать он, конечно, будет, он без этого не может. Но ты все же обязан ему заранее шпаргалки готовить. А то у нас дело совсем на самотек пойдет!
Ребята засмеялись, Хасан тоже засмеялся и замахнулся на Мути:
— Замолчи, провокатор! Идемте спать, ребята, а то завтра смену проспите.
Непонятный для меня человек этот Хасан, наш освобожденный секретарь комитета. Он уже в возрасте, ему лет двадцать шесть. Некоторые ребята считают, что он настоящий формалист, зануда и любит заглядывать в рот начальству. Кто его знает… Меня он тоже своим занудством немало помучил, но в одну из моих трудных минут Хасан оказался совсем не таким, как о нем кое-кто думал.
„ДОРОГИЕ ГОРЦЫ И ГОРКИ!“
Много всякой путаницы на свете. Например, почему в нашем городке почти никогда не услышишь слов «мы, горожане»? Деревенскими мы себя тоже очень редко называем, а к слову «горожане» или еще не привыкли, или… Вот тут путаница и начинается.
Звание «город» наш райцентр получил совсем недавно. Получил благодаря тому, что лет семь назад здесь построили наш электроинструментальный завод, а вслед за ним — трикотажную фабрику (пока действует только первая ее очередь).
Значит, кто-кто, а уж мы — заводские и фабричные — могли бы с чистой душой называть себя горожанами. В том-то, однако, и загвоздка, что именно среди нас больше всего настоящих деревенских жителей. Особенно это касается фабрики: там работают девушки и женщины из одиннадцати сел и аулов. Каждое утро автобусы везут со всей долины и предгорья людей на фабрику и завод. Не думайте, что это целое путешествие. Живут в нашем краю так густо, что кое-где можно, как говорится, из своего аула сходить прикурить в соседний аул.
Ладно, городские или деревенские — какая разница. Рабочий класс — вот мы кто, работающие на фабрике и заводе.
Правда, тут можно опять запутаться, потому что в нашем районе почти все крестьяне — тоже рабочий класс. Почему? Потому что у нас совхозы (только один колхоз, кажется, и есть, где-то высоко в горах). А все, кто в совхозе, — это рабочие. Значит, тоже рабочий класс. Сельскохозяйственный.
И все же в докладах во время праздников, в статьях так и говорится: «…теперь, когда в городе Дэй-Мохк построено два мощных промышленных предприятия, в этом ингушском краю республики тоже возник рабочий класс». Может быть, совхозников это обижает, я не интересовался. Вряд ли могут быть обиды, потому что даже в самом нашем городке почти в любой семье кто-то работает на заводе или фабрике, а кто-то — в совхозе. Это потому, что Дэй-Мохк раскинулся посреди полей и ферм. Даже в самом Дэй-Мохке — центр одного из совхозов.
Мы — горцы. Мужчины — горцы, а женщины — горянки. Так и принято всегда говорить, хотя один московский поэт во время литературной декады у нас в районе немножко запутался насчет горянок. Наш комсорг Хасан послал меня и еще троих ребят прислуживать на писательском банкете (он мне всегда какие-нибудь странные поручения придумывает). И там приезжий поэт от всей души говорил в своем тосте: «Дорогие горцы и горки!» Его поправят шепотом, а он забывает и опять: «Дорогие горки!»
Мы — горцы, горский народ; нам нравится это название. А на самом деле мы большей частью никакие не горцы: живем на равнине. Когда-то были поголовно горцами, жили среди скал. Теперь же большинство ингушских поселений на равнине. Наш городок весь на ладони, если посмотреть даже с ближних, не очень высоких гор. Помню, как удивилась технолог Таня (она уже при мне приехала работать на наш завод):
«А где же Кавказ?! Я будто и не выезжала из средней России: тут у вас тоже степное приволье, овражки… А горы где?»
Ей посоветовали ложиться спать, отдыхать с дороги. А утром повели к каналу, он бежит мимо нашего заводского поселка по небольшой возвышенности. «Теперь поворачивайся спиной к каналу, — сказали ей. — Открываем занавес!»
Вчера был туман, скрывавший наши горы. Сегодня они на виду. Невысокий Шами́ль-Гу — «Курган Шамиля». В него упирается наш городок.
Дальше высятся Черные горы. Так назвали их, наверное, потому, что они выглядят издали совсем темными: покрыты лесами. Потом уже видишь, совсем вдалеке, могучую серую стену с зубчатой вершиной хребта. Это Скалистые горы. Самая крупная из них Столовая гора. Там, в отрогах Скалистых гор, и жили наши предки. Но всегда мешала одна беда: почти нет земли, одни скалы. Поэтому большинство ингушей и спустилось когда-то в долины.
Ну, а за Скалистыми горами главное чудо, от которого Таня не могла оторвать глаза: цепь снежных гор во главе с Казбеком, который свободно видит земли ингушей и чеченцев, видит Осетию, видит Грузию.
О Казбеке надо рассказывать специально. Сейчас я лучше добавлю еще кое-что про наш районный городок Дэй-Мохк, что означает «Край отцов».
Нет, ничего я вам интересного, пожалуй, не скажу. Ничего выдающегося у нас тут нет, если не считать старинной, полуразваленной крепости и нашего заводского поселка, который раскинулся на окраине, на берегу канала. Трубой кирпичного заводика и высоким зерновым элеватором никого ведь не удивишь.
Железная дорога бежит через городок, это не простая дорога: Москва — Баку. Но поезд у нас останавливается всего на две минуты, как на каком-то захудалом полустанке. Международное значение этой железной дороги возросло с того времени, как завод протянул к ней свою ветку. Теперь вагоны с нашей продукцией идут прямо, как говорится, из цехов к потребителям. У нас стала прямая связь со всеми краями страны и тридцатью тремя государствами мира, куда мы поставляем на экспорт свои сверлилки. Что это за машинки, вы знаете? Пистолет, большой пистолет, только очень тупоносый. Вот что это по виду. Вставьте в дуло сверло нужного диаметра, включайте шнур в сеть, нажмите пальцем на курок — и можете сверлить. 2600 оборотов в минуту. Таких машинок, как мы их называем, завод выпускает ежегодно сотни тысяч. Они нужны и на стройках, и в любом хозяйстве. Мы их зовем «сверлилка» или «машинка», а официально, по заводскому паспорту, — «электрическая сверлильная машина ручная» и дальше номер модели. Понимаете? Не машинка, а машина. Так что мы — машиностроители.
Автострада Москва — Баку тоже проходит через Дэй-Мохк. Какие только автомашины и каких людей не увидишь на этой автостраде, если побудешь час-другой возле великого родника на автостраде. В роднике очень вкусная вода, рядом шашлычная. Проезжие любят тут останавливаться.
Улицы в городке разные. Есть две-три широких и пыльных, а к заводскому поселку ведут, кроме оживленного шоссе, тихие тенистые улочки, посреди которых курицы могли бы спокойно нести при желании яйца.
Но я вам скажу вот что. Кто умеет удивляться, тот найдет хоть что-нибудь особенное даже в Дэй-Мохке. Те, кто впервые попадает на Кавказ, говорят: «Какие услужливые, приветливые тут у вас в городке люди! Много мы слышали о горском гостеприимстве, но когда видишь это сам…»
Наоборот тоже говорят. Например, часто я слышу вот что: «Испортились горцы! На людей не стали похожи… Верите, люди идут по улице и не здороваются друг с другом!» Так удивляются некоторые старики из горных аулов, попадая раз в год в Дэй-Мохк.
Кто-нибудь из пожилых, долго побывавший в отлучке, рад подхватить этот сердитый разговор: «Здороваться-то с каждым, может быть, и смешно, все-таки это теперь город, народу тысяч пятнадцать. Вы лучше про другое скажите, старики: куда наш старинный эзде́л испарился?! Раньше любой встречный парень хоть в пропасть готов был кинуться, лишь бы старшему услужить. А вчера мне молодежь в парикмахерской даже очередь не уступила…»
Слово «эздел» я вам не смогу как следует объяснить. Это и вежливость, и благородство, и умение соблюдать каждую мелочь этикета в любом большом и маленьком деле. В этом слове все собралось. Сказать по-нашему, по-заводскому, — это Знак качества человека.
Вот старики и толкуют, что теперь мало людей, про которых можно сказать: «э́зди-саг», «эзди-кант» (по-нашему «саг» — это «человек», а «кант» — «парень»). Помните, Мути расхваливал Замира, этого парня из инструментального цеха? Чуть ли не Знак качества ему ставил. Настоящий «эзди-кант»! Мне еще тогда показалось, что Мути с подковыркой это рассказывал про Замира. А я-то потом смог сам убедиться, что́ у Замира под красивым лаком скрывается…
Да и вообще я все больше удивляюсь с тех пор, как взрослым стал, что всех нас — людей — может часто обмануть внешний вид. Я, например, думал, что никогда не станет мне другом Мути. Слишком он мне сначала легким человеком показался. Одни шуточки на уме.
Оказывается, не только это у него. Он старается обо всем думать, только видит он все чаще всего с какой-нибудь смешной стороны. На рабочем месте он всегда серьезный, сосредоточенный. Во всяком случае, пока у него в руках инструмент, ни за что не подумаешь, что это первый наш шутник.
Про Алима-Гору я вам уже говорил: он только на вид такой мрачный и недобрый парень. А на самом деле он душу за тебя отдаст.
Еще одна вещь меня удивляет: нам непременно подавай привычное. «Кавказ — а где же горы?» — требовала Таня. Получила она горы, хоть и далековато они. Другие приезжие тоже ищут у нас сначала привычное. Я имею в виду привычное для них по книгам и рассказам о Кавказе. Черкески с газырями (это такие нагрудные украшения на черкесках)… Кинжалы с посеребренными ножнами… Лихие джигиты на горячих скакунах… Вино льется рекой, тосты звучат длинные… И, конечно, годека́н — место, где собираются на свои посиделки длиннобородые долгожители… На каждом шагу слышишь мудрые изречения стариков, шутки следуют за шутками…
Все это, может быть, и было когда-то, кое-что такое заметишь и сейчас. Но большей частью совсем по-другому теперь тут жизнь выглядит. Она еще до появления у нас в городке завода и фабрики по-другому выглядела, а теперь тем более. Это только в книжках наших же кавказских поэтов всякая старина вроде кинжалов до сих пор сохраняется, скакуны без конца скачут, хотя я сам ни одного поэта верхом на коне не видел.
Странно мне бывает также читать про бесконечные «заседания» на годеканах, про бесконечные горские шутки. Читаешь и думаешь: а когда же эти люди работают, кто их кормит? Откуда взяли, что мы, горцы, только и делаем, что веселимся? И в нашем районном городке, и в любом ингушском ауле у каждого человека найдется своя забота. Семьи большие, кормить надо.
Конечно, сказать острое слово горец никогда не упустит. Почти любой может привести к месту киц — какую-нибудь смешную старинную притчу или анекдот. Поговорки тоже в ходу.
Но ничего такого особенного я у нас не вижу ни в чем, если не касаться некоторых обычаев. А начнешь касаться… Получается, что многое у нас не так, как в других местах. Сразу это в глаза и не бросается, но поживете, приглядитесь — и почувствуете.
Скажу, например, про одежду. Горские каракулевые папахи — раструбом кверху — молодежь не носит. Черкески не носят даже пожилые люди, а только старики. Так что народ в городке вроде бы одет, в общем, так, как и везде. Не отличишь от любого большого города. Женщины тоже одеваются как везде, если не считать отдельных старушек — их уже мало увидишь на улицах нашего городка, — которые обязаны носить длинные платья до пят.
Но попробуйте-ка увидеть в городке — даже в нашем заводском поселке или на фабрике — хоть одну горскую девушку или женщину без платка либо без косынки на голове. Наверное, таких можно было бы по пальцам пересчитать.
У мужчин тоже голова должна быть покрыта. Никто не требует, чтобы на тебе была папаха, надевай что хочешь. Но надевай! Как только ты подрос, стал парнем — уже не смей ходить с непокрытой головой.
И вот так многое у нас: в глаза не бросается, а задумаешься — и начинаешь соображать, что обычаи незаметно зажимают тебя то с одной стороны, то с другой. Я уезжал на учебу в Грозный, в ПТУ, мальчишкой, в то время меня некоторые обычаи не касались, а вернулся парнем. И до сих пор не могу ко всему привыкнуть. Идет какой-нибудь шкет-пэтэушник (у нас теперь есть при заводе свое ПТУ), идет по тридцатиградусной жаре — и обязательно в кепке.
Ну ладно, насчет этих мужских головных уборов еще допускаются нарушения. Например, директор нашего завода, никогда летом не ходит в кепке или шляпе, и никто не называет его за это плохим мужчиной. Но попробуйте-ка увидеть в Дэй-Мохке хоть одну девушку или женщину, пусть даже русскую, в брюках. Нет таких. Мужчина в юбке удивил бы жителей нашего городка меньше, чем девушка в брюках. Думаете, кто-нибудь дал указание насчет головных уборов или одежды? Ничего подобного. Просто обычай.
Это же надо! Если даже никто от тебя ничего не требует, ты все равно вместе со всеми соблюдаешь какую-нибудь глупость и сам же удивляешься: да что это такое?
Вот смотришь на наше озеро — то, которое между заводом и фабрикой, и видишь, что чего-то этому озеру не хватает. Купальщиков не хватает! Нет их даже в самую жару, если не считать мальчишек. Нам, парням, не положено торчать на виду у прохожих на берегу в плавках или трусах. Мужчинам — тем более. А девушкам… Об этом и разговору быть не может! На заводе и на фабрике есть русские девушки, уж они могли бы себе поплавать полчасика во время обеденного перерыва или между сменами. Нет, тоже только поглядывают на прохладное, чистое озеро, мучаются за компанию со своими подружками-горянками. По-моему, озеро без купальщиков — удивительное озеро.
Так что городок наш и обычный и необычный. Это Кавказ и не Кавказ.
Многие жители Дэй-Мохка очень недовольны нашим городком. Им не нравится, что у нас нет Дворца культуры, мало асфальта, никуда не годится въездная арка города: слишком скромная.
А есть такие люди, которые считают, что Дэй-Мохк еще можно было бы называть городом, если бы у нас были памятники. Обязательно надо поставить памятник Серго Орджоникидзе. Он во время гражданской войны был чрезвычайным комиссаром Юга России. От самого Ленина. И собирал он силы красных партизан чуть ли не всего Северного Кавказа для отпора деникинцам не где-нибудь, а именно у нас. Когда деникинцы временно победили, Серго ушел в подполье, он ушел вон в те лесистые горы вместе с самыми знаменитыми партизанами Ингушетии, Чечни, Осетии, Кабардино-Балкарии. Там, в неприступном ущелье, в ингушском ауле Мужи́чи, находился боевой штаб революции. Там теперь музей Серго. В том самом доме, где располагался штаб. Так что нельзя сказать, что память Серго не увековечена. Но люди говорят, что надо было бы увековечить память Серго и в нашем городке, потому что как раз здесь он проводил революционные съезды горцев, здесь выступал и Киров. Отсюда докладывал Серго Ленину по телеграфу, что ингуши выступили против деникинцев революционным авангардом всех горских народов Северного Кавказа.
Рассказы, легенды о тех боевых временах у нас знает каждый мальчишка, потому что нет, наверное, такого ингушского двора, откуда бы хоть один человек не пошел в отряды Серго. Из наших, аслановских, вернее сказать, из нашей семьи партизанами были двое: мой дедушка Марзи и его отец. Этот его отец, мой прадед, был известный партизан, командовал партизанской сотней. Серго взял его с собой в аул Мужичи в числе самых верных своих сподвижников, когда уходили в подполье. Я знаю это по рассказам; прадеда я не помню и не могу помнить.
А Марзи, мой дедушка, был обыкновенный рядовой партизан. Для него самым великим человеком, с которым он близко имел дело, был За́ама Янди́ев. О Зааме мой дедушка может рассказывать без конца. Когда слушаешь, можно подумать, что этот Заама был чуть ли не вторым Чапаевым. Он, этот знаменитый Заама, начал с того, что создал из ингушей отряд. Небольшой такой отряд партизан. А потом стал командиром целой кавалерийской бригады, бил деникинцев в горах и Чечено-Ингушетии и Дагестана. Ему вручили за это орден Боевого Красного Знамени. Свой тогдашний боевой орден ему дала и Украина, потому что бригада Заамы помчалась с Кавказа помогать украинцам и громила отряды батьки Махно. «Зааме я бы тоже поставил памятник», — говорит дедушка Марзи.
А по-моему, если всем известным людям поставить памятники, это получилось бы слишком для такого маленького городка, как наш. В Дэй-Мохке просто не хватит площадей и сквериков для этого. Одному ставить памятник, а другому нет — это несправедливо (я имею в виду знаменитых местных людей). Разве не заслуживает памятника «чукотский» ингуш Яку́б? Да, да, чукотский. Он попал из нашей долины на Чукотку — на самый край земли, устанавливал там Советскую власть, стал членом первого Чукотского ревкома. Колчаковцам удалось захватить ревком. Они расстреляли в тундре всех членов уездного ревкома. Казнили и нашего Якуба…
У ингушей — героев Отечественной войны тоже не меньше права на памятники. Есть даже такие герои, которые не родились и не жили ни дня в нашей долине, никакие они не горцы. А мы считаем их своими героями. Своими. Летчик Юдин из таких. Он был как раз моего возраста и погиб в небе над Дэй-Мохком, когда фашисты пробовали прорваться к нашим долинам и к нефтяному Грозному. Похоронен Юдин рядом с заводом. Фашистам не удалось дойти до Дэй-Мохка потому, что были такие герои, как Юдин: он один принял в нашем небе бой против четырех фашистских самолетов, победил и погиб…
Легенды о героях и событиях я, как и каждый ингушский мальчишка, узнал сначала не из книг, а из рассказов стариков. Где бы ни собрались старшие, мальчишкам разрешается стоять в сторонке и слушать. Это у горцев зародилось, наверное, еще с тех времен, когда не было ни школ, ни газет, ни книг, ни кино, чтобы передавать разум старших — младшим. Теперь все это есть, имеется почти в каждом доме и телевизор. И все равно мальчишки не упускают случая послушать живые рассказы старших, хотя мы сами могли бы иногда добавить к таким рассказам то, о чем старшие и слышать не слышали.
Я говорю «мальчишки», но послушать любят не только они. Нам, взрослым ребятам, тоже интересно. Читаное-перечитанное становится, как я сужу по себе, опять интересным, когда слышишь об этом из уст тех, кто видел все это сам. Мне это интересно еще знаете почему? Я слушаю без скуки о чем-нибудь давно мне известном с любопытством потому, что мне хочется сообразить, как рассказчик понимал и понимает вещи. И каков он сам, этот рассказчик.
Раньше, в детстве, у меня такого любопытства к самому рассказчику, кажется, и не бывало. А теперь я замечаю, что одни старики любят прихвастнуть, как-то выпятить себя; другие приукрашивают не себя, а всех земляков. По-моему, это тоже глупое хвастовство. Послушаешь, и получается, что нигде не было таких дружных, равноправных людей. Они не имели и не хотели терпеть у себя князей, каждый горец был равен с другим. По-моему, это выдумки и чепуха. Всегда были богатые и сильные, как князья, и были бедные — «второй сорт».
Подводит некоторых стариков память и насчет гражданской войны. Я говорил вам уже, что в отряде Серго каждый двор снаряжал у нас партизана. А откуда же, спрашивается, брались ингуши-белогвардейцы, деникинское офицерье? А вот откуда. В одном и том же дворе могли седлать коней для совсем разных дорог: один брат — к деникинцам, другой — к партизанам. Подобных случаев любой правдивый старик насчитает вам не так уж мало.
Мой дедушка Марзи правдивый старик. Я вам о нем еще успею рассказать; это очень вспыльчивый и скандальный старик, он сам частенько не знает, чего хочет от меня и других наших, аслановских. Но уж что-что, а хвастать не любит и другим не дает. Расхваливать при нем всех ингушей подряд тоже никто не посмеет, потому что Марзи не постесняется нагрубить своему ровеснику. «Не понимаю, почему аллах давно не лишил языка таких «патриотов» ингушского народа, как ты? — начинает он гнусавить с презрительной кривой усмешкой (он всегда говорит немножко в нос, если сердится). — Меня-то ты своими сказками не запутаешь, а про уши молодых ты подумал, мужчина? Думаешь, неправда о вчерашнем не принесет вреда сегодня? Принесет! Среди этих молодых найдется не один ленивый да глупый, который станет и сегодня правду с неправдой путать, если наслушается таких, как ты…»
Мне делается стыдно, когда дедушка начинает так грубить. Говорит-то он правду, но приличные старики никогда не бранятся между собой в присутствии молодежи. «Сац-сац (перестань-перестань), Марзи!» — урезонивают старики дедушку. Попробуй остановить его, когда он разойдется! Кончается обычно тем, что обиженный рад уйти подальше, приговаривая: «В молодости ты слыл неразумным, Марзи, и стать другим тебе так и не удалось. Но есть на свете один человек и поглупее тебя: это я, потому что умный не стал бы с тобой и разговаривать».
Марзи не дает уйти, пока не выскажет свое. Он загибает один палец за другим и начинает перечислять все то, о чем забывают сказать хвастливые «патриоты». Белогвардейские офицеры и даже генералы из числа ингушей и чеченцев были? Были. В первые годы Советской власти бандиты в горах были? Были. Хуже того, были бандспособники. Марзи так и произносит: «бандспособники», а не «бандпособники». «Ба-а-андспособники», — говорит он с презрением и считает, что такие люди заслуживали худшего, чем сами бандиты: они из трусости перед разбойниками укрывали их от властей, были людьми вероломными, двуличными.
Люди давно забыли и бандитов, и «способников», а ругательство Марзи продолжает употреблять. Иногда, разозлившись, дедушка кричит и на меня: «У-у, ослиный брат, ба-а-андспособник!»
Загибая пальцы, Марзи говорит о дезертирах, которые были в годы Отечественной войны. О ворах, расхитителях народного добра, любителях нажиться на чужом — разве нет таких людей и сегодня? Говорит он и о тех, кто каждое лето бросает завод, совхоз, семью и подается в Сибирь строить коровники, чтобы сразу урвать большой куш. Не стесняется Марзи сказать и о некоторых девушках, женщинах, которые — слыханное ли это дело в горском народе! — позорят женскую честь непристойным поведением. «У-у, ба-а-андспособники…»
Так что есть, были и есть, плохие люди среди дорогих сердцу Марзи горцев и горянок.
Слово «горянки» Марзи никогда не произносит. Он говорит по-русски: «женский пол». При этих словах его жена, бабушка Маржа́н, обычно настораживается и едко замечает: «Тебе и слова-то эти давно забыть надо было бы! Уж очень хорошо ты когда-то в них разбирался, бандспособник».
Кстати говоря, я должен вам объяснить, кто такая моя бабушка Маржан. Она моя и не моя. Понимаете, тут какое дело. По-моему, мой дедушка Марзи более или менее передовой старик. То есть он не во всем отсталый. Но в прошлом он был по одному пункту невозможно отсталый: имел одновременно двух жен! Он женился сначала на казачке Матрене Гришенцевой, вот это и есть нынешняя бабушка Маржан. А потом женился еще и на ингушке, которая и родила моего отца. Этой моей бабушки — настоящей, родной — давно нет в живых, я ее даже не помню, а Матрена-Маржан жива. Всю свою жизнь я знаю только ее, бабушку Маржан. Она тоже родила дедушке Марзи сына — моего дядю. Он утонул. От него осталась только жена, которую зовут Бу́ка. Очень несерьезная молодая женщина, все время смеется, но без нее я нашей семьи себе не представляю.
Вот такие люди под нашей аслановской крышей, включая казачку Матрену Гришенцеву — нынешнюю горянку бабушку Маржан. «Горку», как сказал бы тот московский поэт, если бы произносил тост за мою бабушку.
Теперь давайте разберемся, что это такое — аслановская крыша, аслановский плетень.
ГДЕ МОЙ ДОМ?
Конечно же, мой дом — завод. Заводской поселок, где я живу в общежитии.
А можно считать и так, что у меня четыре дома.
Чуть повыше нашего городка, если подниматься в сторону гор, раскинулось огромное село. Там я родился и рос, оттуда я уехал после восьмого класса в грозненское ПТУ. Там стоит заколоченный дом, в котором я родился и рос, но это чужой для меня дом: как только мой отец бросил свою семью — меня и мою мать — и укатил в Казахстан, его дом стал для меня чужим. «Не сможем мы с тобой, сынок, жить в этом доме», — сказала мне моя мать. И мы слепили с ней себе избушку. Восемь месяцев назад мать после долгой болезни умерла.
Тогда дедушка Марзи сказал мне, что я должен переселиться к нему, в дом наших предков, к древнему аслановскому очагу. Это в ауле, на склоне Черных гор, «этажом» выше, чем мое родное село. Оттуда как на ладони и мое родное село, и наш городок, и вся долина. Хозяйка очага здесь — бабушка Маржан.
Вот я вам и насчитал три своих дома: общежитие, построенная мною мазанка, где мы жили с матерью, и дедушкин аул.
Четвертым своим домом я могу назвать турбазу в Скалистых горах. Это еще выше дедушкиного аула. Недалеко, за перевалом и горной рекой. Там, на турбазе, дедушка устроился сторожем.
Сторожить что-нибудь дедушка смог бы и в родном ауле, но он захотел сторожить именно турбазу. Потому что он может там сторожить заодно и свою невестку Буку — молодую вдову своего покойного сына. Как только Бука пошла работать на турбазу сестрой-хозяйкой, туда поспешил устроиться сторожем и дедушка, сказав: «Разный народ бывает на турбазе, я должен поглядывать, чтобы кто не обидел Буку».
У Буки своя комната на турбазе, а Марзи живет в домике-сторожке. Дедушка считает это жилье таким же временным, как и мое общежитие, но мне говорит: «Здесь тоже твой дом, знай это».
Конечно, главным моим домом считался и считается тот, где бабушка Маржан бережет аслановский очаг: дом в ауле. В нем я и жил после смерти матери, а на завод ездил вместе со всеми на автобусе. Это всего километров десять с хвостиком, но мне очень хотелось бы жить на заводе. И дедушка наконец согласился на это, почему-то рассудив, что так ему будет легче следить за мной. «То ты остаешься ночевать у приятелей в заводском поселке, врешь, что задержался там из-за собраний, — сказал дедушка. — То рассказываешь мне сказки, что ночевал на пути в аул — в доме своей покойной матери. Живи лучше в общежитии. Конь должен иметь одно стойло, тогда знаешь, где его искать. Да и бабушке будет легче без тебя: нет мужчины в доме — и готовить не надо».
Так заводской поселок и стал моим постоянным домом. Пусть ненадолго: когда мать заболела, военкомат дал мне отсрочку от призыва в армию на год. Через несколько месяцев я уеду из Дэй-Мохка, стану солдатом.
Но пока завод — мой дом: общежитие — цех; цех — общежитие. Конечно, то и дело вижу над головой и другие крыши. То в аслановский аул еду, то на турбазе ночую, то в селе, где я родился и рос, если дедушка Марзи даст знать, что надо навести порядок в моем материнском дворе. Под любой из этих крыш мне хорошо, хотя иногда становится нестерпимо от ворчания Марзи.
А привычнее всего мне, как ни говори, в заводском поселке. «Коллективизм! — объясняет это Мути одним словом. — Мы с тобой теперь не крестьяне, а рабочие. У нас своя психология, понимаешь? Электросверлилку делает каждый из нас, от директора до ремонтника».
Я не очень-то стараюсь вдаваться в такие тонкости. Да и Мути сам, наверное, вряд ли хорошо соображает, что это за штука — рабочая психология. Разве в совхозе нет коллективизма? Кукурузу там «делают» тоже все: и пахарь, и сеяльщик, и комбайнер. Моя покойная мать знала лишь прополку да работу на кукурузном току, но, значит, и она «делала» початок.
По-моему, главное, что нас на заводе объединяет — гордость. Мы легендарные люди, понимаете? Наш завод — это легенда. Самая свежая из легенд Дэй-Мохка и всего этого ингушского края Чечено-Ингушетии. О каких бы легендах ни стали ингуши где-нибудь говорить, речь непременно сводится к нашему заводу, как будто это тоже — легенда. Трудно понять, почему так получается. Ведь легенда — это непременно что-то такое старинное. Что-то из прошлого. А какое прошлое может быть у завода, возраст которого всего семь лет?
Да и вообще, что тут удивительного — завод. Выпускает обыкновенные сверлилки. В Грозном сколько угодно разных заводов. И нефтяных, и машиностроительных, и химических. Ингушей на этих заводах вы тоже много насчитаете, причем есть среди них такие, которые стали рабочими еще в те времена, когда в Дэй-Мохке промышленности и в помине не было.
Тогда почему же мы — легенда?
Потому, что мы создали среди кукурузных полей то, чего никогда у нас в истории не было: первоклассный большой завод и большую фабрику. Промышленность. Настоящую индустрию. И стали рабочим классом. Тысячи горцев и горянок — в фабрично-заводских цехах двух предприятий. Вчерашние пахари, пастухи, доярки стали индустриальными рабочими. Вот это и есть легенда. Можно сказать, легенда республиканского значения. Теперь-то заводы стали появляться и в других сельских местностях республики. Например, бывший чеченский аул Аргун сейчас состоит почти сплошь из заводов.
Однако первым из аулов начал такое легендарное дело, кажется, именно наш Дэй-Мохк. Пришел на кукурузное поле наш нынешний директор, родившийся в одном из здешних аулов и выучившийся на инженера в Омске. Ему было всего лет двадцать пять или двадцать шесть. Под мышкой у него были чертежи, и он объяснил старикам: «Вот здесь будет завод».
«В деревне — завод?» — удивились старики. Наш Дэй-Мохк тогда еще не был городом. Завод так завод. Кто построит, кто будет командовать? Не этот же мальчишка-горец с бумагами под мышкой? Пришлют в нужный час из Москвы или из Грозного настоящего директора — взрослого человека.
«Кто будет делать эти сверлилки, управлять станками? — размышляли старики. — Сотню ингушей, конечно, найдут; подучат наиболее толковых из совхозных мастерских, из тракторного отряда. А тысячу-другую рабочих, техников, инженеров нетрудно и привезти из больших городов. Железная дорога работает».
…Железная дорога стала не привозить людей, а увозить. Пока завод, а потом и фабрика строились, железная дорога увозила и увозила горцев и горянок в Ростов, в Ленинград, в Прибалтику. Их там учили на фабриках и заводах, как управлять станками. Институты тем временем учили наших ребят, чтобы они вернулись в Дэй-Мохк инженерами.
И настал главный день легенды. Вернее, не день, а ночь: повернули рубильник высоковольтной электролинии — и наш заводской поселок засверкал тысячами огней. Говорят, пролетавший над долиной ночной самолет чуть не сбился из-за этого с курса: летчик не мог понять, что это такое внизу, откуда там в долине такое зарево огней? Он решил, что потерял курс, и сначала даже испугался.
Я думаю, что про летчика — это просто сказка. Но в каждой легенде должна быть и правда и сказка. Так людям больше нравится.
Теперь я вам скажу честно, кто из всей этой небольшой истории рождения нашего завода раздул легенду. Не мы, заводские. И не мы называем себя легендарными людьми, это было бы слишком хвастливо (такие, как я, тут вообще не в счет, потому что мы пришли уже на готовое).
Легенду сотворили… правильнее будет сказать, превратили в легенду обычную заводскую историю старики. А также те ингуши, которые живут в Грозном, в Москве, в других отдаленных местах и много лет не были в Дэй-Мохке. Они, эти столичные, не видели своими глазами наш завод и фабрику, и у них никак не укладывается в голове, как это в Дэй-Мохке могла вдруг появиться индустрия? «Но это действительно так, — с гордостью говорят они своим знакомым. — Это удивительная легенда!»
А старики — старики, конечно, всё видят своими глазами, но они, как бы вам это сказать… Они не верят своим глазам. Видят — завод. Видят — фабрика. Но у стариков, наверное, не укладывается в голове, что в цехах заправляют их дети и внуки. Поэтому то один, то другой старик, попадая из своего аула в Дэй-Мохк, старается побывать у нас на заводе или на фабрике.
Марзи тоже побывал на заводе. Как раз в те дни, когда я начал тут работать. Мастер разрешил мне остановить на полчаса станок, чтобы показать старику цеха.
Марзи повел себя так, что мне стало стыдно с ним ходить. Я передал дедушку Алиму-Горе, а сам потихоньку отстал.
Мне не понравилось знаете что? Марзи ничему не удивлялся и делал замечания, которые могли обидеть наших заводских. Или рассмешить.
У автоматической пилы он постоял и сказал: «Хорошо дрова пилит!» Ему объяснили, что толстый кругляк, шершавый и потемневший от ржавчины, не ствол чинары, а металлическая чушка. «В молодости я работал на лесоучастке, — сказал он тогда, — древесина чинары крепкая как железо. Но мы распиливали стволы быстрее, чем эта ваша пила. Вручную!»
В другом цехе он увидел, как толстая проволока заползает в станок, а с другой стороны в ящик сыплются готовые шурупы, двадцать пять тысяч штук за смену. Дедушку удивило не это, а то, что станочник сидит в сторонке и читает книгу. «Неужели тебе тоже полная зарплата идет?! — спросил Марзи у станочника недоверчиво. — Вот бы мне такую работу…» После этого я и подсунул вместо себя Алима-Гору.
В сборочном цехе, где одни женщины, Марзи сходу крикнул из вежливости: «Сидите, сидите, не надо вставать!» Он думал, что при появлении старика все женщины вскочат с мест, как положено по старинному обычаю. Да я провалился бы от стыда за дедушку!
«А теперь он с директором разговаривает, — подошел ко мне и доложил с усмешкой Алим-Гора. — Директор сказал ему, что завод делает за сутки три тысячи электросверлилок. Ты ведь знаешь, как старики обычно балдеют, когда услышат такое. Сказки потом по аулам пускают про наш завод! А твой Марзи… И чего ты его мне навязал?» Оказывается, Марзи ответил директору, что все его сверлилки — это бер ло́увзар — детская игра.
Я поглядел издали и заметил, с каким выражением лица слушает директор моего дедушку. Вежливое и замкнутое выражение. Будто прислушивается человек к чему-то своему. Я часто замечаю такое выражение у своего соседа по станку — токаря-полуавтоматчика Ивана Дмитриевича: он с тобой разговаривает, а ты по его лицу видишь, что он ни на миг не перестает слышать «голос» своего станка.
«Не переживай, — сказал мне Алим-Гора, — я сейчас постараюсь оттащить старика от директора, пока он еще чего-нибудь не ляпнул…»
Однако Алим-Гора постеснялся подойти близко к ним. Потому что директор вдруг обнял моего дедушку за плечи, отвел его в сторону, усадил на скамейку возле цеховой доски Почета, под фикусом. И завел с Марзи какой-то очень длинный разговор. О чем, я так и не смог потом узнать у Марзи. Как я ни допытывался, Марзи отвечал одно и то же: «Пока — секрет… Я обещал директору помалкивать».
Алим-Гора расслышал только первые слова, сказанные дедушкой директору: «А ты знаешь, молодой человек, что сказал Серго Орджоникидзе горцам? Он сказал еще в тридцатом году: «Стройте автомобильный завод, ингуши!» Вот каким был Серго. Орел! Далеко видел… Автомобили делать или же сверлилки — это немножко разный сорт, молодой человек!»
Странно, что директор не обиделся за наш завод, а даже очень заинтересовался разговором.
Я думаю, что только такой грубый и резкий старик, как Марзи, может назвать нашу работу «бер лоувзар». Все остальные старики смотрят на завод и фабрику как на легенду. Живую легенду.
Наши заводские наслушаются таких стариков и считают себя в душе людьми немножко легендарными. Я говорю о тех, кто работает с первого дня. Ветераны. Вслух, правда, они ничего легендарного о себе никогда не говорят, у них всегда есть одна простая песенка для нас, вчерашних пэтэушников. Такому ветерану лет тридцать, не больше, а разговаривает он с новичком так, словно поглаживает седую бороду, свисающую до пупка: «Ты должен знать историю своего завода, молодой человек, должен знать, как мы создавали это предприятие. Сейчас тут тысяча двести человек, если, допустим, и тебя за человека считать; а нас было вначале всего сто. Ты после смены скорее согласишься умереть, чем на лишнюю минуту задержаться в цехе; ты мчишься к автобусу — не видать бы тебе синего неба! — так, будто бы тебя дома собственная свадьба дожидается. А мы по двадцать четыре часа не выходили из цеха, готовили для вас, шелудивых, оснастку, налаживали технологию; и все это, оказывается, для того, чтобы вы, молокососы, вместе с ордой пэтэушников гробили по незнанию или глупости станки и могли делать каждые полчаса перекуры. Знай историю родного завода, мальчик!»
…Напрасно боялся кадровик Хизир, что я могу переметнуться на трикотажную фабрику. Завод — мой дом. Завод-легенда. Фабрика — тоже легенда, но это женская легенда. И не с фабрики все начиналось в моем краю. А с нашего завода. После армии я вернусь сюда, в свой цех, а как же иначе?
Конечно, мой дедушка мечтал о другом. О том, чтобы его внук Шамо стал военным. Нет, не командармом. Это нам ни к чему. А комбригом. Комбриг Асланов. Это звучало бы просто и хорошо. Комбриг Заама Яндиев. Был такой. Комбриг Асланов! «Я об этом и мечтать не могу, Шамо! — говорит Марзи. — Комбригов не из такого материала делают, как ты. Ты не тот товар, Шамо. Что поделаешь, если аллах нам тебя послал…»
Да, Марзи, да. Эту ошибку аллаха теперь не исправишь.
„ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА“ — ЭТО НЕ МОЕ ДЕЛО
Мы устроили в термичке у Алима-Горы маленький перекур, когда заглянул Мути и быстро сказал:
— Сберегите две сигаретки! Понадобятся, чтобы угостить.
Со всех сторон к нему потянулись руки с пачками сигарет.
— Да не мне нужно! Директор с каким-то начальником ходит по цехам, — рассмеялся Мути и исчез.
— Вот балда, обязательно с шуточками! — вскочил рассерженный Алим-Гора. — Не мог просто сказать: «Разбегайтесь».
Начальник — из Грозного. Говорят, большой начальник. Из Совета Министров. Пожилой, почти старик. Но крепкий мужчина, почти без седины на висках. Слегка улыбается, разговаривает просто.
Остановился на участке механического цеха. Директор тотчас подал незаметный знак рукой, и ближние станки сразу умолкли. Значит, приезжий хочет «разговаривать с народом».
Мы, ремонтники, тоже подошли поближе.
— Ну что, скоро ли начнем джигитовки устраивать? — спросил приезжий начальник и обвел рукой кругом.
Это он сразу в самую точку попал. Свободного места у нас в цехах теперь хоть отбавляй. Еще когда я начинал работать, здесь заблудиться можно было в тесноте станков, цеховых складов. Теперь же у нас в отдельном корпусе централизованный механизированный склад, а всякие складские клетушки исчезли из цехов. Станочные линии выровнялись. Появились конвейерные ленты, больше стало автоматики. Ребята говорят, что весь технологический процесс дирекция по-новому построила, но в этом я не разбираюсь. Что мне видно, то видно: в заводских корпусах то тут, то там такие совершенно свободные места, что можно волейбольные площадки расчерчивать. Или джигитовки устраивать, как пошутил приезжий из Совета Министров.
— Почему бы вам на этих свободных площадях не расширить производство продукции? — спрашивает гость.
— Сверлилок? — насмешливо подал кто-то голос, потому что директор и другие заводские начальники молчат (наверное, им положено молчать, когда высокое начальство хочет услышать мнение рабочих).
Гость бросил недовольный взгляд на директора, а к нам обратился опять с улыбкой:
— Мы, горцы, — люди нетерпеливые, нам все время что-нибудь новое подавай. Сверлилки освоили, а теперь хочется выпускать что-то необыкновенное? Это хорошо, что вы рветесь к новому. Без такого стремления нет технического прогресса. Но ведь мы с вами, горцы, знаем, что часто не от тропинки зависит путь, а от того, как ты по ней идешь. Можно и нужно искать новые тропы. А можно и по старой своей привычной тропе научиться шагать еще быстрее и лучше… Вы проложили такую свою тропу. Индустриальную. Проложили первыми в этом краю республики. Можно только радоваться, но…
Я не понимаю, к чему он клонит, но ветераны наперебой начинают говорить ему об успехах нашего завода. За семь лет не было случая, чтобы завод не выполнил квартальный план. Проектная мощность завода освоена досрочно. Научились делать продукцию для экспорта, а теперь завод собирается взять обязательство выпускать все сверлилки — все до единой, как для заграницы, так и для нашей страны — в экспортном исполнении. Наш директор изобрел совершенно новую модель электросверлильной машины. С двойной изоляцией. Скоро эта модель станет на поток…
— Сдаюсь, сдаюсь! — шутливо поднял руки вверх гость. — Допустим, хорошо вы шагаете по своей тропе и зазнаваться пока не намерены. Но разве вы не могли бы позвать за собой в путь и других? Разве для них не хватило бы места на вашей тропе?
И он снова, как в первый раз, обвел рукой пустующие участки. И снова метнул на директора строгий взгляд.
Наш директор по-прежнему молчал с замкнутым лицом. Спокойно держится, будто весь этот спор никакого отношения к нему не имеет. Но мне подумалось, что приезжий начальник вел весь свой разговор не с нами, а с директором. Интересно, что это они не могут поделить? И что хотят доказать гостю наши ветераны?
Мы, молодежь, в этот разговор не решились лезть, но на очередной перекур сбежались в термичку к Алиму-Горе дружно. Уж тут ребята наговорились. Оказывается, не я один заметил, что приезжий начальник недоволен нашим директором.
Кто-то сказал: нашего директора уже один раз ругали в Грозном за то, что на заводе вместо двух тысяч человек, как следовало иметь по проекту, работает всего тысяча двести.
Мы дружно возмущаемся. За это же орден надо заводу давать: производство достигло проектной мощности с меньшим числом людей! Благодаря механизации и автоматизации, благодаря тому, что так быстро освоили оборудование и технологию, мы сберегли восемьсот штатных единиц.
— За это нас в Грозном как раз хвалят. Ругают же за то, что мы не торопимся заполнить эти восемьсот мест. Свободных рук в аулах много, площадь в цехах есть. Добавляйте оборудование и гоните еще больше сверлилок, вот что нам говорят.
— А я слышал, что наш директор что-то свое задумал. Он что-то другое хочет выпускать на свободных площадях! У него своя техническая политика.
Ну, пошли слова. «Техническая политика». Я не лезу в разговор наших умников, курю и смотрю в люк термической камеры, где пламенеет металл. Умников здесь в минуту перекура собирается много. У термистов свой закуток, жара здесь такая, что забредает сюда только тот, кому очень уж хочется поболтать о том о сем, услышать новости. Дело еще, наверное, и в том, что Алим-Гора имеет такой авторитет даже среди взрослых мужчин. А некоторые идут сюда на перекур просто потому, что в термичке можно бесплатно напиться газированной воды. Если, конечно, хоть один из сатураторов работает, что обязательно должно быть в горячем цеху по технике безопасности.
— Какая там у директора политика, я не знаю, техническая она или не техническая, — произносит кто-то из умников. — А политика должна быть одной: хотят люди аулов на производство — открывай им двери!
— А что выпускать, все равно? А почем это будет обходиться, тоже все равно? На завод и на трикотажную фабрику и так свозят-развозят каждый день на работу людей из одиннадцати аулов. Ты считал, почем эти экскурсии обходятся? Говоришь, свободные руки в аулах. Это же семейные женщины! Ну, начнем мы их катать. Ну, научатся они кое-как собирать сверлилки…
— Правильно, пусть себе сидят в темных сараях у коровьих хвостов! «Завод — университет, фабрика — университет»… Только не для них?
— Университет нельзя превращать в ликбез. Кто из нас захочет, чтобы наш завод стал со временем выглядеть кустарной мастерской? Вся промышленность уйдет вперед, а мы будем на тех же станочках, с теми же полуграмотными колхозницами делать сверлилки. Думаете, люди долго еще будут удивляться, что ингушонок Шамо так здорово управляет токарной пшикалкой? Пора уже качество ингушского рабочего поднимать. Понимаете? Качество!
— Ты говори конкретно! Женщин тебе не надо, станок Шамо пора на свалку. Что же тебе останется делать вот на этих свободных площадях? Лезгинку танцевать или зикр[2] с мюридами?[3]
— Зикр не я буду танцевать, а ты со своим длиннобородым дядей-сектантом. А я поставлю в цехах кое-что другое вместо пшикалок. Помнишь, Шамо, мы с тобой читали о новом ленинградском многошпиндельном станке? У него тридцать шесть моторов, а управляет им один человек. Чтобы его перевезти, нужно пять железнодорожных платформ. Пару таких станков — и нам с тобой места не останется на заводе для лезгинки.
— Высказался? Теперь послушай и меня, — отвечают ему. — Если ты когда-нибудь еще посмеешь задеть имя моего дяди, то знай, мужчина, что я… Нет-нет, ребята, я не собираюсь ругаться с этим дураком или спрашивать, как его дядя проворовался в прошлом году на совхозном току. Я хочу тебя другое спросить, эй, мужчина. Для чего тебе такие агрегаты с тридцатью шестью моторами? Ракеты начнешь выпускать для полета на Марс?
— Сверлилки, чтобы ты полопался! Неужели ты думаешь, что человечеству и завтра больше нечего будет делать, как сверлить дырки? Ракеты-то у нас уже есть, а строители на отделке домов продолжают лазить по стенам как обезьяны: вручную и штукатурка, и затирка, и покраска масляной краской, и шпаклевка. Я же видел сам, моя сестра в Грозном на стройке работает. Всё там вручную! А мы им — одни сверлилки?
— Дайте и мне вклинить слово, а то забуду…
— Только глупое не промолви, ладно?
— А как же иначе! Все умное только ты у нас говоришь. Так вот. Вчера, в выходной, послали меня дополнительную розетку в кабинете директора поставить. Сделал я это, потом посидел с полчасика в директорском кресле. На столе большие бумаги рулоном. Развернул. А там эскиз какого-то агрегата. Крытый кузов, на колесах; вроде автолавки. Недаром директор по ночам что-то чертит! Поняли теперь?
— Додумался же ты! Я ведь предупреждал, ребята, что он глупость скажет. Автолавка! Махорку по полевым станам развозить?
— Ну, мужчины, хватит курить. Заболтались мы тут. А все же эти женщины в аулах не выходят у меня из головы… Моя мать первая пошла бы в цех. Теперь, когда мы подросли, чего ей не пойти? Рубль никому не лишний.
— Чудак, твоей матери и в горах нашлось бы дело, в совхозе. Пусть совхоз раскорчует горные склоны, новые поля разобьет, сады. А если твоя мать так уж рвется на производство, пусть оно само к ней поедет в аул… Как? Сделать филиалы завода в горных аулах! Четыре стены, стеллажи. И пусть себе сидят горянки, собирают сверлилки. Только доставляй им без перебоя комплектующие детали, да зарплату вовремя пусть кассир привозит.
— Ну, сказал. Туда же надо всю технологию тащить, испытательный стенд ставить, ОТК сажать. А без этого пошла бы кустарщина. Но для трикотажной фабрики, пожалуй, твоя мысль годится: вези по аулам раскрой шелкового полотна и пусть себе сидят шьют работницы филиала. Я слышал, так фабрика и собирается делать.
— Ладно, катитесь отсюда по своим местам! — сгребает нас всех Алим-Гора и подталкивает к выходу. — За директоров обоих наших предприятий мы все вопросы уже решили, но и свою работу делать надо. Директор за меня ее не сделает.
Вот это правильно. Мое дело — станок. А техническую политику не моему уму определять. Директорскому. Как любит говорить Марзи, половник лучше знает, что на дне котла делается.
— А почему ты своего слова не сказал? — любопытствует Гора, придержав меня за плечо.
— Генералов не интересуют наши мелкие заводские дела, Алим, — ввертывает Мути, намекая на мой скорый призыв в армию. — Побежали, Шамо! Наш начальник цеха что-то там руками размахивает.
Зря думают ребята, что будущее завода меня ничуть не интересует. Я запускаю свой станок и под ровный шум резца вспоминаю, как Марзи разговаривал однажды с нашим директором, когда приходил к нам на свою «экскурсию». Слова Серго Орджоникидзе: «Стройте автомобильный завод». А теперь, если верить электрику, на столе у директора чертежи каких-то автолавок… Уж лучше сверлилки выпускать, чем пивные киоски на колесах!
Нет, пустые это все разговоры. Одно не имеет отношения к другому. Но тогда, подумайте сами, почему же наш директор так заинтересованно слушал моего дедушку Марзи и так хмуро слушал слова сегодняшнего приезжего, твердившего «сверлилки, сверлилки»?
Секрет. Кругом у людей секреты друг от друга. Мне это очень не нравится. Может быть, поэтому я и, сам такой замкнутый? А я очень хотел бы быть открытым. У меня-то ведь нет никаких секретов от людей. Нет, есть. У меня есть по крайней мере один секрет. Я боюсь показаться глупым, смешным. «Молчишь? — сердится иногда Марзи на меня ни с того ни с сего. — Ну, молчи. Верно говорили предки: ум глупого — молчание».
Здорово умели высказываться эти предки. Можно подумать, что им больше нечем было заниматься, как сочинять поговорки. Одна умнее другой. Лучше бы они придумали что-нибудь такое, чтобы люди умели не прятать друг от друга свои мысли и чувства. Я имею в виду не аслановских предков, а предков вообще. Всемирных предков, человеческих.
Ну разве посмею я открыть кому-нибудь такую свою глупую мысль? Даже своим друзьям. Мути первым начнет зубоскалить. И правильно сделает. Потому что мне даже самому смешно, как это на земле жизнь выглядела бы, если бы у всех и всё шло в открытую? Очень большой беспорядок начался бы. А кроме того, просто скучно стало бы жить без секретов! Наверное, так.
Словом, лучше помалкивать. Встретится же мне когда-нибудь хоть один человек, которому можно открывать всё. Я почему-то думаю, что таким человеком будет девушка.
…Еще не улеглась пыль, поднятая колесами уехавшего на своей «Волге» начальника из Грозного, а по заводскому поселку поползли хабары — новости, разговоры: «Директор угощал такого важного гостя не у себя дома, а в заводской столовой». И прочее.
Кто-то пытался напомнить, что директор с любым человеком держится независимо, а кто-то возразил, что «слышал собственными ушами», как сегодняшний хаки́м — начальник, отказался от директорского приглашения на домашний обед. И вообще «директор скоро погорит из-за своей неправильной технической политики». Наш Совет Министров, правда, снять его не имеет права, потому что завод всесоюзного значения и подчиняется московскому министерству. Поэтому скоро из Москвы приедет начальник главка…
Такой разговор шел и в красном уголке общежития, пока по телевизору показывали скучный противопожарный фильм, а потом болтали об этих хабарах и на том пятачке возле бульвара, где обычно затевают в более поздний час лезгинку. Тут, на этом пятачке, темно. Я не различал в темноте лиц, не различал и голоса, потому что такой оживленный шел разговор.
Тошно и тоскливо стало мне от этого разговора. Я встал и пошел в сторону озера. Мути кинулся было за мной со словами «Куда ты, что с тобой?», но я отмахнулся от него.
Бродя по берегу тускло сверкавшего под тусклой луной озера, я думал о том, что жизнь моя становится все трудней и трудней. Из-за того, что меня и мою мать бросил отец? Из-за того, что умерла мать? Нет, это горести давние. Раны эти не заживут никогда, но они все же болят теперь не так сильно, они немного затянулись.
Из-за чего же становится трудней жить? Вернее сказать, почему я в последнее время все чаще думаю, что мне трудно? Недавно Мути взялся философствовать, постукав по моей голове пальцем: «У тебя тут образовался вакуум, понимаешь? Не обижайся, я хочу тебе научно объяснить твое настроение, я кое-что прочел на днях подходящее. Ты допризывник, правильно? От гражданской жизни ты уже в душе понемногу отрываешься, даже сам не замечаешь. А солдатская жизнь у тебя еще не началась, так? Значит, наступил момент, когда у тебя в голове ни то ни се. Вакуум. Вот я и прочел, что в такой свободный момент юноша начинает пересматривать все на свете. Обдумывает, от нечего делать, что такое жизнь, люди. А это очень мучительное занятие. Ты мог бы от него избавиться, если бы заполнил свой вакуум чем-нибудь. Например, влюбился».
Вакуум у меня или не вакуум, но ничто не вытеснит из моей головы мысль, которая погнала меня сейчас от противных «хабаров» сюда, к одиночеству: люди должны держаться друг с другом открыто, честно, уважительно. Не хотим? Не умеем? Боимся? Но ведь люди должны уметь делать все. Сегодняшний гость сказал слово «тропа». Мы на этой тропе — люди. Не барашки, которые идут по тропе покорной и бездумной отарой. Не звери, которые должны пустить в ход когти и клыки, чтобы на тропе выжить. Мы — люди. Идем вместе. Что, нам тесно?
Джамбот на меня рыкнул, я чуть поддал ему локтем, и он скатился под откос. Завтра «сгорит» директор, а если это вранье, если это просто чей-то злобный хабар, то…
Я же вижу, кто сейчас шепчет недоброе о директоре. Те, кто вчера его больше всех хвалил! Как это можно? Или те, кого директор когда-нибудь наказал, я знаю таких.
Справедливость нужна, справедливость. Она у нашего директора есть, это всем видно. Без причины он никогда никому не откажет ни в чем. К людям относится строго, но к себе — тоже. Я знаю такие факты. Сегодня утром я слушал по цеховому динамику директорскую планерку. Все начальники сидят у себя в кабинетах и совещаются по селектору, а завод слышит. Управляет разговором главный инженер, но мы обязательно прислушиваемся, какое замечание вставит директор.
Один начальник жалуется, что для 32-й модели машинки ночью не было на сборке ни одной шестеренки, а то могли бы собрать за сутки не три тысячи сверлилок, гораздо больше! Другой докладывает: нет валиков, рабочих колес, шпинделей; третий — про то, что сшивальный станок вышел из строя.
Разное докладывают. Очень коротко и четко, потому что директор так приучил. Свои замечания он делает тоже коротко и всегда попадает в самую точку. Виновников называет таким строгим голосом, что думаешь: нелегко быть цеховым начальником. А знаете, что он сказал, когда планерка дошла до того момента, когда ошибку надо искать у дирекции? Начальник сборочного доложил: «Шум в редукторе. Вибрация такая, что сегодня два коллектора раскололись. Сборщик не виноват, он внутрь готового редуктора не залезет, а поставляет нам редукторы саратовский завод…» — «Короче, — прервал его директор. — Виноват не сборщик и не вы. Виноват я. Завтра вылечу в Саратов».
Наверное, есть и такие факты, когда директор неправ. Может быть, приезжий начальник из Совета Министров тоже знает такой факт. Но пусть все будет справедливо и честно, вот что мне всегда нравится. Иначе всем плохо. Просто противно, понимаете, слушать такие хабары, какие сейчас вел кое-кто на танцевальном пятачке.
Борьба должна быть, это я знаю. Диалектика. Но человеческая борьба должна вестись по-человечески. А если по-другому, то каждый захочет чем-то обзавестись: или клыками волка, или силой медведя, или хитростью лисицы.
Я не хочу. Но и слюнтяем я не хочу быть, чтобы вот так слишком переживать за все, что меня касается и не касается.
Значит, остается то, что мне советовали друзья? Поскорее пройти термическую обработку, закалку? И я буду всегда без царапин?
Нет, такую «техническую политику» в человеческих отношениях мне не понять…
Я пока еще не знаю, что есть целая наука о технике общения людей. Это мне предстоит узнать от ученого человека с интересной фамилией — Цирце́нис. Оказывается, человеческие предки не дремали. Они кое-что придумали хорошее и кроме разных поговорок.
ИЗ АУЛА ПОСТУПИЛ ПРИКАЗ…
Приказ от моего дедушки, кривые неграмотные строчки на тетрадном листке. Видно, что в начале каждой строчки дедушка Марзи слюнявил химический карандаш (писать шариковой ручкой он не желает). «Завод обшжити вручайт токр Шамо Асланов лишни». «Токр» — это я, токарь. «Лишни» — это значит «лично». У нас в ингушском языке нет обращения на «вы», но записка написана по-русски, и Марзи обращается ко мне на «вы»:
«Послезавтра воскресенье базарный день будьте срочно районный базар скотский отделение 9 часов. Не позже. Поедемте Грозный. Коммунистически приветом Марзабе́к Асланов».
— Зачем я должен ехать с ним в Грозный? Не знаешь? — спрашиваю я у дедушкиного посланца.
Мура́йг, мальчишка из нашего аслановского те́йпа — фамилии, пожимает плечами. Он смотрит не на меня, а на моего соседа по комнате — Баши́ра, слесаря из нашего ремонтно-механического цеха. Я только что со смены, а Башир работал в ночную и сейчас сидит за учебниками. Он заочник техникума. В общежитии он все время или отсыпается или сидит с учебниками. Сейчас он читает и ест. Перед ним в большой глиняной миске высокая стопка тонких-тонких чя́пильгов — пирогов. Башир складывает пирог вчетверо и запихивает в рот. Один за одним. А книгу листает мизинцем, потому что все остальные пальцы у него в масле.
Переодеваясь, я вижу, что он успевает управляться и с сырыми яйцами. Колупнет скорлупу ногтем, опрокинет яйцо в рот. Мурайг завороженно смотрит на него и держит наготове следующее яйцо. У Мурайга на коленях плетеная корзина из ивовых прутьев, в ней полно яиц.
Я перечитываю записку. «Коммунистически приветом…»
— Сам-то он зачем в Грозный собрался? Не знаешь? Я ведь послезавтра должен ехать с цехом на турбазу…
— Кя́хат… — пожимает Мурайг плечами, продолжая с тревогой смотреть на Башира. — Шамо, бабушка Маржан велела сказать, чтобы ты хорошо поел.
«Кяхат»… Раз есть кяхат — бумага, то мне не отвертеться. Не скажешь потом старику, что я не так понял его приказание. Я комкаю и швыряю записку, смотрю на Мурайга.
Потные волосы слиплись косичками на его выпуклом оцарапанном лбу. Штанины зашпилены внизу булавками.
— Ты что, на велосипеде?
— Он от самого аула до завода сам катился в долину. А обратно — за машину зацеплюсь.
— Одиннадцать километров в гору! Какого черта вам там в ауле не сидится? Тебе что, делать больше нечего, как записки развозить? Сказал бы старику, что у тебя уроки…
— Каникулы, Шамо… От Марзи не скроешь.
Мурайг смотрит на Башира и начинает часто-часто шмыгать носом. Рука, в которой он держит наготове очередное яйцо, начинает дрожать.
— Шамо, бабушка Маржан сказала… она сказала, чтобы ты хорошо поел при мне… — чуть не плачет Мурайг. — При мне поел!
Только теперь я догадываюсь, что Башир уплетает мою еду: это не ему принесли, это мне прислала моя бабушка! Моя. Никто лучше бабушки Маржан не делает чяпильги, ни одна женщина в аслановском тейпе.
Стопка чяпильгов тает, горка пустых яичных скорлупок в коробке из-под электросверлилок, которые выпускает наш завод, растет. Башир снова протягивает, не глядя, руку за яйцом, но рука его повисает в воздухе: я забрал и корзину с яйцами и миску с пирогами.
— Ты старался так, будто оставшееся пропадет, — говорю я Баширу.
— Да я и не голодный. Просто сон разгонял. Отстань, — отмахивается он, вытерев руки газетой и берясь за конспект. — Дай мальчишке рубль на мороженое.
— Бабушке скажешь, что я хорошо поел. При тебе. Понял? — говорю я Мурайгу. — Езжай, чтобы в аул засветло попасть. И не вздумай цепляться за машину, а погрузи велосипед в кузов. Вот тебе рубль. И чего вам не сидится в ауле, какого черта вы…
Мурайг не дослушивает, он вылетает из комнаты, зажав рубль в кулаке. Даже не спросил ведь, что передать дедушке, буду ли я в назначенный день и час у «скотского отделения». Приказано, — значит, буду. Так у нас с дедушкой поставлено дело. И мне это не нравится. Мне все-таки уже двадцать лет. И мне все больше и больше не нравится такой порядок. Я мог поломать его два года назад, но упустил момент.
Подходящий был момент тогда. Я как раз закончил двухлетнюю учебу в грозненском ПТУ и вернулся домой. Уже работал токарем на нашем электроинструментальном заводе, в райцентре, а жил с матерью в своем родном селе рядом с райцентром. Однажды, в воскресенье, Марзи прислал за мной гонца. Вот как сегодня. Срочно явиться к нему в аул. Я чуть ли не бегом одолел шесть километров в гору. Думаю, мало ли что там могло случиться.
Верите, Марзи продержал меня целый день у дверного косяка. Первые час или два меня разбирало любопытство. Вдруг дедушка хочет поручить мне что-то необыкновенное? Он молчит, и я молчу.
Потом он затеял молитву. Тогда я еще не догадывался, что с богом у него никаких близких отношений нет и что свою полуденную молитву он делает просто так, чтобы тянуть время. Хочет подержать меня на стойке.
Принесла ему Бука обед. Марзи сытно поел. А у меня живот сводит от голода, но вида не подаю, торчу у косяка.
Потом Марзи начал перебирать четки, шевеля губами. Мне вдруг нестерпимо приспичило выйти на минутку. Но я не посмел попроситься. Не то что не посмел, а просто зло взяло, решил промучиться до конца и поглядеть, чем же эта молчанка кончится. Заглянула было бабушка Маржан, заикнулась: «Отпусти мальчика на минуту, я его покормлю», но Марзи замахнулся на нее и сердито обозвал ее «ха́жки-тум» — «кукурузная кочерыжка».
Наконец Марзи встал. Я обрадовался. А Марзи встал только для того, чтобы перейти к подна́рам, так называют у нас лежанку, деревянный диван во всю стену комнаты. Лег на поднары, растянулся на войлоке и преспокойно заснул. Будто меня и нет в комнате. Можно было, конечно, успеть сбегать куда надо, пока Марзи спит, но меня совсем упрямство взяло. Мне так и казалось, что Марзи спит, а одним глазом наблюдает за мной.
Выспавшись, Марзи изобразил еще и вечернюю молитву, а у меня тем временем мурашки начали бегать по затекшим ногам. В глазах тоже мурашки. Стою и стараюсь припомнить, сколько раз положено молиться в день. Кажется, пять раз. Значит, еще и ночная молитва будет? Ночную я, пожалуй, не переживу.
Наконец Марзи открыл рот. «Ну, мальчик, — сказал он, — поезжай себе домой». Я жду, что же будет дальше. «Поезжай, а то тебе ведь завтра рано на смену, выспись. Только сначала поешь».
Тут-то мне и не надо было упускать момент! Надо было сказать старику все, что я думаю об обидном экзамене, который он мне учинил. Но у меня сразу слов не нашлось, потому что я был так расстроен. Конечно, я придумал бы, что сказать, но Марзи очень ловко сбил меня с толку. Он прослезился и сказал мне: «Долго тебе жить, мальчик, порадовал ты меня сегодня! Убедился я, что ты не совсем испортился в городе, в этом своем ПТУ. Всегда таким и будь. Мой сын — твой непутевый отец — не знает ни стыда, ни приличий. А ты вырос настоящим горцем, Шамо, и я горжусь таким внуком…» Тут же он дал мне зачем-то червонец. В награду за безропотность, что ли?
Ну, посмотрим, зачем Марзи вызывает меня теперь, зачем ему потребовалось, чтобы я бросил все свои дела и явился в воскресенье на базар. Я ведь бываю безропотным до поры до времени.
Есть мне что-то не хочется, и я решаю отнести все, что прислала бабушка, в холодильник. У нас теперь в общежитии имеется холодильник. Мы договорились, чтобы он стоял в комнате у девушек. Им так удобнее.
…Увидев, сколько у меня припасов, технолог Таня мотает головой:
— Что ты! Не поместится. После получки там всего полно. Ну-ка, что там в корзине?
Она, эта сибирская девушка, всегда найдет выход из положения.
— Знаешь что? — говорит Таня рассудительно. — Давай-ка лучше всё это сразу съедим, а? Яиц тут штук сорок, не больше.
— А найдем кого?
— Сбегутся. Смотри, тут под яйцами еще что-то. Брынза… Вяленое мясо! Вот это я люблю. Молодец твоя бабушка, Шамо! Зови ребят.
ПИР ГОРОЙ!
…Нас собирается в комнате человек десять. Каждый, кто заходит, как-нибудь пристраивается к столу, лишь бы соблюдалось старшинство. К этому уже как-то привыкли и русские ребята, девушки. Старшинство, конечно, не по чину, а по возрасту. Поэтому во главе нашего стола сидит кузнец Шарпудди́н, ему лет тридцать. А Юра устроился поближе к концу стола, потому что он довольно-таки молодой. Он инженер заводоуправления и даже, можно сказать, начальство: председатель заводского совета молодых специалистов. В данный момент это у нас не считается. Такой у нас тут принят закон в общежитии.
Еще два закона мы соблюдаем, вернее, стараемся соблюдать. Первый — это никогда не пить у девушек в комнате. Это нам всем предложил мой лучший друг Алим-Гора. А второй — не разговаривать о заводских делах, когда соберемся вот так посидеть отдохнуть.
— Таня, налей-ка мне вон в тот кувшин чаю, — просит Алим-Гора.
Никто не удивляется. Рост у моего друга метр девяносто два, а вес девяносто килограммов. Когда он зашел в комнату, чтобы сесть к нашему столу, мы все хором сказали: «У-у-у…» Но Гора успокоил нас: «Чего вы испугались, я и не собираюсь с вами есть. Я уже пообедал».
Алим-Гора пьет чай из литрового глиняного кувшина и жалуется:
— Опять у нас на термическом участке безобразие…
— Производственное совещание открыто, записывайтесь в прения, — перебивает его Мути; как и Алим-Гора, он ничего с нами не ест, он живет в заводском поселке с родителями, мать кормит его в любую минуту, когда он захочет. Этот человек всегда ходит сытым.
— Я не о производстве говорю, — сердится Гора. — У нас на термичке опять оба сатуратора вышли из строя, вот что. Подержать бы тебя целую смену без воды возле печи с температурой восемьсот градусов…
— Я только сорок градусов легко выдерживаю, я не термист, — говорит Мути. — Эх, какую вы тут закуску зря переводите!
— Завтра у Гарси́евых свадьба, вот и получишь там свои сорок градусов, — утешает его Таня. — Там ты и повеселишься, и…
Наш дружный смех не дает ей договорить. Таня у нас новый человек, она не знает, во что превратили ингушские старики наши свадьбы. Иногда не разберешь, свадьба это или похороны. Почти на всех свадьбах старики устраивают так, что не удается ни выпить, ни станцевать. Обязательно придумают старики для этого какой-нибудь предлог, что-нибудь вроде такого: «Дорогие гости, не очень давно в нашем роду умер такой-то, поэтому и вам и нам не очень прилично разводить сегодня чрезмерное веселье…» А на самом деле старики просто боятся. Они считают, что мы, молодежь, испортились и не сумеем держаться на свадьбе в рамках, если слишком развеселимся.
— Рассказать вам, как Шамо перепутал однажды свадьбу с похоронами? — подсаживается Мути с дивана к столу. — Может, сам расскажешь, Шамо?
— Нет, рассказывай ты, — прошу я. — Все равно это неправда…
— Хорошо, расскажу я. Шамо не сумеет, он в три дня одно слово произносит. Вы же помните, каким он приехал из ПТУ? Каждый обычай старался соблюдать, словно старичок. Не понимал, что у нас тут все изменилось: райцентр стал городом, завод вырос, трикотажная фабрика. Ну, сами знаете — НТР среди кукурузных полей. А Шамо по старинке: идет по городку и со всеми здоровается. Прохожие на него как на ненормального смотрят. Из заводской столовой он всегда голодный уходил: только поднесет ложку ко рту, входит кто-нибудь старший по возрасту, а Шамо вскакивает, предлагает свое место, произносит разные старинные вежливости: «Не нужна ли в чем моя услуга, я готов…» Ну, такое его поведение я понимаю: старый Марзи с ним регулярно семинары проводил. С палкой в руках. А Марзи — это такой железный старик…
— Ты о свадьбе хотел, — перебивает Шарпуддин.
— А, о свадьбе? Идет Шамо по своему селу, видит — народ собрался. Это хромой Батарбе́к сына женит. Тишина, как на похоронах. Ни музыки, ни танцев. Старики под навесами сидят, бороды свесили, вспоминают семнадцатый век. Мы, молодежь, переглядываемся издали с девушками, играем с ними в скучные жмурки. А те, кому это надоело, топчутся на улице возле плетня, дохнут от тоски. Я — тоже. Шамо подходит ко мне — он тогда еще не был моим другом, мы даже не были с ним знакомы — и спрашивает тихо: «Что здесь, тя́зет?». Таня, по-нашему это «траур» — «тязет». Я ему отвечаю: «А ты думал, что это свадьба?» Я даже и не хотел его разыграть, а ответил так потому, что сердился на такую свадьбу. Шамо сразу сделал траурное лицо и направился к воротам Батарбека. Мы обрадовались, что сейчас будет хоть такая потеха, и я кричу вслед Шамо: «Эй, парень, не забудь траурный ду́а исполнить, а то Батарбек строгий на этот счет!» Шамо входит во двор, ему навстречу родичи жениха — надо же почтить гостя, хоть и молодой. Лица у родичей жениха озабоченные, в голове своя забота: хватит ли мяса для всей свадьбы и не проглядеть бы, если кто из молодежи тайком бутылку водки сюда пронесет. Шамо тоже делает скорбное лицо и произносит положенные слова в адрес покойника: «Да упокоит бог вашего человека…» При этом он, конечно, воздел руки к лицу, как в молитве. Это у нас называется дуа — траурный обряд. Хромой Батарбек заметил такую картину и бежит через весь двор к Шамо. А Шамо видит, что сам глава рода спешит встретить его, и воздел руки еще выше. Родичи жениха шепчут ему: «Да уймись же! Другие только втихомолку издеваются над нашей свадьбой, а ты посмел открыто?! Наш тейп этого не потерпит, дурак!»
— Ты расскажи, Мути, почему Шамо тут же рванул со двора, не дожидаясь Батарбека, — улыбается Алим-Гора.
— Шамо подумал, что старик наклонился к земле за булыжником. Дело в том, ребята, что Батарбек всегда припадает на ходу на хромую ногу и поэтому достает рукой почти до земли. Все собаки в селе и мальчишки уже знают это и ничуть не боятся. А Шамо забыл походку Батарбека, пока в городе учился. Вот и рванул со двора…
Половина того, что рассказал Мути про меня, неправда, а я все равно не обижаюсь. Я не умею смешить никого, а Мути умеет. Пусть смешит. А главное, мне нравится, что Мути так хорошо высмеивает наши скучные свадьбы. Ведь тут за столом собрались сплошь неженатые. У каждого из нас неизбежно будет свадьба, от этого никуда не денешься.
Свадьба-то будет раз в жизни, а работа — каждый день, поэтому мы то и дело сводим наш разговор к заводским заботам и событиям, нарушаем свой же уговор. Ведь в термичке у Алима-Горы, где наша общая курилка, не обо всем и не всегда поговоришь во время смены.
— Я пошел, — говорит наконец Алим-Гора, потягиваясь во весь свой могучий рост. — Выспаться надо. Меня дядя на завтра к себе в аул вызвал. Зачем — не знаю, но, наверное, в лес погонит — заготавливать хворост и колья. Новый плетень хочет ставить.
— Слушай, лес за вашим аулом такой густой, что там даже теленок между деревьями не развернется, а ты тем более, — говорит Мути. — Хочешь, я и Шамо поедем с тобой? В два счета все нарубим.
— И я, — говорит Юра. — Я никогда еще не бывал в диком горном лесу. Я знаю только свои подмосковные леса.
Я ТОЖЕ СТАРОВЕР
На базаре я люблю бывать. Тут есть всё на любой вкус и цвет. Длинными шеренгами выстроились, как на параде, женщины, они продают всякие тряпки и обувь. Останавливаться возле этих тряпок мужчине неудобно, но побродить тут все же интересно, потому что здесь увидишь многих девушек с нашей трикотажной фабрики: ходят, прицениваются.
На птичьем участке куры лежат на земле связанные, индюки с перьями, словно сделанными из вороненой стали. А на автомашинах с номерами Осетии — клетки с желтенькими цыплятами. Писк и щебет такой, что я сначала подумал, не стая ли птичек над базаром кружит. Моя покойная мать тоже привозила сюда продавать индюков. И всегда брала меня с собой, когда я был маленький.
А вот такого отделения в моем детстве не было: продают автомобили и мотоциклы. Рядом толкутся продавцы шапок и каракулевых шкурок. По-моему, дагестанцы. Шкурки они продают открыто, а готовые папахи — нельзя. Но продавец сует свою кепку за пазуху, а продажная новенькая папаха — на голове. Гони сто, а то и двести, триста рублей — и папаха твоя. Это я, токарь, должен отдать за папаху свою месячную зарплату! Какую же голову надо иметь, чтобы носить шапку за полторы-две сотни.
Мучной базар мне тоже приятно смотреть. Мне сразу вспоминается, как мать пекла чурек из кукурузной муки. И еще мне вспоминается, как мы купались в детстве на речке. Проголодаешься, забежишь на мельницу, схватишь горсть муки из жареных кукурузных зерен, замесишь речной водой колобок. Вот она, в мешках, эта желтая мука — цу.
На базаре много наших, заводских. Девяти часов еще нет, можно прогуляться с ребятами к шашлычному ряду. Осетины из Орджоникидзе делают здесь иногда очень неплохой шашлык, а если торгует Анзо́р, то шашлык наверняка настоящий и пиво у него в бочке без капельки воды.
— Подходи, рабочий класс! — зазывает нас Анзор. — За такой шашлык не жалко всю тринадцатую зарплату отдать!
Он раздувает фанерой-вертушкой угли и потихоньку спрашивает у нас:
— Белое пиво тоже налить?
Ребята пьют и белое, то есть водку, а я отказываюсь. Не дай бог, Марзи догадается.
Мути выпивает и стопку, и вторую, но он почему-то сегодня злой. Долго отмалчивается, а потом говорит:
— Один подлец из наших, заводских, ходит тут, продает патроны электросверлилок. По трешке за штуку. Нет, имя я вам пока не назову. Не успел я засечь этого типа. Не буду я мужчиной, если не поймаю его за руку… Я все могу вытерпеть от человека, любую подлость. Только не воровство.
Я пробирался сквозь толпу в сторону «скотского отделения» и увидел, что на самом краю базара, на травянистой лужайке перед картофельным полем, сгрудились вкруговую люди. Что там, лезгинка сейчас будет или фокусник заезжий выступит?
Я протолкался вперед. На траве лежал, раскинув руки, какой-то пожилой пьяный в папахе. Люди стоят вкруговую, разглядывают пьяного, удивляются. Только и слышишь: «Тц-тц-тц…», а как поступить, никто не знает. Каждый предлагает свое. В большом городе сразу бы сообразили, как поступить. А наш городок — вчерашнее село, тут никакого опыта еще нет.
— Может быть, погрузить его на ишачью тележку и вывезти вон туда в кукурузу? — задумчиво предлагает какой-то чудак.
— Джигита прокатить на ишаке? — возражают ему. — Месть хочешь нажить? Он же протрезвеет когда-нибудь, припомнит тебе этот свой позор… Ему ведь скажут, кто его катал!
— На его позор нам плевать, — вмешивается еще один. — А вот всех нас он позорит: ведь сегодня на базаре люди из Осетии, из Дагестана, из Кабардино-Балкарии. Что они о нас подумают?
— Тс-с-с… Вок-саг идет! Он сейчас рассудит. У них на все случаи советы готовы. Специалисты!
Вок-саг — «большой человек», так у нас называют стариков.
Да это же мой дедушка Марзи идет! Перед ним почтительно расступаются. Даже пьяница сообразил, что подошел старик. Приподнял голову, открыл один глаз и прохрипел слова, которые обязан по обычаю сказать старшему:
— Гу́лак эши? Со кич ва!
Это означает: «Не нужна ли моя услуга? Я готов!»
Тут же пьяный уронил голову на траву и захрапел.
— Что «готов», это верно! — захохотал кто-то.
Но Марзи цыкнул, исподлобья мрачно поглядел на пьяного, потом на окружающих и скомандовал:
— Перво-наперво детей отсюда уберите! Эту свинью не трогайте, иначе поднимет визг, люди еще больше обратят внимание на наш позор. Только накройте ему лицо шапкой. Пожилой человек, ему еще жить среди людей… Не его, конечно, жалко, а чести его детей. И сами разойдитесь, сами! Ну! Тьфу на самого умного из вас, весь базар сюда собрали…
Грубиян он все-таки, этот Марзи. У нас ведь старшие обязаны разговаривать всегда так, чтобы это было примером обходительности для младших.
Мы идем с Марзи по базару, позади нас — Бука, и старик ворчит:
— Пока у нас тут не было завода, никто не видывал, чтобы пьяный валялся…
— Валялся не заводской, — говорю я ему. — Это кто-нибудь из аула.
— Значит, аульские — плохие? Тогда ты — самый аульский. Сегодня человек торчит возле Анзора, на глазах у всего базара крутится возле шашлыка и пива. А завтра…
Начинается! Я не остаюсь в долгу и дерзко говорю под смех Буки:
— Да, я выпил кружку пива, правильно тебе донесли, Марзи. Но вот ты-то откуда знаешь Анзора?
Когда я называю при споре дедушку по имени, старик знает, что я сержусь.
— Ты уже не мальчик, ты почти жених, каждый твой шаг теперь у людей на виду, — миролюбиво говорит Марзи и добавляет по-русски: — Народни кантрёл!
На скотском базарчике дедушку интересуют только телята, и я теперь понимаю, зачем он сюда притащился. Он задолжал Буке теленка. Этому долгу исполнится скоро три года, если считать с того дня, когда Бука пришла в наш дом невесткой. По обычаю она должна «держать язык» перед своим свекром — Марзи, молчать хоть до конца жизни, как бы он ни заговаривал с ней, пока он не подарит ей теленка. Тогда она «развяжет язык». Марзи, наверное, догадывался, что из этого получится, поэтому и тянул так с подарком: Бука может заговорить насмерть любого. Однако и тянуть с подарком дальше неприлично, потому что Бука заподозрила старика в скупости, и это дошло до его ушей.
— Не годятся нам такие телята… — бормочет он тихо, чтобы не обидеть продавцов. — От кошки в доме больше пользы будет, чем от такого теленка… Купим в Грозном. Племенного!
Зато с родственником, который продает тут же коня, Марзи отводит душу:
— Прокляни тебя бог, как ты можешь такие деньги за порченого жеребца запрашивать?
— Ш-ш-ш, Марзи, люди услышат… Смотри, смотри, как мой жеребец танцует! — ухмыляется подвыпивший родственник, одним махом взлетает в седло и начинает горячить коня.
— Если тебе одно место перцем посыпать, ты тоже затанцуешь, — не унимается Марзи. — И косит твой жеребец на оба глаза. Убирайся с базара, не позорь нашу фамилию!
…Мы идем через городок к автостанции. Зачем же старик тащит меня в Грозный? Если он думает, что я там буду водить на поводке Букиного теленка, то он крепко ошибается.
Мы трое идем гуськом, как и положено. Впереди Марзи, за ним я, а замыкает на почтительном расстоянии Бука.
— Как там поживает ваш директор завода? — спрашивает Марзи у меня, полуоглядываясь. — Увидишь его, передай ему мой салам-маршалл. Так и скажи — от Марзабека. Он достойный молодой человек, ваш директор. Пусть знает, что мы, старики, одобряем его.
Чудак дедушка. Он, наверное, думает, что я с директором с утра до вечера толкую о том о сем. Да я с ним за два года своей работы лишь один раз разговаривал.
Не нравится мне, как мы идем по городку. Марзи и я налегке, с пустыми руками, а Бука несет тяжелые сумки и авоськи со всякими гостинцами для грозненских родственников. Так ходили горцы в древние времена, потому что у мужчины должны были быть свободными руки на случай неожиданной засады, встречи с хищником. Тогда такой пережиток был вполне правильным. А сейчас это просто дикость. Я поглядываю назад и вижу, что полное, нежное лицо Буки порозовело, на лбу бисеринки пота выступили. Сумки оттягивают нашей невестке руки. Я пожимаю плечами, как бы говоря Буке: «Что поделаешь, я рад бы сам нести эти сумки, прямо-таки мечтаю об этом, но разве этот старик поймет нас с тобой?»
Бука хохочет и говорит мне вполголоса:
— Лицемер! Оба вы с Марзи — староверы, фанатики недобитые. А ты… Рабочий класс! Авангард! Ха-ха, увидели бы тебя сейчас твои дурачки из заводского комитета комсомола!
— Что она там кривляется? — кидает мне вполоборота Марзи. — И не стыдно — хохотать на улице?
Хохотать — стыдно. А нагрузили женщину — не стыдно. Мне так и слышится суровый голос Хасана, нашего секретаря комитета комсомола: «Я должен, товарищи, раскрыть с этой трибуны истинное лицо таких комсомольцев, как Шамо Асланов…» Может быть, на моем месте он тоже шел бы налегке, тоже оказался бы двурушником (он любит такое слово). А может быть, дал бы тут же отпор своему старику.
В самом деле, кому же первому рвать с этими смешными пережитками, как не нам, рабочим?
Я так завел себя этими своими передовыми размышлениями, что круто обернулся и вырвал из рук Буки сумки. Она задохнулась от смеха и изумления. Марзи обернулся, увидел все это, остолбенел и зашипел на меня:
— Ты с ума сошел, мерзавец?! Да чтобы все твои предки до седьмого колена…
Но мне плевать сейчас на всех своих предков хоть до двадцать седьмого колена, включая Марзи, и старик это ясно увидел по моему лицу.
Тогда он развернулся и круто взял курс назад, зловеще пробормотав:
— Знай, что ты сломал мне дорогу, сын свиньи!
Ник бо́хбяб — сломал дорогу, лишил пути… Это непростительный грех. В слове «дорога» для горца всегда что-то святое. Недаром дедушка никогда не выйдет в путь, шагнув левой ногой. Только правой надо делать первый шаг — так по-горски напутствует бабушка Маржан своего Марзи, когда он выходит из дому. Сегодня старику ни разу не попались на пути пустые ведра, ни разу не перебежала дорогу черная кошка. Никто не сломал дедушке дорогу. Я сломал. Внук.
— Забери свои сумки, — стыдливо говорю я Буке. — Вперед, дедушка, а то на автобус опоздаем!
— Вперед! — соглашается Марзи и шипит на меня: — Я тебе покажу, щенок, как брыкаться в оглоблях обычаев! У-у, бандспособник…
КОГДА ВИДЯТ ЛЮБОВЬ — НЕ СМЕЮТСЯ
Вот и Грозный. Нам надо пройти через скверик. Дорожка шла мимо пивного ларька. Под полосатыми тентами сидели люди и потягивали пиво. Я заметил за одним из столиков Замира, парня с нашего завода. «Сейчас спрячет лицо при виде старика», — подумал я.
Но Замир поступил еще воспитаннее, чем я думал. Он не спрятался, а встал перед Марзи, очень вежливо поприветствовал его, не зная даже толком, кто это. Конечно, из-за меня он так.
— Вок-саг, извини, что я попался тебе на глаза в таком месте, — почтительно сказал Замир, незаметно подмигнув мне. — В моем возрасте, как видишь, мы не самые умные места выбираем. Предложить пиво я тебе не смею, но если надо услужить в чем другом… Я готов!
— Сиди, сиди, молодой человек. Ты, я вижу, из таких, которым и что-нибудь покрепче выпить не страшно: умеешь себя вести! Спасибо тебе.
Замир еще раз подмигнул мне, успел оглядеть статную фигуру Буки и не сел к своей батарее бутылок с пльзенским пивом, пока мы не удалились. Марзи спросил меня, кто это, потом назидательно сказал мне по-русски, что коня не узнать, пока он не ступит, а человека — пока не заговорит. Сразу видно, что этот парень знает настоящий эздел! Держится и свободно, и почтительно, знает, что надо сказать и как сказать, не растеряется ни в каком положении.
— Перед ним десять бутылок с пивом стояло, Марзи, — напоминаю я с обидой. — А я выпил одну кружку у Анзора — это позор?
— Чистый человек даже в грязи чистым останется! — отвечает Марзи.
— Шагай быстрее, нечистый человек, — подталкивает меня Бука сумками. — У-у, лицемеры несчастные!
Пересекая скверик, мы вышли к центральной клумбе. Это был самый оживленный пятачок скверика. Даже в такой утренний час тут людно. Наверное, потому, что уступом пониже площадки с клумбой журчит фонтан, вода искрится на весеннем солнце. В зеленых нишах кустов прячутся скамейки, низенькие и длинные. Пенсионеры любят читать на таких скамейках газеты или просто греться на солнце.
Марзи свернул к одной из таких скамеек, и мне сразу сделалось скучно.
— Разве ты устал, дедушка? — спросил я.
— Вода красиво бросайт! — кивнул Марзи в сторону фонтана, уселся, вытащил платок и стал вытирать бритую наголо голову.
Он, Марзи, плохо говорит по-русски, но почему-то, попадая в город, старается пользоваться русским языком. Даже когда разговаривает с родственниками. В нашем Дэй-Мохке я этого за ним не замечаю, потому что наш районный городок в глазах Марзи — не город. А столица республики Грозный — это другое дело. Тут Марзи любит говорить по-русски.
Бука не садилась. Она поставила вещи на скамейку и начала ни с того ни с сего похохатывать, не забывая при этом глядеть по сторонам — замечает ли кто-нибудь ее красоту, ее статность, ее шелковый наряд. На соседней скамейке шевельнулись сразу три пенсионерских газеты.
Прохожих тут тоже много. Каждый, кто идет на базар или с базара, в книжный киоск или от киоска, норовит пройти мимо фонтана и клумбы, так благоухающей в этот ранний час. Мужчины замедляют шаг и начинают усиленно интересоваться фонтаном как раз тогда, когда доходят до нашей скамейки. Хохоток Буки становится сразу чуть громче, и Марзи недовольно приподнимает смеженные веки. Наверное, наша Бука легкомысленный человек. Почему на нее так действуют взгляды прохожих? Даже внимание пенсионеров ее занимает. А может быть, это весна на всех так действует?
От нечего делать я разглядываю прохожих. У всех своя походка и свои повадки. Сержант милиции, с розовыми от легкого загара скулами, прошел с таким довольным видом, словно это он навел здесь в скверике чистоту и порядок.
Меня больше интересуют девушки. Вот явно приезжая. Такая же статная, как наша Бука. Только Бука нежно-смуглая, с густо черными волосами, выбивающимися из-под косынки. А эта рыжеватая. Веснушки ее красят. Груза у нее побольше, чем у Буки: чуть не на каждом пальце по авоське, кожаная сумка зажата под мышкой. Вцепилась в свои вещи и все время тревожно озирается по сторонам, словно боится заблудиться. В первый раз в жизни в город попала, что ли? Я видывал таких девчонок в казачьих станицах за Тереком, когда нас посылали из ПТУ на уборку винограда.
Кожаная сумка вдруг выскользнула у нее из-под мышки. А обе руки заняты авоськами.
Я хотел было подбежать, чтобы помочь, но меня опередил какой-то худощавый прохожий в красивом костюме кремового цвета. Он быстро поднял сумку, поклонился девушке.
— Отдай сумку… — прошептала вдруг девушка в страхе и закричала на весь сквер: — Жулик!
Милиционер — сержант милиции — как из-под земли вырос.
Девушка выпустила авоськи, вырвала свою сумку, отдышалась и заговорила:
— Видали? Улыбается! Товарищ милиционер, я его еще не базаре приметила. Он за мной следил.
— Поверьте, я без всякого умысла… — залепетал мужчина в кремовом костюме. — А сейчас я вам только помочь хотел…
— Эш-ша! — издал Марзи возглас удивления и крикнул милиционеру: — Это сапсем глупы женчин!
Меня он строго окликнул и сказал, чтобы я не лез, там свидетелей хватит и без меня: пенсионеры защищали прохожего в кремовом костюме. Он растерянно молчал. Улыбка так и не сошла с его лица. Это бывает, когда человек очень растерян или испуган.
— Картина ясная, — прервал розовоскулый сержант пенсионеров. — Гражданка проявила свою некультурность. А вы, гражданин… как вас?..
— Цирценис, — ответил кремовый, совсем обнажив в улыбке длинные белые зубы.
— Вы, гражданин Цирценис, проявили, наоборот, свою культурность. Можете приступать к продолжению своей прогулки.
— Отпускаешь?! — повернулась девушка к сержанту. — Во у нас как! Да его же по глазам видно! Не зря он все утро за мной по базару… А сумку как схватил, видали?
Цирценис прижал руки к груди, он сильно волновался:
— Девушка, простите… Элементарная вежливость… Разумеется, я готов с вами пройти…
— Пройдемте, — вздохнул сержант. — Раз гражданка настаивает, выясним личность…
Я любуюсь фонтаном, нежной весенней зеленью и размышляю над историей, которую мы только что видели. Кто должен учить «культурности» эту рыжую девушку? Сержант? А этот бедный Цирценис… Может быть, он сейчас в милиции сидит и жалеет, что его когда-то научили вежливости? Из-за нее он ведь и влип.
Марзи тоже размышляет.
— Может быть, — говорит он, — этот человек с птичьей фамилией («цир-цир» — синица) действительно жулик? Или даже бандит…
— Бандспособник, — шепчет мне Бука, давясь от смеха.
— Иначе зачем он следил за девушкой на базаре? — размышляет Марзи; зевает, сладко зажмуривается и откидывается, подставляя лицо ласковому солнцу, старательно подбирает русские слова: — Исключительно хорошо фонтан вода бросайт! Глаза закрывайт — как горный речка журчает…
Задремал, что ли? Пусть греется. У нас говорят, что весна — это пора, когда старики мерзнут. Они потратят за зиму свое небольшое тепло и мерзнут. Пусть Марзи набирает тепло, чтобы легче было дотянуть до лета. Мы с Букой отходим на соседнюю скамейку, потому что сидеть с Марзи нам не положено.
Бука медленно и мечтательно озирается кругом и тихо говорит:
— Любовь.
«Любовь»?.. Ей, Буке, всего двадцать шесть. Вдова. Наверное, у нее еще должна быть впереди любовь. Но почему она произнесла это слово сейчас? Я всегда смущаюсь, когда слышу это слово. Я стараюсь не смотреть на Буку, но мне будет жалко, если она сейчас опять засмеется.
— Я начала смеяться знаешь когда? — говорит Бука безразличным голосом. — С того дня в детстве, когда вдруг сообразила, что меня нарекли Букой и что это слово обозначает. С тех пор смеюсь и не могу остановиться.
— Смейся на здоровье. Я думал, ты хотела сказать о чем-то всерьез. А у тебя опять шуточки.
Однако у Буки сейчас совсем не шутливое настроение. Она сорвала с куста светло-зеленый по-весеннему листок, задумчиво водит им по пухлой красной губе и говорит:
— Только в двух случаях человеку грешно смеяться: когда чья-нибудь смерть и когда…
Я жду.
— …любовь!
— Марзи тебе все время жениха приглядывает. Ищет, кто получше.
— А-а, дождешься от вас! Любовь не ищут. Она сама приходит.
— Чего ты вдруг заговорила об этом здесь? — подозрительно спрашиваю я и поглядываю на скамейку, где засели пенсионеры.
— Чужую любовь я увидела! Не свою. Этот чудак с длинными зубами, «бандспособник»…
— Влюбился в рыжую, которая потащила его в милицию?
— А ты разве не слышал, как он сказал ей: «С вами я готов на край света», — задумчиво водит Бука листочком по губе.
— Он сказал ей: «Я готов пройти». В милицию!
— Ты только слова слышишь. Значит, ты никогда еще не любил, Шамо.
— Они ведь совсем разные люди!
— «Разные»… — усмехнулась Бука. — Вон идет девушка, видишь? Что лицо, что платье, походка — настоящая артистка! А вдруг бы в тебя влюбилась? В токаря. В деревенского парня. Настоящий человек не звание ищет. А сердце. Угадывает!
«Артистка» ничего во мне не угадала и прошла мимо. Я тоже в ней ничего не угадал. И все равно такая безысходная печаль была у меня в сердце, таким я почувствовал себя обездоленным, несчастным человеком, что хоть плачь. Лучше бы я сейчас сидел в милиции, как этот Цирценис, лишь бы у меня была любовь, как у него.
И она ко мне тотчас пришла — любовь. Конечно, в эти минуты я не смог бы поклясться, что это — она, любовь. Я ведь до сих пор не знал, какая она бывает.
Я вам просто расскажу, что и как произошло.
По другую сторону клумбы подошли к скамейке и уселись трое: бородатый старик, старуха и девушка. Лица этой девушки я и не разглядел: она как села, так сразу раскрыла книгу и опустила голову.
За их скамейкой, где-то в кустах, тотчас заиграла музыка. Словно там только и ждали появления этих троих, чтобы завести магнитофон.
Старик и старуха забеспокоились, а девушка что-то сказала им равнодушным голосом и показала куда-то головой. Наверное, предлагала: уйдем, если вы не любите музыку.
Старик замотал бородой и раскрыл шахматную доску. Наверное, он именно здесь решил ждать партнера.
Девушка вскинула голову, презрительно пожала плечами, и лицо у нее стало хмурое.
— Хорошенькая? — спросила Бука и расхохоталась так, что старик вскинул голову, вздернул брови и пристально посмотрел на Буку.
Я вздрогнул от этого ее смеха, как от удара плетью. Бука расхохоталась еще громче, Марзи открыл глаза и вскочил со словами:
— Пирод!
Вперед так вперед. Мы шли через сквер по тенистой аллее. Я шел и думал: кто же из нас двоих только что ошибся — я или Бука? «Когда видят любовь — не смеются», — уверяла она, а сама… Значит, я ошибся? Значит, не любовь? Пусть это называется как угодно.
У СТОЛИЧНОГО РОДСТВЕННИКА
Мы пришли к Хаматха́ну, одному из множества наших родственников, живущих в Грозном. Я и не знал, что у него новая квартира. То есть квартиры у него не было совсем, он жил в общежитии. Да и теперь у него не квартира, а комната в аспирантском доме. Двое их в этой двухкомнатной квартире: Хаматхан и еще какой-то ученый, тоже холостяк.
Хаматхан с гордостью показывает нам свою комнату, кухню, ванную. Любит Доктор наук похвастаться. Это его так прозвали у нас в ауле аслановские ребята: Доктор наук. Когда-то Хаматхан, еще будучи студентом, заявил, что непременно станет доктором наук или умрет под забором. Середины не будет. Пока он еще где-то посередине: аспирант. Значит, звание «Доктор наук» присвоили ему в ауле авансом.
— Твой дворец мы осмотрим потом, — говорит Марзи. — А пока что покончим с делами.
Дела — женские, могла бы ими заняться и Бука, но Марзи боится, что она все напутает, поэтому начинает сортировать гостинцы для городских родичей сам. Вот этот горшочек с топленым маслом надо передать Бе́рсу. Он, бедняга Берс, болел, а такое масло в Грозном не сыщешь. Банку с медом — тоже ему. Нет лучшего лекарства, чем горный мед.
— Мешочек кукурузной муки… Это же надо — таскать в такую даль кукурузную муку из-за сумасшедшего Мажи́та! — ругается Марзи. — Уже и в ауле отвыкли от кукурузного чурека, покупной хлеб едят, а Мажиту все подавай кукурузу… Дикарь, отсталый человек этот Мажит.
«Вот для чего Марзи меня сюда привез, — начинаю я догадываться с тоской. — Неужели он заставит меня развозить гостинцы родичам?» У меня не выходит из головы сквер и девушка, которую я там увидел…
Марзи припоминает, кому же какой кусок вяленой баранины предназначала бабушка Маржан? Вот этот кусок — Зале́йхе. Самый маленький, большего эта скупердяйка не заслуживает. От нее и такого люди в жизни не видели, но она ведь тоже человек, сотворенный аллахом. Пусть и она поработает челюстями… А вот этот кусище — Хаматхану. Маржан так и говорила, чтобы самый большой кусок отдать Хаматхану. Вон ту головку овечьей брынзы тоже тебе, Хаматхан…
— Воллахи, щедрая рука у твоей Маржан! — восклицает Хаматхан.
Нет, не улыбался бы ты, Доктор, если бы знал, какие слова сейчас произнесет дедушка!
— Развези все это сегодня же, — говорит Марзи Хаматхану.
Тощее, длинное лицо Доктора становится еще длиннее, а в душе ликую и думаю: молодец Марзи!
Нехорошо радоваться, когда видишь чужую беду, но я успокаиваю себя мыслью: «Ничего, Доктор, поработай на стариков и ты. Нам, сельским ребятам, и так достается: без конца какие-нибудь стариковские поручения. А ты, столичный, живешь тут себе без забот…»
Хаматхан со злостью косится на меня, а потом на его лице вспыхивает надежда, и он говорит дедушке:
— Слушай, Марзи, если бы ты знал, как все наши родичи тепло вспоминают Шамо! Они соскучились по нему…
— По тебе — тоже: ты у них бываешь еще реже, чем Шамо, — отвечает с усмешкой Марзи. — Ты записывай, кому что отвезти, а то все перепутаешь… Ну, с этим мы покончили. Есть для тебя еще одно маленькое поручение…
Марзи достает бумажник, перетянутый резинкой, извлекает пачку каких-то справок. Надо устроить в интернат внука старой Гошмо́хи. Отец у мальчишки инвалид Отечественной войны, сама Гошмоха депутат сельсовета, а места в интернате добиться не могут: очередь.
— А я что? — бестолково спрашивает Хаматхан.
— Ты в Грозном живешь или в ауле? — хмурится Марзи. — Вот и устроишь.
— Да кто же меня послушает? Кто я такой? Министр?
— Вот-вот, министр как раз и требуется: надо, чтобы он на уголочке заявления написал красным карандашом… А остальное ты сделаешь просто.
— Дедушка, да я в глаза министра не видел! Вот если бы ты сам к нему сходил… Старику он не откажет, тем более такому почетному, как…
— «Сам сходил»… Уффо́й! — издает Марзи возглас усталости. — Вы, грамотные, иногда еще бестолковее неграмотных. Да если я сам по всем министрам начну ходить, то кто за вами, непутевыми, будет присматривать?.. Ну, кончили и с этим. Справки не растеряй, Гошмоха их с трудом собрала… Что там в твоем холодильнике найдется поесть? Что-нибудь городское! Я пока умоюсь.
Бука уходит на кухню, Марзи — в ванную. Я почему-то не нахожу себе места. Словно человек, который знает, что должен срочно куда-то бежать и никак не может вспомнить куда.
Хаматхан уныло надписывает на пакетах и горшочках имена родичей. Мне его жалко, я безотказно помог бы ему развести гостинцы. Но зачем он не попросил прямо, а взялся лицемерить: «Родичи соскучились по Шамо…»
Хаматхан чувствует, что я обижен, затевает разговор, но таким снисходительным тоном, что меня тянет поиздеваться. Не нравится мне, когда меня расспрашивают вот так свысока:
— Ну, как там поживает его величество ингушский рабочий класс? Тут у нас только и разговору, что о вашем заводе. Скажи, это верно, что каждую четвертую электросверлилку в стране дает ваш завод?
— Верно.
— В тридцать три страны экспортируете?
— А чего ты удивляешься?
— Это же надо! Вчера коров доили, землю пахали, а сегодня — у станков на первоклассном заводе… Прямо не верится. Слушай, об этом диссертацию надо писать!
— Некогда, Хаматхан, некогда.
— Что?! Хо-хо… Шутник. «Некогда»… А то бы написал? Ты лучше расскажи, как ты там болты точишь. Получается у тебя?
— Пока не очень. Навязали мне станок с программным управлением. Вот и вкалываю.
— С программным управлением?! Но это же очень сложно!
— Да ну там… Фотоэлемент, реле, три телевизионных видоискателя. И лазерный луч. Устаревшая модель.
— И ты заправляешь таким станком?.. Из тебя слова не вытянешь. Говори же!
— Раньше станком управлял один инженер, но он взял отпуск, пишет кандидатскую…
— А ты на месте инженера?! Заливай! Лучше скажи, какой у тебя заработок.
— В этом году у нас на заводе плохо с материальным стимулированием. У меня получается четыре сотни в месяц. И то не всегда.
У Хаматхана отвисает челюсть от удивления.
— Четыре сотни?! Да врешь ты все! О-о, у меня же хлеба ни кусочка… Есть у тебя полтинник?
Я даю ему пятерку, он убегает за хлебом. Мне совестно, что я так врал ему. Но уж очень он задается.
Умытый, посвежевший Марзи входит в комнату. Голова и лицо у него сегодня чисто выбриты. Если бы не подстриженные седые усики — вылитый римский император из учебника по истории древнего мира. Я давно заметил, что самые наши даже неприметные старики — а Марзи как раз из таких, — попадая в столицу, выглядят сразу величественными.
У Марзи есть одна причуда, помните? Попадая в Грозный, он обязательно старается говорить по-русски. Так и сейчас. Я с трудом понимаю его русский язык.
— Ты не мог бы сказать мне по-ингушски, Марзи, зачем мы сюда сегодня приехали? Вернее, зачем приехал я.
— Моя может и по-русски сказайт! Мой дело сегодня — теленк покупайт. Второй мой дело — каждый раз проверяйт по очереди всех родственники, не забывал ли марх-ламаз — пост-молитву, хотя все давно к черту забывал. Поведение разни родственник смотрим! Не воровайт, не пить, человечески уважение чтоб имелся. И так дальше, дальше, дальше. Конце конца!
— А мой дело какой здесь есть? — спрашиваю я, не замечая, как и сам коверкаю язык.
Марзи достает бумажник, дает мне тридцать рублей.
— Купишь себе туфли, — говорит он. — Нельзя молодому человеку ходить в обуви, которая имеет дырок больше, чем кожи (это он о моих сандалетах). Когда молодой человек достигает возраста жениха…
Я, наверное, в цехе самый спокойный и покладистый из всех. «Ты смирный, как корова безрогая, — не раз говаривал мне и Марзи. — У твоего отца беспутная голова, но по характеру он орел!»
Однако мышь тоже может укусить, если ей наступить на лапку, есть и такая поговорка у Марзи.
— Из-за этого ты потащил меня в Грозный, Марзи? — говорю я ему. — Какое тебе дело до моих туфель?
Я напоминаю ему и сегодняшнюю историю с поклажей Буки, и то, как Марзи без конца приказывает мне явиться, бросив станок, на бесконечные свадьбы, похороны…
— Ты сам не знаешь, чего от меня хочешь, Марзи! — говорю я ему, но он посмотрел на меня так укоризненно, что я сразу умолк.
…Печальный и одинокий, ест Марзи в комнате Хаматхана, а мы, молодежь, накрыли себе стол на кухне. Хаматхан оторваться не может от вкусной деревенской еды. Он в свои двадцать три года худой, сутулый и весь какой-то дерганый. Нет, токарем быть все-таки лучше, чем ученым. А может быть, неважно, кто ты, важно другое — есть ли у тебя в жизни цель. У Хаматхана она есть. А у меня?
— Я сейчас поеду развозить ваши гостинцы, а потом уйду ночевать к другу, — говорит мне Хаматхан. — Я уже месяца три не спал на своей кровати: без конца кто-нибудь гостит… Бука, спрячь вон те пустые винные бутылки за шкаф, а то Марзи всегда лазит проверять. И когда у нас эта кабала обычаев кончится, а, Шамо? И все ведь от вас идет, из деревни. Неужели вы, рабочий класс, не можете тряхнуть отжившую старину?
— Конечно, можем. Чтобы интеллигенция готовенькое получила.
— Чего ты без конца заливаешься, Бука? Ничего тут смешного я не вижу. Никак не пойму, какого черта вам там у себя не сидится? Вот ты, Шамо, чего притащился в город? Ты заснул, что ли?
— Мне Марзи поручил дело поважнее, чем тебе. У меня особое поручение, Доктор. Мне приказано, чтобы я купил себе самые дорогие и модные туфли…
Я отталкиваю тарелку, хватаю кепку. Меня словно пружиной подбросило. Уже в дверях я слышу возглас Хаматхана: «Что это с ним сегодня?!» Слышу слова Буки: «Глаза… У него никогда таких глаз не было».
Она не смеется.
Значит, я влюблен. Я должен во что бы то ни стало увидеть девушку, в которую я влюблен.
ЭТА ПРОКЛЯТАЯ КЕПКА!
В универмаг за туфлями? Как бы не так! До этого ли мне.
Я не знаю, что со мной стряслось бы, если бы я не застал е е в скверике. Они так и сидели втроем на скамейке. Старуха вязала, девушка читала, старик тоже читал. Возле него на скамейке расставленные шахматы. Спасибо партнеру этого бородача, спасибо ему за то, что он опоздал, не явился!
Я притаился на скамейке между пенсионерами и тоже завесился газетой, попросив ее у соседа. Поглядываю на н е е через газету и соображаю, какой бы повод найти, чтобы оказаться рядом с н е й. Почему нас ни в школе, ни в ПТУ не учили, как надо знакомиться с девушкой? Вот если бы сейчас случилось страшное землетрясение. Или на н е е напали грабители. Или река вышла бы внезапно из берегов и хлынула сюда через чашу фонтана, через клумбу… Я бы тогда сообразил, как познакомиться.
Но река течет себе и течет еле слышно, весной она совсем маловодна. И чаша фонтана не собирается переполниться, излиться бурными потоками. Там уже полно детишек, плещутся водой. За кустами, где утром гремел магнитофон, тоже мир и покой. Оттуда изредка доносится звяканье бутылок и смех.
Вот кого тут не хватало: идет Замир. Еще подсядет ко мне… Я закрываюсь газетой. Прошел мимо. Пивом от него так и несет. Кому это он так улыбался? Он вообще мастер улыбаться и здороваться с каждым ласково, как с родным. Я глянул через верх газеты, и у меня почему-то сделалось тошно на сердце: Замир прятал за спиной букет цветов. Такие тугие маленькие розы в сверкающем целлофане. Кому это он? Вот, наверное, как надо знакомиться: с цветами в руках.
Да что же это такое? Он направился прямо к е е скамейке. Идет, радостно расставил руки, словно собирается обнять сразу всех троих, сидящих там.
Он здоровается, вручает цветы… слава богу, не е й, а старухе: «Это вам, тетя Лоли!» Девушке он дает плитку шоколада. А бородатому Замир весело говорит:
— Я готов к бою!
Молодец страшилище! Я готов расцеловать его бороду. Он не спеша сгребает с доски фигуры и начинает их убирать в коробочку, отвечает Замиру:
— Будем считать, что мы наигрались. Я пришел сюда вовремя и ждал.
— Куда деваться на этом свете от хамства! — зажмуривается девушка.
— Да там случилась целая история, я чуть под машину не попал! — весело врет Замир. — А потом простоял в очереди за цветами… Виноват, приношу извинения!
— Розы теперь продают в пивном ларьке? — уточняет бородатый.
Старуха ненадолго погружает свой большой нос в цветы и говорит девушке, показывая на Замира:
— Согласись, Ке́йпа, все-таки он прелесть, этот Замир! Он даже врет как-то воспитанно, изящно. Таких молодых людей теперь мало…
— А каких много? — спрашивает девушка. — Нам лишь бы изящно!
Кейпа! Вот как ее зовут… Я не слышу, что она произносит еще, потому что за кустами, где только что осторожно звякали бутылки, загрохотала музыка.
Магнитофон гремел и завывал, было похоже, что в скверик ворвалась и беснуется стая шакалов. Девушка оглянулась на высохшую старуху. Та откинулась на спинку скамейки, вязанье выпало у нее из рук. В обмороке, что ли?
Тогда девушка вскочила на скамейку, вспрыгнула на ее спинку. Гибко балансируя, она разглядывала, что там творится за кустами. Разглядев, начала угрожающе трясти в воздухе высоко поднятой тетрадкой, свернутой рулончиком. При этом платье ее чуть-чуть поднялось, ноги выше коленок оказались белоснежными — сильные и такие округлые ноги. Девушка швырнула тетрадку на скамейку, вложила пальцы в рот и свистнула так пронзительно, как и мне не свистнуть.
За кустами послышался хохот. Эти весельчаки даже постарались прибавить звук, музыка стала еще громче.
Девушка мягко и упруго соскочила на землю. Растерянно посмотрела на Замира. А он пожимает плечами, стукает себя по лбу и кивает в сторону кустов: мол, там же дураки, что с них возьмешь.
Я кинулся мимо Кейпы к высоким кустам. Продрался через них одним рывком, оцарапав себе лицо и руки.
Сидят себе в густой траве. Трое. Молодые, вроде меня. Рубашки нараспашку. Валяются бутылки. И гремит магнитофон.
Один уже вроде бы готов: распустил слюни, зажмурил глаза и мотает в воздухе руками. Это он дирижирует. Другой, здоровяк, старается открыть бутылку с вином, пропихивает щепкой пробку. А третий сидит грызет воблу, волосы у него засаленные, свисают до плеч.
Я наклонился и чуть-чуть убавил звук. Теперь музыка нормальная, никому не помешает.
— Пусть будет так, а? — говорю я. — Там старики нервничают.
— А ну восстанови звучание, гад, — медленно сказал мне длинноволосый, обсасывая воблу.
— А ну поверни ручку громкости на полную, — поддержал и здоровяк.
Да, зря я сам полез к магнитофону. Я прислушался: не спешит ли мне на помощь Замир? Нет.
— Ладно, — говорю я. — Поверну на полную.
Я сорвал с магнитофона кассету, а ручку повернул на полную.
Может, обойдется? Не люблю я драться. «Никогда не лезь в драку первым», — помню я с детства поучение Марзи.
Только я успел об этом подумать, мне как дали в глаз! Откуда-то сбоку. Я же совсем забыл о слюнявом — о том, который дирижировал. И как это он молча мне влепил, втихую. Да еще рванул мою рубашку, хотел меня повалить.
В поучениях Марзи есть и такие слова: «Но если ввязался в драку — иди до конца». Я сунул кассету в карман. А длинноволосому померещилось совсем другое.
— Тесак достает! — крикнул он. (Тесак — это нож.)
Как рванули они от меня все трое со своим магнитофоном! Я только и успел съездить тому, который меня ударил.
Стою, не верю сам себе. Целый. Только под глазом набухло и рубашка какая-то слишком свободная сделалась. Да дыхание от страха захватывает. Втроем они котлету бы из меня сделали.
Когда я пролез сквозь кусты к скамейке, женщины ахнули, какой у меня вид. Замир нахмурился и кинулся в погоню за теми. Поздно. Ему их не догнать.
— Что с вами эти гангстеры сделали! — пробасила тетя Лоли. — Ни чужих физиономий теперь люди не берегут. Ни нервов. Ни ушей. Я любила бывать, представьте себе, в ресторане. А теперь не могу. Там такой джаз гремит, что глохнешь. Поверите, не слышишь, как собственного цыпленка ешь…
— Это как раз неплохо, — вставила Кейпа.
Она глянула на меня, хотела что-то сказать. Уже приоткрыла губы, сверкнул молочно-белый, влажный ряд зубов. Как зернышки молодого початка после росы — вот какие у нее зубы.
Но она ничего не сказала, так и осталась с полуоткрытым ртом, потому что перевела взор куда-то выше моих глаз, и тут я заметил в ее золотистых глазах удивление, даже испуг. Что это с ней? Она захлопнула глаза и повалилась вдруг назад, на спинку скамейки. Обхватила плечи руками крест-накрест и трясется, кусает губы, на подбородке у нее появились, нежно дрожат мягкие ямочки. «Чего они тут все в обморок падают?» — испугался я.
А Кейпа, оказывается, хохочет! Похлеще Буки хохочет. Это от смеха ее так трясет. Даже слезы у нее на глазах показались и не может слова выговорить, только водит и водит расслабленной рукой передо мною, что-то силится показать. «Мой фонарь она заметила, — догадываюсь я. — Фонарь ее рассмешил!»
Я тоже начинаю смеяться; подхватывает наш смех и тетя Лоли. А старик глазеет через кусты туда, куда умчался Замир.
— Кепка… — произносит наконец девушка.
Что «кепка»? Я привычным движением подбиваю с боков обвисающие к моим плечам поля своей кепки, я знаю, что после такой процедуры моя нелепая, ненавистная мне кепка выглядит чуть-чуть нормальнее.
— Ну и кепочка… — снова задыхается от смеха Кейпа. — Олег Попов… умер бы от зависти! Яичница с морковкой!
Вот оно что. Вот ее первое слово для меня: «кепка». Поздравляю, Шамо, познакомился ты с девушкой! Целый день глаз с нее не сводил, в рот ей заглядывал…
Я вытаскиваю из кармана кассету, стараюсь, чтобы руки не дрожали. Швырнуть эту кассету — и уйти. Нет, сказать на прощанье что-то надо. Что-нибудь такое, чтобы она знала, что для меня тоже все это не больше, чем стружки под станком.
— Кепка что! — говорю я Кейпе, сбивая кассетой свою кепку на затылок. — Мне бы свистеть в два пальца научиться…
Ее синие глаза становятся похожими на большие льдинки.
— Ну-ка, топай отсюда! — говорит она грубо. — Тоже мне избавитель. Нашел способ знакомиться!
Вот так же отшивали, помню, нас здесь в городе на танцульках. Мы, пэтэушники, приставали к взрослым девчонкам, чтобы станцевать, а ответ бывал один: «Топай, организм!»
— Молодой человек поступил по-рыцарски, а ты с ним так… — заступается за меня старуха. — Ты ведь на самом деле совсем иная!
— А чего он! — дергает плечом Кейпа и передразнивает кого-то, знаете, такого специалиста-ухажера из поселкового парка: — «Братцы, а из энтих двух крайняя — хорошенькая… Девушка, а мы с вами где-то встречались…»
Как раз при этих словах появляется Замир, вернувшийся из погони за хулиганами, косится на меня и спрашивает с удивленной ухмылкой:
— Что, ты это так знакомишься с девушкой? Можно было бы и пооригинальнее.
Вот как они оба в одну секунду всё запутали. Я прямо-таки онемел от обиды и унижения.
— Не смогли догнать? — спрашивает у Замира бородатый, даже не спрашивает, а утверждает.
— Ничего, я их успел разглядеть. Доберусь. «Не торопись и не забывай!», как говорится в древней пословице.
— Первая часть этой заповеди выполнена блестяще, — отмечает бородатый.
— Не мог же я бросить в обмороке старую женщину, — усмехается Замир и тут же поправляет себя: — Старшую женщину… Да я и не думал, что всех вас так взвинтила музыка. Я лично люблю джаз.
— Любишь? — спрашиваю я и сую Замиру кассету. — На, крути.
Я поворачиваюсь и ухожу, нарочно топая погромче (мне же сказали — «топай»). И слышу, пока огибаю кусты, чтобы выйти на аллею:
— Он неплохой парень, но застрял: горское забыл, а европейскому не научился. — Это голос Замира.
— А у тебя есть и то и это. — Бас старухи. — Да, Кейпа, твой Замир все-таки прелесть. Как ни говори, мужчина должен быть воспитанным и уметь…
— …уметь совершать поступки. Ясно это вам всем или нет? Пошли отсюда, надоело все на свете! — говорит девичий голос.
ВОТ И МИЛИЦИЯ
Мне горько и обидно. Мне за себя стыдно, понимаете. Какая у меня могла быть любовь? Откуда она могла взяться? Разве так случается — увидел и через минуту полюбил?
И кого «полюбил»! Вот что всего смешнее. Какую-то девчонку, каких у нас на трикотажной фабрике — тысяча. Да она ведь хуже всей этой тысячи: два пальца в рот и свистит, как хулиган, а словечки чего стоят. «Топай!»
Эта ее грубость — самая большая для меня загадка. Я не люблю, когда девушка держится не по-девичьи. Мне даже у ребят не нравится грубость, а уж о девушках и говорить нечего. У них должна быть нежная душа; а кто в это поверит, если у девушки на языке то, что я слышал сегодня? «Топай!» Но зато какими глазами она смотрела вначале на мой синяк, сколько нежной жалости у нее было в глазах, пока она не увидела мою кепку… Нет, она очень нежная, я такой нежной девушки еще никогда не видел. Значит, загадка объясняется просто: она притворщица. Старуха ведь сказала ей, когда отчитывала из-за меня: «Ты ведь совсем иная!» Значит, эта девушка из тех, которые делают что хотят и не стесняются капризничать: захотела — нежная, захотела — грубая.
А какой обидный смех у нее был, когда она увидела мою кепку. Ах, эта проклятая кепка!.. На минуту вся моя обида переключается на Марзи. Это из-за него я ношу на голове такую штуку. Какой-то распухший блин со свисающими чуть ли не до плеч полями. Он мог бы сойти за кепку особого фасона. На юге ввели в моду такие широкополые кепки; но они, южане, не виноваты, что моя имеет почти полметра в диаметре. А цвет у нее… Эта девушка правильно сказала: яичница с морковкой.
При чем Марзи? Он, это он заставил меня носить на голове такое уродство! Он сказал: «Тебе ее подарили, не смей снимать. Ты оскорбишь тем самым подарившего. Таков обычай». Подарил парень, который работал у нас на заводе диспетчером. Я его и знать-то толком не знал, а спросил однажды, между прочим, где он шил свою кепку. Спросил совсем не потому, что мне его уродливая кепка понравилась, а просто чтобы знать, где шьют кепки.
Через три дня этот парень прислал мне в общежитие новенькую кепку, вот эту, которая на моей голове. Он проявил свой «эздел» — приличие: понравилась тебе, Шамо, вещь — ты будешь иметь такую же. Уже через неделю, после первого дождя, моя кепка начала становиться разноцветной, расплываться и увеличиваться в диаметре. Дедушка страшно обозлился, когда увидел ее на мне, обозвал меня стилягой. Но когда я объяснил в свое оправдание, откуда она у меня взялась, Марзи приказал ее носить.
Тот диспетчер давно уехал из Дэй-Мохка, но Марзи сказал, что это не имеет значения: подарок есть подарок. Теперь я один красуюсь в такой кепке. И думаете, кто-нибудь надо мной смеется так, как смеялась сегодня эта девчонка? Нет, у нас девушки в Дэй-Мохке деликатные и воспитанные. Даже тот, кто видит мою кепку впервые, не позволяет себе открыто улыбнуться. Сегодня, когда мы ехали с Марзи и Букой в Грозный, шофер без конца заглядывал тайком в зеркальце, будто человек, пытающийся рассмотреть что-то недозволенное. Я догадался, что его интересует моя кепка, но этот шофер и виду не подал, что удивлен.
А Кейпа расхохоталась мне в лицо…
Да, я получил первый урок «любви». И кажется, получил хороший «фонарь»: левым глазом почти ничего не вижу, вокруг него все распухло, набрякло.
Я спешил добраться до квартиры Хаматхана. Слава богу, дома никого нет. Но ведь Марзи все равно придет. И начнется! Рвануть поскорее в Дэй-Мохк? Пока не стемнеет, с таким фонарем лучше не ехать…
Нет, убиваться я не стану. Я пошарил в холодильнике на кухне. Какие-то баночки, скляночки. Холодильник забит, а поесть нечего. Майонез. Маслины в розетке. Нарезанный лимон. Хорошо, что хоть аджи́ка у него есть, это такой острый соус, приправа. Придется есть аджику с сушеным мясом, которое мне и у бабушки надоело.
Я и не заметил, как съел кусок бараньего бока и четверть головки овечьего сыра. Надо оставить Хаматхану. Ничего, я как-нибудь выпрошу у бабушки индюка, привезу Доктору наук жареного. Рабочий класс должен поддерживать интеллигенцию.
Как будто и не ел ничего. Что-то не вяжется у меня все это: любовная трагедия — и такое обжорство…
Будь что будет! Я запил барашка и брынзу двумя бутылками кефира и завалился на широкую кровать. У меня уже однажды случалось, что я с горя объелся. Вскоре после ПТУ. Когда впервые стал самостоятельно к станку. Так волновался, что мне казалось, весь цех на меня смотрит. Гляжу на станок и робею так, словно меня к атомному реактору приставили. А станок как станок, только ручки управления у него немножко необычно расположены. Мимо проходил Уво́йс, был у нас тогда такой нахальный тип, очень тупой человек, хотя и считался токарем. Вечно над пэтэушниками измывался. Подстроит что-нибудь и потом целый день ходит по цеху, рассказывает, гогочет. Этот Увойс показал мне пальцем на кнопку обратного хода и говорит мне так добродушно:
— Ну нажимай! Чего трясешься, котенок?
Я запустил станок. Что же это такое? Полетели одна за другой пятигранные ножи скоростной головки. Боюсь, что кто-нибудь увидит, скорее переналадил, запустил. Опять ножи летят! Увойс проходит назад и бросает сочувственно на ходу:
— Наверное, слишком резко подаешь, а? Ну-ка, снова.
Опять нажимаю ту же кнопку, но тут подбегает от своего станка Иван Дмитриевич, отталкивает Увойса и шепчет мне:
— Да ты что, парень, ослеп от страха? Ты же левое вращение даешь вместо правого. Разберись с управлением, не спеши. Тебе же не скакать на этом станке…
Увойс загоготал и побежал по цеху потешать людей. А я так расстроился, что съел в обеденный перерыв три вторых! Думал, все равно конец моей карьере токаря, дадут мне опять фартук, рукавицы и метлу…
С этими воспоминаниями о моей рабочей молодости я и уснул, крепко прижав к глазу маленькую медную пепельницу Хаматхана, сделанную в виде турецкой туфли.
Проснувшись, я обнаружил, что рубашка сидит на мне как-то слишком уж свободно. Так и есть: порвана под мышкой. Еще один результат моей «любви»: порвал новую рубашку в драке.
Я разыскал у Хаматхана в коробке из-под кофе нитки, иголку и сел зашивать.
За этим занятием меня и застала милиция…
— Сержант Деликасов, — представился вошедший.
Это был тот самый сержант с розовыми скулами, который в скверике увел Цирцениса!
Он сразу заметил мой синяк и порадовался:
— Улики налицо. Ага, и рубашечка порвана? Значит, разговор у нас будет короткий.
С милицией я никогда не имел дела, поэтому растерялся и не могу сообразить, виноват я в чем-нибудь или нет. Больше всего меня удивило — кто же мог вывести на мой след?!
Конечно, встретил я этого гостя вежливо, хоть и растерянно. Правда, как-то по-деревенски встретил. Чисто по-горски.
— Как ваши домашние, живы ли, здоровы? Нет ли в чем ущерба? — бормотал я слова, которые положено говорить при виде гостя, думал же совсем не о его домашних, а о том, кто же это мог меня выдать, откуда могли узнать этот адрес.
— Мои-то здоровы, а вот кое-кто из-за вас охает, — прошелся сержант по комнате.
— Может быть, сядете?
— Как бы вам, извиняюсь, не сесть, молодой человек.
Деликасов сел, достал бумагу и начал читать вслух:
— «Мы отмечали в скверике культурный досуг молодежи…» Так. «…а он налетел как крокодил, устроил оргию, нанес физические и душевные травмы, нахально ограбил». Вот так. А главное дальше: «Вытащил большой нож…»
Пока он читал, я уже успел прийти в себя, надеть рубашку Хаматхана. Деликасов заметил это и сказал мне, что сейчас он меня в отделение не поведет, а завтра придется прийти туда. С паспортом.
— Они меня сами ударили. Вот же синяк, — показал я.
— С синяком и придете. Синяк в вашу пользу.
Он долго смотрел на меня, да так, что я покраснел. Потом он придвинулся ко мне и сказал тихо, будто по секрету:
— Насчет ножа не верю. А?
— У меня не было ножа. Никогда не было.
— Вижу, не умеешь наговаривать на других лишнее. Поэтому и верю.
Он повертел мою рубашку и очень строго сказал:
— Эх, извиняюсь, и голова! В армии еще не был? Тут же надо вести нитку строчкой, а не через край. И нитку надо не черную, а белую…
Деликасов встал со словами, что ему стыдно за меня, рабочего парня, попавшего в драку в общественном месте. Он долго молчал, а я не знал, что ответить, и сказал:
— В ауле с детства учили: «Увидишь кого в беде — не убегай, помоги. Пусть трус задохнется в беге!»
— «Аул»… Вот из аула к нам пережитки и идут, от стариков. Хорошие пережитки там, конечно, тоже есть. Помочь в беде, оно, конечно, и по моральному, извиняюсь, кодексу положено. Но не по сопатке! А культурно. Свидетели найдутся у тебя?
Я подумал-подумал… Замир? Кейпа? Нет у меня свидетелей. Влетел я в историю. Посадить меня не посадят, а подметать скверик мне придется. На глазах у Кейпы. В яично-морковной кепке. И письмо на завод придет из милиции.
— Я думал, вы мне верите, — сказал я сержанту.
— Ну и чудак! — рассмеялся он.
Я машинально пожал протянутую руку Деликасова, машинально проговорил то, что положено говорить при прощании:
— Чем могу служить? Я готов.
— Куда «готов»? Да не посадят тебя, парень, чего это ты оробел? Смотайся сегодня на завод за паспортом, а завтра — к нам. Разберемся, примем во внимание. Ну, шей, шей! Строчкой.
ПО-АНГЛИЙСКИ „СЫР“ — „ЧИИЗ“
Только ушел сержант, как явился… Вот не ожидал! Мой старый знакомый по Грозному, тоже бывший пэтэушник Хаха́ев. Он учился в торговом ПТУ, не со мной. Мы немножко дружили, вместе бывали на танцах. Сегодня он встретил на улице Хаматхана, узнал, что я здесь, и решил повидаться.
— Побить кого-нибудь надо? — чуть ли не с ходу спросил Хахаев, мрачно поглядев на мой синяк.
— Не надо. Лучше расскажи о себе.
Он рассказывал, медленно подбирая слова, я смотрел на него и думал: «Неужели и я стал такой старый за те два года, что мы не виделись?» Раньше этот Хахаев был большой, несколько толстый, но все-таки довольно стройный парень, одевался нормально. А теперь — туша. Какая-то толстовка на нем с большущими растопыренными карманами. Лицо стало широкое, тугощекое, глаза — щелочками. Спокойно-угрюмое у него лицо, хотя и видно, что остался он таким же добродушным парнем, каким был раньше. Работает он в гастрономе, в мясном отделе.
— Ну и как, получается? — спрашиваю я. — Всё в порядке?
— Лицо не в порядке. Слишком сердитое. Покупатели боятся.
— Как же ты план выполняешь?
— Первое место в соревновании. Все продавцы целый день разговаривают друг с другом. Как родные. А с покупателями как с врагами. А мне не с кем в коллективе разговаривать: я мрачный. Поэтому все время торгую. Раз — на весы, раз — на весы. Директор говорит: улыбайся — и займешь первое место во всей республике.
Да, лицо у него не очень. Я думаю, прежде всего душа должна быть веселая. Тогда и лицо станет таким.
— Душа веселая, — сердито сообщает мне Хахаев. — В душе я часто улыбаюсь. Лицо подводит.
Хахаев видит, что я не очень верю насчет его души, и предлагает:
— Пойдем на вечеринку. Там индюка зарезали. Увидишь: как я войду, все друзья начнут смеяться.
— И надо мной тоже, — показываю я на свое лицо.
Я пытаюсь вспомнить, улыбался ли Хахаев раньше, когда мы учились? Не помню. Я даже про себя не могу вспомнить, больше я тогда смеялся или меньше?
Насчет слез все просто. У мужчин слезы почти полностью расходуются в детстве. Остается совсем немножко. Для исключительных случаев. Но смех — другое дело. Он не должен израсходоваться. Его нам природа отпускает на всю жизнь. Конечно, регулятор природа на всякий случай ставит. У Буки регулятор — любовь и смерть. А у Хахаева? Может быть, его регулятор когда-то повернулся на отметку «стоп» и там нечаянно заклинился? Я думаю, это очень опасная поломка. Тут могла бы помочь только наука.
Вот она и наука, легка на помине! В дверь постучали. Вошел, затачивая нож об нож, человек в коротком ситцевом переднике. Лет тридцати на вид. Это был Цирценис, я узнал его не столько по лицу, сколько по какой-то странной танцующей походке и необыкновенной вежливости. Он потанцевал возле порога, представился: «Я — сосед Хаматхана, научный работник Цирценис», извинился, что он в таком виде, еще раз извинился, что доставит мне беспокойство: ему нужно заглянуть на одну секунду в поваренную книгу Хаматхана, в раздел «гуляш».
— Знаете, сидел я, размышлял кое о чем и вдруг вспомнил, что не обедал сегодня. И я, знаете ли, подумал: почему бы не приготовить гуляш?
Мне тоже захотелось козырнуть вежливостью, я сам нашел раздел «гуляш» и стал читать вслух:
— «Мясо нарезается на…»
— Простите, что? Мясо? Ах, мя-ясо… Да, да, да, — поднял Цирценис тонкие брови вверх и прикусил нижнюю губу. — У меня только цыпленок.
Хахаев полез в карман и вытащил пакет, положил перед Цирценисом:
— С базара. Незамороженное. Следующий!
— Простите, что? Кто следующий? — вздрогнул Цирценис.
— Следующий пр-р-родукт!
— Это мой друг Хахаев, он работник прилавка, — объяснил я.
Мы разобрались с гуляшом. Лук тоже оказался у Хахаева. Нашелся у него и перец горошком. Брать деньги у Цирцениса он отказался.
Хахаев очень понравился Цирценису.
— Знаете, Шамо, ваш друг замечательно добродушный человек! Мне кажется, у него несколько… э-э… опечаленное лицо. Буду рад, если это без особенно серьезных причин, а если требуется моя помощь…
— У него улыбка не получается! — объяснил я.
Цирценис махнул рукой:
— Улыбку мы ему сейчас поставим, это несложно. Понимаете, у него зафиксировалась мимика агрессии и одновременно произошла атрофия лицевых мускулов, управляющих функцией улыбки. Это характерная профессиональная дисгармония, вызываемая работой в сфере обслуживания. Скажите-ка, Хахаев, «сыр».
— Сыр.
— Простите, я забыл предупредить: по-английски.
— А как будет по-английски? — покраснел Хахаев.
— Чииз. Чииз! Ну, несколько раз подряд. Прошу… Великолепно! Видите, Шамо? Улыбка. Ежедневно сто раз слово «чииз» — это из методики английских школ, — и у Хахаева восстановится автоматика лицевых мускулов, Он начнет улыбаться даже… э-э… покупателям. Я не боюсь брать все ценное из зарубежного опыта. Если, конечно, это нам идеологически подходит.
— Сыр подходит, — согласился я. — А автоматическая улыбка?
— Понимаю вас. Вы несомненно правы: базой нашей, советской улыбки должно быть гармоническое развитие личности, оптимистическое мироощущение субъекта и…
— «Субъекта»? — обиделся Хахаев и встал.
— Сядь! — приказал я ему: мне интересно было слушать Цирцениса, он говорит очень красивыми словами.
— Э-э… На чем я остановился? Так вот. Несмотря на важность базиса, о котором вы совершенно справедливо сказали, Шамо, я смею утверждать, что при работе с дефективным индивидуумом…
— Хахаев, сядь, — сказал я опять.
— …мы не вправе игнорировать роль автоматизма привычек, основанного… э-э… на учении великого Павлова о значении условных рефлексов, а также…
— У-у, — обиделся окончательно Хахаев. — Павлов — это собачки?!
У Хахаева стало такое глупое, оскорбленное лицо, что я с трудом удержался от смеха. И это меня очень порадовало: значит, со смехом у меня пока все в порядке.
Сказать вам честно, я не очень поверил, что можно так просто сделать мрачного человека веселым, это я имею в виду Хахаева. И все же я был рад знакомству с Цирценисом. Он немножко странный, как и мой родственник Хаматхан. Это ничего. Может быть, все ученые должны быть такими.
Цирценис все знает, вот я в чем убедился. Отвечает на любой вопрос. Даже связанный с производством. Например, я устроил ему маленький незаметный экзамен. Я сказал, что на нашем заводе есть хорошие кадры и первоклассная техника. И спросил:
— Нужна ли, кроме этого, и техника общения?
— Непременно! — ответил он сразу. — Даже при мелких психических травмах снижается производительность труда!
— На сколько процентов? — быстро спросил я.
— На шесть тире семнадцать процентов, — сразу ответил он.
В самую точку попал Цирценис. Уж я-то знаю все это по собственному опыту.
— Знаете, Шамо, я подам своему руководителю товарищу Ярцевой мысль, чтобы мы побывали на вашем заводе, — обрадовался Цирценис. — Мы рассчитываем развернуть первую в стране лабораторию по комплексному изучению проблем общения. Такое изучение, по существу, только начинается. Литературы — почти никакой.
— Вот почитать бы… — помечтал я вслух.
Цирценис поколебался и сказал:
— Хорошо, я дам вам две книжечки. Итак, когда будет готов гуляш, позвольте мне пригласить вас и вашего друга.
— Жениться надо, — выступил Хахаев. — Всегда будет гуляш.
— Да! Да! Вы совершенно правы. Позвольте быть откровенным: сегодня я встретил в скверике совершенно очаровательное создание, Шамо! Я увидел в этой девушке или… э-э… даме какую-то первозданную степную силу. И духовную чистоту!
Он прижал оба кулака к кадыку и замер с запрокинутой головой.
Дав ему так постоять, я признался:
— Я тоже увидел сегодня одну девушку…
— Чем же кончилась ваша романтическая история, если не секрет?
— Мне сказали: «Топай».
— А мне несколько наоборот: «Пройдемте».
— В загс? — прикинулся я незнающим.
— Увы, нет. Но, впрочем, в родственную организацию.
Мне делается грустно от слов «родственная организация», куда я должен завтра явиться с паспортом. И тут же мне становится смешно от того, что у меня появилось столько родственного с человеком, которого я утром совсем не знал: с Цирценисом. И у него и у меня в один и тот же день возникло то, что мы могли бы назвать любовью: у него — к рыжей, у меня — к Кейпе. И у обоих у нас кончилось дело в родственной организации: у одного и того же сержанта Деликасова.
Я с удовольствием согласился пойти вместе с Хахаевым есть гуляш у Цирцениса, с которым так нежданно свела меня судьба.
Он очень любит людей, этот Цирценис. Понимаете, он за весь вечер ничего злого не сказал о людях. То есть он говорил о плохом очень много. Он говорил о том, что люди часто отравляют и даже губят друг друга хамством, тем, что не умеют или не желают проявить внимание друг к другу, понять, кто чего хочет.
Все это Цирценис говорил довольно-таки сердито. Но, понимаете, он не злится. А жалеет.
Я тоже не злюсь, а жалею.
Еще вот какое я совпадение у нас заметил. Цирценис сказал, что он никогда так много не ел, как сейчас. Он не может понять, в чем дело.
Значит, ученые тоже не всё знают?! Вот чудак! Это же от любви. Я-то это уже прошел днем, пообедал. А у Цирцениса только настал момент.
После гуляша, когда я и Хахаев вернулись к себе, он доказал, что знает жизнь.
— Бумажка на тебя из милиции на завод не пойдет? — спросил Хахаев и тут же сам ответил на этот вопрос: — Не пойдет. Езжай спокойно. В милицию завтра сходит Шалва Гогоберидзе, мой друг. Он преподаватель физвоспитания, турист. Я — твой друг, он — мой друг, а все остальные люди в городе его лучшие друзья.
— И сержант Деликасов?
— Первый друг. Ты такой человек, который зря ни на кого не полезет. Сержант поверит нам, что ты такой.
— Скажи, у тебя уже получается? — спросил я.
— Чи-и-из… Чи-и-из… Нет, это не улыбка. Чувствую. Надо спросить у Хаматхана: Цирценис нормальный или нет?
Я надел кепку, чтобы проводить Хахаева. Он долго-долго смотрел на мою кепку. На его лице появилось что-то вроде улыбки.
— Получается, — обнадежил я Хахаева.
А у меня лицо в эту минуту было, наверное, такое, какое оно обычно бывает у Хахаева.
Проводив Хахаева, я вернулся. Вот тут-то у меня и началось… Мне вдруг стало так страшно, словно я оказался один на всей земле. Мне до конца жизни будет страшно без Кейпы.
Мне казалось, что я больше и вспоминать эту девушку не захочу. А теперь я знаю, что без нее не смогу.
«Жил ведь до сих пор?» — успокаивал я себя. Мне было непонятно, почему не смогу жить дальше. Оттого, что непонятно, мне стало еще страшнее. Знаете, так бывает в горах: утреннее солнце согреет облака, они поднимутся по склонам к небу, и тебе откроется, что ты стоял на самом краешке бездонной пропасти. Сразу замирает сердце…
Никогда, ни одному человеку я не скажу об этой девушке. Цирценису я чуть не сказал. Но это было в ту минуту, когда я еще не понимал, что такое любовь.
За стеной, подумал я, вот так же сидит сейчас в своей комнате Цирценис. Среди книг, в которых написано про все. Но ему тоже, наверное, одиноко и непонятно. Жутко и сладко, как мне. Если верить Буке, он тоже сегодня влюбился, и его любовь тоже безответная.
ЛЕГКО БЫТЬ ПЛОХИМ, ТРУДНО БЫТЬ ХОРОШИМ
Я лежу у Хаматхана, думаю о всякой всячине, припоминаю то, что было и чего не было. Лишь бы не пускать в голову мысли о Кейпе, как будто это возможно. Задремал, проснулся, опять задремал.
Не знаю, сколько времени прошло, хлопнула входная дверь, послышались голоса: Бука что-то весело говорит дедушке. Значит, купил он ей наконец теленка! Это же надо, живут под одной крышей, а Бука впервые сказала слово старику, впервые за три года!
Я слышу, как в комнату входит Марзи, и поспешно вскакиваю. Что-то со стариком неладное. Не заболел ли?
— Голова кружится… В ушах больно… — шепчет он. — Как я только вручил ей из рук в руки поводок теленка, так ее словно прорвало! Бедный мой сын, как он жил с ней…
— Где она?
— Ради бога, не трогай ее. Дай мне немножко передохнуть от нее. Она сейчас в ванной, купает теленка.
— В ванне?! Марзи, Хаматхан предупреждал, что сосед…
— Сосед и разрешил ей. Это, оказывается, тот самый. Помнишь, которого я в скверике посчитал бандспособником?
— Цирценис. Знаю.
— Он самый. До чего же тесна земля… Ну покажи мне свои новые туфли.
Узнав, что я ничего не купил, дедушка с яростью хлопнул себя ладонями по коленям.
— Марзи, — поспешил я начать первым, — Марзи, ты не мог бы наконец понять, что я уже взрослый человек?!
Я давно, очень давно собирался сказать дедушке именно такие слова. Сейчас решился.
Я могу заткнуть за пояс любого из наших предков, о которых он мне все время твердит. Кто из этих предков (включая Марзи, добавляю я для себя мысленно) имел среднее образование, кончил ПТУ? Что они умели делать? Ковыряться в земле, скакать на лошадках, свежевать барашка быстрее, чем гость успеет сказать «салам алейкум»[4]. Ну, еще умели разделываться с недругом скорее, чем с барашком. Возле моего станка предок стоял бы с разинутым ртом…
В таком случае, почему каждый мой шаг должен быть запланирован предками?
Старик терпеливо сказал мне, что моей глупой голове недоступно понять обычаи и заветы предков. Кошка и та умнее меня: не сумев достать до сушившегося под потолком бараньего курдюка, она сказала, что у нее пост, и пошла своей дорогой. Иди и ты, Шамо, своей дорогой, делай вид, что тебе ничья мудрость не нужна. Но кем ты вырастешь? И разве имеет право он, Марзи, забывать дедовский завет: не скрутил обруч из прутика — не скрутишь из жерди.
Значит, я еще только прутик. И Марзи будет гнуть меня и гнуть в обруч. Уступлю раз, другой — так и пойдет. Сегодня утром я струсил, вернул поклажу Буке. И целый день чувствовал из-за этого стыд.
Нет, не из-за этого же я сейчас сорвался. Из-за чего-то другого. Столько ведь было обид, о которых я все собирался честно сказать дедушке. Столько было, что сразу и не вспомнишь.
— Да знаешь ли ты, Марзи, что я голодаю из-за этих двоих обычаев? В столовой как зайдет кто чуть постарше меня, я привстаю, говорю с горячей кашей во рту: «Сядешь с нами? Я уступлю тебе место». А потом иду к станку голодным, ноги дрожат…
— У других дрожат?
— Другие теперь только делают вид, что хотят привстать.
— Не старайся перещеголять других!
— У других нет дедушки, который сплетни собирает.
— Лицо покажи! Лицо не прячь! — закричал вдруг Марзи. — Жаль, что тебе и второй глаз не подбили…
Он клянет всех моих предков до седьмого колена, но подробно останавливается на ближайшем: на моем отце.
— Этот беспутный человек тоже не упускал случая ввязаться в драку, — говорит Марзи. — Зато он никогда не притворялся тихоней. И с синяком ни разу домой не приходил!
Потом Марзи вдруг спрашивает, все ли деньги, выданные мне на покупку туфель, я успел растратить.
— И не собирался, — пожал я плечами, достал три червонца.
— И не собирался?! Ах ты, чтоб тебе сгореть синим огнем!.. Значит, шел в ресторан пить за чужой счет? Порядочный человек не сядет там, спрятав деньги в кулак!
— О ресторанах тебе лучше знать, Марзи, — говорю я, вспомнив рассказы бабушки Маржан о молодости дедушки.
— Ты у нас по ресторанам, конечно, не ходишь? Запомни: врет только трусливый. Разве не ты куролесил в ресторане? Ты и еще два таких же бездельника. Знай, мальчик: по нашим старинным обычаям…
— Собирать сплетни — вот твои старинные обычаи, Марзи…
— Не перебивай старшего, поросенок! Обижаешься? Наши предки говаривали, что осел, которого обозвали ослом, в пропасть от обиды кинулся. Ты лучше расскажи, как ты поступил с Джамботом? Как ты лишил его хорошей должности? Думаешь, я и этого не знаю? Родичи Джамбота приходили ко мне чуть ли не месть нам объявлять из-за тебя. Я их, конечно, выпроводил так, что за ними и собаки не смогли бы угнаться. Но разве могу я забыть, что прадед этого самого Джамбота когда-то услужил твоему прадеду? Пустяковая была услуга, Джамбот, по молодости, наверное, и не помнит о ней. А ты какой «услугой» ответил?
— Промолчать, когда этот грубиян обижал ни за что работниц, — это и есть круговая порука, Марзи. Воруют — молчим, потому что родственники. Обижают людей — молчим, потому что когда-то и нам услугу оказали. Чему же ты меня учишь? Сам ведь ты не такой.
— Умный мулла говорил в одной притче: «Никогда не делай то, что я делаю. Делай то, что говорю», — объясняет дедушка.
Марзи не мулла. Но он обязан говорить. Учить меня. После сегодняшнего умного разговора с Цирценисом я начинаю понимать, кто такой Марзи. Он не просто родственник. Он носитель и передатчик нравственной информации, как любой человек старшего возраста. А я, приемщик этой информации, должен ее старательно просеивать. Отделять шелуху.
Так я с этим ситом и стою перед Марзи. Объясняю ему, что теперь другая жизнь и другие законы. Тем более на заводе. Я говорю все это так, что сам наш комсорг Хасан заслушался бы. Мне недостает сейчас только трибуны и графина с водой.
Вдруг я спохватываюсь, задумавшись, почему это я именно сегодня взбунтовался, да еще так сильно? Вот из-за чего: из-за кепки. Ее на меня напялил Марзи. А она погубила мне сегодня мою любовь.
Обида на Кейпу снова у меня в сердце. И стыд перед Марзи. Такой стыд, что я говорю от души:
— Дедушка, ты же знаешь, как я тебя люблю.
Он вдруг заплакал…
— Что с тобой, дедушка! — кидаюсь я к нему.
— Да, Шамо, и время теперь другое. И люди другие. Мы, старики, сами немножко запутались и не знаем, чего от вас хотим. Я-то хочу одно: чтобы ты был хорошим человеком, Шамо. Не бойся!
— Чего не бояться?
— Наши предки говорили: легко быть плохим, трудно быть хорошим. Не бойся, когда тебе трудно, Шамо!
— Не надо из-за меня плакать, дедушка!
— Это я от стыда перед нашими предками, Шамо. Перед твоей матерью, которая спросит: «Почему ты, Марзи, плохо воспитал нашего Шамо?»
Старик тронулся? Довел я его? Меня пробирает дрожь.
Я говорю, стараясь улыбаться:
— Дедушка, ты ведь сам хоронил мою мать…
Он отирает ладонью слезу и строго произносит по-русски, показав куда-то вверх:
— Там ее встречайт буду. Райский район!
Я не знаю толком, что называет Цирценис нравственной информацией. Но слова дедушки «Не бойся, когда тебе трудно, Шамо!» я запомню на всю жизнь.
ЧАСТЬ II
НА НАШИХ ЦЕХОВЫХ „УЛИЦАХ“
Я чуть не проспал смену. До сих пор не могу научиться спать в общежитии. У нас есть тут ребята, хорошие ребята, которые никогда не поймут, что думать о спящих — обязанность человека. Они могут горланить ночью. Я таких никогда не могу уважать. Только жаль, что я не смогу им это сказать. Они начнут смеяться.
Чуть не проспал я в это утро еще потому, что видел слишком много людей во сне. Почти весь наш цех видел, Кейпу видел. Но лицо ее я не смог разглядеть. И Хахаева видел, и дедушку Марзи.
Мать тоже была в моих снах живая, покинутая моим отцом. Она говорит мне: «Поспи еще, сынок, поспи, а мне пора в поле, совхозную картошку сажать. А ты спи, набирайся сил, на твои плечи еще многое ляжет».
Я проснулся под утро на миг, услышал за стеной грустную-грустную мелодию гармошки и сразу уснул опять, но за этот миг одиночество успело войти в меня. Оно вошло в меня вместе со звуками гармошки, на которой чуть свет заиграла горбунья Губати.
Засыпая опять, я жалел, что не успел захлопнуть дверь перед одиночеством, и тут же сообразил, что одиночество было со мной всю ночь и гармошка ни при чем. Потому что неспроста собирается слишком много людей в твой сон. Это значит, что ты в такие дни очень одинок. Бывали у меня такие сны и раньше, но столько людей за одну ночь я не видел.
Я поспал еще часа два, спал бы и дальше, если бы меня не разбудил мой сосед по комнате Баши́р.
— Сколько можно спать! — говорит он торопливо и тянет меня за ногу.
Никто в общежитии не спит больше, чем он сам. Его жизнь состоит из работы, сидения над учебниками и сна. Он хороший слесарь, любит что-нибудь придумывать. Он заочник техникума, и ему приходится очень много заниматься. Поэтому он научился хорошо спать. В любой обстановке, при любом шуме. А просыпается безошибочно в нужную минуту. Я бы умер от такой жизни. Да разве это жизнь?
Однако этот молчаливый парень с широким лицом, приплюснутым носом и коренастой фигурой считает, что как раз моя жизнь — не жизнь. Не учиться в те часы, когда ты свободен от станка, — это все равно что спать. Так считает Башир. Оправдываться перед ним я не обязан. Хоть Башир и постарше меня, но он тоже вряд ли стал бы затевать заочную учебу, если бы ждал призыва в армию.
— Может быть, не пойдешь на завод сегодня? — спрашивает Башир, брезгливо глядя на мой синяк.
Нет, я пойду. После двух выходных меня всегда особенно тянет в цех. Я скучаю без своей работы, без ребят, которые окружают меня в цехе. От того, что я их сейчас увижу, мое одиночество не исчезнет, это я знаю. Но будет немножко легче.
А синяк, он меня мало беспокоит. Неприятно, что будут глазеть. Лишь бы с расспросами не приставали. Неприличным считается у нас лезть не в свои дела.
Я успеваю в цех за четверть часа до начала смены. Люблю приходить сюда еще раньше, а сегодня проспал.
В цехе утром очень тихо, чисто и свежо. Впрочем, до цеха мне пока далеко, надо пройти почти весь пролет. Он тянется сколько хватает глаз, а наш цех в самом конце. Сначала идет территория инструментального цеха, потом механического, а наш ремонтно-механический замыкает. И между ними ни стен, ни складских железных коробок, только легкие невысокие сетки с широкими проходами. Мне это нравится. Такой простор, все знакомые лица у тебя на виду, ты целый день вместе со всеми. На заводе мне лучше, чем в ауле или моей деревне.
Еще до ПТУ я часто ездил с дедушкой или отцом на совхозную кукурузу. Завезут тебя за тридевять земель, на дальнее поле, и почти целый день не видишь людей во время сева или прополки. В дни уборки, конечно, повеселее, особенно на току, но это же ненадолго. Вернемся домой — за плетнями сидим, у каждого там своя жизнь.
А здесь, на заводе, жизнь открытая и в цехе и в поселке: ведь между домами нет заборов. Общий двор, как в новых кварталах Грозного.
В нашем бескрайнем корпусе есть, правда, отдельные «дворы». Справа и слева от нашего трехцехового пролета, за стенами, работают сборщицы, литейщики, термисты, кузнецы, упаковщики. Все они могут ходить только через наш пролет. Для этого им отделены сетками от станочных участков широкие проходы-улицы вдоль стен пролета. Людные это «улицы». Сборщица ли хорошенькая спешит к себе на участок с редукторами в руках или начальник главка из Москвы идет со свитой — мы видим краем глаза их, а они обязательно поглядывают поверх сеток ограды, как возимся у своих рабочих мест мы, станочники.
Я иду к своему станку. Знаю, что там полный порядок: мы со сменщиком никогда не подводим друг друга, не оставляем рабочее место неприбранным. А все же чужой порядок не совсем такой, как тебе по душе. Как бы ловко ни повязал мне Башир галстук на шее, я все же поправлю своей рукой. Он говорит: не трогай, хорошо лежит узел, а мне все же надо хоть чуть рукой тронуть. Так и на рабочем месте, до всего надо своей рукой коснуться, все ощутить прежде, чем запустить станок.
Да и не я один такой. Вон Иван Дмитриевич у своего станка. Он всегда рано приходит. Сильный, жилистый, хмурый, как всегда, склонил седеющую голову к станине.
Неслышно возятся у своих станков, у шкафчиков с инструментом и другие. Слышно только, как гремит своим совком, шуршит метелкой Нани. Мало кто знает ее имя, все зовут ее Нани — мать. Только Иван Дмитриевич зовет на свой лад — Няня.
— Доброе утро, Нани, — говорю я ей. — Как твои дела? Как там твоя дочь на фабрике?
— Долго тебе жить. Ей еще одну грамоту недавно дали. Не такую, на которой много флажков. А с Лениным. Эта почетнее считается. На фабрике умеют уважать людей, а у нас на заводе разучились.
Эту ее песенку я уже слышал не раз, но пусть расскажет опять, если ей от этого легче.
— Ты вот поздоровался со мной, мальчик. Сказал доброе слово. А мне как маслом по сердцу. Видит аллах, веселее работать буду. В начальники выйдешь — не перестанешь здороваться? Есть такие! А ведь Нани из тех, кто этот завод создавал. Ты еще в альчики играл, а я уже первую плавку алюминия для корпусов наших сверлилок варила. Тогда меня в президиумы выбирали, всем приезжим показывали: «Вот она, наша Нани!»
Эх, Нани, Нани, отстала ты от жизни. Никаких ты плавок не делала, а просто подносила к тиглю чушки металла. Правда, рассказывают, была день и ночь в цехе вместе с теми, кто целый месяц добивался, чтобы корпуса сверлилок отливались без раковин. Тогда женщин здесь почти не было. Вот тебя и сажали в президиум. А теперь ровно половина рабочих на заводе — женщины. Есть среди них такие, что мужчинам не уступят у фрезерного или сверлильного станка. Почему же ты, Нани, не обучилась тогда профессии? Не ходила бы сейчас с совочком по цехам, а была бы станочницей, сидела в президиуме.
Я смотрю на Нани. Какой она все-таки еще молодец. Ей же много лет, а глаза такие блестящие. Шелковая косынка, да повязана не так, как у деревенских пожилых женщин — под подбородком, а по-молодому, на затылке. Мне кажется, что в ее сверкающих глазах всегда улыбка, как бы Нани ни ругалась. А ругается она здорово. Может загнуть и по-ингушски и по-русски такое, что даже мужчины смущаются.
С Нани разговаривают осторожно. Она может так повернуть разговор, что не сумеешь ответить. А я этого не боюсь. Иван Дмитриевич тоже говорит с ней как хочет. Нани идет от меня к нему:
— Иван, ты плохой человек. Браку стало много, а ты тоже молчишь.
— Не сбивай ты меня, я расчет выверяю… — бормочет токарь и поворачивается к ней раздраженно: — Что тебе, Няня? Принесешь мне побольше эмульсии.
— Перегревается станок? Принесу, тебе все принесу. Не успеваю таскать детали на переделку, Иван! Лежат в ОТК, контролер пишет бумажки. Лежат, пока Нани не прибежит, не вырвет у контролера, чтобы тащить на переделку.
— Мои детали, что ли? «Молчишь»!.. Говори и ты на собрании.
— Скажу, Иван. И про тебя скажу, как ты говоришь: «Мои детали, что ли?» Надо молодым устраивать экзамен каждые два месяца, чтобы не было брака. Вот как надо, Иван. Ты это лучше скажешь, чем Нани. Если ты хороший человек, молчать не будешь, Иван.
— Хорошо, иди. Ты у нас хорошая: с самого утра ты со всеми ругаться начинаешь. И как тебе не надоест, Няня?
Она уходит, продолжая что-то говорить сама себе. По проходу мимо нее спешит нормировщик Шабазгире́й с папкой под мышкой. Я облокачиваюсь на ограду, останавливаю Шабазгирея и спрашиваю его:
— Скажи, почему ты не поздоровался с Нани?
— А? Да я и не заметил ее. Постой, а какое тебе дело? Я же не спрашиваю, почему ты сегодня такой красивый!
— Она любит, когда ей доброе слово скажут. Только поэтому я тебя и спросил.
— А ты у нас что, заведующий добрыми словами? Слушай, некогда мне с тобой. Уффой, один такой человек, как ты, может настроение на всю смену испортить… Отстань ты от меня!
Хотел бы я посмотреть, как Цирценис наладит свою «технику общения» вот с такими. Или со мной, который пристал к человеку и нанес ему психическую травму своим глупым замечанием.
Началась смена. На разные голоса заговорили станки. Подкинули нам шуму соседние помещения. Нате, если вам мало своего! Оттуда доносится глухой стук механического молота, а сборочный цех заливается голосами сверлилок, там идет испытание на стенде. Спешат по проходам мимо наших станочных участков те, кто опоздал. Прошел Замир, улыбаясь то одному, то другому. И каждый раз слегка приподнимает руку. Приветствует. Насчет здороваться он специалист. Мне тоже улыбнулся как ни в чем не бывало, кивнул.
«Улицы» быстро опустели. Но я знаю, что это ненадолго. Сейчас начнется хождение! Иногда можно подумать, что только мы, станочники, и работаем. Да и мы, сказать правду, немало шляемся по цеху, а то и по всему корпусу. То наряд тебе не дали с самого утра, то заготовки кончились, то к мастеру, то за инструментом, то расчет уточнить у заказчика из соседнего цеха. А бывает, и без дела. У меня-то чаще всего прогулка одна, если есть свободная минута: иду на термический участок, к Алиму-Горе, покурить.
— Кто тебя разукрасил? — спрашивает Гора потихоньку.
— За дело, — уклоняюсь я от ответа.
Алим не расспрашивает. Знает: сам расскажу, если надо. А может, обиделся.
Здесь, у термистов, больших новостей сегодня нет. У них своя маленькая новость: хотят термический участок сделать самостоятельным. Сейчас он числится при механическом цехе, который на правах хозяина сует свои детали на термическую обработку без всякой очереди. Пусть участок будет ничейным! Термистам-то все равно, но они заранее переживают, что к ним, четверым работягам, прибавится пятый, которому нечего делать будет: начальник. Должен же быть у каждой самостоятельной службы начальник? И начальником сюда рвется, говорят, Замир!
Из-за термической печи в наш закуток заглядывает Сафарби́, начальник моего ремонтно-механического. Он кабардинец, ему лет тридцать пять; а раз он такой старый, мы все почтительно встаем перед ним. Кроме кузнеца Магомета, которому все сорок.
— Ты что здесь собрал митинг, Алим-Гора? — спрашивает Сафарби хмуро. — Будет конец этим вашим хабарам?
Алим-Гора утирает вспотевший лоб рукавицей, улыбается:
— Моя печь работает, мой котел кипит. А что тут делают твои лодыри, меня не касается.
Сафарби оглядывает всех нас, ищет глазами своих. Смотрит на меня, замечает мой синяк и недовольно говорит:
— Самый смирный в цехе — и тот с синяком! Смотри мне, Шамо, если натворил что-нибудь такое… Цех без месячной премии хочешь оставить?
Алим-Гора успокаивает его:
— Да что ты, Сафарби! Ты же знаешь, какой человек Шамо.
— Теперь-то знаю! Ладно, Гора. Лишь бы ты не приложил руку в отместку за своего друга. Разбирайтесь сами со своими босяцкими делами. Шамо, пойдем, ты жаловался, что тебе скучные наряды дают. Сейчас получишь кое-что другое. Заготовки тебя уже ждут. А может, сюда тебе их принести? Станка тут, правда, нет, но можно и языками обточить детали. Верно, Мути?
ЧЕРВОНЕЦ ДО ПОЛУЧКИ
Задание мне и в самом деле мастер приготовил нескучное. Я такую штуку еще никогда не вытачивал. Тем-то и хороша работа в ремонтно-механическом цехе, что тут ты все время делаешь что-то новое. В соседнем — механическом — цехе ребята шпарят сериями, вытачивает человек одно и то же и день, и два, и неделю. И как им не приедается такая работа? А нам, ремонтникам, чуть не при каждом заказе по-новому приходится соображать. Так и сейчас: я сделаю новый расчет обработки металла.
Кое-что мне непонятно, я спрашиваю Ивана Дмитриевича. Он достает из кармана свою заветную книжечку. В этой кожаной записной книжечке у него готовые собственные расчеты, наверное, на все типовые детали. В руки он мне никогда ее не дает. Говорит: «От готового мало проку. Научись сам быстро соображать, что к чему. Тогда и такая книжечка будет нелишняя, чтобы каждый раз напрасно не мудрить заново».
Иван Дмитриевич подсказывает мне то, что потребовалось, и спрашивает недовольно:
— А все остальное тебе уже ясно?
— А что тут неясного? Рассчитаю, перепроверю, переналажу станок. А потом уж решать будет резец…
— Резцу-то все равно, что и как точить, — хмыкает Иван Дмитриевич. — Резец, он не обязан об экономии материала думать…
Оказывается, старый токарь глянул на мои заготовки лишь краешком глаза и уже определил, что почти четверть металла пойдет в стружку. Я бы тоже над этим задумался, но когда? Тогда, когда дело дошло бы до резца и над душой стоял бы мастер и подгонял: давай-давай, заказчики ждут.
— Верни ему заготовки, — показывает мне Иван Дмитриевич на мастера. — Они пригодятся на что-нибудь другое, а тебе пусть дадут подходящий исходный материал.
— Ты что его с толку сбиваешь? — оглядывается мастер. — Когда же это успеют ему новые заготовки сделать?
— А вот пусть и делает тот, кто так наколбасил, — советует Иван Дмитриевич.
— Мы же не серию запускаем, — сердится мастер. — Потеря будет пустяковая.
— К потерям с пустяков и начинают привыкать, — говорит Иван Дмитриевич. — Пусть Шамо привыкает, если хочет…
— Будешь делать? — спрашивает меня в упор мастер. — Или хочешь заказ сорвать?
— Иван Дмитриевич правильно говорит, — отвечаю я, хоть мне и жаль мастера.
— У-ии! — удивленно восклицает мастер, ругается и по-русски и по-ингушски. — Верно твердят, что тихие люди — самые упрямые. Черт бы вас обоих побрал! Тащи, Шамо, все назад, на заготовительный участок. Но попробуй мне после обеда отлучиться на секунду для перекура! Забудешь, где родился на свет.
Ивану Дмитриевичу, наверное, лет пятьдесят. Он и на фронте побывал, я видел в душевой шрамы на его теле. Как-то само собой получилось, что он стал на заводе моим первым наставником. Сначала он, помню, и внимания на меня не обращал. Спрошу что-нибудь — отвечает скупо. «Платили бы ему за меня, числился бы я официально его учеником — был бы он со мной другим», — подумал я однажды. Не так все это оказалось. Он сначала приглядывался ко мне. Думал, я из тех, кому лишь бы перекантоваться возле станка до ухода в армию. «Не люблю я, когда пэтэушников за ручку водят, привораживают к делу пряником, — говорил он мне потом. — Хочет парень — пусть сам тянется, настойчивость проявляет. С таким и повозиться не лень. В общем, плохой из меня педагог. Токарь, говорят, неплохой. Наблюдай, может, и переймешь что полезнее».
Никак не мог я поверить, что он тоже кончал ПТУ, только называлось это не ПТУ, а ФЗО. Школа ФЗО. «Что, слишком я старый для фезеушника? — смеялся Иван Дмитриевич. — Рабочее училище — марка у нас с тобой хорошая, Шамо. Главный ученый космонавтики Королев кончал профтехшколу, Юрий Гагарин был учеником ФЗУ».
Как-то чудно он стал нам земляком. Когда построили наш завод, прислали его издалека на месяц для наладки оборудования. А он остался насовсем, перевез сюда семью. Живет здесь уже лет шесть, а скоро… скоро, может быть, уедет. У его единственной сестры случилась беда: умер муж, сама тяжело болеет, дети еще маленькие. Иван Дмитриевич хотел привезти ее сюда, но она со своей Сибирью не хочет расстаться, да и нельзя ей климат менять. Иван Дмитриевич часто посылает сестре деньги, а теперь надумал жить рядом с ней, в Сибири. Всем в цехе известна его история. А у нас, у горцев, очень уважают людей, которые не забывают родства.
Меня он все время натаскивает на своем полуавтоматическом станке. Мне это интересно, только думаю — зачем нужно? Я так и так уйду в армию, Иван Дмитриевич уедет, чего же нам тратить время? «Хоть вкус к другой технике почувствуешь, — сказал мне Иван Дмитриевич. — А не хочешь — валяй, крути свой драндулет». Ну, я и учусь.
Когда Иван Дмитриевич был в отпуске, даже скучно сделалось без такой учебы. Я стал похаживать в свободные от своего станка минуты в соседний цех, учиться там. Такой же полуавтомат, рядом с нами; руку через сетку протянешь — и коснуться станины можно. Работают на нем посменно Гиха́ и Сидор. Неразлучные дружки. Мне всегда нравилось смотреть через «границу», как толково идет дело и у того и у другого. Станок как игрушка, даже на слух знаешь, что он налажен лучше некуда. Оба эти токаря и минутки не теряют зря. Никогда не увидишь, чтобы они суетились по цеху в поисках инструмента, у них всегда свой полный набор.
Не понравилось им, что я возле них кручусь: начали коситься на меня так, будто я не границу цеха перешел, а государственную границу. Мне даже показалось, что они шкафчик с инструментами запирают, когда меня видят. Спросишь что-нибудь непонятное, они сквозь зубы цедят, словно боятся военную тайну выболтать. «Два сапога пара», — говорит о них Иван Дмитриевич. И правда, оба они чем-то похожи друг на друга. Скуластые, невысокие ростом, губы стиснуты, глаза смотрят исподлобья, будто караулят, не свистнул ли тут кто чего из имущества. «Это же куркули, жмоты, — говорит Иван Дмитриевич. — За рубль удавятся на одной веревочке. Ты понаблюдай за доской показателей: никогда ведь не дадут меньше ста процентов выработки и никогда — больше ста пяти».
Думаете, они за премией не гонятся? Нет, они дальше смотрят. Могут они оба давать шутя и по сто двадцать процентов, но тогда рано или поздно будут повышены нормы… Учить кого-нибудь другого им не хочется потому, что сейчас они оба почти незаменимые, начальник цеха на любые поблажки для них готов. Один уйдет в отпуск или заболеет, другой требует, чтобы сменщика ему не давали. Сам вкалывает по полторы-две смены, иногда до пятисот рублей в месяц выбить может.
— Как ты можешь так вкалывать? — спросил я однажды Сидора.
— Калории.
— Какие калории?
— Жрать надо побольше, — объяснил он мне задумчиво, — вот тебе и вся школа передового опыта. На жратву мы оба не скупимся.
Я не могу смотреть, как едят Гиха и Сидор. В столовой стараюсь рядом с ними не садиться, но они же и в цехе все время что-нибудь жуют. Без отрыва от станка. Сидор глазеет пустыми глазами через сетку в наш цех и наворачивает свиное сало. А у Гихи бывает такой же кусище жирного бараньего курдюка: он свинину не ест.
В обеденный перерыв Иван Дмитриевич просит у меня червонец до получки. Я даю и зову его пообедать в столовой вместе.
— Спасибо, Шамо. У меня с собой бутылка кефира. Заправлюсь и поработаю в перерыв, меня мастер за это пораньше отпустит. На похороны хочу поспеть.
— Червонец для этого?
— Вроде бы и дикость у вас это — давать деньги семье умершего. У людей горе, а вы со своими рублями лезете. Непонятно мне это сперва было. А теперь я просто по-человечески: вижу, что семья в горе осталась да в нужде, — даю. Хоронят сегодня человека, с которым я не один год здесь на заводе работал, тебя тут еще и не было. Он три года проболел, ничего врачи не смогли сделать. Мы ему и из Грозного привозили одного доцента. Осталась у него жена да четверо детишек. Ну что жена… Красильщицей на трикотажной… Дай-ка сахар, я у тебя видел в шкафчике.
— И у Замира вы давали червонец, когда у него тетка умерла?
— Это который Замир? А, контролер ОТК? По соседству живем. И не подумал я давать! Чтобы я таким людям дал? Они же мое и твое мешками тащат!
— Замир, по-моему, не может таскать ничего с завода мешками, Иван Дмитриевич.
— Отец у него заведует совхозным зерноскладом за сто рублей, думаешь? Такую новую домину отгрохал, и в доме всего полно, под навесом «Волга»… Вот говорю тебе, а сам думаю: грех такое говорить. Ведь они со всеми на нашей улице по-соседски поступают, понимаешь. И со мной тоже. Беда у них случилась — позвали. У меня была беда — жену приступ хватанул, — так отец Замира сразу прислал его ко мне на машине, чтобы в больницу ехать. Только вот какая неувязка: назавтра этот отец разворует в совхозе побольше, чем вчера его соседка в поле вырастила.
Я не могу терпеть, если на человека напрасно говорят. Пусть даже на самого плохого. А про Замира я хочу знать полную правду. Я хочу знать, какого человека любит Кейпа, если любит.
— А вдруг это одни разговоры, Иван Дмитриевич? — допытываюсь я.
— А как ты думал? — удивляется он. — Конечно, это только одни разговоры. Не пойман — не вор.
Я отворачиваюсь, Иван Дмитриевич тянет меня за плечо.
— Зря в народе про такое говорить не станут, Шамо. Новый дом и машину на нашей улице имеет не один отец Замира. А говорят только на него. Я заметил у вас знаешь какую штуку? Кое-кто из вас любое может наплести на человека сгоряча или по злобе-вражде. Но насчет взяток и воровства даже самый завзятый сплетник не скажет на безвинного, а если и скажет, то отлетает, как грязь с колес арбы… Это значит, душа у народа неиспорченная.
— Одному вы понесете червонец, другому — нет. Никогда не знаешь, как поступать. Делать, как делают все?
— Все — это и ты, верно? — спросил Иван Дмитриевич, допил кефир, глянул на часы. — Нигде не записано, как человеку на каждом повороте поступать. Нет же таких приказов и инструкций. Спасибо тебе за деньги. На доброе дело мне не жалко. А чтобы мой чумазый рубль рядом с ворованными червонцами лежал, такое мне не нравится… Позови Замира, и при нем скажу.
К Ивану Дмитриевичу звать Замира мне незачем. Мне он самому нужен. Мне хочется знать, есть ли у меня такое чувство, как ревность, и что это такое.
Увидеть Замира в обеденный перерыв можно, скорее всего, в нашем заводском парке. Там всегда хорошее пиво.
Идти по поселку в обеденный перерыв не скучно. Народу — как в Грозном. Девушки с трикотажной косяками к нам специально приходят. Кто на базарчик, кто за газетами к киоску. А скорее всего, потому, что у них на фабрике парней — раз-два и обчелся.
Наряды на девушках один краше другого. Думаете, девушки специально для такой прогулки переодеваются в цехе? Нет, они и работают в своих нарядах. Вышибить из них эту привычку никто не может. Наши заводские девчонки тоже всегда приезжают на работу ничего себе, но уж не в лучших нарядах, потому что у нас на производстве все-таки кругом металл и масло. А у трикотажниц в цехах чисто как в больнице. Им толкуют, что в дорогой одежде снижается производительность труда, скованы движения. Нет, они едут на фабрику словно в театр.
И теперь у них сплошные смотрины пошли. Из аула на фабрику и обратно домой на автобусе вместе со всеми. В цехе и в заводском поселке — все время на людях. Есть где себя показать.
Нам, ребятам, тоже приходится из-за них напяливать не что попало, а одежду понаряднее. Комбинезона у нас ни на ком не увидишь. Наверное, ни один завод в стране не экономит так на спецодежде, как наш.
СЕГОДНЯ КАЗБЕК В ТУЧАХ
По пути в парк, где наш единственный пивной ларек, я всегда вижу на углу заводского стадиона остроплечую, лохматую, босоногую девчонку с очень большими черными глазами. Ее зовут Ма́кка. Чья она, даже не знаю. Она пасет овечек, играет с друзьями на клочке асфальта. Трава рядом выбита прохожими, а ведь немного подальше, за ручейком, самый корм для овец.
— Почему там не пасешь? — ругаю я ее каждый раз.
Она знает мое имя, но когда я ее ругаю, то называет меня «молодой человек». Как взрослая. Хитрая девчонка!
— А разве мне нельзя немножко поиграть, молодой человек? Видишь, тут асфальт… — Она шмыгает носом, смотрит на меня своими глазищами с такой виноватой, почтительной улыбкой, что мне только и остается улыбаться ей в ответ.
Парк у нас — только что название «парк». Молодые фруктовые деревья и тополя бегут вверх к каналу, аллеи между ними так заросли травой, что и не разглядишь их. Сидят вдали под яблоней, на траве, старики в черкесках и папахах, явно не заводские. Что-то свое обсуждают.
Пивной ларек торчит среди бурьяна, облеплен пустыми ящиками. Тут продают и мороженое. Продавец Шульц — в белой куртке, цветастом галстуке. Его рыжие полубачки́ кучерявятся как после завивки. Длинные стиляжные волосы в нашем городке никак не положено иметь, а насчет бакенбардов забыли договориться. И продавец завел их себе первыми, за что его и прозвали Шульц. На иностранца он похож, но никакой он не немец, а ингуш.
Так и есть, Замир тут как тут. Облокотился на прилавок, потягивает пиво.
Здороваемся как ни в чем не бывало, похваливаем пиво, пьем. Сбоку ларька примостились на ящичке трое пэтэушников, поспешно пьют пиво из одной кружки, глотают по очереди. Замир лениво ругает их за бесстыдство, они заискивают, называют его, двадцатитрехлетнего, «воти́» — «отец», «папаша», хотя и видно, что ни капельки не боятся. Лишь бы кто постарше не увидел с пивом.
— Еще раз замечу вас здесь, носы вам пообрываю! — обещает Замир.
— Мы понемножку, воти! По глоточку на каждого. Хочешь, рыбки дадим? Сами наловили, повялили. На, попробуй. И ты, Шамо.
О том, что было вчера в Грозном, заговаривает сам Замир. У меня бы язык не повернулся говорить, потому что Замир выглядел во всей этой истории не так уж здорово.
— Хорошо вчера все обошлось, — говорит он негромко, чтобы не слышал Шульц. — Могли там нас с тобой застукать, по заводу пошли бы всякие хабары.
«Нас с тобой»… Тебя-то не за что было», — думаю я. Это он со мной как бы уговаривается, что надо обо всем помалкивать. А я и не умею трепаться о таких вещах. Не об этом мне сейчас хотелось бы говорить. Опустив глаза и разглядывая пузырьки пены в кружке, я жду, не скажет ли Замир что-нибудь о Кейпе. Может быть, она ему просто родственница? Кто бы она ни была, я должен ее найти, увидеть.
— Хорошую рыбку ловят эти негодяйчики. — И Замир старательно грызет ребрышки; зубы у него белоснежные, крупные.
— Кто был тот бородатый, с шахматами? — спрашиваю я.
Замир запивает рыбу пивом, отвечает, пристально глядя мне в глаза с улыбкой:
— Давай вообще забудем вчерашний день. Обошлось — и точка. Разве не так?
Точка. Какое тебе дело до Кейпы, Шамо. Не лезь, все это не для тебя.
Подошла технолог Таня. Ингушских девушек здесь никогда не увидишь, а русские приходят за мороженым для себя и для подружек-ингушек. Таня зажала стаканчики между ладошками и вдруг ахнула: потекло ей на кофточку. Растерялась, не знает, что делать, все пальцы заняты, на одном мизинце зонтик болтается, на другом — сумочка…
Замир быстро выхватил из кармана хрустящий платок, накинул его Тане на грудь, высвободил ей руки: «Вытирай». И откуда он такой платок белоснежный выволок? Только что у него был другой, такой же помятый, как у меня. Два платка при себе носит, что ли? Замир скомандовал Шульцу, чтобы он дал побольше бумаги. Завернул стаканчики с мороженым и приказал пэтэушникам:
— Эй, кто там из вас помоложе… Помоги-ка девушке донести…
— Эш-ша! Как ты ловко и красиво эту девушку выручил! — сказал Шульц, когда Таня ушла.
Ушел Замир тоже красиво, умереть можно от зависти! Он бросил на прилавок две трешки:
— Окажи мне услугу, Шульц, отнеси вон тем старикам — не знаю, кто они, — лимонаду и мороженого. А вот этим негодяйчикам из ПТУ взвесь килограмм-два орехов.
— Эш-ша… Всё сделаю. Тебе повторить, Шамо?
— Нет, Шульц. У меня трешка осталась до получки, — говорю я громко.
— Да что за счеты… Я тебе и так налью… Ну как хочешь…
— Пока, ребята, — сказал Замир и удалился.
Я пошел через парк в гору, к каналу. Иду и размышляю о том, что далеко мне до таких девушек, как Кейпа. Допустим, только допустим на минутку то, чего никогда не случится: ей надо выбирать между мной и Замиром. Допустим, ей все равно, что у Замира и дом, и на «Волге» он раскатывает, и кошелек набит, а я расписываюсь за свои полтораста. Разве она не увидит другой разницы между мной и Замиром? Он на заводе рядовой контролер, но все же заочник института, станет инженером. А я? Простой токарь. Невоспитанный, неотесанный бедняга, который от своего деревенского отвык, а городское еще не выучил.
Нет, не видно Казбека. Небо гладкое, синеватое, а гор не видно, будто никогда их и не было в той стороне. Обманул ты меня, Казбек, вчера. Когда ты весь на виду, у меня на сердце ясно и радостно. Так было вчера, когда мы с дедушкой и Букой отправлялись в Грозный. Почему же я и сейчас смотрю в сторону Казбека с надеждой? Нет, больше не обманешь меня, Казбек.
Не выяснил я, что такое ревность. Нет у меня даже зависти к этому Замиру.
На том месте, где должен быть Казбек, теперь большая туча. Там, наверное, сейчас начнется страшный дождь. А у нас в долине столько солнца!
КАК ДИРЕКТОР ЗАПОМИНАЕТ ВСЕ ИМЕНА
Прав был начальник цеха: интересная мне работа сегодня досталась. Только очень трудоемкая. Все время на минимальных допусках надо держаться. Даже о сигарете я после перерыва не вспомнил.
— Молодец, Шамо, — похвалил меня мастер. — Не рассчитывал я, что ты так быстро справишься. Иди покури, я пока тебя трогать не буду. Стой-ка, Шамо… Не тебя ли комсорг ищет? Наклонись, спрячь голову.
Цеховые начальники всегда боятся, что у них кого-нибудь заберут для выполнения комсомольского поручения. А мне с такими поручениями везет.
Я успеваю увидеть, что к нам на участок идет не комсорг цеха, а сам секретарь заводского комитета Хасан. Я засовываю голову в тумбочку с инструментом, усиленно ищу там сигареты и спички.
— Где он? — кричит Хасан мастеру. — Я же шел, видел его.
— Может быть, курить отправился? Я тоже его недавно видел.
— Да вот же он! Вылезай из тумбочки, Шамо. Смотри мне, мастер, как бы тебе в партком не отправиться. Его к директору вызывают, а вы тут в прятки со мной вздумали играть…
— Меня — к директору? — поднимаюсь я.
— Тебя, тебя. Жми, секретарша знает. Я тоже сейчас туда приду.
«Наверное, из Грозного позвонили директору, из милиции…» — мелькает у меня в голове. Я хватаю Хасана за руку:
— Не знаешь, зачем?
— Директор скажет. Ты мне свой профиль не показывай, Шамо! Ты всегда нос от поручений воротишь. Директор с тобой шутить не собирается, понял?
Хасан вырывается и убегает. Ничего я не понял! Не будет же мне сам директор поручение давать? «Директор шутить не собирается!» — вот это я понял.
Я перебираю в голове все свои грехи. Профиль я Хасану показывал только потому, что он с этой стороны у меня нормальный. Носа от поручений я никогда не воротил. А вот у Хасана одна привычка есть. Прежде чем что-то поручить, он обязательно меня отчитывает. Наверное, чтобы я не вздумал отказаться. И каждый раз добавляет, что у меня нет постоянной комсомольской нагрузки. Сейчас у директора и это всплывет, и то, что я не учусь заочно и что у меня нет ни одного рацпредложения. В таких случаях всё собирают. Ясно ведь, зачем меня вызывают. У Хахаева и его друга Шалвы ничего с сержантом, наверное, не получилось.
На «улице» нашего пролета меня останавливает Алим-Гора:
— Куда мчишься?
— Потом расскажу…
— Чего ты целый день какой-то взъерошенный? На людей кидаться вдруг стал. Зачем обидел из-за этой Нани бедного Шабазгирея? Он как раз вежливый и услужливый парень…
— Встать, суд идет! — говорю я Алиму. — Старики учат, комсорг учит, а теперь и ты…
— Считай, что я тебе ничего не говорил, — отворачивается Гора и уходит.
В приемной директора девушка-секретарь, какая-то новенькая, прошуршала на стуле юбками и приподнялась ровно на столько миллиметров, сколько нужно для того, чтобы я догадался: привстала по-горски из уважения к моему мужскому званию. Пригласила сесть. Я сел и стал ждать, поглядывая на высокую дверь, обитую кожей. Золотом на черном стекле: «Директор». Вот и его голос. Я вскочил и стал озираться, но голос звучал на столе у секретарши, по динамику: «Из ремонтно-механического пришел товарищ? Пусть заходит».
Я вошел и поздоровался. Директор ответил и показал рукой в сторону бокового длинного стола. Там я и сел.
На другой стороне этого огромного кабинета сидит женщина из нашего завкома и человек из райкома или райисполкома, не знаю. По-моему, фамилия его Газзаев, он в нашем районе лекциями заведует или чем-то таким. Во всяком случае, не милицией. Я слушал один раз его лекцию о пережитках. Очень он крутой разговор тогда вел.
Вбежал длинный Хасан, поправляя сбившийся набок галстук:
— Коменданта нашел, он на крыше главного корпуса проверяет заливку. Сейчас придет.
— А наш герой?
— Герой уже идет.
— Ладно, нам пока нужен комендант. Подождем. Значит, герой — не я! А может быть, всех таких сегодня решили собрать?
Конечно, так и есть. Потому что директор протягивает Газзаеву папку и говорит:
— На, полистай пока приказы дирекции. Увидишь, мы не прощаем ни одного случая хулиганства, самовольства, нарушения дисциплины. Ни одного. А Хасан тебе прокомментирует, если что неясно. Нарушители в основном по его линии: молодежь.
Профсоюзной женщине директор дает новый номер какого-то журнала, а мне приносит и кладет передо мной тоже папку:
— Тебе интересно, Шамо, знать, какие рекламации поступают на наши сверлилки? Много еще у нас брака, справедливо на нас жалуются потребители. А вы, комсомольцы, мало пока жмете на качество…
Всем дело дал, чтобы не скучали. И разговаривает со мной так, словно я никакой не нарушитель. Ну, это давно всем известно, что директор у нас вежливый.
Интересно, чем он займется сам? Он жмет на кнопку, говорит вошедшей секретарше:
— На прием женщина из сборочного записывалась. Пришла? Пусть зайдет.
Входит женщина, я ее не знаю. Девушек я всех в сборочном знаю, а пожилых как запомнишь? Эта даже сверхпожилая. Еще лет пять — и начнет носить платье-макси, как у моей бабушки Маржан: до пят, по-старушечьи.
Директор встает, здоровается, предлагает сесть, опускается в свое кресло. Она продолжает стоять перед мужчиной и начинает свой разговор, как у наших женщин водится, издалека.
Я краешком глаза замечаю удивительную картину: директор совсем не слушает эту женщину! Только разочек поднял от своих бумаг глаза и сказал женщине сурово:
— Я же просил: садись.
Та продолжает свое стоя, потом вдруг умолкла, потопталась и произнесла с горькой обидой:
— Извини, ты, я вижу, занят своими большими делами, тебе не до меня…
Газзаев тоже наблюдает за этой картиной: брови недовольно сдвинул и вот-вот отчитает директора. Но женщина сама заступилась за себя. Она полуприсела на низенькое кресло, чтобы лучше видеть наклоненное над бумагами лицо директора, и выдала ему:
— Зря люди считают тебя уважительным. Мои глаза видят: испортился! Да кто ты такой есть, если вдуматься? Человек — и всё!
— Села? — улыбнулся вдруг директор, а улыбка у него такая, что всем на душе делается как-то весело и свободно. — Вот теперь и поговорим.
— Иппа́ли! — вырвался у женщины возглас удивления, она растерянно всплеснула руками и оглянулась на нас.
— Слушай, Фари́за… Я не ошибаюсь, тебя ведь Фариза зовут? Я замечал, как ты на сборке старательно работаешь. Скажи, почему ты, пожилая женщина, должна стоять передо мной, если я тебе чуть не в сыновья гожусь? Да дело и не в возрасте. Ведь ты живешь достойнее любого мужчины на заводе: быстрее девушек выучилась профессии, пятерых детей без мужа на ноги подняла…
— Ради аллаха, извини, если я тебя сейчас огорчила. Но ведь обычай…
— Обычай-то я нарушил: расселся перед пожилой женщиной, — засмеялся директор. — Только не вздумай плакать! Насчет слез у вас быстро получается, лишь в одном этом женщины хуже мужчин. Давай заявление, я понял, что тебе требуется. Вот тут на уголочке я пишу черным по белому: «Разрешаю». Ну давай еще добавим: «Сделать срочно».
Когда она была уже в дверях, директор встал, подошел к ней и сказал:
— У меня к тебе просьба, Фариза…
— Поняла я тебя, поняла. Много в наших обычаях лишнего. Самим иногда смешно, да смелости не хватает отказаться, все друг на друга поглядываем.
— Я о другом. Больше всего браку из-за вашего сборочного. Девчонок приучайте к серьезности! Очень уж они спешат на сборке, торопятся заработать на лишнюю косынку. А к вам, старшим, они все же привыкли прислушиваться, так ведь у нас в народе? Ну, иди, а то задержал я тебя…
Сами понимаете, я никогда директором не буду. Тогда непонятно, почему я наблюдаю за ним с таким интересом?
Я просто хотел бы быть похожим на него. Он высокий, рост больше чем сто восемьдесят. Очень стройный парень, даже не скажешь — мужчина. Парень. Такой он молодой на вид. Говорят, имел первый разряд по плаванию. Плечи широкие, крепкая шея, красивое лицо. Не такое, правда, о котором говорят «кавказское». Нос прямой, лицо удлиненное, глаза, может быт, и не голубые, но мне кажутся голубыми. А волосы черные. Он мог бы играть героев в любом американском фильме. Болтали как-то в цехе, что в него по уши влюбилась одна санитарная врачиха из района. Приезжая. А ему некогда было замечать это, он с ней вежливо разговаривает, и всё. У него и своя жена такая красавица, что только поискать. Тогда эта врачиха стала почти каждую неделю присылать нашему директору официальные бумаги. Откроешь конверт — там акт: за обнаруженное антисанитарное состояние на таком-то участке завода или поселка взыскать в бесспорном порядке с директора завода десять рублей в виде штрафа. Директор прочитает и пишет на уголочке: «Бух. Перечислить сумму штрафа в госбанк в счет моей зарплаты. Коменданту — выговор за антисанитарию». Через неделю опять бумага, опять червонец гони, а то и два. Директор без звука подписывает, Джамботу снова выговор.
Так и тянулось, пока Джамбот не доконал врачиху жалобами в Грозный. От Джамбота она и сбежала из района. А может, от своей любви. На заводе и в поселке было в то время очень чисто.
Конечно, все это могли и выдумать у нас. Шутников хватает.
Я смотрю на кабинет. Прочитаю одну рекламацию, погляжу на что-нибудь. И читаю следующую. У директора на маленьком столике телефоны, диспетчерский пульт. Отсюда он проводит планерки. Сидит себе один и разговаривает со всеми заводскими начальниками. Весь завод слышит, потому что везде в цехах установлены динамики. Все, что есть на заводе, создал вот этот парень. Он первым пришел в свои двадцать шесть лет на пустующее кукурузное поле и начал строить завод, не испугался того, что нет в районе ни одного станочника. Наверное, вот это и можно назвать настоящим подвигом. А кем он был, наш нынешний директор? Таким же горским парнем, как и я. Из такой же деревни.
Я в этом кабинете второй раз в жизни. Первый раз был два года назад, когда нас — группу новичков — посвящали в рабочие. Тогда директор пожал мне руку. Разговора у меня с ним один на один никогда не было, а имя мое он все же помнит.
— Хорошо, что ты имя этой Фаризы знал, — говорит директору Газзаев. — Как ты запоминаешь имена всех рабочих?
— Очень просто: я их всех, чертей, люблю, всех наших заводских… — смеется директор, и нам всем делается весело.
САМОЗАХВАТЧИК
Входит потный комендант. Этот человек теперь на месте Джамбота. Небольшой пухлый человек с лысиной. Сразу видать, очень робкий, смирный человек. С Джамботом не сравнишь.
Директор объявляет:
— Товарищи, сейчас пойдете в семейное общежитие выселять самозахватчика.
Вот это я влетел! Это же гораздо хуже, чем если бы был звонок или письмо из грозненской милиции. Я и женщина из завкома будем помогать коменданту выселять самозахватчика. Бригада. Я в ней от комсомола.
Я слышу, директор произносит мое имя:
— …Парень он выдержанный, ненужной горячности там не проявит. Словом, действовать надо, товарищи, спокойно, но твердо. Вопросы есть?
Газзаев начинает о чем-то шептаться с директором, а Хасан подсаживается ко мне и испуганно шепчет:
— Ты зачем сюда с синяком притащился?! Сказать не мог, дурак, что у тебя дуля под глазом?
— А ты меня спросил? — шепчу я в ответ.
— Не лучше ли, если предупредим захватчика о выселении прямо здесь? — задает вопрос комендант и обтирает платком лысину.
— Для этого я его и приказал вызвать. Пусть заходит. Только вот что, комендант… Здесь-то, в директорском кабинете, мы все смелые… Говорят, у своих ворот и петух храбр. А там — вам действовать. Не мне. Надо, чтобы нарушитель понял: его товарищи, его коллектив не станут терпеть безобразие. Ясно?
Вот он, «герой». Странно, что я на перекуре в термическом не слышал об этой истории. А-а, шофер самосвала. Семейный, не из нашей компании, ему лет тридцать. Я и имени его не помню. Он вообще какой-то всегда замкнутый, никому не улыбнется.
— Садись, Юсуп, — сказал директор. — Мы не хотим, чтобы тобой занималась милиция. Решили выселить тебя сами.
Нет, так нельзя! Ни за что не пойду я выселять. Нельзя так, чтобы не поговорить с человеком сначала по-хорошему.
Тишина. Юсуп молчит, мнет в руках замасленную кепку.
— Товарищи, — говорит директор негромко, — я хочу, чтобы вы слишком уж плохо о Юсупе не думали. Более старательного и безотказного работника на нашем заводском транспорте я не знаю. Никогда ничего плохого за ним не водилось. Но от этого твой проступок не меньше, Юсуп. За ним у тебя ведь еще один грех потянулся.
— Какой? — вскидывает голову Юсуп.
— Ты мне пообещал, что потихоньку выселишься. Целый час я тебя убеждал, помнишь? Ты нарушил свое слово. Мы же мужчины, Юсуп. Где наша твердость?
Бедняга краснеет. До сих пор он сидел так: сжал челюсти, широко открыл глаза и смотрит в окно. Взгляд непреклонный, и, как бы это сказать, обреченность у него в глазах.
Помню, один старик рассказывал, что в старину горцы уже рождались с такими обреченными глазами. Мужчина еще лежит в люльке, а уже соображает, что погибнуть все равно придется, до старости не доживешь. Ведь тогда редко обходилось без схваток то ли с пришельцами, хотевшими силой захватить наши горы, то ли с кровниками. Вот и у Юсупа такие обреченные глаза. Настроился: не отступлю от своего.
А после слов директора о мужской чести чего-то в глазах Юсупа изменилось. Понимаете, слезы в глазах у него озерцами заблестели. Никто, кроме меня, этого, наверное, не видит, потому что все смотрят на Юсупа сбоку, а я один сижу как раз напротив Юсупа, хоть и через всю комнату. Он глазеет в окно, а мне все кажется, что на меня. И я вижу, что у него в глазах озерца. Чем так мучить человека, лучше бы идти выселять его. Там бы он хоть не плакал, а воевал с нами.
Директор сделал еще одну попытку:
— Признайся, жена тебя опять сбила с толку? Найди способ переубедить ее…
Я вижу, как Юсуп покраснел еще больше при слове «жена». Ему толкуют, что он получит квартиру в первом же новом коттедже, если перестанет самовольничать. А он молчит, как немой. Значит, у него принцип.
Так ни одного слова из этого человека и не вытянули. Уж как с ним бился директор! Я бы на месте директора давно выдохся.
Газзаев тоже постарался. По существу, он прочитал Юсупу небольшую такую лекцию о моральном облике, юридических правах и обязанностях советского молодого человека. В конце Газзаев протер платком свои нежные хрупкие очки без оправы, потом затряс большими белыми кулаками, на которых растут какие-то желтые длинные волосы, и добавил сердито кое-что о муллах и сектантах. Правда, я не понял, какое отношение они имеют к заводской квартире. Но их всегда можно помянуть при разговоре о плохом, отжившем. Ошибки не будет.
Потом Газзаев захотел, кажется, повести разговор о том, какие перед Юсупом задачи стоят на пути перевоспитания жены. Но как только Газзаев начал это, Юсуп решительно встал и сказал:
— Выселяйте, — и пошел себе к выходу, а у дверей уточнил: — Попробуйте выселить.
…Когда мы шли своей бригадой через поселок к семейному общежитию, комендант всю дорогу причитал:
— Вы слышали, как он сказал это свое: «Попробуйте выселить»? Ну и работенка у меня! На такой работе только Джамбота и надо было держать. Видели кулачищи этого Юсупа? Я-то, конечно, не их боюсь. Позора боюсь…
А я шел и думал о Марзи. Я так и представлял себе свой будущий разговор с ним. «Да как же ты, сын свиньи, опустился до того, чтобы руку на чужой очаг поднять? — слышался мне его голос. — Директор тебе приказал? Пусть сам директор и полез бы к чужому порогу, если он такой смелый…» — «Он смелый. Он не раз ходил раньше выселять таких, перед которыми даже сумасшедший Джамбот в страхе отступал…» — «Да знаешь ли ты, попасть бы тебе в ад, что никто не обязан простить нашей фамилии такую обиду, как нарушение очага? Директору простят, коменданту простят, даже человеку из завкома простят, потому что она женщина и к тому же начальство. Их всех звание обязывало, они службу выполняют. А ты кто такой?»
— Видите, вон там в кустах на бульваре мужчина с женщиной сидят? — приостановился комендант. — Усатый. А жена кормит сынишку мороженым. Это они и есть.
— Кто?
— Это тот котельщик-чеченец, для которого комнату держали. Машинист котельной. Сидят, улыбаются, а того не знают, что плакала их комната.
— Так давайте пока их заведем куда-нибудь к себе, — остановилась женщина из завкома. — Неудобно же гостей на улице держать…
— Они только что приехали, я уже звал их к себе. Отказались. Говорят, сначала умоемся в своей комнате с дороги, чемодан разложим…
— Знают они, что тут у нас заварилось? — спросил я коменданта.
— Что ты, мальчик! Да он тотчас бы назад укатил. Это мы тут позора своего не стыдимся… Я им наврал, что иду ордер оформлять для порядка. А ордер-то я еще вчера в дирекции оформил, вот он. Я поставил их вещички в заводоуправлении, а им сказал: подышите пока нашим воздухом, полюбуйтесь нашими горами…
Вот тут, пожалуй, меня впервые разобрало зло на Юсупа. Хвастаемся повсюду своим гостеприимством, а сами…
Да и о заводе этот Юсуп подумать бы мог, если уж директор так расписывал его честным работником. Сейчас самое страшное место у нас как раз котельная, кто этого не знает? С ней все время не ладится, нет опытного машиниста. Командует простой слесарь. А как заставили нас «подвесить» к котельной еще и трикотажную фабрику, так и пошли постоянные перебои с паром. Говорят, даже человека присылали из Грозного по этому поводу, чуть ли не инструктора обкома. Наверное, после этого и прибыл к нам этот котельщик.
Мне было все же непонятно, почему ему дают квартиру вне очереди. Я спросил об этом у коменданта.
Он остановился, гневно хлопнул ладонью о ладонь.
— У-ии! — воскликнул комендант удивленно, сплюнул. — Вижу, ты не умнее других, тогда почему же тебя послали с нами?
— Вот и плохо, что послали, а ничего не объяснили парню… — вмешалась женщина из завкома.
— Да я уже двадцатерым объяснял! — разозлился комендант. — Каждый встречный-поперечный спрашивает, язык устал отвечать. Молодец был Джамбот: цыкнет — и всё! А я распинаюсь перед вами. Ты слышал когда-нибудь, Шамо, что такое директорский фонд? У нас-то это одно название, но та комната, куда мы идем, из этого фонда, она и есть наш фонд. Сам директор вправе ею распоряжаться! Это раз. А во-вторых, неужели тебе непонятно, что если плохо будет работать котельная — плохо будет работать весь завод? Сорвем план. Пострадает заработок. Мой-то не пострадает, у меня ставка. Потеряешь ты. Потеряет в заработке тот же Юсуп, гори он синим огнем! Не понял? Тогда не хлопай глазами, а иди к этому усатому котельщику, помоги ему погрузиться на машину. Пусть возвращается к себе домой!
Комендант двинулся дальше, мы за ним. Он остановился, опять сплюнул и добавил тихим голосом, сокрушенно:
— Слушай, парень… Ведь кроме правил с этим директорским фондом, кроме интересов завода и прочего, есть еще одно: добрый обычай. Со времен предков велось так, что в ауле каждый держал у себя в доме постоянно наготове гостевую комнату. Сами домочадцы теснятся иногда где могут, а кунацкая комната только для гостя. Котельщик — тоже гость, пока не обживется на заводе. Думаешь, не вдалбливали мы это Юсупу? И директор. И я. Этот Юсуп совесть потерял и стыд! Ну, пошли…
…Юсуп вышел на стук. Оглядел всех троих внимательно и объявил нам, что он нас в гости не звал. Так и сказал:
— Я вам объявляю, что я вас в гости не звал.
А знаете, что это такое, если горец говорит «объявляю»? Это значит, что дальше — его право действовать.
Слова словами, можно и не обращать на них внимания, теперь многие любят громкие слова. Но уж если горец не сошел сразу с собственного порога при виде чужих, тут все ясно и без слов: считает их врагами.
Я успел заглянуть в комнату. Там жена Юсупа, молодая и красивая, с цыганским лицом. И ребенок. Вещей почти нет: раскладушка и несколько узлов.
Я отошел к урне выбросить недокуренную сигарету, а Юсуп шагнул ко мне и говорит вполголоса:
— Эти двое не посмеют полезть, а ты что-то свободно держишься, Шамо… Не будешь потом жалеть? Дружбы у нас с тобой не было, а вражду ты себе наживешь. Ну, пока!
— Ты что же, уходишь? — всполошился комендант. — Ты же хозяин!
— Я-то хозяин, а вот гостей не вижу, — засмеялся Юсуп. — Мне пора в гараж.
Я швырнул сигарету и пошел к комнате Юсупа. Мне уже было наплевать, удалился он или торчит в конце коридора, наблюдает.
Я переступил порог первым. Жена Юсупа стоит в центре комнаты, смотрит на меня с любопытством, на лице никакой паники, а даже что-то задорное в цыганских глазах. Малыш, пузатый такой и босой, держится за ее платье, покачивается на ножках. Уронил свою конфетку, а поднять не может. Чтобы поднять, надо отпустить подол платья матери.
Я поднял его конфетку и отдал ему. Он подумал-подумал и протянул конфетку мне. Даже отважился отцепиться от матери, чтобы протянуть. Сразу видно: гостеприимный мальчик. И никакой обреченности у него в глазах. Понимаете, полная уверенность в глазах: «Ты, Шамо, хороший человек. Дарю тебе все свое богатство!»
Нужна мне его обсосанная конфетка… Я смотрю на мать, а она смотрит с любопытством через мое плечо: что это там выделывает комендант? Тот покрикивает, да так громко и браво, чтобы подбодрить себя:
— Начнем вот с этих узлов! Соседи, чего это вы столпились там в дверях? Расходитесь, не мешайте. Видите? Ордер! Законно выписан на другого. Шамо, выноси раскладушку! Заснул, что ли?
Нет, я не заснул. Я замер на миг от хорошей мысли, которая мне в голову пришла.
Жена Юсупа кинулась вдруг мимо меня к коменданту и со словами «Мои вещи посмел тронуть?!» ка-а-ак влепит ему одну за другой две звонкие пощечины…
Люди в дверях только ахнули хором.
Комендант медленно воздел вверх свои короткие толстые руки и приложил ладони к пухлым щекам. Ну словно к мусульманской молитве приготовился. Глаза растерянные, будто вопрошают: «Это что было, а? Объясните скорее, что же это было?»
— Дай мне ордер, — сказал я коменданту, подтолкнул его к дверям. — И пойдем отсюда. Пусть они себе здесь остаются!
НА ЗЕМЛЕ Я СОБИРАЮСЬ ЖИТЬ, НА ЗЕМЛЕ. С ЛЮДЬМИ!
…Примчался я в свое общежитие. Сосед мой по комнате спит. Пришел со смены и залег, чтобы заниматься всю ночь, когда мы в общежитии утихомиримся. Я поднимаю его на ноги, пробую втолковать, что к чему. Однако Башир спит и на ногах, бубнит пошатываясь и не открывая глаз:
— Если ты меня разбудишь окончательно, Шамо, ты будешь иметь дело со мной…
Я думаю, нам с ним будет хорошо в моем деревенском домике. Мотаться на автобусе туда-сюда, конечно, не хочется, но читать свои учебники Башир сможет и в автобусе. А в нашей комнате пусть себе живет котельщик.
Я осторожно веду Башира по коридору, толкаюсь в одну дверь, другую. Закрыто. Наверное, все еще в столовой.
Я отвел Башира в красный уголок, уложил на диван. Пусть отоспится здесь.
Перенести туда же все наше имущество — дело простое. Тумбочки и кровати можно оставить в комнате.
Теперь сходить за котельщиком, помочь ему донести чемодан. И я помчался к скверику.
Навстречу мне попался комендант, спрашивает:
— Директора не видел? Говорят, он где-то здесь прошел. Ну, Шамо, долго тебе жить, накликал ты на свою голову! Этот человек из района, Газзаев, сказал про тебя: «Гнать его из комсомола и с завода!»
К нам подошел Юсуп. Смотреть мне в глаза избегает и спрашивает через силу:
— Где ты сам собираешься жить, Шамо?
На земле я собираюсь жить. На земле. С людьми! Только объяснять это такому человеку мне не хочется.
Я тут же пожалел, что ничего не ответил Юсупу: у него глаза стали озерцами, как тогда в кабинете у директора. От обиды или от стыда передо мной, что ли, не пойму.
Комендант подбоченился и обратился к Юсупу:
— Видно, ты не считаешь меня мужчиной, если после всего случившегося осмелился подойти ко мне…
— Постой-ка… — прервал его Юсуп, глядя на землю, будто что потерял. — Постой-ка… Сейчас.
Он вскинул голову, резким свистком остановил мчавшийся мимо грузовик и сказал шоферу:
— Развернись. Жми к моим в общежитие и подкинешь их к нашим родственникам. Скажешь моей дуре, что на сборы я ей даю десять минут. Часы при тебе? Проследишь: десять минут, ни секундой больше. Передай ой эти мои слова. Она в таких случаях грамотная. Жми.
Мне Юсуп сказал:
— Иди, Шамо, восстанавливай свое нарушенное жилье. А я — к тому чеченцу, надо же помочь ему с вещичками…
— Эй, мужчина! — окликнул его комендант. — Все ты уладил, еще одно не забудь: между мной и тобой кое-что встало. Объявляю это! Не знаю, как в твоем роду, а в моем никто еще не оставался неотомщенным! Слышал? Я говорю о двух пощечинах. Не об одной. О двух. У нас и одну-то не принято прощать, если ты не забыл…
— А что между мной и тобой было? — пожал Юсуп плечами и улыбается нахально.
— Как! А твоя жена?
— С ней и разбирайся…
— Я?! С женщиной?! С твоей сумасшедшей женой?!
— Люди говорят, что твоя не лучше. Некогда мне сейчас!
Если бы вы знали, как мне тяжело слышать этот их разговор!
Вам смешно, что пухлый комендант обращается с угрозами к Юсупу? Мне ничуть не смешно. Так у нас часто бывает: начинается со смешной, иногда совсем пустяковой истории, а кончается кровной местью. Видите, как Юсуп себя повел? Даже не желает слушать коменданта. Тот, конечно, может добиться своего по официальной линии, подать в суд, если не постесняется связываться с женщиной. Но родственники не дадут коменданту все это так просто «списать». Они захотят посчитаться с Юсупом по-своему. Иначе над комендантом и его родней люди будут смеяться всю жизнь. Всегда найдутся такие подлецы.
Как мне светло было на душе, когда в Юсупе проснулся человек. Я всех людей на свете готов был замечательными считать. А теперь затеется новая вражда… Неужели так всегда и будет, что рядом с добром немедленно вырастает зло?
…Я восстановил порядок в нашей комнате и пошел к гаражу. Должен я все-таки поговорить с Юсупом. Пусть подумает, как ему поступить, как успокоить коменданта.
Шоферня толпится, обсуждает последнее событие. Ребята гадают, как это Юсуп сделал такой крутой вираж, уступил комнату. Испугался? Он не из таких. Наверное, совесть проснулась. Все равно молодец Юсуп, что смог пересилить себя. А Шамо…
— Эй, Шамо, а ты не дурак, не полез ты обижать нашего человека — шофера!
Я отмалчиваюсь. Пусть себе ребята болтают, раз эта квартирная история благополучно кончилась. А вот насчет новой истории никто тут умного не может сказать, это я вижу. Толкуют вкось и вкривь. Когда случалось такое, чтобы горянка отвесила горцу оплеуху? По европейским понятиям, тут все нормально, а по нашим? Жаль, рядом ни одного старика, чтобы спросить. Когда не надо, они всегда рядом. Что, комендант обязан объявить месть Юсупу? Или непосредственной обидчице? Хорошо, хорошо, женщинам не мстят, а что коменданту тогда делать? Подать на обидчицу в суд или расписать ее в стенгазете? Тихо, тихо, вон идет Юсуп… Не трогайте вы его сейчас, он еще не остыл. Ему чуть свет в рейс, пусть повозится у своего самосвала, придет в себя. За работой всегда приходишь в себя.
Я смотрю, как похаживает Юсуп в стороне вокруг своей машины с монтировкой в руке.
— Тс-с-с… — шепчет кто-то. — Смотрите, кто сюда идет!
Оказывается, жена коменданта. Здоровая, крупная женщина. Статная. На нашу компанию едва глянула, подошла к Юсупу, сильные свои округлые руки в бока, головой покачивает и спрашивает громко:
— Это ты шофер заводского самосвала?
— Как видишь.
— Твое имя Юсуп?
— Ты прямо анкету на меня заполняешь!
— Это ты муж своей жены?
— Не твой же я. Что ты от меня хочешь?
— Не от тебя. А тебе!
Она быстро плюнула себе на обе ладони и нанесла Юсупу одну за другой две пощечины. Неторопливо отерла ладони о свои крутые бока и сказала:
— Я думаю, теперь наши фамилии в расчете. Расскажешь об этом своей жене!
Юсуп швырнул монтировку наземь и прижал ладони к щекам. Ну точно старик в начале молитвы! И глаза точно такие, отсутствующие, как у молящихся.
Я редко смеюсь, у меня все больше улыбка, а тут хохот меня душит. Ребята шикают с настороженными лицами, а я смеюсь, потому что комендант тоже точно вот так стоял, как на молитве, когда его жена Юсупа отшлепала.
Юсуп зло посмотрел в мою сторону и тоже рассмеялся, отняв ладони от лица.
— Смеешься?! — обиделась вдруг жена коменданта.
Юсуп поспешно попятился от нее, поднял монтировку и угрожающе сказал:
— Ну, ты! Полегче. У тебя же рука как лопата, чтоб тебе лопнуть!
Тут всех шоферов как прорвало, они прямо-таки застонали от смеха. А эта женщина рассердилась еще больше и прошла мимо нашей компании, презрительно сказав на ходу:
— Обрадовались, глупые головы! Вашего товарища бьют, а вы смеетесь. Тьфу! А еще шоферами считаетесь…
Юсуп растерянно потирает щеки, а нам весело, мы смотрим вслед женщине и любуемся ее плавной походкой.
ФАРФОР И СОЛОМА
…Потухает, кончается день. Вверху, где-то за рощей, за каналом, уже коснулось контура деревьев красное-красное солнце, его шар вот-вот начнет погружаться в зелень. Смотрю в другую сторону: окна наших корпусов объяты пожаром. Это так отражается в стеклах алое солнце.
Выше посмотришь, в самую даль, туда, где горы, а там тоже есть кусочек солнца. Высоко на небе розовеет что-то, лучи лежат там наверняка на чем-то твердом, а не на облаках. Я знаю на чем: на верхушке Казбека, который сам совсем сейчас и не виден. Он первым принимает чуть свет лучи и последним отпускает их.
Я делаю небольшой крюк, чтобы по пути к себе в общежитие повидать озеро при закате солнца и холмистое поле, которые раскинулись между нашим заводом и трикотажной фабрикой. Навстречу мне движется стадо гусей. Асфальтовая дорожка тут совсем узкая, на выходе из поселка к полю. Работницы тут тоже ходят всегда гуськом. Только они в своих нарядах цветастые, а гуси — серые, как асфальт, лишь животы у них белые, омытые в ручье. У гусака продето через клюв пушистое перо, чтобы не дрался, и он выглядит очень глупо.
Люблю я наш аккуратный, просторный заводской поселок с ровными рядами тополей. А все же мне тут чего-то не хватает. Особенно в такие предвечерние часы. Я знаю чего. Сейчас в моей деревне или в дедушкином ауле вьются вкусные дымки над домами. Возвращается с луга стадо, бредут барашки. Запахнет парным молоком. Бабушка Маржан сейчас, наверное, уже возится у очага, готовит что-нибудь вкусное, если дедушка сегодня ночует дома, а не на турбазе. И твердит бабушка жалобно: «Как там наш мальчик, голодный-холодный… У них же в заводской столовой каждый кусочек через весы пропускают!»
Ты права, бабушка. Хочется есть, но в столовую меня не тянет, даже если она еще не закрыта.
Я едва успеваю увернуться от трактора, который с грохотом сворачивает с поля на нашу заводскую улицу. Сразу видно, что тракторист провел день в борозде: лицо чумазое, в пыли, одни белки глаз сверкают. Сердитое лицо, человек на ходу кричит мне хриплым голосом:
— Где тут райком?
Я машу рукой, показываю. Райком переехал из центра городка сюда, в наш поселок, чем мы очень гордимся: теперь каждому будет ясно, что душа района — наш завод, ну и, конечно, трикотажная фабрика. А тракторист, наверное, примчался искать управу на тех, кто ему чего-то там в поле не обеспечивает. Сказал своему начальству: «До района дойду!» — и помчался сюда. У нас на заводе тоже по старой памяти говорят так: «район», хотя райком теперь в двух шагах от заводских корпусов.
Сидел бы я себе сейчас на рыбалке, варил с Алимом-Горой уху возле горной речки, если бы не наша размолвка. А может быть, только испортил бы Горе настроение. Не гожусь я сегодня в компанию.
Остается погулять возле озера. По его дамбе протянулось асфальтированное шоссе к парку. Белые столбики шоссе отражаются в быстро темнеющей воде. Даже дальние деревья отражаются, и красные корпуса трикотажки, и удилище одинокого рыбака. Где-то в стороне, в болотце, квакают лягушки, а над полем попискивает птичка. Наверное, загулялась, спешит на свой ночлег. Со стороны трикотажки доносится свисток сторожа, и слышно через открытые окна, как там часто-часто щелкает телефонный коммутатор — словно кто провел палкой по штакетнику.
Солнце уже село, оставило после себя на небе красную долину. Как у нас быстро темнеет и как все здорово слышно в такое время. Где-то далеко-далеко жужжит, как шмель, грузовик, — наверное, берет подъем. Железная дорога тоже довольно далеко отсюда, а мне кажется, что это рядом шуршит поезд, будто автомашина по асфальту. Но вот и перестук колес стал различим, теперь понятно, как далеко от меня пробегают рельсы.
Я возвращаюсь в поселок. Лампы дневного света на улицах уже зажглись, засветились и окна в жилых домах.
Со второго этажа меня окликают. Это свесился через подоконник Мути.
— Ты знаешь, что такое вареная баранина, хорошие большие куски баранины? — спрашивает он меня. — Ты знаешь, что такое кукурузные галушки? Ты знаешь, как макать мясо и галушки в острый чесночный соус и отправлять это по очереди в рот? Если знаешь — не пройдешь мимо!
У меня слюнки текут от такого разговора, но заходить неловко. Они, семейные, вечно зазывают к себе на огонек тех, кто живет «бездомно» — в общежитии.
— Мне-то ты и в цехе надоел за день, — говорит Мути. — Но отец тебя увидел и приказывает зайти.
Про отца он, наверное, придумал. Просто видит, какое у меня настроение в эти дни, и вот хочет развлечь.
Я захожу. Отец работает тоже у нас на заводе, он литейщик. Он только что поужинал и спешит перебраться в другую комнату, чтобы не мешать нам.
— Сиди, отец, мы с Шамо поедим и на кухне, — суетится Мути.
— Смотри мне, сынок! Знаю я, для чего тебе на кухню захотелось. Шамо не такой босяк, как ты. Найти бы мне хоть раз, где ты бутылочку прячешь, чтобы об твою дурную голову ее раскокать…
Мути сильно обижается, что о нем так плохо думают, открывает книгу и говорит отцу:
— Да лучше мы с Шамо голодными останемся! Будем читать.
Мать вступается за нас, выпроваживает мужа:
— Ты сыт? Дай и другим спокойно поесть. Молодые люди ничего веселого не видят в жизни с этим вашим заводом… Идемте, мальчики, на кухню.
Дымится на столе большая миска с галушками, вьется горячий пар над большими кусками баранины. У каждого из нас мисочка с толченым чесноком, залитым бульоном. Перчи и соли себе свой соус по вкусу, макай в него кусочки мяса и галушки — большие, плоские, на боках у них косые рубчики, следы от пальцев хозяйки. Хорошо запивать все это глоточками холодного вина, чтобы не так горело во рту от перца и чеснока.
Мути, поев, начинает приплясывать около стола, напевать танцевальную мелодию. Потихоньку, чтобы не слышал отец. Все это в такт пению, которое доносится до нас с поселковой площади.
Поют там мужские голоса. Сдержанный хор. И стремительный и печальный одновременно. Высокие ноты чередуются с низкими, басовитыми. В ритм хлопанью мужских ладоней, отбивающих такт лезгинки. Там, на площади, танцуют.
Хорошо у нас поют! Мне кажется, что любая наша песня звучит печально, даже если слова у нее самые веселые. Но начнут ритмично хлопать в ладоши, лихо вскрикивая изредка, чтобы подбодрить танцора, и самому нестерпимо хочется танцевать.
— Пойдем потанцуем? — предлагает Мути.
— Знаешь, давай лучше выпьем по чашке бульона. И я пойду читать.
— Да мне тоже скучно на пятачке. Какой интерес танцевать без девушек?
Мути бросает на меня быстрый взгляд, чтобы увидеть, какое у меня лицо при слове «девушек». О чем-то он догадывается, но виду не подает.
Я иду к себе мимо пятачка.
Да, наших девушек сюда не затащишь. Не положено им быть тут в вечернее время с парнями. Худая слава пойдет. А русские девочки стараются следовать примеру наших дурочек. Иногда появляется на пятачке горбунья Губати со своей гармошкой. Иногда приходят туда и русские девушки, но лезгинку они танцуют плохо.
Вы не поверите, да и никто на свете не поверит, но у нашего завода нет своего клуба! И у трикотажной фабрики нет. А Дом культуры от нас довольно далеко, в самом центре городка. Вечером автобус не ходит. Кто захочет туда тащиться? Разве только из-за кино…
Конечно, это удивительно, что мы сумели возвести такой завод и не построили клуб. Конечно, строят. Настоящий Дворец культуры строят. Не такой сарай, как в центре городка, а дворец. Но этот размах нас и подвел. Уже года два в парке торчат из земли бетонные опоры будущего нашего дворца. То ли денег нет, то ли строителей — не поймешь.
А я думаю, виноват наш директор. На заводе говорят, что он может добиться всего, чего захочет. Такой это человек. А строительства дворца он как следует не добивается потому, что его, может быть, подводит возраст. Все-таки тридцать три года — это слишком много, чтобы захотеть танцевать каждый вечер.
Говорят, он согласен был танцевать каждый вечер, когда начинал возводить завод. Я вам больше скажу, он тогда играл со строителями и первыми нашими рабочими в волейбол и футбол, играл знаете без чего? Без штанов, в трусах! Представляю, как староверы бесились… Взрослый мужчина в трусах, в центре поселка, на глазах у стариков и женщин. Причем это ведь не на соревнованиях, а так, обычная игра. Если соревнования, то старики ничего не имеют права сказать: закон — играть лишь в форме. При слове «закон» старики умолкают. Но просто так в трусах на площадку и сегодня не выскочишь, это только пэтэушникам простительно.
Удивительнее всего мне вот что. Директор смело вытворял такие вещи. Молодец! А репутация его не погибла. У нас ведь худая молва может за человеком тянуться знаете как! Всю жизнь. Пусть человек даже академиком станет, а про него смогут всегда припомнить: «Это не тот ли, что в молодости напился однажды и лежал возле забора?»
А есть такие вещи, вроде директорских трусов, иногда даже гораздо более важные «грехи», которые почему-то никто не вспоминает. В чем тут секрет, какие у репутации шестеренки ведущие, я не могу понять. Я вам говорил, что ходить без головного убора мужчине не положено. А почему директор ходит? И никто не бросает ему вслед упрека. Наоборот, возьмутся старики где-нибудь в ауле рассуждать о нашем директоре и приходят к такому приговору: «Видза́ ку́нах ва!» Это значит: «Полностью мужчина, настоящий мужчина!» А где же у него символ мужской чести — шапка?
Я сажусь под свет настольной лампы, раскрываю книги, которые мне дал почитать Цирценис. Сажусь я читать так же, как и Башир, то есть с тетрадкой для конспекта. Ему это непривычно, и он старается разглядеть, что за книги у меня. Мне же почему-то неловко, что я собрался читать книги о том, как человек должен себя вести. И для чего я их выпросил у Цирцениса? Вот эта, толстая, о психологии общения. Слишком она толстая.
Вторая выглядит повеселее. Тоненькая. С пестрой обложкой, название такое: «Вежливость на каждый день». Перевод с польского. На обложке нарисован придурковатый малый. Наклонил голову и, радостно чему-то улыбаясь, приподнимает шляпу. Пиджак на нем в клетку, галстук желтый-желтый с красным рисунком. Это все ничего, галстуки теперь носят любые. Но поглядите на его шляпу! Она тоже в черную клетку, но широкая лента вокруг шляпы такая: полоска желтая, полоска буро-красная. Так и чередуются. Мои родные цвета! Это же яично-морковная расцветка моей кепки…
Мне, конечно, приятно, что моя голова прикрыта по правилам науки. Однако так и хочется сказать этому парню, улыбающемуся с обложки: нет, брат, с такой расцветкой счастья тебе не видать. В книгах одно, а в жизни совсем, совсем другое.
В оглавлении этой второй книжечки я увидел строку «Знакомство». Вот это мне нужно. Тут я прочту, как познакомиться с Кейпой и не выглядеть смешным.
Нет, ничего полезного я в главе «Знакомство» не прочитал. Там были описаны все виды знакомства, кроме одного: с девушкой. Наверное, автор с такой задачей не сталкивался или решил ее давно. Так давно, что и не считает ее важной для кого-нибудь.
Я закрыл и эту книжку, начал зевать, вертеть карандаш.
— Что? — усмехнулся Башир. — Слабо́ тебе читать серьезную литературу? Да, это не то, что глотать беллетристику…
Он думает, что с карандашом в руках садятся только за серьезные книги.
Как видите, ничего особенно обидного Башир мне не сказал. Шутит. Подначивает, что я читаю только художественную литературу.
Я могу ему ответить сейчас так, что Башир не захочет больше шутить. Я могу ответить: «Особенно мне нравится пьеса «Коварский и любовь». И Башир сразу замолчит. Он когда-то при ребятах и девушках знаменитую пьесу «Коварство и любовь» назвал «Коварский и любовь». Он думал, что в этой пьесе есть такой герой — Коварский.
Очень стыдно стало бы Баширу, если бы я это напомнил. Но сегодня я не могу быть таким жестоким. И в дальнейшем, может быть, не захочу. Потому что я прочел минуту назад вот в этой книжке исключительно справедливые слова Гёте.
Это великий немецкий писатель. Гений человечества. Мне понравились приведенные в книжке его слова о вежливости. Знаете, чем он ее считает? Соломой! Отношения человека с человеком — это драгоценный фарфор. А вежливость — всего-навсего солома, в которую следует заворачивать фарфор, чтобы он не разбился.
— Хочешь, подвинь к себе лампу, — говорю я Баширу вежливо, чтобы фарфор наших отношений не разбился.
И представил я себе фарфор на нашем заводе. Черепки бы от него остались. Может быть, нам в нашей рабочей среде совершенно ни к чему фарфоровые отношения? Может быть, лучше, если они будут чугунные?
— Лампу?! — удивленно смотрит на меня Башир. — Нет-нет, подвинь к себе. Может быть, ты обиделся, когда я сказал о серьезных книгах? Я ведь просто пошутил, Шамо.
Так и шуршит у нас в комнате солома. Позвякивает фарфор. Хорошо на сердце.
Да, эти книжки Цирцениса могут человеку что-то полезное дать.
Я опять перелистываю страницы. Вот кусочек насчет Хахаева. Не о нем, конечно, а то, что его может касаться: «Подлинно культурный человек тот, кто не автоматически овладел навыками вежливости и учтивости, а для кого культура общения — естественная потребность, единственно возможная форма и норма поведения». Я согласен. Правильные слова пишет автор. Неужели сам Цирценис их не читал? Наверное, он немножко автоматик, если думает так легко перевоспитать моего друга Хахаева.
Была в маленькой книжечке еще одна вещь, единственная, которую и следовало бы мне выписать в тетрадку. И потом зубрить такие правила. Но как раз эту вещь мне и не захотелось выписать. Грустно мне стало, когда я прочел такое. Там сказано, что по-настоящему воспитанный мужчина всегда — понимаете, всегда! — имеет при себе не один носовой платок, а два. Один для своего носа, а второй «непорочный». Это на случай, если протереть свои очки или вытащить соринку из глаза девушки. Или — добавил я от себя к прочитанному — если девушка капнет себе на грудь мороженым…
И откуда Замир нахватался таких тонкостей? Нахвататься-то можно, но этого мало. Внутренняя культура нужна! Внутренняя привлекательность! Наверное, это и есть в Замире, если он нравится Кейпе… Не мог же он начитаться правил поведения и на одном этом выезжать. На одной лишь соломе…
Я захлопываю книжку. Никак у меня не получается с чтением с тех пор, как я увидел эту девушку. Книжки не отвлекают меня от мыслей о ней, а наоборот. Если в книжке про любовь, то я думаю о Кейпе. Если не про любовь, как вот в этих книгах Цирцениса, то я думаю: а почему тут не про любовь? И опять вспоминаю Кейпу.
Так нельзя. Я сойду с ума. Я еще ни разу не был сумасшедшим, но что-то ненормальное у меня начинается. И я должен принять срочные меры. Я поеду в субботу опять в Грозный. Я постараюсь снова увидеть эту девушку, а если не окажется ее в скверике и не встретится она мне на улицах, я все открою Хахаеву, он — своему верному другу Шалве, а тот поможет мне найти ее: у него в городе тысяча знакомых.
И за Хахаева мне надо как-то взяться. Нельзя, чтобы он оставался таким. Потому что мы с ним собираемся жить не где-нибудь в космосе. А на Земле. С людьми.
АБРЕК ШАИП НЕ ПОСКУПИЛСЯ
Абрек Шаи́п ворвался в поселочек глухого горного лесоучастка среди дня. Затеял вдвоем со своим напарником никчемную стрельбу — палил в воздух.
Все мужчины в лесу, на делянках. Один только и был в поселочке в этот час кассир. Он привез из района двухмесячную зарплату и сидел в конторе, готовил ведомость.
Налетчики осадили коней у конторы. Шаип свесился с седла и крикнул кассиру в окошко:
— Мне зайти или сам деньги вынесешь?
Кассир кинулся к двустволке, однако Шаип уже стоял рядом, похлопывал кассира по плечу.
— Ты что, рассердить меня решил? — спросил Шаип и поднял кассиру подбородок дулом нагана.
— Шаип, ради аллаха… Тут ведь двухмесячный заработок рабочих людей!
— Э-э, брось, я ведь не из их кармана беру. Государственные! Район возместит, не обидит рабочих.
— Район с меня взыщет! Не губи мою семью, Шаип…
— А ты вот чего сделай. Как мы отъедем с деньгами, пальни из обоих стволов в воздух. Все будут знать, что ты боролся за казну.
Бандиты ускакали. Кассир даже не прикоснулся к своей двустволке — так он растерялся.
Рабочие слышали стрельбу Шаипа, примчались с делянки. Был среди них и мой дедушка Марзи, тогда еще совсем молодой.
— А ведь тоже мужчиной зовешься… — глянул он на кассира, схватил его двустволку, проверил, чем она заряжена, вскочил на коня и полетел по таким тропам, где шею можно свернуть. Лишь бы успеть наперерез Шаипу.
…Вздыбив коня свечкой, Шаип спросил:
— Это что за храбрец нам путь преградил? Нам тут, пожалуй, не разминуться, а?
— Ты прав, Шаип: тропинка одна. Но почему ты решил, что уступлю я? — ответил Марзи.
Шаип потянулся за наганом. Но напарник что-то ему шепнул и достал из своих переметных сумок две пачки денег.
— Забирай, парень, свое, — кивнул Шаип головой на эти пачки. — Я не скупой.
— Не хочу.
— В этих пачках побольше, чем твой двухмесячный заработок!
— Нет. Я хочу по-другому.
— А-н, ты хочешь у нас всю кассу отобрать? — спросил Шаип, и оба бандита расхохотались.
— Я хочу только свое, рубль в рубль. И хочу получить там, где привык получать. А не из грязных бандитских рук! Вези деньги в контору.
Пуля нагана рассекла Марзи щеку, а тяжелый заряд двустволки пришелся Шаипу точно в самый лоб. Конь, испугавшись, умчал тело Шаипа.
Напарнику Шаипа Марзи посоветовал:
— Опусти-ка винтовку, у меня во втором стволе тоже ведь жакан, медведя запросто берет… Вот бестолковый! Кто о трупе твоего друга позаботится? Не я же. Ну, бросай на землю переметные сумки. Придется мне их самому в контору везти…
Старшие братья моего дедушки приехали из аула на лесоучасток и приказали Марзи:
— Собирайся, отец велел тебя переправить в чеченские горы к его друзьям. Потому что родичи Шаипа объявили нам кровную месть.
Марзи заартачился:
— Плевать мне на кровников, я от таких всегда отобьюсь. Вот от властей бы вывернуться, а то осудят за убийство…
Братья избили его до потери сознания, а Марзи выплюнул два зуба и заявил братьям:
— Передайте нашему отцу, что он может совсем отказаться от меня, но бегать по кустам я ни от кого не буду. Так и передайте, бандспособники!..
Эту историю рассказывает мне бабушка Маржан, рассказывает, лежа в постели на высоких белых подушках. Она внезапно заболела среди недели, и вот я примчался в аул на чужом мотоцикле сразу после смены.
— Вчера вечером, когда меня схватило, — говорит бабушка, — я подумала, что последний мой час пришел. А теперь вижу, еще пожить придется. Марзи прискакал с турбазы сам не свой. Чуть свет Бука принялась смеяться, и тогда я поняла, что смерть пробежала мимо меня. Полезай в погреб, Шамо. Бука понаготовила всего как на свадьбу. Поешь.
Готовить Бука умеет здорово. Я заставил весь стол едой и некоторое время сижу в растерянности, ничего не ем, потому что никак не соображу, с чего начать? С жареной индейки? С холодной вареной баранины? С чяпильгов — тончайших, как блины, пирогов, начиненных острым творогом? Наверное, лучше всего есть все сразу, откусывая по очереди то одно, то другое.
Такой пир у нас бывает не часто, и все равно я всегда удивляюсь, как мы здорово живем. Правда, у нас три зарплаты, но живем все-таки на три дома: аул, турбаза, завод. Наверное, здорово выручает нас то, что у дедушки из любого дела получается «бе́ркат» — добрая прибыль, благоденствие, не знаю, как сказать. Про него в ауле говорят «ка йол» — «удачливая у него рука». На турбазе он завел себе несколько овечек, во дворе у нас тоже хозяйство: корова, куры, индейки. Сено дедушка косит на горном склоне сам. А огородов даже два: в ауле и в моем материнском доме. Конечно, тяжелую работу на огородах не позволяют делать старикам ни я, ни Бука, ни многочисленные аслановские родственники. Когда соберем картофель, дедушка отвозит весь излишек в город на базар, там картошка из нашего района всегда нарасхват. Благодаря бабушке — русской женщине — у нас бывают такие соленья и варенья, что вся родня приходит лакомиться!
Иногда дедушка едет в лес, нарубит воз-два ивняка для плетней и продает. Из самых тонких прутьев бабушка плетет корзины для сбора совхозных початков кукурузы; ей за это платят.
Никто не удивляется, если Марзи пойдет на охоту и возвращается с тушей дикого козла.
Мне совестно, что два таких старых человека все время работают. Они сами не желают по-другому. Когда я об этом заговорю, Марзи обрывает меня: «Э-э, брось. Я-то работаю только для того, чтобы ты пример видел, не был бездельником. А кусок чурека и без этого нашелся бы».
Все, что я сберегу от зарплаты, я отдаю бабушке. Так поступает и Бука. Я никогда не знаю, что там делается в бабушкиной кассе, но думаю, что эти деньги тратятся только на меня и на Буку. В основном на нее, потому что ей надо рано или поздно замуж. Кое-что перепадает и мне.
Гордые старики в нашем доме! Родственники очень стараются им помочь, но приходится делать это осторожно, под разными предлогами, а то Марзи рассердится.
Все шло у стариков хорошо, а вот теперь — болезнь бабушки. Сейчас, кажется, все в порядке. На радостях я могу как следует поесть.
Бабушка, смотря на меня, сияет, поживее шевелится на подушках. Похоже, что силы у нее прибывают прямо на моих глазах, хотя ем-то я, а не она.
Во дворе цокот копыт. Это приехал на турбазовской лошади дедушка. Я не успеваю выскочить, чтобы подержать стремя, входит дедушка и с ходу начинает:
— Выскакивать во двор надо в тот же миг, как топот коня услышишь! А вдруг бы это гость въехал? Теперь уж сиди, жуй.
Бабушка с гордостью жалуется дедушке, что родичи идут и идут и тащат всякое, уже девать некуда: кто — мед, кто — индейку, кто — свежий творог, а молоко буйволиное принесли такое, что кинжал в него поставь — стоять будет. Каждый попроведал…
— Это мои родичи, из моей фамилии. А твои где? Вино пьют у себя на Тереке с утра до вечера?
— Аким сегодня приедет, вот увидишь. Такого брата поискать! Он всегда чует, когда со мной беда.
— «Чует»… — хмыкает Марзи. — А давно я что-то твое казачье племя не видел.
Бабушку наш Марзи украл в 1920 году из казачьей станицы на Тереке. В самый разгар гражданской войны в наших краях.
— «Казачье племя»… — повторяет бабушка слова Марзи. — Твое счастье, что не попался ты казакам, когда украл меня!
— Лежи, рано тебе вставать, — ворчит дедушка и осторожным тычком в плечо заваливает бабушку на место.
Он садится рядом с ней на низенькой скамеечке и начинает отделывать огромные, в размах рук, рога горного дикого барана — тура.
— Что, в подарок кому-нибудь готовишь? — спрашиваю я, потому что знаю: у дедушки множество самых неожиданных, удивительных знакомств и дружб и в нашем городке, и в Грозном, и в Осетии.
— Твоему Ивану Дмитриевичу подарок, — отвечает дедушка. — Ты же говорил, что он скоро уедет? Пусть помнит о наших горах, если он и вправду тебя чему-нибудь умному научил, хотя я этого пока и не замечаю.
— А у тебя ума много было в его годы? — спрашивает бабушка, и я вижу, что ее так и тянет сегодня на воспоминания; наверное, потому тянет, что она побывала вблизи «райского района», как называет Марзи «тот свет».
— Что, Марзи был в молодости не очень? — подхватываю я бабушкины слова, на всякий случай отодвигаясь от Марзи. — Как же ты за него согласилась выйти? Он же не связанную тебя похитил?
— Чистый хулиган он был, твой Марзи. Я его как увидела в первый раз на коне, загляделась. А он это тоже приметил. Они приезжали своим ингушским отрядом к нам в станицу, объединяться с нашими красными партизанами. Тогда Аким и напоил твоего дедушку. Напились они, джигитовку со стрельбой затеяли, пока командиры их обоих не повязали.
Бабушка рассказывает по-ингушски чисто-чисто, никто бы не сказал, что она русская. И платок повязан как у старых ингушек. Только лицо русское, казачье. Глаза голубые; не тронутые сединой волосы белесо-желтоватые, как сноп пшеницы в утреннюю росу; на щеках веснушки. Я думаю, она в молодости была статная и красивая, как та степная девушка, которая в Грозном, в скверике, кричала на Цирцениса «жулик». Бабушка знает и соблюдает все наши обычаи, даже те, которые и наши старухи позабыли. Если кто-нибудь произносит имя дедушкиного покойного отца, бабушка непременно привстает: это она так чтит нашего прадеда, наших предков, давших жизнь вот этой нынешней семье. Зато, если бабушка хочет делать что по-своему, спорить с ней не может даже Марзи. Вот вам опять пример. Женщина не имеет права произносить имя своего мужа. «Он», «хозяин нашего дома», «отец наших детей» — только так и по сей день женщина говорит о муже при людях. А бабушка всегда величает Марзи по имени, и он с этим бесстыдством давно смирился.
— Ты не досказала, как он тебя похитил, — прошу я.
Слышал я это раньше не раз, но тогда было неинтересно, а сейчас, когда есть на свете Кейпа… Мне хочется знать все о том, как зарождается между парнем и девушкой близость навеки. Не о самом похищении мне хочется сейчас услышать от бабушки, а о том первом миге, когда они поняли друг друга.
— Пушки в степи и горах еще гремят, беляки гоняются за нашими, наши — за беляками, а косить сено-то все равно надо? Я и копню себе сено в степи, озираюсь со страху по сторонам. Вылетает из дальнего оврага на своем коне Марзи, спешился — и ко мне. Я как увидела его глаза, так вилы наперевес и говорю ему: «Распорю тебе живот до самых газырей». И не побоялась бы! Марзи идет на меня — страшнее некуда. У них тогда самый шик считался, если мужчина «при пяти видах оружия»: кинжал, шашка, винтовка, наган да еще и маузер болтается. А мне хоть десять видов! Казачку оружием не напугаешь. Вилы у меня двурогие, деревянные, крепче кости дерево, рога у вил блестят. Поострее, чем вот рога этого тура. А Марзи идет прямо на вилы, руками разводит: «Матрена, мне на твоих вилах умереть или броситься сейчас одному на деникинскую батарею — все равно: без тебя жить не смогу!» Смеется и лезет прямо на вилы. А в глазах у него такое, что я и застеснялась…
— Скажи, скажи, как дальше было! — требует Марзи. — Дальше самое главное было…
— Дальше чего было? Дальше ничего и не было. Схватил он меня, вскинул на своего вороного, и понеслись по степи…
— Нет, скажи, а что до этого было? Шамо уже большой, чего тебе его стесняться.
— Хулиган ты был и остался. Чего было? Я застеснялась и говорю ему шепотом: «Аким-то ведь пулемет собирал, когда я со двора уходила. Не боишься?»
— А до этих слов ты отбросила вилы и кинулась мне на шею. Это было или нет?
Вот как это у них происходило… Я вижу, что им обоим дорого вспоминать именно это, а не то, что было потом. Потом-то обыкновенно. Марзи спрятал свою невесту у друзей-казаков в другой, соседней станице и помчался догонять свой отряд, идущий в бой. Ему и горя мало было, что тем временем Аким со своим младшим братом мечется по следам сестры, установив на двуколке-бедарке пулемет.
— Рассердилось тогда ее казачье племя, Шамо! — вспоминает Марзи с удовольствием. — Мои родные заслали к ней в станицу почетных стариков, чтобы уладить все это. А казаки и разговаривать не хотят, подарков не принимают, сердятся: «Раньше чеченцы и ингуши у нас только коней уводили, а теперь и девок похищать наших стали? Да мы вас!..» Спасибо, мой командир за меня вступился. Сам Заама Яндиев! Такому свату, как он, никто не мог отказать.
Марзи вскидывает голову, смотрит на портрет Заамы, висящий на стене, и восклицает:
— Ты на его лицо погляди, Шамо, на его лицо! Разве не видишь, какой это был мужчина?
„БЭ-Э-ЭНДИТАМ РУКИ НЕ ПОДАЮ!“
Портрет Заамы Яндиева висит на стенке. Портрет как портрет. Плохо увеличенная фотокарточка. И мужчина как мужчина, мало ли таких увидишь в нашем районном городке, на заводе, да и здесь, в ауле. Черные усики. Из-под черных бровей бесстрашно глядят дерзкие глаза, подбородок немножко выпячен, черная кубанка надвинута на брови. Во всем лице что-то такое гордое, удалое.
Про таких у нас на заводе говорят: «Идет и смотрит так, словно целое село с боем завоевал!» И я иногда думаю, глядя на какого-нибудь такого удалого человека: интересно, для чего ему нужно столько гордости иметь на лице? Это же чистый перерасход. Идет человек так, будто собирается сейчас стать грудью против целого света, а на самом деле войдет к себе в цех и начнет обрабатывать шпиндель. И вся его «война» будет с мастером или бригадиром, если те вовремя не дали материал.
Другое дело — Заама. Ему такое лицо необходимо было иметь. Вернее, оно у него само стало таким, потому что Зааме приходилось становиться перед белогвардейскими офицерами и генералами и говорить им при всех: «Вы предатели своего народа! Хотите склонить горцев на сторону Деникина? Хотите, чтобы мы пропустили деникинские полки через свои земли к грозненской нефти, против наших русских братьев-рабочих на промыслах, против наших братьев-чеченцев? Не позволим!» Гордое лицо надо было иметь, чтобы бросать врагам такие слова, несмотря на угрозу расстрела.
И еще надо было иметь большую удаль, чтобы с отрядами своих всадников-партизан идти в бой против белогвардейцев, у которых были не только пушки, но даже самолеты.
О Зааме я знаю от дедушки многое. Меньше, гораздо меньше сам дедушка знал другого человека, чей портрет висит рядом с портретом Заамы. Буйная грива волос, большие усы, спокойно-гордый взгляд. Это наш Серго, наш Эржкине́з. Так его у нас звали в гражданскую войну ингуши — Эржкинез, так переделали его трудную фамилию Орджоникидзе. Я думаю, не потому переделали, что ее трудно произносить, а потому, что решили: Эржкинез — правильнее. По-нашему «эрж» — «черный», а «кинез» — «князь». Князь черных, обездоленных. Вожак бедноты, Эржкинез.
— Расскажи, дедушка, про Серго и про Зааму!
Это не я прошу. Я знаю все, что может рассказать дедушка о людях, чьи портреты висят на стене перед нами. Просят наши младшие родичи — мальчишки и девчонки. Они как-то незаметно набились в комнату. Заглянут на минутку проведать бабушку и остаются. Взрослых бабушка тотчас прогоняет: «Видите — жива. А у вас сейчас забот полно, день к концу идет, коровы не доены, дрова не нарублены. Кто голоден — садитесь поешьте, а нет — идите по своим дворам…»
— Да что я вам, грязные ваши носы, могу рассказать о Серго, о Зааме? — говорит дедушка, продолжая возиться с рогами тура. — Вы, наверное, думаете, что я чуть ли не их ближайшим помощником был… Да знаете ли вы, что Эржкинез только один раз в жизни мне слово сказал? Он погрозил мне пальцем во время боя и прикрикнул на меня: «Не лезь, не лезь под пули! Ты еще своему отцу понадобишься. Видишь, как воюют вон те русские ребята — красные курсанты? Так действуй; смело, но осторожно!» А мне как раз за минуту до этого пуля уже угодила в ногу, в сапоге кровь. Мог ли я после слов Серго признаться кому-нибудь, что ранен? Стыдно: скажут, воевать не умеет. Так я и дотерпел до ночи. Вот и все, что я с Эржкинезом имел…
— А это, а это что? — уличают дети дедушку, показывая на потолок, где на потемневшей от времени деревянной обшивке видны следы пуль. — Это ведь Эржкинез из своего маузера в потолок стрелял! Да, бабушка Маржан?
— Что там ваша Маржан знает… Не ко мне ведь Серго в этот дом приезжал! Правильно, жених был я, невеста — Маржан. Но Серго не к нам приезжал, а к моему отцу, В честь того, что он сына женит! А меня Серго и видеть не видел. Где вы слышали, болячки этакие, чтобы жених на собственной свадьбе людям показывался?! Серго знал обычай и не требовал: «Покажите мне жениха». Он заглянул за занавеску к невесте, сказал: «Тц-тц-тц… Красавица! Знал Марзи, кого украсть! Не отступай, Матрена, перед своим джигитом, крепко держи его в руках». Потом Эржкинез станцевал лезгинку, во время танца пострелял из маузера в потолок, чтобы танец получился лихим. Провожали его за наш плетень всей свадьбой. А я с чердака соседнего дома, где прятался, увидел Серго одним глазом, жалел, что не пришлось рядом с ним побыть. Вот вам и все про Серго. Да мало ли у кого из ингушей он на свадьбе был, мало ли кого оберегал в бою, учил… Эй, кто там из вас чуть поумнее других? Подточите-ка мне нож. И до чего же крепкая кость у тура…
Каждый раз, когда Марзи вспоминает прошлое, я замечаю, как он сдержанно и строго говорит обо всем, что связано с именем Серго Орджоникидзе.
О себе самом он стесняется говорить что-нибудь даже при воспоминаниях о своем командире Зааме Яндиеве.
— У тебя было пять сабельных и пулевых ранений, дедушка?
— Не помню, дело давнее. Разве вы свои ссадины и порезы считаете, драчуны?.. Вот у Заамы было столько ранений, что мы, бойцы, и подсчитать не могли! Это я помню. Любили мы его…
— Верно, что ты самого Махно видел?
Я жду, что сейчас дедушка, может быть, расскажет хоть что-нибудь о себе. Сегодня он не скупится на воспоминания.
Нет, Марзи опять сворачивает на своего командира:
— Во́ллахи-би́ллахи, хорошо ответил Заама батьке Махно! Если вы знаете по своим учебникам, этот Махно был настоящий контра. А одно время начал заигрывать с красными, даже в союзники к нам полез. Вот и вызывает командующий корпусом нашего Зааму в штаб, говорит ему: «Знакомьтесь с Махно, товарищ комбриг Яндиев, вам придется вместе с его отрядами действовать». Батька Махно встает, рот до ушей, откидывает свои длинные волосы. Точно такие волосы, как у стиляг в Грозном, век бы не видеть мне таких волос на ваших головах!
— Ну, и что Махно? А как ему Заама ответил? Говори же!
— Что Махно? Протягивает он вверх свою руку Зааме, чтобы знакомиться. Батька был маленький ростом, а Заама — высокий. Богатырь! Так и осталась рука батьки в воздухе, потому что Заама ответил: «Бандитам руки не подаю!» Он так и говорил всегда: не «бандиты», а «бэ-э-эндиты».
— Дедушка, как же они после этого могли вместе воевать? Не ответить на приветствие у нас считается хуже пощечины. Значит, они врагами стали между собой?
— А Махно всегда и был враг, только прикинулся на время другом. Никто ему и не верил. Делали вид, что верят. А наш Заама не умел делать вид. Он простой человек был, очень простой. Скажу вам, даже не очень, по-моему, грамотный. Но сердцем всегда понимал, кто за народ, а кто против. И когда Махно скинул свою овечью шкуру, никого Заама не бил так, как махновцев. Помню, в бою за деревню Варваровку под станицей Лозовой Заама оставил от отряда махновцев только пыль в степи…
Марзи бросил на минуту работу, закрыл глаза и покачал головой:
— Э-э, как он сам себя в бою вел! Как лев. Нам стыдно было на полшага коня отстать друг от друга, а Заама все равно ругается, его хриплый голос всегда в бою был слышен: «Ингуши, вы что, умерли от страха? На вас Украина смотрит! Вернемся на Кавказ, я вам головы платками ваших жен покрою вместо папах!» Умел он вот так нехорошие слова подбирать, после них никакая пулеметная тачанка махновцев не была страшна… Только и успеем крикнуть на скаку своему командиру: «Себе одну косынку не забудь приберечь, сумасшедший Заама! Ты разве единственный мужчина среди нас?» Это мы так с ним в бою держались, на равных. Вы на его лицо гляньте, на его лицо… Оно у него все в шрамах было, их тут не видно.
Я в который раз смотрю на портрет Заамы. Да, у такого человека было право иметь лицо гордое и удалое. Он из тех, кто «юрт я́ккай» — «село завоевал». Мне так и кажется, что лицо Заамы на портрете зашевелилось, что я слышу хриплый голос: «Э-э-эскадроны, ша-а-шки…», а потом эти медленные слова взрываются коротким и грозным: «К бэю!» Так он, наверное, и говорил: не к «бою», а к «бэю».
— Ему-то наград понадавали, твоему Зааме, — с усмешкой произносит бабушка Маржан. — А тебе за твои раны, с которыми я потом полжизни возилась? Персональной пенсии и то у тебя нет.
Она больная, сегодня говорит все, что хочет, но дедушка все равно не может стерпеть таких слов, свирепо отвечает ей:
— Неразумная! У тебя ум короче кончика твоего платка. Кого ты с кем сравнила?! Я умел только шашкой махать, а Заама, а Заама… Ордена героям дают!
— А почему же про Эю́па по радио передавали? Он разве герой?
— Заливать умеет. Вот и передавали по радио.
Да, уж этот усач умеет заливать. Кто из корреспондентов ни приедет в район, Эюп тут как тут. Наденет черкеску с белыми газырями, нацепит кинжал, взобьет как следует усы, чтобы покрасивее выглядеть на газетной фотографии, и начинает вспоминать. Поглядывает, все ли его слова записывает корреспондент: «И тут как раз ударили по нашим партизанским окопам деникинские пушки. Тогда Эржкинез выхватил маузер, и вижу… А я всегда рядом с Серго находился, в этот исторический момент он тоже был поблизости от меня, не дальше, чем вот ты сейчас…»
Ух как Марзи разозлился однажды, когда услышал такую болтовню! Сплюнул Марзи и сказал: «Ты о Серго меньше рассказывай, Эюп, ты о себе лучше расскажи. Пусть корреспондент из газеты запишет, как ты тайком добывал в казачьих станицах патроны и продавал их горским партизанам по пять рублей штука. Если бы не эта твоя торговля, партизанам туго бы пришлось…» Сплюнул Марзи и пошел. А корреспондент тоже сплюнул и захлопнул свой блокнот перед носом Эюпа.
— «Персональная пенсия»… — передразнивает Марзи бабушку Маржан. — Да если бы ее давали всем, которые вроде меня, одна Чечено-Ингушетия разорила бы казну!
Детям скучно слушать про пенсии, а «про войну» кончилось. Они убегают. Остаемся со стариками мы, аслановская молодежь. И я тогда спрашиваю у Марзи:
— Скажи-ка, дедушка, почему ты не послушался отца, не ушел в Чечню от кровников после схватки с Шаипом?
Начинает он издалека, а это верный признак, что Марзи не знает, как ответить. Выигрывает время.
— Не называй ты этого Шаипа абреком. Бандит он, а не абрек. Потому что только бандит мог прятаться с оружием в горах после победы нашей власти. Другое дело — при царе. Тогда тоже были бандиты, это те, кто грабил без разбору и богатых и бедных, лишь бы свой карман набить. А были и абреки. Но настоящие абреки никогда не тронули бы того, кто своими руками кусок чурека зарабатывает. Вот вы, молодые, слышали где-нибудь, что знаменитый чеченский абрек Зелимха́н из Харачо́я обидел бедняка? Он и его верный друг ингуш Саварбе́к из Саго́пшей направляли свою пулю лишь на богатеев да на царских карателей. Это были настоящие абреки! А Шаип — бандит. Шпана!
— Тебе же отец приказал…
— Что ты ко мне пристал? Разве у меня тогда такая голова была, как сейчас? Да, отца не слушать — стыдно. Деда не слушать — тем более стыдно. Вот так.
— Чего ты виляешь, Марзи? — бормочет бабушка сквозь дрему. — Скажи лучше, что ты всю жизнь наоборот поступал, никогда не слушал старших… А от этих хочешь, чтобы они по ниточке ходили. Хоть бы сам знал толком, где эта ниточка! Вспомни, ты должен был когда-то мстить Маги́евым. А простил их. Хорошо сделал, но поперек обычая. И против воли старших…
— Нет, по обычаю! — упрямится Марзи. — Старшие мне велели отомстить за то, что они когда-то нашего человека убили. И я бы это сделал, иначе Магиевы первые посчитали бы нас за трусливых, недостойных людей, раз мы не решились отомстить за своего погибшего. Но однажды, когда я их выслеживал и винтовка была при мне, я услышал, как они между собой говорили: «Эти Аслановы, да и сам Марзи, смелые люди, они своей чести не уронят, так что кто-то из нас, считайте, приговорен…» Ну, я вышел из засады и сказал им: «Прощаю вас. Наш погибший и сам был виноват в той давней ссоре. А нашу честь вы цените высоко, в этом я убедился!»
— А как же обычай кровной мести? — интересуюсь я. — Забыл про обычай?
— Уважать тех, кто уважает твою честь, — разве это плохой обычай? — отвечает мне Марзи вопросом.
— Но разве ты имел право сам решать?
— Старшие-то меня отругали, решили другого послать мстить. А я сказал: «Другого? Я в него пошлю ту пулю, которую не послал в кровников!» Ну, старики и отстали, махнули на меня рукой: «От этого дурака всего можно ждать».
— Вот и пойми тебя, дедушка, — говорю я с улыбкой. — Всегда твердишь, чтобы мы слушали старших, а сам всю жизнь…
— Что-о?! — перебивает меня Марзи. — А, чтобы ты в ад попал, из-за тебя шилом в палец себе я ткнул. Вас, молодых, сегодняшнее интересует. У вас на уме новые вопросы, а у меня что есть, кроме старых ответов? Вот и не сходится одно с другим! Но не думайте, что все старое было плохим и не годится сегодня для вас, умных. Видите вот эти турьи рога?
Марзи похлопывает жилистой ладонью по самодельной деревянной морде, похожей на турью, которую он приделал к черепу животного и только что кончил обтягивать кожей, и говорит:
— Ты полагаешь, Шамо, что лишь для того я и вожусь с этим подарком, чтобы уважить твоего Ивана Дмитриевича и угодить тебе? Еще и на свете не было ни его, ни тебя, ни вашего завода, ни ваших паршивых сверлилок, когда мы с русскими делили последний чурек и последнюю горсть пороху. Издалека идет эта дружба, замесили ее ваши деды и прадеды, а не вы!
— А кто спорит, Марзи? — подает голос один из родичей.
— «Кровная месть, кровная месть»… — передразнивает дедушка. — Далась она вам! Это нам в наше время такими глупостями приходилось заниматься, потому что привыкли испокон веков: кто защитит твою честь, если не ты сам и люди твоей фамилии? А вас в случае ссоры и комсомол рассудит, и прокурор. А для затянувшихся, старинных случаев кровной вражды есть теперь новый обычай: мирить кровников на сходе, с участием властей, почетных стариков. Только не думайте, что и этот новый обычай нынешние умники придумали. Первым Серго расшевелил доброе в сердцах кровников, сказал во время гражданской войны: «Давайте на нашем сходе постановим, чтобы ни один кровник не обнажил кинжала против недруга. У нас у всех один недруг: деникинцы. Вот для кого мы должны пули беречь, горцы!» Ни один горец не нарушил тогда этой общей клятвы. Вот и закрепить бы такой обычай, а мы его только-только успели вспомнить, как начинаем опять забывать…
Я знаю, что имеет в виду Марзи. Первое время сходы по примирению враждующих проводились торжественно, на них приезжали даже большие начальники из Грозного. Но однажды Марзи увидел, к чему свели в нашем районе такие красивые сходы. Он ходил к председателю райисполкома хлопотать за какого-то неправильно наказанного дирекцией совхоза родича. Председатель райисполкома решил за десять минут и это дело, и с заготовкой яиц разобрался по телефону, и успел… помирить двух враждующих, наспех зазвав в кабинет нескольких членов примирительной комиссии. Марзи пришел тогда домой огорченным и все говорил: «Кое-как слепили — кое-как и держаться будет… Думают, создать обычай, в который люди свято поверят, — это все равно что дерево посадить. Саженец воткнуть в землю и ленивый сумеет, а вот вырастить из него дерево, повозиться, пока он корни пустит, пока своей жизнью заживет… Спешим, от одного нового к другому новому спешим!»
— Ну, что вы тут столпились в комнате, затеяли разговоры? — вдруг прикрикивает на нас Марзи, хотя никто из нас почти и рта не открывал. — Не видите, Маржан устала? Гоните своих лошадок, бездельники!..
Сказав слово «лошадок», Марзи вдруг вспоминает, что я не поил его коня, сердится. И тут же приказывает мне не уходить, потому что у него есть со мной «особый разговор».
Он выводит меня на веранду, чтобы не расстраивать бабушку особым разговором, и я уже чувствую, что хорошего ждать нечего. Так и есть.
ТРИДЦАТЬ ГОСТЕЙ — ТРИДЦАТЬ КУСКОВ МЫЛА
— Ты что же натворил, сын свиньи? — начинает Марзи. — До меня дошло, что ты посмел ходить к чужому порогу, выселять такого же человека, как ты сам! Горца!
До чего же мне все это надоело…
— Что же ты не отвечаешь? Вопросами ты меня целый час донимал, а отвечать не умеешь?
— Скажи, Марзи, какая разница, ингуш он, русский, осетин… Нарушитель!
— Родство у нас, оказывается, с ним есть, с этим Юсупом!
«Родство есть»… Да чуть ли не любой ингуш может откопать не то, так другое родство с любым другим. Как бы мне сейчас ответить дедушке, чтобы не огорчить его?
— Знаешь что, Марзи, — говорю я деловито, — лучше всего было бы, если бы ты дал мне список всех, с кем мы в родстве.
— Список? Дам. Что, список?! Эш-ша! У кого ты видел список всех его родственников?!
Меня спасает приближающийся стук колес.
— Не слышишь, телега в наш переулок свернула? — подталкивает меня к воротам дедушка. — По-моему, и глухой поймет по стуку колес, что это люди не из нашего аула.
Я спешу к калитке, как будто во всем переулке любого заезжего гостя лишь наш дом и должен интересовать. Переулок у нас каменистый, подниматься к нам надо круто в гору. Кто же это едет?
Вдруг меня обжигает удар хлыстом по спине. Я отскакиваю от калитки, оборачиваюсь к дедушке, который снова занес хлыст.
— За что, Марзи? — спрашиваю я и озираюсь по сторонам: нет ли где аульских девушек, которые могли увидеть, как меня стегают прутом.
— За то, что не знаешь, следовало бы еще раз! — восклицает дедушка. — Да за то, недопеченный ты человек, что ты в калитке встал! Неважно, чей едет гость, наш или чужой, но он вправе подумать, что ты ему вход в наш двор загораживаешь…
— А если бы я перебежал на другую сторону улицы, ты бы придумал, что я гостю дорожку перешел и ему пути не будет? Да что это такое, Марзи!
— Постой-постой… — отшвыривает дедушка прут. — Это же наши едут! Аким едет с Васькой. Отворяй ворота! Не забудь их коней ввести во двор под уздцы.
Бричка лихо подкатывает, гремя колесами, к нашему дому. Я едва успеваю ухватить коней под уздцы. Легко соскакивает наземь высоченный и ничуть не дряхлый в своем дряхлом возрасте дядя Аким, обнимается с Марзи. Скатывается круглолицый, тугощекий племянник дяди Акима и бабушки Маржан, который и в свои сорок лет остается для Марзи Васькой. Он стискивает меня, прижимая свой живот так, что мне кажется, арбуз мне под ребра втискивают.
Дядя Аким целует меня в макушку и стукает слегка и как-то застенчиво по плечу. Он все делает застенчиво, осторожно, будто боится что-нибудь сломать.
— Заготовитель сельповский из вашего района заехал к нам в станицу, сказал, что Матрена захворала… — спешит к крыльцу дядя Аким, разминая затекшие в телеге ноги. — Не уберег ты девку, Марзи, не уберег…
— Не плачь, кукурузная кочерыжка. Жива ваша орлица, уже опять крыльями помахивает…
Мне странно слышать всегда, как дядя Аким разговаривает по-ингушски. Так же странно, как если бабушка Маржан заговорит по-русски со своим Марзи.
Я распрягаю коней, задаю им корм. От них пахнет свежей полевой травой, дорожной сухой пылью, сыромятной кожей упряжи. Как я все-таки отвык в ПТУ и на заводе от этих вкусных запахов…
Затем я берусь разгружать бричку. В сумерках и из разберешь, что за груз. Шевелится под руками баран, поводит спутанными ногами, приподнимает голову, словно говоря: «Резать-то вы меня будете, это у вас делается быстро. Но сейчас не мешало бы попоить и покормить меня в порядке хваленого гостеприимства…»
Я стаскиваю барашка, которого мне сейчас придется резать и разделывать, потом какие-то узлы, мешки, бочонок почти в полный обхват. От него пахнет виноградом и чем-то хмельным. Ну будет сегодня у стариков потеха! Это же знаменитое терское вино, которое любил пить в чечено-ингушских степях Лев Толстой. Крестьянское самодельное вино-скороспелка, вкус которого Марзи изучает с помощью дяди Акима уже лет пятьдесят.
Я зову через плетень соседку-родственницу, чтобы шла скорее готовить для гостей стол. Себе в помощь я никого из ребят не зову, потому что при встрече Марзи и дяди Акима все должно делаться «шито-крыто» (потерпите, вы сейчас узнаете, почему это так).
Я прислушиваюсь, как хрумкают зерном лошади, прислушиваюсь к веселым голосам, доносящимся из дому. И думаю, что все-таки я перенял от дедушки и много полезного. К лошадям приучал меня он, отец не любил с ними возиться. Свежевать барашков тоже учил дедушка.
У меня зудит спина от удара дедушкиным прутиком. Что ж, тоже наука.
Интересный способ у них, у стариков, передавать нам свою мудрость. Помню, однажды в детстве я прибежал с луга, где мы обычно играли, чтобы доложить: мой двоюродный брат, который у нас гостил, опять затеял драку с мальчишками. Этот брат был задира и первый драчун, его уже не раз предупреждали дома: «Если еще раз услышим, что ты подрался, полез первым…» Вот я и прибежал с сообщением: «Он опять…»
Ну и дал мне тогда дедушка! Он стегал меня хворостиной и кричал на весь двор: «Как? Твой брат дерется против троих, а ты оставил его в беде и прибежал доносить на него же? Получай! Получай свою награду! Знай, что там, в драке, тебе было бы не так больно, как здесь…» Стегал дедушка до тех пор, пока отец не отнял меня от Марзи. Я хорошо понял, что нельзя бросать в беде не только брата и любого родственника, но и просто односельчанина, земляка. Даже случайного спутника.
«Выученное в детстве — словно высеченное на камне…» — твердит часто Марзи поговорку. Знаете ли вы, что я на улице не имею права объяснить прохожему, как пройти в нужное ему место? Нет, я обязательно должен проводить его туда. И чуть ли не сдать его там под расписку. Помню, в детстве я показал пальцем прохожему, где наш сельсовет. Мне тогда было всего лет десять. Марзи подошел и спросил меня: «Как ты вон тому дяде показал, куда идти?» Я протянул руку — «вот так». Марзи хлестнул плеткой по моему вытянутому пальцу так, что едва не отшиб его насовсем, и объяснил: «Приезжего надо всегда проводить до места, убедиться, что он благополучно туда дошел…»
…С веранды кричат, что Марзи зовет меня.
— Людям умыться с дороги! — бросает мне он коротко.
Думаете, у нас в доме это просто делается? Даже дяде Акиму давно известен номер с туалетным мылом: каждому гостю я обязан подать новенький, только что развернутый кусок мыла.
Это не ингушский обычай. Немецкий! Марзи перенял его у одного своего друга, еще в молодости. Друг был профессором, звали его Эдуард Альбертович Штебер, фотография покойного хранится у дедушки среди сотни других в корзиночке-сапетке, которую бабушка сплела когда-то из прутьев ивы. В этой корзинке есть еще один летчик-генерал, два министра автономной республики, начальник лесоучастка, академик-геолог из Москвы, прокурор из Осетии, чеченский абрек Зелимхан на дореволюционной фотооткрытке и другие важные лица. Конечно, там же и вся наша родня, вернее, те из родственников, кого уже нет на свете. Предков до самого седьмого колена там нет. От силы до четвертого или пятого, потому что при жизни самых дальних предков еще не было фотоаппарата.
Со Штебером дедушка лазил в молодости по горам, помогал профессору обследовать древние ингушские боевые башни и склепы. Как уверяет Марзи, Штебер считал тогда его своим закадычным другом и научным сотрудником. Тех, кто в это не верил, дедушка убедил тогда очень просто. Будучи в городе Орджоникидзе, тогдашнем Владикавказе, куда Марзи ездил продать воз картошки, он собрал на базаре и в шашлычных человек тридцать земляков и повел их в гости к Штеберу. Толстенький, с добродушной улыбкой и большим животом профессор — таким он выглядит на фотографии — встретил дедушкину компанию с почетом. Чем там угощали, Марзи не помнит, но история с мылом осталась у него в памяти: каждому из тридцати гостей дали свежее полотенце и распечатали — каждому! — новый кусок мыла.
У себя в ауле Марзи тоже так принимал профессора, что у того, как выражается бабушка Маржан, губа отвисала от удивления. Если мясо, то куски такие, что двумя руками не удержишь, если мед, то не в городских стекляшках-розетках величиной с наперсток, а каждому в большой глиняной миске. Но мыло, профессорское мыло… В каком горском доме могли распечатать враз тридцать кусков?! В те времена у нас в аулах «мыло, в которое добавлены духи», покупали лишь для девушек на выданье, чтобы они приятнее пахли. Если появлялся в доме почетный гость, то давали разочек помылиться.
Теперь же совсем иная жизнь. Марзи может встретить гостя как профессор.
Я наливаю в кувшин теплой воды, выволакиваю из-под кровати ящик с туалетным мылом. Неважно, что каждый кусочек стоит всего копеек двадцать. Зато — в обертке. Я стараюсь обертки не порвать и не помять, однако дедушка следит, он комкает их и выкидывает. Иначе бабушка потом снова обернет обмыленный кусочек и уложит в ящик, ведь после единственного умыванья печатка выглядит все равно как новая, буковки почти не стерлись.
— Все форсишь, Марзи? — кивает дядя Аким на ящик с мылом и обнажает руки, похожие на оглобли арбы, только поросшие легким белесым волосом.
— Тебе этой культуры не понять, — важно отвечает Марзи.
СЕГОДНЯ У СТАРИКОВ ПОТЕХА!
Едва я успел освежевать барашка, заготовить почки и легкое для первой, самой вкусной жарки, как меня опять зовут. Я бегу в гостевую комнату. Замираю у косяка. Хорошо дяде Васе: он засел себе в соседней комнате со своей теткой — бабушкой Маржан, и развлекается разговорами. А мог бы зайти, услужить старикам. У меня ведь и баран еще не разделан, и дров может не хватить, надо браться за топор… Зачем меня позвали?
«По стаканчику они уже все-таки рванули, — прикидываю я. — Вот Марзи и поставил меня в стойку. Демонстрирует мою воспитанность».
Со мной у него этот номер стал удаваться с самого первого раза. Помните, я вам рассказывал?
С Букой не удалось. Это было еще при жизни ее мужа — дедушкиного сына. Марзи зазвал Буку на стойку. Молчать и ни о чем не спрашивать старика ей было не трудно, она тогда еще «держала язык», не имела права произносить при нем слово.
Бука дождалась, пока Марзи сытно пообедал и заснул на поднарах. Сдвинула два чемодана и улеглась на них спать возле дверей. Все-таки во сне и помолчать легче.
Марзи с трудом добудился ее. Он отвел взор от ее оголенных ног и отчитал: «Чтоб достойных людей не видели никогда в жизни ни ты, ни тот дурак, который на такой бесстыжей женился! Нашла место, где выспаться: перед тестем, перед стариком! А если бы кто чужой в этот час сюда вошел? Людям хватило бы чесать языки о нашей фамилии до конца света. Вон отсюда! Эй, кто там, заткните ей рот, чтобы не хохотала!» Так вспоминает сама Бука об этом случае.
…Когда я вдоволь настоялся в дверях, Марзи говорит:
— Дай-ка прикурить, мальчик. Ты не хочешь подымить, Аким?
Бабушка Маржан и не помнит даже, когда Марзи пить и курить бросил. Наверное, еще тогда бросил, когда вошел в ранг стариков. Но с дядей Акимом Марзи позволяет себе заниматься этими грешными делами, предварительно приказав спустить собаку с цепи.
Я зажигаю спичку, подношу ее к дедушкиной сигарете.
Он не торопится прикуривать, продолжает беседу с дядей Акимом.
Спичка догорает.
Марзи и глазом не ведет.
Пламя добирается до моих пальцев.
Но я обязан терпеть.
Дядя Аким одобрительно поглядывает на эту пытку, а Марзи поглядывает на дядю Акима, словно спрашивает: «Видишь, какой воспитанный парень? Огня не бросит, пока не прикурю».
Спичка кончается, пламя обуглило всю палочку вместе с кончиками моих пальцев. Однако программа «Дай прикурить» на этом не кончается.
— Дай-ка лучше уголек из печки, Шамо, — просит дедушка. — От него вкуснее прикуривать…
Я иду на кухню, выхватываю двумя палочками, как щипцами, раскаленный уголек и подношу дедушке. Уж теперь мои пальцы в безопасности.
Марзи тыкает кончиком сигареты в уголек. Мне кажется, он нарочно тыкает, чтобы уголек выпал на пол.
Палочками мне этот уголек никак не подхватить с пола. Он выворачивается, словно живой. Я хватаю пальцами: нельзя, чтобы старик ждал.
Марзи опять не торопится прикурить. Он досказывает что-то дяде Акиму, который потягивает вино и наблюдает, как я судорожно перекладываю уголек с ладони на ладонь.
Марзи, отставив руку с незажженной сигаретой в сторону, вдруг смотрит вниз, мне на ноги, и недовольно спрашивает:
— Ты чего это приплясываешь? Мы же позвали тебя не для того, чтобы ты лезгинку танцевал?
— Да прикуривай же, дедушка!
Дедушка прикуривает и говорит дяде Акиму, кивая на меня с презрительной кривой усмешкой:
— Видал? Вот они какие пошли, теперешние молодые…
Я тоже ищу поддержки у дяди Акима:
— Мне же завтра этими руками инструмент чувствовать надо, детали ворочать…
Нашел я, у кого поддержку искать! Я говорил вам, что дядя Аким бывает обычно застенчивым. А после вина делается совсем другой. Он сурово крякает и говорит мне:
— Ай-яй-яй, Шамо! Да ведь нам с твоим дедом тоже в молодости не цветочки собирать приходилось. Шашку наши руки держали! Кинжал! И уголек держать умели. Нет, Марзи, недовоспитал ты малого… Сколько раз я тебе говорил: «Отдай его мне, я из него человека выращу!»
— Ты?! Хотел бы я знать, как ты можешь человека вырастить! — удивляется Марзи.
— Я?! Да я тебе скажу, ха́жки-тум ты этакий…
Ну, если дядя Аким тоже дошел до слова «хажки-тум» — «кукурузная кочерыжка», — разговор у них теперь пойдет и без меня. Уже за порогом я слышу, как дядя Аким начинает поносить дедушку, мешая русские слова с ингушскими.
— Дядя Вася, — зову я, — им уже пора закусывать!
Дядя Вася встает, потягивается, снимает галстук. Настала его вахта. Теперь обслуживать стариков будет он, потому что Марзи не любит, если я вижу, как он пьет.
Соседка передает из кухни дяде Васе большое блюдо с жареными почками, легкими. Я вдыхаю вкусный запах этой первой закуски и спешу под навес, чтобы разделать тушу для настоящего жаркого. Оба старика любят поесть. Не знаю, сколько они могли уничтожить в молодости, но теперь им только успевай подавать.
Потом, уставший от работы, я сижу возле бабушки, жду своей доли барашка, прислушиваюсь, о чем там говорят старики.
Они препираются, сводят какие-то свои счеты. Немножко похвалят друг друга для передышки, а потом опять начинают говорить слова покрепче, чем «хажки-тум».
— Прихлопнуть двери? — спрашиваю я у бабушки.
— Да мне же весело их слушать! Как встретятся, наскакивают один на одного, словно петушки. Сейчас-то утихомирились, а прежде любили пошуметь. Помню, засели они вот так вдвоем, бочонок чихиря[5] перевернули и начали: Марзи на Акима — с кинжалом, а тот табуреткой отбивается. Потеха!
— А ты?
— Мне-то чего лезть в мужской разговор… Вышла я себе на веранду и давай в медный таз колотить.
— Зачем?
— А чтобы аул не слышал, как они двое шумят. Стыдно же перед людьми: скажут — седые, родство между ними, а шумят. Я и колочу в таз. Звонкий такой таз был, не то что теперешние сельповские. Я в нем варенье всегда варила. Стучу я в таз, а сама поглядываю в окошко, как бы они там друг другу не навредили. Кто проходит мимо, спрашивает, чего я это так стучу, а я отвечаю: «Нагар с таза сбиваю, за огнем не уследила». Вижу в окошко, Марзи достал Акиму до щеки своей железкой, рассек кожу кинжалом. Ну, думаю, заживет. Вижу, Аким твоему дедушке табуреткой по ребрам. Ну, думаю, ребро и вправить можно. А как развернулся Аким второй раз, я и не выдержала, залетела в комнату. Ах ты, думаю, казачье племя! Моего — табуреткой? Я Акима по голове этим тазом. Самым донышком по голове. Тяжелый таз был, из чистой меди. Не то что теперешние, сельповские.
— Ну, и как же дядя Аким?
— Наутро Аким мне говорит: «Матрена, а я-то вчера подумал, будто орудие над самым ухом грохнуло». Он ведь контуженный деникинцами…
— А Марзи что сказал?
— Когда я тюкнула брата тазом, Марзи на меня и накинулся. Поколотил маленько. А у самого ребро в кишки вдавлено… Любили они пошуметь, любили. А сейчас видишь, как воркуют?
— Ты не виляй, Аким, скажи прямо… — говорит Марзи тягучим голосом, немного в нос, — скажи мне прямо: мой командир Заама Яндиев был настоящий мужчина или нет?
— Да такого и среди казаков поискать, Марзи. Это же был такой рубака лихой… — отвечает дядя Аким быстрым тенорком, такой у него быстрый говор делается после вина.
— Спасибо тебе, Аким! Слеза у меня пошла от твоих слов… Никогда ты душой не кривил, вот за что я тебя люблю, Аким.
— Да и ты в бою не последний бывал, Марзи…
— Э-э, это брось. Такой бесполезный разговор оставим. Ты и я были люди маленькие. Правда, казачков ваших я немало порубил в гражданскую… Были контры среди вас. Первый сорт контры!
— Хажки-тум! Среди горцев не было контриков, что ли? Богатей в золоте, а вы без штанов!
— Мы — без штанов?! Кто-нибудь видел Аслановых без штанов?
— Да это же так говорится! У одного семь шуб, а у семерых — одна. Васька, объясни ты этому тумаку.
— Нет, ты сам скажи, кем это говорится, что мы были без штанов? Кто посмеет сказать такое про нашу фамилию! Аслановы никогда не валялись в канаве, выпив бочку чихиря! А казаков я таких видел.
— Зато ингуши были первые конокрады. Кто же этого на Кавказе не знает?
Я вижу в дверной просвет, как начинает беспокойно шевелиться тугой живот дяди Васи. Дядя Вася держит стойку как милиционер, который может спокойно наблюдать, пока два гражданина поругиваются, но всегда готов сказать: «А ну без рук».
— И я был конокрад?! — уточняет Марзи.
— Сестру мою украл, а коня бы не украл? Вот те раз! Да и Матрену ты похитил потому, что был голытьбой: на калым не мог накопить, чтобы горянку взять, а за казачку выкуп не нужен.
— Матрена сама за меня пошла, это наши с ней дела. А калым — дурацкий обычай, правильно говоришь. Мы его скоро совсем поломаем. Я буду женить Шамо — ни копейки за невесту не дам!
— Да ведь ты и бабушку нашего Шамо — свою вторую жену-ингушку — тоже похитил! Ну, признайся!
— А ты за мной по степи с пулеметом гонялся, когда я Матрену украл! Кто тебе позволил огневую точку оголять, а? Для этого тебе пулемет был разве выдан? Обе мои жены сами за меня из невест спешили, так и знай. Без калыма! Даром! Вторая моя жена — бабушка нашего Шамо — сама ко мне в грузовик прыгнула! Тогда не было легковушек, да и грузовик редко кто в аулах видел. Подкатил я к условленному месту, шофер еще не успел как следует затормозить, а она в окошко кабины прыгнула: не знала, что у машины дверь есть. Понял, как было дело?
— Если так было дело, тебя бы в исполком не тягали…
— Исполком разобрался! Я сказал райисполкому: «Видите, у моей невесты нога вывихнута? Пусть врач проверит. Это она сама ко мне в кабину прыгнула, вывихнула ногу, потому что спешила за меня замуж выйти». Мне поверили. Тогда настоящие люди были — верили! А с должности колхозного завхоза меня турнули, верно. Но! Не за похищение девушки, а по другой статье, совсем по другой: за двоеженство. Иначе, Аким, твой Марзи далеко бы пошел. Председателем колхоза я мог стать. Потому что меня любили. Я никому не давал трогать народное добро, я все в колхоз тащил. Э, расхвастался я… Оставим этот бесполезный разговор!
— Честность-то у тебя всегда была, Марзи. Что верно, то верно. Дай я тебя за это поцелую! Налей-ка нам, Васька.
— А у казаков разве не было честности, Аким? Еще до революции у них была честность! Слышишь, Васька? Царь натравливает горцев и казаков друг на друга, воюем через Терек, табуны с боем угоняем. Но! Если ваш казак прокрадется в наш аул, просто украдет что-нибудь, мы его не трогали, а везли к вам через Терек на расправу. Как вы наказывали своего вора, Аким? Пусть слышит Васька. Расскажи!
— А как наказывали? Очень просто, — слышен тенорок дяди Акима. — Ухо своему вору ножом — чик! С одним ухом в станице не проживешь, надо на чужбину от позора уходить… А перед вашими уж так извиняются наши старики за этого вора, с благодарностью проводят обратно за Терек, а наутро снова перестрелка, снова табуны друг у друга угоняем. Лишь бы по-честному. Слышал, Васька? По-честному!
— Хорошая же была у вас честность! — позволяет себе дядя Вася вмешаться в разговор. — Говорят, крови в Тереке текло больше, чем воды. Не от воровского же уха.
Оба старика доказывают ему, что виноват царь, а не народ. Царь стравливал казаков с горцами. А народ всегда хотел жить в мире и дружбе. Даже казачьи атаманы, уж на что глухие были они к бедам народа, и те писали царю, что из-за вражды на Тереке разоряется хозяйство. А царь что написал на донесении? Мол, эта вражда поддерживает в казаках их воинскую удаль, вот что написал злодей Николай Второй.
— Да-а, что-что, а удаль у казаков была!
— Ты хочешь сказать, что у нас ее не было? — кипятится Марзи. — Нет, ты скажи, скажи такие слова, Аким. А я послушаю!
Дядя Вася проскальзывает из гостевой комнаты ко мне и шепчет:
— Пора их разводить.
— Я еще покажу всем, кто такой Марзи! — лихо вскрикивает дедушка, а дядя Аким уверяет, что такая кочерыжка ничего и никому больше показать не сможет. — Нет, Аким, люди еще смогут убедиться, кто такой я! Марзи еще проскачет на своем коне. Я еще не весь свой кон в этой жизни сыграл!
Мы с дядей Васей входим в гостевую комнату, объявляем, что бабушка хочет спать.
Старики благодарят меня и дядю Васю за то, что мы сегодня хорошо им услужили, призывают нас всегда быть такими и с чужими стариками. Потом дядя Аким приказывает позвать ту, которая из-за них возилась у очага, надо сказать ей доброе слово. Это обязательная церемония при любых гостеваньях. Сегодня соблюдать ее, на взгляд Марзи, и не обязательно, потому что находимся среди своих и готовила тоже своя. Нет, дядя Аким хочет показать настоящую вежливость мне и своему племяннику.
— Спасибо тебе, — говорит он нашей родственнице по-ингушски, поднимаясь во весь рост. — Ты угостила нас щедрой рукой. Пусть и в твоем доме всегда будет полный беркат![6] Ты нам всем близкий человек, поэтому мы тут с Марзи не стеснялись и пошуметь по-стариковски. Все равно извини нас. Я пью за твое здоровье и за твою семью! Пусть у тебя никогда ни в чем ущерба не будет.
Вот как завернул старик. И куда с него и Марзи хмель слетел? Оба такие степенные сделались на чужих глазах, будто и не они только что чуть не хватали друг друга за грудки.
…Когда наконец старики улеглись спать, открываем свое заседание на кухне мы с дядей Васей. То нам с ним приходилось куски наскоро хватать, а теперь всё в нашем распоряжении.
— Айда работать к нам на промысла! — предлагает дядя Вася, расправляясь с бараньей лопаткой. — После армии вернешься к нам, как к себе домой.
— Вы бурильщик, дядя Вася, а токарю интереснее на заводе.
— У нас теперь мастерские на промыслах знаешь какие?
Нет, не уйду я с завода. Не умею я искать где получше.
Дядя Вася тоже не летун, он просто хотел бы, чтобы мы были с ним вместе. Наверное, он неплохой бурильщик, раз ему доверили проходку новой сверхглубокой скважины. Больше пяти тысяч метров глубиной. Правда, его портрета я никогда в газете не видел.
— Тут такой вариант: я прячусь от корреспондентов, — смеется дядя Вася. — На буровых каждую минуту тебя караулит авария: через дырочку в землю не заглянешь, не угадаешь, что тебе там готовит стихия. Вот и становишься суеверным: пока не пробуришь до отметки, боишься фотографироваться. Приступили сейчас к новой скважине, в забой серебра набросали всей бригадой, я так целый рубль кинул.
— Дядя Аким вас до сих пор воспитывает? — спрашиваю я.
— Я тебе скажу, такой вариант, — говорит дядя Вася, макая кусок индюшатины в сметанно-чесночный соус с луком. — Старики образовались теперь разные. Наши двое — это самые старинные старики. Культурность у них, конечно, отсталая, они сами подзапутались между старым и новым. В них еще партизанщина бродит, анархия, а учить нас вроде бы считают себя обязанными. Только никак не могут примериться к нашим рабочим меркам. Уровень-то у них видишь какой? Сегодня дядя Аким прибыл на бричке на буровую и командует: едем к Матрене. Как же я брошу производство?! Я ведь должен метры проходки дать. «Не поедешь — домой не возвращайся. Рано или поздно каждому человеку вся его проходка — два метра».
— И Марзи такой…
— Есть, Шамо, другой сорт стариков. И у вас есть, и у нас есть в станице. Грамотные, с полным современным соображением. С такими всегда полный контакт. Такой и гайку сам понюхает, на буровой повертится. И старое тебе напомнит, в новом лучше нас разбирается. Но я и наших старинных стариков тоже люблю.
— Да и я их люблю, вот в чем дело.
— А я — не всяких. С разбором. Есть абсолютно вредные старики, это уже третий вариант… Особенно у вас, у горцев, хватает этих фанатиков. Они не потому стараются свернуть молодежь к старым привычкам, что ничего не понимают в новом. Нет, слишком хорошо понимают, что новое убавит их власть над молодыми. Умеют они как-то еще держать эту власть. Я даже думаю, что Марзи и Аким иногда им в этом завидуют, потому что сами не умеют. Но на удочку фанатика наши с тобой старики не желают попадаться. Иначе за что же они воевали в гражданскую?
— Ешьте, дядя Вася. Остывает.
— Эх, выпью-ка я за дядю Марзи и за дядю Акима! С моей точки зрения, за многое им можно было бы выдать: тут тебе и двоеженство, и хищение девок, а у дяди Акима сколько этих своих казачьих пережитков… Но без подлости в сердце жили они, эти наши старики. И нас учат так жить, вот тут какой вариант. За них, Шамо?
…Утром я мчусь на мотоцикле из аула в Дэй-Мохк. Еду с выключенным мотором, а все равно приходится тормозить — такой крутой спуск с гор в долину. Просторная она у нас. Все дома городка, весь заводской поселок, все окрестные деревни как на ладони. Блестящими ниточками протянулись вдали речушки и канал с терской водой.
— Ты что, взбесился? Шею свернешь! — кричит мне встречный, поспешно сворачивая арбу в сторону.
Я мчусь дальше. Может быть, Марзи и дядя Аким сейчас видят меня из аула: оттуда видна вся дорога до самой долины. Марзи ругается, что я так лихо себя веду на поворотах и клянется, что запретит мне когда-нибудь садиться на мотоцикл. Будто они на своих рысаках в молодости осторожно ездили по скалистым ущельям!
Виден дедушке и дяде Акиму и завод, если они сейчас смотрят вниз в долину. Зрение у них еще хорошее, очков они не признают. Они видят завод, хотели бы видеть с горки нашего аула и с горки своих лет также цеха, в которых мы работаем, видеть каждый наш шаг. Для чего это дедушке? А чтобы я не испортился. Непонятна ему моя новая жизнь, моя рабочая среда, а всего непонятного опасаешься.
Нет «старинных» стариков на заводе? Живи без оглядки на них? Нет, они все время с нами. Хорошо у них поставлена информация: дедушке становится известным мой каждый шаг, а дяде Акиму — каждый шаг его сорокалетнего племянника. Вот бы им обоим телевизионную систему, которую, говорят, наш директор собирается купить. Чтобы легче было управлять заводом, в цехах поставят телевизионные камеры-видоискатели. На центральном пульте экран будет показывать все, что делается на участках. Семнадцать камер!
Дедушка Марзи навел бы все семнадцать видоискателей такой системы на меня одного.
ВЕЖЛИВОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
На заводе новость: к нам приехали ученые из города. К нам без конца ездят изучать у нас что-нибудь. То производительность труда, то вопросы экономики, то психологию молодых рабочих, то проблемы борьбы с пережитками в нашем молодом коллективе. Гостевой номер «люкс» в общежитии почти никогда не пустует.
— А на этот раз будет изучение: как мы говорим «салам алейкум» и в какой руке держим нож-вилку в столовой, хотя ножи там никогда и не дают… — объявляет Мути.
— А кто приехал? — спрашиваю я, вспомнив сразу Цирцениса.
— Мужчина и женщина. Фамилия у мужчины какая-то ненормальная. Женщину я еще не видел, а мужчина — с интересной походкой, как по горячим плитам бежит…
— Цирценис? — спрашиваю я.
— Точно! Наверное, он знаменитый ученый, раз ты его фамилию знаешь?
Я их увидел в нашем пролете, это было сразу после обеденного перерыва. Цирценис идет, улыбается так, словно заранее перед всеми людьми на земле извиняется. И без конца уступает всем встречным дорогу, что наших женщин немножко напугало.
Перед Цирценисом, который идет-танцует по «улице» пролета, женщины шаг слегка замедляют, словно бы соблюдая отживший обычай. Но знаете это почему? Он очень внимательный к женщинам, сразу отскакивает в сторону, чтобы уступить дорогу, кланяется. Вот девушка и приостанавливается. Лицо у нее становится такое настороженное, даже воинственное. Потому что Цирценис улыбается, а к мужским улыбочкам у нас на заводе девушки относятся очень и очень строго. На это есть причина. Каждая девушка хочет показать: «Ах, ты полагаешь, что я из тех, кто «среди селения ходит бесстыдно»? (Так говорили в старину о девушках, которые осмеливались выйти за плетень своего двора.) Ошибаешься, мужчина! Я и здесь, на заводе, осталась самой скромной девушкой и не позволю с собой заигрывать».
Очень поэтому замкнутые и суровые у нас девушки на заводе. Не все, конечно. Есть такие молоденькие, что на голове готовы ходить от радости, что на свободу вырвались. Но большинство — очень суровые, так мне кажется. И поведение Цирцениса их настораживает, некоторых даже пугает.
Цирценис от этого, как я заметил, робеет; я наблюдаю, как виновато он прижимает руки к груди и торопится бочком дальше.
— Видел? — тыкает меня кулаком в бок Мути, ухмыляется. — Вот об этом чудаке я тебе и говорил. Гм… Что-то не нравится мне его нахальство; смотри, с каждой встречной заигрывает. Так и хочется пройти мимо него и нечаянно уронить ему на ногу болванку, чтобы немножко пришел в себя… Сразу видно, бывалый ухажер.
Я смеюсь от этих слов Мути. А кто те двое, что идут следом за Цирценисом и так оживленно разговаривают? Один — наш. Человек из района, Газзаев. Я прячусь за станком, пока все они мимо нашего цеха не прошли. А женщина… Кто она? Очень подтянутая, энергичная женщина, еще довольно молодая. Наверное, это и есть Ярцева, начальница Цирцениса. Ее я не знаю, а к Цирценису я обязан отнестись как к своему личному гостю. Он хоть и не ко мне приехал, но я-то ведь в его доме бывал, хлеб-соль у него ел. Даже с гуляшом. Надо ответить ему гостеприимством.
Вот тут бы Марзи мне пригодился. Уж что-что, а рецепты на все виды гостеприимства у него найдутся. Самое простое, конечно, сказать Цирценису: «Мой дом — ваш дом». Такие слова словами и останутся. Получится «красивый разговор», как сказал бы Марзи, потому что никакого дома в поселке у меня нет. Не потащишь же гостей в комнату общежития, где еще надо суметь разбудить Башира. А в аул везти гостей… Это для них далеко.
В ресторан пригласить вечерком? Нет, в Дэй-Мохке ресторан такой, что с приличными людьми туда лучше не ходить.
Ломал я над этим голову, ломал и так расстроился, что две детали запорол. Вы скажете: зачем так переживать? Да потому, что я вспомнил, как однажды уже погорел с гостями. Приезжал из Грозного к нам на завод корреспондент радио со своим шофером-оператором. Им надо было записать на пленку кого-нибудь из молодых рабочих, которые пришли к станку после окончания ПТУ. Не обязательно передовика, а просто чтобы парень рассказал, какие у него первые трудности, как ему старшие помогают.
Почему-то показали на меня. Наверное, потому что я как раз за неделю до этого запустил станок на обратный ход, рассмешил всех в цехе. Ну, я рассказал в микрофон, что смог. Про Ивана Дмитриевича рассказал, как он мне помогает. Корреспондент и оператор — молодой парень, чеченец, — замучились со мной, пока из меня десять слов вытянули. Наверное, километр пленки потратили. Да еще вдруг магнитофон у них вышел из строя. Хорошая такая машинка, венгерская марка «Репортер-5». Рублей триста стоит, не меньше.
Я очень переживал, что столько времени и нервов люди на меня затратили, без обеда остались… Разве можно так просто отпустить их? А что делать — не знаю. Тут бы любой старик растерялся. Бросить станок, повести их куда-нибудь на обед не могу, мастер и так уже косится на меня.
Вот тут-то я и погорел, хотя сначала мне показалось, что здорово придумал. Дело было сразу после получки, я вытащил два червонца, сую их в карман шоферу и шепчу ему: «Сделай мне одолжение, свози своего товарища в ресторан, устрой обед от моего имени». Этот чеченец очень удивился и говорит мне потихоньку в ответ: «Забирай свои деньги, сумасшедший ингуш, ты где о таком диком обычае слышал?» Корреспондент, русский парень, все это заметил и тоже удивился. Потом видит, что я готов лопнуть от стыда, и очень ловко вывернулся: «Спасибо, Шамо, но лучше давай сделаем так. Мы когда-нибудь специально приедем в твой аул. Считай, что один индюк наш, хорошо? А сегодня нам и обедать некогда…»
После этого случая ребята в цехе еще очень долго издевались надо мной. Как зайдет разговор о чьих-нибудь гостях, так показывают на меня: вот специалист, он может вам посоветовать, как гостей принять.
— Иван Дмитриевич, как бы вы поступили на моем месте? — спрашиваю я, вытирая руки ветошью, и рассказываю о своей заботе.
— Ох и любите вы, горцы, себе проблемы сочинять! — отмахивается он. Потом все же советует: — Да поведи ты этого своего Цирцениса после смены в столовку. Только прихвати в магазине бутылочку и подашь ему под столом стаканчик. А даме — шоколадку. Еще бы лучше — букетик, дамы это уважают, да откуда у нас в поселке букет…
Нет, не поведу я гостей на тридцатикопеечный обед в столовую…
Я советуюсь с Мути, он мне предлагает:
— Веди ко мне домой. Не хочешь?.. Ладно, выкинь это из головы. Что-нибудь придумаем.
«А зачем придумывать, если все давно придумано людьми?!» — соображаю я вдруг. Я бегу в общежитие. Возвращаюсь в цех с книжечкой «Вежливость на каждый день» и усаживаюсь в сторонке на противопожарном ящике с песком.
— Чего ты вдруг за книжку взялся? — спрашивает, пробегая мимо, Мути.
— Геометрию одного резца ищу.
— У-у, как у токарей все по-ученому.
Пока контролер ОТК щупает выточенные мною шайбы, у меня есть время найти в книжке то, что мне необходимо. Вот, пожалуйста, целая глава «Мы в гостях, гости у нас».
Во всей главе ни одной строчки, нужной для меня! Представляете? Кроме, пожалуй, одной: «Неожиданный визит гостя всегда приносит нам беспокойство». Это как раз про меня.
Вот вам и Европа. Да наш Марзи ей сто очков вперед даст!
Но Европа кое в чем абсолютно не согласна с Марзи. Он водил к профессору Штеберу тридцать своих приятелей со всех шашлычных и с дровяного базара. А в польской книжечке говорится, что вести с собой в гости встреченного на улице приятеля не разрешается. Даже знакомого или родственника, приехавших к тебе погостить, нельзя брать с собой. Сам ты и то не имеешь права так уж запросто побывать у своих. Ух, как бы плевался Марзи, если бы я прочел ему про это: «Визиты иногородних при современном образе жизни создают для хозяев серьезные проблемы. У знакомых и даже у родственников можно останавливаться только после многократного настойчивого приглашения…» Хаматхан — Доктор наук — проголосовал бы за такое правило обеими руками, чтобы начать наконец спокойно спать на собственной кровати.
«Когда подавать кофе»… «К закускам — водка. Никогда коньяк!» Прямо как пункты Уголовного кодекса. Не смей нарушать. Крепко у них в Европе дело поставлено. Как рассаживать гостей… «В наше время не очень удобно, когда хозяйка сидит во главе стола, ведь ей придется не раз выйти на кухню». Пусть она вообще попробует за стол сесть! Марзи однажды чуть не палкой поднял Буку, заметив, что она нечаянно присела к столу.
Насчет того, где кого за столом посадить, поляки тоже ломали голову, это сразу видно. И все равно до ингушей им далеко. У нас это целая наука — где кому сесть. Чеченцы всегда посмеиваются над нами за это. Дедушка любит рассказывать один чеченский анекдот, он считает, что никто на Кавказе не умеет складывать анекдоты смешнее, чем чеченцы. Недаром вспоминают слова Шамиля, вождя горцев, восставших в прошлом веке против царя: «На родном аварском языке я командую в бою, по-кумыкски говорю о любви, а шучу только по-чеченски».
Анекдот такой, он короткий. Чеченец едет по делу через ингушский аул. Его не хотят пропустить без внимания, срочно режут барашка. Но гость никак не может сесть за стол, он торопится. Закончив где-то свои дела, он через три дня возвращается через тот же аул. И что же? Оказывается, не опоздал к столу: здесь все еще только договариваются, кому где сесть. Каждый скромничает, старается уступить другому местечко повыше, причем надо учесть все: кто кому зять, у кого белых волос больше…
Да, много в этой польской книжечке непонятных для меня пунктов. Как все-таки по-разному люди на свете живут. Даже как чихнуть — и это поляки предусмотрели, специально записали.
И тапочки не забыли. Это мне, честно говоря, нравится. И дедушке бы понравилось. Бывая у некоторых городских родственников, я переживаю, когда мне суют под ноги тапочки. Хочешь не хочешь, а снимай свои туфли. У себя в ауле дедушка не разрешает гостю переобуваться. «Мой дом — не мечеть, — говорит дедушка гостю, — а полы для того и созданы, чтобы ходить по ним в том, в чем пришел». В этом пункте дедушка здорово сошелся бы с поляками. У них категорически записано: «В любом случае неудобно предлагать гостям тапочки. Это противоречит гостеприимству и говорит о дурном вкусе». А дальше совсем здорово сказано: «Гости в тапочках поневоле начинают говорить о цене на петрушку или о перебоях с горячей водой». Понимаю, автор шутит. Но если вправду даже разговор людей зависит от таких пустяков, как тапочки и прочая чепуха, — это уже не шутки, это имеет кое-какое значение.
Да, книжка интересная, но сегодня она мне не поможет. И вообще смешно это — жить по справочнику. Никто не поверит, что горец не знает без справочника, как принять гостя. Я буду соображать сам. По обстановке. Открыто спрошу у Цирцениса, что ему от меня требуется. Вот это и есть гостеприимство.
— Шамо, ты что, в библиотеке? — кричит мне мастер и показывает на станок.
Я работаю до конца смены довольно-таки ритмично. Потом иду в столовую, покупаю самые большие плитки шоколада, по рубль восемьдесят штука. Теперь добыть бы еще цветы.
Девочка Макка пасет своих овечек на углу заводского стадиона. Она почтительно привстает с корточек, бросив рисовать свои «классики» на кусочке асфальта, и ждет, что я ей скажу.
— Сможешь мне услужить? — спрашиваю я.
— И спрашивать об этом не надо… — чуть слышно отвечает она.
— Сумеешь собрать вон там, на лугу, цветы?
В ее черных больших глазах вспыхивают радость и ожидание тайны. Она подбегает ко мне и шепчет:
— Хочешь девушке подарить? Я сама и отнесу. А мальчишки покараулят овечек.
— Чего ты выдумала? Какой девушке? Собери хороший букет. Знаешь, где номер «люкс»? Отнесешь туда одной хорошей пожилой тете, она приезжая.
Макка стрелой мчится к лугу. И как это ее загорелым грязным ногам не больно мчаться по кочкам? Я зову ее назад, протягиваю плитку шоколада. Слышу ее удивленно-радостный смешок, она тянет свою чумазую ладошку, облизывает алую губу. Вдруг отшатывается, прячет руки за спину и шепчет, даже побледнела от волнения:
— Зачем это? Я ведь и без шоколадки соберу для тебя цветы, Шамо…
— Макка, возьми. Я давно хотел подарить тебе конфетку, мне очень нравится видеть, как ты помогаешь родителям, пасешь овечек.
— Хорошо, я возьму. Только ты не подумай, что я такая… продажная!..
Прижав плитку к груди, она бежит к лугу, а я смеюсь над ее словом «продажная». Где она такое слово услышала? И с такой козявкой тоже надо соблюдать всякие тонкости…
ЕСЛИ ДАЖЕ МЕТАЛЛ УСТАЕТ…
Интересно, чего у них там в номере «люкс» не хватает? То я им и предложу.
Всего у них хватало! Цирценис и его начальница сидели за обеденным столом. Перед ними стояла большая, как глиняное блюдо для вареной баранины, хрустальная ваза. А в ней, в вазе из хрусталя, полно жареной курятины. В простой миске груда алой редиски и стрелы зеленого лука, в другой миске — яблоки. Золотится на столе плоский горский пшеничный хлеб — толстая и пышная лепешка. Она только что разломана пополам, и от нее идет пар. Рядом стоит бутылка вина, я видел такое вино у нас в магазине. Хорошее вино, рубля четыре эта бутылка стоит. И минеральная вода «Боржоми». Чего тут не хватает, так это сладкого. Пригодится мой шоколад.
Цирценис вскочил, радушно пожал мне руку, представил этой женщине; ее фамилия Ярцева. И пригласил к столу.
— Сейчас вино откроем, — как-то неуверенно сказал он. — Нет-нет, вы не уходите, Шамо. Я хотел вас искать, мы завтра как раз планируем побывать и в вашем цехе.
Что же это получается? Гадал, как угостить их, а угощают меня.
Они заканчивали какой-то свой разговор, а я оглядел номер «люкс». Комната большая и обставлена довольно шикарно. Стол обеденный и еще один стол — письменный, застеленный постельным покрывалом. Белое покрывало. На уголке черная клякса с ладонь величиной. Это расплылся инвентарный номер. Такие номера завел у нас еще Джамбот, чтобы вещи не терялись. Кресла удобные, низенькие. Светлый платяной шкаф, две никелированные кровати. Пол немножко подкачал: половина покрыта паркетом, а вторая половина — крашеный цемент.
Ничего номер, если сравнить с нашей комнатой. Но самый шик здесь, конечно, убранство обеденного стола.
— Ешьте, Шамо, — угощает Ярцева. — Не хотите больше? Мы сначала просто не знали, как поступить с вином, с этой курицей, овощами, фруктами. Представьте себе, приходит молодой человек, приносит все это и говорит: «Ваш знакомый поручил позаботиться о вас, дорогие гости». И исчез… Вам тоже нравится хрустальная ваза, Шамо? Красивая. Курица в хрустальной вазе — это довольно необычно…
Я действительно пялю глаза на вазу. Ей-богу, только в доме у Мути и видел я такую вазу! Кто-то им ее подарил.
Вот, значит, что придумал Мути. Наверное, так научил его поступить отец. Или мать. А может быть, и сам догадался проявить внимание ко мне, к моим гостям. Только вот кто мог надоумить принести курицу в хрустальной вазе, это к не знаю. У нас я такого обычая не помню. В польской книжке об этикете я тоже про это ничего не читал. Ну ничего. Важно, что есть курица.
А вот и букет цветов. Хорошо, что он в эту минуту сюда попал. Черноглазая Макка, постучав, входит в комнату с пышным букетом полевых цветов, обнимает его двумя руками. Она выглянула из-за вороха цветов, как осторожный зверек, смущенно топчется босыми ногами по полу. Потом набирается смелости и, не глядя на меня, идет к Ярцевой, шепчет:
— Это вам, тетя…
Женщина удивилась, приняла букет, смотрит на цветы. Вижу, у нее глаза разбегаются, а на лице блаженство от аромата. Ведь таким прохладным луговым простором в комнате вдруг запахло. Ярцева уронила голову в цветы и замерла. Удивительно, как на женщин цветы действуют.
Потом Ярцева подняла голову, словно проснулась. Даже не видит, что девочки в комнате уже нет. Верите, у меня чуть слезы на глазах не навернулись от радости, что так легко можно сделать человеку приятное.
— Удивительно, удивительно все это… — бормочет Цирценис. — Простые душевные движения находят такую изящную форму… Горцы с их великолепным инстинктом чувствуют, когда как надо поступить.
— Ах, какие цветы! — восклицает Ярцева. — В луговых цветах своя особая прелесть… Разве дело только в инстинкте? Горцы испокон века очень скрупулезно отрабатывали, если так можно выразиться, технику общения. Это очень гармоничный и отнюдь не случайный элемент их культуры. Товарищ Газзаев, безусловно, прав, когда говорит, что многое в древних обычаях устарело и должно беспощадно отвергаться. Однако нельзя из-за плохого брать под подозрение и все хорошее. Эдак среди молодежи не будет должного уважения и к новым традициям. Посмотрим, посмотрим, что из старого людям нравится, а что не по душе… Материала для наблюдений на заводе много. Шамо, ваша молодежь обязана помочь нам. Подключайтесь и вы, хорошо? Я пью это вино за молодых рабочих-горцев, Шамо!
Красиво и гладко она говорит про культуру. Оратор, очко вперед даст самому Газзаеву! И строгая, энергичная, сразу видно. Только когда цветы берет в руки, лицо становится молодым и румяным, как у девушки.
Вот и сейчас лицо опять такое сделалось, прижимает букет к груди и говорит Цирценису:
— Думаю, девочки вазу для этого чудесного букета найдут?
Цирценис отговаривает ее идти спать к нашим девушкам:
— Устраивайтесь здесь, прошу вас! А я пойду ночевать к Шамо. У девочек вам будет тесно.
— Нет, мне есть о чем поговорить с молодыми работницами. А вы сможете разложить здесь таблицы, записи — тут просторно. Обрабатывайте материал сразу, чтобы не накапливался, — произносит она в дверях, и лицо у нее снова строгое, деловитое.
…Мне интересно было бы узнать, что они тут такое у нас на заводе затевают, но мешать Цирценису нельзя. И потом, у горцев такой обычай: первые три дня не спрашивать гостя, зачем он приехал и прочее. А то подумает, что спешат от него избавиться. Здесь, конечно, другой случай. Цирценис не у меня дома в гостях. Но разве мы оставляем дома свои привычки? Они с нами ходят.
Я вернулся к себе из номера «люкс» и сразу уснул.
Спал я неспокойно. Мне снился очень длинный сон про одно и то же — как у нас в Дэй-Мохке и на заводе все переменилось за один день. Люди стали веселые и простые, как один. И воспитанные не хуже Цирцениса: девушка несет тяжелый ящик с заготовками, а ребята кидаются к ней помочь.
Возле заводской проходной я вижу улыбающуюся Кейпу, она мне говорит: «Что же ты не встретил меня на автостанции? Я ведь приехала в Дэй-Мохк, чтобы работать с тобой на заводе. Пойдем в цех!» На посту в проходной стоит Хахаев, лицо у него сияет. Он сыплет шутками, как Мути, то и дело открывает нажимом ноги нашу пропускную вертушку-автомат и весело покрикивает: «Следующий! Следующий!» Кейпу он пропускает, а меня задерживает, потому что у меня слишком задумчивое, нерадостное выражение лица. «Не могу, Шамо, — говорит он. — С таким лицом ты расстроишь других, они снизят выработку на семнадцать процентов!» Я ему отвечаю: «А как же будет с моей любовью? Кейпа — там, а я — тут…» С территории завода доносятся голоса, что меня надо обязательно пропустить. Громче всех кричит в мою защиту Джамбот. «Пусть слово «любовь» будет нашим паролем!» — поддерживает Бука, и Хахаев пропускает меня, а Замир говорит Кейпе: «Тебя люблю я, любит и Шамо. Выбирай сама! Он хороший парень, у меня хватит мужества порадоваться, даже если ты выберешь его».
Потом Кейпа исчезла как в тумане. Или, скорее всего, затерялась в толпе людей, которые ждут чего-то перед высоким, до облаков, занавесом. Играет оркестр. Наш директор вместе с приезжавшим к нам человеком из Совета Министров разрезает красную ленту, занавес раздвигается, и из ворот главного заводского корпуса выезжает длинная сверкающая машина. На ее радиаторе красуются турьи рога, в открытом кузове стоит токарь Иван Дмитриевич. Он на этой первой, выпущенной нашим заводом машине едет к себе в Сибирь.
Из толпы выбежала маленькая Макка в чистом голубом платье и протянула Ивану Дмитриевичу букет луговых цветов. Иван Дмитриевич взял их и торжественно подарил старой Нани, которая идет рядом с машиной. Нани вместе с Ярцевой пытаются поставить букет в плывущую по воздуху хрустальную вазу, но букет никак не хочет стоять, потому что ваза широкая и низенькая, как глиняное блюдо-миска для вареной баранины. Все равно никто не огорчается, все кругом смеются, хлопают в ладоши. И только один Цирценис почему-то стал в этот момент грустным; он идет рядом со мной и шепчет испуганно: «Шамо, Шамо»…
Дальше я не могу сразу сообразить, сон это или нет. Над моей постелью склонился Цирценис и тихо, чтобы не разбудить Башира, шепчет:
— Проснитесь, пожалуйста, Шамо!
Свет уличного фонаря падает к нам в комнату, и я вижу, что лицо у Цирцениса испуганное.
— Который час? — вскакиваю я.
— Три часа ночи. У меня в номере произошло нечто ужасное, непонятное. Взрыв! Страшной силы взрыв!
«Жертвы есть?» — это, кажется, первое, что в таких случаях полагается спрашивать. Не жертва в номере «люкс» могла быть лишь одна, а она стоит передо мной вполне здоровая, в белоснежной сорочке, галстуке и пиджаке.
— Вы разве еще не ложились? — спрашиваю я, натягивая брюки.
— Я спал! А как только раздался взрыв, я немедленно направился за вами, — шепчет он. — Даже свет не зажег.
— Вы одетый спали?
— Я же говорю — я спал!
Нет, такой человек даже мысли не допускает, что можно спать одетым. А в общий коридор он не выйдет раздетым. Даже при атомном взрыве. Только в галстуке выйдет.
Я тоже аккуратно одеваюсь и иду с Цирценисом. Что же могло произойти? Упала люстра? Это бы Цирценис заметил. Значит, обвалилась полка шкафа или выпал какой-нибудь кирпич из стены. А мог слегка треснуть стол, это бывает, что мебель по ночам рассыхается, именно почему-то по ночам. Ночью любой звук может показаться спросонок целым взрывом.
Скорее же всего, ничего и не было, Цирценису померещилось. Он вообразил себе взрыв. У меня во сне было целое кино. У него — взрыв.
Так и есть. Померещилось. Никаких признаков мы не нашли. Люстры тут вообще нет, а висит большой стеклянный шар. Кажется, раньше он висел в нашем цеховом туалете. Джамбот приказал перенести для красоты сюда.
Стекла целые. А при взрывной волне они бы вылетели.
Цирценис заметил на моем лице недоверие и заволновался:
— Взрыв! Именно взрыв. Буммм! И хрустальный звон…
Все ясно. Проболтался Цирценис: вазы-то на столе нет! Он ночью спросонок кокнул хрустальную вазу. Наверное, опять захотел курятины и кокнул вазу. А черепки мог спрятать в чемодан.
Мне сразу стало стыдно от такой своей нехорошей мысли. Нельзя плохо думать о людях. Все же я решился спросить:
— А ваза… которая с курицей, помните? Она не могла… повредиться?
— Кто? Курица? — беспокойно спросил Цирценис.
— Ваза.
— Ах ваза! Я спрятал ее в тумбочку письменного стола. В ней, между прочим, еще много курятины.
Он полез было доставать вазу, но я крикнул:
— Стойте! Не трогайте…
Какой-то необычной мне показалась ваза. В потемках тумбочки не очень хорошо разглядишь, но одно ясно: ваза перестала быть прозрачной. Как будто покрыта мелкими-мелкими капельками воды. Похоже на густую росу. И хрусталь какой-то распухший, рыхлый, это и на глаз видно.
Я осторожно взялся за краешек вазы. Он отломился, остался у меня в пальцах, как комочек рыхлого льда! Ну, такое я никогда не видел и не слышал… Стоит себе хрустальная ваза, круглая, со всеми своими гранями и насечками, золотятся в ней поджаренные кусочки курицы. А трогаешь вазу — она мягкая. Словно детишки только что слепили ее из рыхлого снега или из белого сырого песка. Так и рассыпается…
Цирценис тоже тронул вазу и стал рассматривать свои пальцы, не верит своим глазам.
Я наконец понял, в чем дело. Взрыв и превращение вазы в пыль — причина одна! Ваза устала и взорвалась. Есть такое свойство у металлов, я это помню еще по своей учебе в ПТУ: металл устает. А хрусталь разве не может устать?
Металл устает тихо и никому не жалуется. А хрусталь капризный, у него нет мужской выдержки, хотя, я слышал, немного металла в него для стойкости добавляют. Окись серебра или что-то в этом роде. И вот ночью ваза, не выдержав усталости, взорвалась с шумом ружейного выстрела.
— А ведь утром тот молодой человек придет за ней, — говорит Цирценис, достает бумажник, пересчитывает свои командировочные денежки. — Как вы думаете, Шамо, сколько может стоить такая великолепная ваза?
На этом он и попался. В его собственной польской книжечке имеется прямая инструкция: «Если мы разобьем или испортим, будучи в гостях, вещь, то деньги взамен не предлагаем ни в коем случае».
Наверное, нет на свете человека, который знает весь этикет. Даже такой специалист, как Цирценис, допустил ошибку! Один — ноль в мою пользу.
Я вежливо даю совет:
— Не вздумайте платить. Не полагается!
Рассчитываться с Мути буду я. Интересно, сколько же эта ваза стоит? Рублей пятьдесят? Сто?
Я думаю, не следовало угощать гостей курятиной в такой вазе. Это вообще смешно, когда курица — в хрустале.
Но люди же хотели, чтобы все было покрасивее! Обидно, когда ничего из такого желания не получилось и осталась только хрустальная пыль.
Пойду досматривать свой сон. Может быть, мне удастся еще раз увидеть Кейпу.
КАКИЕ ПАРНИ НРАВЯТСЯ ДЕВУШКАМ
— Ты что, оглох? — слышу я над ухом чей-то нетерпеливый девичий голос.
— Извини, Таня, задумался… — говорю я и останавливаю станок, а потом ни с того ни с сего вдруг спрашиваю: — Скажи, Таня, какие парни девушкам нравятся?
— Ты бы с утра чего-нибудь полегче спросил, — почему-то смутилась Таня. — И потом, как можно говорить о парнях вообще? Нет же такого стандарта. Тебе хочется знать, нравишься ли девушкам ты?
— Нет-нет, Таня. Ну, вот Замир…
— Замир? Он может произвести впечатление. Галантный. И красивый.
— Это главное?
— А что главное? Полторы нормы на станке выполнять? Мне нравится и Юра, и Алим-Гора. Я на любой заводской пикник еду, если едет Алим-Гора. При нем никто слова лишнего себе почему-то не может позволить. Думаешь, боятся его силы? Нет, ребята у нас не пугливые. Какая-то надежная твердость и мужская заботливость о слабых у него есть. И чистота… Ну? Покончили с производственными вопросами? Тогда приглядись вот к этому колпачку. Учти, я тебе это по комсомольской линии говорю.
— Так. Пригляделся. И вижу, что он ко мне отношения не имеет.
— Знаешь что, Шамо, у тебя ни одного рацпредложения! Это тебе известно? Так вот, колпачок сверлилки. Для его изготовления мы делаем шесть операций: вырубить заготовки, сделать вытяжку, выточить два винта, сделать на них резьбу, затем нарезать на них фрезой шлицы, наконец, пробить отверстия для этих винтов. Шесть!
— Ясно. Самые примитивные операции. При чем тут я, Таня?
— Операции-то простые, но на последней запарываемся: пробивать отверстия приходится с боку колпачка, это неудобно и трудоемко. Больше ста пар отверстий за смену не пробиваем, получается резкий разрыв с другими операциями. Из-за такого пустяка задерживается сборка машинок, все время жалобы и скандалы. Директор вовсю ругается.
— Таня, я же токарь…
— А тут нужен не токарь, не слесарь и не инженер. Нужна голова!
— Я — это голова?
— Найдутся и получше, Шамо. Все же погляди на колпачки свежим, сторонним глазом. Вдруг что-нибудь и в твоей голове мелькнет. Так бывает. А может быть, с Хасаном хочешь об этом потолковать?
— Нет, нет, Таня, лучше без Хасана! — Я сделал глубокий рыцарский поклон, помахал у ног Тани воображаемой шляпой с пером: — Просьба дамы для меня закон!
— Вот таких и любят девушки, Шамо. А вообще-то сказать…
Она вдруг зарделась, опустила глаза, стала зачем-то тереть пальцем этот замасленный колпачок.
— Знаешь, Шамо, наступает день, когда на всем свете есть один парень. Один! Единственный.
А-а, понятно. Этот день, если я верно заметил, для Тани настал. На всей планете есть один-единственный парень — Ибрагим, он работает у нас в Дэй-Мохке инженером-механиком совхоза. Кажется, в родстве с Алимом-Горой. Я помню, Таня и Ибрагим вместе участвовали в каком-то рейде райкома комсомола.
Я рад за тебя, Таня! Он очень привлекательный и открытый парень, этот Ибрагим. Но еще вопрос, как его родители отнесутся к вашей дружбе.
— Я должен видеть, как этот колпачок ведет себя в сверлилке, Таня. Видеть его в сборке.
— Получишь. Я выпишу сверлилку на себя. Постарайся, пэтэушник! По-моему, ты — голова. Задумчивые люди всегда до чего-нибудь додумываются. Ну, запускай свой станок…
Вскоре меня оторвал от работы еще один человек — Цирценис. Наверное, он уже запутался в лицах. Не сразу соображает, что это я, Шамо, а раскрывает блокнот, чтобы записать мои имя и фамилию. Потом радуется, что я — это я, задает мне странный вопрос:
— Вас ругает мастер или начальник цеха, Шамо?
— Обязательно.
— И когда же вам приятнее слышать замечания?
— Никогда, — честно отвечаю я, но этот ответ Цирценис не записывает.
— Понимаете, Шамо, одни из ваших станочников полагают, что гораздо лучше, если замечания сделаны начальником в конце смены и в конце рабочей недели. Не в начале, а в конце. Тогда это не выбивает из рабочего ритма, не отражается на выполнении задания.
— Лучше, если в начале. А то придешь домой и вместо отдыха переживаешь.
— Какое же замечание может быть в начале смены? Авансом?
— Нет. За вчерашнее. Да всегда найдется за что.
— Ясно. Видите, какие разные точки зрения. Спасибо, Шамо. Это у нас пока беглый, прикидочный опрос. Позже мы проведем социологическую анкету. Мы хотим, чтобы у инженерно-технических руководителей были научные рекомендации, как строить этику отношений. И по вертикали, и по горизонтали.
А-а, понимаю. Горизонталь — это я и Мути. Или мастер и мастер. А вертикаль — это я и мастер.
— Что вы скажете, Шамо, о продолжительности замечания?
— Лучше, если коротко.
— Резонно, вполне резонно. Стопроцентное восприятие информации, идущей из уст начальника, происходит лишь на первом этапе общения. В последующие минуты этот процент начинает резко снижаться. У наших коллег из ГДР — у немецких ученых — имеются любопытные наблюдения на этот счет.
— А у поляков? — спрашиваю я.
— Вероятно, у них эти проблемы пока разрабатываются мало. Как, впрочем, и у нас. Ну, мы еще выступим на заводе со своими соображениями.
Цирценис вальсирует дальше, виновато улыбаясь встречным. Похоже, что наши девушки уже не шарахаются от него. Когда он пройдет, они начинают шептаться между собой и смеются.
А Ярцева меня разоблачила. Я и Мути поели в обеденный перерыв и шли к озеру, положив руки друг другу на плечи. А Ярцева возвращалась с луга вместе с Маккой, в руках у них цветы. Ярцева увидела меня и Мути, сразу догадалась, что мы — друзья. Она издали погрозила мне пальцем, со смехом покачала головой:
— Попались, Шамо? Вот выдам вас Цирценису.
Мы с Мути идем в обнимку дальше, он говорит:
— Ты и Гора жить не умеете спокойно! Мать мне за эту вазу голову оторвет. И дались тебе эти обычаи, всякие тонкости поведения… Заводской котел все переварит! Проще надо жить, проще, а то все время будете вы с Горой задумчивыми ходить. Смотреть противно на вас.
Как же мне не быть сегодня задумчивым, если завтра суббота? Я уеду завтра в Грозный и найду Кейпу. Я буду искать ее день, два, неделю. Месяц. Я не вернусь в Дэй-Мохк, пока не найду ее.
Я САМ ПРОШУ ПОРУЧЕНИЕ. ПОНИМАЕТЕ? САМ
Тебе хорошо собирать цветы на лугу, Кейпа? Ты ли это?
Я поднимаю глаза к горам, к синему небу, где бродят бело-голубые облака. Горы — это горы. Облака — это облака. Глаза меня не обманывают.
Но ты — это ты, Кейпа? Здесь, в Дэй-Мохке?! На нашем заводском лугу?! Ты гибко вскочила на серый камень, высящийся над луговой травой, ты подняла вверх руку с цветком, будто разглядываешь, хороша ли эта ромашка на фоне гор и неба.
Я вижу твои ноги, успевшие так нежно загореть за месяц весны. Я вижу, как полыхнули солнцем твои волосы. Все так же, как тогда, в городском скверике. С той лишь разницей, что тогда ты была. А теперь тебя нет. Ты не можешь быть здесь. Мне показалось, что это ты.
— Шамо, совсем совесть потерял — так разглядывать девушку? — раздается у меня за спиной насмешливый голос Мути.
— Ты не знаешь, кто это? — спросил я, не оборачиваясь. — Там, на лугу…
Я зажмурил глаза и тотчас открыл их. Девушка спрыгнула с камня и обернулась к нам.
Это была Кейпа. Она стояла неподвижно, и луговой ветерок не шевелил ее волос.
— Не знаю, что ты в ней нашел, — фыркнул Мути. — Слишком худая. Мне больше нравятся полные.
Ноги медленно несли меня туда, где неподвижно стояла, склонив голову и глядя на нас исподлобья, Кейпа.
— Новенькая, с фабрики, — спешил мне вдогонку Мути. — Художница или практикантка у художницы, не знаю, ребята еще не выяснили. Роспись тканей будет делать. Думаешь, она сейчас гуляет? Нет, это у нее такая работа. Целый день может по лугам гулять: смотрит на цветы и придумывает новый рисунок. Нам бы с тобой такую работу! Да, Шамо? Бутылочку пива в карман — и гуляй по лугу. Два раза в месяц расписываться в кассе.
— Отстань от меня…
— Тьфу, зануда. Правильно Алим-Гора говорит, что ты за эту неделю всем ребятам надоел. Если у тебя кто умер — скажи, похороним.
Мути отстал, но потом догнал меня прыжком и прошептал в ухо:
— Смотри не нарвись: ее уже с Замиром видели. Мое дело — предупредить. Не опоздай в цех! Перерыв кончается.
…Она все так же исподлобья продолжала смотреть в мою сторону и не двигалась, застыла на месте. Но теперь я видел, что ее грудь сдержанно вздымается, а на шее у нее быстро-быстро бьется голубая жилка. Мои ноги заплетались в высокой траве и цветах, я боялся, что этот шелковый шелест может спугнуть Кейпу. Так было однажды в лесу, куда Марзи водил меня на охоту. Молодая лань замерла на опушке горной чащи, я открыто шел к ней по травянистой поляне, опустив ружье. Так же, как сейчас, шелестела трава. Мне казалось, что еще миг — и лань расслабит свое дрожащее от волнения тело, покорно подойдет ко мне и доверчиво коснется моей шеи теплыми губами. Но лань пружинисто вспрыгнула и растаяла во тьме леса.
— Здравствуй… — тихо сказал я девушке, робея от ее пристального взгляда.
Она наконец вскинула голову, внимательно поглядела в сторону сверкающего, искрящегося озера. В пальцах у нее был цветок. Она резко ударила им по букету, дунула по взвившимся пушинкам. Откинула прочь ненужный теперь стебелек и ответила мне спокойно:
— Здравствуй.
Вот и весь наш разговор. Ни минутки мы не были с ней больше. Она повернулась и пошла в гору по лугу, к своей фабрике. Я не посмел сделать и шагу за ней. Даже смотреть вслед не решился.
Я подобрал брошенный ею стебелек. Посмотрел на горы. Всю гряду затянула синяя дымка, кое-где даже черноватая. Наверное, там, в горах, идет дождь. А может быть, и снег идет, бушует горная вьюга, с грохотом низвергаются по крутым склонам лавины. Такое случается в горах часто. В долине теплынь. Солнце совсем уже почти летнее. А в горах скоро начнется таяние снегов, лавины сорвутся с цепи, реки долин станут многоводными, сумасшедшими.
Пусть не видно Казбека, пусть там бушует вьюга. Здесь, в долине, хорошо, тепло, как не было никогда в жизни.
Мне ничего от тебя не надо, девушка. Ты мне все уже дала: ты — здесь.
Чтобы сократить путь в цех, я пробежал через стадион, через двор заводского ПТУ и перелез через кирпичный забор.
Тут, за котельной завода, такой глухой угол, что сюда редко заглядывают в дневное время охранники-во́хровцы. Этот пустырь зарос травой, лишь кое-где торчат хилые деревья нашего молодого сада.
Выше деревьев торчит голова Хасана. Я вполне мог пробежать сторонкой, но вместо этого пошел прямо на секретаря и сказал ему:
— Может быть, есть какое-нибудь поручение, Хасан?
— Коса, коса… Где же добыть обыкновенную крестьянскую косу? — бормотал Хасан и поглядывал кругом, словно коса могла висеть на одном из деревьев.
Я вспомнил, в чем дело. Завтра ребята собираются на два дня к Каспийскому морю, надо накосить травы, чтобы застелить кузов машины. Вот и палатка поставлена. Старая наша порыжевшая палатка. Ребята обступили ее, латают, меняют обветшавшие за зиму оттяжки.
— Черт возьми, — злится Хасан, — живем, по существу, в деревне. Крестьяне. А косы обыкновенной во всем поселке не найдешь. Такие уже индустриальные стали, дальше некуда… — Он обернулся ко мне. — О каком ты поручении, Шамо? А, поручение! Да-да… Сам просишь? Поедешь за конями в Дагестан. Совхоз жалуется, что мы плохо над ним шефствуем. Поможешь им пригнать коней. Ребята говорят, что ты любишь такое дело… Молчишь? Ты смотри, Шамо! Попробуй только отказаться. Думаешь, историю с выселением Юсупа комитет тебе простил? Скажи спасибо директору, он за тебя заступился. Но сорвешь поручение еще раз, помни: директор на комсомольском собрании не голосует!..
Он объясняет, что я сорвал не просто поручение, а, по существу, идеологическое поручение. Так сказал Газзаев. Больше ничего идеологического мне доверять нельзя.
— Давай лошадиное поручение, давай любое! — отвечаю я, думая о своем — о том, что куда бы я ни поехал, в Дагестан или еще подальше, я вернусь и увижу Кейпу. Она будет меня ждать, как ждут героя из дальнего похода.
— «Давай поручение»… Ребята, вы слышали? Что-то с тобой происходит, Асланов! Ехать на той неделе или позже, совхоз скажет когда. Только заранее подгони задел. За время поездки получишь по средней.
Я улыбаюсь своим мыслям о Кейпе. Хасан вертит головой, словно его худой шее тесно в галстуке, и с презрением произносит, призывая в свидетели ребят:
— Видели его душонку? Радуется, что ему по средней заплатят! Да ты, Шамо, за рубль удавишься, как Гиха и Сидор!
Я не слышу, как Хасан раскладывает мою душонку по полочкам, потому что спешу пробраться через упаковочный участок в свой цех, есть там такая незаметная дверь.
Мастер все же заметил, что я опоздал. Ничего, пусть ругает. Пусть говорит мне что хочет, и в начале смены, и в середине, и в конце. Пусть думает, что у меня идет стопроцентное восприятие информации.
А я знаю только одно: над моим станком торчит небывало прекрасное украшение — потемневший голый стебелек лугового цветка.
ЧАСТЬ III
У ФАБРИЧНОЙ ПРОХОДНОЙ — НАШ НП
Сразу после смены, едва прибрав рабочее место, я бегу самым кратким путем на фабрику. Снова через заводской забор. Потом через луг. Одолеть косогор можно быстро, если бежать между картофельными полями.
Колонна тупоносых автобусов уже выстроилась перед проходной. Многие девушки вышли, чтобы успеть занять места получше. Кейпы среди них нет.
На скамейках перед проходной уже сидят ребята. И наши заводские и не наши. Они развалились с безразличным видом, глазеют на небо, на озеро — куда угодно, только не на двери проходной. Однако стоит хлопнуть дверям, как все головы слегка поворачиваются туда. Каждому кажется, что это незаметно, но когда смотришь со стороны, то здорово видно, куда держат равнение ребята.
Пожилой сторож с белым, бескровным лицом и в войлочной шляпе-«лопухе» обходит ряды, постукивая палкой по асфальту. Я подхожу поближе, чтобы примкнуть к нашему НП — наблюдательному пункту, и слышу, как ворчит сторож:
— Слетелись, словно мухи на мед. Неужели нельзя чуть-чуть больше достоинства иметь? Хоть бы пожилых женщин постыдились!..
Заметив меня, сторож приставляет ладонь к глазам:
— Еще один? Новенький! Ну давай, давай, становись и ты в почетный караул. В мое время и получше бывали девушки на свете, но мы им столько чести не воздавали. А все равно своих невест находили!
Ребята видят, что я краснею, спешат на выручку:
— Да он же товарища пришел повидать! Что у вас тут, колония, что ли, закрытая зона?
— Да пропади вы пропадом! — сердито отплевывается сторож. — Откуда у вас столько товарищей на женском предприятии? Я иной раз по всей фабрике пройду и не нахожу, у кого прикурить. В юбках все ваши товарищи, бездельники вы этакие! Зона не зона, а директор ругается, что из-за вас утечка кадров может произойти: один старик уже испугался этих ваших смотрин, забрал внучку с фабрики. Поняли, в чем дело?
Никто из нас не слушает его, потому что широкие двери фабрики то и дело выпускают девушек. Стаю за стаей. Успевай только не прозевать нужное тебе лицо. Самое дорогое и близкое на свете.
Платья и косынки девушек такие яркие и разноцветные, что рябит в глазах. Будто не с фабрики выходят девушки, а из театра. Одна наряднее другой.
Перебираешь речную гальку, сверкающую, чистую, влажную. Каждый камешек по-своему красив, но ты даешь им течь, шуршать по ладоням и соскальзывать в волну. Лишь бы не упустить тот единственный, который ты ищешь среди камешков.
Где же в этой толпе девушек то единственное для меня лицо?
Не ошибся ли Мути? Может быть, она совсем и не работает на фабрике, приехала на денек, а Мути спутал ее с кем-то!
Вот она, Кейпа! Она идет под руку с какой-то девушкой. Шепчутся на ходу, поправляют косынки. На Кейпе простое клетчатое платье, а кажется она наряднее всех. Из-за того, что такая улыбка? Я не видел раньше у нее улыбки. Как смеется, видел, только не помню, какое у нее было при этом тогда, в скверике, лицо. А улыбка делает ее лицо очень добрым, таким добрым, что страх уходит у меня из сердца.
Подруга слегка толкает Кейпу локтем в бок: наверное, заметила, какими я глазами на Кейпу смотрю.
Кейпа нахмурилась и обвела взором наш наблюдательный пункт.
Я успеваю спрятаться, потом вспоминаю, что в моей яично-морковной кепке все равно не спрячешься.
Я выглядываю из-за чьей-то головы, и мои глаза на миг встречаются с глазами Кейпы.
Всего на миг. Но мне кажется, что я плыву с этой девушкой давно-давно по тихому озеру, влажные ветви свисают над водой, касаются наших лиц. «Я хочу изредка видеть тебя и думать о тебе, не запрещай же мне…» — ничего, кроме этого, не могут сказать мои глаза. Пусть же она не перечеркнет улыбкой или смехом мою маленькую просьбу…
Подруга Кейпы хихикнула и быстро закрыла носовым платочком лицо. Но Кейпа не поддержала этого смеха, не улыбнулась. Она прошла мимо меня серьезная и задумчивая.
Теперь мне оставалось увидеть, в какую машину она сядет. Если вон в ту, значит, поедет к улице, на которой живет Замир. И тогда я самый счастливый человек на свете: может оказаться, что Кейпа всего лишь родственница Замира, иначе она ведь не может жить в его доме.
Нет, она проходит к следующему автобусу… Этот пойдет мимо автостанции. Может быть, девушка каждый день уезжает в Грозный? Живет там?
Нет, подруга тянет ее дальше, и они садятся в автобус, который покатит мимо нашего завода к центру Дэй-Мохка. Я тоже имею право сесть в этот автобус. Но я этого ни за что не сделаю, меня обожжет взгляд Кейпы. Ведь она уже так много позволила мне…
Я долго провожаю взглядом автобус, завидую всем, кто едет в нем вместе с Кейпой.
Разъехались все машины, повезли девушек кого в дальние аулы, кого в ближние, кого в городок. В одиннадцать разных мест, откуда в понедельник все опять съедутся сюда. Ранним утром в понедельник автобус снова повезет Кейпу мимо нашего завода, мимо моего общежития. Я обязательно увижу девушку, я буду ждать возле дороги, кто мне это запретит? Прожить бы как-нибудь этот долгий вечер и предстоящую длинную ночь… И еще потом два дня!
Наш почетный караул медленно расходится; пустеет площадь перед фабрикой. Сторож кричит нам вслед:
— Куда же разбегаетесь, джигиты? Подождали бы, я вам ваших товарищей пойду вызову, если сумею найти их на фабрике…
Он хохочет. Не знаю, как другие ребята, а мне становится тошно. Злой или очень скучный человек этот сторож. Никогда не знал он любви. В его время еще могло ведь случаться, что парня даже не спрашивали, кто дорог его сердцу.
Теперь я скажу вам самое удивительное. То, о чем я сам узнал только много времени спустя.
Не случай свел нас в Дэй-Мохке с Кейпой. И не то, что зовется судьбой.
Она, Кейпа, сама захотела быть там, где я. И попросилась на практику сюда, чтобы быть рядом со мной.
Сколько дней, и радостных, и мучительно-горестных, пройдет, пока я об этом буду знать!
Я теперь вижу ее два раза в день, а то и чаще… Конечно, чаще! Проезжает мимо завода — вижу почти всегда. Знаю, где она живет, вижу изредка и там, когда мелькнет в калитке ее стройная фигура.
Но уж два раза в день вижу ее возле фабричной проходной обязательно. Суббота и воскресенье, конечно, не в счет.
«Значит, ты у нас теперь тоже окончательно закрепился? — спросил меня на днях сторож, словно кадровик, оформляющий нового работника. — Воллахи, я уже могу сдавать тебе свою вахту и берданку!»
Я влюблен, теперь-то в этом сомневаться нечего. Мне кажется, что невлюбленных людей на свете вообще не может быть, если они молоды. Влюблена в своего Ибрагима Таня. Влюблен Замир. Влюблен я.
Влюблен — это я точно знаю — фрезеровщик Асха́б с нашего завода.
Алим и Асхаб что-то затеяли серьезное. Мне обидно, что Гора от меня может это скрывать. С Асхабом они друзья. Асхаб мировой парень, безотказный, но у меня с ним особой дружбы нет. Только через нашего общего друга Алима у нас отношения.
Он, этот Асхаб, до смерти любит девушку с трикотажной фабрики. Та девчонка тоже готова за него в огонь, но ее родители поставили условие: никакой женитьбы, пока у молодого человека не будет своей крыши над головой.
Асхаб такой замечательный работник, что его поставили на очередь для получения отдельной комнаты в общежитии, чтобы он смог жениться. Но родители девушки и об этом варианте слушать не захотели. Имей в общежитии хоть три номера «люкс», ты все равно бездомный, если у тебя нет «своего плетня».
Я думаю, что у Асхаба не одна эта загвоздка. Родители у девчонки такие люди, что без калыма ее не отдадут… Вот влетел парень! Это значит, что ему надо целых два сезона провести на «шабашке» в дальних краях, чтобы накопить на калым и на дом. А он не из таких, которые бросят производство. Но и не такой он, чтобы от своей любви отказаться. Так мне кажется.
…Стемнело. С площади доносится тихий стук в ладоши и печально-лихой напев танцевальной мелодии. Я иду туда.
Ребята вытолкнули меня в круг, пришлось станцевать. Пробовали вытолкнуть еще раз, но я увидел в стороне силуэт легковой машины. Обратил я на машину внимание только потому, что рядом темнела высокая фигура. Это мог быть лишь Алим. Рядом с ним, кажется, Асхаб. Как-то незаметно и таинственно исчезли они с танцулек.
Явно собираются на какое-то дело. Пусть будет на совести Алима, что он мне не открылся, не зовет с собой. А на моей совести останется, если я не предложу своей услуги товарищу. Это мне не раз твердил Марзи: «Если ты увидел, что твой товарищ идет на опасность и ты не пошел с ним — пусть даже тебя не позвали, — то в случае плохого исхода вина падет и на тебя. Особенно если ты — последний, кто его видел».
Я подхожу в потемках к Алиму и говорю тихо:
— Вижу, что вы с Асхабом не на гулянку собрались. Лезть в ваши секреты я не собираюсь, но без меня ты не поедешь, Гора.
Он смеется, обнимает меня, но я не даю себя обмануть, отталкиваю Алима.
— Слушай, не надо обижаться, — говорит он терпеливо. — Мы не берем с собой Мути потому, что он после обязательно начнет острить и проболтается. А ты и так на заметке у Газзаева…
Я наклонился, быстро просунул руку в окошко машины и выдернул ключ зажигания.
Шофер, незнакомый мне парень, даже не шевельнулся, спокойно сказал Алиму:
— Гора, ключ-то этот нахал вставит на место сейчас же, я позабочусь. Но дать ему раза два по шее за то, что он посмел тронуть мою машину, я считаю неприличным без твоего позволения: он ведь твой друг?
Я вижу, Гора сам бы с удовольствием стукнул меня. Он усмехается и рассеянно барабанит двумя пальцами по своей нижней губе. Это верный признак, что у Горы чешется кулак.
Я кладу ключ в карман и собираюсь уйти.
Алим шепчет что-то вроде «черт бы тебя подрал, тихоня», хватает меня за плечо, толкает в открытую дверцу машины, командует ребятам:
— Поехали! Быстрее. Нам нельзя крутиться тут на виду у всех.
МЫ ЕДЕМ ПОХИЩАТЬ ДЕВУШКУ
— Братья у нее удалые ребята, — говорит Алим. — Если догадаются и настигнут нас, то могут и обстрелять. Они охотники один лучше другого.
Мы едем на уголовное дело. Если не от братьев девушки нам достанется, то за нас возьмется потом милиция. И так и так нам будет крышка. Но меня ведь никто и не заставлял ехать? Нет, заставлял. Закон дружбы меня заставил поехать. Этот же закон заставляет меня сейчас молчать, ни о чем не расспрашивать Алима. Если надо, он сам скажет. Он отвечает за мою судьбу, как за свою, и я должен в это верить, потому что мы с ним друзья.
А вдруг Алим-Гора заблуждается? Вдруг он сам не понимает, на какой глупый шаг решился? Марзи похищал девушек. Даже в те времена это считалось дикостью. Выходит, опять у нас к этой дикости скатились? Хороший же я друг, если не выскажу эту мысль в глаза Алиму.
Меня останавливает только следующий разговор:
— Асхаб, твоя коза не испугается, не передумает в последнюю минуту? — спрашивает Алим.
— Она мне сказала: «Люблю»…
Вот как. Когда любят, то страха нет.
Мы едем спасать любовь. Я вижу освещенный огоньком приборного щитка «Волги» большой сверкающий глаз Асхаба, орлиный нос, темный пушок усов на печальной припухлой губе.
Он любит. Его любят. Кто же имеет право, люди, мешать этому? Да если бы я услышал от своей любимой «люблю», я бы на смерть пошел. На похищение — нет, не по мне это. На смерть — да. Я пошел бы среди белого дня, взял девушку за руку и повел бы ее, даже если ствол ружья приставят мне ко лбу.
— Уточняем план, — говорит Гора. — Водитель не выключает мотора и не отходит от баранки, что бы мы там на улице ни вытворяли. Ты, Асхаб, ведешь свою девушку к машине. Я и Шамо — силы заграждения. Слышал, Шамо? Выйдешь из машины и пройдешь шагов десять вперед. Я — на такое же расстояние назад. Моя и твоя задача: помешать любому мужчине, который захочет подойти к машине. Асхаб, если я или Шамо с кем-нибудь свяжемся, вы нас не ждете. Жмете вовсю. Твоя задача одна: беречь девушку.
Оказывается, есть у нас еще один союзник: двоюродная сестра невесты. Ровно в десять они обе выйдут из кино. Пять минут будут списывать афишу.
В десять часов десять минут девушки замедлят шаг в переулке, у первой же водопроводной колонки. Сделают вид, что захотели напиться. Люди из кино быстро расходятся по домам.
В этом самом месте мы и проведем операцию. Минут через пять после нашего отъезда с невестой двоюродная сестра должна поднять крик на весь аул.
Наша машина осторожно спускается в мрачную низину, за которой раскинулся на взгорье аул невесты. Я помню эту низину еще по временам детства. Я гостил здесь в ауле у своих родственников. Эта болотистая низина казалась мне страшнее, чем самое глухое ущелье в наших горах. Днем мы ловили здесь лягушек, которых я всегда боялся. А ночью надо было на спор с мальчишками спуститься сюда и побыть тут немного одному. Вот где можно было набраться страху… Считалось, что среди густых ив, нависших над речкой, бродят шайтаны — черти.
…Машина уже мчится по взгорью, видны тусклые огоньки домов. Доносится тревожный одинокий лай собаки. Жених опустил голову на грудь. Вряд ли он может в такие минуты спать. Наверное, делает вид, что спит, хочет казаться спокойным.
Мы с Алимом сидим сзади. Он уверенно развалился на сиденье, говорит мне вполголоса:
— Думаешь, мне приятно на такое дело ехать? Надо! И не только ради Асхаба. Ради всех. Нет управы на стариков ни у кого. Значит, сами будем добиваться своего. Пусть не мешают жить.
Алим-Гора начинает барабанить пальцами по нижней губе. Ух и властный из него получится старик! Он уже и сейчас властный. Не всегда мне это нравится. Старики давят, Хасан давит, этот тоже пытается давить. Иногда не знаешь, куда деваться от властных людей. В особенности если все они хотят тебе добра. Дали бы немножко самому докопаться до чего-нибудь.
Оказывается, нет ничего проще, чем украсть девушку, если она любит.
Пустынно было и возле кинотеатра и в переулке. Ни души. Лишь две девичьи фигурки возле водопроводной колонки.
— Снимаем заграждение, Шамо! — негромко крикнул мне Алим-Гора. — По коням!
— Мы тут уже по полведра воды из колонки выпили со страха, маскировались на всякий случай, — засмеялась двоюродная сестричка нашей невесты.
Невеста молчала, опустив голову. Ей непристойно радоваться в такую минуту. Где-то я ее, кажется, раньше видел. Тут темно, лицо не разглядишь.
Сестричка обняла невесту, обе заплакали.
Возле кинотеатра раздался чуть слышный, нарастающий гул голосов. Наверное, кончился сеанс. Он затянулся из-за того, что два раза обрывалась лента. Наши девушки-умницы не стали ждать конца. Они сказали знакомым, что пообещали быть дома минута в минуту, и выскользнули из зала.
Очень ловко прошла наша операция, если ей дальше ничто не помешает.
Я поместился с невестой на заднем сиденье, с другого боку сел рядом с ней Алим-Гора. Он поблагодарил остающуюся девушку. Пошутил:
— Я бы на месте Асхаба тебя украл!
Мы уже выезжали из аула, когда услышали истошный девичий визг: «Орц дак, орц дак! — Поднимайте тревогу! Поднимайте тревогу!» Старается там, бедняжка…
А невеста сидит между мной и Алимом, видит перед собой своего любимого и все же рыдает беззвучно. Рыдает как ребенок, я это чувствую по ее трясущемуся плечу.
Вот где я эту девушку видел. На фабрике, с год назад. Там у одного из наших заводских есть друг, мастер по наладке. Он устроил, чтобы мы, несколько ребят с завода, побывали на фабрике. Интересно ведь посмотреть, чем там ингушские девчонки занимаются.
Мастер сам показал нам прядильный участок. Сложные у них вязальные машины-автоматы. По-моему, из ГДР, названия звучные: «Текстима», «Фаворит», «Кокет». Смотришь на такую машину, перед тобой бегут-дрожат натянутыми струнами 2310 нитей и выползает уже готовое трикотажное полотно. Широченная такая полоса.
А сновальный участок вот эта девушка нам и показывала. Она сама сновальщица. Наверное, отвечает за нитки, намотанные на больших бобинах и катушках. Помню, кто-то из наших сказал ей: «Наши бабушки сидели раньше с веретеном в руках, сучили из овечьей шерсти такие нитки». Она засмеялась и ответила, что ее фабричная нить втрое тоньше швейной, разбраковывать ее надо по четырнадцати позициям: недооснов или переоснов, задиры, смешение номеров, банты, отклонение периметра намотки и так далее. Все я и не запомнил, а понял и того меньше.
Знать такие тонкости, работать на таких импортных автоматах — это нашим бабушкам, я думаю, даже не снилось. Совершенно другая жизнь у теперешних девушек. А любовь осталась без перемен.
Транспорт переменился. Раньше умыкали девушку на коне, теперь — на «Волге»; раньше — чаще всего против воли, сегодня везем с согласия девушки. А слезы такие же, как и прежде. Слезы расставанья с домом. Слезы обиды, что единственная на свете и одна на всю жизнь любовь получается вот такая, краденая.
— Ну-ка, перестань плакать, — шепчет невесте Гора, чтобы не слышал Асхаб. — А то отвезу сейчас назад и высажу у водопроводной колонки. Не плачь. Все будет хорошо.
…Мы отвезли ее в дом одного женатого друга нашего Асхаба, в дальнее село района. Там ей будет хорошо. Пока не уладится дело, она — невеста. Асхаб и все мы прощаемся с девушкой, едем назад в Дэй-Мохк.
Завтра утром посланцы Асхаба отправятся в тот аул, откуда мы увезли девушку, сообщат ее родителям, что она неприкосновенна. Может быть, родители захотят кончить дело миром. Куда им деваться, если они поставлены перед фактом? Даже очень упрямые родители не всегда добиваются возвращения украденной дочери, если все было сделано с ее согласия. Да и кто возьмет замуж возвращенную? Будет считаться, что он взял чужую невесту, нарушил право другого.
Уже ночь. Я прощаюсь с друзьями.
Я рад, что девушка была веселой, когда мы расставались с ней. Румянец горел на ее щеках. Трепетали ресницы, весело и с гордостью смотрели ее глаза на нас, друзей Асхаба. Нормальная девчонка. Такая, какой она была тогда, на фабрике, когда нам рассказывала там о машинах «Текстима» и «Кокет».
До чего мне хотелось спросить у нее хоть словечко о Кейпе! Они же вместе работают.
Не надо. Разные у нас истории…
ВИДНЫ ЛИ ДНЕМ ЗВЕЗДЫ СО ДНА КОЛОДЦА?
От дедушки Марзи мне пришел приказ: я должен срочно провести в своем материнском доме ремонт и «разни сельхозработ. С коммунистически приветом!».
Поеду я в родную деревню сразу после смены, поеду на мотоцикле своего друга Мути, хотя он и будет сердиться. Он зол, очень зол на меня и Алима за то, что мы ездили за девушкой тайком от него. Мотоцикл он мне поэтому, конечно, не даст. Полуразбитую свою «Яву» Мути прячет в пристройке к чужому гаражу. Открыть гвоздем замок этой конуры для меня, бывшего пэтэушника, ничего не составляет.
«Ява» домчала меня до моей деревни быстро, иначе я попал бы под дождь.
В домике пахло сыростью. Я зажег лампочку и увидел, что потолок протекает. Марзи успевает и здесь побывать. А я редко наведываюсь в свой домик. Что касается заколоченного дома моего отца — того дома, где я родился и рос, — я там не был ни разу со времени отъезда отца в Казахстан. Стараюсь даже не ходить по той улице.
Страшное это дело — пустой дом. Хорошо, что хоть огород живым выглядит. Бурьян уже силу набрал. Молодец дедушка, сделал новые черенки для тяпки, для лопаты, топор хорошо насадил. А на крышу не смог залезть.
Отслужу в армии, построю хороший дом вот на этом месте. Пусть он станет как бы памятником моей матери. А пока надо бережно смотреть и за этим двором, Марзи прав. Мать так гордилась нашим убогим жилищем, потому что возвел его я. Ей не довелось дожить до самого простого, о чем вправе мечтать каждая мать: увидеть, как сын вводит в дом невесту.
Я не могу представить себе Кейпу в этом жилище. Да кто сказал, что она когда-нибудь будет моею, со мною? Мы с нею еще и трех слов подряд не сказали с тех пор, как она появилась в Дэй-Мохке…
Завтра, в субботу, я поработаю на огороде, полажу по крыше, а потом смотаюсь на мотоцикле в городок. Поезжу там по улицам: вдруг увижу Кейпу? Правда, Алим-Гора предупредил, что всем нам, участникам похищения, некоторое время лучше нигде не показываться, пока родственники невесты не остынут. Я все равно не утерплю, съезжу в городок.
С этими мыслями я лег спать. Капала сквозь прохудившийся потолок дождевая вода. Тоскливо падали тяжелые капли в стоявший на полу таз. И сквозь этот мерный звук мне слышался голос матери. Она упрекала меня за то, что я стал таким беззаботным хозяином.
…Проснулся я очень рано, часов в пять. Пришлось даже зажечь лампу. Мы с матерью не успели провести свет. Керосиновая лампа у нас была одна на обе комнатки. Окошко в стене, которое я пробил, а лампа стоит в этом окошке и дает свет обеим комнатам. Так бывало в старину в любом горском доме.
В общежитии я так рано никогда не просыпаюсь, если не разбудит жалобная гармошка, на которой играет Губати. Наверное, в деревне совсем по-другому идет время. Здесь не можешь долго спать. Здесь во мне просыпается человек, который в детстве знал крик петухов. Ни петуха, ни курицы — никакой живности в этом опустевшем дворе давно нет, но есть тень матери. Она, мать, позволяла мне зимой долго спать, а летом, во время каникул, я просил ее всегда будить меня пораньше, чтобы я мог пойти с ней на совхозное поле. Верно говаривает Марзи, что малому мать нужна только для тела, а взрослому — для души… Очень мне тоскливо без матери!
Соседские гуси забрели на наш огород. Я рад, что вижу хоть такую жизнь. А все же дыры в плетне заделать надо…
Потом я часа два пропалываю картофельный участочек. Потом меняю ненадолго занятие — разрыхляю приствольные круги деревьев в саду.
Пришли от моей тетки звать меня завтракать. Она, моя родственница, живет неподалеку. Наскоро поев, я беру топор и иду через селение. Надо добраться до ближнего леса, срубить прочные жерди, чтобы подпереть кое-где слишком легкие, ненадежные стропила крыши. Тогда шифер прижмется поплотнее, дождь не будет протекать на потолок.
…Все мои хорошие и неторопливые планы рухнули возле колодца. Около сруба сидел на чурбачке пожилой человек и дрожал мелкой дрожью. По небритому лицу, по седой щетине стекает пот, а худые острые плечи трясутся в ознобе. Это при таком ярком солнце. Знаете, как припекает после ночного дождя?
Я спросил у ребятишек, кто этот больной и почему он сидит здесь.
— Он не больной! — засмеялся мальчишка. — Это дагестанец Бада́ви; наш квартал нанял его чистить колодец. Он сейчас погреется и полезет опять туда. Вредный старик: никому не разрешает спуститься в колодец. Мы хотели со дна звезды увидеть. Говорят, из колодца и днем видны звезды…
Я подошел к дагестанцу. Он лишь чуть поднял на меня глаза. По-моему, даже они у него замерзли. Стуча зубами, Бадави сказал мне, едва-едва раздвигая губы в улыбке:
— Оч-ч-чень холодни земля, воллахи. Здесь, наверху, земля тепли, а внутри оч-ч-чень холодни…
— Идем, я отведу тебя в какой-нибудь дом, погреешься.
— Нельзя, парень… Работать надо. Людей без вода сидит. Пасиб тебе…
Ветхая, грязная рубашка из желтоватой бязи так и прыгает на его впалой груди. Вместо пуговиц — тесемки, ворот распахнут. Старик попытался завязать эти тесемки, а пальцы не слушались. Как и наши старики, он при виде чужих смущался своего голого тела.
— Сними телогрейку, зачем ты ее сырую на плечи накинул? — И я потянул с него тяжелую телогрейку, набросил на его худые плечи свой пиджак.
До того мне его жалко стало, когда он старался завязать тесемки своей бязевой рубашки… Неужели в моей деревне так очерствели люди? Неужели никто в ближних домах не догадается согреть этого человека стаканом чая?
Я кинулся к ближнему двору. У самого плетня копошилась дородная курица. Я удачно схватил ее за ногу. Она подняла такой крик, что на крыльцо выскочила молодая толстая женщина.
Я в этой части нашего большого, в тысячу дворов, села мало кого знаю, а эта женщина совсем незнакомая. Наверное, невестка старого Бунхо́? Была у них тут, говорят, свадьба, я помню.
— Иппали! — издала она возглас изумления. — Ты что это там у нашего плетня вытворяешь?!
Я поздоровался, извинился и попросил:
— Не сваришь ли эту курочку вон тому дагестанцу? Его только бульоном можно согреть.
Она сбежала с крыльца, глянула поверх плетня на курицу, трепыхавшуюся в моих руках, и вскрикнула:
— Так это же наша!
— Я возьму у своей тетки, принесу тебе сегодня же другую взамен. Пожирнее этой будет…
— Не знаю, чей ты такой бессовестный… Отпусти курицу скорее, пока я мужчин из дому не вызвала!
В дверях дома показался и медленно ступил на крыльцо, опираясь на кизиловую палку, белобородый Бунхо. Он сделал чуть заметное движение кончиком палки; женщина отпрянула назад и прилипла к стене затаив дыхание.
— Чей ты, мальчик? — спросил Бунхо, прищурив умные глаза. — А-а, Марзабека внук… Значит, не из худших! Как там этот старый волк[7] поживает? Давно я его не видел. Ну-ка, сделай услугу моему двору, мальчик, если тебе нетрудно: зарежь вон там под навесом эту курочку. Не забудь только трижды молитву сказать, прежде чем ножом коснешься. Этот дагестанец ведь мусульманин, для него тоже грешно резать живность без молитвы…
Я кинулся к навесу, курица в моих руках обреченно кряхтела, а я слышал слова старика, обращенные к невестке:
— Быстро приготовишь курицу и накормишь дагестанца. А пока будет вариться, пройди по кварталу, передай мои слова: пусть все по очереди режут дагестанцу кур, чтобы у него каждое утро и вечер было горячее. Пока курица варится, отнеси ему чайник чаю. Иди, ты свободна.
Она забрала у меня зарезанную курицу, с оглядкой на старика прошипела мне:
— Чтобы ты сгорел! Самую лучшую поймал. Выслеживал, да?
Старик похвалил меня:
— Умеешь резать. Ты бы и овцу смог разделать? Я думал, вы там, на заводе, от всего крестьянского отвыкли…
— Старики не дают забыть.
— А мы сами, как видишь, забываем. Этот дагестанец хоть и наемный здесь, а все же гость. Спасибо тебе, мальчик, что напомнил о нашем долге. Я тут первый виноват. Когда молодежь ошибается, виноваты старики: не научили, не подсказали.
— Я пойду поработаю за него, пока он погреется?
— И это ты разумно решил. Только будь осторожен, со стен колодца камни будут сыпаться на голову. Рыл-то этот колодец когда-то я. Там до самого дна земля каменистая… Поработаешь, зайди ко мне, если найдешь минутку. С молодыми тоже бывает о чем поговорить, если они такие рассудительные, как ты.
Дагестанец сидел на своем чурбачке и уже пил, обжигаясь, чай из большой жестяной кружки. По-моему, он так радовался, что даже не соображал, чем я собираюсь заняться. А я надел его сырую телогрейку, обмотал голову мешком, поверх этого тюрбана напялил железный «шлем» с наплечниками. Видно, шлем сделан из старой, проржавевшей выварки для белья. Сделан как попало: здесь поджато, там стянуто проволокой. Впору мне оказались и резиновые сапоги с рваными голенищами.
Кто же у Бадави верховым помощником? Э, да он настоящий рационализатор. Ему никто наверху и не нужен: ведро с камнями стукнется краем вот об эту планку и вывалит содержимое за край сруба. Стой себе на дне колодца и регулируй снизу веревочками…
Жутковато мне было опускаться вниз по веревочной лестнице. Знаю, что наверху люди, солнце, а все равно как в детстве, когда ночью ходили на спор в болотистую низину.
Лишь бы лягушек здесь не оказалось. Бывают они в колодцах или нет, никак не могу припомнить. Знаю только, что если есть лягушки, значит, и вода чистая. А в колодцах она всегда чистая.
Воды на дне немного. Потому и приходится расчищать, углублять колодец, чтобы ее стало больше.
Бадави врубил концами в стенки колодца толстую доску, на ней можно стоять, чтобы не очень мокли ноги. Края подборной лопаты подогнуты, получился полуковш. Черенок лопаты короткий, можно развернуться в этой тесноте.
Я наполнил ведро мокрой галькой и песком. Начал выбирать веревку. Ведро поползло вверх, тяжело колыхаясь в воздухе. Отверстие сруба кажется отсюда замочной скважиной. Никаких звезд в этом кусочке неба я не вижу, да и не до них мне, я слежу, не летит ли сверху камешек. Едва успел уклониться: камешек сорвался оттого, что ведро царапнуло по стенке, ударил по шлему, потом гулко бултыхнулся в воду.
Пятнышко ведра в белом окошке сруба. Ведро во что-то уперлось краем. Я посильнее потянул веревку. Шорох высыпающейся на землю гальки скатился ко мне вниз, отталкиваясь от стенки к стенке. В светлом проеме показалось темное пятно. Это заглядывает Бадави, я слышу его голос, отозвавшийся внизу эхом:
— Молодец, ингуш! Тяни теперь тонки веревочка, тогда пустой ведро прибежит к тебе.
Поначалу меня пронизывала сырость, руки коченели. А потом я согрелся от работы, перестал замечать, что телогрейка мокрая. Для удобства я даже сошел было с доски в воду, однако ноги занемели, как это бывает, когда переходишь летом вброд горную речку: так схватит ноги, что и не знаешь, к какому берегу спешить.
Вначале камешки летели сверху довольно часто. Один трахнул меня по кисти руки, по самой косточке. А ведь наверху я, кажется, видел рукавицы… Зря не надел. Тут так покалечиться, что у станка работать не сможешь… Я опустил подвернутые рукава телогрейки, чтобы прикрыть руки. Но так было неудобно орудовать лопатой и веревками.
Спасибо, Бадави догадался: в пустом ведре я обнаружил рукавицы. Теперь работа пойдет. Пожалуй, весь интерес был в том, чтобы ловко разгрузить наверху ведро. Я стал делать это так, что редко какой камешек падал вниз. Наверное, Бадави там подправляет ведро. Так и хочется крикнуть ему, что я буду все делать сам. Пусть сидит, пьет себе чай.
Работа как работа. Однажды дедушка решил отвоевать у горного склона за аулом кусочек земли для картофеля. Я тогда еще был мальчишкой. Дедушка заставил меня целую неделю стаскивать камни в кучи.
Такая же работа и здесь, в колодце. Надо втянуться, поймать ритм. Настроиться на выносливость.
Все-таки необычная работа. Есть в ней риск или то, что наш Хасан любит называть с трибуны «романтика труда»: то и дело ждешь, что сорвется сверху не камешек, а булыжник. Вывалится из стенки колодца и приплющит меня вместе с этой ржавой вываркой.
Я считаю, что голова у этого Бадави есть. Здорово он придумал, как обходиться без помощника. У нас на заводе такого человека сразу бы в рационализаторы записали.
А из меня рационализатор никогда не получится. Помните, я вам говорил о поручении Тани, нашего заводского технолога? Я этот колпачок, в котором никак не удается быстро пробивать боковые отверстия для крепления, уже сто раз вертел. И в сборке, и по частям. Башир ругается, что я развернул в комнате мастерскую. «Визг сверлилки мне и в цехе надоел», — сердится он…
Я дергаю веревочку и слышу, как наверху вываливаются за сруб камни. Автоматика! Нет там помощника? Обойдемся без него.
Что-то это словечко из трех букв — «без» — не дает мне покоя. Не получаются отверстия в колпачке? Обойдемся без них. Без!
У меня даже сердце замерло от такой мысли. Будто в пропасть заглянул.
Эту мысль еще надо здорово обдумать. Не будет отверстий — не будет винтов, это ясно. А что же взамен винтов? Вот это и надо обдумать. Права Таня: посторонний человек иногда смелее смотрит на вещь, которая для хозяина привычна. Слесарь-сборщик молиться готов на эти боковые винты колпачка. А мне, постороннему, бояться нечего. Представляю, как удивится Таня моей технической смелости.
Что мне Таня? Я теперь на все на свете глазами Кейпы смотрю. Спросит она у меня когда-нибудь, есть ли в моей жизни романтика, а я ей отвечу: «Я усовершенствовал колпачок!» Она расхохочется. На голове у человека яичный колпак, а вся его романтика — колпачок…
Стать бы первым, самым первым в чем-нибудь — вот это была бы романтика.
Токарь, конечно, тоже может стать самым первым. Хотя бы самым лучшим на заводе, а потом и в стране. Но этого надо добиваться очень долго. Тем более, что требования растут и растут, за ними не угонишься. Я слышал, в Киеве или еще где-то передовиков завода определяют через ЭВМ. Закладывают в программу электронно-вычислительной машины 78 показателей на каждого станочника, и машина выводит, кто самый лучший, кристальный передовик. 78 показателей! Неужели у человека столько качеств можно насчитать? На Украине насчитывают. Да если это и к нам дойдет, у нас руки все опустят. Марзи ворчит, что ингуш не любит долго ждать. Нам все подавай быстро. Так это или не так, но кто захочет ждать, пока станет самым лучшим по семидесяти восьми показателям?
Мне лично может помешать еще и застенчивость. Не люблю я быть на виду. Пока доберешься до самой вершины, умрешь от смущения: твое фото на доске Почета, потом портрет в газете, потом тебя по телевизору покажут, потом лозунги развесят — «Равняйтесь на Шамо Асланова, лучшего из лучших!»
Совершить бы что-нибудь такое, чтобы стать знаменитым сразу, в один день. Такая слава может прийти к тебе только при полете в космос. Или же в армии. Даже в мирное время.
…Здесь, в могильной сырости и тьме колодца, я представляю себе подвиг. Наш полк на ученьях в горах Закавказья. Перевал высотой три тысячи с половиной. Форсируем ледяной склон. Альпинистские кошки на ботинках. Наша рота уже прошла по этому страшному даже для меня, горца, скату. Лежим, укрываясь от порывов снежной пурги, смотрим на ледяную крутизну и не верим, что мы могли ее пересечь.
Теперь наискосок через склон идет другая рота. Ее командир, высокий и сутулый капитан, карабкается пониже цепочки своих солдат. Словно хочет показать им: «Не бойтесь, я вас всех удержу своим телом, если сорветесь на этой крутизне».
А сам тоже боится, это же видно со стороны. Нет-нет да и проводит взглядом льдинки, которые выкрашиваются из-под его «кошек» и летят к самой пропасти, вздымая снежную пыль.
Я лежу отдыхаю у края ледяного склона, смотрю на капитана и его роту снизу вверх. Мне хорошо видно, что капитан неправильно ставит ноги. Не тот угол его ступни делают. Нога делает упор не на все зубья «кошки», понимаете? Сразу видно, что этот капитан в горах никогда не жил. А степной человек всегда боится гор, каким бы он смелым ни был и как его ни учи скалолазанию.
Вдруг вижу страшное дело: ремешок «кошки» у капитана как-то странно торчит в сторону. Лопнул, это точно! Капитан еще ничего не понимает, а что-то неладное чувствует. Льдинки уже перестал считать, все на ледоруб жмет. Втыкает кирку в лед чаще, чем надо. Поспешно воткнет как попало и делает два-три судорожных шага.
Я вскочил на ноги и думаю: как бы это поосторожнее крикнуть капитану, что лопнул ремешок.
Не успел я и рта открыть, у капитана подвернулась нога, «кошка» торчит в бок…
Капитан потерял равновесие, взмахнул руками. Ледоруб вылетел у него из руки, скользнул по склону и исчез в пропасти.
А капитан, будто старается догнать свой ледоруб, мчится вниз по горе, как на коньках. На ногах еще держится, балансирует, словно начинающий конькобежец на катке. Только плохой это каток: под углом в сорок пять градусов. И за обрывом — пропасть!..
Меня будто толкнул кто в спину. Я кинулся поперек крутого склона наперерез капитану. И успел обхватить его за талию. Он даже вроде бы увильнуть от этого хотел: вихлял телом, чтобы сохранить равновесие.
Если бы я не всадил тотчас свой ледоруб в склон, лететь бы через секунду нам обоим километра полтора с края обрыва до дна пропасти.
…Нет, не я был в тех горах на ученьях полка. Не я спас капитана Ященко. А мой земляк, парень из моей родной деревни. Звали его Абука́р. Абукар Сапрали́ев. Ему было тогда ровно столько лет, как мне сейчас.
Спасенный им капитан приезжал к нам; я помню, как наши его принимали. Тихий, ласковый человек, ездить на коне совсем не умеет, а в седло все-таки забрался. Когда корреспондент спросил его, что ему тут больше всего понравилось, он подумал, ответил твердо: «Дети». И потрепал по голове почему-то меня. Наверное, я ближе всех стоял.
Мне не из хвастовства все время кажется, что это я спасал капитана в горах. И не такая уж у меня вольная фантазия. Дело все, наверное, в том, что этот Абукар Сапралиев — его сейчас в деревне нет, он уехал — был полным моим двойником. Точный Шамо! Не тогдашний мальчик, а теперешний Шамо… Ростом на полголовы поменьше меня, очень смуглый (а у меня лицо и волосы светлые). Во всем остальном — моя копия. Даже биография у нас сходная. Жил Абукар с одной своей матерью, как и я. Дядя у него воевал вместе с Заамой Яндиевым, как и Марзи, и такого же партизанского склада человек до сих пор. Самое же удивительное, что Абукар слыл таким же по характеру, как и я. Удалых, бойких, находчивых парней и мужчин у нас зовут «када́й саг». Абукар не был «кадай саг». Молчаливый, «не козырной» парень. В общем, парень вроде меня. Никто в ауле не верил, что он мог совершить в горах такое, пока не увидели в газетах, как генерал вручает ему правительственную награду. Вот такой романтики я бы хотел! В один день стать знаменитым…
„РАДИСТ“ БУНХО УЧИТ МЕНЯ УМУ-РАЗУМУ
Буммм! Дзинннь!.. Вот она, моя романтика. У меня потемнело в глазах от удара булыжником по голове. И шлем не спас. Я нащупал на выварке большую вмятину. Надо, пожалуй, положить под мешковину немножко травы.
— Вылезай! — кричит мне сверху Бадави. — Пасиб, ингуш! Вылезай, а то холодни станешь!
…Холод я почувствовал только наверху, под жарким солнцем. Зуб на зуб не попадает. Руки не ощущают горячую жесть кружки с бульоном.
Зато Бадави не узнать. Морщины на лице разгладились, плечи у него совсем не худые и не острые. Плечистый старикан. Да и не старик вовсе — пожилой мужчина. Легко перешагнул через сруб, отправился вниз на свою вахту.
Я немного согрелся от бульона. Совсем пройдет озноб, если пробежаться к лесу, нарубить жердей, пока Бадави работает на дне колодца.
Завернув за угол, я услышал, как за высоким кирпичным забором чей-то скрипучий мужской голос произносит мою фамилию. Произносит насмешливо, ругательно: «Говоришь, это придумал аслановский щенок? Вот пусть сам и кормит заезжих бродяг. Хоть индюками! А старый козел Бунхо мне тоже не указчик. Молчи, дура! Если я увижу, что ты хотя бы цыпленка в нашем дворе тронула…»
Эти люди, кажется, родственники Замиру. Он-то парень щедрый, а эти — скупердяи. Живут за таким забором, ворота железные, дом как дворец. И жалеют цыпленка! Верите, у меня комом в горле стала та чашка бульона, которую я только что выпил, хоть та курица со двора Бунхо была, не со двора этого вот типа.
…Возвращаясь из лесу с жердями, я еще раз посмотрел на добротный кирпичный забор, каких в деревне мало. Соседи старого Бунхо. Как говорится, плетень к плетню с ним живут, а не чтят его слово: «Бунхо мне не указчик…» Плохо твое дело, Бунхо, если даже в таких мелочах тебе сельчане перечат. У нас, у Аслановых, такого мелкого разговора о цыпленке ни один мой родич не завел бы. Пусть бы только попробовал! Пришлось бы ему иметь дело с Марзи…
Я работал по очереди с Бадави на дне колодца еще два раза, а потом пошел чинить свою крышу, пока не стемнело. Закончил возиться с нею уже при свете фонаря.
Зато спал как убитый. Ни одного сна за всю ночь не видел, представляете?
Тело у меня ломило утром невозможно. Каждая косточка ныла. А кисть руки слегка распухла. И все равно я хорошо размялся с утра на огороде. Марзи не сможет сказать, что я увильнул от «сельхозработ». Хороший уродится здесь картофель.
Поработав на огороде, я поехал к колодцу на мотоцикле. Там первым делом зашел к Бунхо. Для чего старик вчера просил меня зайти?
Он сидел под навесом, обстругивал острым ножом новый черенок лопаты. Увидел меня, приподнялся. Думаете, из уважения ко мне, пацану? Нет, это у них такой трюк есть, у умных наших стариков. Мол, уж если я поднимаюсь перед тобой, то тебе и подавно станет стыдно не уважить кого-то, кто постарше тебя.
Я извинился, что не зашел вчера: был мокрый, грязный, постеснялся.
Бунхо расспросил меня о заводе, о том о сем. Потом спросил, как мы там, не забываем ли дедовских обычаев, не косимся ли на новые?
— Нельзя коситься, нельзя, Шамо. Разве государство что-нибудь плохое учит вас делать? Тому же учит, чему нас деды-прадеды учили. Не воруй. Трудись. Не пьянствуй. Будь уважителен с людьми, стремись много знать… Не так ли, Шамо?..
Долго Бунхо говорил. Я ни разу не перебил. Шпарил он прямо по моральному кодексу строителя коммунизма. Передовой старик! Не зря ли ему когда-то наши сельские остряки прилепили кличку «радист»? Вот откуда эта кличка пошла. В некоторых домах стали слушать по радио зикры. Это у нас так называются «священные» песнопения для танцев. По проводам ли зикры передавались или через самодельные передатчики радиохулиганов, я не знаю, дело давнее. Но слух ходил, что такая смехота у нас в селе была. И что ее организовал вот этот самый Бунхо. Такой передовой старик? Прямо не верится.
Разве я мог догадываться, какой паук сидит передо мной! Я верил всему, что этот старик мне говорил, мне и в голову не приходило, что он плетет свое не зря, а с хитрой целью сделать меня рупором мракобесия. Так меня потом и назовут с заводской трибуны: «рупор мракобесия», хотя имя мое прямо и не будет произнесено.
А пока что я слушал этого старика развесив уши. То, с чего он начал — не пей, не воруй, честно трудись и прочее, мне было, честно говоря, не очень интересно, потому что это мы от стариков без конца слышим, они любят такие поучения. Но дальше-то, дальше пошел разговор о том, о чем мы, молодежь, часто в своем кругу спорим. На этот хитрый разговор я и клюнул…
Бунхо вскинул голову, посмотрел на меня в упор и сказал:
— Не стесняйся моего нескромного разговора, мальчик, но жениться рано или поздно придется и тебе, и всем твоим сверстникам, не так ли? А каково в наше время жениться парню, мы знаем. Похитишь девушку — тюрьма. А на калым не каждый сумеет набрать, если не пойдет воровать, что совсем не годится. Словом, тяжелый обычай предков навязали мы, старики, нынешней молодежи. Менять что-то надо. Я всегда был против тех белобородых, которые ничего не хотят менять!
Вот это я слушаю с интересом. Это большой вопрос для молодежи — свадьба-женитьба. Он рано или поздно каждого коснется.
Я понял так, что Бунхо — за тех умных стариков, которые хотели бы резко снизить размер калыма. Совсем отказываться от калыма пока еще рано, втолковывал мне Бунхо. Пока надо сделать его таким, чтобы жених не разорялся. Совсем отменять калым рано потому, что люди еще не стали сознательными. Парень женится, а через год не прочь бросить семью, да не так это легко сейчас сделать: где найдут родители деньги для новой женитьбы такого непостоянного человека? Снова копить? Так что для несознательных калым может служить тормозом, сказал Бунхо. Укрепляется семья. А это тоже в интересах государства.
Однако все же надо уменьшить размер калыма.
Правильно старик говорит. Ведь тот же Асхаб, он бы немножко денежек для женитьбы набрал. И не пришлось бы похищать, идти на риск. А большую сумму где взять?
Толковал мне Бунхо еще и о том, что невмоготу людям стало от необходимости постоянно делать все эти бесконечные подарки друг другу, давать червонцы на свадьбах, похоронах. Пятерку или даже червонец еще можно, а бывают ведь случаи, что ты должен и скотину пригнать в дар… Нельзя, нельзя обременять людей. Надо как-то снизить расходы. Обычай не должен пригибать человека к земле.
— Это я просто так, размышляю вслух… — закончил Бунхо, бросив на меня беглый взгляд. — Да и не мои это мысли, а мысли умных людей. Мое имя и называть где-нибудь смешно. Понял, мальчик? Я свое отжил, кроме этого плетня, ничего и не вижу. Хочется, чтобы вам, молодым, легче жилось, хочется, чтобы ничего не тяготило вам душу. Вы своим умом теперь живете. Но если что умное услышите, не грех это и друзьям передавать для науки. Не так ли, мальчик? Вот и передавай.
Напоследок Бунхо спросил вскользь, что это у нас за комиссия на заводе работает? Обычаи пересматривает?
Я смеюсь. О Цирценисе уже и здесь знают? Надо было бы свести старого Бунхо с Цирценисом и Ярцевой. Вот это была бы «комиссия»!
Бунхо отпустил меня. Проходя мимо крыльца, я услышал, как невестка зло шепчет кому-то из домочадцев:
— Вот так и жди целыми днями, когда он соизволит еду потребовать… Из ума выжил старик, все время с молодежью возится, будто равной компании ему не найдется…
…Часа два я поработал в колодце. Вылез, порадовался, что курицу и бульон кто-то для дагестанца поставил, но сам я не стал и прикасаться к еде. Надел, спрятавшись за штабелем саманных кирпичей, свой чистый сухой костюм, который был у меня на багажнике мотоцикла. И крутанул на полном газу за угол, чтобы держать курс на городок. Там сегодня воскресный базар, весь городок туда сходится. Вдруг встретится мне Кейпа именно там?
ВОСЕМНАДЦАТЬ СПОСОБОВ НРАВИТЬСЯ ЛЮДЯМ
Завернув за угол, я сразу видел Замира. Вооружившись ломиком, он орудовал у железных ворот своего родича-скупердяя.
Я притормозил, чтобы спросить, не нужна ли помощь. Так полагается. Замир устраивал мостик к новым воротам, укладывал толстую, в обхват, железобетонную трубу, которую сам, наверное, и привез. Это чтобы вода под мостиком могла течь.
Каждому из нас, заводских, приходится «батрачить» на деревенских родичей, это уж закон. Как тут в душе не посочувствовать Замиру.
А все равно, глянул я на его работу, и злость в душе зашевелилась. Сам не знаю почему. Мне всегда приятно на любую работу посмотреть. А на эту противно.
Замир воткнул ломик в рыхлую землю и шагнул к скамейке. Чего-то хочет спросить, отъезжать неудобно. Но мотор я не заглушил. Идет ему эта синяя футболка в обтяжку. Фигура у него хорошая.
Замир сел и небрежно кивнул на миску с яблоками: угощайся, если хочешь. Да, рабочее место он умеет подготовить. Ранние яблоки. Кринка глиняная с кислым молоком. Пот с лица и шеи вытирает махровым полотенцем.
Вот почему мне, наверное, стало тут противно: ведерко с питьевой водой стоит на земле. Мутноватая вода, из речки. А Бадави старается, чтобы эти люди, пожалевшие цыпленка, пили кристальную воду, колодезную.
— Да заглуши ты этот мотор, — сказал Замир.
Я сел рядом с ним. Он дал мне сигарету «Кент», поднес спичку. Я в первый раз в жизни курю такие сигареты.
— Слушай, — вскинул на меня глаза Замир, — чего это ты все время на меня косишься? Если я тебя чем когда обидел, скажи прямо.
— Никакой обиды.
— Интересный ты человек, Шамо! Воллахи!
Врет. Или издевается. Что во мне интересного? Я промолчал.
— Видел, Шамо, по заводу ходят ученые? Ярцева и этот… Цирценис. На днях они у нас на участке беседу проводили. Между прочим, об одной книжке говорили. Американец написал. О том, как строить деловые отношения. Как завоевать себе друзей, как оказывать влияние на людей. Всякое такое.
— Эту я не читал.
— Они-то оба ее наперебой ругают. Я поэтому и заинтересовался. Попробую ее достать. В ней говорится: если хочешь иметь успех, никогда не лезь никого осуждать, спорить.
— Правильно, — сказал я, чтобы не спорить.
— Неправильно. Но умно, — засмеялся Замир. — Еще этот американец придумал восемнадцать способов нравиться людям, оказывать на них влияние.
— Есть такие способы? — не поверил я и подумал с тоской, что сам я не знаю ни одного способа поправиться любимой девушке.
— Если коммивояжер хочет добиться успеха, то он должен… — начал Замир.
— Коммивояжер — это который подтяжки сбывает?
— Чудак! — хлопнул меня по плечу Замир. — «Подтяжки»… Да возьми наш завод!
— Нам же не приходится сверлилки сбывать…
— А протолкнуть дефектную продукцию цеха через отдел технического контроля? Приходится, если план горит! Сам начальник цеха к тебе, простому контролеру, на задних лапках бежит: «Прими детали условно, дефекты потом устраним! С ноги на ногу не переступлю, пока просьбу мою не уважишь!» Умеют у нас подход к человеку найти.
— Даже без этого американца.
— Думаешь, к девушке подход не нужен? Если хочешь завоевать девушку, говори ей только приятное. И делай только приятное!
— Я поеду.
Очень мне тоскливо и одиноко стало после слов Замира. «Вот чем он «завоевал» Кейпу, — подумал я. — Нашел же я, в кого влюбляться… Конечно же, это у меня не любовь. Не зря я с первого раза так и считал!»
Оба они хороши — и Замир и Кейпа. Одного поля ягоды. А во мне он даже соперника для себя не видит. Что ж, я больше ему и не соперник…
Замир встал, потянулся, зевнул.
— Ну, заводи свой мотор, — сказал он. — Даже сам я не ожидал, что так разоткровенничаюсь сегодня с тобой. Слушай, а здорово ты с этим колодцем сообразил, а? Копнул раз-два лопатой, организовал бульончик для дагестанца, а сегодня здесь только и разговоров: «Какой эзди-кант этот аслановский парнишка…»
— Девятнадцатый способ понравиться людям?
— Ладно, не скромничай. Оказывается, не такой-то уж простой ты парень… Вот заболтались мы с тобой! Мне же еще надо отсюда в Дэй-Мохк, а потом — по Военно-Грузинской дороге: я обещал прокатить Кейпу и двух ее подружек на «Волге»… Смотри, как солнце уже печет.
Вот тут-то мне и надо было поскорее уехать. Но меня подвело ведерко с водой. Здорово подвело! Замир потянулся было за кринкой с молоком, потом передумал, взял ковшик и шагнул к ведерку с водой, которое стояло на земле рядом со мной.
Он еще не успел наклониться, чтобы зачерпнуть воду, как я опрокинул ведро ногой. Замир едва успел отпрыгнуть, чтобы вода не залила его начищенные туфли.
Лицо Замира побледнело, глаза сузились.
— Хам, — сказал он негромко. — Хамом родился, хамом умрешь. Вся фамилия аслановская такая. Весь ваш род. И другими вам не дано стать. Научи осла говорить «садам алейкум», он все равно ослом останется.
Не знаю, как бы он поступил со мной, если бы из-за угла не показалась группа стариков. У них на виду Замир по-дружески хлопнул меня по плечу, сказал мне с улыбкой на губах и с ненавистью в глазах:
— Запомни: то, что ты сейчас сделал, не прощается…
Дай бог. Человек, который умеет ненавидеть, уже человек. Он может любить. Его могут любить. Снова Кейпа была со мной, а ведь только что я избавился было от нее навсегда… Никуда мне от нее не уйти. Но видеть, как она сядет в «Волгу» с другим, мне сегодня невмоготу.
…Замир стал расшаркиваться перед стариками, а я круто развернул машину назад. Не поеду в Дэй-Мохк!
Я подъехал к колодцу, склонился через сруб и крикнул в сырую, бездонную мглу:
— Подъем, Бада-а-ави… Моя очередь!
НА ЗАВОДЕ ВСТРЕЧА С УЧЕНЫМИ
На следующий день я после смены опять сидел на НП, ждал, пока она выйдет с фабрики.
Прямо от проходной она направилась ко мне. Ко мне или нет? Ко мне, потому что рядом никого больше нет, я торчу в сторонке от всех наблюдателей, за деревом. Она идет ко мне, никого и ничего не стесняется.
Подошла вплотную, спрашивает:
— Ты хочешь, чтобы над тобой вся фабрика потешалась?
— Нет.
— Зачем ты все время тут?
— Тебе же это не мешает…
Легкая прядка волос упала ей на глаза. Она тряхнула головой и тут же нетерпеливо сдунула волосы с глаз, выпятив нижнюю губу.
Она подождала, не скажу ли я еще что-нибудь.
— Знаешь, кто ты такой? — спросила она, не дождавшись.
Я чуть повел плечами.
— Ты — застенчивый парень. Вот кто ты, — говорит она так, как обычно человеку говорят: «Ты — непорядочный тип, мы тебя раскусили».
Сказала это и повернулась, пошла к автобусу.
Наблюдатели, конечно, заняты своим делом, выглядывают в потоке работниц своих девчонок. Но и мой разговор с Кейпой заметили, пристают ко мне: «Что это она тебе такое сказала? У тебя какой-то шальной вид стал, Шамо».
А я и сам не понимаю, что означают ее слова. Я отмахнулся от ребят и пошел к заводу через картофельное поле, чтобы никого не видеть.
Может быть, она обыкновенная кокетка, эта Кейпа? Заводит, чтобы я был посмелее. А потом осадит, как это было в Грозном, в скверике.
Просто дразнит? Есть такие среди девчонок, которые любят подразнить парня, а у самих в душе — ничего. «Я застенчивый парень, — скажу я ей в следующий раз. — А вот кто такая ты? Зачем ты первая завела со мной разговор, вместо того чтобы прямо сказать: забудь про меня».
Попытался я вспомнить, какой запах от Кейпы шел. Она пахла красками. И луговыми цветами. Такой луговой аромат был в номере «люкс», когда туда вошла большеглазая Макка с букетом для Ярцевой.
Я так задумался, что чуть не проморгал облаву: торчат возле заводоуправления наши комсомольцы и останавливают всех, покрикивают: «В зал! Хасан приказал всем в зал!»
Я сразу спрятался за дерево. Как только ребята отвернутся, я перебегу через тротуар к домику парикмахерской, а там меня всегда через заднюю дверь выпустят.
Выглядываю из-за дерева. Что там на афише?
«Люди среди людей. Об искусстве общения. Встреча ученых с коллективом завода».
Нет, мне там делать нечего. Учусь, учусь у Цирцениса, а двух слов с девушкой связать не могу. Меня даже силой не затащишь в зал. Тем более, что «ведет встречу т. Газзаев». Не хочу я ему на глаза попадаться.
На крыльцо заводоуправления вышел Хасан и командует дежурным:
— Никого больше не впускайте!
— То зазывай, то не впускай? — удивляется дежурный. — Чего ты нам голову морочишь, Хасан?
— Я из конкретной обстановки всегда исхожу, — сердится Хасан. — В зале было сначала пусто, а сейчас сесть негде. Да еще трикотажницы приехали полным автобусом.
Трикотажницы здесь? Я смотрю на автобус. Да на нем же и уехала Кейпа с фабрики!
Я подскочил к Хасану и говорю ему:
— А мне можно?
— Я же сказал: больше ни одного человека!
— Цирценис очень удивится, если не увидит меня в зале…
— Может, он даже начинать без тебя не захочет, Шамо? И что за натура у нас у всех такая: если не пускают, мы обязательно должны влезть! Пропустите его, ребята… И больше никого. Начинать пора.
Я вам, кажется, говорил, что у нашего завода нет клуба. Есть, да еще какой. На третьем этаже заводоуправления большой зал со сценой. Нигде в районе нет такого зала. Кресла — залюбуешься! Полированные, с откидными сиденьями. Напротив сцены над залом полукольцо балкона.
Этот зал и наш и вроде бы не наш. Он как гостевая комната. В каждом горском доме обязательно имеется гостевая комната, если это нормальный дом. Спроси у горца, сколько у него комнат, он ответит: «Столько-то, не считая гостевой». В гостевой комнате не живут. Сами хозяева там даже не спят, как бы тесно ни было в доме. Детям играть в гостевой комнате не разрешают. Она всегда ждет гостя, она всегда наготове.
В роли гостевой комнаты и наш зал. Все большие районные совещания и собрания проводятся здесь.
Наши официальные мероприятия, вроде сегодняшнего, тоже проходят в этом зале. Но только официальные.
А раньше мы и сами делали в зале что хотели: свои концерты тут устраивали, вечера отдыха, танцы. Захотели — гостей к себе звали: трикотажниц, совхозных ребят.
И эти совхозные, а вернее сказать, всякие бездельники из городка испортили нам все. Такую однажды потеху нам тут устроили. Начали нахально вести себя на вечере, на дежурных полезли с ножами. Мы-то порядок навели, правда, сразу. Алим-Гора слегка расставил руки и двинулся на тех, что с ножами. Знаете, так идут на кур, когда надо их в уголочек двора согнать, чтобы поймать одну-двух на обед. А улыбался он при этом так, что хулиганы побросали ножи на пол и рванули вниз по лестнице.
И все же дело дошло до начальства. С тех пор нам редко разрешают проводить в зале молодежные вечера и танцы. Объяснили нам все очень ловко: нельзя превращать зал в проходной двор — на этом же этаже служебные кабинеты с важными документами.
И мы стали чувствовать себя в своем зале немножко неуютно. Держимся словно в гости попали.
А сегодня все получилось довольно свободно, с шумом и даже со смехом. Молодцы, оказывается, эти ученые люди. Я думал, что Ярцева и Цирценис обязаны держаться в такой обстановке по-ученому. Нет, я убедился сегодня, что шутить им тоже разрешается. Если надо, шпильку подпустить умеют.
Первым делом я, конечно, не на них стал смотреть, а поискал Кейпу. Она сидит с фабричными, читает что-то, будто и не в зале находится, а в парке на скамейке. Здорово она все же умеет держаться: одновременно и просто и гордо. Многие девчонки изображают гордость. А Кейпа ничего не изображает. Она, по-моему, даже не замечает, что многие заводские ребята на нее поглядывают. Замир сидит позади нее, иногда наклоняется к ней, что-то шепчет с улыбкой. Наверное, приятное говорит. Я думаю, что это нелегко — специально придумывать, что сказать. Я бы не смог.
Много сегодня народу. И чего это всех такая тема заинтересовала? Все такие же невоспитанные, как я, что ли? Из заводоуправления даже пожилые специалисты пришли. Сам директор тут.
На балконе, конечно, гвалт. Я и не поднимая головы, знаю, кто там засел. Пэтэушники. Интересно, строем их привели или сами захотели? Снизу на них шикают, кто-то советует выгнать их.
Когда за столом президиума встал Газзаев и от имени районного отделения общества «Знание» открыл встречу, зал притих.
— Товарищи инструментальщики, у нас в районе гостят уважаемые люди — ученые, — начал он таким однообразным, зудящим голосом, будто сверлилку включил. — К вам на завод они пришли не случайно. Вы, рабочий класс, должны быть примером для всех не только в труде, но и в быту, во взаимоотношениях.
Он, мне кажется, немножко затянул разговор, но все же гладко объяснил, что поведение наше должно быть таким, чтобы всех в районе и даже в республике завидки брали. Кому как, а мне эта мысль понравилась.
Потом он сказал насчет пережитков проклятого прошлого, в которых мы, заводские, тоже отчасти погрязли. Надо выжигать каленым железом такие явления, как кровная месть, остатки которой иногда дают себя знать, калым, круговая порука, женитьба на несовершеннолетних…
Дошел он до случаев похищения девушек; у меня коленки задрожали, я поискал глазами Алима. Про наш случай Газзаев почему-то ничего не сказал. Удивительно, как все это еще не всплыло. Родители девушки пока прикидывают, как с честью выйти из этой истории, — так считает Алим-Гора.
Газзаев произнес свою речь довольно понятно, а вот за Ярцеву я боялся. Вид у нее слишком ученый, вдруг загнет чересчур серьезное и все потихоньку разбегутся из зала…
Нет, доклад у нее получился короткий и тоже понятный.
— Один французский мыслитель полушутя говорил когда-то, что приличия — наименее важный из всех законов общества, но наиболее чтимый, — так она начала. — Наше советское общество не может считать культуру поведения маловажным делом. Она, эта культура, выражает для нас отношение каждого человека к обществу, к другим людям, к самому себе. Это — внешнее выражение внутреннего уважения к людям. Есть у советских людей такое уважение друг к другу? Есть. Но формам внешнего выражения мы еще не умеем придавать нужное значение, это мы с вами знаем.
Дальше она опять процитировала кого-то из прошлого века, но уже русского классика: у нас, мол, только форма и составляет цивилизацию, а не будь формы, мы бы все на бале передрались, потому что мы не имеем внутренней потребности уважать друг друга. Это — о богатых.
— У нас, советских людей, есть такая потребность, но не всегда эта потребность «одета» в красивую форму, — сказала Ярцева. — Сумеем одеть, товарищи? Еще как! Может быть, кто-нибудь скажет, что нам пока некогда заниматься этим? Я полагаю, что устанавливать очередь было бы неразумно: сначала научиться высокой производительности труда, решить все проблемы образования, выковать основные качества советского характера, а уж потом, на досуге, заняться манерами. Нет, товарищи, человек растет и развивается как целостная личность. И мы с вами обязаны оценивать личность, говоря по-вашему, по-заводскому, в «полной сборке».
Да, ученые не теряли времени в Дэй-Мохке даром, они научились говорить нашим рабочим языком. Это все же приятно.
Потом она очень хорошо сказала о наших национальных традициях. Сказала такое, о чем я, честно говоря, и не знал или знал только понаслышке. Оказывается, многое нехорошее в наших обычаях прошлого не народом придумано, а занесено к нам вместе с мусульманской религией. Народ же до этого не признавал, например, закабаления женщин, держались наши предки с ними, как бы это сказать… по-рыцарски. Вот и надо хорошее из старины брать, а плохое забыть насовсем.
«Не на грудь надо становиться предкам, а на плечи!» — вот что мне показалось очень метким в докладе.
Вообще-то Ярцева не сильно распространялась насчет обычаев и традиций. Это у них, видно, особая тема, они материал по всему району собирают, даже по всей республике. А с нами, заводскими, они больше на цеховые дела нажимают, на деловой этикет.
Если что и было в докладе про обычаи, так это про новые традиции. Парень уходит в армию, девушки шьют ему нарядный кисет и кладут туда родную землю. Ребята и девушки дружат, не разбирая национальности, делятся инструментом. У одной русской девчонки с трикотажной фабрики случилась на Урале беда с родителями, тогда ингушские подруги в складчину проводили ее на побывку. Я даже не знал об этом факте. Вообще такие вещи у нас стали привычными, потому что случаются они на заводе и на фабрике часто. Ярцевой они нравятся.
Но, говорю вам, в докладе упор больше был на то, как связан этикет непосредственно с цеховыми, производственными делами. Это, конечно, всем интересно, каждому. Кисеты с землей понадобятся мне, другому, третьему, а тем, кто отслужил, или же старикам такие кисеты зачем? А производственные дела всем интересны.
— Задумайтесь, товарищи, над каждодневными своими взаимоотношениями в цехах, в заводоуправлении, на планерках, — говорила Ярцева. — И вы придете невольно к мысли: многие ваши проблемы организации труда уходят корнями не столько в технологию, сколько просто в деловой этикет.
Примеров Ярцева не стала много приводить, да у нас их и без того вагон. Поцапаешься с кем-нибудь в цехе, проявишь неряшливость при уборке своего рабочего места, пообещаешь что-то напарнику по станку или мастеру и не выполнишь, работа всегда пострадает — это ясно.
— По-настоящему воспитанный человек таких вещей себе не позволяет, — объявила Ярцева. — Наверное, не худо было бы иметь на заводе… ну, назовем так: «Кодекс этических норм общения». Он бы помог вам правильнее строить взаимоотношения и по горизонтали и по вертикали. В Ленинграде на одном большом заводе даже создали специальный отдел службы хорошего тона. Не надо нам бояться и таких слов — «хороший тон».
Кто-то из зала выкрикнул под общий смех:
— Эзде́л-отдел!
— Ш-ш-ш… — поднял руку Газзаев.
— Что? Какой отдел? — не поняла Ярцева и оглянулась на Газзаева.
Цирценис тоже не понял, срочно полез в какую-то папку — у него их много разложено.
— Тише, товарищи! Категорически запрещаю реплики с места! — вскочил Газзаев и объяснил Ярцевой, что означает слово «эздел».
— Что ж, звучное название! У ленинградцев нет такого… — засмеялась Ярцева. — Как-как? Эз… Эз…
— Эздел-отдел! — чуть не хором выкрикнул зал, особенно постарались с балкона пэтэушники.
Газзаев развел своими желто-волосатыми руками, потому что это было не чей-то выкрик, а хор. Не придерешься.
Я то и дело смотрел, как все это слушает Кейпа. Вижу ее в профиль, она водит тупым концом карандаша по нежной щеке и будто бы внимательно все взвешивает, такое у нее напряженное лицо. Какие длинные ресницы… На затылке золотятся легкие-легкие завиточки волос.
Выступил Цирценис. Потом, уже в Грозном, где я побывал у них в научно-исследовательском институте, я случайно узнал, что Цирценис родом из Ленинграда. Его оттуда вывезли во время Отечественной войны, совсем маленьким, на Кавказ, к друзьям отца. Спасли от голода. Так он и остался в наших краях.
И без этой анкеты можно было понять, какой его любимый город. В его речи то и дело мелькало: «Ленинград, Ленинград». Я понял, что там собрались одни исключительно воспитанные люди. Самые воспитанные со всей страны живут в Ленинграде, один Цирценис оказался здесь.
Слушали его наши очень охотно. Сразу видно, что он такой человек — душа нараспашку и верит буквально всем на свете. Ребята заметили это еще в цехах. Он на всех смотрит влюбленными глазами. С нашей сердитой Нани они стали закадычными друзьями. Она как его увидит, так смеется и хлопает себя руками по животу. Один раз они вдвоем целый час о чем-то секретничали. Он деликатно взял ее под локоток, как важную даму, склонился к ней, и полчаса ходили они по «улице» нашего пролета. Ни один начальник не посмел отвлечь Нани во время этой прогулки, потому что у нее было в те минуты очень необычное выражение лица.
Цирценис сказал с трибуны, что в Дэй-Мохке он иногда чувствует себя так, как будто попал в сказочную страну:
— Ваш завод, дорогие друзья, а также те ингушские и чеченские села, где мне доводилось бывать, — это удивительная «Страна Пожалуйста», таким известным сказочным термином выразил бы я свои ощущения. При словах «пожалуйста», «прошу тебя» человек готов оказать любую услугу! Это для меня свидетельство великолепной душевной щедрости народа. На такой основе, разумеется, не могли не вырасти цветы гуманных обычаев, которыми можно только любоваться. Но чертополох тоже вырос, друзья, это зловредное растение умеет найти для себя соки! У него весьма длинные корни, он умеет питаться за счет благородных растений. Впрочем, о тлетворности пережитков нам тут уже говорил в своей… э-э… насыщенной вступительной речи уважаемый товарищ Газзаев.
Все-таки здорово на горцев действует похвала. Наверное, мы слишком уж самолюбивые, чересчур гордые. К нам подход нужен. Мы как московские продавщицы. Я сам никогда в Москве не был, а сравнение это придумал один наш парень-снабженец, который в Москву ездит как к себе домой. Он рассказывал, что московские продавщицы исключительно гордые люди.
— Дорогие друзья! — вознес руки вверх Цирценис. — Великие люди говорили, что для пролетариата сознание собственного достоинства, чувство гордости и независимости важнее хлеба. Замечательные слова. Достоинство было у горца в крови всегда, но…
Верно говорит Цирценис о достоинстве горцев. У нас любят рассказывать анекдот об одном чеченце, который не захотел уступить дорогу царю. Может быть, это даже не анекдот, потому что называют и место, где все случилось: за чеченским аулом Ведено́, по дороге к высокогорному озеру Ке́зеной-Ам. Император или его наследник, не знаю точно, ехал туда лечить свою болезнь. Называется гемофилия. Это когда кровь у царей перестает свертываться.
Генерал скачет впереди и кричит всем встречным: «Пади, пади, император едет!» Один бедный чеченец в рваной черкеске видит это и ни на шаг не отводит в сторону свою арбу. Подбоченился и отвечает: «Пусть хоть сам пирстоп Бе́терсолта едет, шагу не уступлю, пока не попросишь по-человечески».
Пирстоп — это пристав. Слово «император» бедный чеченец не знал и считал, что пирстоп Бетерсолта главнее.
— Но, товарищи, — начинает Цирценис расшифровывать свое «но», — наше советское, рабочее достоинство требует, чтобы каждый ощущал ответственность не только за себя, а за все общество. Даже, если хотите, ответственность перед всем человечеством. А что такое человечество, друзья? Оно начинается ведь с первого же человека, которого вы встретите на жизненном пути или даже выйдя утром из дому.
Интересно, кого я встретил сегодня утром, когда вышел из общежития? Двоих сразу: обжоры Гиха и Сидор тащили вдвоем из магазина полтуши барана; они всегда умудряются покупать все первыми, причем без очереди. Вот это и есть человечество?! И я обязан чувствовать перед двумя нашими обжорами ответственность?!
Зато вчера и позавчера первый человек на моем пути был дагестанец Бадави, мастер колодцев. Ему я помогал от имени всего человечества. Можно так считать.
Цирценис подвел мысль к тому, что надо быть вежливым, мягким, обходительным с каждым членом советского общества, но особенно с женщинами. Он сообщил интересную математику: сила мышц женщины составляет всего 60 процентов силы мышц мужчины. В деревне же горцы заставляют женщин нести груз, сами идут налегке. Тут, я думаю, Цирценис попал не в бровь, а в глаз.
Цирценис говорил много, слишком много. Он сильно увлекается и тогда все забывает. Может, он больше знает, чем Ярцева? Нет, мне показалось тут другое. Он больше любит мечтать, а Ярцева больше любит действовать. Она и говорила хорошо, и на вопросы потом отвечала охотно. Но у нее все время такое лицо, такой вид, как будто ей хочется немедленно действовать. Наверное, она любое свое дело проворачивает как мужчина: взялся рубить — руби одним ударом.
А Цирценис готов был бы сидеть с нами в зале и вместе со всеми мечтать часа три-четыре, как весело стало бы жить, если бы все люди сделались абсолютно вежливыми. Сплошными ленинградцами стали бы.
Потом Цирценис поехал не в ту сторону, куда надо. Это я заметил по лицу Ярцевой. Он начал говорить об автоматике: вежливость должна быть у любого человека автоматической привычкой, стать привычной, как дыхание. Нам некогда ждать, пока человек все поймет. Мы устали от хамства.
Это верно, но не хотел бы я, чтобы из нас стали роботов делать. Не заговорит ли сейчас Цирценис о моем друге Хахаеве, не начнет ли излагать про английское упражнение со словом «сыр»? Все испортит.
Нет, не дадут ему разойтись. Ярцева сразу нахмурилась, когда он начал гнуть про свою автоматику, посмотрела на часы, а потом подсунула на трибуну записку. Я знаю такие записки: «Закругляйтесь». У нас на комсомольских собраниях Хасан любит такие записки оратору писать.
Цирценис все же кое-что свое успел протащить, хотя и не прямо. Он повторил мысль Ярцевой, что в создании новой психологии можно считать достигнутым лишь то, что прочно вошло в быт, — надо повторять, повторять и повторять тысячу раз что-то новенькое. Иначе оно так и не станет привычным, может умереть прямо в колыбели. Цирценис вспомнил про одну народную артистку. Она в детстве очень неуклюже зашла в гостиную. Мать заставила ее восемь раз зайти и выйти. Представляете? По методу Марзи действовала эта мать.
— Джамбот умел красиво войти… — сказал кто-то в нашем ряду довольно громко; кругом засмеялись.
Этот Джамбот к любому начальнику цеха входил в кабинет очень гордо: в высоко поднятой и отставленной руке дымится папироса «Казбек», а дверь кабинета Джамбот открывает только носком сапога.
Услышав наш смех, Ярцева опять подсунула Цирценису записку, а Газзаев поднял руку и сказал:
— Ш-ш-ш… Переходим к вопросам, товарищи.
„ЕСТЬ НОВЫЙ ВИД ЗАСТЕНЧИВЫХ ПАРНЕЙ…“
…Я никогда не видел, чтобы у нас на какой-нибудь встрече или вечере задавали столько вопросов. Память у меня такая, что я могу любое стихотворение, услышав, сразу повторить. И все же я бы не взялся припомнить даже вопросы, которые на вечере задавали сегодня. Так их было много. Об ответах я и не говорю, некоторые ответы были такие сложные, что мне и не понять.
Задавали вопросы со всех сторон, только успевай поворачивать голову: кто там еще такой отчаянный? Я сам никогда не смею на лекциях задавать вопросы.
Я только слушал и поглядывал: не подумает ли задать вопрос Кейпа?
— Только в письменном виде! — предупредил всех Газзаев, но это его указание как-то сразу полетело вверх тормашками.
Он сам вместе с Ярцевой и Цирценисом отвечал на вопросы и письменные и устные. Втроем пошепчутся, кому из них отвечать, и говорят по очереди. Больше всего, правда, отвечала Ярцева.
— Пусть грамотные надо мной посмеются, но я нигде не встречал, что означает само слово «культура»? — спросил кто-то.
— По-латыни — «возделывание, обрабатывание», — ответила Ярцева.
— Садись, невозделанный! — крикнул кто-то задавшему вопрос; в зале засмеялись.
— Ш-ш-ш! Кто следующий?
— Я своими глазами читал у одного французского писателя — фамилия его Жорж Санд, — что бедность избавляет от этикета. Можно с ним согласиться?
— Допустим, с ней — запомни: с ней! — можно согласиться. Только пусть сначала встанут бедняки, которые есть в зале. Нету? И сам спрашивающий поспешил сесть? Тогда продолжаем дальше. (Этот ответ дал Газзаев, и мы в зале поняли, что наш Газзаев не уступает ученым, шутки тоже умеет при желании шутить.)
— Я вижу, тут не стесняются и глупости спрашивать, а мы собрались для серьезного дела. Так давайте же говорить о производстве. Вот я мастер. У меня в шкафчике есть должностная инструкция, инструкция по технике безопасности, инструкция по работе с рационализаторами и прочие правила. Даже пожарники мне свою инструкцию дали. А кто мне даст документ, как разговаривать со станочниками, как делать с ними это самое «общение», пропади оно пропадом? Нет в природе такого документа! Видишь, Газзаев, опять смех в зале! И в цехе у нас сплошной смех, шутки. Куда же это годится?!
— Я говорила в докладе, — ответила Ярцева, — что какой-то кодекс служебной этики разработать действительно надо. Вы правильно ставите вопрос, товарищ! А по поводу смеха… Полагаю, уместная шутка и смех только на пользу делу.
— Обеспечьте этого мастера инструкцией по смеху! — выкрикнул кто-то.
— А вот у нас бригадир все время молчит, — выступил следующий. — Будет на него какой-нибудь пункт?
— Ш-ш-ш… Давайте посерьезнее. Отвечает на вопрос товарищ Цирценис.
— Одно зарубежное исследование показало, — встал Цирценис, — что только семь процентов информации передает язык, сорок процентов — модуляции речи и паузы, остальную информацию — мимика, жест. Внимайте своему бригадиру не только ушами, друзья!
— Одну мою подругу старший брат заставляет по утрам чистить ему сапоги. Он говорит, что настоящий джигит не должен чистить их себе сам. Как его разубедить?
— Пусть подруга спросит у брата, а кому должен чистить сапоги настоящий джигит? — ответил под общий смех Газзаев.
Остроумный все-таки человек этот Газзаев. Сам он тоже часто смеется. Но почему-то когда на него смотришь, хочется вести себя очень осторожно. Понимаете, в чем дело? Он вовсю смеется, а глаза у него не смеются. Его глаза в эту минуту «думают» о чем-то другом, и ты не захочешь своей шуткой помешать им.
Я посмотрел на нашего директора для сравнения. Этот весь смеется, когда что-нибудь остроумное услышит. По радио, когда идет планерка, у него такой суровый голос, а тут он даже удивляется немножко, если сидящие рядом с ним не засмеются над шуткой.
Я вижу, вопросам сегодня не будет конца.
— Моя мать жалуется, что у них в совхозе есть среди начальников настоящие грубияны. Может дирекция этого не видеть?
— Если ваша заводская дирекция иногда не видит, почему совхозная обязана? Мы будем ставить вопрос, чтобы при переаттестации работников проверялся не только уровень их знаний, профессиональная компетентность, но и нравственная зрелость. Вы задали серьезный вопрос.
— А что делать, если гость не уходит и не уходит? Мне надо к смене выспаться, а он не понимает!
Цирценис ответил на это коротко:
— У итальянцев хозяин в таких случаях начинает потирать свои щеки: намекает, что у него уже борода отрастает…
— Я прошу ответить, для чего мне мудрить над искусством общения, если я целых восемь часов один на один со своим станком? Еще восемь часов — сон. Три часа — конспекты…
— Мы наблюдали однажды у вас в цехе, как парень всю смену крыл свой станок самыми нехорошими словами, — нахмурилась Ярцева. — Что-то у него там не получалось. Станок, правда, не отвечал ни слова, но это все равно было общение. Однако, если говорить кроме шуток, проблему вы затронули щекотливую. Дефицит общения отрицательно сказывается на производительности труда, на самочувствии человека. Есть такой дефицит у машинистов башенных кранов, есть он у вас на трикотажной фабрике, где девушка целый день «разговаривает» лишь со своей вязальной машиной. От науки — от нас! — требуются какие-то четкие рекомендации. Отстаем…
— Я хочу знать, нужен ли этикет молодоженам?.. Товарищ Газзаев, призовите зал к порядку! Да я сам еще сто лет жениться не собираюсь… Я для вас спрашиваю, несчастных, которые только из загса выйдут и опять туда же спешат…
— По американским источникам, «притирка» молодой семьи длится примерно первые восемь-девять недель. На этот же срок у них падает и наибольшее количество разводов. Да, вопрос задан закономерный: молодоженам надо уметь выработать свой, семейный стиль общения. Соответствующий этикет поможет им.
— У нас каждый месяц бывает День качества, День молодого рабочего, День рационализатора. А разве нельзя было бы ввести День вежливости?
— Превосходная мысль! — подхватила Ярцева. — Остается нам сейчас же договориться с вашим директором, чтобы завод работал только один день в месяц.
— Я где-то читал, что в Японии служащий отвешивает в день около сорока поклонов, а девушка у эскалатора в магазине — две с половиной тысячи. Неужели правда?
— Не завидуйте. Поклонов я у ингушей не видела, но насчет привставаний при виде старшего ваш поселок заткнет японцев за пояс. И мне это нравится… Правда, следует помнить при этом и японскую поговорку: чрезмерная вежливость — это невежливость.
— А что все-таки, товарищ Ярцева, самое главное в этикете? Не поклоны же и привставания! Можете ответить на это одним словом?
— Точность. Она основа этикета. Точность в исполнении обязанности, долга, обещания, будет ли это в цехе или в семье. Точность в умении делать положенное и не делать неположенного, что и позволяет нам называть человека воспитанным!
— Скажите, пожалуйста, есть ли такая организация, которая могла бы взяться за внедрение этикета?
— Есть: общественное мнение! Мы с вами! Увы, нет такой конкретной организации… Может быть, удастся нашей маленькой группе специалистов стать каким-то центром, если мы найдем широкую поддержку со стороны общественности, с вашей стороны.
— Один мой знакомый чудак говорит: «Кто имеет право требовать от меня, свободного советского человека, чтобы я даже чихал по каким-то правилам? Где такой закон?»
— У нас с вами такого закона нет. А у этого чудака есть: «Я так хочу». Это закон детей, хулиганов и дикарей.
— Если человек умеет не чавкать за столом — это уже воспитанность?
— Нет! Надо, чтобы он не умел чавкать.
— Я полвека прожил и не пойму одного. Твердим, что с ростом общей культуры народ будет становиться все воспитаннее. А на деле? Культура выросла, а хамства среди молодежи стало больше! Вот они сидят, почти весь зал — молодые. Пусть откажутся!
— Ш-ш-ш… Эй, на балконе! Хотите, чтобы вас всех вывели?
— Тише, тише, молодежь! — подняла Ярцева руку. — Вот уместная цитата, это из слов великого ученого Пирогова: «Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку. Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы, а главное, у вас будут люди и граждане». Дайте время! Мы могли и можем подстегивать время, но занимались этим в смысле воспитания воспитанности очень мало. Учили всех и всему, но только не этому. В Японии, например, обязательный курс этики начинается уже в школе.
— Почему же в наших школах и вузах нет этого?
— Такой вопрос уже выдвинут в повестку дня съездом комсомола, товарищи! Дело не простое. Нам нужна целая система мер, чтобы научиться регулировать общественные эмоции, и все средства для этого теперь наш народ имеет. Тут хватит работы и педагогам, и лекторам, и социологам, и даже медикам. Хотите переписать себе слова Пирогова? Пожалуйста, пускаю карточку по залу. Только не забудьте вернуть.
— А этикет разве не кабала?! — выкрикнул кто-то. — Это же цепи рабства для молодежи.
— Нет, товарищи! Правила советского общежития должны не сковывать, а еще больше освобождать, выявлять все прекрасное, что есть в человеке…
— Иногда смотришь, воспитанный человек, говорит грамотно и вежливо, а несет такую обидную чушь… Что сказать о таком человеке?
— Его научили, как говорить, но не научили, что говорить.
— А что же надо говорить, чтобы не обижались? Нет же такого рецепта?
— Один есть: если не можешь сказать ничего приятного, лучше промолчи, — посоветовал Цирценис.
— Почему нельзя показывать хамов по телевизору? Скрытой камерой!
— Разве мы с вами еще не насмотрелись на них? — улыбнулась Ярцева.
— Я опять о производстве. Наш бич — брак. Не понимаю, что может дать внедрение этикета? Настоящий ОТК — вот вам и весь этикет. И бить бракоделов рублем!
— Мы видели, что некоторые ваши упаковщики вкладывают в коробки со сверлилками жеваные паспорта изделий, — ответила Ярцева. — Тот упаковщик, который был — подчеркиваю это! — в опрятной, выглаженной одежде, отшвыривал такие мятые паспорта в сторону. Понимаете, нужно воспитывать в человеке эстетическое чувство. Тогда человек просто не сможет работать неряшливо. Лев Толстой, побывав у сапожника в доме, умилялся, как светло и нравственно изящно в его темном рабочем углу, писал, что стоит войти в рабочее жилье — душа расцветает… А что на некоторых рабочих местах вашего первоклассного завода? Жаль, мы не пригласили сюда сегодня вашу Нани. Она бы кое-кого устыдила…
— Скажите, а нельзя ввести материальное стимулирование за соблюдение этикета?
— Садись, — махнул рукой Газзаев. — Может быть, тебе еще четырнадцатую зарплату ввести за вежливость? Правда, ваш директор ничем не рискует: перерасхода не будет!.. Товарищи, хватит вопросов, наши гости устали…
Газзаев постучал карандашом по графину и предложил выступлений не делать: вопросов было столько, что позиции коллектива ясны, в выступлениях нет необходимости.
— А я хочу! — раздался девичий голос.
Это вскочила с места знаете кто? Кейпа! Мне сделалось стыдно и как-то тревожно. Замир ее за рукав тянет, но уже поздно.
Она спокойно оглядела зал и сказала:
— Я хочу прочесть стихотворение.
— Ты что это? — удивился Газзаев и постукал по графину. — У нас не вечер поэзии.
Она в его сторону даже не смотрит, а оглядывает зал, будто ждет разрешения от всех нас. Мне показалось, что на меня она поглядела чуть подольше, и от этого сделалось на душе неспокойно. От этой девчонки всего можно ждать.
Зал закричал: «Давай! Пусть читает!» Нам же лишь бы что-нибудь неожиданное произошло. Особенно тем, кто на балконе. Пацанам.
— Нет, ты уж выйди сюда! — показал Газзаев, уверенный, что она смутится и сядет; у нас ужасно стесняются идти к сцене.
Кейпа быстро вышла к сцене, даже поднялась на ступеньки и сама объявила свой номер:
— Стихотворение Евгения Евтушенко «Застенчивые парни»…
Тут меня как обожгло. Вот почему она на меня так поглядела, когда встала с места.
Я уткнул голову вниз и стал слушать, запоминая каждое слово.
Она закончила, и видели бы вы, что в зале поднялось! Шум, крики, свист…
Когда Кейпа читала свой стих, зал еще молчал. Только в том месте, где строчка «легли — так уж легли», радостно завыли на балконе пэтэушники.
А сейчас шум стоял сплошной, слышались отдельные выкрики: «Ты кого это имела в виду?», «Да это же оскорбление всем ребятам!», «Застенчивые парни, может быть, и есть, а вот застенчивые девчонки, кажется, перевелись!»
Слышал я и одобрительные крики. «Правильное стихотворение, правильное!» — выделялся чей-то тонкий голос.
Особенно поддерживали Кейпу девушки. И не только трикотажницы, но и наши, заводские.
А она стоит себе на ступеньках сцены как ни в чем не бывало, хотя Газзаев машет ей рукой: «Садись! Иди на место!»
К сцене выскочил Хасан, пробовал перекричать всех, а потом неожиданно для всего зала свистнул — два пальца в рот, — закричал в наступившей на миг тишине:
— Не про вас же это! Это стихотворение вообще…
Зал зашумел бы опять, если бы не вклинил свое слово Цирценис. Он прижал обе руки к груди и сказал:
— Потише! Пожалуйста, друзья… Прошу вас…
Люди из «Страны Пожалуйста» засмеялись, и наступила тишина. Если бы опять не Кейпа…
— Нет! — звонко сказала она со ступенек сцены, бросив насмешливый взгляд на Хасана. — Это стихотворение не «вообще».
Зашумели еще больше, чем прежде! Замир сидит, что-то соображает. У многих, вижу, такие лица, словно каждый старается прикинуть, а не касается ли стихотворение его лично? Наверное, у меня тоже было такое выражение лица. Мне, я думаю, тут больше всех надо соображать, потому что Кейпа прямо назвала меня на фабрике застенчивым парнем.
Один парень, фасонистый и кучерявый, он из конструкторского бюро, вышел к сцене, зычно потребовал тишины и начал отчитывать Кейпу. Видно, его коснулся не один какой-то пункт стихотворения. К нему можно, сколько я знаю о нем от ребят-инженеров, применить каждую точку и занятую. Плюс еще один параграф сверх всего: он такой глупый, что начал плести что-то совсем постороннее, путаное.
Кейпа громко засмеялась, а он обиделся, повернулся к залу и глупо пожаловался на нее:
— Видали? Рот не дает открыть мужчине! Между прочим, даже нахальная Ева молчала в раю, когда говорил Адам.
— Молчала потому, что было кого слушать! — ответила Кейпа.
Кучерявый так и остался с открытым ртом, а она пошла на место. Ее реплика всем понравилась, в зале захохотали, захлопали в ладоши. У нас уважают острое и смелое слово.
…И Кейпа, и ученые, и все споры об этикете и стихах отступили для меня через несколько минут назад. Я, Шамо Асланов, был объявлен рупором религиозных фанатиков, хотя мою фамилию и не назвали.
Произошло это так. Газзаев объявил:
— А теперь у меня есть неприятное сообщение, товарищи! У нас в районе состоялся самозваный сход религиозных «авторитетов», на котором принято решение «усовершенствовать» старые адаты и ввести новые…
Сразу настала тишина. Теперь был слышен только голос Газзаева.
Он не стал объяснять слово «адаты». Кому у нас в республике оно не известно? Адаты — это неписаные законы старины, за которые держатся религиозники.
Состоялся сход неподалеку от нашего городка, в небольшом ауле. Съехались на него старики из некоторых ингушских сел и аулов. И вынесли решение из десяти пунктов.
Я слушал Газзаева не очень внимательно, потому что размышлял над выступлением Кейпы и наблюдал потихоньку, как она сейчас держится.
Но потом в речи Газзаева мне стало слышаться что-то знакомое, уже слышанное где-то.
Снизить ставку калыма… Уменьшить размеры подарков на всяких торжествах…
Да это же слова Бунхо, которые старик говорил в беседе со мной! Я же не дальше как сегодня, во время перекура на термическом участке, рассказывал ребятам, какое умное дело шевелится в голове у наших передовых стариков. Некоторые ребята мне не поверили, но все же обрадовались, что женитьба будет обходиться дешевле. Вот и сейчас по лицам многих ребят видно, что они не понимают, зачем Газзаев ругает такие умные пункты решения стариковского схода.
— Есть люди, — продолжал Газзаев, — которые склонны считать решения итого схода чуть ли не прогрессивными. Они думают, что религиозные фанатики наконец осознали вредность многих отживших обычаев. Вы, рабочий класс, не должны попасться на такую удочку! Не уничтожить, а еще сильнее закрепить ценой «уступок» все отжившее — вот хитрая тактика организаторов схода. Районная партийная организация раскусила эту тактику. В самом деле, чего стоит хотя бы такой пункт решения схода, как «снижение цен» на невест? Кого из сидящих здесь девушек не оскорбит такое решение? Ведь ясно, что оно направлено на увековечивание позорного обычая калыма.
Газзаев отпил воду, и голос у него стал еще строже:
— Даже в таком коллективе, как ваш, нашлись отсталые элементы, которые взялись чуть ли не пропагандировать решения схода, захотели стать рупором религиозных фанатиков. Надо приглядеться к таким людям, товарищи!
…Алим-Гора подошел ко мне после собрания и прошептал, отведя к окну:
— И откуда ты принес на своем хвосте все эти разговоры об «умных» замыслах стариков? Еще этого нам с тобой не хватало.
— А что, и другие неприятности есть?
— Ты думал, история с похищением невесты не выплывет? Хасан сказал мне только что: мы с тобой должны быть послезавтра сразу после смены в комитете комсомола. Нас будут обсуждать. Если бы не этот дурацкий сход, все могло бы и обойтись, А тут видишь, как заторопились?
Мы подошли к ребятам. Мути сделал ладони трубочкой и стал разглядывать меня как через бинокль.
— Ты чего? — удивился я.
— Газзаев призвал приглядеться к таким людям, как ты, — сболтнул он, а ребята расхохотались.
— Трахнуть бы тебя по башке, Мути, — мрачно сказал Алим-Гора. — Ты и на своих похоронах будешь смешить публику…
— Молчи, старовер! Мы сумеем дать отпор фанатикам! — дурачится Мути, очень похоже подражая голосу Газзаева, напоминающему звук включенной сверлилки.
СЛАВА РАЦИОНАЛИЗАТОРА МОГЛА СТАТЬ МОЕЙ..
На другой день я стоял после смены с группой ребят возле здания заводоуправления, у доски объявлений и приказов.
Из здания вышел директор. Мы сразу спрятали за спины свои сигаретки. Не так сильно спрятали, как перед стариками прячем, а слегка. Просто сделали из вежливости вид, что прячем.
— Ну, хоть вы все некурящие, а спички у кого-нибудь найдутся? — подошел к нам директор.
Он прикурил от чьей-то зажигалки, оглядел нас всех.
— Так. Кто тут из токарей… Шамо, у тебя есть минутка? Зайдем ко мне, я хочу попросить тебя выточить одну штуку. Ребята, извините, что я вашего друга увожу…
В кабинете директор предложил мне сесть. Я сел без разговоров. Помню ведь, как он проучил женщину, которая тут ингушские церемонии затеяла.
— Завтра с утра выточи мне десяток вот таких шайбочек, — показал директор образец. — Только поаккуратнее, с минимальным допуском.
Чепуховская работа. Ее и пэтэушник сделает.
— Понимаешь, надо срочно, а ваши мастера даже со мной могут затеять бюрократию — наряд и прочее, — улыбнулся директор.
Я хочу встать, а директор продолжает:
— Она нужна вот сюда, для колпачка электросверлилки…
Смотрю, это такой же колпачок, какой мне дала Таня. Но подобной шайбы он не имел, это я помню хорошо, и говорю директору:
— Шайбе тут нет места…
— Не было, ты прав. А теперь будет, Шамо. Ты знаешь Туга́на, слесаря, который пресс обслуживает? Вот у кого удивительная голова… С месяц назад он сам взялся упростить одну из шести операций на изготовлении вот этого колпачка, хотя это и не его обязанность. Технологи видят, что у него не получается, поручили дело более толковым ребятам. Туган спрятал обиду в карман и продолжал возиться. Добился!
— Предложил шайбу? — спрашиваю я, никак не понимая, что она будет делать в комплекте.
— Туган предложил отказаться, совсем отказаться…
«Понимаю, отказаться от боковых винтов колпачка, чтобы не приходилось пробивать отверстия, — мелькает у меня мысль. — К этому ведь и я шел! Но при чем шайба? Она разве заменит винты?»
— Понимаешь, как это смело и умно: он предложил вообще отказаться то колпачка! — говорит директор, любуясь шайбой. — Его заменит вот такая защитная шайба. А крепить ее будем очень просто: стопорным кольцом самой сверлилки. Представляешь, какой солидный годовой экономический эффект? А главное, не будет теперь заторов на сборке. Тугану, конечно, дадим премию…
— До чего простая штука… — смотрю я на эту шайбу.
Я прямо понять не могу, как это не пришло в голову мне. Ведь если разобраться, мы с Туганом в одном направлении двигались: то, что не желает тебе подчиниться, убери с дороги, замени. Только я остановился на полпути, а Туган пошел до конца.
— Это, конечно, обычное рацпредложение, — говорит директор. — Но оно все же требовало технической дерзости, верно, Шамо?
Директор открыл бутылку с минеральной водой «Ачалуки́», налил в стаканы.
— Пей, Шамо. Согласись, мы привыкли называть мужеством только некоторые вещи. Геройский подвиг на фронте. Или пойти на любую опасность ради друга. Вплоть до того, чтобы украсть для него невесту, не боясь ни выстрелов, ни тюрьмы…
Я поперхнулся шипучей водой. Директор, кажется, ничего не заметил и продолжал:
— Вот вчера на встрече с учеными говорили об этикете. Я рад, если мы сумеем хранить и беречь многое доброе из дедовских правил чести. Но для меня, Шамо, самое большое мужество ингушей сейчас заключается в том, что они рвутся к вершинам технического прогресса. Больше того: сами вершиной хотят стать! Не бугорком, а вершиной. Так, кажется, говорилось в стихотворении, которое читала нам эта красивая девушка с фабрики?
Я почувствовал, что мое лицо залилось краской. Директор вытащил из-под стекла большую фотографию боевых башен древних ингушей.
— Посмотри, что мне подарили археологи. Я глядел сегодня на эти башни и подумал о продукции нашего завода.
При чем тут наши сверлилки? Это мне непонятно.
— Знаешь, что мне однажды Нани сказала, когда при ней распаковали в цехе сверлилки, которые потребитель вернул из-за дефектов? — продолжал директор. — Она старуха неглупая. «Разве вы мужчины? — сказала она, увидев забракованные сверлилки. — Настоящий мужчина не потерпел бы такого позора! Ты видел когда-нибудь, директор, боевые башни своих прадедов над рекой Ассой? Без всякого ОТК строили. А простоят еще тысячу лет. Ты в докладах хвастаешься, что твои сверлилки тридцать три заграницы покупают. А ты знаешь, что наших прадедов приглашали строить боевые башни и в Осетию, и в Грузию? Это тогда тоже заграница считалась!»
Я смотрю на снимок так, будто впервые вижу эти башни. Да, умели строить здорово. Высотой метров в двадцать пять башни; как восьмиэтажный дом. Такого высокого дома у нас в поселке и в помине пока нет. Из гранитных глыб, скрепленных раствором извести с молоком и яйцами. Стоят стройные, как пики, на таких скалах, где, кажется, и ступню нельзя уместить. И строили без всяких машин, подъемников. Мастеру, который увенчает башню белым камнем — «зогл», — дарили белого коня.
— Эти башни воздвигали воины, отложив кинжал в сторону, — закладывает снимок под стекло директор. — Ты же знаешь, что никто не отдал бы невесту за тех, у кого нет башни, чтобы защитить женщин и детей от нашествия иноземных врагов. Выходит, мужество становилось неотделимым от труда, от уменья работать. Так было всегда, Шамо! Так было и в Отечественную войну.
— На войне-то решало мужество… — вздохнул я.
— И только? Ошибаешься! Оба сына Татарха́на, бывшего красного партизана, погибли в этой войне. Наверное, среди ингушей мало было более смелых воинов, чем они. В отца они пошли. Я иногда размышляю: почему один из них стал танкистом, а второй летчиком? Может быть, на их месте такой же честный, но слишком… застенчивый парень сказал бы себе: «Куда мне, потомку неграмотных горцев, до самолета! Я джигит, а конь тоже на войне нужен…»
Я внимательно слушаю и удивляюсь. Любой факт, о котором говорит директор, мне известен. Почему же интересно слушать? Потому, что директор здорово связывает одно с другим. Начал с шайбы, а теперь говорит о войне и героях.
Может быть, это и есть то, что называется «кругозор»? И Туган, и Нани, и стихотворение Кейпы, и башни, и война — все связалось в одно целое. Как сюда поместилось и похищение девушки, это я не могу сразу вспомнить. Одно ясно, что заговорил директор о похищении не случайно. Педагогика!
Я ни с того ни с сего вдруг спросил у директора, как бы он поступил на моем месте в истории с Асхабом и его невестой?
— Помог бы, — не задумываясь, ответил он.
— Похищать невесту?! — не поверил я, но немножко обрадовался в душе.
— Ну, до этого я, может быть, и не додумался бы, — постарался директор спрятать улыбку, хотя это у него и не получилось. — Я пошел бы к родителям невесты, постарался бы их убедить. И завтра я это собираюсь, кстати, сделать…
Тут директор спохватился, сам заметил неувязку:
— Не знаю, что тебе ответить, Шамо! Меня-то могут послушать, а тебя бы родители невесты выпроводили палками, это ясно. Спрашиваешь, как бы я поступил на твоем месте? Одно знаю твердо: в похищение я бы не полез. Нельзя так. Твой друг Алим-Гора честный и бесшабашный парень. Если он видит, что дурной обычай губит другу жизнь, Алим горой встанет! Но чем он иногда бьет по дурному обычаю? Таким же дурным обычаем: похищением — по калыму! Он иногда похож на человека, который… как бы тебе сказать?.. бросается тушить пожар по ошибке с ведром керосина вместо воды! Бывает, погорелец за это и по шее даст: ему же некогда разбираться, по умыслу ты перепутал ведра или по глупости, сгоряча…
ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ ВЕРЯТ В МЕНЯ
…На заседании комитета комсомола Алиму-Горе действительно дали по шее, да еще как. Комитет постановил исключить его из комсомола.
Он вел себя на заседании так, что пощады ему не могло быть.
— Похищал и буду похищать девушек, если они сами этого захотят! — заявил он, подперев головой люстру. — Тогда, может быть, призадумаются родители невест, ждать калыма или нет.
— Значит, против одного пережитка воюешь, а другой пережиток узакониваешь? Товарищи, ей-богу, можно подумать, что наш Алим-Гора был участником схода стариков-фанатиков. Эти двурушники ведь тоже делают вид, что некоторые пережитки им не нравятся. А сами этим пережиткам ни за что не дадут умереть…
Эти слова сказал, стоя у дверей, Газзаев. Он только что вошел и начал гвоздить Алима прямо от дверей.
— Садитесь, товарищ Газзаев, у нас идет заседание комитета, — мрачно сказал Хасан и кивнул на стул.
— А что, — ответил Алим-Гора Газзаеву, — надо ждать, пока твои лекции прибавят ума всем староверам? Да мы же подохнем неженатыми! Народ к нулю придет без рождаемости. Кому лекции читать будем?!
— Э, с ним все ясно! — сказал Газзаев. — Чего вы церемонитесь? Исключать надо!
— Вы хотите взять слово, товарищ Газзаев? — мрачно спросил Хасан.
Что-то я не узнаю сегодня нашего секретаря. Я ждал, что он с ходу возьмется отчитывать Алима и меня. А он пока нам ни слова не сказал. Зато с Газзаевым держится слишком смело. Мы не привыкли, что он с начальством так разговаривает.
— Да я-то уже сказал свое слово: исключать! — ответил Хасану Газзаев.
Члены комитета молчали. Алим-Гора усмехнулся, побарабанил двумя пальцами по нижней губе и пошел к дверям.
— Исключайте, — остановился он на минуту. — Но есть еще комсомольское собрание. Есть райком комсомола. А надо — и до ЦК ВЛКСМ дойду.
— Неправильно вы тут делаете… — обратился я к Хасану. — Ведь Алим все поймет, если члены комитета…
— А ну замолчи! — прервал меня Хасан. — Члены комитета сейчас и до тебя доберутся! А ты, Гора… До ЦК успеешь дойти. Ты здесь говори!
Алим не захотел ничего больше говорить. Он ушел, хлопнув дверью так, что люстра закачалась. Хасан встал, поправил галстук и объявил:
— Асхаб у нас несоюзная молодежь, мы его не вызывали, с этим женихом будут разбираться другие. А нам надо сейчас заняться товарищем Аслановым.
Он мог бы и не называть мою фамилию, а просто сказать: «заняться этим двурушником».
Газзаев громко сдул со своих очков с тоненькими золотыми дужками чего-то такое, снова надел их на мясистый нос и встал. Он задумчиво прошелся по комнате и сказал, слегка пощипывая желтые волосы на толстой белой руке:
— Членам комитета полезно будет знать, что именно Асланов пропагандировал среди молодежи завода решения схода религиозных фанатиков. Мы располагаем такими данными…
Мура́т, лекальщик из инструментального цеха, тронул меня за локоть и громко спросил:
— Ты откуда узнал о сходе?
— Да. От кого? — подхватил Газзаев. — Видите, скрывает.
— Отвечай же, — рассердился Хасан.
— От Газзаева я узнал… На встрече с учеными, позавчера.
Члены комитета засмеялись и начали шумно переговариваться. А я стоял и думал: почему же так поступили с Горой? Если Газзаев такой умный человек, как он не понимает, что Алим самый честный парень, только иногда глупо действует против пережитков…
Наверное, наш директор поверил бы, что я не знал о сходе. А Газзаев не может поверить, хотя он тоже умный, как и директор. У них разный ум, понимаете? Директор старается узнать. А Газзаев все заранее знает.
— Я, конечно, далек от мысли, что сам Асланов играл какую-то роль, — говорил Газзаев, шагая вдоль стола, за которым сидели члены комитета. — Он просто рупор. Динамик! Его задача была усиливать змеиное шипение таких, как известный мракобес «радист» Бунхо. Недаром Асланов с ним из одного села. Добавим к этому, что посильный вред действием Асланов тоже наносил. Я имею в виду его неслучайное участие в похищении девушки-работницы! Так что Асланов совершил перед комсомолом двойное преступление, и если уж вы исключили сейчас из комсомола одного, то…
Не верю я в такое обсуждение. Как и Гора, я не стану здесь ничего объяснять.
— Сядьте, товарищ Газзаев, — раздался вдруг голос Хасана. — Я вам не давал слова. И прошу не забывать, здесь идет заседание комитета комсомола, а не вечеринка с плохим тамадой…
Газзаев будто и не слышал этих слов. Он снял очки и начал что-то сдувать со стекол. Только и слышно: «Фу… Фу…»
В эту минуту вошел директор. Хасан встал и обратился к нему:
— Я прошу вас, как члена бюро районного комитета партии, сделать внушение товарищу Газзаеву. Он разгуливает здесь, как по бульвару, ведет себя так, словно комитет комсомола — филиал общества «Знание», которое товарищ Газзаев представляет!
Хасан сегодня совсем ошалел… А может быть, он всегда такой на заседаниях комитета комсомола? Я-то ведь здесь впервые. Одно мне, во всяком случае, ясно: уж если Хасан так разговаривает с Газзаевым, то со мной он будет… Нет, не стану я бояться никакого Хасана. Я буду держаться так, словно на меня смотрит Кейпа. Я хочу, чтобы мне никогда не было стыдно перед ней.
Директор пристально посмотрел на Газзаева, потом повернулся к ребятам и негромко произнес очень официальным голосом:
— Товарищи члены комитета, разрешите мне присутствовать на вашем заседании? Если, конечно, у вас нет секретов от дирекции. Спасибо. Где я могу сесть? Извините, что я зашел посреди заседания…
Газзаев сразу все понял, пробрался к стулу тихо, как мышь, сел. Ловко посадил его директор на место. Ребята украдкой улыбнулись. Директор это заметил и сказал Хасану недовольно:
— Вот что, секретарь. Давай-ка поуважительнее говорить про общество «Знание». Сами понимаете, ребята, если бы мы чаще звали к себе лекторов, то нам меньше приходилось бы проводить такие заседания, как сегодня.
Помолчав, он добавил:
— Это замечание я обязан сделать здесь, как член бюро райкома партии.
Теперь улыбнулся едва заметно Газзаев, вкрадчиво сказал:
— Ничего… Хасан тут несколько погорячился, но это понятно: вопрос о судьбе человека обсуждаем!
А Хасан, уперев оба кулака в стол, отчетливо сказал то, чего я никак не ожидал от него услышать:
— Товарищи члены комитета! Я думаю, мы никому не дадим расправиться с Шамо Аслановым, членом нашей организации. И горячиться нам никак нельзя, когда такой вопрос… — Он обратился ко мне: — Встань. Отвечай, что ты сам обо всем этом думаешь?
— На собрании я обязательно буду голосовать против исключения Алима-Горы…
— Тебя же не об этом спрашивают! — не выдержал Мурат, лекальщик. — Будешь еще воровать девушек, Асланов?
— Никогда! Алим тоже не будет, если с ним как следует поговорят…
— Товарищи, я предлагаю вынести Асланову строгий выговор, — сказал Хасан.
— Постойте… Я прошу слова, — поднял руку Газзаев. — А вода, которую он лил на мельницу религиозных фанатиков?
— Вы сами позавчера говорили с трибуны, товарищ Газзаев, — напомнил Хасан, — что районная партийная организация раскусила хитрую тактику мракобесов.
— Безусловно.
— А Шамо сам не сумел.
— Что не сумел?
— Раскусить. Хитрую. Тактику. Понятно? «Радист» Бунхо, или не знаю, кто там, сумел очень оперативно мозги вправить нашему комсомольцу. А вот мы с вами всегда отстаем от староверов с нашей разъяснительной работой!
— Ты здесь не обобщай… — немного растерялся Газзаев. — Хорошо, а как Асланов вел себя при выселении самозахватчика Юсупа? Демонстративно сорвал поручение дирекции. Общественности! И впредь сорвет, разве неясно?
— Позволь мне слово, Хасан, — вмешался вдруг директор. — Можно, я прямо с места? Как вы знаете, я Юсупа жестоко наказал за самовольный захват квартиры, хоть он и освободил ее. А что касается Шамо… Формально говоря, он не выполнил поручения. По существу же, только из-за Шамо Юсуп и образумился.
— Да его грамотой наградить надо… — сказал Газзаев сквозь зубы, сняв очки и внимательно разглядывая стекла.
Лицо у директора стало на миг замкнутым. Он даже не повернулся к Газзаеву и закончил так:
— Наказываете вы здесь Асланова совершенно правильно. А то он завтра и для себя поедет невесту красть. Или развесит уши перед «радистами»… Шамо, пойми, не знаю, где как, а в наших условиях рабочий — это всегда боец идеологического фронта. Наш завод, как и трикотажную фабрику, называют не просто производством. Университетом! Мы тут проходим курс новой жизни. И должны учить этому курсу других, понимаешь ли ты это?
…Кончилось заседание. Я проходил мимо приемной директора и услышал, как в его кабинете громыхает ведрами уборщица. А из приемной, дверь которой распахнута, вдруг до меня донесся опечаленный и вместе с тем злой голос директора:
— Разве ты никогда не ошибался? Разве я не ошибаюсь?
Я приостановился, не зная, как быть. Пройти мимо двери? Подумают, что подслушивал.
Из приемной донесся голос, похожий на звук нашей сверлилки:
— На одном примере можно научить многих, директор!
— Тебе пример важен? А мне — человек!
— Который всегда подведет?
— Не прощать никому и никогда ошибку — это ведь тоже ошибка, Газзаев… Ты вроде бы умный человек, а этого не понимаешь? А я — понял. Я бывал жесток, но я понял, что так нельзя…
Уборщица вышла с ведрами, захлопнула дверь приемной. Я поспешил пройти мимо.
Мне стало тепло и трогательно. Не страшно жить на свете, если хоть один человек верит в тебя.
Если бы верила в меня Кейпа!
Тогда я еще не знал, что она верит в меня больше, чем любой другой человек на свете…
Нет, похищать девушек я больше никогда не поеду. Я не соврал на комитете, сказав «никогда». Ничего хорошего у нас не получится, если бить одним пережитком по другому. Тогда этим проклятым пережиткам и конца не будет, в этом наш директор прав, а мой друг Алим неправ.
— Нет, я прав! — заявил мне Алим.
Это он сказал после свадьбы Асхаба. Да, состоялась свадьба! Директор помог этому. На заводе стало известно, что он ездил к родителям невесты и крупно с ними поговорил, убедил их не мешать любви двух молодых людей. Он перед ними за Асхаба «те́шал дяд» — поручился, что это достойный жених, а старикам чего еще надо, если такой сват, как сам директор завода, поручается за человека? И старики согласились побыстрее провести свадьбу, пока сплетни о похищении не расползлись. Состоялась скромная свадьба в доме у родственников Асхаба, там молодые пока и живут. Комнату в общежитии директор постарался бы устроить для такого замечательного фрезеровщика, как Асхаб, если бы тот женился нормально. Но теперь не скоро дождется! И должности мастера фрезерного участка ему пока что не видать. «Мы тебя собирались выдвигать, — сказал ему директор, — но мастер — это воспитатель, а какой же воспитатель из тебя, похитителя девушек?!»
Все равно молодые сияют от счастья.
— Что и требовалось! — сказал мне Алим. — Теперь ты видишь, что я, в конечном счете, прав?
У него мысль всегда как пуля: обратного хода не знает. Если бы я умел разубедить его, когда он ошибается… Но для этого мне самому все-все на свете должно быть ясно. Наступит ли такой день, когда все станет ясным и понятным?
ПОЧЕМУ ЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО СВИДАНИЯ СТАНОВИТСЯ ХУЖЕ?!
Книжный магазин в центре Дэй-Мохка теперь для меня самое дорогое место. В этом магазине состоялся первый мой настоящий разговор с Кейпой.
Пошел я туда, чтобы купить плакатные перья. И увидел там Кейпу. Она медленно ходила вдоль книжных полок, что-то для себя выбирала. Даже в тех книгах копалась, которые высились целыми штабелями на полу между стеллажами.
Гибко скользит между штабелями. То скроется за грудой книг, то опять вижу в полумраке магазина ее лицо.
Я и она. Больше никого пока в магазине нет. Если не считать продавца и целой ватаги ребятишек, которые шумно толпились у витрины с канцелярскими товарами. Продавец только успевает отпихивать их головы, чтобы не раздавили стекло витрины носами, покрикивает:
— Не галдеть. Не галдеть. Говорите по очереди, кому что нужно, а то всех до единого отсюда выставлю.
В магазине пахло пылью и клеем. Изредка хлопала дверь.
Я хотел потихоньку уйти. Но рассердился на собственную трусость.
Я подошел к одной из полок, к той, которая подальше от Кейпы. Сказал девушке, почти не глядя, «здравствуй» и начал рассматривать корешки книг. Имею же я право купить себе любую, которая понравится?
Я открыл первую попавшуюся. Книжка про Александра Блока. «Поэт посвятил Прекрасной Даме 628 стихотворений», — прочел я машинально строчку в предисловии, а сам думал, не слышно ли в наступившей на минуту тишине магазина, как гулко стучит мое сердце.
— Какую книгу ты хочешь там найти? — услышал я негромкий, безразличный голос Кейпы и вначале даже не понял, что вопрос обращен ко мне.
— Что-нибудь про себя, — ответил я как можно веселее, стараясь, чтобы голос у меня не дрожал от волнения.
Это я собирался, понимаете, сострить, намекнуть на стихотворение, которое прочла у нас на заводе Кейпа. Я хотел подвести разговор к тому, что Кейпа назвала меня «застенчивый парень».
Она моментально поняла.
— Мне совсем из хотелось тебя обидеть, Шамо, — сказала Кейпа.
Я уже третий раз пробегал глазами одну и ту же строчку про Блока. Как все-таки по-разному говорят мужчины женщине о своей любви! Марзи в молодости пошел грудью на острые вилы и сказал любимой девушке (теперешней моей бабушке Маржан) всего несколько слов. И покорил девушку этими словами. Хотел бы я быть сейчас, в эту минуту, таким же смелым. Но для этого нужно свалить штабель книг, шагнуть, обнять Кейпу, чувствуя ладонями тугой шелк ее платья, и сказать три слова: «Я тебя люблю».
Шагнуть и сказать. Это так просто. Но это все равно, что идти на смертельный риск. Я не могу. Ноги мои приросли к полу.
Я смогу сделать то, чего никогда не мог никакой Марзи. Достать сочинения этого Блока, выучить все 628 стихов к Прекрасной Даме. И прочесть их наизусть Кейпе.
— Раньше писали нежные стихи, — говорю я Кейпе. — А теперь пишут ругательные.
Она поставила книгу на место, сняла с полки другую и сказала мне, не глядя на нее:
— То, которое я читала у вас на заводе, — нежное. Оно о любви.
Я так удивился, что она засмеялась. И объяснила мне:
— Оно о том, какие парни не могут нравиться девушкам.
Помните, я спрашивал у Тани, какие ребята нравятся девушкам? Наверное, она рассказала об этом Кейпе. Могла рассказать, если они уже хорошо знакомы друг с другом. Девчонки не могут не проговориться. Работа Тани тут налицо.
— Знаешь, Шамо, все эти «модерные» ребята, ухажеры-остряки не могут нравиться… Где рыцари? — развела она руками шутливо и оглянулась, будто рыцари таятся за штабелями книг.
— А где прекрасные дамы? — развел руками и я.
— Говори, не стесняйся. Я почти всегда кажусь такой, как тогда, в скверике. В семье это всех возмущает. И все равно держаться воспитанно стану, может быть, последней из девушек.
«Разве не для кого тебе стараться? — подумал я. — Ведь есть Замир».
Мы теперь бродили вдоль стеллажей вдвоем, доставали с полок то одну книгу, то другую. Но эти книги так и оставались нам незнакомыми и возвращались покорно на место.
Хлопала дверь, входили и выходили покупатели. Продавец ставил по их просьбе то одну пластинку, то другую, на вкус покупателя. Сначала играла скрипка. Потом полилась на горской гармони печальная «Песня о погибшем коне».
Мы уже ни на кого не обращали внимания. Мы обменивались полушутя словами: у нашей молодежи это принято со времен дедов и прадедов — устраивать такой легкий, веселый разговор-перепалку.
Сейчас она посмотрит на часы, повернется и уйдет, вот чего я боялся.
— Есть один, который мне казался настоящим, Шамо. А может, он и настоящий? Не умею я быстро выбрасывать из сердца… Есть и сто, и тысяча рыцарей. Ребята не дураки: они начинают понимать, что рыцарство поднимается в цене. Но мне и тысячи рыцарей мало. Пусть все будут ими. Тогда я и своего одного найду. Единственного.
— Долго же тебе искать, Кейпа…
— Тетя Лоли говорит по-другому. Она говорит, что как раз такие, как я, которым подавай все или ничего, неожиданно находят себе самую неподходящую пару… Обыкновенного парня.
— Тот старик, что был с вами в скверике, ее муж?
— Это же мой отец! А ей он брат. И никакой он не старик, ему еще и пятидесяти нет. Он как-то враз состарился, когда три года назад умерла моя мать. А в начале весны он сразу помолодел. В один день.
— Врачи помогли?
— Нет. Женский смех! Это был действительно необыкновенный смех. Но я никогда не думала, что так может случиться, а тетя Лоли говорит: «Окаменевшая душа твоего отца проснулась».
— Бывает такой смех, который и мертвого поднимет, — заверил я Кейпу, вспомнив о Буке. — Не поверишь, есть у меня одна такая родственница…
— Поверю! — перебила она меня, и я даже опешил, так быстро она сказала свое «поверю». — Отец сейчас на турбазе, хочет провести там свой отпуск. У него уже была путевка в Сочи, а он вдруг поехал на турбазу…
— На какую турбазу?
— На вашу, заводскую, — рассмеялась Кейпа.
Я вдруг вспомнил, как ее отец смотрел весной в скверике на Буку. Неужели смех Буки разбудил окаменевшую душу бородача? Плохо его дело. Марзи может обидеться и быстро показать ему обратную дорожку с турбазы.
Мне было хорошо рядом с Кейпой. Мне было неловко, что продавец может заметить, как бесцельно бродим среди книг мы с ней.
Но лишь бы она не ушла. А не уйдет она до тех пор, пока не оборвется ниточка разговора.
— Я не знаю, что за штука рыцарство, — держался я за ниточку разговора, и я не притворялся, потому что при слове «рыцарство» мне в голову не шло ничего, кроме имен — Айвенго, Дон-Кихот.
— Да забудь ты это слово, Шамо, — доносился голос девушки, шуршало ее платье, легко бегали по корешкам книг длинные пальцы. — Мужество! Вот и все. Уменье делать так, чтобы радостно и уверенно смотрели на жизнь старики, дети, женщины или друзья, которые послабее тебя. Мужество в скверике, когда ставишь на место хама, мужество в любви и ненависти, в поведении и в деле, за которое взялся.
— Рыцарь у станка?
— У станка или в космосе, неважно. Надоело видеть ребят, которых устраивает всегда быть посередочке, которые ни к чему не рвутся. Я знаю, тебе идти в армию, поэтому ты не берешься ни за что по-настоящему, живешь в ожидании. А в армии что будет? Ожидание, пока отслужишь?
Она потянулась к верхней полке; широкий рукав платья соскользнул, обнажив матовую кожу ее округлой руки. Она запнулась, поправила платье.
— Да ты меня не слушаешь? — недоуменно сказала она, замолчала, покусывая губу; сверкнул влажный белый ряд ее зубов, я увидел близко-близко золотящиеся в сумраке ее глаза с чуть дрогнувшими ресницами. — Сказать, почему мне хорошо с тобой? Мне не надо притворяться. Я с тобой — какая есть. Я счастлива, когда чувствую себя сама собой. Вот.
Она заторопилась было уйти, а сама начала опять бродить вдоль полок, и мы опять о чем-то говорили или же молчали, рассеянно перебирая книги, и я слышал ее дыхание, видел близко ее волосы. Я понимал все ее слова, я был согласен со всем, что она мне сегодня сказала, а знал я все же одно, и только одно: если бы вдруг кто-нибудь сумел лишить меня моей любви к этой девушке, то не нужно мне ничего в жизни — ни любви и жалости к старикам, детям, ни стихов, ни облаков над Казбеком, ни работы у станка, ни мужества, ни самой жизни.
Магазин опустел. Солнце за стеклянной стеной было уже низко, и теперь стало видно, какие запыленные эти стекла. Продавец громко кашлянул, застучал костяшками счетов. Кейпа тронула мою руку прохладными пальцами и показала головой в сторону двери. Лицо ее было смущенным. Ей, наверное, очень неловко перед продавцом. Но я — рыцарь, я должен уметь делать так, чтобы ей радостно и легко было смотреть на мир.
Я похватал с полок первые попавшиеся книги, штук пятнадцать.
— Эш-ша! — удивленно и обрадованно воскликнул продавец, подбивая на счетах стоимость. — Да вы, я вижу, настоящие покупатели. Оптовые! А то вчера двое вроде вас выбирали-выбирали книги часа два и купили только одну брошюру. Об опыте осенней стрижки овец. За двадцать копеек брошюра…
Случается, что и у меня в кармане всего двадцать копеек. Но сегодня я настоящий рыцарь!.. Мы с Кейпой рассмеялись и выскочили на улицу.
Самое удивительное началось потом: после такого разговора, после такого душевного и открытого разговора мы с Кейпой не только не сблизились, а стали как бы еще более чужими, чем раньше!
Она встречалась мне часто в нашем поселке, когда фабричные приходят гурьбой во время обеденного перерыва к нам на базарчик. Видел я ее чуть не каждый день и возле фабричной проходной, потому что уже привык торчать с ребятами на наблюдательном пункте.
А держались мы с ней словно совсем чужие. Мы стали стесняться друг друга, понимаете? Разве так бывает, если любовь?!
Я пришел от этого в отчаяние.
Скрыть мне ничего не удавалось. Алим-Гора со мной всегда очень деликатный, он старался делать вид, что ничего не знает, но старался меня развлечь: то приходил в нашу комнату с десятью бутылками чешского пива, то зазывал на рыбалку.
Мути особенно не церемонился.
— От любви можно стать безумным, — объявил он мне, озабоченно почесывая ухо. — Знаешь ли ты об этом?
— Нет, Мути. Я вообще ни разу не сходил с ума и не знаю, как это бывает…
Мути напомнил:
— А знаешь, из-за чего сошел с ума Чаги́рьг, дурачок Дэй-Мохка? Говорят, из-за несчастной любви… Учти это.
— Учту.
— Хочешь, я поговорю с ней? — вдруг хлопнул Мути меня по плечу.
— Отстань от человека, — мрачно вмешался Гора.
Валилась у меня из рук работа. Это заметил даже сам начальник цеха. «Асланов, тебе предстоит идти в армию, — напомнил он. — Хочешь явиться в военкомат с плохой характеристикой? Я тебе это могу устроить».
Хуже всего, что никому нельзя открыться. Почему нельзя, я и сам не знаю. Любовь требует молчания — вот это я себе затвердил. В книжном магазине мы с Кейпой нарушили молчание, хоть и не говорили о нашей любви. И что-то поломалось! Любой разговор вспугивает птицу любви…
Чтобы ко мне не приставали, я уезжал после смены к дедушке в аул. Но и там не легче. Бабушка Маржан заплакала и взялась меня закармливать, потому что от меня, оказывается, «ах висса́в» — «половина осталась», так я похудел.
Я махнул из аула на турбазу и очень об этом пожалел.
— Ты что, влюбился? — сразу спросила меня Бука, спросила почему-то шепотом. — Красивый какой-то стал…
— Ты живой или мертвый? — начал присматриваться ко мне дедушка. — Отвечай же!
От мертвого разве ждут ответа?
— Живой… — ответил я хмуро и хотел уйти в лес, к водопаду.
— Постой. Я же тебя, кажется, еще не отпустил? Запомни, сын свиньи: если ты не перестанешь вертеться возле фабрики, если ты задумал опозорить фамилию Аслановых…
Оказалось, что он ничего не знает! Он думает, что я хочу переметнуться с завода на фабрику, где шьют из шелкового полотна женское белье и рейтузы. Славный тейп Аслановых не потерпит такого мужчину…
Хуже всего на турбазе было знаете что? Я увидел там издали отца Кейпы. Он резво выбежал из своего коттеджа и замер на веранде, склонив набок голову и задрав бороду. Прислушивается, как птица. Это он прислушивается к звонкому женскому смеху, который доносится из дощатой душевой. Туда только что прошла Бука с мохнатым полотенцем на плече. Даже под тканью медицинского халата заметно, какой розовый загар у Буки на плечах от горного солнца.
— Тьфу! — сплюнул Марзи с отвращением и покосился в сторону бородача. — Так и хочется прогуляться палкой по спине этой старой скотины! Все время торчит на веранде, не упускает случая поглазеть на нашу дуру. А может быть, мне ее поколотить, что ли?
Хороший у бородача наблюдательный пункт. Персональный. Я рад, если у этого человека тоже в сердце любовь. Я рад за всех, кто любит.
Но я не могу их видеть. Я не могу слышать о любви. И читать я о ней не могу. А какую книгу ни откроешь, там обязательно про любовь, так что я даже чтением из могу спасаться. Раньше я не замечал, что в каждой книге непременно есть любовь.
В общежитии я развязал связку книг, которые купил тогда с Кейпой. Ни одна из них ей не понравилась, и я принес все книги к себе. Мне сейчас только такие книги и подходят, в них не может быть про любовь.
Да, в книге об использовании ядохимикатов в сельском хозяйстве об этом ни слова. Это и понятно. «Бронхиальная астма и ее лечение»… Тут тоже ничего нет. Книгу про заводские клубы я побоялся открывать, потому что в ней обязательно будет рассказ о лекции «Любовь, брак и семья».
— Крепко ты взялся за учебу… — бросил взгляд Башир на обложки моих книг. — «Крепежные работы в шахтах»… Для чего ты эту купил? Эх, и каша у тебя в голове, я давно заметил…
Я открыл книгу «Флора и фауна Северного Кавказа», стал читать про туров — диких высокогорных баранов. У них бывает дуэль, вот этого я не знал. Тур становится у края пропасти, а противник имеет право разбежаться и сбить врага в бездну. Если не удалось, они благородно меняются местами. «Самка не вмешивается, она терпеливо ждет исхода этого честного поединка самцов-ревнивцев». Даже здесь — про любовь…
Я запихнул книгу подальше в тумбочку, выбежал из общежития, вскочил на ходу в автобус, доехал до того дома, где живет Кейпа, засел в хозмаге напротив и стал поглядывать в окно. Если в калитке появится Кейпа, я с ней во что бы то ни стало заговорю.
Мой план и мое боевое настроение поломал дурачок Чагирьг. Нарядно одетый, чистый, он подошел ко мне, замычал, заулыбался ласково, наклонил передо мной бритую острую голову со следами бывших болячек (за это его и прозвали «Чагирьг» — «Болячка»). Я перешел к другому окну, он вприпрыжку подбежал ко мне.
— Не отвяжется, пока подарка ему не сделаешь, — сочувственно крикнул мне кто-то из покупателей. — Он теперь стал удостоверения собирать. Дай ему любые ненужные цветные корочки удостоверения или блокнотик…
Я повел Чагирьга в книжный магазин, купил ему десять самых дешевых разноцветных блокнотиков по гривеннику штука.
— Эш-ша! Оптовый покупатель? — узнал меня продавец.
Чагирьг мычал на радостях, прыгал перед книжными стеллажами, перед которыми так долго бродил я с Кейпой — бродил, может быть, тоже уже сумасшедший от своей несчастной любви.
ЧАСТЬ IV
МОЙ ВКЛАД В НАУКУ ПОКА НЕИЗВЕСТЕН
Не знаю, кто как, а я люблю работать только в дневную смену. Мастер это знает.
— Шамо, приходится на время перевести тебя в вечернюю смену, — объявил он мне.
— Хоть в ночную, — ответил я.
Мне было все равно. То есть я подумал, что мне станет даже лучше. У меня будет меньше времени думать о Кейпе. Весь вечер — у станка, спать — до полудня, а там не успеешь оглянуться, и снова в цех.
…Стало не лучше, а хуже. Просыпался я все равно чуть свет и не знал, как убить день. Попробовал коротать время до смены где-нибудь на заводе, но от этого только устаешь. Да и Мути поддразнил меня так, что мне стало противно слоняться по заводу из угла в угол. Он сказал в термичке при всех ребятах:
— Я вчера прочитал в одной книге: если мужчине не сидится на месте — ищите женщину.
На другой день, утром, я подежурил на улице, пока не проехал к фабрике автобус с Кейпой. И стоял перед общежитием, удивляясь, каким пустынным становится поселок после начала дневной смены. Словно вымер.
Заметил краем глаза, как задрожала вся листва ближнего раскидистого дерева, будто ударили по ней капли крупного дождя и дерево отряхнулось от влаги. Нет, это взлетела с дерева дружная стая воробьев.
На фонарный столб взгромоздилась ворона. Сгорбилась, поглядела кругом. И нехотя скользнула плавно по воздуху вниз, словно по крутой горке на лыжах съехала.
Чей-то петух тоже скучал, как и я, степенно поглядывал кругом. Увидел, что в сторонке лежит курица, греется на солнце. Наполовину закопалась в пыль, одно крыло выпростала, раскинула по земле веером. Может быть, петух посчитал это непорядком, он двинулся боком к курице. Она его заметила, подтянула крыло, неохотно вылезла из ямки, отряхнулась и стала ждать приказаний. Но петух остановился на полпути и больше не обращал внимания на курицу, задумчиво глядел в сторону.
Больше ничего особенно интересного я не видел, а до смены целый день.
— Шамо, чего скучаешь? Поедешь со мной в Грозный? К началу твоей смены вернемся.
Это знакомый заводской экспедитор выскочил из столовой с планшеткой под мышкой, что-то доедая на ходу.
Мы домчались до города очень лихо, за час с лишним. Там, на складе техснаба, я помог экспедитору и шоферу погрузить в кузов полосовое железо. Мы договорились, где и когда я их должен ждать, чтобы ехать домой. И я пошел к Хаматхану. Ни его, ни Цирцениса не было дома.
Я заглянул в свое родное профтехучилище, побыл немного там, а потом отправился в гастроном. Духота на улицах! Лето еще не набрало полную силу, а в Грозном уже жарко.
В мясном отделе девушка строго сказала мне, что Хахаев принимает пельмени в пачках. Я пошел через улицу во двор гастронома и увидел, что мой друг сидит в белом переднике на ящике вместе с таким же толстым, очень широкоплечим парнем. Это был мой спаситель Шалва, турист и физрук Шалва Гогоберидзе, веселый парень лет двадцати трех, с глазами навыкате. Он учил Хахаева пить коктейль из пива и сметаны.
Хахаев попробовал и уныло поморщился, сплюнул.
— Пей! — приказал Шалва. — Ты толстый, в такую жару ты не можешь есть первое-второе, а как ты иначе поддержишь свой исключительный упадок сил? Клянусь, мне это интересно, мне это очень интересно! Только вот таким коктейлем и поддержишь, пей. Это тебе одновременно и легкая еда и прохладительный напиток… Шамо, пей и ты. Клянусь, ты будешь думать, что пьешь натуральный кумыс!
Я выпил, мне понравилось.
Потом в самом деле подъехал «пикап» с пельменями в пачках. Я и Шалва помогли Хахаеву сгрузить их, перенести в холодильник.
Хахаев начал отпускать покупателям мясо и пельмени, то и дело покрикивая:
— След-дщий! След-дщий!
А мы с Шалвой ушли. Я проводил его до школы. Там он показал мне, как перестраивают спортивный зал, какая у них теперь будет во дворе гаревая дорожка-стометровка. Для натяжки тросов волейбольных сеток Шалве нужны были новые винтовые крепления. Я тут же снял чертеж и пообещал Шалве изготовить у нас на заводе эти крепления.
Хорошо я провел время, но отъезд еще не скоро. И я решил пойти к Цирценису в институт.
Понимаете, я пошел туда просто из любопытства, на полчасика. А получилось так, что я стал бывать в институте каждый раз, как поеду с экспедитором в Грозный. Можно сказать, я включился в научную работу.
Сектор Ярцевой и Цирцениса расположен не в здании института, а в маленьком флигеле. В коридоре я увидел на длинном транспаранте слова: «Мы, советские люди, должны блистать изысканной воспитанностью и джентльменством. Нашей воспитанности должен завидовать весь мир». Подпись стояла: «А. Макаренко». Это тот самый, который умел делать даже из бывших воров и хулиганов хороших работяг и джентльменов. Он — великий педагог.
Я заглянул в кабинет. Там толпились люди. Я застеснялся и хотел уйти, но меня увидела Ярцева, сразу узнала, даже обрадовалась мне.
— Заходите, заходите, Шамо! Помогите-ка девушкам оформить один стенд. Вы не владеете плакатным пером?
Она, эта Ярцева, настоящий командир. Она каждому умеет найти дело.
Еще я заметил, понаблюдав за ней не один день, что решает она все очень быстро. Я бы даже сказал так: она сначала делает, а потом планирует. Наверное, мне так показалось потому, что сам я соображаю довольно медленно.
Помощь моя студенткам из нефтяного института — активисткам сектора — была пустяковая. Я написал плакатик для стенда, несколько строчек Сергея Есенина, они мне понравились:
Цирценис тоже меня каждый раз хорошо встречал, прямо как родственника. Он, по сравнению с Ярцевой, немножко замедленный, но друг друга они в конце концов все равно хорошо понимают.
— Не забудьте побывать в университете на молодежном диспуте «Нужен ли нам этикет?», — говорит Ярцева ему, на минуту оторвавшись от телефонного разговора.
— Как, там уже и диспут? — радуется Цирценис. — Раскачались университетские! Молодцы!
— Когда раскачались?! — хмурится Ярцева. — Организовать надо диспут, Цирценис, организовать. Договоритесь сегодня же, согласуйте с ними день и час… Алло, это химкомбинат? Не слышу вас! Пожалуйста, потише, товарищи, мешаете…
Тут, в этом флигеле, бывает столько самых разных людей, что я не удивился, когда однажды услышал голос Шалвы. Он пришел, прочитав в газете статью Ярцевой.
— Видели, товарищ Ярцева? — кивнул он головой в мою сторону. — Этот ингуш уже здесь! Он опередил меня со своими чечено-ингушскими обычаями. Пусть! Мне не жалко. Тем более, что он мой друг. Но мне интересно, мне очень интересно — неужели прекрасные обычаи моего грузинского народа не нашли достойного отражения в материалах вашего института? Я принес вам описание наших лучших обычаев, я затребовал его от своих стариков из Кутаиси. Этнографические книжки книжками, а здесь живой голос народа!
— Не тесно ли нам будет в вашем школьном зале? — задумывается Ярцева.
— Какой зал? Для чего зал? Мне это интересно, очень интересно!
— Настало время провести конференцию, рабочую конференцию по проблемам этики поведения. Научным работникам есть о чем посоветоваться с педагогами, врачами, писателями, клубными работниками. С комсомолом, с производственниками. Дело ведь сложное, сравнительно новое… Вот я и подумала о вашем зале, Шалва.
— Не надо зал. Откажемся от него, товарищ Ярцева. Я вам организую конференцию на воздухе, в горах. На любой турбазе. Скажи, Шамо, разве плохая турбаза у вашего завода? Массового заезда там еще нет, ждем, пока растает снег в горах.
— Говорят, у вас есть школьная типография, — сказала Ярцева. — Только бумагу хорошую надо найти, Шалва.
— Какая бумага?! А-а! Извините, я психологически не готов понимать все с конца. Клянусь честью, не готов. Вы хотите отпечатать в нашей учебной типографии все свои материалы про обычаи народов и прочее? Мне интересно, очень интересно. Бесплатно печатать? Хорошо. Остается уточнить, на какой день назначаем выступление.
— Какое выступление? — удивляется теперь Ярцева.
— Ваше. Ваш доклад в нашем пионерском лагере. И маленькое практическое занятие с детишками — урок по эстетике поведения!
Цирценис побежал домой за какими-то папками, а вернулся с Марзи и Букой. Это меня удивило и расстроило. Старик решил последить, зачем я повадился ездить в Грозный, это же ясно.
Он начал подозрительно оглядываться, но Ярцева приняла его так, что сразу понравилась дедушке.
— Таким гостям мы особенно рады! — встала она перед ним, усадила его на почетное место. — Все хорошее из обычаев народа мы хотим собрать, а кто лучше стариков это знает?
Ей подали телеграмму из какого-то аула. Ярцева сначала читала молча, а потом вслух, погромче, чтобы слышал Марзи:
— «Объясните разницу между обычной свадьбой и комсомольской — там едят мясо и там»… Человек хочет жениться, торопится! Верно я догадываюсь, Марзи Аббасович? Надо помочь. Ответим ему телеграммой, Цирценис: «Мясо обязательно запятая следите программой телевидения запятая ближайшее время будет репортаж настоящей комсомольской свадьбы».
— Молодец, товарич Ярцева! — одобрил Марзи, хлопнув ладонью о ладонь. — Помогаешь человекам без бюрократства!
Ярцева сказала Цирценису:
— Договоритесь со студией о репортаже.
— Простите, э-э… — замялся он. — А свадьба чья будет? Кого именно женим?
Ярцева оглядела комнату, словно жених сидит здесь же, наготове. Цирценис заерзал. Мне тоже стало не по себе.
— Марзи Аббасович, давайте действовать вместе, — взяла Ярцева дедушку за руку.
Дедушка наклонил голову, зажмурил глаза, задумался, а потом решительно и веско сказал:
— Ей-бох, моя тебе поможет, товарич Ярцева! Если надо, собственни семья женим!
— Постой, дедушка! Я тебя прошу… — вмешался было я, а Бука вдруг громко расхохоталась.
— Тебе еще рано жениться, — отмахнулся от меня Марзи. — Сначала армия пойдешь! Моя семья не один ты: все Аслановы. Один хороший обормот для свадьбы всегда найдем…
Бука достала у него из кармана записную книжку. Там у Марзи записаны все новорожденные аслановской фамилии, девушки на выданье, женихи.
— «Передовой кукурузовод, орденоносец, своя «Волга», — читает Бука вполголоса и вдруг взрывается хохотом, закидывает голову назад. — Возраст пятьдесят пять лет…»
Марзи сердито вырвал записную книжку, полистал ее и подал Цирценису, ткнув в строчку сухим пальцам.
— Пиши, Цирценис. Хороший жених. Заводской. Невеста тоже передовик, доярка. Оба комсомол. Жених давно плачет: «Давай свадьба, Марзи». Мне не говорит — стыдно. Через других сигнал дает.
Бука опять зашевелилась.
— Что теперь? — спросил у нее Марзи. — Молчи.
— Свадьба… без жениха… по телевизору! — закатилась в смехе Бука.
— Есть такой обычай, — объяснил я Ярцевой, — у нас жениху не положено показываться на собственной свадьбе…
— Правильно мальчик говорит, умный стал, — похвалил меня Марзи и вдруг с сомнением начал качать головой. — Жениха на свадьбу пустить, конечно, можем, но еще один другой тормоз разный есть… Нет, не получится наше дело, товарич Ярцева!
— Марзи Аббасович, создание семьи… Ячейка общества!
— «Ячейка, ячейка»… — пробормотал Марзи, думая о чем-то своем. — Партячейка не женит. Мы женит!
— А, он вот чего боится! — догадалась Бука. — На свадьбе начнут кричать «горько»…
— Зачем? — удивилась Ярцева. — Зачем, если в ваших обычаях этого нет?
— Тогда пойдот! — решает Марзи. — Нельзя кричать «горький». А то жених радуется, кинется целовать невесту. Тьфу!
На прощанье он уважительно говорит:
— Ты умный женщин, Ярцева, наш обычай уважаешь. Некоторые нам шумит: «Все старик — фанатик, отсталый змея». Но добрый слово даже змея из норки заманит. А разный молодой дурак вроде Шамо кричит старикам: «Это твой плохой, а это — совсем нехороший!» Голова нам закружили. А все старик не может быть головотяпский… нет, оголтелский фанатик!
— Расскажите, что же не нравится старикам? — просит Ярцева, опять усаживая дедушку.
Марзи рассказывает ей про «мине-юбк» — так он называет мини-юбки — и про «косыночную войну». Старикам противно, если у женщины голова не покрыта. Нет косынки — нет стыда. А Газзаев и другие лекторы видели в косынке большой пережиток. Почти такой же, как паранджа в Средней Азии.
Эта «косыночная война» шла долго. Тогда девушки придумали выход: продолжали носить косынки, но такие маленькие, на самой макушке волос, что и заметить трудно. Ни Газзаев не придерется, ни старики.
— А при чей же мини-юбки? — интересуется Ярцева.
— Сейчас увидишь.
Марзи рассказывает, что когда Бука тоже надела вместо косынки лоскуток, он промолчал. Пускай будет «мине-косынк». Но на всякий случай он оглядел невестку сверху донизу и увидел, что платье у нее обрезано чуть ли не выше колен!
— Понимаешь, Ярцева, — говорит он огорченно, — пока старики воевал с лектором Газзаевым насчет косынк, всякий молодой бесстыдница устроил себе потихоньку мине-юбк. Это совсем позор!
— Значит, надо рассматривать проблему в целом, сверху донизу? — смеется Ярцева вместе с Букой.
— Конечно, тебе можно носить мине-юбк, если твой закон не запрещает! — спохватывается Марзи и осторожно заглядывает к Ярцевой под стол. — Моя понимает: один закон не может пока быть для всех!
«Один закон не может быть пока для всех»… Я слышал, как Ярцева потом задумчиво повторяла эти слова Марзи. Значит, им, ученым людям, самим еще не все понятно? А мне тем более. Спросить у Ярцевой и Цирцениса я стесняюсь — вдруг они не смогут ответить и им станет неудобно? Но одно я теперь знаю хорошо: люди давно придумали много хорошего. В пристройке к флигелю сектора полно книг про этикет, начиная даже с семнадцатого века. Я сам читал инструкцию… или как ее назвать, выпущенную еще при Петре Первом: «Шляпу снимай за три шага приятным образом, сидя с людьми, перстами нос не чисть, чуб рукой беспрестанно не утирай. Кия вещи в беседовании мерзки бывают? Нос смарщивати, чело навесити, брови подвышати, уста разевати, власами трясти, без вины кашляти, покрякивати, главу почесывати, в ушесах угабляти, нос вытирати, тыл у главы поглаживати, с ноги на ногу шататися, речь кому пересецати первее, неже совершит ю. Во всем имей житейское обхождение, дабы не быть спесивым болваном». Такая инструкция кое-кому на нашем заводе пригодится. Я ее подсуну нашему Мути! А то он любит в «ушесах угабляти» — ковыряет там спичкой, смотреть тошно…
Конечно, новые инструкции нужны тоже. Цирценис показал мне письмо от девушек-работниц из чеченского городка:
«Почему открывали наш новый завод и не резали красную ленточку? Как в кино, с оркестром. И показать это по телевизору. Столовой пока нет, это не обидно, а ленточку не резали — обидно. Любая из нас отдала бы ленточку с головы».
Поговорить бы обо всем этом с Кейпой…
Хаматхан, Доктор наук, по-моему, совсем не верит в наш сектор.
Я пошел к нему один раз прямо из института. Поспать, чтобы приехать на завод к началу смены отдохнувшим.
Только я заснул, появился Хаматхан и согнал меня с кровати.
— Еще тебе я не уступал свое место, — проворчал он. — А это что за ваза? Купил? Да ведь она полсотни стоит, не меньше!
— Я надумал хрусталь собирать, — говорю я в отместку за то, что меня согнали на пол, хотя ваза и не моя, а куплена мною для Мути. — У нас на заводе у каждого какая-нибудь блажь. А теперь все на хрусталь бросились. Мода.
— Живет же его величество рабочий класс! А у аспиранта вся посуда пластмассовая… Заелись вы там!
Засыпая, я спрашиваю, что он думает о затее с этикетом.
— Дохлое дело! — зевает он. — Не тот век, Шамо. Все стонут от взаимного хамства, но разве есть у людей время заниматься церемониями? Не до них! У нас деловая эпоха. Да и кто сумеет толково разработать такие проблемы? Цирцениса ты знаешь, он помешан на роботах. И вообще — мечтатель. Вроде тебя. О Газзаеве я не говорю, этот с заскоками. Ярцеву я не знаю. Говорят, это атомный реактор. Но что она собирается совершить в Грозном, если даже союзные ученые не берутся разгрызть такой орешек? Остаешься ты. Ну, о твоих заслугах в науке я пока не берусь судить… Словом, солидная компания у вас подобралась!
— Хорошо, что тебя с нами нет, — говорю я Хаматхану.
Ведь не поверит он, если я скажу ему, Доктору наук, что Ярцева доверила мне организовать предстоящую свадьбу. Мне и дедушке.
Марзи — от народа. А я — от науки.
КОНЬ ХУНЗАХ ИЗ ДАГЕСТАНА
Я совсем забыл, что мне предстоит поездка в Дагестан за конями. Ночью, перед самым концом смены, меня вызвали из цеха к проходной, возле которой стоял совхозный грузовик.
— Это ты и есть Шамо Асланов? — спросил кривоногий бригадир с каким-то мрачно-насмешливым взглядом узеньких глаз, кутаясь от резкой ночной прохлады в телогрейку. — Собирайся, если ты Асланов.
Собраться мне было недолго, но мне не нравится, когда со мной не здороваются. В совхозе любят поговорить, что мы, заводские, давно потеряли всякий ингушский «эздел» — приличие, уважительность. А сами?
Бригадир сел в кабину рядом с шофером, а мы с пацаном-ездовым мерзли в кузове. Я силой заставил его натянуть мой плащ, лечь на потники от седел.
Я и дремал и не дремал, потому что было холодно. Высоко надо мной плыли, качались мигающие звезды. Там, в небе, пролегают дороги космонавтов. Может быть, они, эти дороги, понятнее и проще некоторых дорог на земле: ведь каждую космическую трассу сначала тысячу раз высчитают с точностью до секунды и метра. А где и когда пролягут мои дороги? Их ведь будет много. Спит себе в Дэй-Мохке Кейпа, и нет ей дела, что я уже далеко от нее и уезжаю все дальше.
По казахстанским степям пролегла дорога моего отца. Приведет ли эта дорога его назад? Или всю жизнь над ним будут не эти звезды, а другие?
Завтра в Москву улетит, по слухам, наш директор. Говорят, на днях на заводе был сам начальник главка из Москвы, он ходил по цехам во время дневной смены. Директором ли прилетит назад наш директор или его обратный путь окажется горьким? Я хочу, чтобы все человеческие дороги были хорошими. Дорога всегда должна приносить человеку надежду и радость, так мне кажется. Меня любая моя дорога будет непременно возвращать под ту звезду, которая видна и Кейпе, я в это верю.
Мне горько и трудно думать об этой девушке, а Замиру приходится только соображать, как сказать ей что-нибудь приятное. Это легко. Но я не хотел бы этой легкости. И ей, Кейпе, она не нужна, я понял это из нашего с ней разговора в книжном магазине.
Он ее, конечно, любит. Она его тоже любит. Или любила. Она до сих пор верит, что он хочет быть настоящим человеком. «Но не сумеет стать таким даже самый умный, если он думает лишь о себе и не задумывается всегда над тем, почему кому-то другому плохо или почему другой плох» — так сказала Кейпа. Он просто не найдет, как сделать себя лучше. При всем старании! О ком еще могла говорить Кейпа с такой жалостью и надеждой, если не о Замире?
У меня нет к нему злобы. А у него ко мне, наверное, есть. Это на днях заметили ребята. Я пришел в одну компанию, а Замир тотчас удалился, придумав вежливый предлог.
Плывут над головой звезды. Мне снится моя дорога к Кейпе. То бесконечная, то очень короткая. А машина уносит меня все дальше от Дэй-Мохка, но я готов был бы ехать сейчас и на край света, если бы я знал, что по возвращении услышу: «Здравствуй! Я тебя ждала».
Приехали мы на место перед рассветом. Толково сделал бригадир, что выехали мы туда с ночи, а то бы и начальства не застали, и табун не успели бы найти на пастбище в горах.
Этот совхоз целиком перешел на виноград и не жалел передавать свои табуны другим хозяйствам. К вечеру мы собрали свой табун по горным отщелкам[8], проверили у всех лошадей подковы. Бригадир оформил в конторе приемо-сдаточный акт.
Только мы погнали табун, как нас вернул директор, старенький и скрюченный аварец.
— Не хотел я расставаться с таким конем, как наш жеребец Хунза́х, — сказал он. — Но что ему здесь без своих «дам» делать? Заберите и его. В подарок от братского Дагестана…
У меня глаза загорелись, когда я увидел гнедого коня в деннике. Когда-то это, наверное, был очень хороший жеребец. Но и сейчас он огонь не потерял, копытом еще бьет, глазом водит свирепо, кожа трепещет. А главное, голову хорошо ставит.
— Не дастся он нам, замучает в дороге, — хотел отказаться бригадир. — Да и зачем нам два жеребца в табуне…
— Давай я попробую его оседлать? — попросил я бригадира.
… Хунзах стряхнул меня как божью коровку.
— Ведите табун, а я догоню, — сказал я бригадиру.
Мне казалось, что Хунзах увидит, как уходят кобылицы, и согласится идти за ними. Но он, наверное, не понимал, что кобылицы уходят навсегда. В седло он меня пустил, но никак не хотел покидать загона, потаскал меня вдоль изгороди. Потом гневно заржал, взвился на дыбы и опять стряхнул меня на землю.
Конюхи засмеялись над джигитом из Чечено-Ингушетии, но на меня подействовал не этот смех, а слова директора:
— Ладно, мальчик, оставь его. Коня мне жалко, да и о тебе я ведь обязан подумать…
— Можно, я на нем утром уеду? — попросил я.
Директор пожал плечами, приказал поставить мне койку в красном уголке конторы и выписать двадцать яиц, хлеб, масло.
В контору спать я не пошел, а ночевал на конюшне, рядом с Хунзахом. К разным моим разговорам он быстро привык. А когда я замесил для него отруби с яйцами, выписанными мне для еды, Хунзах вообще решил признать наше знакомство. Он без всякого фасона ел болтушку из моих рук, дал погладить себя.
Удивительно, что после такой бессонной ночи мне совсем не хотелось спать. Это потому, что мне приятно возиться с конем. Все-таки крестьянин сидит во мне пока крепче, чем заводской рабочий. Конечно, на заводе многое лучше: имеем дело не со стихией. Металл и станок подчиняются нашей голове и нашим рукам. А в сельском хозяйстве какой-нибудь Хунзах может взбунтоваться и испортить тебе дело. Даже тракторист не может считать себя полным хозяином: то и дело поглядывай на небо, жди, что прикажет природа, как она позволит действовать твоему трактору.
Многие у нас на заводе за эту разницу и ценят свое рабочее звание. Условия труда тоже, конечно, берутся в расчет. Не надо мокнуть в поле, пыль от борозды и соломы не забивает тебе рот, уши, глаза.
Но крестьянская работа мне все равно нравилась и нравится. Ведь конь — живой! Он все понимает.
Правда, утром Хунзах стал соображать плохо, забыл наши хорошие ночные разговоры. Двум конюхам пришлось держать его на растяжках, пока я сел в седло. Падать еще раз на глазах у Дагестана я никак не мог, и Хунзах постарался это понять. Он вынес меня из загона и помчал в мои родные края.
Ветер с дагестанских берегов Каспия дул мне в спину, прохлада сверкающих вдалеке снежных гор веяла в лицо, ласково грело солнце. Люди из встречных и попутных машин смотрели на нас, любовались легким бегом коня. Там, где низенькие придорожные горы расступались, мы с Хунзахом сворачивали с асфальта и давали себе волю, мчались по мягкой траве.
Я обязательно так рассчитаю, чтобы проехать мимо трикотажной фабрики к завершению смены. Пусть Кейпа посмотрит, что такое человек на коне. Это совсем другой человек, посмеяться над ним невозможно, в какой бы кепке он ни ехал.
…Табун я догнал не скоро. Он пасся в стороне от шоссе, на берегу чеченской знаменитой реки Валерик, воспетой Лермонтовым.
Не успел я спешиться, кривоногий бригадир начал мне шептать тайком от пацана-ездового:
— Сюда подходил один из этого аула, спрашивал, не продадим ли какого-нибудь коня. А твой жеребец у нас в акте не записан… Соображаешь?
Я ему ничего не ответил, а он все же очень испугался.
— Что ты, что ты, парень… — отскочил бригадир и пошатнулся, потому что был пьян. — Я пошутил, хотел проверить тебя. Пойду стреножу того жеребца, а то он сильно косится на твоего.
Я понадеялся и прозевал момент. А может, бригадир нарочно отпустил того молодого вороного жеребца, чтобы отомстить мне за свой страх.
Такой драки я никогда раньше не видел! Это была даже не драка, потому что Хунзах сразу перестал сопротивляться. Вороной разорвал ему зубами плечо, распорол копытами кожу на боку. Визжал как бешеная свинья.
Бригадир смеялся пьяным смехом и кричал мне:
— Отойди же, а то и тебе достанется!
Мне удалось хлестнуть вороного по морде плеткой, но он забежал с другой стороны Хунзаха и опять пустил зубы и копыта в ход. Только камнями мне удалось отогнать вороного, иначе Хунзаху пришлось бы совсем плохо. Плечо и бок у него были в крови.
Я поспешил увести Хунзаха в глубокий лог. Он весь дрожал и сделался послушным, как ребенок.
— Вот и возись с ним, а мы спешим дальше! — насмешливо крикнул мне вдогонку бригадир.
Я обмыл раны коня водой Валерика, дал Хунзаху размоченный хлеб, густо посыпав его солью. Возле аула я привязал Хунзаха к дереву.
У меня было шесть рублей. Я купил в магазине четвертинку водки, а в аптеке взял за три рубля двадцать копеек четыре тюбика дермозолона и на полтинник — пластыря. Не знаю, как коням, а нам, станочникам, дермозолон помогает здорово. Любая ранка ели ссадина на руке заживает моментально.
Водкой я промыл раны коня, смазал их дермозолоном, залепил кое-где пластырем. Осталось два кусочка пластыря и мне. Вчера, слетев в совхозе с коня, я рассек себе лоб, а сегодня мне поранила лицо щепка, отлетевшая от луки́ седла во время драки жеребцов.
В таком виде только мимо фабрики и ехать. Рубашка на локте разорвана, одна нога босая: я не заметил, как уплыла по реке туфля, когда я обмывал у берега раны Хунзаха.
Был уже предзакатный час, смена на фабрике давно кончилась, но я все равно поехал в объезд, через поля и луга, чтобы никто из фабричных меня не увидел. Вдалеке из густого моря молодой пшеницы выскользнула «Волга». Высунулся Замир и крикнул кому-то:
— Садись, до самого дома подвезу!..
Приподнявшись на крупе коня, я увидел за пшеницей, на лугу, Кейпу. Она даже не оглянулась на Замира. Вскинув голову, она заметила меня, застыла на месте. Я хотел поскорее свернуть в сторону, но Кейпа махнула мне рукой и побежала навстречу. Замир исподлобья глядел ей вслед, свесившись из окна машины. Меня он не видел.
«Волга» медленно тронулась и поплыла прочь между стенами пшеничных стеблей.
Кейпа подошла, посмотрела на мое лицо, перевела взгляд на пластыри Хунзаха.
Она безбоязненно прижалась щекой к морде коня и прошептала:
— Больно?
— Вороной сильно его покусал… Я промыл водкой.
— Я спрашиваю: тебе больно? — улыбнулась она. — Ты в Дагестан ездил?
Наверное, мне надо было спешиться, но как я смог бы стоять перед Кейпой в одной туфле? От ее слов «тебе больно?» у меня навернулись слезы на глаза. Стараясь не глядеть на нее, я сказал:
— Мне надо сдать коня в совхоз…
Я должен беречь эту девушку. Горько будет, если пойдет слух, что ее видели в поле с парнем. Это моя забота, чтобы сплетня не коснулась Кейпы.
Она отстранилась от коня. Я тронул Хунзаха и поехал, стараясь держать повод так, чтобы Кейпа не видела моей босой ноги.
«Ты ездил в Дагестан? Ты ездил в Дагестан? Ты ездил в Дагестан?» — звучало у меня в ушах. Она знает, что я ездил. Она об этом у кого-то спрашивала. Она ждала. Так ли все это? Или мы с ней опять будем как чужие?
Я оглянулся. Она стояла и смотрела, не двигаясь, мне вслед. Я спрыгнул с коня и вернулся к ней. Пусть хоть весь Дэй-Мохк смотрит, я не могу уехать так.
Она посмотрела на мою рваную рубаху, на мою босую ногу и сказала взволнованно:
— Что ж ты не едешь? Почему ты не едешь, Шамо?
Она сказала это таким голосом, что я сделал еще шаг к ней.
— Ты должен ехать, Шамо… Тебя ждет конь, Шамо…
Да, я должен ехать. Сейчас же.
Я ринулся к Хунзаху.
ПОЩЕЧИНА
К конторе совхоза я подъезжал, словно победитель знаменитой джигитовки. Возле крыльца толпились мужчины, все с любопытством глядели в мою сторону. Я из вежливости спешился вдали, подошел с конем в поводу.
— Ты что это, парень, с войны вернулся? — удивленно спросил под общий смех директор, осмотрев Хунзаха и меня, потом поискал кого-то глазами.
Кривоногий бригадир поспешно выскочил вперед. Директор резко сказал ему:
— И у тебя хватило совести оставить этого парня одного? Как тебя твой управляющий отделением на бригадирстве терпит!
Меня директор позвал в контору, в свой кабинет, и спросил:
— Ты внук Марзи? Жив еще этот старый волк?
Я давно заметил, что о моем дедушке люди чаще всего спрашивают с улыбкой. Он-то не из шутников, держится строго, а то и дерзко. А о нем всегда заговаривают, словно о самом веселом человеке.
— Ни перед кем и ни перед чем не отступал Марзи! — улыбнулся директор. — Передашь ему привет от меня. И еще коня ему передашь, которого ты привел. Старый партизан сумеет выходить этого жеребца…
Директор совхоза позвонил на квартиру нашему директору и сказал, что совхоз дарит заводу коня. Пусть рабочие хоть на турбазе будут иногда повод в руках держать во время своего отдыха, а то скоро совсем забудут, что из крестьян вышли…
— И сколько же ты людей на полевые работы потребуешь за коня? — послышался в трубке голос нашего директора. — Сколько инструмента вытянешь и запчастей? Спасибо, спасибо крестьянству за коня. Дай-ка трубку нашему парню.
— Пятьсот человеко-дней и двести станко-часов за тобой по уговору, а сверх того — по рабочей совести! — засмеялся директор совхоза и передал трубку мне.
Директор завода попросил меня отвести коня на турбазу, а клячу, которая у Марзи, пригнать на завод. Она пригодится при озеленении и прочих работах на территории.
Наутро, увидев меня, мои пластыри, Марзи начал ругаться, плеваться, поминать всех наших предков:
— С такой мордой ты собираешься помогать мне на свадьбе, красоваться по телевизору? Добро бы ты был удалым парнем, такому и увечье к лицу…
— Ты лучше пойди и посмотри, какого я тебе коня привел, дедушка!
— Коня? Какого коня? Никогда я пользы не видел ни от твоего шального отца, ни от тебя, ни от твоего завода!
Завод он помянул, наверное, потому, что никак не мог сделать сверлилкой отверстие в черепе тура, чтобы пропустить туда болт для крепления рогов на стенку. Сверло дымилось, кость под ним пожелтела, опалилась, но не поддавалась, как ни налегал Марзи грудью на электросверлилку.
— Чего же ты не сказал, Марзи, зачем тебе сверлилка? Я бы привез тебе победитовое сверло.
— Уффой… — издал дедушка возглас усталости. — Природа крепче всех ваших победитов: тур прыгает в пропасть на свои рога, когда спасается от охотника, и рога выдерживают… Где конь? У кого ты его увел?
Швырнув сверлилку, Марзи ушел смотреть коня, да так и не вернулся. Всю ночь он просидит возле Хунзаха, как я просидел в Дагестане…
…Иван Дмитриевич опередил меня с подарком. На следующий день он пришел в мою смену ко мне в цех. Постоял за моим станком, выточил пару деталей. Потоптался, полез в карман и, не глядя на меня, протянул свою заветную, такую знакомую мне записную книжку с токарными расчетами.
— На, пользуйся, Шамо. И пополняй ее.
— Уезжаете?!
— Скоро. Письма сестры приходят чуть ли не мокрые от слез…
— Дедушка вам турьи рога приготовил.
— Да ну? — обрадовался Иван Дмитриевич. — А я все думал, что бы такое повезти в Сибирь: глянешь — и Кавказ перед глазами… Ладно. Вкалывай, Шамо. Пойду я на боковую…
Меня редко кто хвалит, да и не за что. А тут, верите, так у меня стало на сердце из-за этой записной книжки, словно мне много хорошего в один раз наговорили, хотя ничего подобного Иван Дмитриевич и не произнес.
Но недаром твердят, что плохое спешит наперегонки с хорошим. Не прошло и двух часов после разговора с Иваном Дмитриевичем, как я получил пощечину от Замира… Вот как это было.
Я бегал в общежитие за бутылкой кефира и возвращался по бульварчику в цех. В кустах, на скамейке, сидели ребята. Кто — и не разберешь: темно, скоро полночь. Замир вышел мне навстречу. От него пахло вином, и он покачивался. Кто бы поверил?
— Ты не забыл, мужчина, ведро с водой, которое ты мне опрокинул на ноги? — хрипло спросил он.
— Не забыл. Глупо я поступил, Замир…
— Это пустой разговор. Получай свое. — И он влепил мне звонкую пощечину, как раз по той щеке, на которой пластырь.
У меня только и успела мелькнуть в голове глупая дедовская поговорка: «Ударят тебя кулаком — ответь палкой, получишь пощечину — ответь клинком…» — как из тьмы показалась высокая фигура и кинулась к нам. Вот тут я испугался.
Это же Алим-Гора!
— Шамо, он тебя ударил? Ладно, иди пей свой кефир, если ты такой терпеливый, — отодвинул меня ладонью Алим и поманил Замира, барабаня пальцами другой руки по губе. — А ну-ка подойди сюда, заяц…
— Гора, не лезь в мои дела! — обхватил я Алима изо всех сил.
Алим вдруг удивленно вскрикнул, наклонился и начал ощупывать свою ногу.
— Он ткнул меня чем-то, — засмеялся Алим. — Ушел? Ну, пусть побегает. Смотри, кровь! Сколько я отучаю наших дураков носить ножи. Но чтобы этот заяц так озверел…
Царапина оказалась не страшной. Старики поспешили уладить эту историю, потому что кровь есть кровь и дело могло зайти далеко.
Однако Алим решил поставить точку по-своему. Так, чтобы отбить вообще у всех охоту играть ножичками. Алим объявил, что будет отныне бить Замира каждый раз, как встретит в тихом уголочке…
Это не удивительно, что Алим такое задумал. Удивительно, что Замир не сдавался! Ни один из нас, ребят, так и не сумел догадаться, что с ним такое произошло, догадалась — уже потом я это узнал — одна только Кейпа. Вот что значит женский ум!
Замир не только не прятался, он нарочно лез в самые тихие места, где можно подраться. Алим-Гора аккуратно стукал его по скуле или в подбородок, чтобы все получалось шито-крыто, без синяков.
В один из дней у них получилось даже две драки…
При мне они сошлись только один раз, в роще над каналом, чуть свет. Лицо Замира было бледным, но он первым пошел на Алима, и я видел, что он не отступит.
Я стал перед Алимом и сказал:
— Ты сердился, что я не смог дать пощечину Замиру? Эту пощечину сейчас получишь ты, Гора…
Ребята кинулись между нами.
— Ладно, — отступился Алим от Замира, бросив на меня хмурый взгляд. — Лишь из-за дружбы я и должен подчиниться тебе как теленок…
Знаете, как объяснила мне потом Кейпа удивительный секрет Замира? Он решил, что у него остался только один способ не потерять девушку: начать «совершать поступки»…
ИТАК, Я СОРВАЛ СВАДЬБУ
Сегодня в ауле свадьба, а завтра на турбазе конференция — такой у Ярцевой был разработан план.
Накануне свадьбы я был на турбазе и вдруг увидел, что от шоссе поднимаются в гору Кейпа и тетя Лоли. С тяжелыми пакетами и сумками в руках. Наверное, на попутной приехали.
Я кинулся сквозь кустарники напрямую, вниз. Поздоровался, перехватил у них вещи.
— Где же нам отца искать? — начала Кейпа оглядываться, когда поднялись наверх.
По дороге к коттеджу я увидел Марзи, отошел на минутку к нему. Он ковырялся в подкове Хунзаха, положив ногу коня себе на колено.
— Дедушка, позволь мне пригласить бородача на свадьбу. Он, оказывается, отец одной… одного моего товарища.
— Одной товарища? — Ударение он сделал на «одной», помедлил и согласился неохотно: — Что ж, зови. Правда, не уважаю я стариков, которые возраста своего не помнят. Зови. Все-таки он здесь гость, да и воду из одной реки с ним пьем.
Какой же старик?! Он оказался совсем молодым. Его начисто обрили. Приодели: вместо балахона — легкий дорогой костюм серого цвета.
Когда наутро он с Кейпой и тетей Лоли подходил в ауле к нашему дому, я даже сразу не понял, кто это.
Дедушка же, конечно, и догадаться не мог, кто это такой: у Марзи, наверное, уже рябило в глазах от свадебного столпотворения. Но видит — гость представительный, да еще с семьей, надо хорошо встретить.
— На жениховский двор еще рано, прошу пока ко мне, — зазвал он. — Бука, сыграй этому молодому человеку что-нибудь на гармошке. А ты, молодой человек, и обе твои спутницы, вы меня извините, у меня заботы. Только помни: за столом на свадьбе не очень… Знаю я вас, молодежь! Сам таким был, выпивал, но знал, где и как. Не сердись, это я по-стариковски тебе сказал…
Отец Кейпы затеял во дворе танец с Букой; она плыла перед ним, растягивая гармошку.
Марзи стоял поодаль от нашего двора на горке и поглядывал в долину, чьи машины едут. Он стоял здесь, как полководец. А мы — маршалы — то и дело бегали от командного пункта на свадебный двор и обратно, за указаниями. Алиму-Горе дедушка еще раз наказывал: «Ты на одни свои богатырские руки не полагайся, расставь везде своих помощников, чтобы порядок никто не нарушил, понял? Иди».
Сшибая всех с ног, подбегал с засученными рукавами и с большим ножом в руках Хахаев, спрашивал: «Следующий?» «Режь. Всех баранов режь», — твердо командовал дедушка, а мне шепнул:
— Ну и рожа у него… Сделай так, чтобы люди его поменьше видели. Кровная месть у нас с Магиевыми возникла когда-то из-за пустяка, а с трудом помирились. Собьет твой Хахаев кого из чужих с ног или состроит рожу, беды не оберешься. Гости ведь и обидчивые попадаются…
Шалве, будущему тамаде молодежного стола, Марзи напомнил, чтобы норма соблюдалась. Шалва гордо ответил:
— Марзи Аббасович! Шалва не первый год тамада, Шалва Гогоберидзе пока еще не позволил опозорить ни один кавказский стол!
— Шамо, твой директор едет, — приставил Марзи ладонь ко лбу. — Вишневая «Волга». Встречай сам. Он слишком молод, чтобы я к нему вышел. Но посадишь его потом за стариковский стол.
— У него же ни одной сединки, дедушка.
— Умом богат! А сединой разбогатеет. Человека, который создал завод, принес новую жизнь нашему краю, можно и за почетный стол. Пусть и это будет у нас новым обычаем, раз вы затеяли комсомольскую свадьбу… Э-э, на «Запорожце» едут, этих я сам выйду встречать, — заспешил Марзи с горки. — Люди на маленьких машинах всегда самые обидчивые!
Очень все у нас было хорошо продумано и подготовлено. Даже сам Газзаев похвалил. Он осмотрел посыпанный светлым речным песком круг для танцев, место для джигитовки, белые полотняные навесы над свадебными столами, цветы на изгороди. И остался доволен.
— А пиджак дадим резать? — спросил я.
— Ни в коем случае! — ответил Газзаев и завел свою дрель.
Нет, пиджак я дам резать. Пусть Хасан мне еще один выговор вынесет. Кому помешает шутливый обычай — резать пиджак дружку жениха? В нашем ауле есть один чудак, который больше всего на свете любит ездить за невестами от имени жениха. Где бы ни женились, этот красавец Азама́т везде оказывается дружком жениха и едет за невестой, потому что у него в районе полно друзей.
Ему это дело очень подходит. Смотрите, какой статный, высокий, широкоплечий. Он, когда забирает невесту и ведет ее к машине, то весь сияет так, словно себе отхватил. Такой человек как раз для репортажа по телевизору. Вот он красуется, ждет не дождется своего часа ехать за невестой.
Там его подстерегает опасность, это ясно. Когда он будет выводить невесту, вышагивать как гусь, молодые родственницы невесты обязаны подкрасться сзади и потихоньку порезать ему одежду. Это «месть» за то, что он девушку из аула увозит. Надо резать чуть-чуть, просто для порядка. Но есть одна известная всем шутница, которая не знает меры. Она как раз из того аула, откуда мы невесту будем брать. Она давно приметила, что наш Азамат любит ездить дружком, и постоянно охотится на свадьбах за ним. Один раз она так увлеклась, что у него брюки стали сзади на самом видном место лохмотьями. Он не заметил, а когда услышал общий смех, зашагал с невестой с еще большей радостью и гордостью.
Мы вчера решили было с Марзи дать Азамату отставку. Все-таки нехорошо, если он окажется перед телезрителями всей Чечено-Ингушетии с вырезом на штанах. Но он нас заверил, что все будет в порядке. «Я повез той шутнице коробку духов, — сказал он. — Мы договорились, что она порежет только пиджак, да и то аккуратно, по шву».
По-моему, шутка на свадьбе нужна, а то у нас не всегда можно отличить свадьбу от похорон. Я читал о свадьбах у разных народов; везде любят шутку! Эстонцы, например, сразу после порога загса прячут невесту в каком-нибудь соседнем подъезде. Бедный жених бегает, ищет, весь народ веселится, наблюдает: любит — найдет!
— Насчет пиджака понял? — еще раз предупредил меня Газзаев, а потом немножко подбодрил: — Не хочу напоминать тебе в такой день о твоих прошлых ошибках, но зрелищную часть ты подготовил неплохо. Посмотрим, как у нас получится с идейной нагрузкой свадьбы.
Да, я же совсем забыл вам сказать, что свадьба у нас сорвалась. Не совсем сорвалась, но в этот день она не состоялась. Конечно, из-за меня.
Я думаю, правильно я сорвал свадьбу.
Мы с Марзи в последний раз проверяли список приглашенных — кто приехал, а кто еще нет и можно ли начинать.
— Магиевых пока еще нет, — вспомнил я.
— И не будет, — сказал дедушка.
— Мы же посылали к ним человека!
— Это наша вежливость. А у них своя вежливость. Когда-то они убили нашего человека, мы им простили, но напоминать в такой день своим видом о нашем прошлом горе они не захотят, вот их вежливость, мальчик. Они приличные люди! Ну, начинаем?
— Нет, — сказал я. — Без Магиевых свадьбы не будет!
Так с этого «нет» никто сбить меня и не смог. Что со мной сделалось, не знаю, но я здорово уперся. Наверное, нервы сдали. Слишком много дней я не спал, издергался, пока готовил эту свадьбу. А может быть, что-то такое моя голова совсем по-другому стала в жизни понимать.
Дедушка кричал о неслыханном позоре, но я ответил, что если он не сделает по-моему, то я навсегда уйду из аула. Дедушка растерялся. А тут еще подбежал Хахаев и доложил, что уже успел перерезать всех баранов…
— Ты с ума сошел, дорогой? — кинулся ко мне Шалва.
Газзаев вовсю завел свою сверлилку, начал мне угрожать:
— Это не частное аслановское мероприятие, а районное. Даже республиканское! Ты хочешь сорвать программу телевидения и радио?! Ведь ехать за Магиевыми туда и обратно — четыре часа! Гости разбегутся, кого телезрителям покажем? Марзи, связать надо твоего внука. Я приглашал на всякий случай милицию, где она там?
Но я уже успел шепнуть Алиму-Горе, чтобы он увел тайком жениха подальше и спрятал его, караулил покрепче.
— Милиционер не заменит жениха, — сказал я Газзаеву.
— Давайте тогда без жениха, по-старинному! — решил Марзи.
— Демонстрировать всей республике наш пережиток?! — сцепился с ним Газзаев. — Да ты тоже, оказывается, фанатик-мракобес!
— Давайте сюда и других мракобесов: зовите стариков! — разозлился Марзи. — Как мы, старики, решим — так и будет. Точка.
Старики покачали бородами, поковыряли палками землю и вынесли решение перенести свадьбу на завтра, без Магиевых ее не проводить. Женится не телевидение, а человек, сказали они. Что может быть добрее в людях, как не начинать своего светлого часа без бывших недругов?
Марзи вынужден был согласиться, но сказал довольно-таки внятно:
— У-у, козлы седобородые… — А на меня рявкнул: — Чтоб тебе старшинство в роду аллах послал, мерзавец!
Это считается проклятье — пожелать, чтобы человек досрочно получил почетное, но хлопотное звание старейшины фамилии.
…Как только мы с Марзи остались вдвоем, он поплевал на ладонь и вдруг отвесил мне такую затрещину, что у меня потемнело в глазах. Моя кепка желтым блином полетела за плетень.
Когда я вышел за ней, Кейпа отряхивала ее от пыли.
— Надень, — подала она мне кепку, и я увидел в глазах Кейпы слезы жалости.
Я надел кепку и пошел прочь. Ну, Марзи… Никогда я тебе не прощу этой позорной затрещины, старикашка.
Ничего себе старикашка: шеей шевельнуть невозможно. Я прокатился по адресу своих предков до седьмого колена, включив в этот список и Марзи. Уже второй раз видит меня Кейпа побитым, могу ли я простить тебе это, дедушка?!
УЩЕЛЬЕ НА ЗАМКЕ, МЫ В КАПКАНЕ
Конференция, назначенная на следующий день, тоже сорвалась. Совсем сорвалась. Но уж тут я совершенно ни при чем. Никто не виноват. Никто не ждал такой беды, какая свалилась на наши горы.
…После того как свадьба рассыпалась до следующего дня, Марзи и Бука пришли на турбазу. Ему — сторожить, а ей надо завтра кормить конференцию.
Я потащился на турбазу только потому, что там Кейпа. Стыдно мне ей на глаза показываться, но и так я не могу, чтобы меня с ней разделяла гора и речушка.
На турбазе я увидел Замира. Он объяснил Кейпе, что приехал за чешским пивом, да вот застрял: что-то случилось с мотором. По-моему, он делал вид, что мотор неисправен. Хочет остаться на ночлег…
В зале уже раскинулся штаб конференции. Наши, из сектора, заранее приехали целым автобусом: и штатные люди, и внештатный актив. Ярцева, Цирценис, заведующие внештатными подсекторами полночи заседали, спорили о чем-то.
Завтракать мы сели рано утром, чтобы все, кому надо быть на свадьбе, успели в аул.
Бука, подававшая на стол, вдруг начала слишком весело хохотать. Все громче и громче. У меня кусок застрял в горле: когда Бука так заливается, хорошего не жди.
— А еще… а еще директор турбазы успел сказать мне по телефону…
И Бука начала забирать у нас из-под носа еду.
— В чем дело, дорогая?! — удивился Шалва. — Зачем отбираешь?
— …директор успел приказать, чтобы все продукты — под замо́к, — хохочет Бука. — Ущелье на замке! Стихия!
Марзи и Шалва сразу поняли, что случилось. Таяние ледника и снегов в этом году запоздало, но зато получилось бурным. Терек враз переполнился, отсек устье ущелья, а по склонам ущелья поползли снежные лавины. Капкан! Нет выхода ни через устье ущелья, ни через его стенки.
Связь с миром мы потеряли почти сразу. Бука едва успела выслушать по телефону директора турбазы, который уже собирался ехать сюда из города с продуктами. Он передал, чтобы никто не смел приближаться к реке и скалам, а также входить в лес, где можно попасть на зуб обезумевшим от страха зверям.
Час проходит за часом в томительном ожидании. Радиоприемник — вот теперь все, что связывает нас с миром. И он приносит радость: диктор сообщает, что в нашем ауле началась свадьба! Нам странно слышать, что есть на земле место, где пируют, танцуют, едят молодого барашка… И до этого места рукой подать, оно сразу за перевалом.
Над рекой, бегущей по дну ущелья к Тереку, на высоком берегу у нас наблюдательный пункт. Отсюда просматривается все ущелье, мы можем заметить вертолет. Для ночи запасен хворост. Ведь линия электропередачи порвана, летчик не увидит без сигнального костра, где турбаза. Мы дежурим на пятачке поочередно. Продукты нам могут доставить только по воздуху.
На второй день нам скинули с вертолета два тюка. Пилот улетел, помахав рукой. Но когда мы уже почти добрались по крутому склону до груза, каменистая осыпь медленно унесла оба тюка на наших глазах в бушующий поток.
Больше надеяться не на что: радио передало, что стихией сорваны транскавказский газопровод и автострада, все силы брошены туда, на восстановление.
…Четыре голодных дня провели мы в ущелье. Я на третий день голодовки решил тайком от Марзи и от всех перебраться на коне через бурную реку, которая еще совсем недавно бежала по ущелью слабым ручейком. А там можно рискнуть одолеть перевал к аулу, если не попаду под снежную лавину.
Я проехал по берегу реки километра два к верховью, где мог быть брод. По крайней мере там не видно, как река катит валуны.
…И меня и Хунзаха понесло как щепки. Лишь возле турбазы мне удалось приблизиться к своему берегу, держась за хвост коня. Мужчины метались возле бушующей воды. Меня било о камни, а когда удавалось вынырнуть, я искал взглядом белое платье Кейпы. В какой-то миг мне показалось, что оно вихрем удалилось от берега, взлетело куда-то ввысь и забелело среди мрачных туч, над вековой ингушской башней…
«Вот и конец», — успел я подумать.
Хвост коня выскользнул из моих ослабевших рук, Хунзах вырвался прыжком на берег. В тот же миг чьи-то крепкие руки схватили меня за плечи и выволокли из воды. Потом я узнал, что это был Шалва, организовавший живую «цепочку».
Первое, что я почувствовал, когда очнулся, были прохладные ладони Кейпы. Она обнимала мою голову и отпрянула лишь тогда, когда к нам приблизился ее отец.
Замир даже не обратил внимания, как меня обнимала Кейпа. Он слонялся с потерянным, мрачным видом. От мук голода он перестал различать, где Кейпа, а где кто.
Я грелся, сушился у костра, в который заботливо подкладывала хворост Кейпа. Хунзах пасся рядом и тоже обсыхал. Он единственный не чувствовал мук голода!
Вдруг Замир подбежал с радостным криком:
— Мы спасены!
Все сбежались к нему. Он показывал дрожащим пальцем на коня и шептал:
— Вот ведь дураки мы какие… Совсем разум от голода потеряли… Конь! Видите, конь! Это же мясо… Это конина!
Марзи понял первым. Он вытащил кинжал и протянул его мне:
— Только уведи коня, чтобы я ничего не видел, за турбазу. Я должен был бы догадаться и сам. Ведь все эти люди наши гости, Шамо…
Отец Кейпы подошел к Марзи, мягко отобрал кинжал и вложил его обратно в ножны, а Замиру сказал чуть слышно:
— Вот ты какой человек…
…Наступили сумерки, мы с Кейпой сидели у костра. В темноте был мрачным силуэт боевой башни, стоявшей вровень с краем пропасти. Что же мне померещилось, когда я погибал в реке? Белое платье Кейпы на вершине башни…
Я вспомнил старинную чеченскую легенду об охотнике Га́рче. Он погиб, его тело несли к башне, такой же, как вот эта. Жена увидела, как приближается страшная процессия. Она взлетела на вершину башни и бросилась оттуда вниз, в пропасть, чтобы быть мертвой у тела любимого человека.
— Кейпа, ты когда-нибудь слышала легенду об охотнике Гарче? — спросил я.
Она долго молчала. Не знаю, румянец волнения вспыхивал на ее лице или отсвет костра.
— Мало ли легенд на свете… — ответила она. — Моя легенда очень проста, Шамо, и до сих пор мне самой не понятна. Началась она не у древней башни, а в грозненском скверике. Помнишь? Весной это было…
КОРОННОЕ ПА ЛЕЗГИНКИ
По заводскому поселку, по всему Дэй-Мохке разнеслась новость: в Ассинское ущелье приехала Эте́ри. Она приехала в Музей гражданской войны, в музей имени своего отца — Серго Орджоникидзе.
Заводские ветераны, тридцати- и сорокалетние наши ветераны, уже отправились в ущелье на двух автобусах.
Теперь мчится к горам и наш комсомольский автобус. Юсуп — тот самый «самозахватчик», помните? — лихо ведет машину по дороге, которая становится все у́же и у́же, все каменистее.
— Ты что, не можешь прибавить скорость? — подгоняет его Хасан, раздосадованный тем, что нас обогнали два совхозных грузовика с людьми, тоже едущими на встречу. — Раньше, на самосвале, ты боевой был!
С нами наш заводской юрисконсульт Зура́б, не совсем старик, но седины в его густой гриве и пышных больших усах много. Красивый человек. Он сам пожелал ехать с нами, молодежью.
Впереди нас гарцует на красиво убранном коне толстый всадник в нарядной черкеске и отливающей золотом папахе из дорогого каракуля. Это тот самый Эюп, который так любит рассказывать корреспондентам о своих подвигах во время гражданской войны.
— Остановить машину? — спрашивает Юсуп при виде Эюпа.
Юрисконсульт Зураб делает небрежный жест и командует Юсупу:
— Не надо. Гони! Эх, молодежь, ни вы, ни даже я не помним, а отцы и деды наши помнят, какие мужчины когда-то по этой самой дороге скакали… Это были мужчины! Боевой конь нашего Серго хорошо знал эту дорогу. А когда кончились бои, Серго объехал все аулы, сожженные деникинцами. И запросил по телеграфу у Ленина разрешения: позвольте раздать оборванным детям горцев два миллиона аршин мануфактуры, выделенной в мое распоряжение.
Впереди показался еще один всадник: он неторопливой рысью выехал из отщелка на дорогу.
— Юсуп, стой! — приказал Зураб. — Всем выйти из машины.
— Спасибо вам, — сказал старый всадник, придержав коня. — Но напрасно вы из-за меня остановились.
— А может, пересядешь для удобства в автобус? — спросил Зураб. — Коня твоего ребята тебе приведут.
— Нет, езжайте. Доброго вам пути. Я уж до конца хочу на коне…
Мы поехали дальше. У меня почему-то защемило сердце от этих слов моего дедушки Марзи: «Я до конца хочу на коне…» Он сказал их Зурабу так же задорно и таинственно, как когда-то говорил, подвыпив, дяде Акиму: «Марзи себя еще покажет!»
— Кажется, директорская «Волга» за нами жмет, — сказал Алим-Гора. — Тоже возле Марзи остановилась.
Обогнав наш автобус, «Волга» притормозила. Все места в ней были заняты. Директор, выглянув в окошко, крикнул весело Зурабу:
— Поменяемся местами?
— Езжай-езжай! Мне с молодежью веселее, а ты тоже уже старик…
«Волга» помчалась в гору.
— Давно я нашего директора таким веселым не видел… — заметил кто-то. — Может, завод большую премию отхватил?
— Премию… — фыркнул Хасан, — Премия у нас за каждый квартал.
Он вдруг вскочил во весь свой длинный рост, стукнулся головой о потолок автобуса, но даже не заметил этого от волнения и закричал:
— Сказать вам новость? Но за это со всех вас магарыч, ребята!
— Хасан, Хасан… — предупреждающе прижал палец к пышным усам Зураб. — Не распускай язык…
— Ну, дай скажу… — взмолился Хасан. — Разве удержится такая новость в секрете, если в заводоуправлении ее уже знают? Именно в такой день хочется сказать ребятам, когда едем почтить память Серго! Он говорил: «Делайте автомобили, ингуши!» Зураб подтвердит, его отец сам эти слова Серго слышал…
«Пока секрет…» — вспомнил я, как Марзи говорил мне когда-то о своем разговоре с нашим директором.
— Мы будем выпускать автомобили! — торжественно объявил Хасан свою новость. — Москва уже решила… Добился своего директор!
До самого аула Мужичи, где расположен музей, мы только об этой новости и говорили. Сверлилки мы будем продолжать делать. А автомобили — тоже для строителей. Нет, не для того, чтобы их катать или подвозить им на стройку грузы. Это будут автомобили-комбайны, универсальные агрегаты на колесах для строителей-отделочников. Подъезжает такой агрегат к коробке многоэтажного здания. Вытягивай на шлангах отделочные электроприборы — и можешь делать пять операций сразу: штукатурку, затирку, покраску… До полной готовности дома!
— Автомобили-комбайны! — восклицает Хасан. — Это вам понятно, ребята? Ты чего задумался, Шамо? Прогремит наш Дэй-Мохк!
— Я тебе и одну, и пять кружек пива поставлю за новость, — отзывается Юсуп, не поворачиваясь к нам от своей баранки. — Только ответь мне на один вопрос: почему же ингуши не подхватили слова Серго тогда же? Сдрейфили? Пороху не хватило?
Наверное, Юсуп сердит на наших отцов и дедов, у которых не хватило пороху: он так нажимает на газ, что автобус делает бешеный вираж.
— Эй, джигит! Полегче! — окрикивает его Зураб. — Ты знаешь, что ответили наши старики наркому Серго? Не так уж просты были наши старики, и Серго согласился с ними. Они ответили: «Эржкинез, ты знаешь закон лезгинки? Ты ведь танцуешь ее не хуже наших. В начале танца не становись на носочки, так говаривали наши предки…»
Да, есть такая поговорка. В самый разгар танца надо взвиться на носочки сапог. Только в самый разгар танца, понимаете. Это коронное па лезгинки.
Неумелый танцор с этого па и начинает, а настоящий делает сначала проходку по кругу. Все быстрее и быстрее. Тем самым он и круг зрителей раздвинет, и стать свою покажет, чтобы ни одна девушка не отказалась выйти с ним на танец, когда он замедлит перед ней пробежку.
Стремительно, но плавно обязан нестись танцор по кругу. Так, чтобы ни одно из серебряных украшений, свисающих с пояса, не стукнулось о другое (это не каждому джигиту удается). Терпения не хватает у зрителей, все громче и ритмичнее хлопают они в ладоши, чтобы поскорее взвился танцор на носочки. Все чаще выкрики «ас-са! ас-са». Это так подбадривают, зажигают танцора. И себя зажигают зрители возгласами «торш-тох! торш-тох!» (крепче хлопайте ладонями!).
Однако танцор летит по кругу так же плавно, ничего особенного не вытворяет своими быстрыми ногами, пока не услышит, наконец, стариковскую команду:
— Вашк-тох!
Это значит, что теперь серебряные украшения пояса имеют право удариться одно о другое. Как они могут не «заплясать», если ноги танцора после стариковского разрешения начинают вытворять такое, что ни один акробат не сможет?
И вот после всех обычных па танцор делает наконец коронное: взвивается на носочки, перебирает ногами, как гордый и неукротимый конь, вставший на дыбы, — видели вы коня, сделавшего «свечку»?!
…Наш автобус делает вираж за виражом, взбираясь в лесистую гору все выше. Зураб продолжает:
— Кто знает, может быть, и затянулась проходка нашего Дэй-Мохка по кругу. Могли бы и пораньше мы сделать свое коронное па, но разве мало было у нас в жизни помех? Ликбезы нам надо было одолеть… Отечественную войну пройти… Много, много всякого было, что ваше поколение и помнить не может. Старики до сих пор удивляются, что мы с вами сверлилки умеем делать, станками управлять, заводом! И это нам ведь тоже надо было пройти…
Он умолкает, поглаживает пышный седой ус. А я неожиданно для себя произношу, негромко:
— Торш-тох…
— Что? — не расслышал Хасан.
Но Мути расслышал меня, он уже пляшет в проходе автобуса, все дружнее звучат наши хлопки в ладоши. Для Мути все равно где танцевать. Однажды в общежитии он исполнил лезгинку на спор на тумбочке.
— Ас-са! Ас-са! — перекрывает хлопанье ладоней голос Алима-Горы.
Автобус мчится все выше, навстречу нам бежит по дну глубокого ущелья бурная Асса́, катит свою белопенную воду в долину. На склонах ущелья то там, то тут высятся в курчавом лесу, над пропастями, необыкновенно стройные боевые башни, сложенные нашими предками из гранитных глыб.
Серго видел эти башни. Видел он и древние поля-террасы над пропастями. Землю для таких полей горцы поднимали наверх, к скалам, корзинами со дна ущелья. Может быть, поэтому Серго и верил, что руки горцев сумеют делать все, что умеют делать другие люди на земле.
— Пол мне проломишь, Мути! — кричит с улыбкой Юсуп. — Ас-са!
Не хлопают в ладоши во всем автобусе только он, потому что руки заняты баранкой, и старый Зураб. Но с лица Зураба не сходит улыбка, мощные плечи его слегка подрагивают: любой горец как бы и сам танцует, если видит хорошую лезгинку.
— Вашк-тох! — вдруг подает Зураб зычным голосом команду, он имеет на это право.
Дождался Мути своей коронной минуты: почти до самого аула не прекращается его лихая пляска в автобусе.
Завидев далеко в вышине таящиеся в лесу домики аула Мужичи, я думаю над тем, что когда-то въезжал туда на своем коне след в след за Серго, под грохот орудийных залпов, мой прадед. Сейчас въедет туда на своем Хунзахе дедушка Марзи. Мне жаль, что он не захотел пересесть в автобус.
Мне почему-то вообще жалко сегодня моего дедушку. Какой-то необычно строгий и торжественный выехал он на дорогу из нашего отщелка гор. Для меня, для всех нас это просто дорога. А для него она — дорога его молодости. Кровь пяти ран моего дедушки пролилась когда-то на таких дорогах.
Скорее всего, мне так жалко сегодня моего дедушку потому, что у меня в кармане лежит полученное от моего отца письмо. Пишет отец не дедушке, своему отцу, а мне. Он пишет, что надумал вернуться из Казахстана домой.
«А пока, — пишет он, — береги бабушку Маржан, Буку, особенно же береги и жалей Марзи, мало он хорошего видел от меня — своего сына. Человек он, ты знаешь, нелегкий. Но он мой отец, а что мне может быть дороже отца…»
Не только жалость к Марзи слышится мне в этой строке. Но и жалость моего отца к самому себе. Надежда, что и я, Шамо, сумею когда-нибудь сказать такие же слова: «Что может быть для меня дороже моего отца…»
Есть у меня жалость к отцу. Он бросил меня и мою мать. И все же это — отец…
Но я больше думаю сейчас о Марзи. «Береги и жалей его», — просит отец. Хорошо, отец. Я буду беречь своего дедушку… Я буду беречь твоего отца!
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧЬ ЭРЖКИНЕЗА!
«Наша Этери! Мы приветствуем тебя в твоем ингушском доме!»
Я разложил красное полотнище с этими словами на траве и начал прибивать его края к планкам. Подбежал всполошенный Хасан и начал меня отчитывать:
— До сих пор возишься… Ничего тебе нельзя поручить, обязательно любое дело сорвешь!
Я, конечно, мог сказать ему, что не сразу нашелся молоток, гвозди. Планки надо было примерить. Ширину ворот измерить, над которыми должен красоваться приветственный лозунг.
Но я ему ничего не сказал, потому что Хасан побежал подсчитывать, хватит ли для всех прибывших на встречу с Этери самодельных скамеек, вкопанных наспех в землю в саду музея. Промолчал я еще и потому, что сомневался: а надо ли прибивать над воротами этот лозунг? Я писал его сам, полночи выводил вчера в красном уголке своего общежития большие белые буквы на красном полотнище.
Но ведь Этери уже давно находится во дворе музея. Зачем объявлять ей большими белыми буквами «Приветствуем», если она уже вошла к тем, кто говорит ей «здравствуй»? Она вошла и ведет себя так, словно тут, в этом тенистом дворе, родилась и живет.
Двор музея обширен. Бо́льшую его часть занимает фруктовый сад. На самом краю скромно стоит невысокий домик. Его занимал Серго. В комнате железная койка, висит бурка Серго.
Рядом дом побольше, с незастекленной верандой. Этот дом заселен и сейчас в нем живет семья заведующего музеем или сторожа, не знаю звания этого высокого худощавого горца с белоснежными усами. Знаю только, что отец этого горца и дал надежный приют для штаба Серго.
Обычный крестьянский двор, если бы не третий дом: сам музей, где множество всяких экспонатов и в залах вывешены сотни старинных фотографий Серго и его сподвижников.
В домик Серго и в музей мало кто из прибывших заходит. Да и чего заходить, если каждый бывал тут уже не один раз?
Народ больше толчется возле дома хозяина. Поднимаются в дом, чтобы напиться воды, а старики — может быть, для того, чтобы сотворить там свою полдневную молитву.
Этери тоже возле этого дома. То зайдет, то выйдет. Эта полная, моложавая и смуглая грузинка разговаривает то с одним, то с другим из стариков или начинает возиться с детишками, которые шныряют по траве между ногами у бесчисленных гостей. Никак не подумаешь, что из-за нее собрались сюда люди из многих аулов и из Дэй-Мохка. И скамейки в тени деревьев налаживают рядами не из-за этого события, и трибуну тащит Хасан из здания музея неизвестно для чего…
Этери держится здесь как в родном грузинском селе: наверное, и там женщины любят посидеть вот так, как сейчас Этери сидит с Букой, разглядывая с ней вязку горского платка.
Я вижу сквозь высокий плетень двора, как одна за другой подъезжают машины, арбы, верховые. «Здравствуй, Этери…», «С добром твой приход, Этери…»
Топот копыт Хунзаха я узнал на слух и хотел выбежать навстречу Марзи, но меня опередили какие-то ребята, приняли у дедушки коня. Дедушка поздоровался с Этери, со стариками, потом заметил в стороне меня и подошел, посмотрел, чем я занимаюсь. Подошел и наш директор завода, вслух прочитал мой лозунг, потом повторил слова: «…в твоем ингушском доме!» — и вопросительно посмотрел на Марзи.
Я пробежал лозунг глазами. Не ошибку ли нашел у меня в тексте директор?
— Не знаю… — пожал плечами Марзи, отвечая на вопросительный взгляд директора. — «В ингушском доме»… Может быть, по вашим новым обычаям лозунги и в доме надо вешать? Не знаю.
Директор улыбнулся, а Марзи медленно отошел к домику Серго и одиноко стал возле него. Я посмотрел туда.
Мне почудилось на миг, что со ступеньки крыльца сошел черноусый мужчина в бурке, с молодыми черными горячими глазами, похожими на глаза Этери, и сказал дедушке с сильным грузинским акцентом: «Куда под пули лезешь? Ты еще своему отцу понадобишься, ты еще нам понадобишься!»
Грохот копыт раздался в моих ушах. Громовой крик «вурро» — так у нас произносят «ура» — раскатился по ущелью, вызывая эхо в скалах… Так мне показалось.
Этери не пошла к трибуне, а поднялась на две ступени невысокого крыльца хозяйского дома и села там по-домашнему, рядышком с белоусым сторожем музея.
Старики расселись перед домом на чистой густой траве, люди помоложе стали плотно за стариковским полукругом.
Толстый Эюп красовался в первом ряду. Газыри слоновой кости с золотыми наконечниками нарядно сверкали на его тучной груди. Эюп без конца подбивал незаметными движениями пальцев свои усы снизу вверх, его глаза беспокойно следили за фотокорреспондентом.
Марзи сидел в последнем стариковском ряду. Лицо его было неподвижно, глаза полуприкрыты.
— Старики! Я к вам приехала для того… — начала Этери, но вдруг запнулась, обернулась к женщине, стоявшей у нее за спиной на веранде, и что-то прошептала ей.
Та кинулась в дом и тотчас вышла, передала что-то Этери. Это была простенькая косынка. Этери надела ее на голову, прикрыла густые черные волосы, сказала с улыбкой:
— Так вам будет приятнее на меня смотреть, старики. Правда?
По саду прокатился сдержанный добродушный смех.
Кто-то прошамкал дребезжащим голосом по-русски:
— Ей-бох, Этери, ты наш пережитки хорошо знайт!
А чей-то голос произнес потрясение по-ингушски:
— Осто́парлах… Я умру от удивления! Посмотрите-ка на ее глаза. На ее глаза! Когда она улыбается — это вылитый Эржкинез!
— Не для того я приехала в это ущелье, друзья мои, — продолжала Этери, — чтобы рассказать вам о своем отце. Среди вас есть здесь люди, которые могли бы рассказать о нем многое, чего и я по своему возрасту не могу знать… Ведь вы делили с ним хлеб-соль. В этом ущелье. В этом дворе, где мы сейчас сидим так хорошо…
Фотокорреспондент выскочил вперед, изогнулся, навел на Этери объектив.
Она умолкла, опустила глаза. Живость, тепло, печаль сошли с ее лица. Она положила руку на голову ребенка, который сидел между ней и стариком и пытался поймать ручонкой, потащить в рот серебряную подвеску дедушкиного пояса.
Фотокорреспондент не щелкнул кнопкой своего аппарата, быстро попятился назад. Он понял.
Этери снова вскинула голову, в ее блестящих черных глазах опять лучилась доброта.
— Я знаю, что отец любил ваш маленький народ… В своем детстве и юности я видела в нашем доме много снимков горцев.
Она помолчала, посмотрела через головы стариков на нас, молодых.
— Еще я знаю, как бы порадовался отец, что хорошо живут в ваших горах люди, что сыновья и внуки тех, с кем он шел в бой, строят на своей земле заводы, фабрики…
Меня оттеснили, потому что народ прибывал и прибывал. И я теперь не видел дедушку. Я перестал слышать голос Этери, в моих ушах стоял грохот конских копыт в ущелье, партизанское «вурро!» — то же самое, что мне слышалось, когда я увидел дедушку перед началом митинга: он стоял тогда возле домика словно на часах, словно в ожидании приказа.
Грохот копыт…
— Да уймите же коня! — расслышал я голос Эюпа. — Есть там для этого кто помоложе или они все уже умерли?
«Это же, наверное, Хунзах бьет копытом!» — подумал я и кинулся к коновязи. Есть у Хунзаха привычка бить копытом, если заждется дедушку.
Что это с нашей Букой? Дедушка! Марзи!
…За кустом малины, перед коновязью, стояла Бука и, запрокинув голову, рыдала. Она рыдала беззвучно, плечи ее тряслись, слезы катились по щекам, по шее.
Молчащие люди стояли вокруг нее опустив головы. Наш директор… Алим-Гора… Еще кто-то…
Бука увидела меня. Хотела кинуться ко мне. Но вместо этого отвернулась и пошла прочь опустив голову. Алим-Гора и Хасан обняли ее за плечи. Она шла между ними, двумя такими высокими, как маленькая девочка, горе которой никому все равно не унять.
— Она хорошо держится, Шамо… — сказал мне директор.
— Я тоже сумею… — ответил ему я и повернулся, чтобы идти к дедушке.
— Не надо, Шамо! — удержал меня директор за плечо. — У дочери Эржкинеза и так хватает сегодня печали. А Марзи сидит рядом со своими боевыми соратниками как живой…
…Хунзах нетерпеливо бил в стороне копытом, словно звал своего наездника в путь: «Когда же мы наконец помчимся по крутому ущелью, Марзи, по шелковой траве просторной долины?»
Я прижался к голове коня, прижался лицом к тому месту, которого касалась когда-то в поле девичья щека. Кожа коня затрепетала, по ней скатывались мои слезы.