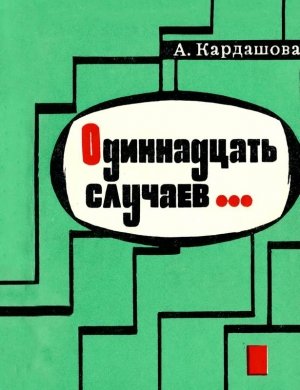
1
Мальчишка с разбитой коленкой
Сегодня у меня темно и тихо. Сижу у телевизора, жду передачи. Пока что смотрю в окно. Внизу, на дне улицы, движутся люди, пробираются машины, здесь, наверху, — город крыш. Он широко раскинулся, неровный — то выше, то ниже. И на всех крышах тонкая поросль антенн на фоне пустого предвечернего неба. Антенны связывают дома с пространством. Оно кажется пустым, а на самом деле чего-чего только в нем нет!
Невидимые волны входят в дома, и в комнатах наливаются светом выпуклые стекла телевизоров. Темные фигуры людей садятся перед ними и смотрят. Смотрите, смотрите, вам, наверное, будет интересно. И мне интересно, что вы познакомитесь с моим братом. Не познакомитесь, конечно. Просто увидите лицо человека, который кое-что сделал.
Я знаю, другие, может быть, сделали гораздо больше, но о них я ничего не смогу рассказать, а вот о своем брате — попробую.
Идет передача. Гигантские чаны, оплетенные трубами, приборы, приборы… А вот на экране зароились и заплясали шарики-молекулы. Сперва они безответственно резвились, потом начали сцепляться друг с другом и пошли, пошли хороводом.
Наконец самое главное: на экране — лебедка со стальным тросом. Он ровно срезан на конце. Срез диаметром с пятак.
Автомобиль «Волга» обвязан таким же тросом, один конец его так же срезан.
Крупно — руки совмещают смазанные клеем срезы. Склеенный трос натягивается, натягивается, автомобиль отрывается от земли, пассажиры «Волги» улыбаются.
Цирк? Чудо? Нет, химия.
Теперь на экране три человека. Мой брат вот этот, справа. Странно видеть его на экране. Он даже и не очень похож. Морщины какие-то вдоль щек, я их не помню. А улыбка его, мальчишеская, с закрытым ртом, довольная — сделали! Получилось!
Телевизор погас. И снова тихо и темно. Только белеет пятнышко на фотографии, которую я держу в руке. Это белая повязка на коленке моего брата. У окна светлее, я смотрю на старую фотографию: дети сидят на заборе. Девочка, загорелая, в белом платье, в белой панамке, вцепилась темными пальцами в столбик. Неужели это я? Рядом мальчик постарше, в полосатой фуфайке, коротких штанах, коленка завязана. Круглое курносое лицо, совсем не похожее на длинное, суховатое, которое я только что видела на экране. А улыбка та же — с закрытым ртом.
Почему завязана коленка? Вот почему. Взрослые футболисты не принимали брата в игру — мал. А он все-таки добился своего, заменил игрока на поле. Играл отчаянно, бешено, себя не щадил, в свалке ему выбили коленную чашечку, белый шрам остался навсегда.
Кстати, когда знакомят с человеком, называют его имя — Ариан.
Когда родился брат, маме только что исполнилось восемнадцать лет. Она была романтической, книжной девочкой. У нее родился ребенок! Это было чудо! У всех кругом рождались дети, но ведь этот младенец родился у нее!
«Спи, младенец мой прекрасный!» — напевала она ему. Не может быть, чтобы прекрасного младенца звали Петей или Васей! У ее сына не может быть простого имени. Нужно, чтобы оно звучало, как музыка, чтобы в нем слышалось пение ангелов! Мама листала святцы: Аввакум, Амвросий, Ардальон… Ариан! Вот имя!.. Гервасий, Диодор, Кандид — это все грубо. Лучшего имени, чем Ариан, мама не нашла.
А «прекрасный» младенец, красненький, потный, сердито сжав заплывшие веки и разинув огромный рот, неистово орал и с силой выдирал из пеленок сжатые кулаки. Это был комочек живой жизни на земле, готовый ко всяческой борьбе и драке.
Когда брат вырос, его звучное имя стало доставлять ему неприятности. В одной компании, например, его прозвали Ариадной. Разве не обидно? В другой называли «наш Арианчик». Тоже мерзко. Каждый новый человек заставлял настораживаться — начнутся расспросы: «Как? Адриан? Андриан?» И нужно сквозь зубы отчеканить — А-ри-ан! Каждый раз надо было пробивать какую-то стенку, и он выработал этакую защитную нагловатость. Да, Ариан, ну и что?
Очень боялся идти в школу. Но там как раз все обошлось. Классный руководитель ровным, спокойным голосом читал подряд имена и фамилии: Васильев Петр, Голяшкин Авенир (вот, оказывается, какие есть), Воскресенский Диодор… И его имя прозвучало здесь запросто. На футболе — тоже ничего. Футболистам некогда разбираться, как кого зовут. «Арька! Давай! Давай! — надсаживались они. — Арюха! Дуй в ворота!» — И разбили ему коленку.
А что же было в этот длинный промежуток от завязанной коленки на фотографии до взрослого лица на экране?
Много чего было. Всего я не запомнила, да и не все было при мне. Запомнила, пожалуй, случаев одиннадцать… Так обычно говорил мой брат. Никогда не скажет: «Просыпался ночью раз десять-пятнадцать», а всегда: «…раз одиннадцать-четырнадцать».
Что ж, случаев одиннадцать из жизни моего брата я, может быть, припомню, а то и все четырнадцать, да еще он сам мне кое-что рассказывал…
Разглядываю фотографию. А что думает о химии мальчишка с разбитой коленкой? Ничего. Он химию не любит, не понимает, не учит. На химию его натолкнул учитель Николай Александрович. Это был хороший учитель, и он привил ребенку интерес к важной науке? Наоборот. Это не был хороший учитель. Он не привил ребенку интереса к важной науке.
2
Старикашка Николай Александрович
Начинался старикашка с масленой лысины, окруженной седоватыми волосиками. Лицо его было постоянно раздвинуто широчайшей улыбкой. Редкие зубы всегда на виду. А за ними — черно, и кажется, что у старикашки полон рот яду.
— По учебнику, — говорил он тихенько, — выучите от сих до сих, а не выучите, неуд поставлю, а с неудом в следующий класс не перейдете, уж я позабочусь…
Вместо глаз у Николая Александровича были черные дырки с ядом, прикрытые сморщенными мешочками.
Нос мы пропускаем, он существенного значения не имел.
На покатых плечах старикашки всегда висело что-нибудь засаленное — блуза вроде балахона или пальто вроде балахона.
«Пяты» старикашки помещались в стоптанных задниках башмаков с напущенной на них бахромой брюк.
Учитель химии Николай Александрович химию не любил и не знал. Уроки он заполнял чем попало.
Когда он рассказывал о жизни лягушек, брату казалось, что головастики так и прыгают из его рта на учительский стол. Рассказывал старикашка о египетских пирамидах, о сфинксах, об африканских попугаях, обо всем, что ему удалось нахватать за свою длинную жизнь. А иногда вдруг надевал очки и начинал хлопотливо скрипеть мелом по доске, заглядывая в учебник химии.
Мой брат идет по улице и неодобрительно смотрит на большие почки молодых тополей, словно облитые густым желтым жиром. Свернутые листья изо всех сил стараются выдраться на волю.
— Старайтесь, старайтесь! — хмуро говорит им мальчишка. — Я вам выдерусь, я вам развернусь!
Это он так говорит, чтобы отвести душу. Что тут можно поделать? Весна все равно идет, зачеты все равно надвигаются. Он не любит весну. А как ее любить, если нельзя бродить по улицам оглушенному весенним ветром, с пятнами весеннего солнца, плавающими в глазах, нельзя гонять мяч по влажному еще двору до потери сил? Весна со всеми своими соблазнами идет мимо, а тебе приходится торчать над учебниками.
Значит, так. Русский должен пройти. Классиков он читал. Сочинение надо написать как можно короче — чем меньше слов, тем меньше ошибок. А как быть с запятыми? Никак — ставить одни точки. «Онегин был ученый малый». Точка. «Он был педант». Точка. Если захотеть, все можно написать с одними точками.
История, можно считать, у него в кармане. Историк, хотя и остался от прошлого времени, — молодец. Знает, что учебники трудно достать, и на уроках рассказывает медленно, с остановками, так что все можно за ним записать.
Обществоведение — это Колька Тимохин. С ним просто. Иногда он и сам чего-нибудь не знает, но не стесняется.
— Это, — говорит, — я подчитаю, братцы, вместе разберемся.
К нему можно домой прийти, в общежитие, во всех его книгах покопаться, а потом ему же в классе такое выдать, что шерсть на его коровьей куртке дыбом встанет. Тимохин своей рыжей с белыми пятнами куртки никогда не снимает, и коровий хребет топорщится у него на спине, и пахнет от него кисловатым, деревенским, и похож он на пастуха. Колька учится на рабфаке, и то, что там узнает, по свежему следу рассказывает в школе. И сам удивляется и хохочет, и все у него хорошо запоминаешь.
«Филин» — физик Филипп Филиппович — хороший старик и очень похож на доброго филина: глаза большие и сам весь зарос какой-то мягкой шерсткой. И говорит мягко: «Вота оплатает текучестью».
У него можно совсем не учить — все равно ответишь. Сам подскажет. А что у него делается на уроках! И жалко его, и даже крикнешь — тише! Но кругом так весело и шумно, что поневоле начинаешь или крышкой парты хлопать, или петь что-нибудь… Надо бы как-нибудь выучить физику, порадовать старика, да все руки не доходят.
А вот что делать с проклятой химией? Николай Александрович велит выучить «от сих до сих» по учебнику. А где взять учебник? Можно, конечно, втридорога купить на рынке. У брата даже кое-какие сбережения водятся. Трамвайные деньги — ходил пешком. От завтраков деньги — ел один хлеб. Бабушка подарила на день рожденья. Он копит на альбом для марок и тратиться на такую дрянь, как учебник химии, для такого червивого шлюпика, как Николай Александрович, вовсе не собирается.
Вон по той стороне бежит Витька Подсосков. В пиджачке. Этому ни на что не надо копить. Все есть. Книга по химии есть. Альбом для марок есть. Белая булка в кармане есть.
Можно бы, конечно, попросить «Химию» вечера на два, только рожа у Витьки уж очень поганая. Он даже идет как-то противно — на каждой ноге приседает и выбрасывает ноги в стороны, как клоун, — вот и я!
Так и дошли до школы по разным сторонам улицы Витька Подсосков и брат.
Последний урок был химия. Николай Александрович явился разряженный, в светлом балахоне и с бантом, как у артистов. Он очень спешил.
— Следующий урок — зачет, — сказал он. — Внимательно прочтите весь курс по учебнику. Опыты тоже буду спрашивать.
— А как же? — закричали с мест. — Мы не делали!
Николай Александрович радостно растянул рот до ушей.
— У нас в советской школе аппаратуры нет, и опыты делать мы не имеем возможности… — Он похихикал. — Так что опыты будете рисовать на доске. Учтите, кто не нарисует, зачета не получит.
Когда старикашка ушел, не все побежали домой. Остались те, у кого не было учебников.
Толстая Маня Нейман сидела за партой, обхватив голову руками, и раскачивалась, и ныла: «Ой, что я буду делать, ой, папа меня отхлестает!»
— Ну, несправедливо! — говорил Юра Орлов. — Он же нас не учит. А спрашивает. Зачем нам тогда учитель?
— И ведь радуется! — крикнул брат. — Радуется, что нам трудно! «У нас в советской школе аппаратуры нет»! Пирамида гнилозубая! А знаете что? Устроим забастовку!
Маня со страхом поглядела на брата:
— Зачем забастовку?
— Ну, чтобы добиваться! Вот как рабочие при капиталистах!
— А чего добиваться? — спросил Юра.
— Чтобы старикашку убрали! Он саботажник, он не хочет при Советской власти работать! В школе мы хозяева! Он нам не нужен! Мы не будем на зачете отвечать химию, будем рассказывать про египетские пирамиды! Он нам про пирамиды, и мы ему про пирамиды! — кричал брат, стуча кулаком по парте.
— А я про лягушек расскажу! — Маня развеселилась.
— Не так надо сделать, — сказал разумный Володя Крахмальников. — Надо собрать ученический комитет, вынести решение и с ним пойти к директору.
— Ну и получится, что мы жалуемся. А мы устроим на зачете хорошенькое представление, и всем станет ясно, какой работничек старикашка. Ну, как?
Все, кроме Володи, сказали: согласны. Но как-то тихо, неуверенно. Сгоряча брат не обратил на это внимания, показалось, что все идет хорошо.
По дороге домой он остыл и стал думать, как это получится.
Юрка Орлов. Да разве он на зачете, при директоре, при чужих учителях, станет рассказывать о сфинксах и попугаях?
Он встанет, курточку одернет, сглотнет и пробубнит, что у него нет книги.
А Манька? Схватится за голову и завопит: «Ой, я не виновата, ой, у меня нет книги!» Какие там лягушки! И другие ребята не посмеют. Представление может состояться при участии только одного актера — его самого. Что же будет дальше? Вот что. Вызовут к директору. Все встанут жалкой кучкой у дверей кабинета. А директор (он муж бывшей начальницы бывшей гимназии) как начнет хлопать своим большим ртом под серыми усами, голос как из бочки, и выяснится, что зачеты нам отложат, а книжки освободятся, и мы их получим. Значит, все кончится хорошо? Нет, нехорошо, потому, что гнилозубый старикашка и на следующий год будет нам вкручивать насчет пирамид и лягушек!
Брат шел по переулку, солнце било его по глазам, мешало все обдумать. Но вот гулко хлопнула дверь, он в полутьме и каменной прохладе подъезда. Он постоял немного. Старикашка — это старый мир. Надо бороться против старикашки. Но какая же это борьба — заявить, что ты ничего не знаешь? Это слишком просто. Это не для него. Что ж, он встанет, как баран: «У меня книжки нет, я ничего не знаю!» А достоинство? Он должен быть выше старикашки и уж, во всяком случае, на равных! Так вот: он во что бы то ни стало достанет «Химию». Прочтет ее от корки до корки. Начнет разводить турусы на колесах насчет пирамид и вдруг… ввернет что-нибудь такое, чего и старикашка не знает.
Да. Вот так. Это будет шикарно.
Брат взбежал на второй этаж веселый и уверенный.
Когда он на другой день пришел в класс, там сидел один Витька Подсосков. У Витьки было много хороших вещей, и он весело ими пользовался. То достанет хорошенькую ручку, то ножичек, и вертит на глазах у всех, и поглядывает — что, нравится? А в руки никому не дает. Если и даст ножик очинить карандаш, то возьмет за это скрепку или марку. Свои роскошные многослойные бутерброды он разъедал медленно, со смаком, поглядывая по сторонам. И все отворачивались. Сейчас Витька копался в своей сумке. На крышке парты лежала «Химия». Брат с ходу, не подумав, сказал: «Дашь на два вечера?»
Витька поднял голову и быстро положил свою лапу на книжку. Он даже засопел от счастья. Такой малый, который ни перед кем не унижается, попросил у него книжку. Теперь он у Витьки в лапе. В той самой, которая лежит на книжке. Что бы с него взять? Нет, его унизить надо! Если что-нибудь с него спросить, он швырнет, возьмет книгу и опять будет выше Витьки. Витька даже задвигался на парте, так ему захотелось выдумать поскорее какое-нибудь унижение.
— Ну, дашь? — Брат чувствовал, что добра тут не будет.
— Погляжу еще! — сказал Витька немного испуганно и радостно. Он еще ничего не придумал, но уж очень его веселило такое положение! Хотелось потянуть. — А я ее Гуньке обещал!
Брат скрипнул зубами — Гуньке! Этому разине, второгоднику, который никогда ничего не учит. Да и учил бы — все равно башка не принимает, дело к выключке идет.
— Врешь, не обещал!
— Ну ладно! — Витька махнул свободной рукой и добродушно засмеялся. — Гунька обойдется!
Брат протянул руку — ну?
Витька вдруг спрятал книгу в парту, достал тетрадку, вырвал листок и, деловито нахмурившись, стал писать голубенькой ручкой. Потом протянул брату листок.
— Подпишешь — получишь книгу!
Протянул и тут же понял — пережал, не додумал, сплоховал Витька.
«Я, нижеподписавшийся, — прочел брат, — обязуюсь до конца года ходить всегда и всюду с Виктором Подсосковым и выполнять все его приказания…»
Брат с силой скомкал бумажку.
Витька испуганно отодвинулся.
— Ведь до конца года недалеко!
Брат швырнул в Витьку скомканной бумажкой и еще по морде ему добавил: раз, два!
— Ах ты с… пекулянтов сын!
— Что это у вас? — спросил, входя, Володя Крахмальников.
— Ничего особенного! — весело и зло ответил брат. — Полирование спекулянтской рожи простейшим способом.
— Полезно! — усмехнулся Володя.
Ну, хорошо, отполировал. А книгу где достать? Потихоньку во время урока оглядел класс. У девочек есть книга — передают ее друг другу, не допросишься. Дальше сидят неимущие, вроде него. У двух-трех человек есть книги, но как-то не хочется просить. «Ладно, в крайнем случае пустим в ход сбережения». И брат успокоился. Но, поглядев случайно в окно, он увидел над крайней партой светлый, блестящий на солнце ежик волос Шурки Дымского. Шурку брат как-то никогда не замечал. У него на лице не было ничего интересного. Ни бровей, ни ресниц, нос незаметный, глазки бесцветные. Не лицо, а яйцо. И по форме похоже. Шурка был тихий, но — хват. Сам никого не трогал, но, если заденут, сдачи давал быстро и полноценно. Здоровый, хотя и низенький. И задачи по математике решал на доске лихо, со стуком!
У Шурки отец профессор химии. У них все книги есть. Может, попросить?
— Книгу я тебе дам, — сказал Шурка. — Если совсем не занимался, в два вечера не прочтешь. Сегодня суббота… — Шурка поднял руку с короткими пальцами и стал их загибать. — Ладно, бери до среды. Только не запачкай, не порви, будешь делать опыты — не прожги!
«Опыты! — думал брат. — Еще чего! Прочту, и хватит».
— Книгу верни точно в срок.
Брат все выслушал, поблагодарил. Зануда он, конечно, а что делать? Взял книгу и пошел домой читать «Химию».
Он сел, положил локти на столик, тот заколебался на своих тонких ножках, потом успокоился, и чтение началось. Нет, не чтение. Сперва ленивое листание.
Рисунок. Спиртовая горелочка, стеклянная… Где это он видел такую? Хороша горелка. Толстенькая, прозрачная — фитиль видно; колпачок такой складный, уютный.
«Сняв колпачок, зажгите фитиль, наблюдайте горение, затем накройте пламя колпачком, чтобы погасить его», — прочел он. И так почему-то захотелось подержать горелку в руках, прохладную, тяжеленькую, зажечь деловитое маленькое пламя и «наблюдать горение»!
А что можно сделать на такой спиртовке?
Начал читать сначала. «Все вещества невозможно перечислить. С каждым днем химики создают новые вещества…»
Поднял голову. «Интересно было бы самому создать вещество, которого нигде нет. Никогда не было! А я вдруг возьму и создам! Дуну, плюну, на спиртовке подогрею и создам!»
Он просидел над книжкой целый вечер. И крики футболистов во дворе не тревожили его нисколько.
На другое утро, в воскресенье, он проснулся с чувством полученного подарка. Огромного, невиданного. И в груди от этого было широко и в глазах ясно. Он поглядел в окно на выступающий кирпичный угол дома. Поглядел на потолок, где, как черная молния, трещина ударяла в простенок над окном, на лампочку в белом колпаке, уныло висевшую на неровном проводе…
«Вы все те же, — подумал он, — а жизнь другая. Ух, какая жизнь!»
Эта новая жизнь, как джинн из бутылки, поднялась фонтаном из нарисованной в учебнике стеклянной горелки.
А ведь как ему не хотелось садиться за книгу! Как он зевал и выламывался, прежде чем сесть!
Вот стоит столик на тонких, дрожащих ножках. На столике наколота зеленая, вся выгоревшая, исчерченная бумага. На бумаге — книга. Она досталась непросто. Она была призвана служить идее: «Знаю, но не отвечаю. Могу, но не хочу».
Все изменилось. Идея теперь казалась чахлой. Дело было в другом.
«Из физики вы знаете, что вещества состоят из молекул».
«Из физики мы, конечно, знаем, но никогда не придавали значения тому, про что шепелявит Филипп Филиппович. Ну, из молекул так из молекул! Но вот что интересно. Сижу я (весь из молекул, конечно), передо мной стена. Тоже из молекул. А между мной и стеной что? Ничего? Нет, позвольте, это раньше считалось, что ничего! Между мной и стеной тоже молекулы, да еще какие шустрые! Стенные молекулы, те плотно сидят, неподвижно. Мои молекулы — ну-ка, что они там? Да ничего особенного. Плавают, наверное, взад-вперед, пробираются… А вот это самое „ничего“, воздух… Ведь его как бы и нет, а в нем такое происходит! Его молекулы что хотят, то и делают! Летают, кувыркаются, отталкиваются друг от друга — да ну тебя, ты мне надоела! Легкомысленный народ!»
Он сделал движение рукой, как будто поймал их в горсть.
«Сколько их тут у меня в руке? И все хотят на волю. Ладно, летите».
Разжал руку — ничего! Вот тебе и «ничего»! Проходу нет от молекул!
Он читал страницу за страницей, читал «Химию», как «Всадника без головы»! Жадно разглядывал приборы. «Кольцо штатива», «горло фильтра»… Ему так захотелось самому повозиться с приборами. Их ведь нужно составить, собрать! И вдруг он вспомнил слова Николая Александровича: «Опыты будете рисовать на доске!»
«Сфинкс безносый, пирамида трухлявая! Делать надо опыты, а не рисовать! До чего же интересно делать опыты! Мало того, что своими руками производишь чудеса, можно ошпариться, отравиться, сгореть, взорваться, и никто тебе не скажет — не делай, это опасно. Нет, делай, только осторожно».
«Вота оплатает текучестью», — говорит Филин. Ну да, льется из крана, холодная, ленивая, неинтересная. А из чего она состоит? Из двух «ничего», из двух газов. И оба они такие, что-только и жди от них всяких вспышек и взрывов!
«Для безопасности завернем бутылку полотенцем, введем в нее один объем кислорода и два объема водорода. Поднесем к пламени. Сильный взрыв гасит пламя».
«И ведь это, если заниматься по-настоящему, мы бы сами делали в школе! А кислород? В нем все так ярко горит! А магний! Он и в воздухе горит ослепительно и в кислороде?»
И вдруг ему отчаянно, бешено захотелось сейчас же, сию минуту сжечь магний в кислороде! Магний достать можно. А вот кислород? В аптеке, кислородную подушку? Не дадут, если никто не болен. Ага, вот тут способы получения кислорода. Марганцовка найдется. А пробирка? А колба? А горелка? «Я хочу сам делать опыты. Это мне нужно позарез! Должна же быть в школе лаборатория. Не может быть, чтобы ни колбы, ни пробирки!»
Он дочитал книгу и выбежал на улицу.
Капал дождь. Шумели в темноте листья. Горели редкие фонари. Блестели лужи. Спешили темные фигуры прохожих. Пахло листьями тополя и мокрой землей. А жизнь была другая. Не та что вчера. Раньше между деревьями, и домами, и прохожими было пусто, а теперь все заполнено. Рукой не пошевелишь, чтобы целый град молекул не застучал тебе в руку.
Все невидимо двигалось вокруг него, перемещалось, волшебно превращалось одно в другое, и все время неизвестно откуда возникало новое.
Он посмотрел на небо — звезда чуть блеснула сквозь облака. Там, вверху, наверное, свои какие-нибудь молекулы реют, и переливаются, и блещут.
И всего этого в мире так много!
И такое огромное свалилось на маленького еще человека, что ему стало страшно. И радостно и страшно. Еле добрел он до дому и свалился в постель.
Вселенная, с ее морями, океанами, водяными и воздушными, с толпами ее частиц, с ее звездами, туманностями и свечением, дрожала над ним в своей вечной работе.
А зачет?.. И вспоминать не хочется!
За столом на зачете сидели, кроме Николая Александровича, два учителя из другого класса и Колька Тимохин. Но уже не в коровьей куртке, а в черной косоворотке, и голова его казалась удивительно белой.
Вызвали Маню Нейман.
Маня, вся малиновая, хваталась за голову и повторяла: «Ой, сейчас!» Потом начала лепетать что-то о получении кислорода и даже нарисовала на доске кривулю вместо прибора. А потом вызвали Юру Орлова и еще двух, которые уговаривались не отвечать.
«Так я и думал! Как в воду глядел! Слякоть несчастная, трусы! Ладно. Я-то лучше вас всех знаю, а все равно отвечать не буду. Один скажу про старикашку все что надо!»
Но его что-то долго не вызывали, а потом спросили Шурку Дымского. Брату было очень интересно слушать. Дымский рассказывал о кристаллизации и даже то, чего не было в книжке. Он нарисовал на доске много разных, красивой формы кристаллов.
А потом вызвали брата, и ему захотелось вот так же спокойно, обстоятельно рассказать то, что он хорошо знал. Отказываться или болтать о пирамидах ему не хотелось вовсе. Но тут он увидел крепкий затылок Юрки Орлова. «Что, я такая же слякоть, как он?»
Брат встал и тихо, глядя вниз, пробормотал:
— У меня нет книги, я не учил.
Дымский с удивлением посмотрел на него, но промолчал.
— Ну, как же так? — широко улыбаясь, сказал Николай Александрович. — У многих книги нет. Я знаю, вот у Нейман, у Орлова… Они же попросили у товарищей, выучили!
— Я ему предлагал книгу, он не взял! — выскочил вдруг Подсосков.
— Ты! Предлагал! — крикнул брат. — Схлопотал по морде и еще схлопочешь!
— Тише, тише… — Николай Александрович помахал пухлой рукой. — Сидите, Подсосков, мы и без вас все выясним.
Но брат уже сорвался.
— Вы ничего не рассказывали нам по химии! — зло и отчетливо проговорил он, глядя прямо в желтые глаза старикашки. — Мы наслушались от вас про египетские пирамиды, про сфинксов, про лягушек, про это я и сейчас могу рассказать..! Я и по химии могу! — выкрикнул он высоким голосом. — Я химию не хуже вас знаю!
Он кричал, а затылок у него стыл от страха, и неправдоподобными казались удивленные лица учителей. А у старикашки со всего лица сошла улыбка и только рот остался до ушей.
— Я потому отказался, — задохнувшись, прохрипел брат, — чтобы все знали — так нельзя заниматься. — Он снова вскипел. — Вы ни одного опыта с нами не сделали, мы пробирки в руках не держали… Вы, вы… враг химической мысли! — выпалил брат.
Наступила тишина. И вдруг молодой учитель из другого класса чуть-чуть фыркнул. Засмеялся другой. За ним Колька Тимохин. И вот уже хохотал весь класс.
Брат растерянно оглянулся, махнул рукой и выбежал.
А старикашку все-таки выгнали — Тимохин постарался. Вместе с братом они ходили смотреть школьную лабораторию. Это была одна печаль — пыльные осколки. Но Тимохин обещал нового химика из своих рабфаковцев и сказал, что «этот лабораторию наладит, вырвет для школы оборудование».
Брат сдал химию директору, который вопросов почти не задавал, а больше кивал большой бородатой головой и быстро поставил «зачет».
До конца занятий осталось немного. Брат теперь стал ходить на переменах с Шуркой Дымским. Приходя в школу, он первым делом высматривал невысокую фигурку с большой яйцевидной головой.
Шурку в классе считали скучным малым, но для брата он был полон интереса.
— А опыты как ты делаешь? — спрашивает брат.
— У меня дома лаборатория.
— Лаборатория? Дома?!
Иметь дома лабораторию! Самому, без всякого учителя делать опыты! Составлять приборы! Зажигать спиртовую горелку, разогревать, подмешивать, окислять, взрывать! Дома! Самому!
И новая мечта, ослепительная, как пламя магния в кислороде, загорелась перед братом.
— А где ты взял оборудование? — спросил брат на всякий случай, потому что понимал: папа Дымский профессор химии. Наверняка у них все есть.
— Кое-что отец мне дал, — ответил Шурка, — а многие вещи я купил у вдовы одного стеклодува. Он папе делал химическую посуду по заказу. Частник. А теперь он умер, и его вдова все распродает. Дешево, знаешь…
— А ты еще не все у нее купил?
— Да нет, у нее на десять таких лабораторий, как моя!
Теперь все. Никаких альбомов! Копить только на лабораторию!
3
Раба старшего брата, или случай со вдовой
Девочка толкнула дверь в комнату брата, маленькую серую комнатку с тонконогим столиком, железной кроватью и старым комодом. Нет, только во сне знакомая дверь открывается вдруг в незнакомый мир! Свет и блеск ударили девочку по глазам: множество тонких, разной формы бутылочек и трубочек вспыхивали на солнце.
Девочка в сером платье, с красными лентами в черных косицах, с куклой без ноги в одной руке и с ногой от куклы в другой стояла на пороге новой, удивительной жизни своего брата.
Кукла полетела на сундук в коридор, и девочка медленно вошла в самую середину стеклянного, сверкающего мира.
Брата она заметила не сразу — брат стоял у комода и бережно вытирал полотенцем что-то тонкое, стеклянное. Он был очень счастлив тем, что так поразил сестру, но тут же крикнул:
— Ничего не трогай, разобьешь!
Потом поставил на комод стеклянную штучку, и они вместе начали рассматривать «лабораторию». Сестра не удивилась, что все это богатство называется «лаборатория». Слово длинное, непонятное, вполне подходящее.
Весь тонконогий столик был уставлен бутылками и банками странной формы — большими и маленькими, пузатыми и прямыми, а также со скошенными, стенками. Деревянная подставка с трубками, а в них налито что-то яркое — голубое, желтое, лиловое… Маленькие весы. Серебряные. До чего хорошенькие! Рыжие резиновые трубки. Они свернулись, как змеи.
— А это что? Девочка робко тронула что-то похожее на курительную трубку, только в форме яйца.
— Не трогай! — заревел брат.
Девочка спрятала руку под мышку.
— Это называется «реторта». — Брату вовсе ни к чему было ссориться с сестрой. Не мог же он сам, один, вынести всю роскошь и красоту новой жизни! Кроме того, он собирался поразить сестру если не совсем, то почти насмерть. Он подготовил ряд номеров. Но сперва, сперва он хотел познакомить ее со своей спиртовой горелкой.
— Можешь подержать! — сказал он добрым голосом. — Только держи обеими руками! — И он вложил ей в руки прохладную круглую вещичку, всю из толстого зеленоватого стекла.
— Какая хорошая! — прошептала девочка.
— Подержала? Ну, давай! Сейчас мы ее зажжем.
Он снял стеклянный колпачок, и девочка увидела фитиль. Он торчал черной щеточкой, а сквозь толстое стекло было видно, как другой его конец, белый, свернувшись, лежал в спирту на дне горелки.
Х-р-р! — зажглась спичка, огонь со спички перелетел на черную щеточку, фитиль хорошо поймал огонь, и теперь, с огнем, горелка стала еще лучше.
— Наблюдай горение! — сказал брат. И сестра наблюдала. Пламя было такое легкое, девочка дышала совсем тихо, а оно все-таки чуть-чуть отклонялось. Около фитиля оно было прозрачное, выше — коричневатое, а еще выше — оранжевое, такой мягкой лопаткой. Огонь. Он ни на что не похож!
— А сейчас мы его погасим! — сказал брат. Взял колпачок, надел его прямо на огонь, и все — огня нет! Только белый дымок завозился внутри колпачка. Сестра засмеялась — ей было жалко огня, но уж очень ловко брат его прихлопнул.
Теперь брат, поглядывая на сестру грозно и зловеще, взял со стола бутылку, налил из нее что-то прозрачное, как вода, в трубочку…
— Держи пробирку!
Сестра взяла ее осторожно, как свечку. В другую пробирку брат налил что-то вроде жидкого чая и, отставив руку с пробиркой, пристально посмотрел на сестру. Начинались смертельные номера.
— Что бы ты ни увидела, — сказал брат замогильным голосом, — держи пробирку крепко и не роняй!
Как в сказке: «Что бы ты ни увидела, что бы ни услышала, иди вперед и не оглядывайся». Девочка замерла с пробиркой в руке. Брат медленно налил своего желтого «чая» в ее прозрачную «воду», и вдруг она заклубилась и стала густого красного цвета.
— Кровь! — прохрипел брат голосом убийцы.
Такого жуткого блаженства девочка еще не испытывала никогда.
Номера продолжались. Брат расчистил себе место на столе и, засучив рукава, высоко вскидывая руки, что-то наливал и подсыпал в разные склянки. Потом опять зажег спиртовку.
— Отойди! — скомандовал он.
Девочка отступила к двери. Он поднес совершенно пустую бутылку к огню, быстро вынул пробку. Пах! — что-то блеснуло, и огонь погас.
Номера шли один за другим. Сероватая бумажка, опущенная в «воду», становилась то синей, то красной, мыльные пузыри летели вверх, как пули, и шлепались в потолок, обдавая их брызгами. Шершавая змея с шипением выползала из фарфоровой чашки.
А девочка стояла тихая, покорная, смотрела на брата и старалась понять, когда это и как он из простого брата превратился в такого волшебника. «Он все может! — думала она. — И куклу может починить». Но кукла — потом, тут творились вещи поважнее куклы.
Брат стал другой. Комната стала другая. Это уже не комната, а лаборатория — сверкающий мир таинственных сил. И сестра стала другая. Великий маг старший брат покорил ее, она стала рабой старшего брата.
Это была я.
Мы уселись на пол у ящика с не разобранной еще посудой; начались будни нашей новой жизни. Они тоже были полны интереса и наслаждения. Брат принес теплой воды в миске, и мы вместе купали и вытирали колбы, реторты… Брат видел, как осторожно я все делаю, и теперь доверял мне. Он научил меня вытирать пробирки — надо накрутить мягкую тряпочку на карандаш, засунуть в пробирку и осторожно повертеть. Пробирки отлично вытирались. После купанья колбы, реторты, пробирки отдыхали на моем кукольном одеяле, а в их чистых боках отражалось маленькое кривое окошко или моя вытянутая, а иногда сплющенная физиономия.
Заглянула мама и удивилась: «Как вы хорошо вместе играете!»
Нет, это была не игра…
Брату нравилось мною командовать. Правила были такие: к тому времени, как ему прийти из школы, на кровати должна лежать домашняя рубашка. Но не просто валяться как попало, она должна раскинуть рукава и повернуться воротом к стене. Брат быстрыми шагами входил в комнату, становился лицом к рубашке. Раз! — он скидывал с себя куртку, которую я должна была сзади поймать. Два! — он нырял в рубашку. Три! — застегивал пояс. Готов! Но стоило мне уронить куртку: «Безрукова!» — кричал брат. Он любил выругать какой-нибудь тут же придуманной фамилией. Не дай бог, если рубашка лежала не по правилам: «Ка-ак лежит рубашка?» — наступал он на меня с кулаками. Брат был моим тираном, но называл меня «дорогая». Это обращение он вычитал из книжки, и оно звучало не всегда ласково. «Дорогайя!» — кричал он грозно, и я со всех ног бросалась выполнять его поручения.
Но мне нравилось служить в «нашей лаборатории» даже у такого строгого начальника.
Брат держал в руках громадную реторту нежно, как цыпленка; он подышал на нее, протер и стал рассматривать на свет.
— Хорошие у нас с тобой вещички. Не из последних, а? Но чего нам не хватает, так это аппарата Киппа. Как мы с тобой получаем водород? Как? — допрашивал он меня.
— В пробирках, — отвечала я робко.
— Правильно. Так ведь в пробирке реакцию не прервешь, а нам надо, чтобы мы могли прервать реакцию, когда захотим.
Слова «опыт», «реакция», «аппарат Киппа» были для меня как сладкие ягоды с новым, необыкновенным вкусом.
— И потом, какая же лаборатория без аппарата Киппа? Аппарат Киппа — это «венец всей жизни, прелесть грез»!
Насчет «венца всей жизни» мы вычитали в книжке немецкого писателя Буша. Там про двух озорников, Макса и Морица. Они просто так, чтобы напроказить, делали разные гадости. Например, они дали проглотить курам одной женщины, Больтовой вдовы, корки хлеба, привязанные к длинным ниткам. Куры проглотили корки, взлетели на дерево и повисли на нитках. А Больтова вдова всплеснула руками и сказала:
— Где же нам достать аппарат Киппа? — спросила я.
— Достать-то есть где, а вот на что купить? — грустно сказал брат. — Все ушло — что бабушка подарила, что сэкономил от завтраков и трамваев, да еще выпросил у мамы, да еще занял у Володи Крахмальникова. И нету, и взять негде. Правда, она дешево продает…
— Кто?
— Вдова.
— Какая вдова, Больтова?
Брат засмеялся.
— Да, Больтова… Я ведь у нее всю свою лабораторию купил. Муж у нее был стеклодув. Он сам выдувал всю посуду. У него отец Дымского покупал и другие химики. Он-то знал цену своей посуде. А вдова ничего не понимает почти даром отдает. Даром, да не совсем. А денег взять негде.
В переулке, недалеко от нас, была торговля «с рук». Мама не позволяла мне там болтаться, боялась, что я какую-нибудь заразу схвачу. А я всегда старалась именно этим переулком пройти в булочную. Там было много интересных вещей. И я ведь ходила туда не просто так. Я присматривала себе что-нибудь купить. У меня дома на полке стоял глиняный баран. Если его потрясти, там гремели монеты. Это тоже был подарок бабушки. Она всегда почему-то дарила деньги: купи, что тебе самой захочется. И пока монеты гремели, казалось, что купить можно что угодно! Только выбрать трудно. Мне хотелось какую-нибудь маленькую коробочку. Откроешь ее, а там… Я не знала, что там должно лежать. В этом и был главный интерес.
Я шла по переулку и смотрела направо-налево.
Направо на вытертом коврике лежат башмаки и туфли, старые и раздавленные, как будто по ним грязное колесо проехало.
Налево, как статуя, стоит высокая барыня в протертом бархатном пальто, в сплющенной кружевной шляпке и держит в руке два старых зонтика. Материи на них нет, одни спицы и белые резные ручки. Направо черненький дядька раскладывает на стуле какие-то железки, налево… Налево стоял мой брат. Воротник тесного, короткого пальто поднят, кепка надвинута на уши, из-под нее глядит серое от холода лицо с застывшей кривой улыбкой. Одна рука засунута в карман, на другой висит «вторая курточка», которую он носил на смену школьной. Он испугался, когда увидел меня. Передо мной стоял не тиран-начальник, а мальчишка, который натворил глупостей.
Я взяла его за руку — пойдем домой!
Он быстро свернул куртку, засунул за пазуху и зашагал вслед за мной.
— Не говори маме!
Мы пришли, разделись, я молча достала своего барана, черного, обливного, с золотыми рогами и золотым носом, и грохнула его об пол. Потом собрала раскатившиеся монеты.
— Сосчитай! Хватит на аппарат Киппа?
Он сосчитал.
— Не хватит, конечно, но мы сделаем так: мы дадим задаток, а остальное где-нибудь добудем.
Брат нагнулся и стал подбирать осколки барана.
— Спрячь, мы его потом склеим, Копилкина-Баранская!
Это была хвалебная фамилия.
Мы шли по асфальту, потрескавшемуся, как корка ржаного хлеба. В кармане у брата брякали деньги из моего разбитого барана. Мы шли и в такт шагам декламировали стихи из книжки Буша:
По булыжной мостовой мы перешли на ту сторону, повернули направо, пошли вдоль деревянных домов.
— Вон у той тумбы — ворота! — сказал брат.
Тумба покосилась, как огромная ножка белого гриба, с которого сбили шляпку, а ножку скособочили. Мы вошли в ворота. Во дворе у стены деревянного дома росла травка. В темных сенях пахло плесенью. Брат постучал в дверь.
— Дома, дома, входите! — ответили нам.
Странно, удивительно, но перед нами была голова Больтовой вдовы. Такая, как на рисунке в книжке. На голове накручен тот же платок с торчащими, как уши, концами. То же удлиненное, пухлое лицо, увесистый нос, поджатые губы. Правда, когда вдова стеклодува повернулась к нам и заговорила, она стала меньше похожа на Больтову. Непохожими были маленькие мокрые глазки. Вдова все время сжимала их, а когда разжимала, они становились еще мокрей. Щеки были толще и шире, да и нос не тот. Больше всего похож платок.
Вдова стеклодува сидела за столом, покрытым протертой клеенкой, над ней висела люстра с голубыми фарфоровыми цветочками и розовыми ангелочками с отбитыми крылышками. Под ними позвякивали прозрачные длинные висюльки. Свету в комнате немного. Он с трудом проходит сквозь густые занавески и ветки растений на маленьком окошке. Перед вдовой на клеенке раскинуты карты.
— А, это из дома Иванова мальчик! — сказала вдова. — Марфуша, это мальчик из дома Иванова.
Мы не разглядели сразу, что за столом еще сидела Марфуша в черном платке, надвинутом на лоб, и пила чай.
— А девочка кто? Сестра, наверное? Марфуша, это его сестра! Что-нибудь еще пришел купить, мальчик?
— Аппарат Киппа! — сказал брат. Он очень волновался.
— Марфуша, проводи мальчика в мастерскую и сестричку тоже, покажи им это… Киппа аппарат! Ключи под зеркалом.
Марфуша встала и оказалась очень маленькой, сгорбленной, и лица ее никак нельзя было разглядеть под опущенным платком.
— Монашка! — шепнул мне брат.
Мы вышли обратно в сени.
Зазвенели ключи, пахнуло сыростью и пылью. Сперва мы ничего не увидели. Потом скрипнули ставни, в сером свете заклубилась пыль, осветилась потемневшая доска высокого стола под окном. На ней какой-то железный инструмент. В углу громадная подставка, с громадными, разной длины и ширины стеклянными трубами, заросшими пылью.
— Это что? — спросила я тихо.
— Из этих трубок он всю посуду выдувал. А это верстак, а это паяльная лампа, — так же тихо ответил брат.
Мне, конечно, сразу же захотелось узнать, как он выдувал. Но расспрашивать было некогда. Марфуша нырнула в темный угол, и ее совсем не стало видно. Скоро она вынырнула с какой-то штукой из двух шаров, один над другим, величиной с большую куклу. Эта штука тоже заросла пылью.
— Марфуша все названия знает, — шепнул мне брат. — Хозяину помогала.
«Вот мы отмоем, отчистим эту штуковину, — подумала я, — и будет „венец всей жизни, прелесть грез“».
Но думать об этом было рано. Мы снова вернулись в комнату с фарфоровой люстрой. Начиналось самое главное — покупка аппарата на деньги из моего барана.
Вдова раскладывала карты.
— Еще что возьмете? — спросила она, не глядя на брата.
Он растерялся.
— Еще? Мне пока больше ничего не нужно. Мне только аппарат…
— Ну, так вот что! Больше я по одной вещичке не продаю! Получаешь с вас копейки, а вы тут только ходите да полы топчете! — И вдова хлопнула карту на карту так, что висюльки на люстре звякнули.
Мы поглядели друг на друга — вот так Больтова вдова!
В комнате было тихо. Только хлопали карты и дозвякивали висюльки. Брат срочно соображал. О том, чтобы отказаться от аппарата, не могло быть и речи.
— Надоели мне вы все, мальчишки! А вот сестричка хороша! — Вдова поглядела на меня, улыбнулась и сжала свои мокрые глазки.
— Вот что! — сказал брат. — Мы возьмем у вас еще две большие трубки. Я сам попробую делать посуду.
Я дернула его за рукав: какие трубки, и так не хватит!
— Две трубки? — задумчиво проговорила вдова. — Туз на двойку, десятку на валета… Две трубки? Ну что ж…
Она была сейчас полна своим пасьянсом. Я посмотрела на брата — что-нибудь получается? Он отстранил меня рукой.
— Так, значит, вы согласны?
Вдова продолжала выкладывать карты и бормотать:
— Семерку на шестерку, двойку на тройку…
Брат помолчал немного и начал снова:
— У нас мало с собой денег…
— А раз мало, тогда зачем приходить? — равнодушно отозвалась вдова.
— Я пришел, потому что мне необходим аппарат Киппа, я предлагаю вам задаток — то, что у нас есть. Остальное мы принесем завтра!
Я опять схватила его за руку.
— А где возьмем?
Он сдвинул брови — добудем!
Вдова с поднятой картой в руке поглядела на брата.
— А ну-ка, покажи задаток?
Брат протянул ей ладонь со всеми монетами из моего разбитого барана.
И вдруг я тихо сказала:
— Это мои, я разбила копилку… Пожалуйста…
Вдова умильно улыбнулась.
— Ах ты, кошечка, на ленточки, наверное, копила…
Мы стояли перед ней, такие жалкие, и вдове вдруг захотелось устроить себе развлечение, поиграть с нами.
— Ну, что вы решили? — снова спросил брат.
— Что карты решат, то и я решу! — сказала вдова. — Выйдет пасьянс, отдам аппарат за девочкины монетки, не выйдет — пойдете ни с чем!
Теперь судьба наша зависела от карт. От всех этих черных и красных сердечек и трилистников. А мы смотрели на них и ничего не понимали. Короли, тузы, четверки, семерки ложились друг на друга и откладывались в сторону, а мы не знали, приближается наше счастье или несчастье. Карты хлопали все быстрее, все громче, висюльки на люстре звенели не умолкая. И вот — хлоп! — последняя карта. Пасьянс окончен. Мы замерли. С минуту вдова смотрела на нас, моргая мокрыми ресницами. Она наслаждалась видом двух застывших фигур, двух одинаково вытянутых лиц, наслаждалась своей властью.
— Давайте деньги! — вдова лихо взмахнула рукой. — Забирайте аппарат! Ну, рады? Поцелуй меня, доченька!
Мне очень не хотелось целовать вдову, но что было делать? Я чмокнула ее в мягкую щеку.
Снова мы шли по асфальту, похожему на хлебную корку, снова по булыжнику переходили улицу. Но теперь мы шли с победой — брат торжественно и осторожно нес в руках аппарат Киппа. Он был наш. «Венец всей жизни, прелесть грез».
— А я уж думал, что «все повисло на суку»! — сказал брат.
4
Мальчики-химики
Открываю парадную дверь — сплошной белый дым! Не видно даже лестницы. А в дыму кто-то кричит: «Удушливые газы! Вредители!» Это соседка, она вообще любит кричать.
Ноги сами находят в дыму ступени, поднимаюсь на второй этаж. Уж я-то знаю, какие это «удушливые газы», что это за «вредители»! Кстати, я согласна, что мальчишки, которые ходят к брату, вредители. Они мне очень повредили.
Дверь в нашу квартиру открыта настежь, в передней дым еще гуще. Дверь в уборную тоже открыта. Конечно, они пускали по воде кусочки металлического натрия, уж мне ли этого не знать? Мы с братом его тоже пускали в маленькой миске. Он такой приятный, шелковистый. Металл, а режется ножом. Мы его хранили в банке с керосином.
Когда такой кусочек пустишь в воду, он так интересно бегает, шипит… Ясно, они решили взять кусочек побольше, думали — закроются в уборной, и все будет шито-крыто, а сами надымили так, что все соседи сбежались.
И все это без меня!
А дверь в комнату брата закрыта, и там они кричат и хохочут. Хорошо, что кухню догадались закрыть, хоть есть где пообедать. Зажигаю керосинку, разогреваю суп, кашу и ем. Выхожу в переднюю — дым расходится понемногу. И тянет меня на сундук в коридорчик.
До чего же я докатилась? До сундука под дверью брата! А давно ли я хозяйничала вместе с братом в «нашей лаборатории»? Брат позволял мне трогать решительно все! И ведь ни разу не обругал дурой. Только придумывал ругательные фамилии. Уронишь что-нибудь: «Безрукова!» — кричит брат. А если плохо соображаешь: «Головастикова (мозгов не больше, чем у головастика)!» Так разве на это можно обижаться? Называй, как хочешь, только дай поработать в «нашей лаборатории»!
А сейчас плохо мое дело, я на сундуке. Это я-то, которая каждую колбочку, каждую реторту перетерла своими руками! Я, которая не пожалела, разбила своего барана!.. На чьи деньги куплен аппарат Киппа? Я, друг химической мысли, сижу под дверью!
Я была еще несчастней Больтовой вдовы.
Из-под двери идет дым. Э, голубчики, это не химический, честный дым. Это преступный табачный дым. Я знаю, что вы там делаете, — вы курите. А хорошие люди не курят! Уж это верно. Взрослые пускай делают, что хотят, а все мальчики, которые курят, — преступники! И вы там учите курить моего брата. Моего брата! Вон закашлялся кто-то от дыма. Теперь шепчутся. И я вытягиваю шею, и я подслушиваю. Какой позор! Это уже не про химию, будьте покойны, это про что-то плохое.
— У вас по истории учитель?
— Учительница.
— Хорошая?
— Ничего, добрая.
— Хо-ро-шень-кая?
— Нет, старуха.
Как он сказал: «хо-ро-шень-кая»? Кажется, это Дымский!
— Ну, мне пора! — услышала я вдруг. Мигом спрыгнула с сундука — и в свою комнату. А дверь не закрыла, чтоб смотреть на них.
Мальчишки, веселые, выкатились из комнаты брата.
— Дым-ский! Дымога-ров! — крикнул брат, повалил Шурку на сундук и давай его катать.
— Ну брось! — кричал Шурка. — Ну не валяй дурака!
Мальчишки захохотали, и я за ними. Его валяют, а он кричит: «Не валяй дурака!»
Шурка Дымский мне не нравился: голова как большое яйцо, и ничего на ней нет, все белое. Как будто начали рисовать носик-ротик-оборотик, а потом стерли резинкой.
А Володя Крахмальнков (они звали его Крах) — тот ничего. Только уж очень большой и нескладный. Нижняя губа у него оттопырена и «р» плохо выговаривает.
Ну, эти-то два — куда ни шло. Обидно, конечно, что они ходят к брату, но я все-таки понимала, что они большие, гораздо старше меня, что они учатся с братом в одном классе. Другое дело — Митя Сапожников. Ходил тут к брату один «ученик». Этого я совсем не признавала. Младенец какой-то, только очень большой. Острижен, как трехлетний, — с челочкой. Короткие штанишки на лямках, чулки, а сам старше меня, правда, немного. А голос у него — сиплый бас, как у взрослого. Я его нисколько не стеснялась и не уходила, когда они занимались. Сперва я думала, что брат будет им так же командовать, как мной, кричать на него, давать ему обидные фамилии, но этот длинноволосый младенец так быстро соображал, что брату не за что было на него кричать.
— У него какие-то шальные способности, — говорил брат, — для него нет ничего трудного.
По вечерам, после школы, мой брат и Володя Крахмальников ходили слушать лекции в Народный университет имени Шанявского. Шурка не ходил. У него был свой университет на дому — папа Дымский.
В зале университета места расположены ступеньками, одно над другим, и отовсюду хорошо видно. И все равно мальчики приходили за час, чтобы занять лучшие места в первых рядах. Их тут уже знали, никто не выгонял, слушатели говорили: «Школа пришла. Вторая ступень». А что? Мальчики чувствовали себя здесь на равных со всеми! То, что говорили профессора, и опыты, которые тут демонстрировались, не были для них новостью. Новым было другое: дома они все-таки играли в химию, а здесь она была настоящей, серьезной наукой.
Мальчики сидели на лучших местах, как в театре, и самозабвенно смотрели на сцену. Сперва декорации были простыми: длинный деревянный стол посреди сцены, а в глубине — огромная черная доска, бархатистая от мела, сбоку — трибуна.
Сперва статисты в темных халатах приносили длинные узкие ящики с низкими бортами, потом они начинали украшать стол. На нем, как черные рыцари, вставали высокие штативы. В электрическом свете вспыхивали стеклянные бока трубок, пробирок, реторт. На сцене становилось все интереснее. Наконец статисты удалялись, и выходили главные актеры — профессор и его ассистент, оба в черных, строгих костюмах. У профессора были красивая седая голова и суховатые изящные руки. Достаточно было его движения, четкого и плавного, и ассистент, как бы продолжая это движение, подвинчивал штатив, наполнял колбу одной жидкостью, подбавлял другую, а профессор своей тонкой рукой брал за горлышко колбу, в которой, вспыхивая, колебалась жидкость, и глубоким, звучным голосом говорил о том, что же произошло, что случилось в этой колбе и почему. А потом он подходил к доске, брал в одну руку мел, в другую тряпку, но ни мел, ни тряпка не разрушали его элегантного великолепия.
После окончания лекций Володя Крах шел домой, а брату все было мало. Ему хотелось еще потолкаться среди слушателей, посмотреть, как выносят из зала оборудование для опытов, может быть, заговорить с кем-нибудь, войти в незнакомый коридор, заглянуть в дверь с риском, что тебя выставят. Подольше подышать воздухом университета.
Однажды в коридоре брат столкнулся с мальчиком. В руке у него было пустое ведро. Они смотрели друг на друга.
— А, это ты? — сказал мальчик.
— Я. — Это был мальчик с нашего двора, но брат мало его знал. Он всегда быстро пробегал мимо этого мальчика, нагнув голову. Еще бы не пробегать — мальчика звали Серафим! Разве можно им было появиться вместе? Жильцы, дворничиха, дворничихины дети показывали бы на них пальцами и говорили: «Вот идут Ариан и Серафим!» Такое невозможно вынести!
Но сейчас брат вынес бы и не такое, к тому же здесь, в полутемном коридоре, не было ни дворничихи, ни дворничихиных детей. Знакомый мальчик. Это была удача.
— Что ты тут делаешь? — спросил брат.
— Работаю в кабинете академика Ч., — ответил Серафим.
Брат даже рот разинул: в кабинете самого академика Ч.! А Серафим слегка отодвинул брата и побежал по коридору, позванивая пустым ведром. Брат с завистью посмотрел ему вслед. За снегом, наверное, пошел, для охлаждения. У академика Ч. работает, знаменитого специалиста по органической химии. Дождаться Серафима во что бы то ни стало! Вцепиться в него мертвой хваткой! Попасть в кабинет академика!
Почему брата тянуло к органической химии? Неорганическая химия представлялась ему красивой, холодной страной, полной разноцветных мертвых озер, полной блеска кристаллических граней, страной молчаливой, с сухими запахами.
А продукты живых организмов — это частички живого, родившегося на земле. Брат пробовал объяснить мне: ну из этого состоишь и ты, и я, и наша кошка…
Вот он, Серафим, медленно идет с ведром, полным снега.
— Давай понесу!
Серафим удивился, но ведро отдал.
Они прошли под голой неяркой лампочкой, брат увидел — губы у Серафима сжаты, он смотрит вперед. Вредный! С таким не очень-то разговоришься!
— А как… а какая у тебя там работа? — спросил брат, уже не думая, унижается он перед этим мальчишкой или нет.
— Какая, какая! У нас там много работы!
— У кого у нас?
— У препараторов. Нас там несколько человек, препараторов.
Смотри пожалуйста, этот… Серафим — препаратор! Ишь ты! А ему, видно, приятно, пофасонить.
— А… все-таки, что именно вы там делаете?
— Ну, приборы собираем, есть очень сложные…
«Только бы попасть! — соображал брат. — Уж я оттуда не уйду!»
Так, с ведром в руке он вошел в кабинет академика Ч. и не ушел оттуда. Ведро со снегом у него сразу выхватили. «Принес? Давай!» Серафим куда-то исчез. Брат очутился в комнате, населенной высокими приборами с черными скелетами, с прозрачными круглыми боками, с закрученными спиралью конечностями. А громадный письменный стол был так плотно уставлен крохотными склянками, пробирками, колбами, что оставалось только место размером в листок бумаги для записей.
На брата никто не обращал внимания, люди в черных халатах трудились над чем-то в глубине кабинета. Брат подошел поближе и сразу узнал академика Ч.
Какой это был человек! Нет, ни красивым, ни эффектным его не назовешь. Маленький, с бородкой, в очках, с полуседыми густыми волосами, которые все время падали ему на лоб, и с таким чудесным, добрым выражением лица! Брат слушал его лекции в университете. С тряпкой в руках, весь в мелу, он говорил: «Вот вы сейчас увидите сами!» — поворачивался к доске и начинал писать формулы, закрывая их собой. Слушатели буквально ложились на скамьи, чтобы как-нибудь сбоку подглядеть, что он там пишет. Некоторые выскакивали в проход между скамьями и присаживались на корточки, чтобы увидеть снизу… Ведь академик Ч. в увлечении и забывчивости мог тут же стереть написанное и, повернувшись лицом к аудитории, радостно сказать: «Вот какие штуки!» Но никто не досадовал, все понимали, что он жил в своем мире органической химии, а в нашем обыкновенном мире почти не задерживался. А как он хорошо говорил! Голосом ровным, спокойным, и все было слышно, и все точно, все понятно. И вот сейчас брата и академика не разделяла никакая кафедра, они стояли рядом в комнате.
Академик с помощью двух препараторов собирал громоздкий прибор на двух высоких штативах. Черные лапы одного штатива осторожно сжимали хрупкое горлышко колбы, из нее вился стеклянный змеевик, другие черные лапы держали его наверху, от змеевика наискось, сверху вниз шла трубка к другому штативу, где тоже было собрано высокое сооружение, увенчанное большей колбой с жидкостью солнечного цвета. Трубке, которая шла наискось от одного штатива к другому, требовалось охлаждение. Один препаратор возился у одного штатива, другой — у другого. Посредине стоял академик со стеклянным холодильником в руках. Его надо было надеть на трубку. Один препаратор что-то не так завинтил.
— Подождите, я сам! — сказал академик. Он оглянулся — куда бы деть холодильник? И увидел внимательные, сосредоточенные глаза мальчика. Откуда этот мальчик, академика ничуть не интересовало, но ясно было, что доверить холодильник этому мальчику можно. — Подержи, пожалуйста!
И брат получил из рук академика драгоценный, сверкающий дар. Он замер. Он держал и не дышал. А когда холодильник у него взяли, он уже был здесь в другом положении — он помогал. И даже позволил себе сказать: «Давайте я подержу!» А препараторы, которым не хватало рук, давали ему подержать то притертую соединительную пробку со вставленной в нее трубкой, то колбу, то змеевик.
— Сегодня мы собирали прибор у академика Ч., — сказал мне вечером брат как можно небрежнее, чтобы сильнее меня поразить.
Теперь он стал все реже и реже говорить со мной на химические темы. Сперва я обижалась, что он изменяет мне с мальчиками-химиками, но постепенно поняла — ведь в придачу к тому миру, в котором живем мы все, у брата появился еще один мир, невидимый нам, но вполне ощутимый для него. Брат уже хорошо научился «видеть» невидимое. Он уже перешагнул порог этого мира и начал осваиваться с его законами. А я осталась.
Да, мне не угнаться за братом, а он там, в своем химическом мире, должен неизбежно встречаться с товарищами, которые в нем свои люди.
Я еще бывала в «нашей лаборатории», мыла там посуду… Конечно, я была «другом химической мысли», но другом — и только.
5
Зигзаги жизни
— Вот Шурка Дымский! — говорил брат. — Он всегда шел в науке прямо, последовательно, ступень за ступенью… А Митя Сапожников, тот как с младенчества засел в науку, так не вылезает из нее ни на минуту… А у меня… Да что и говорить, были зигзаги.
И я вспомнила первый «зигзаг».
Однажды летом я сидела арестованная в мансарде большой дачи. Приехала с мамой погостить и заболела скарлатиной. Я уже выздоровела, но считалась еще заразной, и меня никуда не пускали. Брат жил один в городе, к нам только приезжал и разговаривал с нами, стоя у двери.
Сперва я сидела просто так и смотрела в окно. Совсем рядом торчала темная пушистая верхушка елки со светлыми, свежими свечками. А направо сияла на солнце отмытая дождями серебристая дранка на крутой крыше. Я взяла бумагу, краски, налила в чашку воды и стала рисовать. Я красила и смывала… Бумага стала уже вся мокрая. Тогда от большой досады я сочинила стихи:
Куда уж там верить! Определенно не вышло. Я прочла стихи маме.
— Что это у тебя? Направо, налево… Разве это поэзия?
Только я собралась обидеться, как вдруг… странно, резко кто-то закричал.
Мама подняла голову.
— Это гусь кричит?
— А может, колодец скрипит? — сказала я.
— Здесь нет колодца поблизости.
Странный звук раздался опять. Он резал тишину за окном.
— Корова это, вот что!
— Нет, — сказала мама, — это не корова. Но что это?
Непонятный голос покричал, покричал и перестал. На другой день под вечер он опять взялся за свое. Мы с мамой слушали и все гадали: что же это наконец? То этот голос трубил слоном, то пускал ноты немыслимой высоты, срывался и хрипел, то задыхался и клокотал…
Мы с мамой уже ждали этого голоса, мы даже немного привыкли к нему. А дня через два среди всех завываний мы вдруг услышали четыре чистые ноты. Они шли ступеньками вверх, верхняя нота повторилась, потом звуки спустились, но уже не по порядку и… получилась первая фраза вальса «Осенний сон»! Вот чудеса-то! Но самое ужасное то, что я не могу сбежать вниз и узнать, кто же это и на чем играет. Ведь я заразная! Вниз мне нельзя. Но когда мама ушла из комнаты, я через окно вылезла на крышу и, держась за водосточную трубу, заглянула за выступ дома. Внизу, в малиннике, что-то синело. Потом что-то блеснуло на солнце, а потом, приглядевшись, я окончательно разобралась. Там, в малиннике, стоял мой брат и играл на трубе. А когда я вернулась в город и открыла дверь в комнату брата, это было как в сказке о рыбаке и рыбке: после царских хором — ветхая землянка. В комнате стояла железная кровать, пустой тонконогий стол, пустой комод. Больше ничего.
«Наша лаборатория» навсегда ушла из моей жизни. Ушло праздничное сверкание стеклянной посуды, ушли разноцветные реактивы. Ушли тонкий звон стекла и тихое, уютное шипение спиртовой горелки. Ушли острые химические запахи, гладкие, тонкие бока пробирок, реторт, колб. Ушло, наконец, замечательное чувство — радость общей работы, когда два человека молча, сосредоточенно наливают, насыпают, смешивают, нагревают, разглядывают и тихими голосами обсуждают полученные результаты.
Всего этого больше нет.
Я была уверена тогда, что химию и брата-химика я потеряла навсегда. Но нет, оказывается, он поступил в химический техникум и занимается. Лаборатория ему больше не нужна — лаборатория в техникуме гораздо больше, чем была у него. Но химия перестала быть его главной и единственной страстью. Химия теперь только тлела, а над пеплом сияла труба.
Но почему? Что же случилось? Случилось то, что бывает с мальчиками в шестнадцать лет. Что-то новое, непонятное забушевало в нем. И стало невозможным изо дня в день заниматься одним и тем же. Надо было все разметать и ринуться в другую, совсем другую жизнь. Новизна! Во что бы то ни стало новизна! И он без сожаленья, одним махом продал свою лабораторию. Все, что с таким упорством и старанием собирал по вещичке, и аппарат Киппа, купленный на деньги из моего барана, тот самый аппарат Киппа, «венец всей жизни, прелесть грез»!
Теперь «венцом всей жизни» была труба.
По вечерам, засунув руки в карманы, надвинув кепку на лоб, брат сбегал вниз по переулку. В конце переулка, через дорогу, темнели массы деревьев в парке, светились точки фонарей. Днем в парке гуляли дети, а по вечерам сквозь густую листву глухо доносились круглые сильные звуки духового оркестра.
И на эти звуки, на эти фонари бежал мой брат. Он подбирался к самой беседке, где сидели музыканты, и, прислонившись к столбику, вдоволь любовался музыкантами. Они были совсем близко. Он видел каждое их движение. Видел, как они напрягают губы, и словно поплевывают, издавая короткие быстрые звуки, как перебирают пальцами клапаны. Он мог со своего места прочесть названия нот — и в то же время был от музыкантов за тридевять земель.
Музыканты начинали играть, и он пропадал. Теперь в этом для него было все. Резкие, сильные звуки красиво сливались и заполняли его целиком, и это было ни с чем не сравнимое блаженство. Но совсем особое наслаждение он испытывал, когда играли «Почту в лесу». Один трубач уходил из беседки. Сперва недалеко, потом все дальше, дальше… Серебряный звук почтового рожка все удалялся, и, когда совсем слабый, отдаленный почтовый сигнал таял в воздухе, брату казалось, что и он растаял, что его больше нет.
Брат ходил в парк каждый вечер. И вот он заметил среди музыкантов одного штатского малого чуть постарше его самого. С этим можно заговорить. Он дождался, когда музыканты положат свои трубы, соберут ноты и начнут спускаться по ступенькам беседки. Тут он вышел на свет, зашагал рядом со штатским и разговорился с ним. Оказалось, это оркестрант-любитель, его пускают поиграть бесплатно. «Вот и я, вот и я! — думал брат. — Бесплатно, лишь бы поиграть!» В следующий раз он встретил музыканта, как знакомого, и тот дал брату поучиться свой старый корнет-а-пистон. Чтобы не пугать людей в городе, брат приезжал поучиться на дачу.
Не скоро добился он серебристого звука почтового рожка. Наша соседка по квартире, слушая его игру, говорила: «Так играет, аж зубы болят». Но все же брата приняли в консерваторию по классу трубы. Теперь он учился и в химическом техникуме и в консерватории.
Но тут блеснула новая мечта — стать военным трубачом-кавалеристом. Красная кавалерия! Еще, может быть, он и повоюет! Ложась спать, он закрывал глаза и видел конницу. Он — впереди, на быстрой лошади, с трубой в руке, и в свист ветра и в дробный грохот копыт вонзается чистый, сильный, зовущий в атаку голос его трубы. И озноб проходил у него по спине.
Когда самостоятельность в человеке только нарождается, она не признает разумных слов «нельзя», «неудобно».
Брату было позарез нужно, и он пошел со своей трубой к воротам Кремля.
Стылым октябрьским утром пришел к Троицким воротам озябший паренек в сереньком узком пальто, в черной обтрепанной кепке, с красными ушами.
Ворота. В них надо войти. У ворот переминаются с ноги на ногу часовые в шинелях. Что ж, часовой тоже человек. Вот к нему и надо подойти. Только это очень трудно. Легко было дома решить: я пойду! А сейчас сделать один шаг к часовому невозможно! Ветер вылизывал камни мостовой, раздувал шинели часовых. Брат стоял на ветру и застывал все больше и больше. А часовые давно уже приметили паренька. Стоит и не уходит. Да еще какую-то штуку держит под мышкой. Наконец парень решился, сделал два шага к часовому…
— Пропуск! — крикнул тот резко.
Слава богу, часовой заговорил. Теперь уже легче — только отвечать.
— Мне нужно в кавалерийский эскадрон, хочу поступить туда трубачом.
— Предъявляй пропуск!
— У меня нет пропуска, но, может быть, кто-нибудь скажет кавалеристам, что их у ворот ожидает трубач?
Он проговорил все это застывшими губами, а сам словно умер от страха, словно губы говорили, а его самого уже не было на свете.
Часовые переглянулись, они не знали, что делать. Следовало бы просто отогнать парнишку от ворот, но уж очень серьезный и какой-то отчаянный был у него вид.
В это время — дзынь-дзынь, — звеня шпорами, щелкая подметками по камню, в развевающейся шинели, в малиновой фуражке подошел к воротам — кто?
— Это к вам! — обрадовался часовой.
Человек в малиновой фуражке повернулся на каблуках и оглядел с головы до ног храброго озябшего парнишку.
— Я хочу! — сказал тот хрипло. — Я очень хочу поступить к вам трубачом. Я учусь в консерватории.
— А зорю-то сумеешь сыграть?
— Не умею, но завтра буду уметь!
Дня через два к нам явился молодой красноармеец в шинели, в фуражке со звездой, с трубой под мышкой. Но, кроме трубы, он принес еще буханку хлеба и какие-то мешочки. Это был кремлевский паек. Все это он выложил перед изумленной мамой и сказал, что теперь он трубач кавалерийского эскадрона.
— А лошадь? — спросила я.
— А как же — белая!
Ах! Мой брат в Кремле, на белой лошади, с трубой в руке! Я это так ясно видела!
— Но… как же ты? Просто влез на нее и поехал?
— Нет, не просто. Человек, который ходит за конями, сказал мне: «Хочешь поездить?» Я говорю: «Хочу!» Только я закинул ногу, он ка-ак хлестнет лошадь по крупу, она ка-ак взовьется на дыбы!
— А ты? А ты?
— Усидел. Он тогда сказал: «Молодец!» — и дал мне белую лошадь.
— А сигналы? Ты зорю быстро выучил?
— А что там учить-то!
— А какие там еще сигналы?
— Там, знаешь, для каждого сигнала есть слова.
— Слова? А как это?
— Ну, вот сигнал «внимание». Слушайте все-е… — пропел он, потом взял трубу и повторил сигнал на трубе. Труба словно проговорила: «Слушайте все-е!» Прямо чудо какое-то! Брат переиграл мне все сигналы: и распорядка дня и кавалерийской езды. Больше всего мне понравился сигнал рыси: «Рысью размашистою, но не распущенною для сбереженья коне-ей!» Это «коне-ей!» труба выговаривала с пронзительной дрожью на самой высокой ноте.
Теперь у брата к техникуму и консерватории прибавилось еще два раза в неделю круглосуточное дежурство в Кремле.
А летом он поехал в военный лагерь.
Строгим, аккуратным строем разбиты были палатки в лесу.
Дежурный будил брата первым.
Такая тишина стояла в лесу перед рассветом. Такая полная, ожидающая, напряженная. Кто бы осмелился ее нарушить?
Брат выходил из палатки, вскидывал трубу и красивым резким звуком пронзал эту тишину. И каждый раз ему было жутко и жалко этой прекрасной, величественной тишины и в то же время радостно, что он первый своей властью, своим дыханием разрушил ее.
И это смелое чувство жути и радости осталось у него на всю жизнь, и он всегда стремился, подобно звуку трубы, разрывающему тишину, разрывать оболочку привычного, устоявшегося и выходить в открытое пространство неизведанного.
А следующий «зигзаг» назывался «дендизм».
В маленькой комнате — перемена декораций. Теперь это модная «берлога», выдержанная в синих тонах: синие обои, синие занавески, синее покрывало на железной кровати, синяя в клеточку скатерть на тонконогом столике. Фонарик из цветных стекол, синих, желтых, красных, рассыпал по стенам разноцветные зайчики. При его свете нельзя было ни читать, ни писать, а только мечтать вдвоем. Над столиком, скудно освещенный, мерцал фотографический лик хозяина. Туманный и размытый, как это было модно последнее время. Хозяин «берлоги», одетый в синий костюм (да, костюм появился тоже — первый в жизни!), останавливался перед портретом и, покачиваясь с каблуков на носки, подмигивал ему: «Ничего, ничего, интересный малый!» А чего там было интересного? Сплошной туман. А вот когда «интересный малый» выходил на улицу, на новый синий костюм с галстуком приходилось надевать красноармейскую шинель. Пальто интересному малому было пока недоступно.
В синей комнате неминуемо должна была появиться барышня. Комната без барышни была как футляр без кольца. Но она все не появлялась, а приходили только великовозрастные приятели. Мне прямо страшно было подходить к двери! Они там выкрикивали что-то непонятное, шептались, и тут же взрывался какой-то странный хохот. Эти приятели говорили слегка в нос, а шипящие произносили мягко. Например — «клюшька». О клюшках говорилось много — все они играли в хоккей.
А из-под двери все время валил табачный дым…
Нет, я не хотела ставить крест на моем брате, бывшем химике, бывшем военном трубаче, теперь «денди лондонском». Мысль у меня была такая: всю компанию преступников-курильщиков во главе с братом надо исправить. Конечно, я не бралась это сделать одна. Я думала так: познакомлю брата с моими подругами, брат пригласит нас в свою компанию, и мы дружно примемся всех исправлять.
Но этого не случилось. Брат издевался над моими подругами. Он даже не удостаивал их фамилиями собственного сочинения, он давал им небрежные прозвища. Одна, умная, ученая (все пятерки), в очках, называлась у него «Оляблин». У нее, правда, лицо круглое, а нос приплюснутый, ну и что ж такого?
Другая — хорошенькая, только нос великоват, и тоже умная — музыкантша! — ходила у него под именем «индюшки». Третья была так похожа на известную киноактрису, и носик такой же вздернутый, а брат иначе как «мучной картошкой» ее не называл. План исправления преступников прогорал. А дело было в том, что уже где-то на горизонте маячила «барышня». И вот она, наконец, согласилась прийти. Мы готовились к приему. Брат покрикивал на меня, как прежде: «Дорогайя!» Это напоминало старые, добрые химические времена. Я помогала ему только из уважения к его прежним заслугам.
— Знаешь, я ее спросил: «Что вы любите?» Она сказала: «Пти-фур» и «Бенедиктин»! А я достал только печенья и кагору.
Тьфу ты! «Пти-фур»! «Бенедиктин»! Гадость какая! Ну, посмотрим, что это за птица.
Оказалось, не птица — змея! С гладкой маленькой головкой и очень большими глазами. Она вся как-то немножко извивалась и отлично уплетала печенье «Мария» вместо своего «Птифура». Мы вдвоем занимали ее разговорами, мне надоело, я хотела уйти, но брат не пустил:
— Мы вместе ее принимаем!
Было уже холодно, но он пошел провожать барышню до трамвая без пальто. Не хотелось напяливать шинель.
Вернувшись, он спросил:
— Ну, как она тебе?
— Гладкая змея! — И я удалилась к себе.
Однажды брат взял меня с собой на вечеринку — «гладкая змея» не хотела без меня идти. Боже мой, какая дама была в доме, куда мы пришли! Если бы смерть вырядилась в шифоновое пестрое платье и танцевала, выворачивая колени, она была бы такая же. Оказалось, что мать того мальчика, к которому мы пришли на день рождения, бывшая княгиня. У него был отчим — «Сяпа» — черный, мягкий, маслянистый. Он все время танцевал с молодыми девушками. Брат сказал, что этот Сяпа — бывший нэпман, во время нэпа они с княгиней очень хорошо жили, а чем держались сейчас — неизвестно. Кажется, княгиня делала шляпы.
Я увидела в этом доме одну очень приличную молодую женщину, туберкулезную. Она все время кашляла, но танцевала без передышки. Она говорила: «Лучше танцевать, чем болеть».
Еще там был Мишка, парень с черными бархатными бровками и удивительно растрепанным ртом, который не справлялся со словами. Что Мишка ни скажет, все кажется неприличным. Мишка все показывал свой портсигар, у которого на крышке с внутренней стороны было написано: «Кури свои, подлец!» Поднесет и смеется ужасным смехом.
Это была «шутка», но я устроила брату скандал, когда он взял у Мишки папироску (я знала, у него своих не было).
Наконец вся компания высыпала на темную тихую улицу.
Мужчины кричали: «Такси! Такси!» — хлопали в ладоши, свистели и бросались ловить каждую машину, раскрыв руки, как ловят кур.
А брат не кричал. Он крепко взял меня и «змею» под руки и повел прочь. Я злилась. Зачем моему брату княгиня с нэпманом? Зачем ему унижаться перед каким-то губошлепом? Зачем ему «гладкая змея»? Брат молчал. Ему было тоже невесело.
Брат подрабатывал немного тем, что играл на трубе в парке на каруселях. Карусель крутилась, музыка играла.
Музыка состояла из баяна, барабана, скрипки, и хозяин карусели, частник, решил пригласить трубу. Для звука. Из военного оркестра, который играл в беседке, не пошел никто, но там сказали, что есть один, играет на трубе, может быть, пойдет.
«Труба» явилась на репетицию в старых галифе, сапогах и шинели. Сапоги громко чавкали по коричневым, блестящим на солнце, только что оттаявшим дорожкам парка. Вот она, карусель, закрытая серым заплатанным брезентом, похожая на огромное осиное гнездо. И никого не видно, и ничего не слышно. Где же репетиция? Но вот какой-то стук. Нет, это не барабан. Скорее что-то прибивают или выколачивают ковер. Брат пошел на стук. Позади карусели на весеннем солнышке расположилась «музыка».
«Скрипка» сидела на скамейке верхом, спиной к остальным и с оттяжкой колотила о скамейку воблу.
«Барабан», со свисающими на глаза черными волосами, осторожно разливал по консервным банкам водку.
«Баян», в засаленном и затрепанном до невозможности пальто, в грязных сапогах, резал прямо на скамейке хлеб. Рядом на перевернутом ящике лежали инструменты.
Услышав шаги, «баян» глянул на брата из-под козырька порыжелой фуражки заплывшими пронзительными глазками.
— А, — сказал он холодно, — труба…
«Скрипка», держа воблу за хвост, повернулась к нему, «барабан» поставил бутылку на скамейку, все смотрели на брата. Бутылка сверкала на солнце, и дикими, нелепыми казались в чистом весеннем свете опухшие, бурые лица и засаленная одежда.
Даже в шинели, видавшей виды, и в старых сапогах брат чувствовал себя пришельцем из другого мира. Бить будут? Или водку заставят пить? Нужно срочно решить: или сейчас же, не говоря ни слова, повернуть спину, или уж оставаться и идти на все.
Остаться. Интересно.
— Здравствуйте! — брат протянул руку «баяну», главному. Но тот молча, не спуская с него глаз, вместо руки сунул ему холодный, мокрый огурец. «Барабан», тоже молча, протянул жестянку с водкой. Ох, только бы не очень много! Ничего — водки ему пожалели.
Выпили. Брат хрустнул огурцом, смело протянул руку за ломтем черного хлеба. А неплохо — вот так, днем, на солнышке… Какое-то веселое марево заиграло вокруг него. Он поглядел на музыкантов — они размякли, потеплели.
— Ну, а как тебя звать? — спросил «баян», главный.
Нет, не мог он сейчас произнести: «А-ри-ан!» Слишком нелепо, невозможно прозвучало бы здесь это имя.
— Сережа, — еле выдавил брат.
— Ну кончай шабашить, давай начинать!
«Скрипка» и «барабан» мигом сгребли в газету все остатки, сложили их на ящик, каждый взял в руки свой инструмент.
Не успел «Сережа» сообразить, нужно ему тоже играть или не нужно, музыканты грянули падекатр. Ох, что это была за игра! Как будто трое калек захромали вразнобой, каждый по-своему. Ужас! Брат стоял растерянный.
Три раза они проиграли падекатр, все три одинаково плохо.
— Ну, хватит! — сказал «баян». — Давай, труба, попробуем, ну? — Он посмотрел на брата.
— А… ноты какие-нибудь есть?
— Ноты? — захохотал «баян».
— Ноты, брат, в консерватории остались, — сказала «скрипка» и махнула рукой.
— Неужто «Осенний сон» без нот не сыграешь?
«Осенний сон»! Еще бы не сыграть! Можно сказать, на нем выучился.
Брат стащил с трубы чехол, вставил мундштук, слегка продул трубу, приготовился… И своим красивым, резким звуком начал: «Та-ра-ра-ра ти-ри-ри-ри-ри…»
— Эй, стой! — закричал «баян». — Не пойдеть!
— Почему не пойдет? — Брат опустил трубу. Ведь он сыграл очень хорошо!
— Ты нас всех к чертовой матери заглушишь, хозяин нам платить не станет. Тихо будешь играть. Понял?
Он понял. Он понял, что «музыка» на каруселях теперь будет состоять из четырех калек, и тогда «пойдеть».
Так мой брат стал Сережей.
— Сережа дома? — спрашивали приятели с карусели.
— Ариан, тебя! — кричала я или мама.
А в «светском кругу» он был Ариком. Два имени, двойная жизнь. А третьей жизнью, домашней, он и не жил почти.
Мама теперь возвращалась домой очень поздно из «Маминой рощи», как я прозвала Марьину рощу. Там мама преподавала в вечерней школе для взрослых.
Я тоже стала учительницей, хотя и была еще ученицей. Я «репетировала» учеников младших классов.
Ученики были такие.
Маня. Тонкие рыжеватые косички, бантики на самых концах, даже метелочки не оставлены. Лицо в веснушках, всегда поджатые губки. «Мы живем за городом, вы уж обеспечьте тарелочку супа дочке!» — сказали родители, которые ее привели. Маня совсем не могла понять, как это река, с лодками, с мостом, на карте — ниточка. И как это город, с домами, с улицами, на карте — кружочек. Маня говорила: «пущай», «гумага»… Со всем этим и еще с арифметикой мне надо было справиться. Что Маня делала отлично, так это ела суп.
Дима Владимиров. Очень славный и очень рассеянный.
— Дима, ведь ты списывал с книжки, почему же ошибок насажал?
— А я невнимательно!
— А что ж тебя отвлекало?
— А я попишу, попишу — тлю раздавлю! Знаете, такие зелененькие на цветах?
Мы проходили с Димой рассказ Тургенева «Однодворец Овсянников».
— Какой же должен быть кот у однодворца громадный! — сказал вдруг Дима.
— А почему громадный?
— А потому, что однодворец сидел в «креслах», в одном-то кресле он не помещался, он был великан, и кот на его плече был великанский и уж наверное сибирский! У нас есть кошка, она не была сибирская, а потом мы ее вымыли, и она стала сибирская…
Самое мое мучение был ученик с усами, выпученными глазами и огромным ртом. Третьегодник. Что я ему ни говорила, он ничего не слушал и ничего не повторял, а только смотрел на меня, выпучив глаза и открыв рот.
И вот однажды сидела я с этим учеником и в полном отчаянье твердила:
— А почему такая грязная тетрадка? А почему ты не написал спряжение?
А он двигался ко мне вместе со стулом все ближе, ближе и вдруг тронул своей лапой за локоть.
И тут дверь с громом отлетела — на пороге стоял мой брат. Он был «весь, как божия гроза». Словно щенка, ухватил за шиворот нескладного малого.
— А ну, пошел отсюда! Чтобы духу твоего тут не было! Сопляк чертов!
Выкинув чертова сопляка на лестницу, брат вымыл руки и подошел ко мне.
— Все! — сказал он. — Ты больше не будешь возиться с этой мразью! Мама не будет больше ездить по ночам в Марьину рощу! Я поступил в Торфяной институт лаборантом!
Какой это был праздник для нас с мамой! Лаборантом! В Торфяной институт! Я ясно представляла себе отглаженный синий халат «лаборанта» и тонкую, блестящую посуду в его пальцах. И совсем я не представляла себе «лаборанта» в закатанных до колен брюках, с чавканьем вытаскивающего из болота босые ноги, отлакированные коричневой торфяной жижей. И вечного парного марева я себе не представляла. Болотного марева, густого от мошкары, которая облепляет лицо, руки, и вечного зуда на коже, и вечного зудения мошкары в ушах… И светло-зеленого болотного мха и пушистого сквозь марево солнца… И не представляла я себе сколоченного из досок домика среди болота, где «лаборант» проворачивал торф сквозь кухонную ручную мясорубку… Ему надо было брать пробы из разных мест болота, а потом в болотной лаборатории определять и сравнивать их свойства.
Это была новая жизнь, хорошая жизнь. Это была опять химия.
6
Пришла открытка…
Я расскажу о трех случаях, которые слились в один большой печальный случай.
К этому времени брат уже работал на заводе, производящем электротехническое оборудование. Перетянул его туда некий Иван Степанович Гундарев (он совмещал работу в Торфяном институте с работой на заводе), человек веселый, смелый, до крайности увлеченный наукой, в прошлом деревенский мальчишка. Но об Иване Степановиче — потом.
Однажды, вернувшись летом из деревни, я вошла в комнату брата. Опять перемены: синие, мрачные занавески отодвинуты, комната полна пыльным московским солнцем, в ней много белого — листки, тетради, раскрытые книги… На железной кровати — локти в подушку — лежит сам хозяин в серой рубашке, в затрапезных порточках и незастегнутых сандалиях на босу ногу.
— А-а-а! Черномазова-Головешкина-Папуасская! — загнул он мне тройную фамилию. — Гутен таг, шойнес медхен! — Он был мне рад.
Изучает немецкий. Зачем это?
— А пожалуй, хорошо, что ты приехала, Головешкина, бери книгу, будешь меня спрашивать по-немецки!
— Ты что, поступаешь куда-нибудь?
— В университет поступаю, на химфак, надо в люди выходить!
— А ты разве не вышел?
— До настоящих людей мне еще далеко. Надо знания систематизировать, да и диплом не помешает для полного разворота деятельности. Как ты думаешь, Папуасская?
Я тоже так думала, и мы принялись за работу.
Двухнедельный отпуск кончился, но подготовка продолжалась. 24 — 8 = 16. Вот эти 16 часов, остающиеся после работы и надо было толково раскроить. Сон необходим. Без хорошего сна голова не та. 16 — 6 = 10. Заниматься 10 часов в сутки — это было бы роскошно, но, к сожалению, надо есть, умываться, одеваться, ездить на работу и домой. На это уходило два — два с половиной часа в день, как ни крути. 10 — 2,5 = 7,5. Шла жестокая борьба с минутами, которые просачивались сквозь пальцы. Стоило мне открыть рот, как брат уже кричал: «Короче! Короче!» С мамой за него объяснялась я. Кормила его я.
В трамвае он не занимался, как это делают многие. «Это неполноценно!» — говорил он. Изыскал кратчайший маршрут от дома до завода и по пути отдыхал. Или дремал, или освежался видом мелькающих за окном домов, деревьев, людей.
— Вот ты поступишь, а как же с работой? — Разговаривать с ним я осмеливалась только во время обеда.
— Ну, можно будет, наверное, где-нибудь подрабатывать, а потом, ведь я там долго не задержусь. Проучусь года два — два с половиной. Первый курс для меня — воспоминание далекого детства, второй — тоже что-то в этом роде. Только остальные предметы… Кроме химии. Постараюсь прямо с первого на третий!
Так мы счастливо мечтали.
— Знаешь, что сказал профессор? (Брат только что пришел с экзамена по химии).
— Что?
— Он сказал: «Ну, этот идет по призванию!» Я им здорово понравился!
Все шло хорошо, кроме маленькой заминки по немецкому языку. Совсем пустяковой. Правда, конкурс был огромный — на одно место двадцать заявлений… Экзамены закончились.
Через некоторое время пришла открытка: «…За неимением мест вы не можете быть зачислены…»
Та-а-ак! Но ведь он же химик по призванию! Как же можно не принять его на химфак! Он же слышал, как сдавали другие — вчерашние школьники, слепые котята в сравнении с ним! Неужели эта маленькая заминка по немецкому? Значит, надо было напирать не на химию, с которой все было хорошо, а на другие предметы и выучить их ювелирно.
Все дни разного цвета, и месяцы тоже, и нет ни одного одинакового лета. Прошлое лето было пыльное, белое, сухое. Нынешнее — сочное, зеленое, влажное.
Брат заранее выпросил себе отпуск так, чтобы он вплотную подходил к экзаменам. Подготовиться надлежало за две недели, в течение отпуска, и притом совершенно ювелирно. Для этого (кислород мозгам полезен) брат решил выехать «на курорт». Снял в дачной местности у лодочника сарайчик и с удочками, с чемоданом, набитым книгами, поселился там. Жена лодочника приносила мужу топленое молоко в бутылке, лепешки, кашу и молодому жильцу тоже; стоило это недорого.
Сперва я не одобряла эту курортную затею.
— Ты не будешь заниматься! Заведется компания, тебя там будут отвлекать!
Но потом, приехав навестить брата, увидела, что он действительно занимается на берегу, вдали от лодок и компаний. Даже забывает вытащить рыбу, когда поплавок начинает прыгать.
Провожая меня на станцию, брат мучительно, жалостно сдвинув брови, сознался:
— Какая тут ко мне беленькая приходила?.. М-м-м…
— Это зачем же? — вскинулась я.
— Так… Поговорить…
— Ну, а ты?
— Сказал, что занимаюсь, что времени совсем нет, ну, она и ушла. — Он горестно вздохнул.
В один из приездов я увидела «беленькую». Она каталась на лодке в компании девушек и молодых людей. Правда, среди загорелых приятелей и подруг она была удивительно бела. Только чуть золотистая. Ее желтоволосая голова все время поворачивалась на длинной белой шее — она не переставая разговаривала. Рот, открытый в счастливой улыбке, так и не закрывался. Она еще издали увидела на берегу брата, сделалась еще светлее и счастливее и помахала ему мягким серо-голубым платочком. Он медленно покивал ей головой, поднял руку и улыбнулся сжатыми губами. Он был неприступен. Я успокоилась.
Запретные плоды есть запретные плоды.
А вот солнце, когда оно только что показалось, и первые лучи протягиваются вдоль реки, и кажется, что река течет прямо из солнца, — это плод незапретный. И утренние радужные росы, и вечером туман, который цепляется за кусты, и перепел, который на закате кричит: «спать пора… спать пора». Глядишь на темно-золотое небо с красным подсветом внизу (завтра опять жара) и слушаешь перепела. А небо у горизонта рыжеет, темнеет, а река еще светлая, но вот паутинки тумана погасили ее блеск, и сырость поднимается от воды и трогает босые ноги. И немножко одиноко и немножко тоскливо, но так чисто и хорошо… Нет, и при железном режиме есть радости на земле!
Подготовился брат ювелирно по всем предметам. В университете его уже знали. Он натаскивал «слепых котят» по химии и даже, случалось, сдавал за них. Не с таким блеском, конечно, как за себя, а в пределах необходимого.
Что ж, экзамены прошли превосходно, а уверенности почему-то не было.
Вскоре пришла открытка: «…за отсутствием мест вы не можете быть зачислены…» Что же это такое? Ну где же справедливость? Что же теперь делать? Брат бросился в университет выяснять. «За отсутствием мест…». «За отсутствием мест…» — повторяли ему во всех инстанциях.
А работать без систематических знаний, без диплома становилось все труднее.
Он решил держать экзамен в третий раз. Кроме всех соображений, ему очень хотелось в университет. Там занимаются наукой систематически, а не урывками. Ему хотелось с полным правом общаться с большими учеными, хотелось дышать воздухом науки.
О том, что экзамены и в третий раз прошли на самом высоком уровне, нечего и говорить.
И в третий раз пришла открытка: «… За неимением мест…»
— Мама, все пропало! — Взрослый человек плакал, как маленький.
Мать сама пошла в университет выяснять, в чем же дело.
— Тебе не удастся поступить! — сказала она, вернувшись. — Но ничего не пропало, работай, учись сам. Да ты и так все время учишься. — И она рассказала ему об Ольге.
Мы с нашей двоюродной сестрой Ольгой почти не были знакомы. А то, что с ней случилось, касалось скорее ее мужа, которого мы никогда не видели.
Мама рассказывала нам об отце Ольги, дяде Коле. Его мы тоже никогда не видели. Он жил в другом городе и умер, когда брат был еще мальчиком, а я совсем ребенком. Мы называли его: «Наш дядя Коля — большевик». Мама вспоминала, как он собирался на съезд в Лондон, как она пристраивала ему картонный воротничок и манжеты — ведь за границей надо выглядеть прилично! В годы военного коммунизма дядя Коля поехал по заданию партии в Омск, по дороге заразился тифом и умер в пристанционной больнице…
Так вот Ольга… Впервые брат столкнулся с непонятной, но грозной силой, которая, оказывается, может им распоряжаться. «Все в наших руках», — любил он повторять. Нужно только не останавливаться, нужно все время очень много читать и работать. А что может быть лучше интересной работы? И вдруг — стоп!
Что теперь делать? К кому бежать? К Мите Сапожникову? Нет, он даже не выслушает. Он тут же откроет какую-нибудь тетрадь и начнет засыпать тебя формулами. Это всегда интересно, только не сейчас. К Дымскому? Умный малый, но у него мама профессорша, засадит пить чай и начнет задавать вопросы: как прошли экзамены? А что отвечать?
К Володе Краху, вот куда! Крах все поймет. И брат, засунув руки в карманы плаща, зашагал в Кривоколенный переулок. Который час? На Лубянской площади, на больших часах с тонкими цифрами, половина одиннадцатого. Значит, Володя кончил заниматься и чем-нибудь развлекается. Не ушел бы!
Брат прошел по длинному коридору, где всегда пахло щами, завернул в маленький коридорчик и постучал в узкую, косо поставленную дверь.
— Да-а! — ответил голос из-за двери. Володя дома!
Комната у Володи не простая, а треугольная, со срезанным тупым углом. Там стоит его пружинный матрас на березовых чурбаках. Володя говорит — очень удобная комната. Он выгородил фанерой этот треугольник в комнате родителей. Острый угол комнаты заканчивался створкой родительского большого окна. Сейчас оно было открыто, и за ним свежо дышала и гулко разговаривала вечерняя улица. Володя сидел у окна при свете настольной лампы. Он встал навстречу брату — большой, мягкий.
— А я марками занимаюсь! — и он мирно зевнул и потянулся.
На Володином большом старом столе с пузатыми ящиками, который стоял на трех изогнутых львиных лапах, а вместо четвертой — полено, на выгоревшем, проеденном кислотами зеленом сукне лежали альбомы, папиросные коробки с марками, лупа с медным ободком, пинцет…
Брат глянул в альбом. О, что это? Персия! Индокитай! Знакомые марки! Это марки его детства, марки того счастливого времени, когда он мог погружаться в них целиком, и ничто не мешало ему наслаждаться ими всласть.
— Как с экзаменами? — спросил Володя.
— Не попал! — еле выдавил брат. — И не попаду уже никогда!
Ему стало так жалко себя, а Володя был такой уютный в своей застиранной мягкой рубашке, такой теплый, добрый, смотрел на него с таким огорчением, что брат снова чуть не расплакался.
Он все рассказал Володе. И про двоюродную сестру Ольгу и про то, как мама ходила в университет…
— Ну, погоди… — сказал Володя. — Мы сейчас все хорошенько обдумаем… Ты говоришь — дорога закрыта. Мы проделаем с тобой то, что я в таких случаях проделываю для себя. Берется беда. Рассматривается на свет. Изучается ее внутреннее и внешнее строение, определяются ее минусы и возможные плюсы…
— Какие там плюсы?
— А ты не говори. Может, и плюсы найдутся. Потом обдумывается, что можно сделать с каждым элементом беды. Когда сделаешь наметку, беда уже будет разложена. Она рассыплется.
— Что-то уж очень просто!
— Нет, не очень просто. Вот увидишь. Зачем тебе нужен университет?
Первое — чтобы систематизировать и расширить знания. Хорошо. Но ведь ты сейчас не в том возрасте в смысле науки, когда людей водят за ручку. Ты сам кого хочешь можешь повести за ручку! И вся литература в твоем распоряжении, а лаборатория есть на заводе. Кто тебе мешает работать самостоятельно? Вечера все твои. Ты сам всегда говоришь: «Все в наших руках!»
Второе — тебе нужно общение с большими учеными, ты должен коснуться чистых снеговых вершин науки. На здоровье! Будешь сам ученым, и большие ученые будут неизбежно для тебя доступны, только не сию минуту, конечно! Хочешь быть ученым — будь им! Тихо! Не пищи… И горным воздухом науки еще надышишься!
Третье — диплом.
— Ох, как он мне нужен! Ведь руки развяжет…
— Не перебивай! Будет у тебя диплом без всякого университета!
— Как это так?
— Да так! Будешь сдавать в менделеевском, где я учусь, экстерном! Ведь вытянешь?
Брат долго молча смотрел на Володю.
— Неужели это возможно? А Ольга?
— Ну, друг мой! Ведь зачислять-то тебя не будут? А до экзаменов наверняка допустят. И потом у нас атмосфера как-то проще. Кстати, ты сможешь посещать любые нужные тебе лекции, а ненужные можешь не посещать. И сдавать будешь тогда, когда приготовишься. Вот тебе и плюсы! Ну, как?
И они пустились в обсуждение всех подробностей. Володя сходил на кухню, вскипятил чайник, и они пили совсем коричневый крепкий чай в широких зеленых чашках.
— Конечно, все это будет непросто, — говорил Володя.
— А что бывает просто? — сказал брат. — Зачем мне баранье счастье без борьбы?
— А то, что ты уже связан с промышленностью, это хорошо. В промышленности нужны люди с фантазией. Ты можешь перспективно мыслить. Ты сможешь такого наворотить — будь здоров!
Брат засмеялся. Ему захотелось поскорей начать «наворачивать».
Брат шагал по темному городу. Ему дышалось легко — беды больше не было. Они с Володей рассыпали ее. И теперь он перешагнул через обломки и шел дальше.
Дома были темные, а небо светлело и начинало разгораться.
Брат поднял голову к небу, в котором медленно, победно менялись краски, раскинул руки да вдруг как завопит: «Все в наших руках!» Оглянулся — никого нет. Поправил кепку, засунул руки в карманы и вполне прилично зашагал домой.
А небо уже стало бронзовым и разгоралось все грознее, все веселее!
7
Звонок на рассвете
У нас появился телефон. Черный, блестящий, новенький. Он был чужим в нашей старой, тихой квартире, но держался начальником. Он не одобрял облезлых стен и скрипучего гардероба в передней. Он потребовал, чтобы над ним в коридоре повесили электрическую лампочку. Брат включил ее и тут же сдернул с сундука под телефоном совершено облысевший коврик. Сундук он застелил клетчатой скатеркой, которая украшала некогда стол интересного денди.
Голос у телефона был резкий, деловой, не домашний. Этот голос шел из тех страшных для меня мест, которые назывались «учреждения». В одном из них, в научно-исследовательском институте, работал теперь брат, и там, невидимо для меня, проходила его главная жизнь.
Сперва я боялась телефонных звонков, как боялась учителей, директоров, всякого начальства, и начинала метаться: а что я должна сделать? Потом ничего, привыкла.
С телефоном вместе появились у нас в квартире слово «полимер» и еще имя — Иван Степанович. Собственно, имя это я слышала и раньше, но теперь оно прямо-таки поселилось у нас.
Если в ответ на звонок раздавалось: «Здравствуй, Иван Степанович!», то звонить я шла на улицу, в телефонную будку. Сорок минут, час — меньше они не разговаривали. И все время слышалось — полимеры, полимеры… Это слово было тогда, новым и необыкновенным.
Брат не сидел теперь уютно после работы и не копался в марках (у него была недурная коллекция), не приглашал меня слушать радио, не ходил в кино и к приятелям, и у него сейчас никто не бывал. Он словно сбросил с себя все, что у него было спокойного, домашнего, и голос у него стал какой-то новый, телефонный, и он был все время взвинчен, наэлектризован, он стал таким же деловым, как телефон. По вечерам он сидел за столом, напряженно согнувшись, быстро листая книги, быстро записывая что-то, виден был только затылок, поднятые плечи, груда книг и бумаг сбоку. Подойти к нему было страшно, как к оголенному проводу, — того и гляди дернет током.
— Не хочешь — не говори! — сказала я брату. Мы сидели за столом, я наливала ему суп, а даже звери в зоопарке добрее к тем, кто их кормит. — Не хочешь — не говори. Но должна же я знать, что происходит!
— Понимаешь, дорогая, мне поручили самостоятельную работу. Я создаю изоляционный лак. Для электрических машин. Не простой, а золотой. Гибкий, прочный, стойкий. Лучший из лучших.
— Ну, как идет работа?
— Читаю пока. До меня ведь тоже над этим думали. О смолах читаю. Ищу нужную мне смолу. И знаешь, — сказал брат доверительно, по-старому, — читаю чужое, а в голове свое появляется. Как спички — чиркаются об чужое и зажигаются!
Теперь я поняла — брат изменился, но телефон тут был ни при чем. Просто интересное дело захватило его целиком. А телефон доносил до нашей квартиры отголоски того мира, где проходила главная часть работы брата, и это было для меня ново.
Как-то вечером я собиралась позвонить подруге.
— Здравствуй, Иван Степанович! — раздалось в коридоре.
Да, поговоришь теперь! Я присела на стул в передней.
— Я решил залезть к ним в нутро! Ввести в самую молекулу неполярные группы! — Голос у брата был смелый, победоносный.
Теперь я думаю: может быть, в то время для начинающего химика это действительно было смелое решение? Но тогда меня только больно задел ликующий голос. Я ревновала.
— Фенол! — почти кричал брат. — Фенол я буду менять! Да, уверен! Как твое мнение, а? Да, по этому пути я и пойду!
Вот таким голосом во времена «нашей лаборатории» брат говорил о каком-нибудь удавшемся опыте и говорил со мной, а не с каким-то Иваном Степановичем. Я его даже и не видела ни разу.
— А почему к нам не придет твой Иван Степанович?
— Некогда, некогда ему по гостям ходить. У него вся жизнь расписана по минутам, и каждая минута дорого стоит — он все время выдает что-нибудь для человечества. А что он сможет выдать для человечества, разговаривая с тобой? Ровно ничего!
— А когда он висит по часу на телефоне, человечество от этого много получает?
— А как же? Иван Степанович удивительно умеет включаться в чужие задачи и помогать другим выдавать для человечества!
Однажды я пришла домой, мне открыл брат. Что-то он какой невеселый.
— Ты что такой?
— Завяз я, дорогая…
— В смоле?
Он не заметил моего «юмора» и сказал серьезно:
— В смоле. Пойдем поговорим?
«Как ликовать, так с Иваном Степановичем, а как горевать, так со мной!» — думала я, идя за братом в его комнатку.
Мы уселись на железную кровать, на синее покрывало, заткнули себе под бока подушки и начали разговаривать.
— Ты знаешь, я, кажется, «не оправдал надежды»!
— Ты?! Не может быть!
— Я сам в это полностью не верю…
— Ведь все шло хорошо.
— Да, я шел по верному пути. Шел и иду.
— Ну, так что же?
— Ну… видишь ли, существующие искусственные смолы слишком хрупки. Из них не сделаешь изоляционного материала…
— Существующие? А разве…
— Ты что думала, твой гениальный братец создает первую в мире искусственную смолу?
Я именно так и думала, но промолчала.
— Так вот, эти смолы надо сплавить с эластичными маслами, а они не сплавляются.
— Так что же делать?
Брат стал подробно рассказывать, что он думает сделать. Он увлекся и забыл, что перед ним не химик, а всего только друг химической мысли, да еще бывший. Я мало что поняла, но слово «фенол» меня задело. Оно было мне знакомо. И еще мелькало в его рассказе незнакомое слово «альдегид».
— …Я думал о них днем и ночью, я старался вчувствоваться в них, понять их возможное поведение, я думал о каждом в отдельности и об обоих вместе…
— А какие они, эти фенол и альдегид? — перебила я брата.
— Какие? Ну, альдегид — это просто бесцветная жидкость, пахнет формалином, а фенол — кристаллики, такие розоватые.
Я была уверена, что фенол красивее. Я представила себе россыпь розовых кристаллов, одни — бледные, другие — густо-розовые, и все блестят. Я определенно была на стороне фенола.
— И я решил изменить фенол.
— Конечно, фенол! — обрадовалась я.
— Ведь альдегид при соединении с фенолом в конечном счете не даст той прочности, которая мне нужна, хотя и легко растворится в масле. Но решить — это одно, а проверить на опыте — другое. Каждый опыт — это государственные денежки. Это тебе не «наша лаборатория»! Ничего лишнего позволить себе нельзя. С изменением фенола я управился быстро. А дальше, — брат выпустил сильную струю дыма и покачал головой, — дальше началась адская работа. Я и сейчас в этом аду. Надо найти тот самый один-единственный момент сочетания всех условий, при котором смола будет растворяться. Ухватить этот момент за тончайший, скользкий волосок! Когда ты в радиоприемнике ищешь какую-нибудь станцию… Чуть недовернешь — не то. Перевернешь — опять не то. А тут в сто, в тысячу раз сложнее. Там только движение, а у нас температура, время, катализаторы и многое другое, и такое, чего ты понять не можешь… Я вот думаю, может быть, исходные вещества недостаточно очищены?
Брат зажег погасшую папиросу. Я удивилась, какие у него сухие, морщинистые руки, а концы пальцев, самые подушечки — в беловатых пузырях. Хватал, наверное, горячую реторту голыми руками — ловил момент.
— А сегодня, знаешь, в конце дня, я еще сидел, а наш заведующий лабораторией, уже без халата, в своем сером, отчетливом таком костюме, промелькнул у меня за спиной и между прочим, на ходу сказал: «Все сидите? Еще нет результатов?» Прямо как пилой провел мне по затылку, меня даже в пот бросило, уши загорелись. И все, что он про меня говорил — способный малый, доведет до дела, — все рухнуло. Ведь я знаю, за каждой такой фразочкой чего-чего только нет. И то, что «поторопились доверить», и «время дорого», и «опыты стоят денег», и всякое такое. А Петька, тот как стрельнет глазом ему вслед — тоже понятно, теряет ко мне доверие.
— Петя?! Ну, уж это ты выдумываешь!
— Да, да, я это ясно почувствовал. Вот Катя, она все так же мне верит. Она только еще больше насупилась.
Я видела их обоих, Катю и Петю. Они провожали брата, а я подошла и застала всех троих у подъезда. Вид у них был озябший, должно быть, долго стояли. У Пети круглые, как пульки, глаза неотрывно смотрели на брата. Катя показалась мне настоящей ученой девочкой, в очках, с плоским лицом, крепко сжатыми губами, очень определенной и уверенной.
— И ведь я знаю, — говорил брат, — знаю, что на верной дороге, и Иван Степанович тоже говорит, а вот решающего «чуть-чуть» не могу найти. И все затягивается, и у меня могут каждый день отобрать эту работу…
— Ничего, ничего, — забормотала я, — все получится. Я читала про одну актрису, у нее совсем не было времени готовить роли, а она ложилась на диван, чтобы начать обдумывать, и говорила себе: «времени у меня много, много…»
— Она, конечно, была не дура, твоя актриса, но мне от этого не легче.
Телефон молчал. Брат приходил домой все позже и позже. Я ни о чем не спрашивала. А что спрашивать, когда и так все понятно?
Он принес мне ее в носовом платке.
Огляделся — где бы развернуть, зажег настольную лампу и положил сверток в кружочек света. Затем, подсучив рукава и держа каждый палец отдельно, как это делают фокусники, осторожно откинул уголки платка. Яркая, чистая, золотисто-янтарная, тяжело заколебалась в банке жирная жидкость. Я взглянула на брата. Лицо его было в тени, над лампой. Он смеялся с закрытым ртом.
— Она?
Он кивнул, открутил притертую пробку и поднес банку к моему носу.
— Хорошо она пахнет, скипидарцем. Только теперь уже не «она», а «он», лак. Вот смотри! — Брат поднес баночку к свету, и в ней зажглось маленькое янтарное солнце. — Ты ведь ничего не видишь, кроме ровной жидкости, тебе даже в голову не придет, сколько тут нового! Ты даже не отличишь этот лак от любого другого! А на самом-то деле! Чего-чего тут только нет! Сам не ожидал! Это хорошая, долговечная изоляция для электрических машин! — торжественно произнес брат. — С такой изоляцией они проработают вдвое дольше прежнего! И это сделал твой брат! — Он победно взглянул на меня и вдруг вздохнул. — А я, знаешь, до сих пор не верю, что вот он, лак, что он уже есть, и мне как-то не хватает этих мучений. Я сейчас как наш котенок — съел котлетку и нюхает, где она?
— Ну, а как это все было, самый момент?
— Да… как-то даже незаметно. Сидели, сидели, отупели совсем. Берем очередную пробу, а она возьми да и растворись в масле!
— Ну, а вы?
— Мы сейчас же проснулись, конечно, и отправили этот сплав в скипидар. Растворился.
— Вот обрадовались-то!
— Сперва разволновались очень. Ведь надо реакцию повторить, и может, ничего еще не выйдет, тогда начинай сначала! Катя, правда, хлопнула разок в ладоши, но Петя сказал: «Цыц!» И вот мы тщательнейшим образом, не дай бог чего упустить, записали все условия, при которых реакция получилась, на полволоска нельзя было ошибиться. Даже стали и сели, как стояли и сидели, когда у нас вышло. Дышать совсем перестали. Сделали. Получилось. Еще раз сделали. Опять получилось. И тогда мы начали повторять, повторять, повторять реакцию, как сумасшедшие, а потом набрались нахальства и стали потихоньку менять условия, двигать то в одну, то в другую сторону и четко определили границы их действия.
— А заведующий-то как?
— На другое утро подходит к нашему столу. Я сделал вид, что ничего не случилось, и небрежно так, даже не вставая, протянул ему баночку. Он посмотрел на свет, взболтнул: «Ну что ж, проверим — и на завод!»
Я очень была горда. И только один червячок меня точил: моего участия в этом деле не было ни на грош. Хоть бы одну колбочку я вымыла! Я тогда не знала, что пригожусь, и именно в этом деле.
— Ну, — сказала я брату, — с успешным окончанием тебя!
— С каким окончанием? Никакого окончания, вот теперь-то и начинается самое страшное!
— Что еще?
— А то, что из стеклянной реторты мы будем переводить все в заводской реактор, и тут все что хочешь может произойти! Одно дело — реторта, другое — завод!
И вот, когда все было подготовлено к тому, чтобы приступить к процессу на заводе, брат заболел.
— Разрешите, мы сами начнем! — умоляли Петя и Катя. — Мы ничего не упустим!
Брат уже стучал зубами от озноба, но думал, что это так, простуда, скоро пройдет.
— Начинайте, я подключусь…
А это была не простуда, а малярия, страшные качели. От раскаленного к ледяному, от огненно-красного к мертвенно-белому. Когда у брата был огненный период, он не лежал на постели ровно, он весь приподнимался, изгибался, лез куда-то, его бил озноб, лицо становилось как свекла, губы чернели.
— Пи-ить… — хрипел он, а иногда начинал всхлипывать: — Ох, как я люблю Танюшу! (Танюша — это наша невеста, та, беленькая).
И так несколько часов. Потом жар быстро начинал спадать, и передо мной лежал мертвенно-белый человек, словно вдавленный в постель. Приподнять его в это время не было никаких сил. Засыпал он сразу. Будто обмирал. Я пугалась, слушала дыхание, хватала пульс. Был пульс, слабенький, редкий. Было дыхание — чуть заметные теплые волны касались моей щеки.
Утром я приходила — брат лежал неподвижно и все время тихонько смеялся, не разжимая губ. Когда я снимала с него рубашку, вдребезги мокрую от пота, приходилось поднимать ему голову, каждую руку, и особенно трудно было поднимать спину.
— А не слишком ли здесь много костей и суставов для тебя одной? — шутил брат.
Ставили градусник.
— Держи хорошенько, смотри, чтобы не выпал, я через десять минут приду.
Прихожу — градусник у него в руке. Смеется.
— До тридцати пяти не доперло.
Малярия не отпускала брата. Приступы шли один за другим. Когда у него был жар, я сидела с ним до глубокой ночи.
Температура спала, он заснул, я пошла к себе. Надо будет до утра сменить ему рубашку, а то простудится. Как бы проснуться?
Мне приснился телефонный звонок. Брат вызывал меня телефонным звонком — что-то случилось. Во сне я проснулась, побежала в комнату к брату, но добежать не могла, не было сил, а телефон гремел и гремел.
Наконец я проснулась на самом деле. Действительно, звонил телефон. Я вскочила. Но что это? Такого я никогда не видела. Весь переулок за окном заполнен пышным малиновым туманом, вроде сбитых сливок с малиновым соком. Дома в нем плавают, как куски пирога. Малиновый туман лез во все окна — в кухонное, и в наше, и в узкое окошко брата. А телефон все звонил. Кто это с ума сошел, звонит на рассвете? Танюша. Больше некому. Я взяла трубку. Откуда-то из далекого далека, совсем с другого конца земли, плачущий голос спрашивал брата. Не поймешь, мужской или женский. Я грозно ощетинилась:
— Он болен, подойти не может!
— Мы знаем, нам очень, очень нужно!
— Он спит, он очень ослаб, подняться не может!
— Ради бога, ради бога, у нас процесс не идет, мы с завода…
— Сейчас. Попробую его разбудить.
Брат пробормотал:
— Не надо рубашку, я сухой.
— С завода звонят, у них процесс не идет!
Брат открыл глаза.
— Спроси, что дала последняя проба.
Плачущий голос начал мне говорить что-то…
— Что? Что? — надрывалась я. — Повторите!
Господи, хоть бы я знала, о чем речь, может, догадалась бы, но я должна была слышать каждую букву, чтобы передать брату все, что нужно, а слышимость была — из рук вон!
— Что? Что? — кричала я в отчаянье. — Подождите, он что-то хочет сказать.
— Что они там делают? Что делают? — бормотал он. — Я сейчас сам поднимусь и подойду к телефону.
— Не сходи с ума. Как же ты подойдешь?
— Не перечь, Головастикова, давай тащи меня!
Видимо, волнение придало ему какие-то силы.
Расстояние от его кровати до сундука под телефоном было буквально и точно два шага. Но я смотрела на эти два шага с ужасом — как мы их одолеем? Вот что я сделаю: поставлю по дороге к телефону два стула. Стоять и ходить он все равно не может, а со стула на стул я его как-нибудь перетащу.
— Подождите! — крикнула я в телефон. — Он сейчас подойдет.
Там благодарно пискнули.
Я обхватила брата двумя руками за плечи и посадила.
— Сидишь?
— Сижу!
Потом закутала спину и плечи одеялом.
— Берись за стул!
Неимоверно длинная, неимоверно костлявая рука вытянулась из-под одеяла и ухватилась за спинку стула. Нет, я была истинным другом химической мысли, иначе откуда бы взялись у меня силы? Как я переволокла это громадное сооружение из костей с кровати на стул, со стула на другой стул и, наконец, на сундук? По дороге мы два раза отдыхали. Я кричала в трубку:
— Мы уже сидим на стуле! Теперь уже скоро.
На другом конце провода слышались бодрые восклицания.
Во время переселения груда костей непрерывно хихикала. Наконец брат утвердился на сундуке. Я прислонила его к стене.
— Сидишь?
— Сижу!
Хорошенько укутала одеялом, ноги обернула шерстяным платком.
И вот я беру трубку и кричу:
— Сейчас он будет говорить! — И тут же плюхаюсь на стул рядом с сундуком. А малиновый туман стал еще гуще, и пухлое ярко-малиновое солнце показалось в конце переулка.
— Последнюю пробу мне дайте!
Ну и голосок! Как у новорожденного.
— Что же вы делаете? — Теперь он лаял, как щенок. — Кончайте нагревание, давайте охлаждение, быстро! Катя! Если вы не перестанете плакать, ваши дурацкие слезы попадут в куб и испортят реакцию! Берите последнюю пробу и звоните еще раз.
Я взяла из его мокрой руки трубку и повесила ее. Он сидел на сундуке, закрыв глаза и опустив руки. Опять звонок, даю ему трубку.
— Так, так, — говорит он более мирно. — Возьмите еще пробу и позвоните мне.
Мы опять отдыхали. А солнце тем временем прогнало туман, из малинового стало оранжевым и растопырило свои лучи по всему переулку. Звонок. Брат берет трубку сам.
— Хорошо, — говорит он спокойно. — А как же? Непременно должно было получиться! Идите домой!
Обратный путь от сундука до кровати с двумя пересадками прошел как-то легче. Брат, укутанный, лежит в постели. Нам обоим сейчас очень хорошо. Все плохое позади.
— Они тебя замучили?
— Ничего.
— Все-таки досадно, что у тебя такие неважные помощники!
— Головастикова! — крикнул брат довольно бодро. — Не сотрясай воздух! Катя с Петей? Золотые ребята!
— Но ты же сам… Они без тебя ничего не могут…
— Они много могут. А будут мочь еще больше. Они много хотят. И это главное. Кто их заставлял по вечерам торчать со мной в лаборатории? По ночам — на заводе? А что у них сегодня заело, так это и со мной могло случиться. — Брат закрыл глаза, он вдруг совсем ослаб. — Иди, иди, Болеутоляева!
Когда я встала со стула, он добавил: «Головастикова-Болеутоляева…» — и еще что-то, я не расслышала.
— Что? — наклонилась я к нему.
— Двойная фамилия, — прошептал он еле слышно и заснул. Мгновенно. Глубоко. Спокойно. И во сне улыбался закрытым ртом.
8
Разбитая фарфоровая чашка
Случай с фарфоровой чашкой был поворотным случаем в жизни моего брата. Произошел он в один из самых обыкновенных дней.
Накануне брат лег спать с очередной задачей в голове: они с Иваном Степановичем работали над массой для заполнения фарфоровых изоляторов. Засыпая, он вспомнил, как ему всегда нравились эти блестящие белые игрушки. Едешь в поезде, а они мелькают за окном… Нужно, чтобы металлические штыри, на которые насажены изоляторы, держались как мертвые. Масса для заполнения изоляторов должна хорошо прилипать к фарфору, должна стойко переносить холод, жару, дождь, ветер, должна… Много чего должна.
А утром, так же как и вчера и позавчера, шумело за окном, и все так же брат, выйдя в переулок, схватился за поручни трамвая, и промелькнула за окном надоевшая керосиновая лавка, и трамвай знакомо-знакомо запел и заскрежетал на повороте…
И в вестибюле института брат, не глядя, поднял руку, чтобы повесить номерок, и кивнул, как всегда, седой вахтерше у столика, и, шагая по коридору, подумал, что вот он, живой человек, вписан в строго определенные рамки каждого дня, и все, что он сейчас увидит в лаборатории, он знает наизусть, и все ему надоело.
Буркнув «добрый день» лаборантке, которая возилась за шкафами, не глядя по сторонам, он прошел прямо к своим рыбам. Они плескались в аквариуме у окна. Рабочий стол, нагромождение приборов, вся сложность работы были за спиной, здесь брат обычно отдыхал, глядя на воду, движение рыбок, на молодой тополь и клочок неба за окном. Вуалехвост плавно пошевеливал своим шлейфом, а маленькой пятнистой рыбешке почему-то нравилось взрывать носом песок, отчего со дна поднимались облачка мути.
Брат вынул из кармана пакетик, насыпал рыбкам сухой дафнии и смотрел, как они живо-живо подскочили к корму, даже вода закипела. Вот обжоры! Нет, рыбки ему не надоели.
Он присел к лабораторному столу. Перед ним стояла чашка с той массой, которую он приготовил вчера. Масса подсохла и стала вогнутой. Нехорошо — усадка. Попробуем сделать еще вариант. Он поискал глазами чистую чашку. Никому нет дела, ничего не вымоют, не приготовят. Но сейчас не хотелось заводиться с лаборанткой. Вообще разговаривать не хотелось — такое было настроение. «Ладно, очищу эту чашку сам». И он попробовал шпателем отделить массу от края чашки. Да, что касается прилипания — тут все в порядке. Вот схватилось! Никак не отдерешь. Он ковырял все сильнее… Да, но она совсем не отдирается. Совсем! Постой, постой, тут что-то есть. Он посидел, подышал. Ну-ка еще разик! И набросился на массу, во что бы то ни стало стараясь всадить шпатель между нею и фарфоровой чашкой. Он еще неясно понимал, зачем это ему нужно, только чувствовал, что, если шпатель, как бы он ни старался, так и не войдет, это будет хорошо. Очень хорошо. Он яростно долбил шпателем массу, рубашка на нем взмокла, волосы растрепались, он бил, бил, наконец, схватил чашку, высоко поднял над головой и ахнул об пол.
— Ой! — вскрикнула лаборантка за шкафами. — С вами невозможно работать, разрыв сердца получишь!
Но брат не слышал. Он сидел на корточках и разглядывал чашку. Она разбилась на куски, но ни один кусок не отскочил. Чашка была как крутое яйцо, которое хорошенько побили, прежде чем облупить. Оно разбито, но все куски держатся на пленочке. «И тут, — радовался брат, — и тут тоже держатся». Он сел с чашкой на табурет, попробовал отковырнуть отдельные осколки. Они не отковыривались. Масса не просто прилипла к фарфору, она с ним срослась! Брат сидел на табурете, держа чашку в ладони, обхватив ее всеми пальцами, держал так, как будто это была величайшая драгоценность. Он вдруг перестал думать, а только разглядывал рисунок трещин на фарфоровой чашке и улыбался с закрытым ртом. Ему хотелось оттянуть прекрасный момент, которым он еще успеет насладиться. Тот момент, когда он ясно поймет, что произошло.
Он подошел с чашкой к рыбкам. Они так и стрельнули к нему навстречу и уперли свои носы в стекло.
— Вы думаете что? Дафния? Нет, уважаемые, это вам не дафния. Это получше дафнии. Это клей! Вам такого не понять. Вы можете только посочувствовать.
Рыбки сочувствовали, выпучив на него глаза.
Вошел Иван Степанович.
— Ну, как масса?
Брат молча протянул ему чашку.
— Что это ты ее раскокал? Да, прилипание отличное!
— Сверхотличное! — сказал брат, отбирая чашку. — Это клей!
— Клей? Ты думаешь? Давай проверим!
— Марь Васильна! — гаркнул брат. — Чистые чашки есть?
— Ну, есть, конечно. Вот они стоят. Вы просто не заметили. И нечего было швыряться.
— И очень хорошо, что не заметил! И надо было швыряться!
Они с Иваном Степановичем состряпали новую порцию смоляной массы.
Брат взял две пластинки, намазал каждую на две трети клейкой массой, сложил намазанные части, оставив свободными чистые концы. Сдавил зажимом.
— Как по-твоему, — спросил он Ивана Степановича, — сколько нужно ждать, чтобы схватилось?
— А кто его знает, подольше надо подождать, другим чем-нибудь пока заняться. — Иван Степанович ушел, а брат сел, положил руки на колени и стал неотрывно смотреть на зажатые пластинки. Ничем другим заниматься было невозможно. И когда уже совсем не стало терпения, не проверив, сколько прошло времени, он схватил фарфоровые пластинки и понес к машине, которая определяет прочность соединения. Могучие лапы стиснули концы пластинок. Брат поворачивал ручку, стрелка лезла по шкале, показывая все большее напряжение.
Иван Степанович вошел в тот момент, когда брат с силой крутанул ручку, пластинки треснули, раскололись, но склеенные места остались целы.
— Вот! Видал?
— Ну что ж? — сказал Иван Степанович спокойно. — Вот и народился новый фарфоровый клей. Поздравляю!
Иван Степанович ушел, а брат посмотрел ему вслед довольно зло: жирком, жирком обрастаешь, ничто тебя уже не волнует…
А потом вышел в коридор, покурил, охладился малость и подумал: «А что такого особенного случилось? Да ничего. Еще один клей для фарфора».
И опять дни пошли своим чередом, масса для заполнения изоляторов получилась очень удачная, брат занимался новой работой… Нет, не все было как прежде. Удар фарфоровой чашки об пол и наступившая затем тишина все стояли в ушах брата, и он все думал об этом ударе и трещинах на чашке. Когда Марья Васильевна хотела выкинуть разбитую чашку, брат не дал. Сунул ее в портфель и принес домой. Разбитая, но целая фарфоровая чашка лежала теперь у него на столе и тревожила его. Он брал ее в руки и снова и снова рассматривал и любовался рисунком трещин.
— Ни в коем случае не выкидывай! — приказал мне брат. — Я еще подумаю над ней. Тут что важно? Сила прилипания. Сила. Понимаешь? Кто сказал, что этот клей может соединять только фарфор? Никто об этом и не заикался. Так почему же не попробовать пойти дальше? Выжать из этой полимерной композиции все, что она может дать?
Брату не терпелось протянуть свою длинную руку за пределы обычного и пощупать: а что там есть?
Однажды он остался вечером в лаборатории, состряпал «ту самую» полимерную композицию и попробовал склеивать кусочки железа. Одни склеивались, но недостаточно прочно, другие совсем не склеивались. Он изменял свою композицию, совмещая различные полимеры. Результаты были не очень убедительные.
Опять по вечерам брат сидел над книгами и журналами. Сведений о клеящих свойствах полимеров было немного. Разные авторы по-разному рассматривали вопрос. Многое перекликалось с его прежними работами. Надо было искать. Надо было разобраться в этой сложной, иногда противоречивой картине…
Как-то в воскресенье, наработавшись до одури, брат вышел освежить голову в тот самый парк, где мальчиком играл когда-то на трубе на каруселях. Каруселей больше не было, беседки, в которой по вечерам играл военный оркестр, тоже. Зато деревья разрослись невероятно. С могучим шумом они качались над головой. Брат ушел с круга, где на песочке играли дети, и в темной аллее сел на скамейку. Он посмотрел вокруг, послушал шум листвы, втянул сыроватый воздух и спросил себя: а что произошло в его жизни? Вот что — он по уши сидит в работе над новым клеем. И результаты этой работы должны быть огромными. Сила нового клея будет такова, что она, соединит тяжелые части больших металлических конструкций, превратит их в монолит. И тогда не нужно будет дырявить металл для болтов и заклепок, ослаблять его сварными швами…
Он закрыл глаза, мысленно провел рукой по склеенной из тысячи частей машине и ясно ощутил под пальцами плавные переходы формы. Совсем другие будут машины. Единый, ничем не поврежденный, здоровый организм! А уж как долго будут жить!
Он знал теперь, что это его главная задача, и, может быть, на многие годы. И вдруг он понял всю грандиозность, всю трудность своей задачи — и испугался. Но уже ничего нельзя было поделать, уже поезд шел полным ходом по этим рельсам, уже щелкнула стрелка, и теперь он шел по своему собственному пути.
А в это время теплая темная туча опустилась на широкие вершины деревьев, и листва перестала шуметь.
Брату хорошо было в полутьме, в тишине под этой теплой тучей, хорошо и твердо ему было еще оттого, что он на этом трудном пути, конца которому не видно.
Туча все опускалась, опускалась и вдруг осыпала его лицо и плечи мелкими капельками.
9
Сквозь заросли в непогоду
— За психического принимают! — смеялся брат. Он рассказал мне, как однажды начал в метро набрасывать формулы пальцем в воздухе. Они так и оставались у него стоять на фоне темного окна, словно записанные мелом на черной доске. Он пальцем вычеркивал, менял…
— Кому это вы подаете сигналы? — услышал он вдруг. Формулы мигом пропали, и в темном стекле он увидел рядом с собой лукавое женское лицо.
— Да так, — сказал он, — одной молодой ведьме. Она летит за поездом. Вон ее черные космы извиваются! — и показал на целые пряди тонких труб, которые проносились за окном.
— А ты не мог бы этим клеем заниматься в институте?
— Мог бы, конечно… (Вздох.) Только пока не стоит. Во-первых, сразу его бы не поставили в план. У нас на очереди другая большая работа. Во-вторых, план — это значит сроки. А какие могут быть сроки? От двух недель до бесконечности. Вот найду верный путь, тогда буду добиваться включения в план. А по заявке — у меня еще нет такого имени, чтобы по заявке меня включили в план.
Танюша всегда опаздывала. Объяснять опоздание она начинала еще на лестнице, и, когда брат открывал ей, объяснения были в самом разгаре. Танюша быстро-быстро говорила что-то неразборчивое, потом выпаливала — раз! — и загибала палец. При этом ракетки и мячи сыпались на пол. Затем еще тирада, и — два! — она загибала второй палец. И наконец — три!
Например: «Не расписаться, не подписаться, неприличные ногти, в парикмахерской очередь — раз!.. Отдавала перетягивать ракетку, мастер сказал, что будет готова, а было не готово — два!» И так далее.
Танюша жила теперь у нас, и синяя комнатка опять изменилась. Теперь там стоял полированный шкафчик, висел белый халат с тюльпанами и прыгали шерстяные теннисные мячи. Танюша училась в университете на физмате и отлично считала до трех. Брат тоже научился загибать пальцы и считать до трех.
Работа в институте — раз! Работа над силовым клеем — два! Танюша со всеми ее очаровательными штучками — три! Были еще «четыре» и «пять», но уже менее существенные.
Танюша — это было для него ново. Вот он сидит занимается, а она в кресле у него за спиной. И ему хорошо, спокойно. Пусть себе дышит! Он может с ней и не разговаривать. Но Танюша не может с ним не разговаривать. Надо рассказать про зачеты, про сестер, про маму… И он должен рассказать ей про то, что делает. Почему, например, он так долго говорит по телефону с Иваном Степановичем и у него при этом такое радостное лицо? Почему смотрит не на Танюшу, а в угол и очень доволен? Почему все говорит, говорит…
Однажды она сказала:
— А чем это так хороши твои полимеры?
Они присели у тонконогого столика, и брат исписал формулами, черточками, стрелками два листа бумаги, объясняя разницу между мономерами и полимерами. С карандашом на весу он посмотрел на Танюшу — понимает ли? Ведь она математик, должна уметь отвлеченно мыслить.
Танюша была задумчива.
— Какие они милые! — сказала она вдруг.
— Кто — милые? — опешил брат.
— Твои… полимеры.
— Но почему же они милые?
— Они такие способные, деятельные, такие щедрые… Из них можно столько всего сделать… — Она очень одобрила полимеры и осталась довольна разговором. Танюша всегда с охотой раскрывалась навстречу всему хорошему.
— Что ты такая веселая? — спрашивал ее брат.
— Я просто ехала в автобусе, просто смотрела в окно, и мне было так хорошо, так весело!
Однажды она заявила:
— Я заработала сто рублей!
— Как это? — Брат поднял брови.
— У меня в сумочке были деньги: на портниху — раз, на плату за ученье — два, за электричество — три! А в комиссионном были туфли… Такие… — Танюша закрыла глаза.
— Ты их купила? Как же ты заработала?
— Стояла, стояла и… не купила, и сто рублей остались в сумочке. Значит, я их заработала! — ликовала Танюша.
Иван Степанович так ни разу и не пришел к нам пить чай. Он так и остался для нашей семьи (исключая брата) лицом мифическим, телефонным. Зато Шурка Дымский заходил… за мной. И уводил меня в кино и на концерты. Что ж, я ходила. Мне даже льстило, что мой кавалер не какой-нибудь мальчишка-чертежник из нашей мастерской, а молодой ученый с именем. Да и ни один мальчишка-чертежник за мной не ухаживал, так что выбирать не приходилось.
— Нина дома? — раздавалось в передней. Шурка так старался говорить басом, что у него получалось: «Нына дома?»
Когда он в первый раз взял меня под руку, я почувствовала на своей руке словно чугунное ядро. Ну и бицепсы у Шурки! Брат рассказывал, как он с детства упражнялся с гантелями. Мне показалось, что я прикована к Шурке, к его тяжелому, устойчивому корпусу. Шагая рядом, он бил по земле крепкими ногами, а я диковато поглядывала на него сбоку. Мне хотелось вырваться от Шурки, и в то же время рядом с ним я чувствовала себя увереннее, даже значительнее. Насчет пьес и кинокартин у Шурки всегда было свое мнение. Правильное. Я с ним соглашалась. Но вот мы приходим на концерт. Я слушаю предконцертную мешанину звуков с обрывками мелодий, шум движения людей, гляжу на серебряные стройные трубы органа, на медовую желтизну пюпитров, занавесей, паркета… и мне как-то по-особому хорошо. Появился дирижер. Минута тишины, всегда немного страшная, — и начинается. Шурка не участвовал во всем этом. Музыку слушала я одна. Это было грустно. Мне хотелось, чтобы Шурка слушал, чтобы его проняло, чтобы у него заблестели глаза, размягчилось лицо. Мне жалко было Шурку, как бывает жалко глухого. Мне нужно было подружиться с ним, раз уж мы все равно ходим вместе в театр и на концерты. Но Шурка был для меня закрыт, я в нем ничего не понимала.
И все-таки он уже стал для меня — пусть немного — своим. С ним было уютно и надежно. Только зачем мне эта преждевременная устроенность? А жизнь? Я еще ничего не видела, ничего не сделала. И я не понимала себя.
В день моего рожденья Шурка принес мне книгу, которую написал он, Александр Дымский, создал, так сказать! Лицо у него было торжественное, губы немного дергались от смущенья. Книга была завернута в бумагу, а еще он протянул мне картонную трубу. Я, конечно, первым делом заглянула в трубу. Ух, каким густым, прекрасным запахом ударило оттуда! Я запустила в нее руку, укололась и вытащила огромный букет роз, белых и красных. Почему же он запихнул их в трубу? Наверное, трудно было запихивать? Понятно! Не мог же он, А. Д., идти по улице с букетом!
Книгу я развернула только на другое утро. Было воскресенье, и я на свободе делала смотр своим подаркам.
Серая обложка. Черными буквами наверху — «А. Дымский». Внизу — «Технология производства…» не помню уж, какого производства.
Раскрыла книгу, и мне стало жарко. На первом листе крупными синими буквами было написано: «Моей Нине». Да что же это? Еще никто ничего не сказал, и вдруг — моей? Как же теперь быть?
— Дорогая, нет ли у тебя мягкой резинки? — Брат неслышно вошел в тапочках. — О, что это? Шуркина книга? — Он взял ее и стал с жадностью рассматривать. Переворачивал, хлопал по обложке. — Да-а-а… — говорил он восхищенно. — Да-а-а! Ты мне дай почитать, дорогая. Все-таки Дымский — потомственный химик, и отец его, и дед… да и сам он — голова! В большие ученые выходит твой Шурка!
Я так обрадовалась! Даже не обиделась на «твой». Пока брат говорил, Шурка рос и рос в моих глазах, я видела его сильную, главную сторону, а мне сейчас просто необходимо было гордиться Шуркой. Мне стало весело.
— Ты что же вчера так рано ушел? Заглотал кусок торта и удалился? Танюша без тебя такое выдавала!
— А что она рассказывала? — встревожился брат.
— Много… И про бабушку Марью Ивановну!
— Как? И про бабушку тоже?
— Да, про то, как бабушка ехала в автобусе…
— Довольно, я это все слыхал сто раз! — Брат нахмурился.
— Да ты не сердись, у нее это так симпатично получается!
Брат улыбнулся.
— Дорвалась, значит. А я вчера дорвался до работы без ее непосредственного участия.
— Что-то я замечаю, что ты все стараешься отделаться от ее непосредственного участия. А она все обижается и уезжает к маме.
— Ты думаешь, мне не хочется с ней побыть? — Брат горестно сдвинул брови. — Но это меня отвлекает, а мне сейчас нельзя отвлекаться. Мне ведь тоже нравится, когда она что-нибудь рассказывает, а я ее обрываю.
Я по себе знала, как он умеет оборвать: «Короче, короче…» Обидно обрывает. Но я закалена с детства, и к тому же сестра. Танюше труднее.
— Ты эгоист! Ты только и думаешь о том, отвлекает она тебя или нет, о ней ты совсем не думаешь!
— Иногда вовсе забываю! — Он поднял брови. — Никак еще не привыкну к семейной жизни.
— Ты только вот что учти: ей трудно до конца понять, что такое для тебя твоя работа, и она совсем еще девочка, и ей все от тебя обидно, и ты должен чувствовать за нее ответственность.
— Да-а-а, — вздыхает брат, окутываясь табачным дымом, — да-а-а!
— Ну ладно, как у тебя двигается-то?
— Двигается, только… на месте. А тут еще вызывают меня к начальству и поручают одну интересную и срочную работу.
— Так это здорово!
— Да, здорово, но клеем заниматься будет еще труднее.
— Да брось ты этот клей, занимайся пока институтской работой, она тебя поднимет.
— Да, — кивнул он кротко, — поднимет. Это ты права, дорогая. Кстати, ее тоже не очень просто сделать. И конечно, клей надо бы пока оставить…
Брат сидел напротив меня, худой, угловатый, с красными веками, локтем упираясь в коленку, в сухих серых пальцах дымила папироса. Я следила за улетающим дымом и понимала, что это не ответ, что я его не уговорила.
— …Но тут есть одно обстоятельство, не знаю, поймешь ли ты…
— Какое?
— А такое, что я уже не могу из этого вылезти. Ведь я хожу где-то близко, вот-вот… и выйду на верный путь. Ты знаешь, — он посмотрел на меня веселее, — ведь я «по дороге» почти два клея изобрел! Да! На один даже авторское свидетельство получил. Но это не то. А то, что мне нужно, рядом, здесь, но я еще не вижу, я брожу ощупью, как слепой. И это так мучительно! — Он затолкал папиросу в пепельницу. — Я прозреть хочу! Мне видеть надо! И тогда я все успею. Все сделаю. И свой клей и институтскую работу. И с Танюшей буду каждый вечер в кино под ручку ходить. А теперь давай мне Шуркину книгу, я ее полистаю. Правда, это не о клеях, но все равно интересно.
— А… Шурка тоже клеями занимается?
— Да, и как раз ищет клей вроде моего!
— Как? И Шурка?
— Что ты так всполошилась-то? И Шурка и еще немало химиков во всем мире… Кто-нибудь да найдет.
Мне было безразлично, кто там что ищет во всем мире, но мой брат и Шурка… Теперь мне придется принять чью-то сторону. Вот весы. На одной чашке — брат, продолжение меня самой, только более совершенное, брат, которому я верю с детства. На другой — Шурка. Мне сейчас просто до зарезу нужно гордиться Шуркой! Что же делать?
— Значит, у вас соревнование, что ли?
— Ну, нет. Соревноваться мне с А. Дымским не приходится. У него — вот! — Брат постучал желтым ногтем по книге. — Имя! Его работа в плане института, ну, и все, что из этого следует: материалы, помощники, лаборатория… Он ищет свой клей в рабочие часы, а свои вечера он может посвящать, — легкий поклон в мою сторону, — искусству.
Мне стало не по себе. Хожу с Шуркой по театрам, а брат мучается.
Я все время думала о брате и о Шурке. И дома, и на работе за чертежами, и в трамвае… И додумалась вот до чего: пусть они изобретают силовой клей вместе! Шурка, может быть, сильней в теории, зато брат «на выдумки хитер». Пусть, пусть объединятся, я их уговорю.
А какие у них были сейчас взаимоотношения? Да никаких. Брат очень уважал Шурку — как он листал его книгу! — и в то же время подсмеивался над ним. Когда вечером раздавался звонок и брат шел открывать, по дороге он оборачивался и, выдвинув нижнюю челюсть, скроив «Шуркино» лицо, говорил «Шуркиным» баском: «Нына дома?» И тут же входил настоящий Шурка и точно так же говорил: «Нына дома?» А брат бросался его обнимать с криком: «Дымс-кий! Дымога-ров!» Это невозможно было вытерпеть. Я хватала сумочку и почти выталкивала Шурку на лестницу. Вот и все взаимоотношения.
Надо было их свести. Чтоб поговорили. Однажды я предложила Шурке вместо кино попить у нас чаю. Он пришел, отглаженный, в галстуке. Брат притащился из своей комнаты в тапочках, фуфайке с растянутым воротом, весь в дыму.
Наливая чай, раскладывая варенье, я вслушивалась в то, о чем они говорили, и пока ничего не понимала. Ясно одно — они противники. Вроде шахматистов или боксеров. Стараются отгадать замыслы друг друга и не выдать свои. Но скоро обоим стало до того интересно разговаривать, что брат сказал:
— Пойдем ко мне, я покажу тебе кое-какие наметки.
Шурка вскочил, забыв меня поблагодарить, и они устремились в комнату брата как единомышленники.
Я посидела немного за столом и покивала самой себе — как будто может получиться. Потом встала и пошла к двери брата. Даже присела на сундук, как в детстве. Нет, теперь я взрослая, меня никто не выгонит. Не выгнали. Даже не заметили, как я вошла.
Шурка сидел на стуле, крепкий, несокрушимый, выставив чугунное плечо и глядя поверх плеча на брата.
А тот серый, весь в сером дыму, сидя с высоко поднятыми коленями на своей провисшей, как гамак, кровати, смотрел на Шурку снизу, наморщив лоб.
— Мне интересно найти свои, новые материалы, сделать свой, целиком отечественный клей!
«Конечно, отечественный, — думала я, стараясь быть честной и становясь на сторону Шурки. — А то какой же? Не преклоняться же перед заграницей?»
Брат медленно помотал из стороны в сторону головой.
— Мне не кажется целесообразным открывать уже открытые америки. Если я с умом использую материалы, изобретенные и не у нас, и создам выдающийся по своим качествам продукт, то почему бы мне этого не сделать? Зачем мне пренебрегать опытом мировой науки?
— Я не собираюсь пренебрегать опытом мировой науки. Мне известно, что есть сейчас в мире. Но меня интересует работа над своим, целиком своим клеем, и это в моих силах Зачем мне пользоваться чем-то готовым? — Шурка сверху вниз посмотрел на брата, словно он, Шурка, твердо стоял обеими ногами на земле, а брат бултыхался перед ним в каких-то сомнительных волнах, и куда его вынесут эти волны — неизвестно.
Ну, а брат?
Он знал свое, и Шурка был ему не указ.
— Я понимаю, у тебя задача скорей теоретическая, исследовательская. А мы, практики, грубые ребята, нам бы скорее дорваться до самого продукта, чтобы было что в руках подержать, в хозяйство запустить. И на мировую науку я смотрю как на огромную кладовую, где и твои труды, и мои труды, и еще множество трудов наших и зарубежных ученых. И я не хочу ограничивать себя. Я хочу, если мне это нужно, брать оттуда самое лучшее. То, что может дать моему клею самые высокие качества.
Я сейчас же переметнулась на сторону грубых ребят, практиков.
— Поиск! — продолжал брат. — Это, конечно, самое захватывающее. Но я могу увлекаться только тогда, когда четко вижу конечный продукт и то, как он будет работать.
— Но ведь и у меня поиск, — улыбнулся Шурка, — тоже должен увенчаться клеем! Я работаю в отраслевом институте! Только путь у меня более интересный, и я уверен, что «по дороге» открою какие-то новые закономерности.
Но ведь брат «по дороге» уже изобрел новый клей, даже получил авторское свидетельство! Что же он молчит!
Я поглядела на Шурку, так уверенно блестевшего приглаженными волосами и очками, и на брата, который совсем утонул в дыму. Наверное, брат просто стесняется поставить рядом с Шуркиными закономерностями свои клеи. Считает их мелочью. Нет, не объединятся они. И думать нечего.
А мне как быть? На чью сторону становиться? Вот что: пусть они сделают каждый свой клей. У кого лучше выйдет, за того и буду «болеть». А когда-то они еще сделают? И я совершенно успокоилась.
Вскоре у брата наметились какие-то сдвиги, как я поняла из его телефонных разговоров с Иваном Степановичем.
Мы с Шуркой отправились смотреть новую пьесу «Не сдадимся». Шурка не ручался за нее. Он шутил: «Может быть, мы уже после первого действия сдадимся и уйдем!»
Днем сегодня капало, а к вечеру застыло. Деревья стояли по колено в черноватых, с антрацитными искрами сугробах и блестели обледенелыми ветками. Жгучий, острый ветер тревожно, порывами налетал из темноты.
Мы до конца досмотрели пьесу о том, как люди попали на льдину и как они там героически себя вели. А я не видела людей. По сцене катались какие-то меховые узлы, от картонных льдин пахло пылью.
Вышли из театра, и вдруг я увидела снег. Он был такой неожиданный, и свежий, и никому не нужный весной. Как белые тени, падали пушистые, легкие хлопья, розовея у фонарей. Они качаясь, летели прямо к своей погибели. Они исчезали, коснувшись тротуара, а под ногами становилось все мокрее. Весенний снег, беззащитный и смелый. Обреченный и веселый. Мы шли, а нежные хлопья садились к нам на плечи, касались щек.
Шурка, энергично отмахиваясь от снега, развивал свои суждения о пьесе. Он не обращал внимания на снег, я не обращала внимания на Шурку.
Мы подошли к подъезду, тут мы обычно прощались. Но Шурка, продолжая говорить, вошел вместе со мною и сразу замолчал. Под лестницей была темнота и каменный сырой холод. Желтый свет лампочки высоко под потолком не доходил до нас. Я скорее сунула Шурке руку, чтобы он ушел. И вдруг он как-то согнулся, торопливо забормотал: «Какие руки холодные!» И стал целовать мне руку. Я тут же выдернула ее, он откинулся к стене, с минуту стоял, глядя на меня, потом заметил, что рукав у него запачкался об стену, и начал оттирать его другим рукавом. И этот жест показался мне удивительно противным. Ничего не сказав, я взбежала вверх по лестнице. Мне открыла мама, она сейчас же легла и заснула, а я села у стола и сдавила голову руками. Нет! Не будет этого! И в первый раз спросила себя: «Чего этого?» Я не выйду замуж за Шурку. Нет, не выйду! И все, что накапливалось у меня внутри против Шурки, вдруг выплеснулось наружу. Он не по мне. Он не понимает, не любит того, что люблю и понимаю я. Меня он тоже не понимает. Зачем мне такой?
Я уставилась в черную щель между занавеской и окном. Там по черной подмороженной улице топал Шурка. Он уходил из моей жизни. Вот дойдет до угла — и нет его. И если мы потом увидимся, он не будет иметь ко мне никакого отношения. «Мой» Шурка ушел.
И я сидела, глядя на черную щель, ни о чем не думая, только мне было нехорошо. Пусто и нехорошо.
Вдруг крики, плач, что-то упало. Некоторое время я слышала отчаянный плачущий голосок Танюши, уговаривающий голос брата, потом все стихло. Но вот торопливый топоток в передней, хлопнула входная дверь.
Этот номер мне знаком. Танюша нарочно хлопает дверью — пусть «он» думает, что Танюша уехала к маме, а она спрячется в гардеробе.
Д-р-р! — звонок в дверь. Да кто же это может быть? Три часа ночи. Открываю дверь — что такое? Это мне снится? Вхожу я сама в своей коричневой шубе и шляпе, в сопровождении двух милицейских чинов.
— Здравствуйте, это ваша гражданка? — спрашивает дородный участковый. Он хорошо знает нашу семью. Теперь я вижу — из-под моей шляпы торчит острый Танюшин носик.
— Наша! — отвечаю я. — Где вы ее нашли? — А сама смотрю на блестящие пуговицы милицейских и не понимаю, почему они ее привели.
И тут все трое заговорили почти одновременно. Участковый — мягким, назидательным тенорком: «Вижу, гражданочка в вашей одежде под окнами ходит, сперва думал — вы, нет, не вы». Танюша звонко, слегка надтреснуто! «Мы поссорились, я сказала, что уеду к маме, он спрятал мою шубу, мои ботики, я надела шубу его сестры…» Постовой басом, засунув руки за ремень: «Какое детство, какое детство!» Участковый: «А уж ночь-полночь, думаю — что это она тут делает в вашей шубе?»
Танюша: «Я ходила под окном, смотрела, погаснет у него свет или не погаснет?»
Постовой: «Какое детство!»
Участковый и постовой солидно простились, приложив руки к козырькам, а Танюша села плакать. Она сдвинула мою шляпу на затылок, слезы быстро капали на мою шубу. Она была вся розовая, распухшая, и правда «детство». «Он даже не вышел из комнаты… Пусть он бросит этот клей, а то я уеду к маме и больше не верну-усь. Никто с него не требует, делал бы институтскую работу…»
Я начинаю говорить Танюше, как это ему важно, как интересно, а сама вижу одно: она его любит, а он ее обижает, и сама же на него сержусь.
Рано утром я встала открыть молочнице. Что это большое, светлое лежит на низком широком шкафчике в передней? Батюшки мои — Танюша! Я взяла молоко, заперла дверь и стояла в полумраке, не зная, разбудить Танюшу или нет. Может быть, позвать брата?
Только я о нем подумала, как он сам медленными шагами вышел из темноты коридора. Я хотела заговорить о Танюше и… ничего не сказала. Он был спокойный, слишком спокойный, и это меня встревожило. Какой-то пустой. Словно освободился от чего-то, но радости эта свобода не дала. Словно бежал за чем-то, вот вы увидите, вот я вам принесу, а вернулся ни с чем, с пустыми руками. Да, пустые руки висели вдоль тела.
— Я шел по неверному пути.
«Да, да», — закивала я. Он назвал словами то, что я уже почувствовала. Только странно — он сказал это с каким-то даже удовлетворением.
— Хорошего мало! — вздохнула я.
— А все-таки есть.
— Что же?
— То, что этот путь уже исключается.
До чего же весело! Человек работал год впустую, чтобы прийти к такому выводу!
— А институтская работа?
Брат махнул рукой — сделают без меня.
Так. Значит, прозевал.
Танюша на шкафчике шевельнулась, у нее свесилась рука.
— Еще свалится, надо разбудить.
Я ушла к себе, села на кровать. Ну и ночка! Я потеряла Шурку, брат зашел в тупик, Танюша чуть не уехала к маме.
Шурка — бог с ним. Так надо. А брат выберется. Он сейчас же, не откладывая, начнет выбираться. Он будет лезть и лезть, он будет изо всех сил продираться сквозь заросли в любую непогоду.
Хорошо, что я это говорила самой себе, а не вслух. Он бы мне показал «заросли», он бы мне выдал «непогоду»!
10
В нашей старой кухне
Этот случай связан с Володей Крахмальниковым. Помириться с тем, что человека нет, нельзя. Пустота, которую оставил ушедший человек, всегда с тобой. Но бывает, ты можешь на время увидеть человека, мысленно побыть с ним.
…Я иду по кромке леса, рядом с шоссе, верчу в пальцах бусы и сочиняю стихи. Навстречу, подпрыгивая на корнях, — велосипед.
Блеснула бритая голова, мелькнула синяя рубашка — Володя. Он сошел с велосипеда, и велосипед сразу стал рядом с ним маленьким, детским — такой Володя был большой, громоздкий, даже немного тучноватый. Вот он стоит предо мной в просторной рубашке с карманами на груди, в брюках, прихваченных у щиколотки обручами. Голова у Володи удивительно умной, красивой формы, с высоким лбом и крутым, выпуклым затылком. Володя смотрит на меня своими серыми, хорошими, понимающими глазами, а нижняя губа у него всегда немного выпячена, насмешливо и добродушно. Я знаю, он меня щадить не будет, и все-таки читаю ему стихи:
— Что? Паутинки? М-да!.. Так где они тянулись? В голове? А глаза у тебя отчего устали?
Мы оба захохотали. Мне нисколько не было обидно. Наоборот. Я даже рада была, что Володя словно схватил меня за шиворот и приподнял, и я сразу увидела, какая чепуха мои паутинки и усталые глаза.
…Володя, постой, не уходи…
Вот он опять. Мы сидим втроем на диване: Володя, брат и я. Слушаем «Кампанеллу» Листа в исполнении Карло Цекки. После Цекки мне не хочется слушать эту вещь ни в чьем другом исполнении. Ни у кого так ярко, сильно не звучат эти колокольчики. И мы все трое на диване — одно. И это одно — втрое сильнее, втрое шире и втрое лучше каждого из нас. И колокольчики бьются и гремят в нас втрое прекраснее…
…А вот мы в нашей старой кухне. Окно без занавесок. Стол. На нем растрескавшаяся, протертая клеенка. Настольная лампа вроде крепконогой зеленой поганки. Три лампы. Одна настоящая и две отраженные в двойном стекле. Третья лампа, самая тусклая, словно уходит туда, на темный двор, где в пролете между домами чернеет тополь, наш огромный тополь, под которым мы играли в детстве. Сейчас его почти не видно в темноте.
Володя сидит по правую сторону стола, возле двери. Он немного съехал со стула, уперся подбородком в грудь и вытянул длинные ноги.
Брат — на табурете, слева возле плиты, сидит согнувшись и уперев руки в колени. Я — на широкой деревянной лавке, поджав под себя ногу, ворочаю крючком и считаю петли.
Володя был вызван к нам на торжество. Вот только недавно, когда уже все легли спать, брат окончательно убедился, что два вещества, о которых он думал, — это то, что ему нужно. Именно из них, и по-видимому только из них, может получиться силовой конструкционный клей.
И мы торжествовали втроем — брат, Володя и я. Мы вытащили все, что было в кухне, — селедку, полбанки майонеза и пару яиц. Я сделала изысканные бутерброды с крутыми яйцами и селедкой, и мы ели их и пили чай, нам светила зеленая лампа, и счастливая звезда посверкивала из окна сквозь ветки тополя. И вот прошло совсем немного времени, может быть час, я только успела собрать посуду и накрыть ее газетой на плите, а брат и Володя сидели и мучились над вопросом: как быть?
Где-то в недрах всемирной химической кладовой таились два волшебных вещества, которые, соединившись, могли бы дать великолепный клей неслыханной силы. А здесь, в кухне на табуретке, сидел мой брат, который знал, что их надо соединить. Он был уверен в этих веществах. Уверенность досталась ему непросто. Чего стоил один тот год, когда он работал впустую! Правда, он потом говорил, что работал хоть и настойчиво, но как-то невесело, с нажимом, словно предчувствовал неуспех. А теперь нашел то, что искал. Он знал формулы этих веществ, знал, что с ними надо сделать, чтобы они работали наилучшим образом.
Но… одно-то вещество было мирным, спокойным, получить его не составляло большого труда, а другое — настоящее чудовище, коварное, опасное. То брат, то Володя произносили слово «фосген», и мне казалось, что это фыркает и огрызается раздраженный тигр. Имея дело с этим «тигром», очень просто было и отравиться и даже взорваться.
— Мне бы хоть ка-аплю! — стонал брат, стискивая руки. — Взглянуть только, какая будет реакция!
— Нет! — Володя решительно двинул ребром ладони по клеенке. — Что тебе капля? В игрушки играть? Нужно сделать или достать хорошую порцию. Тебе нужен полноценный эксперимент! Чего стоит твоя находка без эксперимента?
— Лучше сделать, — сказал брат.
— Хорошо говорить, а как сделать? Представляешь себе, сколько тут нужно всякого предохранительного оборудования? Где на это могут пойти? У вас в институте как?
— И думать нечего! — брат махнул рукой. — И негде, и нет такого человека, который бы загорелся и помог.
— Попробую поговорить у нас, — пробурчал Володя, — хотя у нас тоже… Это в какой-нибудь заводской лаборатории надо сделать, там проще. Ты сохранил связи со своим заводом?
— Сохранил, но там ничего не выйдет. Там ведь в основном не химия, а электрооборудование.
Я проснулась оттого, что клубок шерсти, скатившись с моих колен, стукнул об пол. Что это творится? Пронзительно-синее окно грозно глядит в кухню. Три поблекшие зеленые лампы, одна настоящая, две отраженные, словно уходят в эту синь. Черный тополь со спутанными ветками ясно виден в окне. Две странные фигуры сидят у кухонного стола.
Они въехали на стол локтями и сблизили свои лица, как двое забулдыг, которые засиделись за бутылкой до рассвета.
О чем они бормочут, о чем сговариваются? Что-то недоброе во всем этом…
— Противогаз есть?
— Ну, есть…
Они сидели, такие страшные в этом синем и зеленом свете. Я вскочила с лавки, уперлась руками в стол и заглянула каждому в лицо.
Они даже не шелохнулись. Лицо у брата сухое, с черными тенями, постаревшее, у Володи — отекшее, с выпяченной нижней губой.
Я стукнула кулаком по столу, чтобы они, наконец, посмотрели на меня.
— Не смейте! Слышите? Что это вы выдумали? Я не намерена терять никого из вас!
Когда я видела Володю в последний раз? Это было в первый день войны. Все были возбуждены, наэлектризованы, смотрели на Володю с братом как на будущих воинов, а они петушились перед нами. Мы тогда еще не понимали, что произошло. Только ночью я поняла, что прежняя жизнь кончилась, что теперь — война, что теперь нет ни у кого ни дня, ни ночи, ни прочной крыши над головой, ни семьи, где все живут вместе.
Напротив нашего дома был пустырь, куда шоферы заворачивали свои грузовики, сдавали их, а сами налегке, прямо отсюда уходили в военкомат. Конец переулка был заполнен толпой, это стояли шоферские жены, и от этой толпы поднимался непрерывный стонущий гул. А грузовики, один за другим продвигаясь на малой скорости в толпе, взбираясь на пригорок пустыря, натужно ревели. И этот рев, стоны и плач провожающих женщин, слитые в одно, всю ночь раздавались под моим окном, и это были первые звуки народного горя, к которому еще не притерпелись, против которого еще не было у людей внутри себя защиты. Оплакивались первые разлуки.
А утром, только посерело, стали проясняться белые, желтые, голубые косынки, платья в цветочках, женщин стало меньше, многие уже проводили мужей. А когда еще посветлело, стали видны озябшие, синеватые руки и губы, покрасневшие глаза и носы. Мужчины подходили, жены шли с ними рядом, цепляясь за мужнину руку, шли, чтобы расстаться.
Володя с войны не вернулся…
11
В тридевятом царстве, в тридесятом государстве
Мой брат так и не попал на фронт. Он был забронирован, засекречен и всю войну на казарменном положении, не уходя из института ни днем ни ночью, проработал на оборону. «Ковал победу в тылу», — как говорили в то время.
— У меня тогда горела в мозгу только одна лампочка химической мысли, — вспоминал он, — и свет ее был направлен на одно: на совершенствование всевозможных покрытий боевых самолетов. Я тогда о силовом клее не думал — не до того было.
А когда он в первый раз после войны вышел на освещенную улицу, он так обрадовался, что не надо думать о химии! Он шел домой, а там была Танюша с дочкой! Там были открытые окна и большая лампа над столом. Тогда он тоже не думал о клее и в институте первое время работал с прохладцей, уж очень устал после напряжения военных лет.
Зима в тот год никак не становилась. Время от времени летел легкомысленный, непрочный снежок; потанцевав в воздухе, он ложился на тротуары, и тут же вытаивали в нем черные лужи. А снег летел и сверкал под фонарями — фонари-то горели!
Брату предложили съездить на химический завод километрах в ста от Москвы. Там обрабатывались некоторые материалы института, и завод требовал кое-каких уточнений. Кроме того, об этом заводе рассказывали удивительные вещи. Завод, где директором Васильев. Говорят, он генерал, был ранен, демобилизовался и еще до окончания войны принял химический завод — почти одни стены. Человек он широкий, смелый, с невероятной энергией, оборудование для завода добывал «из-под земли» и «со дна моря» и превратил полуразрушенный завод за короткое время в такой, который уже принимал заказы, очень сложные по тому времени. Брат рассказывал об этой поездке так, как будто это было счастливейшее событие в его жизни.
— Ноги застыли — думал, отвалятся! — И он радостно смеялся.
С братом ездил его товарищ по работе, Борис Иванович Никулин, веселый малый со светлыми, вечно растрепанными волосами. Они просто ликовали: проехаться на машине куда-то далеко, вырваться из надоевшего института!
Снарядился брат как будто ничего — драповое пальто, правда вытертое, под ним баранья безрукавка, на ногах лыжные ботинки, которые таскал всю войну. Крепкие еще ботинки и по всему ранту прошиты проволокой. На голову хотел кепку, но Танюша посоветовала надеть ушанку и еще навязала чекушку для «сугреву». Он смеялся, говорил, что такая теплынь, что ехать не так далеко, но чекушку взял.
Когда он вышел, было еще темно. Стоял морозный туман. Такой густой, что даже дышать трудно. Ничего, днем опять развезет.
Они с Борисом Ивановичем удобно устроились на заднем сиденье военного «козлика», и когда уже ехали в тумане по Москве, брат сделал страшные глаза, отвернул пальто и показал Борису головку чекушки. Тот сделал глаза еще страшнее и показал брату поллитровку. Оба захохотали.
Нет, днем не развезло. Когда туман ушел и открылось небо, перед двумя путешественниками сверкала настоящая зима. «Козлик» катил по открытому месту и застывал все сильнее. Лыжные ботинки брата, надетые на шерстяные носки, ничего не стоили. Эх, надо бы две пары! Нет, но больше невозможно терпеть. И ноги и спина…
— Борис, ты как?
— Промерзаю.
Небо, видное сквозь стекла машины, полыхало синим пламенем, снег сверкал.
— Ни огня, ни черной хаты… — пробормотал брат.
— Хаты сейчас будут! — неожиданно отозвался шофер. — Вот сейчас, за пригорком. И чайная будет.
Ну какой же, оказывается, хороший парень этот шофер! И какая у него уютная стеганая спина! И шапка такая хорошая, и крепкие уши под ней. Нет, с таким не пропадешь!
Взвизгнула дверь чайной, в морозном пару, который ввалился вместе с вошедшими, ничего нельзя было разглядеть. Но по говору, по густому запаху полушубков чувствовалось, что народу много.
— Давайте мясные талоны! — сказал шофер. — Сейчас яишня будет с колбасой. А картошечек с разварочки так дадут.
И вот все трое сидят в углу чайной. На столе на вытертой клеенке яичница, картошка, чекушка с поллитровкой и граненые стаканы. Застывшие ноги с болью отходят в тепле.
Чайная шумела, в груди у Давлеканова было тепло, а кругом сидели такие славные люди! Но самый симпатичный, конечно, — это шофер Федя! Про что это он говорит? Про своего майора!
— …Как за дитем ходил. А он нисколько о своем удобстве не думал. В мороз, бывало, не оденется как следует, и носки ему шерстяные подсунешь и белье теплое…
— Федя, — сказал Давлеканов, — хотел бы я быть твоим майором!
— Нет, — сказал Федя. — Такого человека больше нет, как мой майор.
И Давлеканову стало обидно, как было уже много раз, что вот он не воевал и что он не может быть членом военного мужского братства.
— Поехали, ребяты, — скомандовал Федя, — нам еще реку переезжать.
Когда выехали из деревни, солнце уже село и по краю неба шла дымная коричневая полоса с огненной каймой, а наверху небо уже перестало быть голубым, и еще не стало синим, и бледные звездочки точками проступали на нем. И опять — просторы.
— Вы вот что, ребяты, — сказал Федя, — давайте по очереди ко мне вперед, тут мотор греет.
— И куда это мы едем? — вздохнул Никулин.
— В некоторое царство! — отозвался Давлеканов.
Ему виден был странный блеск снега в бегущей впереди бледной полосе света от фар и темная даль впереди.
— В некоторое? — лениво спросил Никулин.
— Ну, если хочешь — в тридевятое.
— А какое государство?
— Тридесятое, натурально.
Время от времени Федя останавливал машину, Давлеканов и Никулин менялись местами. И снова деловитое тарахтенье «козлика», покачиванье, дремота.
«Козлик» остановился. Они были на берегу реки.
— Ах, ты… — Федя выругался. — Кто ж ее знал, что не замерзла?
Он побежал направо, побежал налево, вернулся.
— Вы тут постойте, ребяты, я посмотрю, может, где есть дорога. Никуда не отходите… Машину прогрейте, машину! — крикнул он уже издали.
— И куда это мы приехали? — спросил Никулин.
— Туда, — глубокомысленно ответил Давлеканов, — где раки зимуют.
Да, несомненно, раки зимовали здесь. Высоченная перина густого пара стояла над рекой, а у самого берега, за ледяной, покрытой снегом неровной кромкой шевелилась черная вода. Вот там-то, на самом дне, и зимовали раки.
И шофер ушел. А мороз такой, что кажется, он заполнил весь мир, что воздуха нет, вместо него мороз… «Прогрейте машину!» — вспомнил Давлеканов. Они забрались в заиндевевший «козлик». Вдруг не заведется? Нет, мотор заурчал, от него пошло тепло. Давлеканов и Никулин сидели скорчившись, над головой у них была пусть брезентовая, а все-таки крыша.
— Ну что это? Куда он провалился? — пробормотал Никулин. — Давай посигналим.
— Постой, слышишь?
Они прислушались. Где-то рядом, приглушенные туманом, мирно разговаривали два голоса, слышалось хлюпанье весел и стук уключин. Давлеканов и Никулин выскочили из машины. У берега покачивалась большая плоскодонка, из нее вылезал Федя.
— Машину прогрели? Молодцы! Ну, ребяты, счастливой вам переправы, а я в обратный путь!
— Федя, куда же ты? — закричал Никулин. — Мы же к тебе привыкли, как к родной бабушке!
— Ничего, теперь к другой бабушке привыкайте, вот к нему, — Федя показал на перевозчика, еле видного в тумане. — Хорошо, что я по берегу пошел искать переправу, он ведь мне далеко попался, мог бы и не заметить.
Ничего не поделаешь, надо было лезть в черную лодку на черной воде и блуждать по ней в белом облаке.
Федя стоял на берегу и командовал:
— Боком, боком ставьте ноги, поскользнетесь! Крепче вбивайте каблуки в снег! Ну, влезли? Счастливо!
На воде не так давил мороз, зато облепляло сырым туманом. Давлеканов и Никулин словно ослепли и оглохли в нем. Заблудиться тут было очень просто.
— Так куда мы плывем? — спросил Давлеканов.
— В некоторое царство. Точнее не могу определить, туман не позволяет.
— А если не доплывем?
— Попадем туда, где раки зимуют.
С полчаса плыли где по чистой воде, где врезаясь в тонкий лед, который шуршал по бортам. Давлеканов и Никулин даже начали дремать, вдруг послышалось — кто-то кричит. Далеко-далеко.
Перевозчик оживился, стал сильнее шлепать веслами. «Ого-го-о!» — раздавалось все ближе. Облако пара чуть засветилось. Свет становился все сильнее, облако радужно сияло, словно проткнутое в нескольких местах светом, потом оно стало редеть, и сквозь него Давлеканов и Никулин увидали темные очертания зданий. Свет бил из нескольких широких освещенных окон и, расплываясь, доходил к ним сквозь туман.
Весла шлепали все энергичнее, пар совсем отнесло, и на высоком берегу на фоне звездного неба стала ясно видна громадная фигура в расширяющемся книзу тулупе до земли.
— Держи-и-ись! — крикнул перевозчик.
Лодка, шурша льдом, въехала на берег. Толчок — переправились!
— Сюда, сюда! — кричал им высокий человек в тулупе, спускаясь к лодке. — Васильев, — представился он. Из-под его распахнутого тулупа, от широкого красного лица, от огромной горячей руки, которую он протянул Давлеканову и Никулину, пахнуло жаром, как из печки. — Промерзли? Сейчас погреетесь.
Так вот он, знаменитый Васильев, который так здорово наладил свой завод! У такого, наверное, энергии, как у хорошей динамо-машины. Вон какой громила! Директор в своих твердых валенках шел быстро, развалисто, и хромоты почти незаметно. Лицо у директора было мясистое, с крупными продольными морщинами вдоль щек, с коротким выдвинутым вперед носом, с большими выпуклыми глазами, удивительно голубыми на красном лице.
Давлеканову сразу стало тепло и весело. Васильев, его богатырская наружность, его звучный, уверенный бас, вид отчетливых светлых корпусов — все это нравилось Давлеканову. «Посмотрим, посмотрим, что там у них!»
Ужин был накрыт в маленькой комнате за директорским кабинетом. Огромный, широкий Васильев неуклюже, но ловко поворачивался, наливая чай из электрического чайника, подвигая гостям бутерброды.
— Ну, — сказал директор, вставая и показывая на диван и раскладушку, — сейчас, я думаю, на покой, а завтра с утра приступим.
Давлеканов проснулся и сразу вскочил — свежий, легкий. Неужели проспал? В углу стояла уже сложенная раскладушка, из директорского кабинета доносились голоса Васильева и Никулина. Давлеканов скорее оделся. В дверь постучали, вошла уборщица. У нее были удивительно красные, твердые щеки, туго стянутые платком жаркого желтого цвета. Из-под синего застиранного халата виднелось ситцевое платье в крупных малиновых цветах, под ним — большие валенки. «Ух ты! Сама широкая масленица явилась ко мне с подносом!» — подумал Давлеканов.
Умывшись и поев, Давлеканов толкнул дверь в кабинет. Вчера они проходили тут в темноте, Давлеканов ничего не успел разглядеть. До чего же этот кабинет не был похож на обычные директорские кабинеты! Как тут светло! Как просторно! Стены еще не беленные, только покрытые сероватой известкой, которая кое-где просыхала пятнами. Оконные рамы, тоже еще не покрашенные, янтарные от олифы. Стекла нарядно разрисованы морозом и вспыхивают оранжевыми солнечными искрами.
Кроме запаха олифы и просыхающей известки, тут еще какой-то запах, приятный, чуть-чуть пряный. Вот это что! На низких некрашеных скамейках у окон расставлено множество растений, свежих, вымытых, ухоженных — целый сад. Бруснично-красными шапками цвела сильная герань, теснили друг друга густые крупные цветы лиловых примул, свободно размахнулись пушистые игольчатые ветки аспарагуса.
Давлеканов поискал глазами письменный стол. Его не было. Но зато посреди комнаты, как в избе, стоял крепкий, некрашеный, отлично выструганный простой стол, а кругом него расположились тоже некрашеные, устойчивые стулья с каким-то особым наклоном спинки.
Давлеканов поздоровался и прежде, чем сесть, взялся за спинку стула и стал ее рассматривать. Огромный Васильев легко вскочил и, чуть кренясь на левую ногу, не подбежал, а как-то ловко подъехал к Давлеканову.
— Сами сделали! И спроектировали сами! У нас своя столярка. Когда совещание какое-нибудь, не устает спина. Правда, длинных совещаний у нас не бывает. Сейчас мы вам это докажем, — сказал Васильев. — Можно! — прогремел он, отвечая на стук в дверь. — Вот, знакомьтесь — наш главный технолог Илья Петрович.
«Хитрый мужичонка, — подумал Давлеканов, пожимая руку Илье Петровичу. — Этот и начальство обведет. А ведь совсем деревенский!» Илья Петрович был маленький, сухонький, но, видимо, прочный. Смуглое обветренное лицо в резких морщинах, крепкие седоватые волосы. Сухие, с кривизной ноги засунуты в большие растоптанные валенки.
— А вот и главный инженер!
Четко стукая по полу сапогами, вошел бравый, невысокого роста мужчина с квадратными плечами, квадратным подбородком, в очках. На его верхней чуть выступающей губе топорщились светлые усики. «Какой внушительный», — подумал Давлеканов.
— Ну вот, и никого нам больше не нужно. Через сорок — сорок пять минут, — Васильев посмотрел на часы, — закончим совещание и пойдем смотреть наше хозяйство.
В ходе разговора Давлеканов наблюдал за главным технологом и главным инженером.
Илья Петрович все подносил ко рту сжатую руку. Он словно сперва выговаривался в кулак, а вслух произносил только отобранное — кратко и точно. Начинал он каждую фразу: «Я так считаю, Егор Васильевич…» — и наклонял голову, и смотрел на Васильева одним глазом, как петух. Это значило, что он считает по-своему, не так, как начальство. А главный инженер высказывался сразу категорически.
Только наблюдение наблюдением, а заводские крепко выдали приезжим. Беспощадно указали на просчеты, допущенные при лабораторной обработке. От этого и процесс на заводе шел не так, как бы следовало.
Давлеканов с Никулиным только покряхтывали. Но тут же предложили устранить недочеты. Все это вполне можно было сделать в условиях завода.
— Ну вот! — сказал Васильев. — Заседали сорок три минуты и все решили. Мы ведь фронтовые братья, с полслова друг друга понимаем, да и с вами нашли общий язык.
Пошли осматривать завод. Здесь тоже все было ярко и ново. Окна в двухсветном цехе незапыленные, только чуть забрызганные известкой. Поверх подтаявших, с блестящей каймой морозных узоров в цех широкими полосами входило солнце. Даже обычная для заводских реакторов серая, скучная краска здесь была светлой, нарядной. Среди труб, покрашенных в разные цвета, задавала тон красная, свежего, праздничного цвета.
— Смотрите, — говорил Васильев, показывая на препаратора, стоявшего на лесенке, — смотрите, как я их одел! — На препараторе ловко сидел новый серый комбинезон. — Добыл материал, а сшили наши женщины — кружок кройки и шитья. Нельзя же, надо, чтобы и на работе глаз радовался, работать-то веселее…
Давлеканов шел вслед за Васильевым — и до чего же он прав! Отсюда уходить не хочется. В то послевоенное время еще мало кто думал о том, чтобы радовался глаз, цехи заводов, которые приходилось видеть Давлеканову, были в большинстве случаев темные, пыльные.
Васильев повел гостей в заводские лаборатории. Ого! Ведь они только что проходили по этой лестнице, тут еще не было перил — голое железо, а сейчас — вот они, перила, и плотник в чисто выстиранном старом ватнике водит по ним шкуркой. Вообще, кого тут ни встречали Давлеканов и Никулин, все почти работали охотно, как будто устраивались на собственном новоселье.
Тепло. Щелкают жаркие батареи, некоторые еще не покрашены.
Васильев открывал одну дверь за другой — новоселье было везде: мыли окна, прилаживали полки, и в то же время работа шла своим чередом. У людей, которые здоровались с гостями, были свежие лица, чистые глаза… Что значит на воздухе живут!
Все двери Васильев распахивал одинаково гостеприимным жестом, а перед одной остановился.
— Здесь то, — сказал он негромко, — чем мы особенно гордимся, — наша коллекция реактивов.
Он открыл дверь, прошел через комнату, в которой стояли ящики и двое пареньков разбирались в них, и открыл еще одну дверь.
Длинные многоэтажные полки разделяли комнату на узкие коридорчики, как в библиотеке. С порога видны были только деревянные торцы полок. На полках рядами стояли банки — высокие, пониже, с жидкостями, с кристаллами… Вот она, коллекция! Давлеканов ходил вдоль полок, разглядывал этикетки и все больше и больше изумлялся, сколько тут было редкого, интересного.
— И откуда только вы все это добыли? — спросил Давлеканов Васильева.
— Из-под развалин. Раскапывали развалины одного химического учреждения, которое разбомбили…
Васильев рассказывал, как они добывали реактивы, а Давлеканов думал о том, что одна формула на этикетке его чем-то задела. Он старался понять — чем же?
— Ну, — сказал Васильев, — пошли?
— А… можно, я еще немного посмотрю? — неожиданно сказал Давлеканов. — Я вас догоню.
— Заинтересовались? Что ж, я очень рад, — Васильев с Никулиным ушли. А Давлеканова уже начинал забирать аппетит к работе, к настоящей, исследовательской. В последнее время в институте разве это была работа? Он даже забыл, что бывает такое состояние, когда, еще неясные, начинают шевелиться мысли о возможных сочетаниях, о том, что может из них получиться, и эти мысли растут, крепнут, начинают шуметь и сталкиваться… И пусть, пусть шумят пока нестройным хором. Придет время, и он будет возиться и нянчиться с ними, взвешивать, принимать, отбрасывать, и сколько мороки будет, сколько муки… Но, может быть, в этом и есть соль жизни?
Ушли. Хорошо! Давлеканову хотелось одному снова взять в руки баночку с «той» формулой на этикетке и хорошенько над ней подумать. Вот она. Да. Не зря она его задела. Тут что-то близкое к тому, что он искал, когда занимался клеем. Не совсем то, что ему нужно. Но это может послужить промежуточным звеном…
Давлеканов и Никулин, уже на директорской «Победе», ехали по замерзшей за эти дни реке. В машине было тепло, рессоры укачивали, Никулин дремал в уголке, а Давлеканов нет. Он был радостно взвинчен. В чем состояло значение этой поездки? В том, что он снова был «заряжен» своим силовым клеем, и пузырек с желтоватой жидкостью лежал в его нагрудном кармане. Он похлопывал себя по карману и думал о заводе и о директоре. Что-то есть в этом заводе очень необычное. А Васильев… Так Давлеканов представлял себе в детстве большевика. Тогда много было расклеено ярких плакатов, и больше всего ему нравился красный силуэт рабочего, большевика, который протыкает пузо черного буржуя на тонких ножках. И Васильев был такой же могучий и веселый, как тот, на плакате, только еще лучше, потому что на плакате была только красная тень, а Васильев живой, шумный, горячий!
12
Командировочный с паровозиком
Сундук, на котором я в детстве сиживала под дверью у брата и с обидой в душе слушала хохот и выкрики его приятелей, сундук, на который я перетаскивала брата, когда он болел малярией и ему звонили с завода, наш старый сундук стоял теперь у брата в передней под зеркалом, чем-то покрытый, на него клали шляпы и сумки, его как бы не было.
Прихожу я однажды к брату и вижу — сундук раскрыт. Светлеет откинутая крышка, оклеенная пожелтевшей бумагой.
Брата я заметила не сразу — он уютно сидел на корточках между сундуком и вешалкой. Я заглянула в сундук — оттуда пахнуло густым запахом нафталина и шерсти. Там лежала старая шинель.
— Неужели она?
Брат кивнул.
— Историческая шинель! Реликвия эпохи кремлевского трубача.
Если пулями она была пробита лишь в мечтах ее владельца, то длинные обтрепанные полы на самом деле покрывали бока живой белой лошади. А вот и труба. Позеленевшая, с вмятинами. Тоже реликвия эпохи кремлевского трубача.
А что это брат держит в руках? Какой-то игрушечный паровоз. Нет, это не игрушка. Это примитивная модель паровоза из довольно толстого листового железа.
— Он тоже исторический, — сказал брат, — но совсем из другой эпохи. Это первая вещь, которую я склеил силовым клеем.
— Он склеенный?
— Да, вот смотри! — Брат перевернул паровозик. Края гнутого железа находили один на другой, и нигде не было видно ни винтов, ни заклепок, ни следов сварки или с пайки. — Если бы ты знала, сколько проклятий слышал от меня этот паровозик! — сказал брат размягченным голосом. — И я сам от себя тоже.
— Чем же провинился такой симпатичный паровозик?
— Именно тем, что симпатичный, игрушечный… Пойдем ко мне!
Брат закрыл сундук, а паровоз взял с собой в комнату. Мы уселись в кресла у низкого столика, паровоз стоял перед нами.
— Я ведь еще в детстве, еще до химии увлекался паровозами.
— А как же, я помню, у нас была железная дорога, я все хотела возить своих кукол, а ты говорил, что сперва пойдут товары. Ты делал товары — такие аккуратные тючки из тополиного пуха, перевязанные нитками. Они ездили, а мои куклы ждали на станции.
— Да, с паровозиком я промахнулся, не надо было его делать…
— Ну, так что же с ним получилось?
— М-м-м… Начать придется издалека, с Васильева. Помнишь, я тебе рассказывал — директор завода, у которого я выпросил немного вещества…
— Помню — большевик со старого плаката.
— Да, это мне так показалось тогда. Вообще-то он не плакатный, конечно… Ну, так вот, это вещество… Я стал над ним работать, всячески издеваться над ним. Как? Это тебе трудно будет понять. Возился довольно долго. Наконец сделал все, что можно. Осталось провести последнюю стадию синтеза. Где это сделать? Нужна лаборатория, приспособленная для таких работ. Официальным путем я тут не мог идти, потому что эта тема не стояла пока в плане нашего института. Стал звонить знакомым химикам. Никто не берется.
И вот однажды проезжал я мимо нашего старого завода и вдруг — сошел с трамвая. Сам не знаю почему. Подошел к проходной будке. Будка такая же и в такой же защитный цвет выкрашена, а я — другой. Дверь в будке открыта, там старичок сидит, пьет чай из кружки и закусывает. Я подошел ближе — старичок незнакомый.
«Вам кого, гражданин?»
Я стал называть тех, кто со мной раньше работал. Старичок никого не знает. Стал вспоминать, а как фамилия Пети… Наконец вспомнил: Пономарев! Петр. А как дальше, не знаю.
«А, — говорит старичок, — Петр Михайлович? Сейчас позвоним».
Короче говоря, я увиделся с Петей, и он мне помог. Познакомил еще с одним химиком, и тот довел мне мой полупродукт.
— А какой Петя стал? — спросила я.
— Настоящий мужчина! И такой строгий — в очках. Был на войне, остался цел, рассказывал о других наших товарищах — не все вернулись…
— А Катя?
— Катя вышла замуж, только не за Петю, у нее трое детей, она сейчас не работает, увязла в семейной жизни… Да, получил я тогда свой многострадальный второй компонент, только уж очень его было мало… А первый мы с Борисом сделали сами.
— Ну, а какова была реакция? Помнишь, когда мы еще перед войной в кухне с Володей сидели? Я очень тогда за вас перепугалась, что-то вы такое затевали…
— Ну, страхи твои были преувеличены, только вряд ли у нас тогда что-нибудь вышло бы! Да, наступил, наконец, момент, когда я в первый раз слил два вещества. Это было ночью. В то время было нормой засиживаться до ночи. Я еще утром пригласил Бориса участвовать в этом торжестве, и мы никак не могли дождаться, когда все уйдут.
Мария Васильевна, лаборантка, так долго копалась — все что-то прибирала, ушла, потом вернулась — очки забыла…
Наконец — все. Представляешь себе — ночь. Огромное пустое здание. Тихо. Темно почти. Так кое-где тусклые лампочки горят. И только один светлый кубик, одна живая клетка во всем здании, и в ней за лабораторным столом возятся две серые мыши — это мы с Борисом. Что я тогда чувствовал? Такая смесь хорошего предчувствия с нехорошим. «А вдруг?» Адская смесь. Ну ладно, я вынимаю две бутылочки и ставлю на стол. Весь день носил их в кармане, они такие маленькие, вещества в них — чуть-чуть… Борис сидит смирно, командую я.
— Очень хорошо представляю себе, как ты командуешь.
— «Чашку!» Борис подает чашку. Я ему возвращаю — нужна чистая чашка. Борис берет другую чашку, вытирает ее, ставит на стол. «Теперь садись и смотри в оба глаза». Наливаю из одной баночки, наливаю из другой, и вдруг — пш-ш! — в чашке зашипело. Борис говорит: «Выпустили духа из бутылки». А дух пенится, вспухает… Я потрогал чашку — горячий, черт, дух, и все лезет. Борис его подбадривает: «Работай, работай!» И он — рад стараться — шипит, кряхтит, лезет все выше, выше, потом шапкой встал над чашкой, покачался, подумал и стал переваливаться через край, как тесто. Перевалился, капнул на стол, перестал вылезать и застыл. Мы поглядели друг на друга — силен! Я схватил шпатель, колупнул каплю на столе — не отколупывается. Потрогал массу — застыла, как камень. Я говорю: «Надо заняться тем, как замедлить реакцию, а то ничего склеить не успеешь!» Подумай только, дорогая, уже разговоры идут о склеивании! Борис говорит: «Надо еще проверить, на что он способен. Что будем клеить?» Решили прямо хватать быка за рога — склеивать что-нибудь железное. Достали металлические пластинки, приготовили новую порцию, смазали, сдавили зажимами, а сколько ждать — не знаем. Решили для верности подождать часа два. Что мы только не делали! И анекдоты рассказывали, и приемы джиу-джитсу друг на друге пробовали (не так уж безопасно для лабораторного оборудования), и все равно больше часа не выдержали, сняли зажимы, пошли проверять на машину… Результаты — сверх ожидания! Я хотел подготовить еще порцию, но Борис меня остановил: «Не сходи с ума! Надо оставить на что-нибудь солидное, начальству показать».
Вот и склеили… солидное. — Брат показал на паровозик. — Мы извели на него все, что у меня было. Я так был уверен в успехе, с такой радостью мы с Борисом этот паровоз делали! Кроили железо, выпрямляли молотком, гнули… Гром стоял, как в кузнице. Сделали и радовались, как мальчишки, как дураки. И понес я этот паровозик сначала к нашему директору института. О нем говорили, что он знающий, одаренный и к тому же с юморком.
«Клей еще не родился, это еще зародыш, эмбрион. Он может и совсем не родиться — не до него сейчас. Но он должен родиться и стать могучим…» — думал Давлеканов, сидя с железным паровозиком под мышкой в приемной у директора института.
Шум голосов у двери, директор сам выпускает посетителей и жестом постового, регулирующего движение, приглашает Давлеканова в кабинет. Они садятся друг против друга. Давлеканов еще ни разу не видел директора вот так, в упор. Чего можно от него ждать? Сухощавый, изящный, умеренного роста, по легкости движений, живости поворотов еще молодой, но по морщинам где-то около ушей, по темным пятнам на просвечивающей лысине видно, что на возрасте. Нехорошо. Что-то в этой моложавости есть обманное. Давлеканов передает ему паровозик.
— Все склеено!
Директор надевает прозрачные без оправы очки и начинает разглядывать паровозик.
— Ш-ш-ш… — добродушно смеется он.
Давлеканов вглядывается в его лицо. Приятное, красивое даже, но его можно спутать с кем угодно. Черты правильные, умеренные и — никакие. Это не обнадеживает. Нет, не обнадеживает.
Директор с жадным мальчишеским любопытством рассматривает колеса, трубу, постукивает карандашом по выпуклому боку паровоза и посмеивается:
— Ш-ш-ш… Все соединения на клею?
— Да, вот смотрите, нигде ни болта, ни заклепки… А вы представляете себе громадные металлические конструкции, превращенные в монолит?
— Представляю, я читал вашу записку.
Директор отдал паровозик Давлеканову и снял очки. Он уже поиграл в эту игрушку и снова стал взрослым. Нет, старым. Лицо не было больше приятным, красивым, оно стало плоским.
— Это грандиозно! — сказал он, глядя на Давлеканова усталыми, блеклыми глазами. — Но кто поручится, что ваш клей выдержит эти огромные нагрузки? Кто докажет?
— Опыт, конечно! А для опыта мне нужно хотя бы три килограмма второго компонента, сделать первый — не проблема.
— Ну, и чем же я могу быть вам полезен? У нас в институте, как вам известно, нет этого вещества. И сделать его мы не можем, институт не имеет права работать с отравляющими веществами.
— Я знаю, я хочу просить вас — закажите на каком-нибудь заводе, а я подготовлю почву, чтобы там заинтересовались.
Директор засмеялся — ш-ш-ш — и снова сделался добродушным.
— Ну что вы, голубчик, вы же химик, вы прекрасно знаете, что для производства вашего вещества нужны особые условия. Кто же это в ущерб основной работе будет для вас делать?
— Не для меня, а для вас! — брякнул Давлеканов.
Директор слегка опешил от этой наглости.
— Хорошо, для меня, если это вам так угодно. Но я-то должен быть уверен, что нашему институту это нужно!
— Но ведь в конечном результате…
— В конечном результате, — перебил директор, — я вижу перед собой только склеенную игрушку, а производство игрушек не является на сегодняшний день передовым краем нашей промышленности.
Давлеканов с ненавистью посмотрел на директора.
— Нашему институту это не нужно. А кому этот клей нужен? Одному Давлеканову, да?
Директор говорил что-то о задачах промышленности на сегодняшний день, но Давлеканов его не слушал.
«Поезжу сам по заводам, не все же такие амебы, как наш!»
— Вы не забыли, — прощаясь, напомнил директор, — за вами тема, нужная стране сегодня? Ш-ш-ш…
— Как я себя ругал, дорогая! — говорил мне брат. — Сделал, балда, паровозик, а надо было просто склеить две металлические детали. Нагляднее было бы и серьезнее. И на заводах, куда мы с Борисом ездили, тоже с интересом разглядывали паровозик, а как до дела — разводили руками. Ну, может быть, годика через два, через три… А то и вовсе отказывали. Я и сам стал понимать — задач у промышленности много, задачи трудные… — Брат помолчал. — А для меня это было время и трудное и… нехорошее какое-то — я стал терять веру в успех. Мне стало казаться, что и Борис охладел и таскается со мной так, по дружбе. Отличный он в общем малый! В командировках ведь всякое бывает. Спишь иногда где придется… Как-то пришлось нам ночевать в учрежденческой комнате, а там только диван и стол. Борис говорит: «Я еще не покойник, чтобы спать на столе!» Отодрал от дивана спинку, положил на четыре стула — ложе получилось что надо. Здорово оба выспались. Один — на диване, другой — на спинке. Да-а-а, поездили мы с ним! Это был по-своему интересный период!
— Это был замызганный период! — сказала, входя, Танюша. — Он тогда так оборвался, так обтрепался… И всю жизнь я слышу про этот клей, а вазочки… И не только вазочки — тарелка в цветочках (еще мамина) и та не склеена! Все как лежало разбитое, так и лежит. И никакой клей почему-то ничего не может склеить!
— По правде говоря, — сказал брат, — не люблю склеивать разбитое. Люблю быть господом богом и создавать новое. Вот ручки-ножки, вот кишочки, смазал-склеил, дунул-плюнул — живи, работай!
Танюша скрестила руки на груди.
— Наконец-то сознался! В первый раз в жизни услышала вместо обещаний правду! Теперь по крайней мере ничего не буду дожидаться, отнесу все в мастерскую.
— Зачем в мастерскую? Мы позовем Бориса Ивановича, он любит склеивать. Он все тебе сделает.
— Вот и отлично! Борис Иванович милый и, кроме того, с юмором.
Брат подмигнул мне — дорвутся оба до анекдотов!
Танюша ушла.
— А поездка в Германию, она тебе ничем не помогла?
— О, поездка в Германию! Это была любопытная поездка! — Брат улыбнулся. — Это был, знаешь, такой психологический этюд! Я тебе не рассказывал?
— Подробно — нет.
— Это надо будет отдельно рассказать. Я там одновременно потерпел поражение и одержал победу.
— А что было важнее?
— Победа!
13
Карминовая марка
Спокойно, свободно, мягко постукивая, летел поезд, и Давлеканов, сидя в вагоне-ресторане, всем телом чувствовал, как он вместе с поездом разваливает пополам желтый осенний пейзаж и как справа и слева проносятся за широкими окнами его половинки. А напротив Давлеканова сидел Павел Дмитриевич Костров.
Давлеканову не приходилось близко разглядывать Кострова. Они работали в одном институте, но в разных отделах. Давлеканов знал, что Павел Дмитриевич один из тех молодых способных ученых, которые не представляют себе науку отдельно от лестницы успеха. Сейчас Давлеканов разглядывал Кострова с большим интересом. Дело в том, что в этой поездке Костров был начальником Давлеканова.
Когда брат ездил с Никулиным, они были на равных. Брат вспомнил вагоны, плотно забитые махорочным дымом, третью полку… Проснешься ночью, а рядом мотаются белые патлы Бориса. И хорошо, уютно.
Сперва Давлеканова чуть кольнуло, когда он услышал, что Костров будет старшим. А сейчас он сидел и радовался. Неси, неси на себе ответственность за поездку, а я наслаждаться буду! Какие там, наверное, реактивы! Какие журналы, справочники! Недаром говорят, что немец бог справочника.
Вид у Кострова — первый класс! Темно-серый костюм, спокойный галстук, а волосы будто изготовлены из особого рифленого металла. А лицо? Приятное, матово-смуглое, глаза серые, вроде бы мягкие. Но в них проскальзывает и непреклонность: уж если решил — все. Так и будет. Костров наливает воду в стакан. Скажите! Кольцо с темным квадратным камнем! Давлеканов в жизни не надел бы кольца, а у Кострова оно очень к месту и подчеркивает изящество небольшой руки. Все вместе — совершенство. Костров — портрет Кострова в рамке хорошего вкуса. Давлеканову очень хотелось заглянуть за эту раму, увидеть Кострова не таким гладким и безукоризненным.
Когда вернулись в купе, разговоры пошли домашние. Костров достал узкую бумажку — список того, что просила купить жена. В конце списка были марки для сына.
— Я в них ничего не понимаю! — Костров глянул на Давлеканова растерянно и доверчиво. И вдруг Давлеканов вспомнил похожее на него лицо мальчишки — отчаянное, красное… Тяжело прихрамывая, мальчишка бежал за поездом, бежал так, как будто хотел во что бы то ни стало догнать его. И жену Давлеканов вспомнил: тоненькая, острая, с башней светлых волос, она кинулась за мальчишкой на своих высоких каблуках.
— Я видел ваших на перроне.
Костров молча, исподлобья глядел на Давлеканова, и на лбу его собрались крупные поперечные морщины.
— У Мишки нашего… костный туберкулез, — проговорил он тихо и затрудненно. — Но ему уже лучше. Врачи говорят, когда он вырастет, хромоты почти не будет. Он делает гимнастику… Жена моя актриса. — Это он сказал легко. — Она все время занята. Когда Мишка был маленьким, я и по ночам… Словом, он очень ко мне привык. Мне хотелось бы привезти ему что-нибудь интересное.
— Я помогу вам, — с готовностью отозвался Давлеканов. — Я немного разбираюсь в марках.
А мальчишка-то просто прелесть! Давлеканов вспомнил его на перроне, еще до отхода поезда. Без шапки, курчавые темные волосы, нежное простодушное лицо, яркие, живые глаза, которые с обожанием смотрели на отца. Ничего. Поправится Мишка. Во всяком случае, добьется того, чтобы жить полноценной жизнью. А ведь Кострову, наверное, досталось — ребенок болел… Давлеканов представил себе Кострова, который ночью встает к ребенку, а утром, до работы, варит ему манную кашу в кастрюльке…
Костров сидел сейчас перед ним без пиджака, с отделившейся от прически прядью, немного смущенный. Он был уже не такой цельнометаллический и нравился Давлеканову больше.
Гулкие звуки и полумрак вокзала в Берлине, носильщики с тележками и пассажиры — все было чуточку не таким, как у нас. В особенности не таким был запах. К обычному пыльно-железному запаху всех вокзалов примешивался какой-то незнакомый, особый, сухой, немного пряный запах.
На перроне их встретила группа немцев под предводительством низенького оживленного толстячка. Все они старательно, приветливо смеялись.
— Доктор Краус! — представился толстячок. На нем был нарядный голубоватый костюм, а розовое лицо в неоновом свете казалось сиреневым.
Давлеканов вдруг словно под воду ушел. Еще в Москве они отказались от переводчика. И Давлеканов и Костров с легкостью читали немецкую литературу, но ведь надо было говорить!
Тяжеловесно, без выражения, как глухой, Костров произнес приветствие. Немцы тараторили. Давлеканов тихо вставил несколько слов, потом целую фразу и с удивлением услышал самого себя, говорившего по-немецки.
Только один вечер был у Давлеканова и Кострова для осмотра Берлина. Вернее, уже наступившая ночь. Завтра утром им предстояло посетить научно-исследовательский институт на окраине Берлина, а потом — дорога в Лейпциг, где их ждали встречи с немецкими учеными.
Давлеканов и Костров шли мимо неподвижных кранов. Днем, наверное, строительство оживляло улицу. А сейчас краны спали, улица была пустынна, прибрана. Даже закопченные дома казались чистыми. Давлеканов и Костров свернули с широкой улицы и увидели странную стену — беловатой ломаной линией проходил по ней след бывшей здесь когда-то лестницы. А на другой стене висела отопительная батарея, словно стену вывернули внутренней стороной наружу. Давлеканов удивился — столько лет уже прошло после войны, а следы ее до сих пор остались в Берлине. Видел он и длинные заборы вместо домов, а за ними — груды битого кирпича.
Конечно, Давлеканов и Костров пошли к Бранденбургским воротам. В бледном неоновом свете они словно дымились. Они как бы не были связаны с жизнью и казались мрачным миражем. Справа темной громадой горбился рейхстаг.
Когда на светло-серой небольшой машине они ехали в Лейпциг, доктор Краус заговорил о том, что в Лейпциге сейчас ярмарка, очень много народу… Есть две возможности устроиться с жильем: в гостинице на окраине города, очень далеко от центра, или в самом городе, в бывшем профессорском особнячке, в трех кварталах от квартиры Крауса. Правда, в особнячке нет горячей воды, зато очень хорошее обслуживание. Профессор покинул свой особняк во время войны, а две его служанки остались. Теперь там комнаты для приезжих, и на ближайшие несколько дней дом свободен. Что же предпочтут доктор Кострофф и доктор Давле-ка-нофф?
Костров и Давлеканов сошлись на особняке.
До Лейпцига добрались только к вечеру. Ехали в неоновых сумерках по скучным ровным улицам, мимо скучных ровных домов. Потом свернули в переулок, вниз, вниз, вниз… Приехали.
Особнячок заманчиво выглядывал из зелени. Тщательно отполированная темного дерева дверь приветливо поблескивала.
Поднялись по каменным ступенькам на крыльцо. Краус позвонил. Им открыла высокая крупнокостная женщина. За ней стояла другая.
— Добрый вечер, фрау Берта, добрый вечер, фрау Грета, принимайте гостей! Доктор Кострофф! Доктор Дав-леканофф! Я уверен, что им будет у вас хорошо и уютно. Дорогие друзья, вы в хороших руках. Я со спокойной совестью покидаю вас. Завтра утром, к вашему завтраку, я буду здесь. — Он помахал им перчаткой, сел в машину и уехал.
Пожилые женщины, все время улыбаясь, присели и пригласили гостей войти. Солнечно блеснул желтый паркет в холле, Давлеканов и Костров вступили в обжитой уют старого ухоженного дома, пахнущего деревом и воском.
Давлеканов с любопытством рассматривал фрау Берту и фрау Грету. У обеих разбитые, раздавленные работой, с шишками на суставах руки и ноги, жилистые, худые шеи. У фрау Берты особенно странно было видеть аккуратные парикмахерские фестоны над измученным, с глубокими морщинами лицом. Она охотно смеялась басовитым смехом, при этом двигались и хлопали ее плохо пригнанные зубы. Фрау Грета была тоже немолода, но как-то миловиднее. Ее украшали пышные темные волосы по обе стороны привядших щек. Голубые глазки глядели наивно. Обе женщины были в белых куртках с поясом, с рукавами до локтей.
«Сестры-кармелитки», — прозвал их про себя Давлеканов.
Лучшие комнаты помещались на разных этажах. Кострова больше привлекала просторная, немного мрачная комната внизу — бывший кабинет профессора. А Давлеканов охотно согласился на второй этаж — больше света. Фрау Грета пошла устраивать Кострова, а фрау Берта схватила чемодан Давлеканова.
— О, зачем же, я сам… — протестовал он, но Берта уже скакала с чемоданом по ступенькам, скрипучей деревянной лестницы, натертой до масляного блеска, видимо, ее же руками. На кого она похожа? На отощавшую одинокую кошку, которой приятно помурлыкать и потереться о человека.
Сперва обе немки показались ему слишком угодливыми — уж очень они много и охотно улыбались! Но когда после ужина фрау Берта поставила в ванной комнате кувшин горячей воды и, задернув занавеску, пригласила Давлеканова помыться, когда она взбила профессорские подушки и, застелив постель белой, хрустящей простыней, стала у двери и так тепло и радостно пожелала ему доброй ночи, он как-то дрогнул. «Она смотрит на меня по-матерински, — подумал он, — и все делает с достоинством и уверенностью, что приготовить ванну и застелить постель — это именно то, что сейчас важнее всего». Он думал о «сестрах-кармелитках» и смотрел на зеленую, покрытую глазурью печку в углу. Ее блестящие выпуклые украшения напоминали парикмахерскую прическу Берты. «Тоже уютная особа, — подумал он о печке. — Тоже основательная и прямоугольная. И завитая».
На другое утро Давлеканов и Костров пили чай в большой столовой со светлыми стенами и прямоугольными колоннами. Тут был рояль, а по колоннам из корзин, стоящих на полу, взбирались тонкие растения. Давлеканов и Костров заканчивали завтрак, когда в дверях появился доктор Краус. Он был полон торжественного и радостного ожидания того, что сейчас произойдет. А произойдет вот что — он подарит, он вручит… В одной руке Краус держал пестрый веер различных проспектов и приглашений, в другой — две коричневые блестящие тетрадки в пластмассовых, под крокодил, переплетах. Краус протянул их Давлеканову и Кострову с таким видом, словно дарил что-то драгоценное, и не просто драгоценное, а еще сенсационное!
— Вот! Познакомьтесь! Это программа вашего пребывания здесь! А это — вы сами увидите! — Он отдал им проспекты, словно самые занимательные сюрпризы. — Здесь все о Лейпцигской ярмарке!
Давлеканов прочел программу. Она начиналась с завтрашнего для. Первым было назначено общее совещание с представителями химических предприятий Лейпцига.
Дальше шла встреча с рабочими и инженерами того завода, где намечалась переработка советских материалов.
Потом посещения институтов на предмет взаимных консультаций. На это отводилось несколько дней.
Программа была составлена дельно, плотно и в то же время давала возможность побродить по городу. Сегодня они были почти свободны. Краус собирался только повести их в один из выставочных павильонов, чтобы показать интересные пластмассовые покрытия. Там же он хотел познакомить гостей с некоторыми немецкими специалистами.
Он говорил обо всем, захлебываясь от удовольствия, вытягивал губы в трубочку и часто-часто дышал. Правой рукой он все время дергал себя сзади за разрез на пиджаке. Он так растрепал его, что уголок разреза торчал, как перышко.
— Помесь чайника с воробьем, — пробурчал Давлеканов.
А Краус в своих остроносых туфлях все время покачивался на широко расставленных коротких ножках, уже совершенно как воробей.
Давлеканова стало раздражать это мельканье. Он вытянул шею и в упор посмотрел Краусу на ноги.
— Вас удивляет, что я все время пружиню ногами? — спросил Краус, сияя еще больше оттого, что может одарить гостя также и полезным советом. — Ведь это очень здорово. Это предохраняет от плоскостопия. Это прекрасно. Советую всем. Вы никогда не будете страдать плоскостопием!
После завтрака Краус повез их в центр города. Народу на улицах было много. То и дело попадались немцы, которые важно шествовали, заложив за спину руки и посасывая сигару. Живот — вперед, сигара — вперед. Иногда сигара дымилась, иногда торчала просто так, словно соска у ребенка.
На небольшой площади толпа водоворотами крутилась вокруг лоточников. Давлеканов и Костров стали протискиваться к ним. Старик в полинялой блузе и выгоревшей соломенной шляпе подбрасывает белые парашютики с красными парашютистами. Старик замахивается по-мальчишески лихо, а руки сухие, скованные…
Тоненькое «аф-аф-аф» доносится из другого водоворота. Там продаются лающие собачки.
Как остро вдруг запахло свежими овощами! Сухонькая фрау демонстрирует машинку для чистки овощей. Стрекочут и блестят ножички. В одну сторону ползут очистки, в другую — выскакивают влажные морковки и картофелины.
А чем торгует эта красная бандитская рожа с такими нежными волнистыми рыжими волосами? В одной руке рыжий держит флакон, в другой — гребенку. Он все время проводит гребенкой по волнистым волосам. А, это, наверно, средство для укладки волос.
Давлеканов остановился около совершенно неправдоподобного человека. Схема, а не человек. Карикатура! Он будто нарочно высушен! На тонкой-тонкой жилистой шее длинная голова на ней огромный цилиндр. За ленту цилиндра заткнуты облигации, в темной высушенной лапке — веер из облигаций. Он продает облигации, выкрикивает что-то насчет близкого тиража.
Они вошли в большое новое здание, сверкающее стеклом. Воздух здесь был насыщен веселым, деловым электричеством, и особенно это электричество сгущалось в уголках, отгороженных блестящими пластикатовыми ширмами. Там, у низких столиков, заставленных бутылками и стаканами, пригнувшись друг к другу, вели переговоры деловые люди. Из их глаз сыпались деловые искры, их взрывающиеся «ха-ха-ха» были как треск электрических разрядов. Здесь совершались торговые сделки.
— Вот здесь мы демонстрируем наши покрытия! — самодовольно заявил Краус.
О, что это были за покрытия! Одна стена выгородки — под натуральное дерево. Желтые волокна только что не пахли сосной. Другая стена была в крупную поперечную полосу, и каждая полоса — шерстяная, из шерсти-букле разных цветов — розовая, зеленая, кирпичная. Третья стена — под кожу разных цветов, и все это подернуто нежнейшим ярчайшим блеском! И стол, за который сел Давлеканов, был не простой, а грубо-холщовый.
— Посмотрите, посмотрите, — тараторил Краус, — здесь вы найдете все, что за последнее время выпускает наша химическая промышленность!
«Интересно, что же за последнее время выпустили немцы? — Давлеканов листал каталог. — Ну, здесь ничего нового, а вот этого у нас нет. А это… — Давлеканов поднял брови, — это формула того самого второго компонента силового клея, который мне никак не удается сделать в должном количестве. Формула немного другая, чем моя окончательная формула, и это тем более интересно».
Давлеканов поднял голову. На фоне шерстяной розово-зелено-рыжей стены стоял элегантный Костров. Он что-то говорил веселым, оживленным немцам, говорил медленно, взвешивая каждое слово, моргая от натуги густыми ресницами. Тут же, в восторге оттого, что все идет отлично, подпрыгивал доктор Краус. Давлеканов при виде его очень развеселился. «Ну, молодец, воробушек, что ты засадил меня за этот стол, — сказал он самому себе, — а теперь ты принесешь мне в своем клювике немного этого вещества». Но этого показалось Давлеканову мало — кутить так кутить! Он стал быстро перелистывать каталог. Наверняка тут должен быть и первый компонент. Вот он, пожалуйста!
— Уважаемый доктор Краус! — сказал Давлеканов.
Тот подошел к столу.
— Не могли бы вы, если это, конечно, нетрудно, достать для меня образчики вот этих двух веществ? — Давлеканов показал формулы в каталоге. — Ну, хотя бы граммов по двести?
Краус близко поднес каталог к выпуклым глазам.
— О, конечно, доктор Давлеканов, конечно, хоть килограмм! — Он вытащил из кармана серебряную книжечку и серебряным карандашом записал формулы.
А Давлеканов совсем обнаглел. «Хоть килограмм! — соображал он. — А где один килограмм, там и два и три!» — Перед ним блеснула великолепная перспектива — два-три килограмма этого продукта могли бы ему сократить работу над клеем на два-три года!
— А что, любезный доктор Краус, — Давлеканов взял его за пуговицу, — нельзя ли здесь у вас достать этих веществ килограмма два-три?
Только секунду Краус неподвижно глядел на Давлеканова своими выпуклыми глазами, но Давлеканов понял — это сложно.
— Это вполне возможно, дорогой доктор Давлеканов, но тут нужно письмо, требование от вашего института за подписью доктора Кострова. Вот и все!
Давлеканов ликовал. Ну, можно считать, что желаемое у него в кармане! Неужели Костров откажется подписать? И вот тогда Давлеканов поставит настоящий эксперимент! Он уже не будет «командировочным с паровозиком». Он покажет всю силу конструкционного клея!
Когда на другое утро Костров и Давлеканов пили чай в столовой, к ним влетел сияющий, розовый доктор Краус. Он принес Кострову коробочку с образцами покрытий, а Давлеканову — два пузырька с жидкостями.
Днем было совещание с представителями науки и промышленности. Оно носило характер скорее торжественный, чем деловой. Подавали кофе, говорили комплименты. И все же Давлеканов понял, что здесь, в Германии, можно будет узнать много полезного. Надо будет тщательнейшим образом подготовиться к завтрашнему разговору с производственниками.
После обеда Давлеканов пошел к себе наверх отдохнуть. На тумбочке возле кровати стояли пузырьки, которые принес Краус. Давлеканов взболтнул их и смотрел, как жидкости успокаиваются. С таким количеством, конечно, ничего решающего не сделаешь, но две металлические детальки можно будет склеить. А вдруг он достанет килограмма два? Это было бы роскошно! А сейчас он держит в руках два пузырька, и ему ужасно, нестерпимо хочется что-нибудь склеить! Хочется опять увидеть духа, который вылезает из чашки.
Он спустил ноги с кровати, стал надевать ботинки. Э-э-э! Подметки-то пронашиваются! Так вот тебе и задача — разве плохо иметь новый, особо прочный обувной клей? Полезная, благородная задача! Для такой задачи не жалко нескольких капель драгоценных жидкостей! Давлеканов посмотрел на печку. Она стояла в своем углу, устойчивая, солидная, и одобрительно поблескивала украшениями.
Давлеканов надел туфли, завернул ботинки, положил во внутренний карман два пузырька и пошел разыскивать сапожника.
Он свернул на широкую улицу с одинаковыми плоскими домами из мелкого желтоватого кирпича. Спокойные, неторопливые немецкие хозяйки переходили улицу, заходили в магазины. Кто же подбивает этим фрау их устойчивые каблуки? Вот сапожная артель! Нет, здесь слишком много народу.
Он свернул в переулок. Нет, нигде не видно вывески сапожника. Вдруг он заметил подметку, нарисованную прямо на стекле низкого окошка, а под ней надпись — Отто Шульц. Заглянул в окно — полки. На них башмаки. Давлеканов толкнул дверь, ярко начищенный колокольчик зазвенел у него над головой. Хозяин, в очках, с небольшой бородкой, в чистой клетчатой рубашке с закатанными рукавами, стоял за прилавком. Сзади на плитке шумел чайник. У хозяина был посетитель, он держал в руке сверток. Шел неторопливый разговор о ярмарке, о погоде… Это приятель хозяина или его заказчик? Наверное, и то и другое. Давлеканов присел на табурет у окошка. Посетитель развернул, наконец, сверток и поставил башмаки на прилавок. Башмаки были старые, изуродованные подагрой. Сапожник и заказчик стали не спеша, деловито рассматривать кусочки кожи, выбирая цвет и качество заплаты, и с увлечением обсуждать ее размер и форму.
Уходя, посетитель как бы между прочим, продолжая разговаривать, вынул двумя пальцами из жилетного кармана монетку и жестом, не имеющим значения, положил ее на прилавок.
Посетитель ушел, колокольчик над дверью прозвенел и смолк, Давлеканов подошел к прилавку и неожиданно почувствовал себя тоже приятелем сапожника. Сапожник показал ему разного сорта и толщины подметки из заменителей.
— Это прочнее кожи! Это никогда не износится! — Он мял и сгибал подметки, хлопал ими о прилавок.
Давлеканов перебирал подметки — эти эрзацы тоже хорошо бы помазать клеем, но лучше кожу. Наши заменители наверняка отличаются от этих, а кожа всегда кожа.
— Скажите, а нет ли у вас кожаных подметок?
Сапожник поднял очки на лоб и с интересом посмотрел на Давлеканова.
— Кожа? Конечно, найдется и кожа. Только я не знаю, зачем вам кожа. Любой заменитель…
— Нет, мне все-таки нужна кожа.
— Пожалуйста! — сказал сапожник. — Наверно, вы очень состоятельный человек!
Сапожник вышел в маленькую дверь за прилавком и вернулся с желтыми, глянцевитыми подметками. Он хлопнул ими о прилавок. Сильный, острый, ни с чем не сравнимый запах кожи словно опьянил сапожника. Нет, он совсем не так держал в руках кожаные подметки и смотрел на них по-другому. Когда-то был только один материал — кожа. Он поглядел на Давлеканова. Ему было приятно, что оба они понимают толк в настоящем материале.
— Эрзац! — сказал сапожник грустно. — Всюду эрзац! И мы привыкли. Мы думаем, что это хорошо и что так и должно быть. Но когда приходится иметь дело с настоящим материалом, — сапожник провел рукой по подметкам, — о-о-о! Это доставляет большое удовольствие! Оставьте мне ваши башмаки, к утру они будут готовы.
— А что, если, — сказал Давлеканов, — мы сделаем это сейчас, при мне?
— При вас? Но ведь клей должен высохнуть, вам придется долго ждать!
— Двадцать минут! Двадцать минут, и ни минуты больше!
Сапожник смотрел на него, придерживая очки на носу.
— Дело в том, что я хочу доверить вам один секрет.
В глазах сапожника вспыхнуло любопытство. Он опустил очки. Давлеканов поставил на прилавок два пузырька с притертыми пробками.
— Это еще не клей, — сказал он. — Найдется у вас чистая баночка?
Конечно, у сапожника нашлась консервная банка с аккуратно загнутыми краями.
— Теперь, — торжественно сказал Давлеканов, — я попрошу вас подготовить мои башмаки и подметки.
Сапожник взял башмаки, внимательно осмотрел их и уселся позади прилавка у верстака. Давлеканов сидел по другую сторону прилавка и курил сигарету. Он смотрел, как двигались локти сапожника, как он покачивался в такт работе, как легко и ловко поворачивались инструменты в его руках.
Слабо светилась зеленая штора на окне. Яркий круг света ложился на верстак, где обрабатывался башмак Давлеканова. Как живые существа, смотрели с полок башмаки и туфли, подновленные, почищенные, но с теми морщинами и выпуклостями, которые оставили на них ноги владельцев.
Сапожник работал еще несколько минут.
— Готово! — сказал он.
— Вы позволите зайти за прилавок? — спросил Давлеканов.
— О, конечно! — Сапожник вытирал руки о фартук.
Давлеканов налил в банку жидкости из одного пузырька, прибавил несколько капель из другого — пш-ш-ш! — зашипело в балке. А то, что в ней было, стало медленно, с шипением подниматься, как кофе на огне.
— Помазок для клея! — попросил Давлеканов.
Сапожник подал ему помазок.
Давлеканов быстро, но тщательно намазал пенистой массой подметки.
— Теперь зажимы!
Сапожник подал зажимы.
— Сейчас мы вобьем деревянные шпильки…
— Не надо. Будет достаточно крепко. А теперь мы подождем ровно двадцать минут. Курите, пожалуйста!
Оба сидели молча и курили, поглядывая друг на друга. Минуты шли черепашьим шагом. Немного развлекла Давлеканова кукушка на часах сапожника. Раздалось шипение, стукнула маленькая дверца, как сумасшедшая, в страшной спешке выскочила из деревянного домика кукушка, быстро прокуковала пять раз, юркнула обратно, и тут же за ней захлопнулась дверца.
Наконец Давлеканов сказал сапожнику, что можно снять зажимы.
Давлеканов попробовал — прочно. Сапожник попробовал — прочно.
Когда Давлеканов спросил сапожника о цене, тот взял с него только за материал, и то по какой-то пониженной расцепке.
— А работа… я же почти ничего не сделал! Вот если бы вы могли прийти еще раз и сообщить мне, как это будет держаться! Это очень, очень интересно! Я работаю уже тридцать лет и никогда не видал такого клея! Пш-ш-ш! — Сапожник развел руками и засмеялся.
Колокольчик зазвенел, дверь открылась, на улице хлестал дождь. — Может быть, вам лучше подождать? — сказал сапожник. — Дождь скоро пройдет.
— Нет, что вы! Сейчас будет хорошая проверка на водостойкость!
Как приятно шумит дождь на улице! Все кругом бегут, прикрывшись кто зонтом, кто сумкой, а Давлеканов медленно шагает по лужам.
— Такой дождь на дворе, герр доктор совсем промок! — говорила фрау Берта, выходя на крыльцо, чтобы вытряхнуть плащ Давлеканова. Стоя на коврике в передней, он поднял одну ногу, попробовал подметку — держится, попробовал другую — держится.
— Грета! — кричала Берта. — Отнеси в ванну горячей воды, герр доктор непременно должен попарить ноги, а то он простудится.
Давлеканов выпрямился, сестры увидели его мокрое довольное лицо.
— Герр доктор сегодня очень веселый. Крупная удача в делах?
— Не очень крупная, — засмеялся Давлеканов, — просто сапожник приклеил мне новые подметки, и они очень хорошо держатся, даже на сырости!
— Да-а-а, — разочарованно протянула фрау Берта, — это совсем маленькая удача.
— Но иногда маленькая удача бывает частью большой, а я надеюсь на большую.
— О, желаю вам, желаю вам! — пылко сказала Берта и приложила к груди костлявые руки.
Давлеканов был в отличном настроении. Чтобы доставить удовольствие добрейшей фрау Берте, он опустил ноги в горячую воду. А когда, выйдя из ванны, взглянул на улыбающиеся, полные готовности всячески позаботиться о нем, лица «сестер-кармелиток», он вдруг сказал:
— Уважаемые дамы! Могу ли я просить вас разделить с нами ужин?
Подошедший Костров удивленно поднял брови, а дамы вспыхнули, как девочки.
— Если дамы разрешат, я принесу бутылку легкого вина.
Сестры присели в знак согласия.
— Но тогда, — сказала Берта, — нам придется отложить начало ужина на полчаса.
Мужчины охотно согласились, но Костров сказал, что он на этом ужине не задержится — завтра ответственная встреча, надо подготовиться к ней. Давлеканов тоже собирался вечером поработать, но теперь решил, что лучше встанет завтра пораньше.
Через полчаса Давлеканов, гладко причесанный, с бутылкой вина, спустился вниз и остановился на пороге столовой. Коричневые с узором занавеси были задернуты и лежали глубокими складками. Камин горел и разбрасывал по комнате движущиеся теплые блики, зажигая искры в тонких бокалах на столе, в хрустальной вазе с белыми душистыми флоксами.
Даже Костров оживился и, улыбаясь, уселся за стол. Костров и Давлеканов ужинали сегодня в обществе интересных дам. Взбитые прически, подкрашенные губы, кружевные воротнички на темных платьях, а главное — молодые улыбки и блестящие глаза. Морщины, грубые руки, вставные челюсти — все это пропало в шаловливом теплом свете горящего камина.
Давлеканов произносил тосты. Фрау Грету он назвал прелестной наивной фарфоровой пастушкой и пожелал ей отыскать своего пастушка.
Фрау Берте он сказал:
— Я пью за ваше большое сердце, дорогая фрау. Оно не знает границ.
А Кострова назвал крупным ученым и большим человеком. Это было немного слишком. Костров сперва забеспокоился, не ирония ли это? Но потом развеселился и стал усиленно угощать Грету. Завели патефон. Костров пригласил свою соседку.
Потом Костров извинился и ушел, а фрау Берта заявила, что ей очень хочется танцевать кэк-уок! Она так давно не танцевала кэк-уок! Она так взбрыкивала своими огромными ногами, что Давлеканов просто умирал от хохота. Втроем им стало еще веселее. Давлеканов показывал сестрам простенькие фокусы, они ахали, всплескивали руками, потом стали учить его немецким песенкам. Усевшись на низкой скамейке перед камином, обняв друг друга за плечи, они распевали втроем и раскачивались в такт песне. Это было совсем по-немецки.
«Милые старые лошади! — думал Давлеканов, лежа в кровати и глядя на печку. А печка ласково посверкивала бликами на своих узорных боках. — И Костров в общем тоже неплохой малый. Я его уговорю. Он подпишет письмо. Сам его составлю, а он подпишет… И я не буду больше „Давлекановым с паровозиком“! Вот вы говорите — игрушка, игрушка! Теперь вы узнаете, что это за игрушка. Вы узнаете, какая это сила. Дайте мне два настоящих паровоза, и я сделаю из них сиамских близнецов!» — И Давлеканов заснул.
Фрау Берта погрузила высокий белый чайник в кастрюлю с кипятком.
— Скорее, Грета, они уже в столовой!
Грета крутила ручку круглого механического ножа. На доску, сгибаясь, шлепались тонкие, розоватые посредине листочки ростбифа. Теперь уложить их на блюдо, немного зелени, кружочки помидоров, несколько маслин. Грета вытерла полотенцем руки и посмотрела на них. Следовало бы заняться руками. Крем, маникюр… Грета пошевелила пальцами, взяла ложку с зубцами и стала с ее помощью превращать масло в воздушные цветочки. Потом взглянула на себя в карманное зеркальце и поправила волосы. Как было весело вчера! Фрау Грета уже давно привыкла к тому, что она старая кухонная крыса. Она даже гордилась своим уменьем делать невесомые цветочки из масла. А со вчерашнего дня в ней поднялось и зашумело что-то непонятное. Что-то непозволительно молодое. Подхватив блюдо с ростбифом, фрау Грета ринулась в столовую.
А фрау Берта, слушая бульканье кипятка в кастрюле, глядя, как он взбирается все выше и выше по белому боку чайника, радостно улыбалась. Как тепло, по-семейному было вчера! Давно-давно у них с Гретой не было праздника. Что и говорить, это все благодаря желанию того жильца, блондина. И ему нисколько не было скучно с пожилыми дамами. И какие веселые штуки он выдумывал! И как смеялся сам! И вдруг желтые щеки фрау Берты порозовели — она, кажется, танцевала кэк-уок! Ай-ай-ай!
Ну, довольно воде кипеть! Фрау Берта подняла крышку чайника. Терпкий аромат чая поднялся вместе с паром.
Войдя в столовую, Берта увидела нетронутое блюдо на столе, чистые тарелки и взволнованные, раздраженные лица жильцов.
Блондин держал в руках исписанный лист бумаги, а тот, с волнистыми волосами, ударял ребром ладони по столу, и протестовал, и не соглашался. Берте так хотелось что-то сделать для блондина. Он терпит неудачу. Голос его стал звонким, он доказывает что-то свое, но тот, серый, он из железа.
— Нет, я не смогу это подписать! Институт не уполномочивал меня приобретать этот продукт!
И тут в столовую впорхнул Краус.
— Вы не забыли? Взгляните в свои программы! Сегодня у нас совещание с представителями завода! — радостно сообщил он.
Совещание происходило в небольшой сравнительно комнате в здании химического института.
Давлеканов и Костров рассказывали немцам о материалах, немцы — о способах обработки. Это было очень интересно. У них применялись новые, не знакомые нам методы. Давлеканов исписал несколько страниц своей записной книжки, он старался не упустить ничего важного. Понравился ему старший мастер завода — невысокий, плотный, в просторной рыжей куртке, с трубкой в зубах и вечно прищуренным левым глазом. Вот кто дело знает!
Этот обстоятельный, детальный разговор объединил их всех. И Костров разговорился, увлекся, видимо, ему легче было о химии говорить по-немецки. Давлеканов почувствовал в нем ученого, досада от утреннего разговора немного остыла.
Когда они, очень довольные встречей, вышли на улицу, Краус сказал:
— До обеда остался час. Хотите, я поведу вас в магазин марок? Ведь вам, доктор Кострофф, нужны марки для вашего сына? Мне это доставит большое удовольствие. Я ведь старый филателист. Ах, наклеивать марки! Это ни с чем не сравнимо! Когда, приняв ванну, в домашних туфлях, я направляюсь в кабинет, жена знает — меня не надо тревожить. И я беру лупу, и погружаюсь в мои альбомы, и я путешествую, и я разгадываю тайны… До боли в глазах я разглядываю сильно увеличенный угол какой-нибудь марки, гашенной пером, от руки, и я рассказываю себе историю этой марки и того, что происходило в стране, когда она была выпущена, и я представляю себе, что за человек был почтовый чиновник, своей рукой погасивший марку, и я изучаю снова и снова все утолщения и зигзаги подписи… — Краус поднял руку и пошевелил пальцами. — Это лучшие минуты моей жизни!
Краус с упоением рассказывал Кострову о марках мировой известности, баснословной стоимости. Тут были истории с ограблениями и убийствами, как будто дело шло о жемчугах и бриллиантах. Костров с удивлением узнал также, что марки без чего-нибудь (например, без зубцов, без водяных знаков) ценились дороже, так как такие марки выпускались в связи с экстренными событиями.
— Для филателиста не существует мелочей! — говорил Краус.
Давлеканов поглядел на Кострова. У того совершенно изменилось лицо — оно смягчилось и в серых глазах было детское изумление. Как, те самые марки, которых он никогда не замечал, содержат в себе столько интересного?
— А когда я был мальчиком, — Краус повернул разгоряченное лицо к Давлеканову, — и узнал, что марки можно просто так, за простые деньги купить в магазине, я был разочарован. Я думал, что за марками надо охотиться, пускаться за ними в дальнее плаванье, добывать их с бою…
В магазине было темновато. Солидные люди в белых рубашках без пиджаков солидно поворачивались среди темных полированных шкафов, на прилавке были разложены альбомы, прозрачные конверты с марками, на стенах висели застекленные витринки.
Давлеканов опустился в кресло у круглого столика, взял альбом и погрузился в него. А вокруг шумели приглушенные голоса, и в шкафах, на столах, сзади, спереди, с боков хранились несметные неизвестные богатства. Так бы и не уходил отсюда! Кое-что, конечно, можно купить на командировочные деньги, но хотелось чего-нибудь особенного. На особенное не хватит. Краус хлопотал у прилавка, отбирая марки для сына Кострова.
— Я рекомендую вам это. Англия. Колонии. Жирафы. Носороги. Очень красочно. Или вот — Южная Америка. Попугаи. Смотрите, как эффектно! Ваш сын принесет их в школу, и мальчики умрут от зависти.
Давлеканов подошел к прилавку посмотреть, что за марки отобрал Краус, и порекомендовал еще несколько штук. Он представил себе счастливое лицо кудрявого Мишки, который получит это богатство, и улыбнулся.
— У меня с собой тоже есть интересные марки, — сказал он. Марки он захватил на всякий случай — подарить кому-нибудь, может быть, обменяться…
Краус живо повернулся к Давлеканову:
— У вас есть марки? О-о-о, как бы я хотел их увидеть!
— Ну что ж, заходите ко мне после обеда, так через час примерно, я с удовольствием их вам покажу.
— Непременно, непременно, спасибо, и я тоже принесу вам что-нибудь показать…
Они вышли на улицу. Их обдало солнцем и асфальтовым теплом. Костров был очень весел. Он шел в расстегнутом пиджаке, размахивал руками, смеялся… Давлеканова взяла досада. «Ну да, тебе можно веселиться — отказался подписать требование — и никаких отступлений от программы! А мне вот приходится ломать мозги, как тебя обойти. Как же мне прыгнуть через Кострова? Шпринген юбер Кострофф?»
И дома, после обеда, он все думал о том, как же ему прыгнуть через Кострова? Жалко все-таки упускать такую возможность. И вдруг ему в голову пришла шальная идея. Шальная, но что, если… Нет, несерьезно как-то…
А все-таки…
Будь у него побольше времени для раздумья, он бы, наверное, отказался от этой мысли. Но Краус должен был прийти с минуты на минуту. Надо было решаться. Давлеканов решился. Он живо вскочил и стал раскладывать на овальном, орехового дерева столе привезенные с собой марки. Он остановился на одной. Как же ее показывать? Сперва две-три довольно интересные марки, потом, после паузы, сделав вид, что больше ничего нет, выложить ее.
Марка была большая, горизонтальной формы. На белом фоне — густо-карминный рисунок: сигарообразный дирижабль, рядом — фигура рабочего, за ним — улица с уходящими домами. Марка, посвященная визиту дирижабля «граф Цеппелин» в Москву в 1930 году.
Редкая советская марка, без зубцов.
Давлеканов решил взять ее на всякий случай, уж очень подходила по сюжету — русские принимают немецких гостей. Он решил тогда — ну, она уже у меня побыла, обменяю ее на другую. А сейчас ему стало жалко. Нет! Марку нечего жалеть! Если все получится так, как он задумал, то… Тихо, тихо, может и не получиться. Очень хорошо, что марка великолепная. Краус должен не просто закипеть, как чайник. Он должен выплеснуться через край! И тогда Давлеканов намекнет ему…
Давлеканов разглядывал прелестную серию старогерманских марок.
— Да-а-а… — шептал он. — Да-а-а… Классика!
Эти цвета в каталогах носят грубые названия: красный, фиолетовый, синий… Но разве эти тающие, блеклые тона — фиолетовый? Красный? Фарфор! Настоящий старинный фарфор! Вот «фиолетовая» марка. Бледно-сиреневый фон покрыт изящнейшей, тончайшей сеткой, от которой он кажется еще нежнее. В круглом белом медальоне рельефно выделяется белый тисненый орел. Краешек черного нечеткого штемпеля еще больше подчеркивает нежность тона и белизну марки. У Давлеканова есть немецкие марки, но нет альбома. Эта серия могла бы положить начало немецкому альбому, и сколько блаженных часов провел бы он, систематизируя, изучая, и наклеивая эти марки! Он осторожно, ногтем приподнял одну марку, чтобы посмотреть водяные знаки. Краус тут же подал ему пинцет и лупу.
«Нет, это невозможно. Не могу же я держать эту серию в руках и вот так, за здорово живешь, отказаться от нее!» — Давлеканов взглянул на Крауса и понял, что тот давно с нетерпением ждет, что же ему покажет Давлеканов.
— Вот что я хотел вам показать. — Он быстро разложил на столе те марки, не самого высокого класса. Краус сквозь лупу посмотрел их. Он был заинтересован. Он разглядывал марки, говорил об отдельных деталях…
Давлеканов небрежно протянул ему прозрачный конверт.
— Тут у меня еще кое-что!
Осторожно, пинцетом вытащил Краус марку, положил ее на стол и, заложив руки за спину, нагнулся над ней. Потом в одну руку взял лупу, другой стал дергать себя за разрез на пиджаке.
— О-о-о! — произнес он, наконец, разогнувшись. — Эта марка… — он пошевелил пальцами, — эта марка, она стоит того, чтобы я отдал вам за нее всю серию, которую принес. — Краус выжидающе смотрел на Давлеканова. «Он готов, — отметил тот про себя, — и я вот сейчас, сию минуту, должен задушить в себе филателиста и рискнуть карминовой маркой, а также „фарфоровой серией“! Может быть, я потеряю и то и другое и ничего не получу взамен». Давлеканов прошелся по комнате, взглянул на зеленую печку, остановился, перед Краусом, заложив руки в карманы.
— Нет, — медленно проговорил он, — я не буду меняться!
— Но почему?
— Я подарю ее вам.
— Я не могу, — прошептал Краус, — принять этот подарок, мои жизненные правила мне не позволяют.
— Нет, нет… Я теперь не так уж увлекаюсь марками. Вы доставите мне большую радость, если согласитесь ее принять.
— Но скажите, скажите тогда, что бы могло сделать вас счастливым?
— Я уже достаточно взрослый человек, — сказал Давлеканов. — Ну, что бы могло сделать меня счастливым? Разве что два-три килограмма того вещества (он назвал формулу), которое вы принесли мне в маленькой бутылочке. Кстати, я так и не спросил вас, для какой цели оно изготовляется в Германии?
— Для производства каучука…. — растерянно отвечал Краус. Он не понимал, шутит Давлеканов или говорит всерьез.
— Если бы у меня, — продолжал Давлеканов, — было это вещество в нужном количестве, я бы мог сейчас довести до конца одну работу, которая для меня важнее всего на свете, поэтому получить его было бы для меня большим счастьем. Но не будем, не будем об этом говорить…
— Ведь мы уже говорили об этом, доктор Кострофф…
— Оставим в покое доктора Кострова и эту тему, — перебил его Давлеканов. — Берите марку, она ваша. Вот послушайте одну занимательную историю, которая случилась с филателистом…
Вечером Краус повел Давлеканова на «маленькую ярмарку». Костров отказался — ему нужно было готовиться к докладу.
Шумная, пестрая, уютная маленькая ярмарка! Кто встречает вас на маленькой ярмарке? Дамы в турнюрах и перьях. Мужчины в котелках, с усиками. Они нарисованы на балаганах. Они из прошлого века! А что это грохочет и крутится? Американские горы! Они оснащены новейшей техникой, они из сегодняшнего дня! Пожалуйста, вы можете получить сразу сто удовольствий! Вас будут вертеть, швырять, подбрасывать, переворачивать вниз головой с одновременной боковой качкой.
Тут был светящийся скелет в галерее ужасов, который огрел Давлеканова палкой по спине. Тут был заводной человек с толстыми черными бровями, которые все время прыгали… Тут был Краус, который в этом неярком, дымном свете казался лукавым немецким гномом. Он держался с Давлекановым заговорщически, и Давлеканов чувствовал себя сродни и скелету, и заводному человеку, и гному Краусу. И он хохотал и толкался в узких проходах, и нырял в густой чад, и ел жареные сосиски, и пил пиво, и покупал лотерейные билеты, и выиграл чертика с красным языком. И они с Краусом сели в какой-то маленький трамвайчик. Их крутилось множество на небольшой площадке. От каждого трамвайчика тянулся вверх провод, за рулем сидели парни, сзади них — девушки, они визжали на поворотах, с проводов сыпались искры. Краус бешено закрутил рулем. Чудом уворачивались они от других трамвайчиков, проскакивали между ними. Они захватили площадку. Теперь они нападали, а другие отскакивали, уступая им дорогу. Они могли загнать в угол кого угодно…
Вечером накануне отъезда Кострова и Давлеканова «сестры-кармелитки» устроили прощальный ужин. Снова был зажжен камин, снова стояли в вазах цветы.
— Я желаю вам счастья! — Фрау Берта положила руку на рукав Давлеканова. — Я желаю вам полной удачи в вашем деле. Да, да, у вас все будет хорошо! — Она посмотрела на него необыкновенно добро и радостно.
«Святая душа! — подумал Давлеканов. — Если бы ты могла, ты сварила бы мне силовой клей в своей кастрюльке с риском взорваться вместе с кухней».
Прощаясь с сестрами, Давлеканов и Костров подарили им сувениры из Москвы. Фрау Берта и фрау Грета разложили перед ними свои рукоделия. Это были футляры для гребенок и закладки для книг с вышитыми на них цветочками и изречениями.
— А вот это вашей супруге! — Фрау Берта протянула Давлеканову голубое сердечко на тонкой цепочке.
Низко склонившись, он поцеловал большую, побелевшую от воды и соды, с распухшими суставами руку фрау Берты. Она поцеловала его в голову.
За пять минут до отхода поезда Давлеканов и Костров вошли в вагон. В купе, с высокой картонной коробкой, стоял Краус. Его лицо было красным, он обмахивался платком.
— Это?.. — Давлеканов показал на коробку.
— Это! — кивнул Краус. Он пыхтел, как чайник, который вскипел окончательно.
Давлеканов не успел ничего сказать, поезд тронулся, Краус выбежал из вагона…
Давлеканов молча ел бифштекс, поглядывая на Кострова. Он видел Крауса, видел коробку, что же он ничего не спросит?
А Костров не обращал на Давлеканова никакого внимания. Он ел и пил с большим удовольствием.
— А знаете, я очень благодарен вам и Краусу… — неожиданно сказал он.
— За что же?
— За то, что вы оба открыли передо мной совершенно неизвестный мне мир. Я говорю о марках. Я думал, Мишка мой собирает марки, наверное, это детская игра. И мне в голову не могло прийти, что в этом мире среди взрослых разыгрываются такие страсти! Нет, подумать только! — И Костров снова уткнулся в тарелку.
Костров покончил с бифштексом, щелкнул зажигалкой. Настроение у него было самое благодушное.
— Да, — сказал он и выпустил сильную струю дыма. — У вас, так сказать, страсть нашла на страсть. И то, что ваша страсть к делу победила… Короче говоря, Краус очень живо изобразил мне сцену с марками, которая произошла между вами… В общем в искусстве убеждения вы перед ним — ничто! Я стал искать такой пункт, по которому могло бы пройти это требование в отчете о нашей командировке.
— И нашли?!
— И нашел. Теперь с вас магарыч — марки моему Мишке!
14
Я видела их сама
— Дорогая, это я! — сказал мне брат по телефону. — Приходи, попереживаем вчерашнее!
А вчера было вот что: брат пригласил своих товарищей по институту поужинать с ним в ресторане и отметить два события — выход в свет его книги о клеях (итог многолетней работы) и защиту по этой книге докторской диссертации. И вот перед гостями предстал новенький, только что вылупившийся доктор наук с молодой, в темно-красном, зернистом переплете, толстой книгой в руках.
— Я никого тебе не буду называть! — сказал он мне накануне. — Сама должна догадаться, кто — кто.
Кострова я узнала сразу. Только он показался мне очень большим. По рассказам брата я представляла себе его поменьше.
Детское простодушие в соединении с неприступной безукоризненностью было главным обаянием Кострова.
— С ним, наверное, непросто! — говорила я брату, сидя в его комнате возле круглого столика. — Со всеми мил, любезен, а дистанцию держит.
— Дистанция, дистанция! Юмора у него нет!
Танюша в крохотном фартучке появилась в дверях.
— Я при нем рассказала анекдот, все захохотали, а он пожал плечами и отошел.
— Воображаю твой анекдот!
— Очень смешно: про то, как дамский портной…
— Ну, довольно, довольно…
— А без юмора это не мужчина! — Танюша исчезла.
— Эрнеста Эрнестовича я узнала, но с маленькой заминкой. Подходит ко мне седой, краснолицый, плотный мужчина и говорит: «А мы с вами когда-то в теннис сражались!» И вдруг я вспомнила: смуглый, черноволосый, в руках теннисная ракетка…
— Ну, это легко, ты его все-таки раньше знала, да он еще про теннис напомнил, а вот Федосеенко ты не узнала!
— А, это тот, который говорил, что по тебе можно часы проверять? Я как-то не думала, что он такой черный, и про усы ты мне не говорил… А зато какую я трудную загадку-то отгадала, а?
— Ну, тут уж ты была на высоте! Тут уж ты была просто мадам Пинкертон!
А дело было так.
Когда я вошла в небольшой уютный зал ресторана, многие уже собрались. Брат помахал мне рукой, он стоя разговаривал с каким-то брюнетом. Танюша, очень эффектная, в костюме с зелеными искрами, с пышной прической, занимала разговорами сразу двух дам, живо поворачиваясь то к одной, то к другой. Куда же мне сесть? Вон мелькнула знакомая светлая голова Бориса Ивановича. Милый он, Борис Иванович, у него такая манера — все время наклонять голову то к одному плечу, то к другому. Это у него от веселости и от застенчивости. А волосы при этом распадаются, и он загребает их пятерней обратно. Лицо у него, в общем-то неказистое, нос очень широкий, но такое приятное… Я только подняла руку, чтобы помахать ему и сесть рядом, как брат окликнул меня:
— Дорогая, садись вон туда, рядом с начальством!
— Лучше с тобой, зачем мне начальство?
— Нет, нет, я тут… Мне нужно поговорить, а ты — вот сюда! — И он быстро посадил меня рядом с пустым стулом во главе стола, а сам пошел встречать еще кого-то.
Я села, с тревогой глядя на дверь, откуда должно было появиться неведомое мне начальство. Дверь отворилась, в нее просунулись робкие мордочки девушек, и они стайкой, фыркая, пробежали к камину. За ними медленно прошаркали узенькие, с независимо поднятыми плечами молодые люди в темных свитерах без галстуков. Становилось шумно, молодые люди смешили у камина робких девиц… Люди не просто знакомые между собой, а сжившиеся на работе. А я никого и ничего не знала, и к тому же призрак какого-то «начальства» витал над пустым стулом, а я всю жизнь боялась начальства. Но вот в двери мелькнуло смуглое лицо, и прямо на меня глянули коричневые, простодушные глаза. Митя Сапожников!
— Сюда! — кивнула я ему. Спасение! Он пробрался ко мне и занял пустой стул. Мне сразу стало хорошо и уютно. Митя долго смотрел на меня молча. У него были приподнятые, удивленные брови, как две скобочки. Словно, встречаясь с людьми, он выныривал ненадолго из своего мира науки, и все его удивляло. Особенно люди. Он всегда радовался людям.
— Никак не припомню, где я тебя видел в последний раз, совсем недавно?
— В овраге. В воскресенье, две недели назад. Я шла по дну оврага, а ты скатился ко мне сверху с рюкзаком и палкой.
— Ну да, в овраге, помню, помню. Снега еще не было, на лыжах нельзя, приходилось пешком бегать…
— Ты мне похвастался, что уже сделал километров десять и что это очень освежает голову. Ну, как ты? Про сына расскажи!
Но Митя ничего не успел мне рассказать, его схватили и увели куда-то. Опять пустой стул? Да где же это самое начальство, хоть бы уж скорей пришло!
Разговоры затихли, все повернулись к столу, Костров встал во весь свой великолепный рост с бокалом в руке.
Костров говорил солидно, подкрепляя слова медленными движениями левой руки, а дверь в это время скрипнула, в нее просунулась голова с полуседыми разбросанными волосами, потом выдвинулось плечо, и появился крепкий небольшого роста человек в свободном сером костюме. Он повернулся лицом к двери и осторожно стал ее закрывать. За столом началось шевеление, но человек помотал головой, бочком-бочком пробрался вдоль стола и — бац! — уселся рядом со мной на пустой стул.
— Здравствуйте, Нина Николаевна! — Он повернулся ко мне и дружески пожал мне руку, обеими руками, разглядывая меня так, как будто я была его родственница, которую он не видал много лет, а все-таки узнал.
Нет, я его никогда не видела. Ни этих волос, ни этого лба, ни глаз, которые хитро поглядывали на меня из-под складчатых век. Я посмотрела на брата. Кто это? Он улыбнулся мне, а моему соседу подмигнул как-то очень по-свойски.
— Ведь мы с вами знаем друг друга много лет.
— Подождите, постойте… — Голос, интонации… голос с небольшой хрипотцой… Где я его слышала? Я закрыла глаза. Да, слышала голос, не видя человека. Голос доносился ко мне откуда-то издалека, из телефонной мглы. «Лицо мифическое, телефонное»! Вот оно что!
— Здравствуйте, Иван Степанович! — твердо и весело сказала я. — Вам было легче, я все-таки немного похожа на брата.
А брат, который устроил мне этот сюрприз, изо всех сил вытягивал голову, чтобы услышать, что у нас происходит.
— Если бы я знала, что он такой прелестный, разве я ревновала бы его к тебе? — говорила я брату.
— А я знала! — В дверях опять возникла Танюша с батоном в одной руке и с ножом в другой. — Я знала, что он прелестный, а все равно ревновала. Я и теперь скажу: когда человек женат, нельзя с ним так долго говорить по телефону! — Танюша исчезла.
— Он не только прелестный, он еще тонкий! — продолжала я. — Ведь «лягушачий джаз» он сразу учуял!
В зале было шумно, брат мелькал то в одной кучке людей, то в другой. Время от времени о нем вспоминали и кричали что-нибудь вроде: «Какой клей сильнее силового? Великий, нерушимый клей дружбы». Или: «Выпьем за хорошее прилипание молодежи к Ариану Николаевичу!» Я разговаривала с Иваном Степановичем, а сама прислушивалась — мне казалось, что шум в зале имеет какой-то ритм. Может быть, просто выпила шампанского? Нет, в самом деле, из угла у камина доносится что-то вроде музыки. Ребята, тепло освещенные пламенем, сидели кружком. Одни держали у рта кулаки, другие ударяли себя по коленям. Иван Степанович прервал разговор, повернул к ним ухо… И вдруг встал. Разговоры стихли, и мы услышали странный концерт. Это было хлопанье, и гуканье, и верещанье. Ребята, ободренные вниманием, стали выводить немыслимые рулады. Это было похоже на лягушачий концерт в пруду, но так ритмично, так музыкально!
— Интересно, что получится из этих «лягушат»? — спросила я брата.
— Из них уже получается. Это в большинстве очень интересные ребята.
— А помнишь, Петя и Катя…
— Нет, эти другие… Они очень самостоятельны. Для Пети и Кати я был авторитетом, хотя разница в летах у нас была не такая уж большая. А эти сами себе авторитеты. Когда они мной довольны, называют меня почти в глаза «Давликом», а когда им кажется, что я ущемляю их самостоятельность, говорят: «У-у, Задавлик!» И тоже почти вслух…
— А Шурка-то, Шурка! Какой у него вид импозантный! Что-то в нем появилось новое… Да, вот что — очки! Очки-брови! У него ведь никогда не было бровей, а теперь появились — искусственные. Шурка стал прямо-таки яркой личностью!
— Да, ничего не скажешь, очки ему к лицу. Но он и вправду личность заметная. Велик Шурка, велик…
— А… Митя Сапожников… Разве не велик?
— У него величие в другом. О нем почти ничего не слышно. Если о нем и пишут, то всегда в каких-то незаметных журнальчиках, но с большим уважением к его работе. А он и не стремится, чтобы о нем было слышно. Он может на полдороге бросить работу, которая могла бы его прославить, и увлечься чем-нибудь таким, что, казалось бы, никому сейчас не нужно. И он прав. Ему дано работать в масштабе очень большого времени!
— А нельзя ли вас, в масштабе сегодняшнего вечера, пригласить в кухню попить чаю? — Танюша была уже без фартука и косынки, в зеленоватой пушистой кофточке. — У меня есть ватрушка и варенье из айвы!
15
Наш бывший жених
— Ах, люблю я рано утром выйти в лес, паучок по паутинке вверх полез… Ну как, дорогая, пройдемся?
Пройтись я всегда была готова.
— А Танюша?
Танюша высунулась из окна кухни.
— Варенье на плите — раз! — начала она загибать пальцы. — Молочница придет — два! И тысяча мелочей — три!
Брат снимал дачу на берегу реки, она медленно текла, вся в песчаных отмелях. По утрам или в сумерки брат любил посидеть на берегу с удочками. Он говорил, что ему хорошо думается в это время.
Мы решили пойти в рощу. Мы шли по дороге, исхоженной и изъезженной велосипедами. Вот сейчас она свернет направо, но мы туда не пойдем. Еле заметной тропинкой, раздвигая молодые елочки, мы проберемся влево — и вдруг засияет перед нами вся белая, теплая на солнце березовая роща.
— А знаешь, я на днях был у Шурки! — сказал брат.
— У какого Шурки?
— У какого? У Дымского, у нашего бывшего жениха!
— Что это тебя к нему занесло?
— Разные причины. Ну, во-первых, меня тут, знаешь, осенило. Придумал одну великолепную штуку! На реке сидел с удочками. И очень хотелось с кем-нибудь об этом поговорить, а Шуркина дача тут недалеко, всего в трех километрах. И еще насчет клея. Ведь он до сих пор не работает. В институте он получил полное признание, он уже называется «наш клей», мы его все вместе усовершенствовали, директор козыряет им во всех отчетах… А в промышленность мы его никак не внедрим. Никто на заводах не хочет ломать план, заниматься чем-то новым, ведь это риск! И отговариваются какими-то обидными пустяками — процесс не доработан, вернуть автору для доработки. Или нет подходящего помещения, нет аппаратуры, еще что-нибудь… И я подумал: поговорю с Шуркой, кстати, и об этом — вдруг чем-нибудь поможет? Вот я и съездил к нему.
— Ну и как? — Я даже заволновалась.
— Что ж, я сделал свои выводы.
— Ну, рассказывай, рассказывай!
Брат рассказал обо всем по порядку.
Как ярко и белесо было здесь днем! Блестела под солнцем вода, светлели песчаные отмели, на них копошились дети, отражения кустов казались нарядной, затейливой рамой реки.
Начинались сумерки. Детей увели по домам, отмели постепенно лиловели и словно удлинялись, отражения кустов становились чернее, чернее…
Он сидел неподвижно на камне с веером из удочек. И сумерки словно погружали его на какое-то темное дно. И только над деревьями, на том берегу, еще светилась жизнь. И он все смотрел на это золотистое, постепенно мрачнеющее небо и ждал, когда совсем погаснет золотистый свет, и ему было немного страшно остаться без света, одному на темном дне. Но когда погасла над деревьями последняя светлая полоска, поднялись вечерние прибрежные запахи — пахло речной водой, и водорослями, и чуть-чуть рыбой. Нет, человек не был сейчас на дне — вокруг него шла своя жизнь, молчаливая, сумрачная, таинственная, в которой главным были запахи… И в нем самом что-то стало меняться, и вдруг возникло в его мозгу нечто пока еще неопределенное. Это не была идея, это было предчувствие идеи, но оно уже поселилось в нем и стало быстро облекаться плотью.
По маслянистому гудрону в тени дышащих смолой сосен неторопливо катился «Москвич», серый с темным пояском.
Ариан Николаевич Давлеканов ехал к своему старому приятелю Александру Евгеньевичу Дымскому поделиться с ним новой идеей, а также, может быть, попросить его совета, а то и помощи.
Улица Сосновая. Так. Дача № 3. Это здесь. Мотор заглох.
Какая тишина! «Академическая тишина!» — подумал Ариан Николаевич. За заборами дач — пышные огромные деревья, не видно никого, не слышно ни звука, только птицы поют.
За невысоким забором дачи № 3 сторожка с гаражом.
Что теперь делать? Если войти в калитку (запертую на щеколду) и начать открывать ворота, чтобы въехать на «Москвиче», из сторожки выйдет кто-то незнакомый и закричит: «Эй, гражданин, что вам надо?» Этого ему совсем не хотелось. И вообще ему стало как-то не по себе. Он вспомнил, как не любил ходить к Дымскому в школьные годы, когда в большой столовой мама-профессорша разливала чай и спрашивала об отметках, об экзаменах, а позднее о работе: «Над чем вы сейчас работаете?» Или просто: «Над чем вы сейчас?» И надо было ей объяснять то, что ее нисколько не интересовало и чего она не понимала.
Сейчас мамы-профессорши нет. Но есть жена-профессорша. Какая она? Ариан Николаевич не знал.
Прямо до того вдруг не захотелось на этот безмолвный, заросший огромными деревьями участок, хоть назад поворачивай!
Он решил остановить «Москвич» на обочине у калитки, откинул щеколду и мимо сторожки (из нее никто не вышел) зашагал по аллейке вниз. Он шел довольно долго, дачи не было видно, ему не встретился никто. Наконец он увидел впереди просвет, налево — высокую, сложной архитектуры дачу из темных бревен, направо — обширную прямоугольную беседку с пестрым полом. Ариан Николаевич подошел ближе. За красным столиком сидели две девочки. Из дома на террасу вышла крупная женщина в халате, с растрепанными волосами. Женщина увидела его, подняла руки к волосам и исчезла в доме. Ариан Николаевич направился к беседке. Девочки его не замечали. Они сидели друг против друга и двигали одна к другой лист бумаги. Одна что-то нарисует, подвинет. Другая нарисует, подвинет обратно. Рисуют и обе хохочут.
Младшая девочка была очень похожа на Дымского в детстве, только не такая плотная.
А ее сестра его просто поразила — громадные черные глаза, необыкновенно черные и какие-то влажные и печальные на широком бледном лице. Блестящие черные косы с белыми бантами не прилегали к спине, такие они были тугие и толстые. А глаза… Даже когда девочка смеялась, они оставались печальными. Только у оленей бывают такие глаза.
Ариан Николаевич смотрел, смотрел на девочек, и вдруг ему захотелось спрятаться в зеленой гуще высоких кустов и оттуда на серебряной трубе резким, красивым звуком протрубить свой приход.
Ариан Николаевич размеренно зашагал по хрустящему гравию к беседке. Девочки посмотрели в его сторону и привстали.
— Кажется, я имею честь и удовольствие видеть сестер Дымских?
Младшая девочка хихикнула.
— Как вы думаете, согласится ли ваш высокоуважаемый папа уделить мне несколько минут?
— Сейчас! — крикнула младшая, и девочки побежали по узкой боковой лестнице на террасу. Младшая — легко, проворно, старшая — немного неуклюже. Тяжелые косы били ее по спине.
И вот звякнула на террасе стеклянная дверь и появился сам Шурка Дымский, в коричневой вельветовой куртке, по-домашнему. Какая-то соломенного цвета несущественная поросль светилась на куполе его яйцевидной головы. Черные широкие очки-брови придавали Шуркиному лицу важность и солидность. Шурка заспешил. Его короткие ножки в рыжих тапочках быстро, носки врозь, колени в стороны, перебирали ступени.
— Дымский! Дымога-ров! — крикнул снизу Ариан Николаевич.
— О-о-о! — завел Дымский, раскрывая руки.
— О-о-о! — в тон ему загудел Ариан Николаевич, и они, один снизу, другой сверху, не переставая гудеть, пошли на сближение. Дымский остановился так, чтобы быть выше Давлеканова, и сверху размашисто обнял его. Они традиционно похлопали друг друга по спине. А с террасы смотрела на них, улыбаясь, та самая женщина, которая выбегала в халате. Сейчас на ней было серебристое платье в крупных лиловых тюльпанах, с большим вырезом.
— А это моя Софья Михайловна!
Ариан Николаевич поцеловал немолодую, грубоватую руку с элегантно отлакированными ногтями. Софья Михайловна не боялась искусственных красок: на губах — мертвенная помада светлее лица, на верхних веках — синеватые тени, волосы на ярком солнце отливали медью. Но Софья Михайловна глянула на гостя, и он забыл об искусственных красках. Черные, огромные, влажные, как у оленя, глаза смотрели на него.
— Как удачно! — сказала Софья Михайловна высоким горловым голосом. — У нас сегодня к чаю лимонный торт!
Так. Вот уже и чай, и неизвестно, когда они с Дымским останутся одни, чтобы поговорить… Ладно, начать разговор можно и за чаем, а там его заберет, и он сам постарается продолжить разговор наедине.
— Лимонный торт? Колоссально!
Софья Михайловна засмеялась.
— Ты на чем добирался? — спросил Дымский.
— На «Москвиче». Он на обочине, у калитки. Я сейчас его…
— Не надо, — Дымский положил руку на рукав приятеля. — Женька! — На террасе появился Дымский номер два в темно-серой рубашке и брюках песочного цвета. Женька был такой же овальный, как отец, но как будто нарочно вытянутый. Так и казалось, что та сила, которая его вытянула, вдруг отпустит и Женька сожмется до нормальных отцовских размеров. Женька поклонился, взял у гостя ключ и пошел загонять машину в гараж. Отец посмотрел ему вслед.
— Ничего, работает здорово, наше имя не порочит!
Да, такое имя нельзя порочить. Доброе имя. Хорошее имя. Дед Александра Дымского был крупным химиком. Он внес немало ценного в науку. И отец Александра был ученым с обширными знаниями. Давлеканов ходил на его лекции в Менделеевском институте, хотя и не обязан был ходить, потому что сдавал экзамены экстерном. Лекции всегда были интересны по материалу, но излагались как-то суховато, слишком академично. Давлеканов слушал их совсем не так увлеченно, как бывало в университете Шанявского слушал лекции академика Ч. и других профессоров. Но, может быть, это потому, что он сам к тому времени стал взрослее, потерял детскую восторженность…
Хорошее имя, доброе имя. Оно налагает ответственность, но и помогает продвижению. Шурка Дымский поднимается вверх, как на скоростном лифте.
На террасу вышли девочки, и Ариан Николаевич снова подивился неправдоподобным, влажным глазам старшей.
— С девочками ты уже познакомился. Младшая, Сонечка, пока еще просто вертихвостка, старшая, Аня, — музыкантша.
— Ну, папа, оставь! — Черные глаза Ани еще больше наполнились влагой.
— А что я такого сказал? — Дымский обнял ее за плечи. — Конечно, ты еще не настоящая музыкантша, только учишься… Рояль мы не привезли, она здесь играет на аккордеоне.
Видно было, что Дымский к старшей дочери относится особенно. Осторожно и даже чуть опасливо.
Огромная терраса была расположена великолепно. Она поднималась высоко над лужайкой, окруженной пышными высокими кустами, а за ними высились рыжие сосны с черными вершинами. Посмотришь с террасы вниз, глаз так и ухнет в зеленую путаницу растений. Ни подстриженной травы, ни клумбы, только длинные стебли поднимают к террасе бледные чашечки цветов…
Небо стало зеленоватым, а над кустами и деревьями нежно розовело.
Софья Михайловна разлила в тонкие, зеленоватого стекла бокалы розовое вино. Ариан Николаевич поднял бокал, вино заколебалось, жемчужно заблестело… И вдруг он почувствовал, как в нем что-то развязалось и переменилось, и он получил другое зрение, и это приятно и немножко опасно. Ему захотелось сказать что-нибудь такое…
— Мы пьем вечернее небо! — сказал он и улыбнулся Софье Михайловне.
Она пришла в восторг.
— В самом деле! Нет, вы только посмотрите! — И она тоже подняла свой бокал. — Розовое в зеленоватом!
За чаем разговор шел о дачной жизни, о детях, о рыбной ловле. Давлеканов попробовал заговорить о последней работе Дымского. Софья Михайловна наклонилась к гостю и, глядя на него в упор своими удивительными глазами, нежно сказала:
— У нас по вечерам не говорят о работе. Запрещено. Александр Евгеньевич и в отпуске работает днем по нескольку часов. А вечером мы отдыхаем. И как хорошо, что вы к нам приехали! — Она улыбнулась.
«Вот так фунт! — подумал Давлеканов. — Зачем же я ехал?» Но у него почему-то не было досады. А Софья Михайловна при вечернем освещении казалась просто красавицей.
Какое-то другое ощущение жизни было у него сейчас. Немного неправдоподобное, чуть сдвинутое, как бывают чуть сдвинутые, не в фокусе, фотографии. И это было прелестно.
— Ну, голубчик, ну сыграй, ну папа очень просит!
— Я не хочу! Не буду! — Аня оттопырила толстые губки и стала совсем некрасивая.
— Ну, не надо, не надо, только успокойся!
Девочка ушла из-за стола, капризно поводя плечами.
Тонкий месяц заблестел над деревьями и отразился в светлом электрическом самоваре.
Ариан Николаевич много болтал, и, кажется, удачно: все время взрывался высокий горловой смех Софьи Михайловны.
Эх, здорово-то как! А почему бы и ему в самом деле по вечерам не отдыхать, не выключаться?
Дымский тронул приятеля за локоть и показал на дверь. Там стояла Аня с белым аккордеоном. Глазищи ее светили во всю свою силу.
Что это? Живой, низкий голос возник из тишины. Живой, влажный, круглый голос. Он набирал силу, рос, а за ним, как мягкие шаги, следовали аккорды. И Ариан Николаевич пропал. Так же как в детстве, слушая военный оркестр. Ему казалось, что это звучит небо, и месяц, и кусты, и темная сырая лужайка, и стволы сосен играют, как трубы органа… И жаркое щемящее блаженство заполнило его всего.
— Ваша девочка — чудо! — сказал он, когда Аня кончила играть.
Родители молчали. Софья Михайловна положила руку на стол и со странным, горьким и гордым выражением глядела на дочь. А Шурка весь как-то осел, опустил голову. Лицо растерянное, даже испуганное…
Софья Михайловна разрешила все-таки старым приятелям поговорить.
— Идите в беседку, пока я накрою ужин. Сколько вам понадобится минут?
— Минут четырнадцать или девятнадцать, — сказал Ариан Николаевич. — А может быть, уложимся и в одиннадцать.
В беседке над красным столиком зажегся разноцветный фонарик. Ариан Николаевич вспомнил фонарик своей юности времен «дендизма» и улыбнулся.
И вот они сидят друг против друга, Шурка Дымский и Ариан Давлеканов, бывшие школьные товарищи, уже давно выросшие, даже чуть-чуть постаревшие. У каждого за плечами свой, достаточно длинный пройденный путь.
— Все получилось наоборот, — говорил брат. — Мы еще не вышли в рощу и бродили сейчас в унылом ельнике среди серых тощих стволов, покрытых зеленоватыми лишаями. Я с радостью, с легкостью готовился рассказать Шурке о моей идее, а попросить помочь стеснялся. Думал: все-таки большой ученый, слишком земные дела. А он как раз к идее отнесся безучастно. В его лице ничто не дрогнуло. А когда я стал просить его совета и содействия насчет внедрения клея, он оживился и захлопотал. Он стал перебирать людей, к которым стоит пойти, от которых что-то зависит, и это была целая цепь, и не было ей конца. Если этот не поможет, пойди к тому, от того — к другому… Характеры, положение, взаимосвязи, направления — все ему — было до тонкости известно. Он с удовольствием посвящал меня даже в то, у кого на какой струнке можно сыграть. Он был весь в этой дипломатии, в этих хитросплетениях…
Мне что нужно было? Чтобы он, так же твердо веря, как я, в полезность, необходимость, даже неизбежность моего дела, от своего большого имени и авторитета громко и уверенно сказал об этом в тех инстанциях, которые мне недоступны. Но я хорошо понял, что именно этого-то он и не сделает. Он предпочтет разные сложные ходы-переходы простой ответственности, которую нужно взять на свои плечи.
И еще я понял, что Шурка постепенно сформировался в ученого-администратора и он уходит от науки все дальше и дальше. Мне очень жалко Шурку-ученого! Ведь это ученый академического склада. Сколько он мог бы еще сделать! Но он отравлен этой возней. Для этой возни тоже нужны недюжинные способности, Шурка и здесь велик. Но мне с ним уже больше неинтересно.
Мы вышли из ельника. Какое солнце было в роще! Какой шелковый, зеленый свет! Я прислонилась спиной к теплой березе, брат смотрел вверх, на небо, которое просвечивало сквозь ветки.
— Глаза режет. Не захватил защитные очки… Да! — вспомнил он. — Очки-брови! Когда Шурка их снял, чтобы протереть, вся его значительность пропала. Такое же безбровое лицо, какое было у него в детстве, только теперь оно уже было похоже на яйцо-шлюпик, битое, катаное.
Конечно, Шурка еще занимается наукой, но она перестала для него быть вечно живой водой.
— А как клей? Помнишь, он занимался таким же клеем, как ты?
— Не состоялся. То есть он был создан. Дымский со своим коллективом работал над ним пять лет. Но за пять лет он безнадежно устарел.
— А что, Шурка пострадал от этого?
— Да нет, скорее наоборот.
— Как же это?
— Пока шла работа над клеем, он напечатал несколько статей на эту тему, выступал с докладами… а то, что клей не удался, как-то не заметили. Списали это дело, и все. Словом, разговор у нас не очень получился, и когда Софья Михайловна пришла звать нас ужинать, я охотно пошел.
Давлеканову было хорошо за столом. Софья Михайловна казалась ему славной, девочки (особенно Аня) прелестными. И Женька такой спокойный, уверенный, добродушный, и так все красиво. И теплый свет торшера и чернота ночи.
Софья Михайловна сидела напротив него в мягком свете большого белого абажура. Голова ее с тяжелой прической все клонилась и клонилась набок, будто длинная тонкая шея не могла ее удержать.
Черная прядка отделилась от виска Софьи Михайловны и висела, словно еще больше оттягивая голову. А глаза были такие блестящие, полные влагой до краев. Вот-вот — и она прольется. «Что-то у нее неладно», — понял Ариан Николаевич.
— Сонечка-старшая! — сказал он тихо.
Софья Михайловна медленно подняла голову. Давлеканов обошел вокруг стола.
— Пойдемте поговорим, вам станет легче. Вам не надо меня стесняться, ведь я старый приятель вашего мужа, почти что ваш родственник. — Он осторожно взял за локоть Софью Михайловну и повел ее с террасы вниз. — Мы на воздух! — кивнул он Шурке. — Вам нужен воздух, воздух, воздух! Как говорят врачи, — сказал он Софье Михайловне.
Они ходили по пояс в мокрой душистой траве, все время куда-то проваливаясь и стараясь, чтобы длинные широкие полосы света, которые тянулись от террасы, не доставали их.
— Ну что, ну что такое? — спрашивал Ариан Николаевич.
— Не осуждайте меня, ведь мы так мало знакомы… Но мне не с кем поговорить! Матери нет. Подруги? Я для них счастливая, благополучная… Они ничего не знают. Ведь я служу ему, служу… И хоть бы раз он посмотрел на меня по-человечески, хоть бы раз спросил: «Сонечка, что с тобой?» Нет, нет, он внимателен. У меня все есть: квартира, машина, дача. И у детей тоже. И мне такое доверие: у меня вкус, у меня глаз, у меня «вкусные руки», Александр Евгеньевич ничего не будет есть, если не я приготовила, к его кабинету никто не может притронуться, кроме меня, ему нравится только то, что я устроила, я убрала… Но я, я, — Софья Михайловна схватила себя за горло, — ему не нужна. Он меня и не знает. А если чувствует что-то во мне — боится. Я не могу при нем сесть за рояль. Я пою и забываю все вокруг, и я живу, а не служу вечной службой. Видели бы вы, как он входит в комнату, где я пою! Нет, он ничего не скажет, а только тронет висок. Все! Все! Меня снова нет! Я снова служу, служу, служу! А дети? Детей-то он любит. Анечку в особенности. И боится ее. Боится в ней того же, чего боится в моем пении. Того, что ему не понять… Нет, не по силам мне, не могу я больше.
— Зачем вы вышли за него? — спросил Ариан Николаевич грубо.
— Надо же было за кого-нибудь выходить! Насмотрелась я на своих эмансипированных подруг! «Мне бы только ребенка, муж не нужен, я сама…» А я чувствовала, что не могу сама, одна… — Они опять ходили, опять куда-то проваливались…
— Слушайте, здесь очень мокро. Ваши босоножки…
— Бог с ними, с босоножками, нет, я, наверное, не права, нет, он ведь хороший семьянин, он всегда заботится, чтобы у нас все было, все самое лучшее. Нет, мне все завидуют, не слушайте меня, я счастлива, счастлива, счастлива…
По широкой световой дорожке к ним спешил Шурка.
— Софья Михайловна! Да где же вы?
— И знаешь, дорогая, мне показалось, что Шурка был встревожен не тем, что я могу затеять флирт с его женой. Нет. Он боялся того, что мы поймем друг друга больше, чем понимали друг друга они с женой. И тут мне стало ясно еще одно: Шурка боится таланта. То, чего он не понимает, куда ему не дано заглянуть, для него враждебно.
— А он сам разве не талантлив?
— Тут другое — большие способности плюс знания, плюс уменье работать с наибольшим эффектом. Он просто вырос и живет в атмосфере науки. А вот сейчас он со страстью отдается деловым отношениям и их сложностям.
— А сын какой у Шурки?
— Ничего малый, в нем может что-нибудь взыграть. У него мама хорошая — Сонечка-старшая. А самому Шурке здорово подпортила мама-профессорша.
Брат постоял, посмотрел на небо…
— Да, что это я хотел? Еще ночью просыпался, думал… Вот что — купить трубу.
16
После передачи
— Ну, как впечатление?
Брат зашел ко мне прямо из студии, веселый, свежий, в распахнутом пальто. Как все-таки старит телевизор!
— А что, — спросила я, — там, на телевидении, все было честно с этим тросом? Без обмана? Может, они просто повесили «Волгу» на целый трос, неразрезанный?
Брат сидел в низком кресле, подавшись вперед легко и молодо, только пиджак натянулся на погрузневших плечах.
— За телевидение не поручусь, — засмеялся он, — да ведь это и неважно. Важно то, что склеенный трос действительно может выдержать «Волгу» с пассажирами, и уж за это я тебе ручаюсь головой. Ну, а ты хоть рассмотрела, кто со мной был?
— По-моему, один из них был Костров?
— Верно, Костров. После той истории в Лейпциге… Помнишь, я тебе рассказывал?
— Ну да, с карминовой маркой!
— Он после этого очень полюбил мой клей. Он говорил: «Я сразу полюбил марки и ваш клей». Он мне помогал потом, ничего не скажешь!.. А Васильева разглядела?
— Такую махину как не разглядеть — весь экран занял!
— По праву, по праву занял. Ты бы не смотрела сегодня этого номера с «Волгой», если бы не он. Васильев поверил в мое дело и взял его в свои ручищи. Положение было таково: какой-то, скажем, машиностроительный завод заинтересован в силовом, конструкционном клее. Он обращается с просьбой принять заказ на клей к одному, другому, третьему химическому заводу. А заводы увиливают, пишут бумажки, где убедительно доказывают, что выполнить такой заказ они не могут. Зайдите, мол, годиков через пять. Словом, опять застопорилось. Тут я вспомнил Васильева. И чем больше о нем думал, тем более подходящей фигурой он мне казался. Это не из тех руководителей, которым лишь бы план перевыполнялся, лишь бы премия шла. Васильев любит риск, любит громкую победу, любит славу. Но при этом безукоризненно честен. Ни для славы, ни для денег он ничего не подтасует, не скроет.
Поехал к нему в воскресенье прямо домой. Еще на переправе узнал, где его дом. Когда от причала поднимался в гору, так волновался, прямо хоть назад иди! И вот я снизу увидел фруктовый сад, стволы деревьев, обмазанные белым, и самого Васильева, который вскапывал грядку. Слон! Ну прямо слон! И такое у него было красное, счастливое лицо с веснушками, и такие голубые-голубые глаза, и так сильно пахло свежей, весенней землей, что я вдруг успокоился. Все будет хорошо.
— Узнал он тебя?
— Представь себе, узнал! Я говорю: «Помните, вы когда-то отлили мне некоего вещества из баночки?»
— Помню, — говорит, — и что же из этого получилось?
— Вот я и приехал затем, чтобы рассказать вам, что получилось.
В доме у него очень уютно. Жена полненькая, носик тоже вверх, но по-другому, по-женски.
Просидели мы с ним всю ночь. Сперва он решительно и категорически говорил: нет! Приводил все доводы, которые обычно приводят директора заводов, и еще один, очень важный — Васильев только что взял сложный заказ. Завод был напряжен до предела. Дай бог справиться. А я все разворачивал перед ним грандиозные перспективы и старался доказать, что силовой клей прославит завод и его директора гораздо больше, чем этот его заказ.
Под конец, когда мы оба очень устали, он вдруг как грохнет кулачищем об стол. «И какой дьявол послал вас на мою голову?» Тут я понял, что можно ложиться спать.
А утром он дает мне удочки и плащ.
«Половите рыбку, за ужином увидимся». Я сидел на берегу, рядом дымил завод, я волновался — чуял удачу.
Когда я пришел, хозяина еще не было. Мы разговаривали с его женой, я ей плел что-то смешное.
Наконец с двумя бутылками явился Васильев. Он за один день провернул партийное бюро, летучку со специалистами, вызвал плановиков, финансовый отдел… И уже послал письмо в высшие инстанции. Он был уверен в успехе — там ценят инициативу снизу. А назавтра пригласил меня смотреть помещение, которое он думает оборудовать под производство силового клея. Вот тебе Васильев!
Брат удобно откинулся в кресле, но в нем не чувствовалось освобождения, облегчения. Я привыкла угадывать его состояние и видела, что он по-прежнему заряжен чем-то…
— Вот клей работает. А новое у тебя что-нибудь начато?
— Начато! По уши сижу в этом новом уже давно.
— А ты не можешь, хотя бы приблизительно…
— Очень приблизительно тебе, как старому другу химической мысли.
Всю жизнь я вел бесконечные сражения с веществами, чтобы заставить их слушаться. Я залезал к ним в самое нутро, я отнимал у них одни свойства и придавал другие, я истязал их, издевался над ними, насиловал их природу, я бесконечно хлопотал вокруг них, а они упирались, устраивали мне неожиданные неприятности… Заставить их работать, работать, работать как можно лучше, часто вопреки их природным свойствам, — вот была моя задача! А сейчас я хочу стать господом богом. Предположим, мне нужно такое вещество, которое бы слушалось меня во всем, не упрямилось, не ломалось, когда его гнут, не капризничало бы, когда ему слишком жарко или слишком холодно, и выполняло бы беспрекословно все мои требования. И вот я его леплю, как художник лепит свое произведение. Вещество с заранее заданными свойствами.
И что с этими веществами можно натворить, какие новые перспективы откроются, сейчас даже представить себе трудно. Но размах они дадут неслыханный…
Недавно я разбиралась в старых бумагах, мне хотелось как можно больше выбросить. И вот я нашла в глубине шкафа малиновую папку. Я когда-то склеила ее сама. В ней лежали мои школьные сочинения. Я очень гордилась моими школьными сочинениями и решила сохранить их для потомства, а потом про них забыла. Я развязала тесемки, стала перебирать тетрадки, и они мне живо напомнили подруг, и наши разговоры, и коричневую, изрезанную ножом парту… А это что за листок? Пожелтевший, выдранный из тетради в клетку. Какой красивым почерк! Высокие стройные буквы. Чистые, ясные, без завитушек. Так ведь это почерк моего брата, каким он был у него в юности! Я ему всегда завидовала. Но как почерк может измениться! Теперь каждую его записку приходится не читать, а расшифровывать!
На листке заглавие — «Счастье». Наверное, это школьное сочинение, которое он хотел выбросить, а я сочла его достойным хранения в малиновой папке. Так что же он писал о счастье?
«Мой взгляд таков: бывают моменты, когда человек всем своим существом ощущает в себе жизнь. Где-нибудь в лесу, когда человек видит солнце, играющее на листьях, видит растения, насекомых, населяющих лес, не глазами, а всем своим существом, красота природы пронизывает его. И он счастлив. Это бывает, когда человек слушает музыку, и она заполняет его, и он сам становится как орган, и музыка приносит ему боль и счастье. Это бывает, когда человек идет по улицам большого города и люди, незнакомые люди, которые задевают его плечами, а из их глаз излучается тепло и радость, вдруг становятся родными, и начинаешь любить их всех, так любить, что трудно дышать. И хочется крикнуть им об этом. И тогда думаешь: а что бы для них сделать? Как бы прибавить им радости? И вот главное счастье — цель! Далекая, трудная, к которой тебе не пробиться без борьбы. А что за счастье без борьбы? Это не для человека. И вот когда ты добился цели, принес людям что-то, пусть ты израненный, избитый, — но так полно ты никогда не ощущал жизнь. Огромную, кипучую, всемирную жизнь! И ты слышишь весь ее грохот и содроганье, и тепло всех людей приливает к твоему сердцу.
Я провозглашаю лозунг: самое большое счастье — это борьба за наивысшее счастье людей!»
Я прочла этот юношеский, немного наивный и восторженный трактат о счастье. Пожалуй… все основное осталось в силе. Пожалуй, и сейчас брат смотрит на этот вопрос так же. Только он, этот вопрос, представляется ему теперь сложнее.