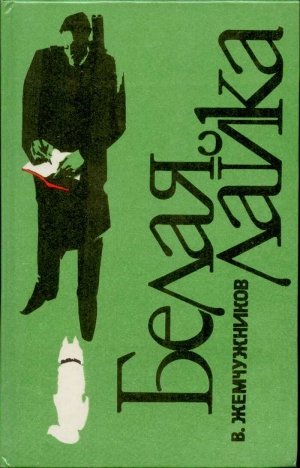
Матери моей Ольге Николаевне.
Разговор в кабинете редактора напоминал товарищеский суд. Все говорили об одном и том же:
— Как же ты мог, Слава?! В твоих руках был настоящий человеческий документ, а ты отмахнулся от него. Это не просто халатное отношение к делу — это душевная черствость с твоей стороны!
Славе Казанкову было стыдно.
А началось с того, что в редакцию молодежной газеты пришло странное письмо: некий Владимир Павлов, монтажник со стройки, решил разыскать своего отца… погибшего на войне.
«Не по адресу обратился, дорогой товарищ. К сожалению, ничем не можем помочь. Газета — не отдел розыска, — так рассудил начинающий журналист, сотрудник отдела писем Казанков. — К тому же частных писем газета не печатает, Мало ли, кто кого захочет разыскивать…»
Да, в то время — после войны миновало пятнадцать лет — розыски пропавших без вести оставались частным делом родственников. Ещё не появился тогда в газетах пронзительный вопрошающий призыв: «Может быть, кто-нибудь что-нибудь знает…» Ещё не печатались трагические колонки с именами разыскиваемых людей.
Слава Казанков вот что сделал: на сопроводительном бланке странного письма начертал наискосок: «Направить в обл. справочное бюро», поставил свою красивую подпись и сдал секретарше. Он только не догадывался, что первый экзамен на журналиста не выдержал.
Иоганн Себастьян Страх — так в коллективе величали редактора Ивана Севастьяновича Страхова — случайно увидел на столе секретаря письмо с пометкой Казанкова. Ознакомившись с ним, редактор срочно собрал: общую летучку, на которой это письмо было громко зачитано.
— Как ты мог, Слава?.. — один за другим выступали сотрудники газеты.
Когда Иван Севастьянович начал говорить о священной памяти павших отцов, всем показалось: не работать больше Казанкову в редакции. Но по ходу своей речи редактор помаленьку остывал — в общем-то, это был совсем не злой человек, а грозное прозвище ничуть не соответствовало его «мальчиковому» росту. Он предложил, учитывая журналистскую неопытность Казанкова, «ограничиться разговором». Легко отделался Славка.
— Вот что, товарищи, — сказал под конец редактор, — письмо Владимира Павлова мы поставим в ближайшем номере. Только надо его поинтересней подать. Я предлагаю следующее: во-первых, написать врезку «от редакции», объяснить читателю, почему решили мы опубликовать это письмо. Во-вторых, обратиться к Павлову с просьбой прислать нам свою фотографию и рассказать подробней о себе, о своей работе. А читателям мы дадим обещание, что познакомим с дополнительными материалами о Павлове сразу же, как получим их. И не сомневайтесь, читатели будут ждать выхода каждого номера газеты. Не исключено, что в результате у нас появится новая рубрика. Скажем — «Я сын твой, отец». Мы регулярно начнем печатать своеобразные отчеты сыновей перед отцами, не вернувшимися с войны Оригинальная форма исповеди даст нам возможность…
Маленький, но суетливый человек, Иоганн Себастьян Страх любил придумывать всякие редакционные кампании. Может быть, потому незадачливый молодой журналист Казанков не получил выговор, что редактора слишком захватила собственная идея, как «подороже продать» выигрышный материал.
Вскоре письмо Владимира Павлова появилось в газете. Над ним стоял заголовок: «Если ты жив…»
«Дорогая редакция! В последнее время в газетах часто пишут о том, как близкие люди, раскиданные войной, находят друг друга. В связи с этим и я снова начал сильно сомневаться, что мой отец погиб, то есть подорвался на мине. Я сам уже отслужил, и знаю, что мины бывают всякие и ситуации на передовой разные случаются. Похоронную написать нетрудно, а человек, может, в плен попал или еще куда. Ведь тогда пропадали без вести не только по ту сторону фронта. Вот я и решил через газету написать моему отцу письмо. Если будет длинно, напечатайте в сокращенном виде.
Здравствуй, отец! Это пишет твой старший сын Владимир. Меня, а также брата Андрея ты должен помнить. Когда ты уходил на фронт, мне было четыре года, а Андрюхе — два. Третий твой сын — Павел — родился уже без тебя, первого сентября 1941 года.
Наверно, я тебя помнил до семи лет. Должен был помнить. Но когда мне исполнилось семь, я заболел менингитом. Мать не отдала меня врачам, выходила сама, медом вылечила. Но после того я перестал помнить тебя и почти все забыл, что было до семи лет.
Андрюхе и Пашке я потом рассказывал, как ты катал меня на паровозе, как мы ходили в лес за опятами, как я однажды бежал по комнате и провалился в открытый подпол, а ты стоял там внизу и поймал меня на лету, так что я даже испугаться не успел как следует… Мне только казалось, что я это все помню. А на самомделе все позабыл, а знал лишь по рассказам матери.
Мы, трое твоих сыновей, конечно, не сразу, не все вместе поняли, что у нас нет отца. Мы поняли по порядку: сначала я, потом Андрей, потом Пашка. Но никто из нас никогда в детстве не считал и теперь не считает себя безотцовщиной. Безотцовщина — это когда отца совсем забыли и не вспоминают, не гордятся им. А твой портрет, где ты в военной форме, до сих пор висит дома. И отчим не возражает, ничего не имеет против — понимает, значит, что к чему.
— Ты совсем как отец! — говорила мать то одному, то другому, то третьему из нас. Мать вспоминала, что ты хорошо играл на гитаре, а мы с Пашкой научились на баяне. Только он лучше меня играет — он по нотам умеет. В прошлом году Пашку забрали в армию. Я ему строго-настрого наказал, чтобы не зарывал в землю свой музыкальный талант.
Ты, батя, работал машинистом на паровозе, а Андрей поступил в институт, будет инженером железнодорожного транспорта.
Сейчас он учится на втором курсе, а начитанный уже, как профессор. Мать гордится им. Как же — ученым человеком станет!
Ну а мне не пришлось много учиться. После семи классов пошел работать, матери помогать. Все-таки старший сын в семье. Получил специальность слесаря и работал в том же паровозном депо, где и ты до войны. Тебя там еще помнили тогда и с уважением говорили, мол, хороший был машинист. А меня всегда звали по отчеству — Владимир Иваныч. Так что ударять в грязь лицом перед деповскими я не мог, не имел права.
Потом три года я выполнял долг перед Родиной — служил в армии. Демобилизовался, пожил полтора месяца дома — и потянуло в далекие края. Махнул с горячего юга на север. Сейчас под ногами вместо чернозема — вечная мерзлота. Строим мы здесь на холодной реке ГЭС. Крупнейшая стройка. Молодежи — целая армия.
Я работаю теперь монтажником, зарабатываю прилично. Каждый месяц посылаю понемногу матери домой и Андрею в институт — стипендии ему, конечно, — не хватает. В этом году заканчиваю девятый класс вечерней школы, жениться еще не успел. Но невест на нашей стройке — прямо глаза разбегаются, со всей России съехались! Ходят, ходят — работать мешают…
Я рассказал тебе о Пашке, Андрее и о себе. Вот такие, батя, выросли от тебя три мужика. Мать поставила нас на ноги, а сама здоровье потеряла, с сердцем у неё сейчас плохо.
Отец, может, ты приезжал домой и не нашел нас? В 1953 году мать вышла замуж, и мы переехали на юг. Может, тебе наговорили что нехорошее про нашу мать, и ты решил не разыскивать нас? Тогда я хочу поговорить с тобой, как мужчина с мужчиной.
Все мы, а особенно мать, очень ждали тебя. Когда жили все вместе — ждали вместе. Когда разъехались — стали думать о тебе поодиночке. Мать сейчас, понятно, стесняется отчима и при нем не смотрит подолгу на портрет, не говорит о тебе. Но про себя-то все равно ждет, надеется, что ты живой, и боится, что ты вдруг придешь. До самой смерти, видно, ждать будет и бояться.
А по-моему, бояться ей нечего. Мать ждала десять лет после того, как пришла похоронная. У ней никого не было. А у соседок наших тети Лены Кочановой, тети Клавы Абросимовой, не прими за сплетню, — у них были… Выходит, они получили похоронные, как получают развод.
Они ведь были старыми подругами матери и частенько приходили, звали её в гости, на вечеринки. Тогда мать брала на руки Пашку, нас с Андрюхой садила на лавку по обе стороны от себя и говорила:
— А эту троицу куда девать? Или с собой можно прихватить?
Конечно, оставить нас можно было с бабкой, но никогда она не уходила от нас на вечеринки. Не помню такого.
Что касается отчима, он ничего мужчина — работящий и умный. Он не заставлял, чтобы мы его звали папкой. А бывают, знаешь, какие идиоты? Главное, Дмитрий Матвеевич уважает мать. Жить с ним можно. Сейчас они остались одни — мы-то все поразъехались. Живут и работают они в совхозе.
Отец, если тебе неудобно ехать к матери, приезжай ко мне. Может, у тебя нет семьи и вообще жизнь неустроенная — приезжай, а здесь уж решим, что делать дальше. На стройке хватит работы, и специальность можно получить по душе любую.
Я почему пишу об этом? А потому, что ходят ещё в поездах такие калеки, которые кричат, будто освобождали Киев, и Одессу-маму, и Севастополь. Им подают, потому что никто еще не забыл войну. Лично мне этих людей не очень жалко, обычно они симулянты. Но есть, видно, среди них и настоящие фронтовики, которым война покалечила не только руки-ноги, но и всю жизнь, Вот почему, когда идет по вагонам калека, мне всегда охота спросить у него фамилию. И хоть я знаю наверняка, что он пропьет свою выручку, я отдаю ему всю наличную монету. Вот я и говорю, отец, если что — обязательно приезжай ко мне.
На этом я заканчиваю письмо. Чуть было не написал, что мы все остаемся живы-здоровы. Бабка, то есть твоя мать, умерла шесть лет тому назад. Схоронили мы ее хорошо, как полагается. Место на кладбище я сам выбрал. Красивое, среди берез.
Батя, если ты прочитаешь это письмо, я жду ответа что бы там ни было. С приветом — твой сын Владимир».
Под письмом стояла дата — 17 мая 1960 года. А ниже был крупно напечатан адрес Владимира и послесловие, сочиненное лично редактором газеты:
«Найдет ли Володя Павлов своего отца? Мы желаем ему этого от всей души! Многих сыновей осиротила война, но вырастают они настоящими мужчинами. Тысячи таких, как Владимир Павлов, строят сегодня будущее. Потому что поколение, которое потеряло отцов, не потеряло мужества. Матери научили его мужеству.
Редакция обращается к тебе, Володя, с просьбой выслать нам свою фотографию и более подробный рассказ о твоей работе и жизни. Мы уверены, что наши читатели также с нетерпением будут ждать твоего второго письма. Пиши нам, Володя!»
Через три дня после того, как письмо было напечатано, появился в редакции необычного вида посетитель. Он медленно катил на низкой тележке с шарикоподшипниками по вышорканным половицам длинного коридора. Голова его, как у всех безногих, казалась массивной, а плечи — очень широкими. У него были густые чисто-белые волосы, лицо, порезанное глубокими морщинами вдоль, поперек и вкось, синие высветленные годами глаза. Отталкиваясь от пола зажатыми в руках кожаными подушечками, он катил и катил. Глядел прямо перед собой, будто выбрал какую-то свою, невидимую никому цель. Толпившиеся в коридоре молодые журналисты поспешно расступились перед ним.
Ни у кого ничего не спрашивая, калека въехал в первый попавшийся на пути кабинет. Это оказалось как раз то, что ему нужно было, — отдел писем. В кабинете сидел Слава Казанков и еще двое сотрудников.
— Здравствуйте, товарищи корреспонденты, — глухим басом сказал мужчина. — Я к вам по поводу статьи «Если ты жив».
У Славки так и ухнулось сердце и в горле запершило — он тотчас поверил, что объявился тот самый отец которому адресовал свое письмо парень со строительства северной ГЭС.
Славка вскочил из-за стола и, показывая рукой на ближний стул, заученно пригласил:
— Присаживайтесь, пожалуйста.
Мужчина не спеша отстегнул тележку и неожиданно легко вскинул туловище на стул. Пригладил ослепительно белые волосы, оглядел кабинет.
— Просьба у меня такая, — сказал он. — Дайте-ка мне это самое письмо.
— Но… мы не можем. Оригиналы всех материалов остаются в редакции, — стушевался Казанков.
— Да я взгляну только и верну, — успокоил его мужчина. — Неувязка тут одна получается. Двое сыновей у меня было, а не трое. Володька и Андрюшка. А Пашки никакого не было… Ну где это письмо?
— Сейчас, сейчас, — в смятении засуетился Казанков. — Подождите минутку.
Мужчина крутнулся на стуле, устраиваясь поудобней, насколько позволяло короткое неловкое тело.
Потом он долго и тщательно вчитывался в письмо. Его сильные пальцы, натруженные от ежедневных однообразных упражнений с кожаными подушечками, нервно ощупывали тетрадные листки и заметно подрагивали. В кабинете напружинилась тишина. Даже телефон‚ развязный по обыкновению, почтительно молчал.
— Ух, стервец! Не имеет он права подозревать меня в этом!— внезапно, с резкостью сказал мужчина.— Семнадцатьлет елозил я по земле, до черта профессий перепробовал — никто не видел меня с протянутой рукой. Сроду не побирался в поездах! Понятно?
Молодые газетчики, сидевшие за столами, замерли и втянули головы в плечи.
Дочитав письмо, мужчина спокойно произнес:
— Да, все правильно пишет. Иваном меня зовут, значит, он — Владимир Иванович. Только откуда же третий — Пашка?.. И ещё одна неувязочка — кочегаром я был на паровозе, а не машинистом. Ну да это он спутал, наверно. Слушайте, ребята, а не прислал он свою фотокарточку?
— Нет, ещё не прислал, — ответил Казанков.
— Взглянуть бы мне на него… Ладно, подождем. Через недельку я к вам ещё разок прикачу.
— Вам, наверное, легче будет позвонить?.. Запишите наш номер телефона. Впрочем, мы сейчас сами напишем, — забеспокоились парни.
— Не надо, не надо, хлопцы. Я этими автоматами не умею пользоваться — до трубки не дотягиваюсь.
Неуклюже, как малый ребенок, мужчина сполз со стула, укрепился на низкой своей тележке и покатил.
…Через неделю он снова появился в редакции. К этому времени уже пришло второе письмо от Владимира Павлова — с фотографией. Правда, ничего нового о себе он не сообщал, только благодарил редакцию за то, что так скоро напечатали его обращение к отцу.
Мужчина даже не стал, как в прошлый раз, отстегивать тележку и устраиваться на стуле. Сразу попросил у Славы Казанкова фото.
Долго и жадно всматривался. Молчал. Тягостно скорбным было это молчание.
Не похож, совсем не похож был на него парень на фотографии. Явно не сын.
Наконец, он сказал глухим, осевшим голосом:
— Интересный на внешность.
Потом обратился к Казанкову:
— Разреши-ка мне конвертик с его письма.
Казанков тотчас протянул конверт. Мужчина достал ручку, потертую записную книжку, и, используя сиденье стула в качестве стола, тщательно переписал адрес.
— Между прочим, мы туда корреспондента нашего послали, — вспомнил Казанков. — Очерк будет писать о Владимире Павлове.
— А как, интересно, добираются туда? — как бы мимоходом спросил мужчина.
— Можно самолетом, можно и поездом. Только самолетом гораздо быстрей.
— Конечно, кому к спеху — тому самолетом лучше: быстро, выгодно, удобно. А нам, калекам, торопиться некуда, нам поездом выгодней, удобней и… привычней. Ладно. Поехал я.
Слава Казанков пошел проводить. Ему показался вдруг очень беззащитным этот безногий человек — и дверью могут пристукнуть, и в толпе затоптать…
На углу людной улицы мужчина попрощался и бесшумно покатил по асфальту, отталкиваясь кожаными подушечками. По-прежнему прямо глядел он — будто выбрал свою, невидимую никому цель.
Славка следил за ним взглядом до тех пор, пока чьи-то ноги не заслонили его крупную белую голову.