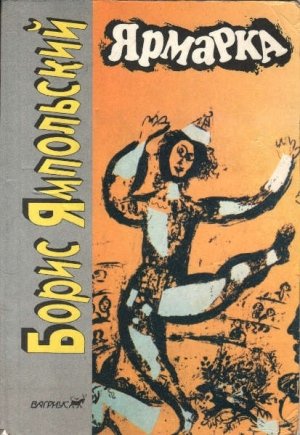
Соглядатай человеческий
Откройте наугад. Прочтите страницу. Не надо страницу. Полстраницы... треть, четверть...
«Лаковые сапожки достала мне тетка на этот день и еле-еле натянула их, а когда я сказал: «Жмет!» — ответила: «Лаковые сапожки не могут жать!»
Или:
« — Ах, эти евреи! — сказал мосье Франсуа, хотя по черным глазкам его, по выгнутому носу видно было, что и он еврей, но весь его вид говорил, что у него случайно черные глазки, случайно выгнутый нос».
Или — о любителе нюхать чужой табак:
«Пальцы Бен-Зхарья были в шрамах, их и прищемляли, и зажимали в табакерках, а один даже закрыл табакерку с его пальцами и хотел положить в карман».
Или:
«Как лебеди плыли гуси». Это вносят кушанья на купеческий ужин.
«Ярмарка» рассказана мальчиком-сиротой. Он остался без матери, но вертится в родном кругу. Ему нельзя быть слишком сладким, чтобы не проглотили, и слишком горьким, чтобы не выплюнули. Он — под опекой напористой тетки, которая хотела бы увидеть, что будет после ее смерти. «И все боялись, что она до этого доживет...»
Художник — в каждой фразе, каждой фразой завораживающий воображение.
Имя художника — Борис Ямпольский.
«Ярмарка» — это образ ЖИЗНИ.
В русской литературе XX века немало талантливых книг-деревьев, выросших у еврейского дома. Не стану перечислять, читатель сам составит список того, что любит. Думаю, в него войдет и «Ярмарка» — неотразимая, печальная, ностальгически-торжественная и забавная. Повесть? Поэма?
То, что поэма, уверенно приходит на ум. По аналогии с Гоголем? Гоголя вы бы не трогали. Но как ни глянь, характер «Ярмарки» очень гоголевский. И Сорочинцы ведь недалеко от местечка Белого... И с «Мертвыми душами» тянет сопоставлять, хотя знаешь: грех.
Автор не определил жанр: это, наверно, не нужно. Читателю проблема жанра неинтересна.
Издана «Ярмарка» была только однажды, в году военном, не победном, бедном, малым тиражом (5 тыс.), на плохой бумаге, с огрехами. Не до книг было, и автора никто не знал, а все-таки была издана. Это объяснимо. Это неспроста.
Исторический контекст таков. Книга вышла после того, как еврейский артист Михоэлс в советском кинофильме «Цирк», сделанном по образцам Голливуда и прославляющем сталинский режим, спел на идиш колыбельную черному ребенку, пострадавшему от американского расизма. И — до того, как эти кадры были из фильма изъяты. И раз уж вспомнился Михоэлс, укажу на связь издания «Ярмарки», подписанной в печать в ноябре 1942 года, с поездкой еврейского артиста в Америку, начавшейся в марте 1943 года, где он получил от близких и дальних родственников госпожи Канарейки и господина Дыхеса (изображенных в «Ярмарке» не то с отвращением, не то с восхищением) миллионы долларов для сражающейся России, для Красной Армии. А также медикаменты, часы, одежду. Может быть, он приблизил и открытие второго фронта?..
Исторические события — путаное дело. Результат схватки перекрещивающихся сил, составленных из множества воль человеческих; вечно суются в схватку и настырные боги. Значит ли, что Ямпольский сознательно участвовал в пропагандистской акции? И даже — в большой политике?
Политики — люди действия. Художник — мечтатель. Политики пользуются плодами вдохновений, но разве он виноват в этом? Плоды вдохновений, бывает, облагораживают политику. Или, напротив, оттеняют ее аморальность.
Ямпольский был мечтателем. По его будущей Стране Счастья должен был разъезжать на верблюде старик в высокой шапке и показывать бутылочку со слезами: «Это сто лет назад один человек плакал в этой стране». Ямпольский был мечтателем. «Ярмарка» — его первая художественная вещь, он выразил здесь слишком много сокровенного. Он был счастлив, что может обнародовать эту вещь.
Такой возможности ему не представилось больше до самой смерти.
Все мы люди своего времени. Ямпольский разделил со своим временем некоторые иллюзии. В «Ярмарке» эти иллюзии труднее всего заметить, потому что у него был безупречный вкус и потому что стихия материала так сильна, что заслоняет стержень подцензурного замысла. И остается только. любовь. К жизни. К детству. К своему роду, ведь Ямпольский был человек родовой — в старинном, сегодня романтическом, смысле этого слова.
«Ярмарка» — гимн роду. Как водится, с восклицанием, с заглавным «О»:
«О род мой, затравленный, замордованный! Морил тебя голод, сушила чахотка, душила грудная жаба. Трясучка и косноязычие одолевали твоих сыновей. Женщины твои страдали истерией и кровоизлиянием...
Поразил тебя Бог, как предсказал, горячкой, лихорадкой, воспалением, чтобы ты был истреблен. Но живуч был мой род. Потомки Иакова, десятки крикливых семей, цепко держались за жизнь, пережили несчастья, погромы, пожары.
И как бы в насмешку над судьбой, наперекор природе, в семьях евреев, чахоточных и налитых водянкой, рождались дети — прекрасные лицом, с железным умом, сильными руками и громкой речью, с черными глазами, полными огня, страсти и печали, которые слышали, как лист растет и движутся тучи. Воины, поэты, математики, скрипачи.
Я — горячая капля крови этого рода...»
Все в «Ярмарке» крупно. Пылающий горшок красного борща чернеет, приперченный кузнецом Давидом. Кровельщики кричат так, будто кроют не крышу, а небесный свод. Стекольщики, если заказать, могут вставить стекла во все стороны света. Это библейский размах.
Ярмарка — образ ЖИЗНИ. Существующей?
В поздней маленькой повести «Табор» Ямпольский написал: «Нет и не будет уже никогда на Украине хоральных синагог, хедеров, обрезаний, помолвок под бархатным балдахином, золотых и бриллиантовых свадеб, голодания до первой звезды судного дня Йомкипур и веселого хмельного праздника Симхестойре».
Но и сама «Ярмарка», осторожно вписанная в историческую реальность — между русско-японской войной («Господин Дыхес продал все гнилое мыло на войну») и первой русской революцией, — не столько воспоминание, сколько поэтическая фантазия очень богатого и очень изысканного воображения.
Художнику известно: искусство выше политики, даже большой и кичливой. Творения искусства, переживая творца, впитывают новые настроения, вдруг перелицуются или перекрасятся. Но кто прочел «Ярмарку»? Редкие экземпляры дотянули до наших дней и не рассыпались.
«Ярмарка» — первый раздел этой книги. Во втором — лучшие новеллы автора, а новеллист он был замечательный. Часть из них публикуется впервые. Третий раздел — «Последняя встреча с Василием Гроссманом». Как раньше говорили: мемуар. Сперва ходил по бывшей стране счастья самиздатом, в 1976 году попал на Запад и появился в «Континенте».
Вот такая книга. Попытка избранного, три грани сверкающего дарования Бориса Ямпольского.
Борис Самойлович Ямпольский родился 8 (21) августа 1912 года в Белой Церкви, о которой энциклопедия сообщает: «В XIX в. — крупный торгово-ярмарочный пункт». В анкетах писал: в семье служащего. По свидетельству старшей сестры Фани Самойловны, отец работал на мельнице, а у матери был небольшой магазин, где торговали платками. «Вы видите этот клетчатый платок? — говорит в «Ярмарке» уличная торговка. — Спите на нем, кушайте на нем, заворачивайте в него детей, варите в нем, пеките в нем, целуйтесь в нем — ему ничего не будет». И спали, и кушали, и заворачивали... Детей было шестеро; младший — Борис.
Он должен был стать еврейским писателем. Но... к тому времени, как он родился, ни деда, ни бабки, говоривших на идиш, не было. В потоке русской речи, звучавшей в доме, проблескивали еврейские, украинские, польские словечки. Новое поколение стремилось к ассимиляции, связывая с ней равноправное будущее. «Вы знаете язык? — Только акцент» («Диалоги»). Русский писатель-еврей, Ямпольский гордился своим акцентом и боялся его.
Однажды, в послесталинские годы, он попросил товарища, поэта А. Межирова, прочесть вместо него на вечере речь в честь Андрея Платонова. Он объяснил просьбу тем, что акцент и что болят зубы. А когда болят зубы, акцент усиливается. Но дело было не в акценте: неприятностей избежать не удалось — в речи сквозила ненависть к палачам. Ямпольского вызвали в горком партии, угрожали и предупреждали, и он даже сгоряча крикнул Межирову: «Ты продал меня КГБ!», а потом бросил ему в почтовый ящик письмо, где умолял о прощении за обидные, несправедливые слова.
В крохотном рассказе из московской жизни он назвал себя соглядатаем человеческим. Соглядатайство художника не профессия, а природа, и уходит корнями в детство. В «Ярмарке» читаем: «Я заглядывал в окна домов: кто-то, ударив картами по столу, взглянул на меня сверкнувшими глазами, кто-то плачущий, увидев, что я смотрю, плюнул на меня через окно, кто-то ругавшийся изругал и меня; вор, укравший подсвечник, заметив, что я подсмотрел, погнался за мною». Он смотрел, и это не нравилось человечеству.
«...Дом наш — как голубятня...» (Помните, у Кустодиева — «Голубой домик», очень похоже). Мальчик из дома-голубятни, мальчик с Голубиной улицы... В свои «ранние, нежные, светочувствительные годы» он был таким же и не таким, как все. Вот Фаня Самойловна помнит, что с ним было чудо. Однажды весной, в четыре с половиной года, он упал с дерева и потерял речь. (Тут вспоминается Пушкин: «...И вырвал грешный мой язык...») Мать безутешно рыдала. Речь вернулась к нему, и он сказал: «Не плачь, мама. Посмотри: светит солнце, цветы на ветках, поют птички» («...И жало мудрыя змеи в уста замершие мои...»). Может быть, так начинаются пророки?
В восемь лет он поцеловал девочку с красивым именем Стелла. Красивое имя всплывает в самой невероятной его новелле «Таганка», где о любви в барачной Москве скупо сказано такое, что никто не посмел.
Он рано научился читать — книги и географические карты. Играл в футбол, прыгал в речку Рось со мшистых скал, называвшихся «Голова» и «Монах». На антисемитский вопрос «Ты зачем Христа распял?» честно отвечал: «Я не пял». Хорошо учился, но не понимал математики. Любил сначала Жюля Верна и Луи Буссенара, а потом Толетого, Гоголя, Стендаля, еще позже — Бунина.
Имя Гоголя прозвучало снова. У Гоголя тройка, а в «Ярмарке» собачник-гецель с длинными намыленными петлями в руках: «И несется сумасшедшая коляска, полная затравленных глаз, — страшная собачья тюрьма, и только рев проносится по улице, да скрежет зубов о решетки, да клоки шерсти подхватывает ветер. Куда несешься ты, коляска?..»
Это образ еврейской судьбы.
...После революции его социальное происхождение было под подозрением. Его не хотели принимать в пионеры.
Маленьким мальчиком он боялся уснуть, чтобы не проспать мировую революцию. Нес плакат: «Школы стройте, тюрьмы сройте!» Смотрел — и вскоре заметил, что революция строит новые тюрьмы — покрепче и пострашней.
Начал печататься подростком — в 1927-м. Работал в Баку, в редакции газеты «Вышка». Здесь в шестнадцать лет под псевдонимом Бор. Северный выпустил очерк «Трагедия в ледяной пустыне» (1928), посвященный неуспеху полярной экспедиции Нобиле. Работал журналистом в Новокузнецке: в его романе «Знакомый город» из редакции рабочей газеты один за другим исчезают сотрудники. По-видимому, его тоже, еще в начале 30-х годов, допрашивали в Новокузнецком горНКВД: это было нелепо связано с тем, что его отец в молодости эмигрировал в Америку, но вернулся, стал реэмигрантом, значение этого слова ускользало от следователя. Ямпольский пытался постичь закономерность репрессивной системы: «Один день меня не было, и меня уже похоронили. Но почему пошла туда инструктор по кадрам, та, которая больше всех сделала, чтобы все остальные пошли туда, откуда не возвращаются, которая работала в таком контакте, в таком согласии и энтузиазме с теми, кто этим занимался, этого я не понимаю и никогда не пойму». И — еще: «Один знаменитый адвокат сказал мне: единственные дела, за которые я не берусь, — это невиновные, потому что оправдать невиновного невозможно».
Перед войной он окончил Литературный институт. Очень нуждался. Начал войну корреспондентом «Красной звезды», перешел в «Известия». Тремя изданиями вышел его очерк «Зеленая шинель» (1941,1942). Затем «Ярмарка» и книжка рассказов «Чужеземец» (1942). Затем в Саратове: «Люди стальной воли» (1943). Он был в осажденном Ленинграде, в партизанском отряде в Белоруссии. Его единственная награда от государства — медаль «Партизану Отечественной войны» I степени. Не за литературу. За личное мужество на оккупированной территории.
Гитлеровский юдоцид был для него потрясением, это видно в «Десяти лилипутах», «Чуде». В «Лилипутах» вечный цирк жизни быстро сгущается в трагедию. В кротких старческих лицах артистов, декламирующих пафосный текст, есть что-то героическое. Безумие оккупантов и зловещий поступок мещанина Барыги с его огромным сокрушающим опытом повиновения властям. А Бабий Яр — на расстоянии, чтобы глаза читателя могла освежить влага. Художник знает: множественность трагедий Освенцима, Катыни, Колымы, Бабьего Яра недоступна воображению и потому за пределами искусства. Как повторяла Ахматова:
...А следующая книга вышла после двенадцатилетнего перерыва: «Дорога испытаний» (1955). Затем: «Мальчик с Голубиной улицы» (1959), «Храбрый кролик и другие». Рассказы о зверях и птицах: «Детский мир» (1961), «Молодой человек» (1963), «Волшебный фонарь» (1967), «Карусель» (1969), несколько переизданий.
Снилось ли в страшном сне европейским художникам такое давление, какое тупо и гибельно оказывал на искусство большевизм? Все теперь позади. А сколько живых произведений подпорчено тем, что авторы были убеждены: режим вечен.
По свидетельству А. Межирова, у Ямпольского к началу послевоенного времени иллюзий не было. Он все понял. Утерянные иллюзии образовали вакуум, вакуум заполнился страхом. «Московскую улицу», опубликованную только в 1988-м, сравнивают с «Процессом» Кафки: герой, обозначенный буквой К., парализован страхом по-советски.
Автор «Московской улицы» был человеком храбрым, так есть ли здесь противоречие? Этот феномен раскрыт в стихах Бродского о Жукове: «Смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою».
Трудно скрывать, что ненавидишь палаческий режим. Ямпольский говорил про собрания, куда вынужденно приходил: «Это помесь суда, панихиды и плахи». Он называл сталинского подручного Кагановича «пышным и жестоким фразером». Он написал про Суслова: «Чудовищное высокомерие временщика», и это значит, что он не принимал временность за вечность, знал: «откроются архивы, откроются доносы, все получит свою оценку». Это не смягчает его пессимизм: «Увы, прошло много веков жизни, но чему они научили? Очевидно, время, эта бесконечность опыта, которая могла бы, казалось, стать конденсированной мудростью, время не обладает способностью кого-нибудь чему-нибудь научить разумному. Все повторяется. И глупость, и тупость, и жестокость. Куриная слепота при ярком солнце». («Мысли после чтения одной статьи Андрея Платонова». )
Он был до конца предан своему искусству. Вот подслушал в новогодней очереди: «Дайте язык. Почему вы не даете язык? — Это бутафория. — Тогда дайте вот это заливное с крабом. — Это бутафория. — Ну вот эту индейку? — Это бутафория...» Вот списал с театральной афишки: «Оперетта «Улыбнись, Света», драма «Здравствуй, Катя». Вычитал в жалобной книге глазной больницы: «Двенадцать лет я был слепой, и вот в больнице сняли с глаз катаракту. Я стал зрячим. И что же я увидел в этой больнице? Безобразие. Вместо 3 кусков сахара дают 2».
И в каждой фразе его звук, акцент, его, как он сказал про Платонова, улавливаемая и неуловимая плазма.
Однажды я спросил о Гайдаре. Он мгновенно ответил: «Лакировщик номер один». Написал о Пришвине: «Он, как громадный лось, укрылся в лесу и питался почками».
Свои рассказы Ямпольский не датировал. (Не датированы они и в этой книге.) Его архив, если существует, неизвестно где. После того как у Василия Гроссмана арестовали рукопись романа, одинокий Борис Самойлович (горестный парадокс — родовой человек без семьи), заметая следы, панически пристраивал свои неопубликованные произведения разным лицам; дай Бог, чтобы всплыли, и — под его, а не под чужой фамилией. Неизвестно, где тысячи страниц рассказов, заметок, зарисовок этого соглядатая человеческого. Где три или даже четыре романа.
Будущим исследователям не позавидуешь. Что исследователи будут, сомневаться нельзя: уж очень значителен дар и весом вклад в литературу, покамест не осознанный нами.
Исследователи разберутся. Выяснят, кто на кого влиял и каким бы стал Ямпольский-новеллист, если бы, скажем, не «Темные аллеи». Для исследователей: том прозы Бунина, подаренный Борисом, у меня сохранился. Там есть его пометы — свидетельства пристального чтения.
Ямпольский благоговел перед Зощенко и Булгаковым.
Он дружил с Платоновым и Олешей.
Мне кажется, «Ярмарка» в родстве с лесковским «Левшой». С «Кола Брюньоном».
А больше всего он любил эхо собственного детства. И даже в генуэзском отеле мерещилась ему «Жмеринка 1913 года, узкие, дремучие коленчатые коридоры, пахнувшие нафталином, чесноком, клистирами, всеми постояльцами, их вирусами, их мукой, тоской и безысходностью метаний» («Отель «Коломбия»).
Автор французской биографии Гоголя Анри Труайя эффектно сказал, что Гоголь хотел быть Рафаэлем русской литературы, а оказался ее Босхом.
Заманчиво было бы назвать Ямпольского Босхом русского еврейства. Но все эти сравнения хромают, и каждый художник неповторим.
Борис Ямпольский умер после тяжелой болезни почек 28 декабря 1972 года в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.
«И когда мессия придет будить евреев, он поднимет меня и спросит: «Что это за еврей с улыбочкой — один на весь свет?» Но что я могу сделать, если нельзя согнать ее с лица».
Поклонимся художнику.
Владимир ПРИХОДЬКО
Ярмарка
Повесть
Утро
Я проснулся вдруг, как просыпаются только в детстве. Утренняя луна — серебряный рожок — бродила над местечком.
Где-то далеко-далеко беспрерывно стучал бондарь, будто набивал обруч на новый день.
Я весь еще во снах. Но надо мной стоит уже тетка, и у тетки моей, как у всех злых теток, — толстые красные щеки.
— Ну, — говорит она, — тебе, я думаю снились райские яблочки? Смотри, еще во сне крылышки вырастут и унесут тебя в окно...
Я был странным мальчиком. И спал тревожно. Даже драконы мне снились. Но я боялся рассказывать сны свой тетке. У тетки был реальный характер, и во сне она видела только окутанные паром блюда. Она даже уверяла, что во сне поправляется. «Но драконы? Как могут еврею сниться драконы? Это же польский сон!..»
Освещенный луной, стоял я в горячем корыте, весь в мыле, и тетка, и три родные мои сестрицы, и три двоюродные сестрицы мочалками и тряпками скребли меня, а с трех сторон в щели заглядывали соседки и давали советы.
— Не шевелись! — кричала тетка. — Ты будешь беленький, как месяц. Как по-вашему, понравится он аристократам?
И как только там, за дверьми, услышали вопрос, раскрылись двери, и с трех сторон вошли соседки, еще красные от огня печей, с кочергами в руках. Они бросили горшки с фасолью — пусть они сгорят! Когда еврею надо дать совет, до горшков ли с фасолью?
Лаковые сапожки достала мне тетка на этот день и еле-еле натянула их, а когда я сказал: «Жмет!» — ответила: «Лаковые сапожки не могут жать!» К курточке она пришила две золотые пуговицы, сверху и снизу, и сказала, что теперь все пуговицы кажутся золотыми. Потом она крикнула: «Не шевелись!» — и опрыскала меня одеколоном, но тут же предупредила, что я не стою одеколона и что прыскает она не ради меня, а ради них.
Затем она стала меня причесывать, говоря, что прическа — самое главное, по прическе встречают человека. А соседки давали советы, и совет одной был похож на совет другой, как день на ночь:
— Сделайте ему пробор, они это любят.
— Если бы у него волосы курчавились, он бы даже понравился мадам Канарейке.
— Скажите лучше, если бы у него был не еврейский нос, он бы графине Браницкой понравился.
Тетка не выдержала и провела по моему носу — не выровняет ли она его хотя бы на один день.
Даже мальчик Котя, и тот советовал, как причесывать, чтобы и ушки казались причесанными; у него были оттопыренные уши, и ему казалось, что всему миру хочется их причесать.
Тетка уже не кричала мне «Выкрест!», не гадала, как обычно, что из меня выйдет: грабитель на большой дороге или капельмейстер? Нет! Она плакала надо мной и говорила: «Сирота» — и все спрашивала: «На кого тебя оставили?» — как будто я знал!
— Теперь ты кормилец дома! — говорила она. И смотрела на меня с уважением, и сестренки смотрели на меня с уважением, и даже кошка на печи, и та смотрела на меня с уважением и, умываясь лапкой, казалось, говорила: «Теперь ты кормилец наш».
Услышал шум меламед Алеф-Бейз и выглянул в окошко.
— Ой, у него голова! Еврейская голова!
— А руки? — ввернула слесарша. — Золотые руки!
Подошел грузчик, задрожали стекла.
— На эти плечи я положу мешок муки, и вы думаете — я буду бояться?
— С такими ногами я бы бегал и бегал, — пропищал на ходу посыльный и убежал с письмами, в которых были приветы и счета.
Цирюльник Мориц, еврей с красными щечками и напомаженной бородкой, взяв меня за руку, расписывал парикмахерский рай с газовым рожком, с цветами на стенах, никелевыми креслами, зеркалами, где все видят свои лица, тонкими запахами и приличным шепотом. О великое искусство намыливания, бритья бороды и макушки! А пульверизатор! Он даже боялся этого слова.
Бондарь сказал, что самое главное в мире — бочки, а часовщик дед Яков, — что если бы не он, все спутали бы день и ночь...
Но когда отец попросил: «Хорошо, евреи, возьмите его к себе», — меламед захлопнул окошко, а слесарша, подняв руки к небу, воскликнула: «Господи!» Трубочист же сказал, что все его заработки уходят, как дым из трубы.
Тетка плюнула в их сторону.
— У тебя будет пароходная контора! — сказала она мне.
Почему именно пароходная контора — она и сама не знала. Синее море с белыми пароходами было далеко-далеко, да еще неизвестно, было ли оно, а на нашей реке никто пароходов не видел. Гусак, перейдя реку, хвастался перед своими женами лакированными сапожками.
Но тетке нравилась именно пароходная контора.
Когда я был одет и причесан, тетка, оглядев меня вблизи и затем отбежав и оглядев издали, поставила меня на табурет, чтобы поговорить со мной.
— Слушай же меня, мой мальчик! Не будь слишком сладким, чтобы тебя не проглотили, и слишком горьким, чтобы тебя не выплюнули! — с этими словами она сняла меня с табурета, взяла за ручку и повела по лестнице.
Изо всех дверей выглядывали женщины, и все всплескивали руками и говорили, что это совсем не я, а другой мальчик, и тетка была очень довольна, что я — другой. Она вышла на улицу в шляпе с розовыми лентами и желтых полосатых чулках и гордо поплыла, как самая большая бочка водовоза. И соседки смотрели уже не на меня, а на нее.
— Соль ей всю жизнь лизать! — говорили ей вслед. — Чтобы она сама в соляной столб превратилась, и козы бы его лизали и слизали весь до основания, а наутро чтоб она снова проснулась целым соляным столбом, и они бы его снова слизали. И так каждый день!
Вот как ее любили!
«Ах! — говорила она обычно. — Я хотела бы увидеть, что будет после моей смерти». И все боялись, что она до этого доживет...
Дом наш — как голубятня: на самом верху, над маленьким окошком, откуда, кажется, вот-вот вылетят белые голуби, прямо на стене написано: «Фуражки. Чижик». А в окошке сидит сам Чижик, среди гирлянд разноцветных фуражек, и вшивает в фуражки красные и зеленые канты. В центре дома — балкон, уставленный вазончиками и горшками с красными и белыми цветами, откуда стеклянная дверь, всегда казавшаяся мне в детстве зеркальной, ведет в столовую, где ест хозяин дома, господин Котляр, папа мальчика Коти. В самом низу, над косыми окошками, наполовину уже вросшими в землю, с одного края дома висит желтая вывеска: «Сапожная мастерская «Новый свет», где рядом трогательно нарисованы крохотная туфелька и огромный сапог. А с другого края дома — синяя вывеска с изображением завитого господина в сюртуке и с тросточкой — «Парижский портной Юкинбом». Из окошек выглядывали детки парижского портного и грызли хлебные корки. У порога, в кальсонах, грелся дед парижского портного — старик с белой бородой. И вот он вышел сам, в жилетке, с сантиметром через плечо, размахивая на ветру утюгом и напевая парижский мотив: «Ай-я-яй! я-яй...»
— Куда ты в таких лаковых сапожках? В чем дело? — закричал он, увидев меня.
— В чем дело? — крикнул и Чижик со своей голубятни. — Кого ты ограбил?
И Ерахмиель, сапожник, высунул в окошко «Нового света» свою патлатую бороду, которая тоже, казалось, спрашивала: «В чем дело? Кого ограбили?»
Тетка им все рассказала: и какие я буду носить фуражки, и какие я буду носить сюртуки, сзади — карманчик для красного платка.
— О! — сказал Юкинбом и поднял палец, показывая, что красный платок в заднем карманчике — это как раз то, что нужно.
— Я сделаю тебе белую меховую шапку! — закричал Чижик со своей голубятни. — Шелковый картуз я тебе сошью — еврейский картуз из лучшего репса. Сколько фуражек я сделал, сколько мерок снял — волос у тебя нет.
— Лаковые лодочки! — сказал из окошка «Нового света» Ерахмиель. — На высоких каблучках, с белыми бантиками и никелированными пряжками. Ты будешь ходить, как барин.
— Ой, маленький барин! — вскричала тетка. — Ты будешь ходить осторожно.
— А пальто тебе будет — кастор! — предложил Юкинбом. — Огонь!... Штучные брюки, черные, как ночь, глубокие карманы!...
— Да, да, глубокие карманы! — обрадовалась тетка.
На балкон вышел господин Котляр с золотой цепью на животе и с такими же оттопыренными ушами, как у сына его Коти. И хотя он нас видел, но делал вид, что не видит, и смотрел на облачко. Тетка, заглядывая ему в лицо, сказала: «Здравствуйте!» — и ущипнула меня, чтобы и я сказал «здравствуйте», и только тогда он посмотрел на нас и, медленно приподняв котелок, ответил:
— Здравствуйте! — с таким видом, будто дал нам денег.
Тетка, заулыбавшись, трижды повторила: «Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!»
— Ведите его, — проговорил господин Котляр. — Довольно ему рвать чужие груши!
Но я-то отлично знал, что в садике у него нет ни одной груши, а растет только дикое дерево с черными ягодами, из которых мы делали чернила.
— Ой, его надо бить, ой, его надо шлепать, — крикнул из окошка рыжий ребе, — чтобы он знал, где «а» и где «б»!
— Где «а» и где «б»... — хором повторили мальчики...
Ребе, ребе!...
В темной, продымленной комнате, кишевшей клопами и пропахшей луком, чесноком и всеми сладкими и горькими еврейскими блюдами, сидели двадцать мальчиков, тесно прижавшись и изнывая, щекоча друг друга, царапаясь, пересчитывая друг другу ребра и обыгрывая друг друга на крючки от штанов.
Сзади нас стоял бегельфер — помощник ребе, рыжая морда — и держал наготове канчук.
Меня уткнули в желтую истлевшую книгу, и ребе, усмехаясь, пропел:
— Вот это будет алеф! Алеф — это начало...
И задремал.
Бегельфер притронулся к моей спине канчуком и, брызгая слюной, произнес:
— Вот это будет алеф!
И мальчики заорали, торопясь и заикаясь:
— Вот это будет алеф!
И я в тоске и отчаянии закричал:
— Вот это будет алеф!
Ребе проснулся и снова нехотя затянул:
— А-л-е-ф!
И вес мы тотчас подхватили:
— А-л-е-ф!
Весь первый день я, раскачиваясь, напевал: «А-л-е-ф!»
И весь второй день я, раскачиваясь, напевал: «Б-е-й-з!»
А когда я вдруг сказал «А-л-е-ф!», ребе встрепенулся и, напевая: «Б-е-й-з!, стукнул меня кулаком:
— Грубиян!
И бегельфер, рыжая морда, вытянул меня канчуком:
— Грубиян!
И мальчики, раскачиваясь и не отрываясь от книг, зашептали:
— Грубиян! Грубиян!
Рыдая, я показал ребе фигу.
Протирая глаза, он рассматривал грязную мою фигу, не веря. Он ясно видел ее, ребе, и все-таки не верил. Мне надоело, и я опустил руку.
— Мальчики, может, я сплю? — в ужасной тоске произнес ребе, все не веря.
Я снова показал фигу, чтобы уже не было никаких сомнений.
— Нет, вы не спите, ребе, — сказали мальчики.
— Что же он мне показывает? — спросил ребе и взялся за канчук.
— Он вам показывает дулю, — ответили мальчики.
И ребе с размаху ударил меня канчуком по голове.
Дома я сказал, что пойду к речке и утоплюсь, если меня снова пошлют в хедер. И мне поверили.
Так я постиг алеф и бейз, первые две буквы еврейского алфавита. По букве в день...
— Будь самым богатым! — кричали мне вслед.
— Самым богатым! — поддерживала тетка. — Сладкие тебе печеночки, трубочки с маком.
Мальчик Котя бежал впереди нас, рассматривая мои золотые пуговицы и заглядывая мне в лицо, как бы желая узнать, не изменился ли я оттого, что мне пришили две золотые пуговицы.
— Уйди, Котя! — сказала тетка. — Он уже с тобой не будет играть, он уже большой!
Появился трубочист с черной метлой, за ним бежали дети: «Трубочист, трубочист! Верхом на метле! « Вышел пожарный в медной каске, и дети помчались за ним: «Пожарный, куда ты идешь?» Из раскаленной пекарни выскочил длинноногий Муе, бубличник, обвешанный гирляндами бубликов, и дети тотчас погнались за ним: «Бублики, бублики! — И проводили рукой по сердцу. — Ах, как хорошо, как сладко пахнут бублики!...»
И мне тоже захотелось крикнуть: «Бублики! Бублики!»
Но тетка ущипнула меня:
— Ты уже большой!
Маляры с высокими кистями, черный угольщик, почтальон в зеленой фуражке — детство мое проходило мимо меня...
Жужжа, вертелось большое деревянное колесо, и сучильщики с пенькой у пояса прямо на улице плели веревки; стекольщик, сияя стеклами, стеклил окна; ножовщик, запустив свой станок и высекая огонь, кричал, что огонь вложит в ножи и будут ножи не резать, а жечь...
— Скорей, скорей! — кричала тетка.
У открытых окон сидели швеи над машинами и шили, шили, шили; гончары вертелись вокруг гончарных кругов, а медники с красными бородами стояли у красных самоваров; хмурый резчик раскаленной иглой выжигал на дереве узоры, чёрные узоры своих дум, а живописец с бантиком выводил на вывеске вензеля своего воображения; часовщик, дед Яков, ковырялся в часах, все время поглядывая на солнце: не остановилось ли солнце, пока он исправляет часы?
Я прощался с нашей улицей.
Вся она полна была решимости. Шли маляры с зелеными и красными кистями, обещая заказчикам и ад, и рай; грузчики с веревками на шее, готовые все перенести, и, если на дороге встречали телегу, смотрели на нее, как на пушинку; дровосеки в нательных рубахах, с большими топорами и длинными пилами, готовые рассечь и распилить все, что угодно: на лес пойдут, и леса не станет — только небо и земля!
А кровельщики кричали на крыше так, будто не крышу, а небесный свод они крыли; а стекольщики со стеклами так выступали, будто стоит только им заказать, и они вставят стекла во все четыре стороны света.
И я понял тогда, что мир сотворен человеком.
Сотрясая мостовую, проезжали огромные биндюги; краснорожые биндюжники, завтракая на ходу и перекликаясь, передавали друг другу бутылку водки, и каждый, взбаламутив ее, опрокидывал в глотку, крякал на всю улицу и, дав еще лошади понюхать, передавал дальше. Глядя на них и слыша их голоса, верилось, что смеясь поднимут и дом, поставят на биндюг и повезут.
Неслись извозчики, свистя кнутами. И, обгоняя всех, пронесся, стоя на пролетке, рыжий Эли, держа вожжи так, будто впереди не лошади, а птицы, гикая на прохожих, на землю, на небо; сам рыжий, и лошади рыжие — словно огонь пронесся, оставляя за собою только искры, свист и пар да запах водки, которую Эли выпил. Прохожие только котелки снимали, а у кого была лысинка — вытирал лысинку от испуга. А господин русский учитель высунулся из окошка и показал детям иллюстрацию к только что пройденной цитате о колеснице пророка Ильи.
Бочары катили с горы пустые бочки — как гром по небу; на горе гремела кузня, под горой тарахтела крупорушка, как будто уезжала куда-то по шоссе; догоняя ее, стучала маслобойня; клубились черным дымом трубы, окна и двери смолокурни; как пароход перед отходом, вся в белом пару, будто в облаке, плыла прачечная, и навстречу нам летела красильня в праздничном наряде. На бойне мычали коровы, и с резникова двора неслись предсмертные крики петухов.
Местечко
Местечко наше — Белое, которое евреи называли Черное, ибо давно известно: что для царя было бело, то для евреев — черно.
Это маленькое еврейское местечко, каких было много на Украине, до того маленькое, что когда кривой Афоня, зимой и летом шагавший по каланче в тулупе, кривым глазом обозревая окрестности, отчего, когда горело на западе, обыкновенно сообщал, что горит на востоке, — когда этот Афоня кричал жене своей: «Христя, а де ж рассол?» — женщины на окраинах слышали это и говорили: «Опять кривой черт напился», зная, зачем Афоне понадобился рассол.
На Орлиной горе, окруженный лишь синим небом, — белый графский замок с серебряным куполом.
На рассвете, только коснется купола первый луч, вспыхнет он, как от спички, и кажется: это от него разливается белый свет и наступает день.
Для нас, мальчиков из Иерусалимки, замок был воздушной картинкой. Иногда казалось, что он оторвался от земли и плывет вместе с облаками, и мы, мальчики, смотрели: куда же он уплывет. Но небо прояснилось, и снова белый замок стоял на Орлиной горе, окруженный лишь синим небом.
У въезда в имение графини Браницкой стояли два чугунных столба с обвившимися вокруг них змеями. Говорят, графиня до того не любила евреев, что если у въезда появлялся еврей в лапсердаке, с пейсами и несчастным своим лицом, — даже железные змеи шевелились. Нам говорили, что там есть хижина из медных пятаков, пруд красного вина, гора рафинадного сахара. И лишь в год революции, когда все небо над Орлиной горой было залито огнем от горящего имения, мы при свете пожара увидели, что нет там хижины, сложенной из медных пятаков, пруда красного вина, горы рафинадного сахара. Это были легенды голодных евреев.
Вдали от больших дорог затеряно наше местечко в милом моему сердцу крае, где протекала река моего детства, где леса диких яблонь и вишен в пору цветения кажутся запущенными садами и вокруг, куда ни глянь, желтеют поля.
Мимо пробегали поезда, мимо, казалось, жизнь проходила.
Только несчастья не забывали нас. Вдруг, в ясный день, появлялась холера и ходила из дома в дом, из местечка в местечко. Ночью внезапно начинались пожары, и, если в одном местечке горело, небо зажигалось над всеми местечками, будто ветром переносило огонь. Но ничто на свете так быстро не докатывалось и так широко не разливалось, как весть о погроме: в тихой украинской ночи вдруг вскрикивали в одном доме, крик подхватывала вся улица, и уже все местечко ревело, стучало в тазы и кастрюли; потом все стихало, и тысячи женщин, детей и стариков прислушивались к ночи.
В одну из таких ночей, которые помнит еврейский народ, по каменистой дороге брел с сумой калека-еврей, знаменитый гранильщик алмазов. В погром бежавший из Киева, неся на себе багровые следы нагаек, кочевал он из местечка в местечко, спрашивая по дороге, где местечко Белое, которое евреи называют Черное.
Он стучал костылем в двери высоких домов, спрашивая: «Здесь живут евреи?» Его встречали еврейские вопросы и провожали еврейские советы, но из всех кварталов этого местечка только один — наша Иерусалимка приютила его.
Здесь находили кров все нищие, сироты и вдовы, погорельцы и калеки, жертвы погромов и войны. Под крышами Иерусалимки укрывались беженцы со всей земли, изо всех стран, где только живут евреи, а где евреи не живут?
Здесь можно было встретить польских евреев с длинными пейсами и галицийских евреев в высоких шапках, и немецких евреев в коротких сюртучках, и литовских евреев с их крикливым голосом, и евреев-коммивояжеров, побывавших на Огненной земле.
И отсюда уезжали беженцы во все земли, ибо в какой земле, в какой стороне нет беженцев из местечка Белое, которое евреи называли Черное.
На нашей улице, среди стонов рожениц, бреда безумных, шепота сплетниц и поминальных молитв, среди грома кузниц и стука бондарей, люди, как везде на свете, мечтали о счастье, и нигде счастье не было от них так далеко.
На черной улице, среди сточных канав и выгребных ям, воображение вызывало оранжевые закаты неведомых земель, обетованную страну, обильную медовыми реками и тучными стадами.
Соседи наши бросали очаг и род свой и, гонимые погромами, исчезали. Дым и чад местечек таял вдали на украинской равнине.
Для них были закрыты все границы, перед ними возвели санитарные кордоны, им уготовили карантины, где их заражали болезнями, их поджидали острова слез, где они умирали, полицейские засады и коварные законы, швырявшие их из страны в страну. Но, слыша еще в ушах своих свист русских городовых, они пробивались через все границы, кордоны и заставы.
Они приплывали ко всем пристаням и вступали в споры на всех языках.
Там, на чужих берегах, на гранитных и холодных набережных, в тумане, еврей ждет своего сына, своего отца, свою дочь, что-то бормоча и проклиная и все фантазируя.
Под ними горела чужая земля.
И они становились, местечковые евреи, жокеями, факирами, доминиканскими монахами. Они были брадобреями у султана и пекли бублики испанскому королю.
Никто из них не знал днем, что будет с ним вечером.
Они — коммивояжеры всех товаров, даже тех, что продаются на Формозе и в Исландии, и продавцы всех лекарств от всех болезней. Они — корчмари на всех дорогах, глашатаи на всех базарах, маклеры на всех биржах, поэты на всех языках. Они — на всех перекрестках. Они проникают во все трюмы и проливают слезы на всех островах.
Им нельзя было жить в Петрограде, Москве, Киеве, Харькове, Воронеже, Тамбове — нигде. Они заселяли Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Париж, Алжир, завели там Иерусалимки, Пески, Молдаванки, черные клубки несчастных улиц.
Им кричали: «Надувалы! Вы умеете только считать деньги!»
Они показали себя искуснейшими землепашцами, в поте лица своего разводили сады в Калифорнии, обрабатывали поля в Аргентине, выращивали рис в Китае, чай на Цейлоне, виноград на склонах Скалистых гор.
Не было лучших, чем они, скрипачей, а когда они пели, женщины всего мира плакали. Они ужасали своими преступлениями, поражали математическими вычислениями, астрономическими наблюдениями и хирургическими операциями.
Они — часовщики на всех концах земли и думают, что по их часам движется солнце вокруг света.
И где бы они ни были — в пустыне Сахаре, на острове Ямайке или на Капской земле, — они встречали потомков и предков своих, рассеянных и развеянных по всему миру, похожих на китайцев, негров, индусов.
И еврейский Бог выслушивал из уст их молитвы за алжирского бея, за персидского шаха, за турецкого султана, за раджу мадагаскарского.
Но ничто не спасало их.
Они рыскали на всех ярмарках, и так уж повелось: без них не обходилось ни одно жертвоприношение, чтобы они не приносили жертвы, ни одни похороны, чтобы они не плакали, ни один погром, чтобы их не резали, наводнение, чтобы их не заливало, землетрясение, чтобы их не убивало, измена, кровосмешение, прелюбодеяние, клятвопреступление, в которых бы не обвиняли их.
Они привыкли к сжигающему солнцу пустынь и к ветру гор. И солнце их сожгло и сделало черными, а горный ветер вызывал у них зобы. На юге они тряслись от малярии, на севере у них выпадали зубы и чернели от цинги десны. Они переносили язвы и выживали.
И все искали они землю, обильную медовыми реками и тучными стадами, и не находили се. И все ждали обещанного золотого века, когда барс будет лежать рядом с ягненком и маленький мальчик стеречь их.
Со страстью еврейской молились они, обратив лицо к востоку, но горе шло от запада и от востока, от севера и от полудня.
Они клялись друг другу в верности: «Шма, Исроель! Слушай, Израиль! Господь Бог твой, Господь — единый...» Но пока они молились, золото сделало многих из них господами, и рабы у них — евреи.
И он уже в чалме золотой, в мехах, атласе синем! Он уже разодет, жирноголовый, и жена его в шелку и белой парче, и дети его в бархате желтом. Он уже забыл все унижения и вытер все плевки. И только и думает о том, как поскорей бы сбросить образ свой еврейский, только и боится, как бы не заподозрили, что он еврей. Позабыл он фамилию свою и имя, и улицу, где родился, и цвет обоев в комнатах детства, и друзей своих, и голос отца, и мать свою, братьев и сестер, и язык свой — все продал он за деньги, И не было радости больше, когда говорили ему, что не похож он на еврея: и говорит не так, и кричит не так, и любит не так, и нос совсем не еврейский.
Этот раб, этот каторжник, этот нищий, этот калека — его молочный брат, его сосед, родственник? Нет, он его не узнает. И душит он раба своего, еврея, как и нееврея, и смеется над говором его, над песнями его, над плачем его ужасным над его покойниками...
Приходили в наше местечко письма со штемпелями всех стран: круги, квадраты, треугольники, черные, синие, оранжевые.
Под аравийским небом и в полярной ночи раздавались стоны и песни моей родины, тоскливые песни беглецов о синем небе юго-запада, о шуме лесов, о местечках Киевской губернии.
Калека-еврей, нашедший приют в Иерусалимке, был Иаков, прадед отца моего, Симона, первый предок, имя которого сохранила память нашего рода. И о нем рассказывал мне дед Авраам, закатывая глаза.
От знаменитого гранильщика алмазов Иакова и повелось на Иерусалимке наше племя мечтательных и буйных евреев.
Были в нашем роду разбойники, чудесные гранильщики алмазов, могучие ковали, искусные швеи, прекрасные комедианты, горькие пьяницы, изобретатели перпетуум мобиле, висельники, утопленники, коробейники.
Голодным евреям снились горячие яства, и они облизывались, а детям — цветные мячи, и они вскрикивали во сне.
О род мой, затравленный, замордованный! Морил тебя голод, сушила чахотка, душила грудная жаба. Трясучка и косноязычие одолевали твоих сыновей. Женщины твои страдали истерией и кровоизлиянием. Слепота поражала глаза часовщиков; горб кривил спину сапожников; вода сдирала кожу с кровоточащих рук прачек; катар схватывал глотки торговцев; в сумасшедшем доме кончали жизнь свадебные шуты.
Поразил тебя Бог, как предсказал, горячкой, лихорадкой, воспалением, чтобы ты был истреблен. Но живуч был мой род. Потомки Иакова, десятки крикливых семей, цепко держась за жизнь, пережили несчастья, погромы, пожары.
И как бы в насмешку над судьбой, наперекор природе, в семьях евреев, чахоточных и налитых водянкой, рождались дети — прекрасные лицом, с железным умом, сильными руками и громкой речью, с черными глазами, полными огня, страсти и печали, которые слышали, как лист растет и движутся тучи. Воины, поэты, математики, скрипачи.
Я — горячая капля крови этого рода...
Давид
— Пойдем к Давиду, — говорит отец.
— Господи, — восклицает тетка, — накажи этого еврея лихорадкой, горячкой, воспалением!
— Пойдем к Давиду, — повторяет отец.
— Господи, — всхлипывает тетка, — у других людей дети — доктора, раввины, фабриканты. У нас — биндюжник, сапожник...
— Пойдем к Давиду! — уже кричит отец.
И пока мы поднимаемся в гору, тетка причитывает:
— Зачем я тебя одевала, зачем я тебя причесывала, зачем я тебе лаковые сапожки доставала, золотые пуговки пришивала?.. Чтоб ты ковалем был? Если б твоя мама на том свете проснулась!..
На краю Иерусалимки, высоко на горе, над рекой, стояла кузня. День и ночь горели огни кузни, и в детстве я был уверен, что кузнец никогда не спит.
Много лет назад, далеко отсюда, на краю большого украинского села, у опушки леса на горе, жил рядом со своею ветхой кузней коваль-еврей по имени Нафтула.
На голову был он выше всех людей, и сыновья росли в него, и когда они выходили все вместе и шли с горы, казалось — лес пошел.
От пращура, знаменитого коваля Гедали, повелось в этом доме: после обрезания, как только мальчик становился евреем, его сразу вносили в кузню, чтобы понюхал огня и дыма. Люльку подвешивали у ворот кузни, в красном свете огней. И как, наверное, сыну рыбака первые видения являются в море, сыну лесника — в темном лесу, так сыновья Нафтулы в огне увидели первые свои сны. И как правоверного еврея, перед тем как опустить в могилу, во дворе синагоги обносят священным свитком торы, так умершего коваля обносили вокруг кузни, чтобы простился навеки с огненным дымом, в котором провел свою жизнь.
Предки Нафтулы делали колеса с тех пор, как люди стали ездить на колесах. И когда бы мимо ни проезжала телега, а ездят телеги по земле день и ночь, всегда можно было у Нафтулы достать новое колесо, и все мужики вокруг ездили на его колесах.
Проезжая или проходя мимо открытых ворот кузни, мужики всегда снимали шапки и кричали: «Бог на помощь!»
Но вот приходит день, и приходит сотский в синих шароварах с лампасами и красным носом и говорит: «Жид! И жена жидовка, и дети жиденята, и колеса — не колеса, а жидовский обман!»
А ночью, когда сыновья были в местечке, налетели хищные птицы в мохнатых шапках, и запахло водкой на версту.
— Эй, вы, жиды, языческие дети! Зачем обманом живете? Зачем на одной версте становили по три кабака, поили дурманом проезжего и пешего, зачем не пропускали ни бедного, ни нищего, отбирали у него пшено и яйца?...
И вот уже лежит Нафтула в крови, вниз лицом, лежит с железом в руках.
Утром пришли три сына, а сотский в синих шароварax с лампасами и красным носом кричит на них:
— Эй, вы, жиды, языческие дети! Зачем подняли вы этот страшный бунт и тревогу? Зачем обманом живете?
Подняли отца сыновья, и старик нищий — тот, что с еврейской торбой проходил через эти места, дети бежали за ним и кричали: «Сумасшедший, сумасшедший!», а сошел он с ума, когда на глазах его убили сына, — этот безумный старик с полной разумностью и спокойствием обмыл еврея Нафтулу от копоти и сажи, и человека, который всю жизнь прожил в черном кожаном переднике коваля, быть может, впервые одели в белое — в саван, так что прибежавшие бабы, глядя на него, не узнали его.
И кузнец, к которому шли мы, был не кто иной, как один из сыновей Нафтулы, правнук Гедали, Давид. Здесь жил он с тремя своими сыновьями — Ездрой, Нафтулой и Енохом. Так, пройдя сквозь погромы, несчастья, пожары, как бы бессмертный, снова жил еврейский род ковалей.
Как и предки их, они поселились да горе, близко к небу, будто им для работы их нужны были молнии и громы.
Там, рядом с кузней, всегда в облаке белого пара, Ездра, в широкополой соломенной шляпе, старший сын Давида, гнул ободья колес, а в кузне Давид и сыновья его Нафтула и Енох ковали железные шины.
День и ночь Давид с сыновьями делали колеса и выкатывали их из своей кузни, белые и высокие, уже окованные железом.
И дед мой Авраам говорил мне: если бы можно было так толкнуть колесо, чтобы оно полями-равнинами, перепрыгивая через горы, перелетая через моря-океаны, обогнуло бы всю землю кругом, колесо Давида вернулось бы обратно без единой трещины, запыленное пылью земли, но со скрипом, словно его только что выкатили из кузни. Потому что знал Давид, как делать колеса: отец Давида и дед Давида делали колеса, и отцы мужиков и деды мужиков ездили на этих колесах, и одни из них даже родились, а другие умерли в подводах, поставленных на эти колеса. Давид научил своих сыновей сгибать ободья и работал день и ночь, потому что много колес нужно человеку, чтобы проехать расстояние от люльки до гроба.
Ночью огни кузни полыхали в небе, и тогда вам, детям, казалось, что и там кузнецы куют, и когда гремел гром и сверкали молнии, мы говорили: «Кузнецы разошлись».
Летом, на рассвете, просыпаясь и видя над головой огненное облако, мы, дети, думали, что это восходит заря. Но то работал Давид с сыновьями, отковывая железо для колес, чтобы не боялись колеса ни ям, ни камня и везли мужиков к счастью и к несчастью, ко всему, к чему везут колеса...
Только стали мы подниматься в гору, донесся кузнечный гром.
Среди огней стоял Давид, в дымящемся кожаном переднике, в дымящейся рубахе, изодранной на груди, с длинной черной бородой, казалось, тоже дымящейся, и длинными клещами держал в раскаленных углях побелевшее железо. Секунда — и оно расплавится. Я посмотрел ему в лицо, но Давид был спокоен, и я подивился величавому его спокойствию.
— А! Пароходная контора! — сказал Давид.
— Грех смеяться! Грех смеяться! — строго отозвалась тетка. — Мы пришли серьезно поговорить с вами, как евреи с евреем!
Но только она открыла рот, чтобы начать говорить, как говорит еврей с евреем, Давид вырвал из огня пылающую полосу железа; огонь сверкнул по лицам сыновей; они на лету перехватили раскаленную полосу, со свистом промчали по кузне и кинули на наковальню, которая зазвенела.
И когда Давид поднялся во весь свой рост с молотом, занесенным над головою, тетка крикнула: «Ай!» А я поразился различию человеческих существ: отец мой стоял сухой и маленький и, мигая глазами, смотрел на коваля:
— Вот еврей!
Давид со всей силой обрушил молот; мягкое железо поддалось, расплющилось, и, ощутив его, Давид с каким-то неистовством стал ковать.
— Вот так! Вот так!
Енох и Нафтула, чернобородые, как и отец, с высоко поднятыми молотами, полуголые, раздвинув багровые плечи и вдохнув воздух, ожидали только знака.
— Вот так! Вот так! Ну! — кричал Давид, отковывая.
И Нафтула, ахнув, с наслаждением опустил свой молот, а за ним Енох. Колесом — тяжелые молоты. Слышны только храп да стоны:
— Вот так! Вот так!
И внучонок Давида с закоптелым лицом тоже вертелся вокруг со своим молотом, приговаривал:
— Вот так! Вот так!
А Давид уже только стоял и смотрел на сыновей, посмеиваясь.
— Ты тоже будешь такой? — спросил он меня.
С завистью смотрел я на закоптелого кузнечонка, внука Давидова, важно раздувавшего мех и даже не желавшего смотреть в мою сторону.
В это время дочь Давида принесла пылающий горшок красного борща. Давид вынул из сундучка бутылку водки, поглядел ее на свет, полюбовался, понюхал и, убедившись, что это именно то, что он предполагал, опрокинул в глотку. Сыновья смотрели на отца, и если у него было сладкое лицо, то и у них по лицу разливалась сладость; когда отец крякал, крякали и они.
Давид передал сыновьям бутылку с одной каплей водки.
— Босяки! Вы терпеть не можете, когда отец на языке чувствует водку.
Сыновья покорно взяли бутылку и по очереди нюхали эту каплю.
А Давид приперчил красный борщ так, что он почернел, и глубокой деревянной ложкой стал есть, степенно вылавливая картофель, высасывая кости и все время покручивая головой.
— Ой, — говорила тетка, — так медленно?
— Я ни у кого не вырвал этот кусок. Я его заработал. И я имею время скушать его и почувствовать, какой он: сладкий или горький, — отвечал Давид.
И, пока он ел, тетка стояла перед ним, и громко им любовалась, и хвалила его силу, его грудь, его ремесло, копоть на его лице, трещины на его руках; она забыла все, что выдумывала и говорила раньше, и теперь все ей здесь нравилось.
— Он умеет раздувать огонь, — говорила она про меня, — это же не мальчик, а разбойник. Дайте ему подуть — будет пожар.
— Он знает, где «а» и где «б», — торжественно заявил отец, и Давид посмотрел на меня с уважением. — Он вам будет письма писать, он добрый мальчик.
— В самом деле? — спросил Давид. — Такой маленький, и ты уже знаешь, где «а» и где «б». Поиграй с ним! — прикрикнул он на маленького кузнечонка, в это время показывавшего мне язык. — Он знает, где «а» и где «б», босяк!
Я испытал на себе завистливые взгляды кузнечонка, который плакать хотел от досады, что не знает, где «а» и где «б».
— Сделайте его ковалем, — сказала тетка.
Давид ущипнул меня за щеку, потом стал тискать мускулы на моих руках и несколько раз ударил в грудь.
— Это же коваль из ковалей! А ну!
Я взялся за клещи, схватил кусок железа, сунул его в огонь и стоял очень важно. Тетка восхищенно вздыхала, отец умилялся.
И казалось мне: кузня наполнилась гулом; зашумели мехи, раздувая огонь; свистя и разрезая воздух, пронеслись в темноте раскаленные прутья; подхватили их Давидовы сыновья и заковали, и закричали: «Молодец! Еще!...» Горячий уют кузни обнял меня. Мне было душно и весело, и мир проносился передо мной, раскрашенный в радужные цвета.
— У него золотые руки, ему не железо ковать, ему золото ковать, — с сожалением сказал Давид, поглаживал меня грубой рукой, привыкшей к железу.
— Золотые ручки, — спохватилась тетка. — Ой, какие золотые ручки!
И она моментально передумала. Она уже ни за что не хотела сделать из меня коваля.
— Мой племянник будет ковалем? Как вам это нравится?... Как тебе это нравится? — спрашивала она меня.
Разноречивые чувства охватили мою тетку: то она восхищалась ковалями, то презрительно смеялась над ними. Она всегда была такая.
— Мадам! — сказал Давид. — Вы не знаете, что говорите. Я — простой человек, я коваль, и отец мой коваль, и дед мой коваль, и отец моего деда был такой коваль, какого теперь не найти на всей земле. Когда царица проезжала в золотой карете и карета сломалась, он в секунду починил, она даже не проснулась. Он выпивал ведро водки и мог скушать четверть коровы. И нам никогда не было стыдно, что мы своими двумя руками зарабатываем хлеб. И коваль Давид никогда не скажет сироте: нет, не надо! Надо! Я его беру. Только что он будет кушать? Или вы, мадам, думаете, что ковалю не хочется кушать? Вы так думаете, мадам?
— Он ковалем будет, и я еще кормить его буду! — завертелась тетка. — Отрубями я его буду кормить? Приплатите нам за то, что вы его ковалем сделаете! Приплатите! Вы слышите? — настаивала она.
— Пусть мальчик остается, — уговаривал ее отец. — Надо же его чему-нибудь научить? Пусть свечки делает или монпансье, или подковы. И когда чужой человек берет кусок в рот, чтобы он не хотел вырвать этот кусок.
— Господи! — страстно воскликнула тетка, закатив глаза. — Пусть мои враги делают свечки и монпансье, а мой племянник пусть жжет эти свечки и сосет эти монпансье, чтобы ему было светло и сладко.
В это время звонари поднялись к небу и ударили во все колокола. Из домов выползали косые древние старухи, окутанные тряпьем, полуголые очумелые старики, люди в черных перчатках и люди с крючками вместо рук — все, что гнездилось в недрах хижин.
Безногий солдат в красной фуражке бешено промчался на коляске; с сияющими лицами, о чем-то лопоча, неслись глухонемые. Приседая и раскачиваясь, приближались хромоногие, горбуньи, и цветные рубища их развевались на ветру.
Тяжело прошла женщина с железной ногой, пронесся загадочный человек в синих очках, с изрубленным или обожженным лицом; и тот, что обернул голову чалмой, и тот, кто разгуливал в шкуре зверя; в толпе замелькали: парень с отметиной на лбу и со свороченной челюстью, всегда готовый убить, странный человек с кошачьими глазами — все, кто в детстве меня изумлял, восхищал и пугал.
Вытянув шеи, с криком «Ой, ой-ой» летели они вперед, и я со страхом смотрел на эту бесноватую толпу. Ее качало из стороны в сторону.
Понурые евреи вели танцующих медведей в железных ошейниках и ошалелых лысых мартышек, щелкавших грецкие орехи; колючих ежей, приученных к ласке, и наглых ярко-желтых попугаев, обученных матерщине.
Торопились шаромыжники, каббалисты, продавцы каленых каштанов, кляузник с длинным, изрытым оспой носом, тень от которого падала на все тело; евреи-гладиаторы в туниках, уличные фельдшеры с лекарствами от всех болезней, знахари со снадобьями для любви и нежности, напитками слабительными, укрепляющими, горячащими, — люди фантастических и мрачных ремесел.
За зверями и птицами кто-то провел бычка о двух головах; воровка Слониха показывала ублюдка с головой в кулак и живую черепаху. Соседи наши целой семьей привели своего рыжего мальчика Беню: он удивительно мог в уме все сосчитать, поделить и умножить; его водили по ярмарке, и он за грош решал разные задачки и отвечал на каверзные вопросы, подводил балансы, выводил сальдо, и вся семья, все вместе — и отец, и мать, и дедушка, и малые дети охали и стонали от изумления, когда получалось.
О Беня шепелявый, о друзья моего детства! Черные глаза, обведенные синевой, пламенные глаза еврейских мальчиков, полные слез, тоски и страсти!...
Под колокольный звон воскресных колоколов со всех четырех сторон, по всем трактам и дорогам двигались в местечко, на ярмарку, мужики 999 деревень пани графини Браницкой.
На всех дорогах их встречали маклеры, глашатаи, зазывалы в котелках и жокейках, еле державшихся на макушках, советуя, что купить и где купить. Выбегали навстречу пузатые торговки птицей и пискливые селедочницы и на ходу, прямо с подвод, щупали кур и вываливали в свои корзины живую рыбу. Метались среди возов румяные старички и, показывая мужикам нательные кресты, уговаривали уступить им, а не обманным жидам. Важно надув щеки, стояли свиноторговцы в белых картузах и белых чесучовых пиджаках и улыбались только тогда, когда слышали хрюканье.
Корчмарь в ермолке выбежал на перекресток дорог, подняв руки. Он кричал, что его распяли и зарезали, дом его опустошили: почему никто к нему не едет? И он стонал и жаловался Богу, зачем он живет, зачем его не зарезали ножом, чтобы он этого не видел.
И когда донеслись звуки рогов, крики бегущих, орущих, скачущих, рев быков, мычание, стоны и хрюканье — далекий прибой ярмарки, — вдруг на площади все разом заорали; глашатаи, зазывалы, крикуны засвистали, заревели. Они выбежали на площадь, бесноватые орали и, держась за животы, вздымая руки к синему небу, стали выкрикивать славу и хулу господину колбаснику, господину мельнику, мыловару и табачнику, шинкарю и рыбнику, дегтю, гробам и свечам, всем товарам, всем купцам, врагам и друзьям.
Рев и мольбы глашатаев!
Чтобы мыло розовое мылилось, табак душистый курился, монпансье сосалось, чтобы все жрали, пили и наслаждались. Ой, дай Бог, чтобы всем подвело животы, у всех сосало под ложечкой, чтобы всем хотелось и не терпелось.
Те, которые успели проснуться раньше, уже бегали, суетились, распалялись, продавая друг другу горчицу и банные веники, и всякий вздор. Люди уже сводничали и клеветали, и клялись, предлагая и покупая, и понукая друг друга.
Едут!
Заслышав крики и свистки, все сходили с ума. Это звонили вам, это свистали нам, это призывали нас.
Глухие кричали, что они все слышат, слепые, что есть еще у них глаза. Ах, как безногие жалели, что не могут нестись стремглав; как безрукие плакали, что не могут протянуть рук к тому, чего хотят!
Калеки, не выдержав ожидания, вопя и жалуясь, потрясали обрубками, нищие торопились показать свои язвы. Жалкие желтые карлики все протискивались вперед, чтобы показать, какие они маленькие. И хотели быть еще меньше, совсем в землю врасти, чтобы одна голова торчала над землей, а руки собирали деньги.
Уже эпилептики бились в припадках, собирая восторженных зрителей, и дети с медными кружками обходили любопытных и угрожали тем, кто посмеялся и не заплатил. И эпилептики, встав с земли, тоже показывали им кулаки: для чего же они в кровь разбивались, над собой смеялись?...
Едут!
Пробудился весь город.
Уже дантисты схватили щипцы, подстерегая в своих домах гнилозубых; из окон кричали костоправы, хвалясь вправить и расправить все кости, цирюльники клялись побрить до синевы, массажисты обещали сделать тело нежным и розовым, и лекари, гордясь, вытаскивали клистирные трубки.
— Едут!
Наша соседка Ципа выбежала вся в волнении, плача, что опоздала. Она ломала руки: «Майн готт! Майн готт!...» За нею, теряя по дороге пуговицы, катушки, иголки, бежали Дина, Зина, Минна, девочки с такими длинными носами, что даже смешно, и Зюзя и Кузя — тоже с длинными носами, всхлипывая и нахваливая товар. Ах, пуговицы для веселой жизни — бронзовые и серебряные, свечки для учености и смерти, шикарные шнурки для свадеб и венчания, иголки длинные, помады нежные. Зина, Дина и Минна надевали ленты и банты, всем показывая. Зюзя и Кузя расстилали кружева.
Едут!
Визгливые девицы бегали среди подвод:
— К нам во двор, к нам за стол, к нам в постель, у нас стеганое одеяло!...
На всех улицах и площадях вдруг вспыхивала торговля. Из всех окон, ворот и дверей вопили зазывалы, каждый дом превращался в лавку. Во всех дворах, этажах кричали и хвастались барышники, бесстыдно клялись купцы, горланили цыгане. На всех перекрестках оглушали барабаны, лебезили карлики, ломались великаны.
Раскосые китайцы со свистом раскрывали огнекрылые веера, сиявшие, как радуга; в руках китайчат были пестрые бумажные фонтаны. Высоко над ярмаркой, изумляя толпу, вертелись и плыли крылатые воздушные игрушки, похожие на раскрашенные детские сны.
В обжорках уже спивались, обжирались, кричали, хлопали пробками, дрались на ножах.
Евреи-гладиаторы в туниках схватили в зубы лестницы; по лестницам взбирались мартышки, щелкали орехи и плевали с высоты на зрителей. Закричали попугаи; понурые евреи затанцевали со своими медведями; музыканты заиграли в костяные дудки, охнули в барабаны, покрывая свист и вой.
— Ша! Ша! — сказала тетка. — Бульба!
Бульба
Сколько я себя помню, помню я и пузатого городового Бульбу — Бульбу в оранжевых шнурах, при усах и круглых глазах, которые словно что-то увидели, выскочили из орбит и так и остались.
Впервые ослиные уши увидел я не у осла, а у Бульбы: длинные и узкие, они торчали и были видны за две улицы, и если спереди его узнавали по носу, то сзади по ушам. Нос его издали можно было принять за картошку, Бог весть какими путями попавшую между кирпичных щек Бульбы, если бы не фиолетовые жилки, выдававшие, что это все-таки нос, да еще нос не дурак.
Бульба стоял у полосатой будки на площади в тени огромной двуглавой птицы, повисшей над белой аркой, точно собравшись в полет. Люди, проходя, со страхом смотрели на нее, а птицы, пролетая в небе, всегда кричали над этим местом. Бульба же ухмылялся и все следил за большой и страшной тенью птицы, которая до полудня уменьшалась, а потом увеличивалась, и казалось: Бульба охраняет эту тень.
Кто такой Бульба и откуда он — никто не знал. Говорили, что и Бульбой его не зовут, а звали Бульбой того, кто стоял до него и кого прозвали так за красный нос бульбой. Но тот был в точности такой же, и никто даже не заметил, что его уже нет, а стоит другой; и этого продолжали звать Бульбой, и он сначала хрюкал, а потом привык и стал откликаться. Вскоре все уверились, что и фамилия его Бульба, и мать его стали звать Бульбихой, а сына Бульбенком, и они, видя, что Бульба откликается, и сами откликались.
И всем казалось, что Бульба стоит вечно и что не было такого времени, когда бы он не стоял, и уже не могли себе представить птицу без Бульбы и Бульбу без птицы.
Одну сторону площади занимал длинный глухой деревянный забор тюрьмы, опутанный колючей проволокой; поверх нее виднелись решетки, и за ними всегда кто-нибудь стоял и, если замечал, что на него долго смотрят, показывал фигу.
Рядом, на пустынной стороне, — похожая на мельницу в степи — «Португалия», с веником над воротами, этим некогда международным гербом заезжих домов. В центре площади — белая церковь, так как давно известно, где пан ставил корчму, там поп — церковь.
На той стороне, где стоял Бульба, — высокая белая арка ворот с хищной, точно собравшейся в полет птицей. Ворота вели на пустырь, заросший бурьяном, где была когда-то богадельня. Однажды ночью старичок, сошедший с ума в богадельне, поджег ее, и она сгорела так быстро, что многие старички и старушки, особенно крепко спавшие, не успели даже проснуться. Двенадцать раз хотели богадельню отстраивать и собирали пожертвования, но никак не могли собрать достаточной суммы, и тогда недостаточную сумму делили между собой те, кто ее собрал. Когда в тринадцатый раз все-таки собрали, уездный начальник решил, что число 13 несчастливое, и положил деньги себе в карман, строго наказав ежегодно белить арку и в чистоте содержать птицу, собравшуюся в полет.
Так и остался пустырь, куда выбрасывали дохлых кошек и где калеки и нищие подсчитывали свои доходы и в густом бурьяне устраивали свои свадьбы. Бульба видел, как по вечерам у безруких вдруг в рукавах появлялись руки и этими руками они считали деньги, вырученные за то, что у них не было рук; как слепые подсчитывали, не ошибаясь в счете, немые грубо ругались, а глухие оскорблялись, слыша эту брань. Бульба видел и молчал. Но когда они после проходили или проползали, или, подскакивая, хотели пронестись на тележках мимо, как ветер, Бульба поднимал правый ус, и они знали, почему он поднял именно правый ус.
Здесь же воры, несмотря на близость тюрьмы, делили краденое. И так как одному доставался кафтан, а другому подсвечник, тот, кому достался кафтан, зарился на подсвечник, казавшийся ему золотым, а получивший подсвечник хотел получить и кафтан и часто тем же подсвечником проламывал голову владельцу кафтана. Совестливые воры одному такому владельцу даже поставили крест, и если приходилось им выпивать, делали это не иначе, как на могилке усопшего, рассказывая про него разные истории. Так и стоял этот крест воров посреди местечка, никого не удивляя. А Бульба получал и с кафтана, и с подсвечника, и за проломленную голову отдельно.
И, наконец, четвертую сторону площади занимал удивительный дом, всегда мертвый, с закрытыми ставнями и дверью, на которой кто-то дегтем нарисовал крест. Изредка какое-нибудь окно раскроется и, как птичка, выглянет девица, но тотчас же за ней появятся усы и будто съедят эту птичку, и снова никого нет в окнах. На крыльцо дома поднимались господа в котелках, важные, словно шли в банк, и стучали три раза, а за ними бежал старичок и предлагал библейские картинки. На крыльцо выходила старуха в белом чепце и подмигивала Бульбе, и Бульба отвечал ей тем же подмигиванием, точно оба они знали что-то такое, о чем никто, кроме них, не знал.
Здесь же на площади стояли два старых еврея — Рубинштейн и Гольдштейн. Рубинштейн продавал клистирные трубки разных размеров, а Гольдштейн — шляпные булавки разных фасонов. Если долго не было покупателей, Рубинштейн и Гольдштейн торговали друг с другом, производя обмен трубок на булавки, причем Гольдштейн давал в обмен булавку с летающей бабочкой, а Рубинштейн требовал со змеиной головкой, на что Гольдштейн язвительно отвечал: не захочет ли он еще булавки с львиной головкой? Так он ему заранее говорит: все его трубки не стоят одной львиной головки. Бульба, слушая их, загадочно ухмылялся, но если они слишком громко ругались, свистел.
О площадь моего детства!... То вынесется на нее пьяный гецель на своей сумасшедшей коляске, полной затравленных собак, и с криком «убью!» пронесется дальше, и Бульба выпучит глаза, будто и сам кричит «убью!». То солдаты проведут арестанта. То, размахивая котелком, прибежит и закружится по площади Пунцум, сумасшедший в белых кальсонах, крича в небо «у-у-у», будто рассказывая о чем-то Богу, и Бульба, если хочет, слушает Пунцума, а если не хочет, засвистит и свистит до тех пор, пока Пунцум не убежит. То пьяный, выйдя из корчмы, доплетется до центра площади, свалится а захрапит, точно ему удобнее всего спать именно здесь. Если Бульбе не лень, то подойдет и стащит пьяного в глубокую канаву, где квакают лягушки, а если лень, то так и хрюкает пьяный посредине площади, и свиньи ходят вокруг него и: тоже хрюкают, а Бульба загадочно ухмыляется.
Стоит Бульба и, как собака, вытягивает голову и вынюхивает — повернет ее то в одну сторону, то в другую: «А?!»
Никто не спасется от круглых глаз его, от красных Бульбиных усов.
Скачет длинноногий Муе со связкой бубликов и уже заранее развязывает веревочку. «Я какой вчера брал — яичный или маковый?» — спросит Бульба. «Яичный», — ответит Муе, дрожа за бублики. «Ну тогда сегодня — маковый», — говорит Бульба и выбирает самый большой маковый.
Вдруг выбежит на площадь коробейник с пузатой коробкой. Коробейник, коробейник, не беги через площадь! Бульба, вылупив глаза, говорит: «А?!» И пока тот объясняет, откуда несет, куда несет и вообще зачем он всю жизнь разносит, Бульба только шевелит ушами и выберет иголочку, или катушечку, или наперсток и отнесет в будку.
Если подвода проедет, Бульба свистом остановит подводу и уже несет назад в обеих руках по яичку. Если старушка пронесет в церковь деревянное масло, Бульба перекрестится, перстом поманит и старушку и спросит: что несет? И отольет себе немного масла в бутылочку, припасенную на случай, если масло пронесут, чтобы горели у Бульбы лампадки под образами. И если кто обронит пуговицу, Бульба выждет, пока тот пройдет, и пуговицу поднимет и спрячет в коробочку для пуговиц; туда же он кладет и кнопки, а крючки кладет уже в другую коробочку. Вечерней порой, пригорюнясь, пройдет девица в красных или зеленых чулках, но Бульба, несмотря на то, что она плачет, ей ухмыльнется, показывая, что знает, отчего она плачет, и уже шевелит пальцами, и девица дает в шевелящиеся пальцы гривенничек, а если гривенничка нет, Бульба и семечки примет и спрячет в будку, в мешочек для семечек.
Все коробочки и мешочки старая Бульбиха очистит, все пуговки, крючки, пряжки, катушечки и наперсточки разложит, рассортирует и вынесет на базар, а если будут копейки и грошики — в копилочку их.
А сам Бульба торговал только на пасху, продавая орешки еврейским мальчикам, зная, что они любят играть в орешки, и на копейку давал не стакан, как на базаре, а полтора стакана. В эти дни мальчики совсем не боялись Бульбы и даже кричали на него, чтобы скорее давал орехи. Когда они прибегали к нему, Бульба поднимал усы, но узнав, что за орехами, — ухмылялся; но когда Бульба уже продал и выходил с мальчиком из будки, он снова поднимал усы и, уже как городовой, брал несколько орешков и в кулаке относил обратно в мешочек.
Но особенно был он рад, когда несли покойничка. Покойничек еще за три улицы, но Бульба уже чувствует и, подняв усы, выглядывает — из какой улицы понесут. И если Бульба издали видит иконы, то снимает фуражку, перекрестится и с обнаженной головой ждет, пока пройдут; если же слышит вой и еврейские крики, плюнет три раза — вправо, влево и впереди себя и ждет, не снимая фуражки, так как знает, что нельзя снимать ее на еврейских похоронах. И только покойничек поравняется с Бульбой, Бульба вкладывает свисток в зубы и пучит глаза, показывая, что сейчас засвистит. Родственники, еще громче плача, раскрывают кошельки и делают складчину, причем если хоронят старичка, стараются собрать больше: у Бульбы со старичками свои счеты, ибо уверен, что с неподатливых старичков он при жизни недополучает. К Бульбе отправляют посланца, обязательно в котелке и с золотой цепью на пузе, а если без золотой цепи, то с пузом обязательно, и тот говорит Бульбе, что нынче хорошая погода, с чем Бульба соглашается и незаметно принимает складчину. Продолжая смотреть за порядком, Бульба в карман опускает по монетке, ощупывая каждую. Но как бы обильна складчина ни была, Бульба на покойничка смотрит сердито, жалея, что с него самого получить не может, и то, что его закопают в землю, считает своим убытком.
И если где свадьба, обрезание или просто веселье, у Бульбы уже першило в глотке, он уже глаза раскрывал и спокойно стоять не мог у своей полосатой будки, хрюкал и хмыкал, и показывал, что и ему хочется коржиков, еврейских коржиков! И Бульба, подняв красные усы, ловил сладкие запахи на лету. Но возвращаясь домой, он обязательно заходил на свадьбу и в оранжевых шнурах, круглой фуражке с медной бляхой и со свистком проходил прямо на кухню. Там стряпухи угощали его фаршированной шейкой, которую Бульба очень любил. Он знал, как ее есть, и раскрывал ее с такой же ловкостью, как и дедушка мой, так что мне казалось, что вот он и благословенье произнесет, как мой дедушка, но Бульба, расправив усы, отхватывал полшейки сразу, заедал шейку золотым бульоном, а затем еще ел кисло-сладкое мясо, которое тоже очень любил. Но, поев и кисло-сладкого мяса, не уходил: он знал, что еще должен быть кугель-цимес, и если кугель-цимеса не оказывалось, Бульба делал удивленное лицо: «Какая же это свадьба без кугель-цимеса?» Тогда ему давали фисташки или сладкие фиги, чем любят евреи закусывать на свадьбах, и, закусив фисташками или сладкими фигами, Бульба уходил, говоря: «Лапсердаки!»
И если у евреев праздник «пурим», Бульба пахнет маком, потому что евреи пекут на «пурим» маковые пироги, и на пасху Бульба пьет только пейсаховку; не надо и в календарь заглядывать, а надо идти к Бульбе и узнать, какой праздник.
Накануне нового года, по еврейскому летоисчислению, нафабрив усы и даже завив кончики усов кольцами, Бульба, в новых сапогах с лаковыми голенищами, с синей лентой на пузе, выходил словно царя встречать; тогда шел посредине улицы, ни на кого не глядя, и свиньи, лежавшие на его пути, уходили, ворча, уступая Бульбе дорогу.
Хрюкали свиньи, кукарекали петухи, трубили гуси, а Бульба шел среди них.
Старая Бульбиха, с жесткими волосками на подбородке и такими же круглыми глазками, как у Бульбы, с торбой ходила за ним, все шепча, шипя и подговаривая, а позади на одной ножке прыгал маленький Бульбенок — весь вылитый отец, так что казалось: только надеть на него круглую фуражку, сунуть в зубы свисток, и готов городовой — сразу засвистит и, выпучив глаза, скажет: «А?!»
Бульба — в подкованных сапогах, высокая Бульбиха — тоже в башмаках на подкованном ходу, и даже Бульбенок, и тот с подковками; когда они шли, то звенели, и все уже заранее знали, что Бульбы идут. Тогда бежали навстречу с костью для борща или жареным языком. Если Бульба сам подойдет, он на десять борщей возьмет, глаза его завертятся, глаза его — глаза городового — не имеют дна. И несли — кто печенку, кто лапки, а кто и крылышко, Бульба только усом поводит, а Бульбиха торбу раскрывает, все шепча, все шипя и подговаривая.
Дойдя до торгового ряда, Бульба входил в первый же магазин и поднимал усы, и все понимали: Бульба поздравляет с еврейским новым годом. На прилавке появлялась рюмка и наполнялась свежей осенней вишневкой. Бульба привычным движением опрокидывал рюмку в рот, крякал и, вытянув ладонь левой руки, указательным пальцем правой, кончик которого был отрублен, рисовал на ладони кружочек и посередине ставил палочку. При этом, если кто-нибудь думал, что это копейка, Бульба шептал: «Рублик».
Именно тогда и говорили, что Бульба даже со стены берет.
Но и на христианский новый год Бульба в тех же новых сапогах с лаковыми голенищами, с синей на пузе лентой и еще с синим башлыком, так же шел посредине улицы и входил в те же магазины, на этот раз поздравлял с новым христианским годом и, выпив рюмку, но не вишневки, а перцовой настойки или наливки, вытягивал ладонь левой руки и указательным пальцем правой рисовал кружочек, шепотом объясняя, что это за кружочек.
И тогда тоже говорили, что Бульба даже со стены берет.
И так шел Бульба по всем рядам: с каждого рыбака — по рыбке, и все спрашивал золотую рыбку; с каждой бабы — по яичку, проверяя на свет, и, если не отливало розовым светом, требовал два яичка; с каждого пекаря — по калачику, выспрашивая, почему не посыпаны маком, не заплетены как следует, по-еврейски; с каждой селедочницы — по селедке; пищали селедочницы, а Бульба спрашивал: где такая селедка поймана, в каком море?
Кричали стряпухи, а Бульба, ухмыляясь, выбирал колбасы, с которых кровь текла, и глотал галушки, как фокусник шпаги, и блины брал со сковород, и пампушки из кастрюль, и еще спрашивал, нет ли сметаны к пампушкам.
«Сладко ли или кисло?» — спрашивал Бульба и ел сладкое и кислое, и кисло-сладкое, — все, чем богата ярмарка на Украине, над которой, точно сладкие птицы, несутся запахи украинских, еврейских и польских кушаний, и давал Бульбихе пробовать и Бульбенку; и Бульбиха указывала стряпухам, что недосолено и что пересолено, а Бульбенок просил еще.
Наевшись, Бульба шел к кваснику, мирно стоявшему у своей бочки. «А?!» — спрашивал Бульба, будто квасник отраву, а не квас продавал, и, расправив усы, выпивал жбан квасу: нет, нельзя отравиться! И наливал еще в бутылочку, чтоб и Бульбиха и Бульбенок подтвердили, что нельзя отравиться. Раздувая нос, шел Бульба к табакам. «А?!» — спрашивал он коробку с табаком и, понюхав, чихал, а чихнув, удивлялся, и так, чихая и удивляясь, набирал в кисет, и в карман, и еще в нос про запас, чтобы весь день чихать и удивляться.
И была еще у Бульбы копилка — серебряная, с узорами. Копилочку несла Бульбиха, а Бульбиху боялись еще больше Бульбы, потому что она родила городового. Увидев знакомую копилочку, евреи как бы украдкой рассматривали копейку: а на самом деле показывали Бульбихе, как она блестит, пробовали на зуб, не фальшивая ли, и даже причмокивали: «Ах, хорошая копейка!» И только после этого, украдкой, бросали в копилку, которую тоже украдкой подставляла Бульбиха; и Бульба только усом показывал, что видел, где она, эта копейка, а Бульбиха головой трясла, что слыхала звон.
Когда мы с теткой вышли на площадь, Бульба, увидев нас, тотчас поднял усы:
— А?!
— Ша! Ша! — шепнула тетка и сунула ему в шевелящиеся пальцы монету.
Приняв монету, Бульба сразу успокоился.
— Бульба, — сказала тогда тетка, указывая на меня, — скажи ему что-нибудь ласковое.
Бульба смотрит на меня: лучше бы перед его глазами убивали, сидели бы верхом и резали острым ножом, — ему было бы легче: он взял бы свисток в зубы, а там — свисток бы его вывез.
Бульба растирает нос: Бульба думает! Усы его сходятся и расходятся, даже уши его вытянулись от крайнего напряжения мысли.
Наконец Бульба, надувшись, сказал:
— Б-р-р! — и, ухмыляясь, показал кулак и даже присел, чтобы я лучше этот кулак рассмотрел. И тогда-то я увидел, что Бульба совсем не такой, каким он мне казался: усы его были не красные, а зеленые, и только снаружи крашенные; нос, весь в фиолетовых жилках, был, кроме того, покрыт волдырчиками, — казалось, стоило только их тронуть булавкой, брызнет вишневая настойка; глянцевое лицо его было на самом деле покрыто черными угрями, и под носом, в ушах и в других самых неподходящих местах торчали пучки белых волос.
— Видишь? — спросил Бульба.
— Вижу, — ответил я, рассматривая кулак и удивляясь его величине.
Мы были уже далеко, а Бульба все показывал кулак, словно радуясь, что нашел способ развеселить меня.
Госпожа Гулька
— Тебе нельзя в «Португалию», — сказала тетка отцу, — там все попрыскано одеколоном!
Отец остался у ворот, а мы с теткой вошли в попрысканную одеколоном «Португалию» и попали в ярко-красную залу с позолоченными столбами, увитыми пестрыми гирляндами бумажных роз. Низенькие двери вели из залы в меблированные комнаты. На дверях висели ярко-желтые занавеси с пышными красными цветами, больше похожими на птиц, а на стенах — кабины глядя на которые тетка ахала и кричала на меня чтобы я не смел глядеть.
Во всю длину залы вытянулся торжественный стол с разбитыми блюдами, объедками и бутылками в которых уже не было вина; посредине его стоял самовар накрытый румяной куклой в широкой юбке, которая будто напившись чая, отдыхала на самоваре. Крысы с писком пробегали по столу, а важный кот с пушистым хвостом и усами до пола глядя на них урчал но не трогался с места — так он нажрался. С потолка, как гроб свисала огромная потухшая люстра, и на входящих смотрела труба граммофона. В чадном воздухе, еще не остывшем от веселья, казалось, носились крики, стоны хохот и пьяный храп — все, что было и будет, когда снова разгорится люстра над столом.
В это время поднялся спавший на бочках, в углу человек с толстым красным лицом и без бровей, сам похожий на ожившую бочку.
Послышалось ворчанье, шипенье, шептанье, и сначала в дверях показалась клюка, которая как бы указывала дорогу, и за ней — нарумяненная старуха в рыжем парике, с длинным крючковатым носом — казалось что он что-то искал на подбородке, и у старухи было такое выражение лица, будто она с самого рождения всем говорила: «У-у-у!»
Она шла и все шептала, как бы торопилась до смерти своей все высказать. У нее был полон рот золотых зубов, и, когда она шептала, они стучали.
Птичьи клетки висели вокруг, и птицы, увидев старуху, стали биться, выглядывая цветными глазками, но старая погрозила клюкой, чтобы не смели биться и выглядывать цветными глазками. Воробьи сели на подоконник и зачирикали; она и воробьям погрозила — нечего веселиться! Она удивлялась: какие они глупые — чирикают ни с того ни с сего. Кот дремал, жмурился на солнце и мяукал оттого, что ему было приятно дремать и жмуриться, а старой было неприятно оттого, что коту приятно, и она ударила его клюкой.
Из-за занавесок выглянула заспанная девица в буклях, и старуха сразу на нее: «У-у-у!» Букли исчезли; вместо них выросли чьи-то огромные усы, и старуха им точас же: «Хи-хи!», как бы извиняясь за свое «У-у-у!»
Увидев меня, старуха даже затряслась.
— Ты кто такой?
— Нам нужна госпожа Гулька, — сказала тетка.
— Я — госпожа Гулька!
Огромная эта зала с золотыми столбами и бумажными розами казалась моему детскому сердцу жилищем вечного праздника, и я поразился тому, что госпожа Гулька — старуха.
— Я — госпожа Гулька, — повторила она, стукнув зубами. — Ты кто такая?
И тетка, объяснив, кто она такая и кто я такой, и зачем я такой, — все в самых изысканных выражениях, — захотела подвести меня к ней.
— Не подходи близко! — вскричала госпожа Гулька. — Мыкита! — обратилась она к бочке, принявшей образ человека. — Понюхай — пахнет чесноком в «Португалии»?
Микита повел во все стороны носом и сказал: «Не чую».
Госпожа Гулька наставила на меня клюку. Высоко надо мной колыхался ее рыжий парик и сверкали ее золотые зубы.
— А у тебя нет веснушек? — спросила она. — Если у тебя появятся веснушки, смотри! Я не люблю.
— Не появятся, — обещала тетка.
— Я тебе дам серебряные пуговицы, — сказала Гулька, — мы завьем тебе волосы, чтобы они курчавились.
— Ой! — воскликнула тетка. — Ты будешь стоять на балконе с серебряными пуговицами, в золотой фуражке. Ты махнешь рукой — и все двери раскроются.
— А ты не захочешь быть умным? — испугалась вдруг госпожа Гулька, и Микита тоже вдруг сделал испуганное лицо. — На тебя, мальчик, очень похоже, чтобы ты захотел быть умным.
— Боже упаси! — воскликнула тетка.
— Так я тебе говорю: в «Португалии» не нужны люди с головой; ко мне приходи с одними плечами. Если ты не поймешь, твоя тетка поймет, если твоя тетка не поймет, я тебе голову отверну.
— Я сама отверну, не беспокойтесь, — сказала тетка.
— И ты, наверное, храпишь во сне? — спросила госпожа Гулька.
— Он спит, как голубь, — умилилась тетка. — Если б вы видели!
Но госпожа Гулька не хотела видеть.
— Я ненавижу храп, — сказала она. — Когда храпят, мне всегда кажется, что это смерть идет. Я не хочу смерти.
Микита, услышав этот разговор, побледнел: он тоже не хотел смерти.
Потом госпожа Гулька допрашивала — не громко ли я разговариваю? Не шумно ли дышу? Не люблю ли я сладкого? У нее уже был мальчик, который любил сладкое, этот мальчик ее обокрал.
— Я не терплю живых мальчиков, — говорила она, — мальчиков, которые смеются, улыбаются, бегают. Зачем? К чему? Чтоб тебя не было слышно: на цыпочках ходишь, на цыпочках живешь.
— Он умеет жить на цыпочках, — сказала тетка. — Его дед так жил, его отец. Как же ему не уметь?
— И не то хорошо, что хорошо, — продолжала госпожа Гулька, тыкая в меня клюкой, — а то, что мне кажется хорошо. И если я говорю: это черное, так это черное, и хоть бы оно было белее сахара, все равно — оно кажется тебе черным.
— Ему покажется черным, — обещала тетка. — Он знает, что такое черное и что такое белое.
— И запомни: ты — фу! — и Гулька подула на ладонь. — Ты даже не мальчик, ты — фу! — и она снова подула на ладонь.
— Он знает, что он «фу», — сказала тетка, — он не имеет о себе понятия.
— Ну, теперь ты — мальчик на побегушках, — засмеялась госпожа Гулька. — А ты знаешь, что такое мальчик на побегушках?
И, как бы собираясь послушать, что я скажу, госпожа Гулька прикрыла глаз и стала похожа на злую птицу. И я вдруг вспомнил, что однажды во сне я уже видел такую птицу с глазом во лбу и длинным крючковатым клювом. Она сидела на дереве, а увидев меня, слетела и, накрыв черной тенью, хотела клюнуть. Когда я с криком проснулся и рассказал тетке сон, тетка сказала, что это была смерть, которая летит над землей и клюет зазевавшихся людей.
— Нет, я вижу, ты не знаешь, что такое мальчик на побегушках, — не вытерпела госпожа Гулька. — Так слушай! — Тут она широко раскрыла рот, вынула зубы и начала так: — Еще темно на дворе, а твои детские глазки уже открыты. Не ты ждешь, пока петухи закричат «ку-ка-реку», а петухи, услышав твой голос, кричат «ку-ка-реку». Что же ты делаешь? — спросила она вдруг, и длинный крючковатый ее нос заудил на подбородке. — Слушаешь, как птички чирикают? На такого мальчика похоже, чтобы он слушал, как птички чирикают... Нет! — И она стукнула клюкой, которая тоже, казалось, сказала: «Нет!» — К другому ты прислушиваешься! Ты на цыпочках идешь по «Португалии» и прислушиваешься, как храпят клиенты: приятно ли, сладко ли им храпетъ? И если храпят и посвистывают, то хорошо. Хорошая музыка! Приятная музыка! И тогда ты начинаешь. Они выставили ботинки. Ботинки — это человек. Лаковые ботинки — лаковый человек, грубые ботинки — грубый человек. Какие ботинки ты лучше чистишь?
— Лаковые, — подсказывает тетка.
— Лаковые, — отвечаю я.
— Молодец! — сияет госпожа Гулька. — На! Поцелуй за это руку. — И она сует мне в зубы свои холодные и дрожащие костлявые пальцы. — Они вывесили платья, ты и платья чистишь, чтобы ни одной пушинки не осталось. Сколько пушинок, столько щипков, и не красных, а черных! Я буду считать пушинки, ты будешь считать щипки и чернеть. Так смотри, будь лучше розовый.
— Мальчик мой розовый! — запричитала тетка.
— После начнутся звонки, — продолжала госпожа Гулька. — И каждой заспанной роже, какая бы она ни была: в рябинах или прыщах — не твое дело, — ты должен улыбнуться. Если клиент желтый, желтее смерти, ты удивляешься: «Ах, как вы поправились за сегодняшнюю ночь!» Если он жирный, но не хочет быть жирным, ты говоришь, что он похудел. Если рябой от оспы, ты ни слова об оспе не говоришь. Нет на свете оспы. — И она постучала клюкою, которая подтвердила: «Нет на свете оспы!...» — Один, просыпаясь, зевнет: «А-а», другой скажет: «Б-р-р!» И ты должен знать, кто зевнул «A-a» и кто сказал «Б-р-р», чтобы одному принести лед, а другому кипяток. Пятый номер начинает день с табака, шестой с варенья, седьмой тоже с табака. Но одному табак нужно натереть мелко, а другой умрет, если увидит мелкий табак... Ты думаешь — конец? — ехидно спросила госпожа Гулька. — Нет! Теперь я встала, и я звоню. Ты подаешь мне утренний стакан чая, и он возвращает меня к жизни. — И она завыла, зашипела, зашептала, словно она вот сейчас возвращалась к жизни. — И чтобы чай не был слишком горячий, но чтобы и холоден не был, Боже тебя упаси! А как раз такой, как я люблю, не темный и не светлый, не сладкий, но и не горький. Утром я злая! Но и вечером я злая. Я всегда злая, если захочу... И если этим стаканом чая ты захочешь меня отравить, я узнаю. Меня десять раз травили, ты слышишь? Ты еще только думать будешь и спрячешь яд, а я узнаю и этот яд вложу тебе в ротик, и не на своих тоненьких ножках ты отсюда уйдешь, а зелененького, на черных носилочках, тебя вынесут. А я буду пить свой утренний стакан чая!...
— Бу-бу-бу, — засмеялся Микита.
— А внучки еще спят, — умильно сказала госпожа Гулька, — на розовых подушечках, под голубыми одеяльцами. Ты прикладываешь им компрессики и должен знать, какой куда: горчичник к пяткам, тепленький на пупочек. Если ты перепутаешь и положишь тепленький к пяткам и горчичник на пупочек, я тебе положу горчичник на голову. Ты так хочешь?
— Он так не хочет! — ответила тетка.
— После этого ты их с ложечки кормишь вареньем: одну ложечку одному, а пока он глотает, другую ложечку другому. И горе тебе, если между первой и второй ты ложечку вложишь себе в рот. Я увижу, мои глаза всюду, в каждой ложечке мои глаза. — Она широко раскрыла глаза, пугая меня. — Потом ты их уложишь снова спать и глазки им закроешь. А уснут они сами. А если с ними что-нибудь случится, так и с тобой случится. Алешка! — закричала вдруг госпожа Гулька.
Никто не ответил.
— Алешка!! — завопила Гулька и застучала клюкой по полу, будто Алешка жил под полом. — Скотина!
— Я, барыня, — ответил за стеной сонный голос. И, звеня связкой ключей, вошел вышибала с синей мордой и мешками под глазами и пошел на нас, неся впереди себя рыжие кулаки, разросшиеся от частого употребления. Казалось, встань на дороге буфет, он и буфет прошибет своими кулаками и пройдет сквозь буфет.
— Алешка! — сказала госпожа Гулька. — А ну, что ты с ним сделаешь, если с детьми что-нибудь случится?
— Убью! — равнодушно ответил Алешка.
— Вот видишь! — обрадовалась госпожа Гулька. — Иди, Алешка, дрыхай! Молодец!
И Алешка, так же неся впереди себя свои рыжие кулаки, пошел досматривать свой разбойничий сон.
— Ну а теперь ты берешься за грубые дела, — сказала, вздохнув, госпожа Гулька. — Гостиница должна быть не гостиницей, а куклой. Это — «Португалия», а не какая-нибудь грязная «Аргентина»! Ты убираешь тарелки и бутылки и все объедки и кости. Но ты их не пробуешь! Я пересчитаю вечером все кусочки, которые останутся на тарелках, и пересчитаю утром, когда ты их соберешь с тарелок. И если ты скажешь: съела кошка, я не поверю. Кошку я кормлю из своих рук самым сладким и жирным, и она не станет есть то, что готовится для гостей. Запомни: кошка не съела!
— Он запомнит, — обещала тетка.
— Ты натираешь все дверные ручки, начищаешь все кастрюли, месишь тесто, моешь полы, приносишь все, что надо принести, выносишь все, что надо вынести. Ты хочешь сказать, что ты сразу не сумеешь? Сумеешь ты или не сумеешь, хочешь или не хочешь — это не мое дело. Не я должна все это делать, а ты... — Госпожа Гулька передохнула, нос ее потянулся к подбородку, и она продолжала: — Приходит гость — ты уже возле него, со своей детской улыбочкой, снимаешь с него калоши, всякую пушинку снимаешь и подаешь ему пить. Ему не хочется — ты его уговариваешь, что ему хочется. Ты лучше его знаешь, хочется ему или нет. Один тебя смажет салом, другой горчицей, третий уксусом напоит, четвертый на голове тарелку сломает: они за все заплатили деньги. Деньги у меня завязаны. Вот! А ты что, сморкач? Ты смеешь думать, зачем и почему? У тебя еще течет с носа. У твоего папы течет с носа. У вас всех!
Все это госпожа Гулька не говорила, а выкрикивала, и крючковатый ее нос будто клевал меня. Мне казалось, что она продолбила мне макушку, и у меня даже заболела голова.
— Если тебе выбили зуб, ты зуб не выплевывай, потом выплюнешь — не подавишься. Лучше хихикни. Можешь и не хихикать, я не требую, но если ты хихикаешь, будет очень хорошо. — С ненавистью она посмотрела на меня. — Но тебе же захочется в орешки поиграть, на одной ножке постоять, и не просто постоять, а кричать: бим-бом! бим-бом! — чтобы все знали, что ты стоишь на одной ножке.
— Что вы? — обиделась тетка. — Ему уже восемь лет!
Но госпожа Гулька не слушала.
— Или ты вдруг появишься перед зеркалом, высунешь язычок и будешь смотреть, как там мальчик, с таким же носиком, высовывает язычок, или нарисуешь на стене кружочек и будешь плевать в этот кружочек, или сделаешь дудку из бузины и день и ночь будешь дудеть или свистеть. Сначала — дудка из бузины, потом конфетку украдешь, потом ночью меня зарежешь! Я знаю, к чему приводит дудка из бузины!
— Ему ничего не захочется, возьмите его только! — упрашивала тетка.
— Я тебя знаю, — не успокаивалась Гулька, — ты ещё вздумаешь на веревочке повеситься, утопиться, отравиться. Так я тебе заранее говорю: веревочка тебя не выдержит, вода не примет, отрава не отравит, и в огне ты не сгоришь. Раз я за тебя деньги заплатила, никуда ты не денешься.
Тут госпожа Гулька раскрыла рот, вставила зубы, и они, сверкнув, стукнули друг о друга.
— Сладкие тебе печеночки, трубочки с маком, — прошептала тетка. — Уйдем отсюда...
Бен-Зхарья
— Ты будешь кантором! В белых чулках и бархатных туфлях с серебряными пряжками, — сказала тетка и потащила нас в синагогу.
— Кантор не кричит, не плачет, не бьется головой о стенку, — говорила тетка по дороге, — он поет всю жизнь, как птичка, и жрет, как конь. Он каждый день с Богом разговаривает и выставляет ему «за» и «против», задает вопросы и сам на них отвечает. Что же стоит ему задать вопрос о себе и для себя ответить? И вы же видите: если он даже не поет, а кукарекает, как петух, он все равно кушает желтки с сахаром. Он слова вам не скажет, если перед этим не скушает желток.
— Мальчик мой, — шептала она, — ты тоже будешь кушать желтки, растертые на сахаре, курица для тебя снесет, и я тебе поднесу. Ты скажешь: «Ах, хорошо!» — и запьешь горячим молочком, и у тебя будет бархатное горло, как у райской птички.
Картины рисовались ей в блеске свечей.
— Ты будешь стоять, как святой, и чистый твой голос вознесется к Богу. Ты небо расколешь своим голосом, и Бог выглянет в щелку, чтобы посмотреть, кто это так поет. Вот тогда ты задашь вопрос и ответишь в свою пользу и мою, — и она злилась на меня, будто я забыл задать вопрос, а если и задал, то ответил не в ее пользу.
— Одним словом, ты будешь кантором! — сказала тетка, и с этими словами мы вошли в синагогу.
— Не надо кантором! — воскликнул служка Бен-Зхарья, рыжий, любивший табак еврей с такими большими ноздрями, словно Бог заранее знал, что Бен-Зхарья будет нюхать чужой табак. — Вы смотрите на меня — на еврея, что стоит у замков, у дверей в отхожее место с большой связкой ключей у пояса, и думаете: «Что это за поганый еврей? И что он понимает в желтках, растертых на сахаре?» Я был кантором в белых чулках. И стоял в блеске свечей, на самом высоком месте в синагоге, и только спину мою видели евреи, лицо же мое было обращено к Богу. «Воспоем Богу новую песнь!» — пропел он, протягивая пальцы к открытой табакерке отца, и, взявши добрую понюшку табака, показал эту понюшку носу, точно спрашивал, какая ноздря больше хочет. Но угостил сначала более любимую правую ноздрю и, держась за сердце, подскочил; чихнул, также держась за сердце, и присел; затем будто заново рожденными глазами посмотрел на остаток понюшки в пальцах и угостил менее любимую левую ноздрю, и тут уже подскакивал и приседал не один раз, а три раза, а когда глаза его наконец были раскрыты, то, полные слез, они словно спрашивали: «Неужели я еще жив?» Но тут Бен-Зхарья закривил носом и так чихнул, что не только он, но и проходившие по улице узнали, что Бен-Зхарья жив и любит по-старому чужой табак. И они были правы, потому что от своего табака так не чихнешь.
Пальцы Бен-Зхарья были в шрамах, их и прищемляли и зажимали в табакерках, а один даже закрыл табакерку с его пальцами и хотел положить в карман.
— У вас желтые пальцы, — говорили ему, намекая на то, что они пожелтели от чужого табака.
— А что вы хотите, чтобы они были красные? — отвечал Бен-Зхарья и брал двойную порцию, угощая сразу обе ноздри.
И вот Бен-Зхарья, начихавшись и велев нам открыть уши, начал так:
— Когда я пел, женщины рыдали, дети бросали свои игры и бежали на мой голос; даже господин Дыхес переставал считать на своих жирных пальцах, сколько он заработал, забывал даже о своих лотерейных билетах и смотрел, икая, мне в рот. Голос мой раскалывал небо, и в эту щелку, вслед за моим голосом, проникали все крики и мольбы евреев. Еще помнят меня в этой синагоге, еще слезы не высохли от моего пения — только двадцать лет прошло. Но разве им угодишь? — спрашивает Бен-Зхарья и ждет, чтобы мы сказали: «Нет, им не угодишь!...»
Но мы молчим, и Бен-Зхарья продолжает:
— Кантора всегда ругают. Поешь плохо — кричат: «Бандит!» Поешь так, что ангелы на седьмом небе радуются, — все равно кричат: «Бандит! Он куски мяса из сердца вырывает». А ты заливаешься, слезами заливаешься, воспевая Богу новую песнь... Теперь уже вы хотите знать, почему я стою здесь, у этих грязных дверей, и разговариваю с мальчиками, а не с Богом, и надо мной мальчики смеются?
И с этими словами Бен-Зхарья снова лезет в отцовскую табакерку с таким видом, будто ответить на этот вопрос можно только понюхав табаку. Тут снова происходит угощение сначала правой, а затем левой ноздри, и когда наконец, начихавшись, Бен-Зхарья открывает полные слез глаза, то удивленно спрашивает:
— Вы еще ждете от меня ответа? Спросите у господина Дыхеса. Узнайте у него, что он хочет и чего не хочет. Он сам не знает, что он хочет и чего не хочет,— так он объелся. Если бы свинья имела рога, хорошо было бы жить на свете, я вас спрашиваю? То же самое, когда такой человек, как Дыхес, имеет деньги.
Был веселый праздник Симхасторы. Я вам скажу — это же раз в году, когда в синагоге не плачут, а смеются, и евреи забывают, что они евреи, и выпивают-таки рюмку водки, а кто водки не имеет, пьет квас.
А я в тот веселый праздник похоронил своего сына, наследника своего, я больную жену при смерти оставил и пришел петь Богу хвалебную песнь. Два человека поют от горя: кантор и нищий.
Я взошел на святое место, к священным свиткам среди блеска свечей, и поднял к Богу глаза: «Бог мой!...»
Это не я, это душа моя пела, все кости мои пели. И евреи услышали, ибо слышит одна душа другую, словно уши в ней. Каждый вспомнил свое горе, свое несчастье, свою боль, и полились слезы. И застонали евреи. Не те евреи, что у святой восточной стены, за деньги купившие место, самое близкое к Богу, с толстыми щеками и шелковыми пейсами, которые, выставив пузо своему Богу, заикаясь и спотыкаясь, бредут по молитвеннику, перемежая молитву отрыжкой, а те евреи, что загнаны в темный угол синагоги, где бегают крысы, жирные, как свиньи, где и сидеть негде, а на ногах нужно выстоять всю молитву, евреи — в цветных заплатах, пропахшие дымом и несчастьем, с рыжими патлатыми бородами, где можно найти и косточку и понюшку табака, — они заплакали и застонали.
Я не знаю, как потолок не раскололся надвое и Бог не явился посмотреть, кто это там стонет, чья душа это плачет, разрывается. Душа моя полетела к Богу, мокрая от слез, и я чуть не упал. Но кто-то взял меня за плечи и повернул к себе. Я поднимаю глаза, я думаю — Бог сошел узнать, почему так плачет мое сердце. Но передо мной красная рожа господина Дыхеса, и она еще краснее, чем всегда, — от крови, смешанной с вином.
— Что вы евреям праздник портите? — кричит он, и вином пахнет от него, как от бочки. — Самый веселый праздник в году? Вам плохо? Сидите дома и войте. У вас хлеб черствый, обливайте его слезами и кушайте. Но что вы хотите от евреев, чего вы им из сердца куски вырываете, кровь из них высасываете, мало из них высасывают?
— Это я кровь высасываю? — говорит Бен-Зхарья, осторожно нюхая желтые свои пальцы, чтобы не чихнуть и не прервать своего рассказа. — Я, который за них перед Богом заступался?.. И при блеске свечей он меня выгнал...
Хоть бы обождал, пока погаснут свечи, пока праздник пройдет и перестанут все смеяться и ликовать.
Так нет, среди блеска свечей, среди ликования выгнал он меня и так кричал вслед, будто именем Бога говорил, и Бог не крикнул, не поразил его молнией...
А этого только и ждали. Тридцать других евреев захотели быть канторами и уже распевали: а-а-а! Когда каждый еврей может быть кантором!
— Хватит! — сказал Дыхес. — Ты лаешь, как собака, а жрешь, как лошадь. Кантор без голоса — это то же самое, что овца без шерсти. Кантор и лошадь хороши только до сорока лет.
Так он говорит шуточками, а у меня сердце кровью обливается.
В это время отец выудил из табакерки понюшку табака и на ногте поднес ее к носу, но Бен-Зхарья увидел ее и вынюхал на лету.
— И вот я уже служка, — сказал он, чихая. — И без меня никто не родится и никто не умрет, никто не женится и никто не разведется. И как не бывает грома без молнии, так и без меня не бывает ничего.
И я верчусь. Я верчусь целый день со свечами в молитвами: с обрезания на кладбище, с кладбища на новое обрезание, от цветущей невесты, приготовленной к венцу, к желтой голове покойника, приготовленного к аду, и снова — от черной ямы, откуда еще никто не возвратился, к венчальному балдахину, куда все стремятся. И еще в моих ушах «Песнь песней», как я уже в синагоге, у свечей, и пою заупокойную молитву... «Сын праха — подобен дуновению, дни его — тени исчезающей... О, если бы они разумели и размышляли об этом, о, если бы они подумали о конце дней своих!...» И я пью и напиваюсь на всех обрезаниях и плачу у всех смертей. И вот уже не знаю, где свадьба и где похороны, и врываюсь с ликованием в дом покойника и со слезами в дом венчания.
И я таки имею кусок от всех свадебных пирогов, но каждый кусок слезами облит! Я даже не чувствую, что там — ливер иди яблоки? Где пьют — и я с полным стаканом: это все видят; но то, что таи половина слез, — не видит никто.
Им, конечно, весело. Они могут кричать и прыгать, как цапли, но мне — дома у меня темно и холодно, и мыши под полом, и мыши на чердаке, и мыши в шкафах, — отчего мне танцевать? Вы скажете, пока здесь светло, можно радоваться; но я же еврей: я думаю о том, куда я приду, я заранее обо всем думаю.
Ликуешь — и вдруг кусок остановился в горле: вспоминаешь, как твой Шлоймеле или Биньюминке проглотили бы то, что ты ешь, пальчики облизали, и кладешь в карман кусок, не чужой, свой кусок. А на тебя уже смотрит глаз хозяина, как будто ему не все равно — вложил ты кусок в рот или в карман. Но если в рот — ты честный человек, если в карман — жулик. Иди объясни ему, когда он красный от вина, веселый от веселья и зол на тебя. И стыдно, и больно, но вынешь кусок из кармана, как будто ты его туда случайно вложил на одну минуточку, и кладешь в рот. Хороший вкус тогда, я вас спрашиваю?
И танцевать ты должен больше всех, и кружиться быстрее всех на каблуках и на носках, поднимать ноги до потолка и нестись с красным платком, и кричать, как извозчик. Жених здесь, потому что он — жених, невеста — потому что она — невеста, Дыхес — потому что он — Дыхес, — почет ему и уважение, и самый лучший кусок, и самый сладкий глоток, и еще улыбка к глотку: «Выпейте еще глоток!» А ты — для того, чтоб им весело было!
Вдруг захочется им фокусов, показывай им фокусы — требуют взять грош, дунуть, и чтобы грош исчез. А куда его деть, я вас спрашиваю, когда все только и смотрят, как бы он не исчез. И недовольны, если ты не умеешь. А почему я должен уметь, в каких книжках написано, каким умным человеком выдумано? Покажите мне палец, я скажу — палец, покажите два, я скажу — два, но когда показывают десять пальцев, могу я сказать — два пальца? Кричи, рассказывай им сказки и такие сказки, чтобы чай без сахара показался с сахаром, соус острее, а огурец кислее: все по своему вкусу.
И вот уже несут фаршированного гуся, нос твой раздувается, сердце твое радуется. А мадам Канарейка посмотрела на тебя и вспомнила, что забыла зонтик. Почему именно тогда, когда она на тебя посмотрела, она вспомнила о зонтике? И почему именно о зонтике, который находится дома, а не о платке, который у нее здесь? И почему именно тогда, когда несут фаршированного гуся, где, наверное, — я могу поклясться, — яблоки? Почему, почему? Еврей всегда спрашивает — почему? Потому что она Канарейка, а я Бен-Зхарья.
И пока они пьют и едят, и кричат — ты бежишь за зонтиком. Ты уходишь, а гусь с яблоками остается, ты приходишь, а его уже нет.
Умер еврей с шишкой под носом, а я должен плакать. Когда не любил я его с его ехидной улыбочкой, с его разговорами и его рассуждающим пальцем. Не любил. Вы понимаете, что такое «не любил»? Я сам просил ему смерти, а теперь я должен плакать! Он жрал свиное сало, он прелюбодействовал, он, на петуха похожий, грешил и лукавил и желал не только осла соседа, но и жену его, — я должен плакать и молиться, просить Бога за него и омыть слезами все его грехи. А родственники стоят вокруг меня и следят, чтобы я плакал достаточно и пролил все слезы, за которые заплачено, чтобы я мокрый был от слез; иначе не поверят, от свечей не отойдут.
Ты — служка? Беги! И я бегу, высунувши язык. А посылают меня — ни вам, ни детям вашим туда не ходить — за долгами. Как по-вашему, будете вы меня любить, если я приду к вам напомнить, что вы не отдали долг господину Юкилзону? Когда вы брали, вы его любили всем сердцем, а теперь, когда нужно отдать, вы его ненавидите, и каждого, кто только назовет его фамилию, вы тоже начинаете ненавидеть. А ты приходишь со своей улыбочкой и говоришь, что господин Юкилзон просил отдать; ты не требуешь и ничего не хочешь: больше того, ты за то, чтобы он не отдал долга такому быку, — мало у него без этого? Ты бы сам не отдал, тебе нравится, что он не хочет отдать. Но он-то не знает, что в твоей душе. Ты с фамилией Юкилзона пришел, с блеском его глаз, с его голосом, и в тебе видят того, кто дал в долг.
Или посылают сказать родителям невесты, что родители жениха передумали: они еще будут думать, а пока воздержатся; когда невесту уже кормят к венцу и попрекают будущим мужем. Спасибо вам скажут за такое известие, чаем напоят? Отныне вы же будете самым худшим врагом, словно вы жених и вы отказали. С вами больше не кланяются и говорят, что вы самый ужасный человек, кривой и ехидный, и с особым удовольствием передаете плохие вести. Они замечают улыбочку на твоем лице и выгоняют поленом по спине, чтобы знал, как отказывать честным невестам.
Я родился с улыбочкой, я живу и плачу с улыбочкой, и в могилу меня спустят с этой улыбочкой, и когда мессия придет будить евреев, он поднимет меня и спросит: «Что это за еврей с улыбочкой — один на весь свет?» Но что я могу сделать, если нельзя согнать ее с лица. Я бы хотел, но не могу — это же не чернильное пятно, которое можно стереть: это живая улыбочка, и она смеется, она улыбается, на то она и улыбочка, чтобы смеяться, а не плакать, но я-то плачу от нее, Боже мой!
Я стою у свечей и рыдаю, родственники ждут от меня чудес, И тогда — что я могу сделать со своей улыбочкой? Я только Бога прошу, чтоб она им показалась несчастной, и я заливаю слезами свою улыбочку.
И всегда и везде я кругом виноват: у невесты некрасивый нос, покойник плохо выглядит. Кто виноват? Служка. Боже мой! На то он и покойник, чтобы плохо выглядеть.
И сгорбленный ты ходишь по белому свету, детки бегут за тобой и мелом пишут на твоей спине, и маленький мальчик не стыдится говорить тебе слова горькие — он не знает, что говорит, он слышал, что папа его жирный во время отрыжки говорил, и он повторяет. И кричат вокруг тебя, и танцуют, и смеются. А ты идешь со своей улыбочкой и думаешь: «Боже, зачем я живу?»
— А что же, не жить? — спрашивает Бен-Зхарья и нюхает понюшку, приготовленную на ногте. — Богатые ругаются, а служку бьют; куда они ни глянут — везде спина служки, куда я ни взгляну — кулак! Что они такое кушают, какие лекарства принимают, хотел бы я знать, что у них такой тяжелый кулак?
Я не простой служка. Дыхес знал, что я за служка, и все мне передал: все расчеты я веду, все дела я делаю, с канторами я разговариваю; над бухгалтером — я бухгалтер, над кассиром — кассир, над сторожем — сторож.
Кажется, Дыхес лучше родного отца?
Нет, собака остается собакой.
Ему показалось, что я украл. А когда богачу покажется, что бедняк украл, — кричи, вой, — украл!
На всю жизнь я запомню кулак господина Дыхеса.
Когда я стоял на своем месте, у священных свитков, с глазу на глаз с Богом, и пел Богу новую песнь, Дыхес глаз на меня не смел поднять, а теперь, когда я служка и хожу между рядами и молюсь на ходу и на ходу харкаю кровью, он на меня руку поднял. И я еще не встал — кровь из меня хлещет, как из свиньи, а уже сорок других нищих целовали ему руку. А он мне кричит: «Вор!»
— Я? — говорит Бен-Зхарья, запуская пальцы в отцовскую табакерку. — Я? — переспрашивает он так, как он тогда Дыхеса переспрашивал, не вынимая пальцев из табакерки и растирая табак между пальцами, а затем угощая ноздри любимым порядком. — Я — вор? — кричит Бен-Зхарья, держась за сердце и кляня крепость табака.
Я беру бумагу и считаю: веник — 15 копеек; веник жесткий и веник пушистый — вот вы уже имеете 30 копеек. Дрова. Холодно или тепло должно быть в синагоге, я вас спрашиваю? Если бы было холодно, вы бы мне голову оторвали, а потом евреи бы вам голову оторвали — 30 рублей. Так я говорю или нет? Побелка женского отделения — у них тоже душа человеческая, они тоже хотят в чистоте сидеть и молиться, — 4 рубля 30 копеек. А Бульбе на пасху? А стекла, что выбили? То, что вам не хочется, вы не помните. У вас вылетает из головы — 3 рубля 80 копеек. А писарю за записывание в праздники, или вы хотите, чтобы я сам писал, писал и писал, пока сам не превращусь в стальное перо, — 7 рублей 36 копеек. Теперь дальше идем: тенору Рухле за пробную субботу — пять рублей ноль шесть копеек, два рубля мало ему, петуху, чтоб в горле у него кололо и рвало, как он с нас рвет, этот разбойник с большой дороги, в лаковых туфлях с серебряными пряжками! За мойку кителей и пелеринок хора, — грязные они должны перед Богом стоять, хористы они или кузнецы, я вас спрашиваю? — 3 рубля. Вы моргаете? Не моргайте, вам надо смотреть и считать деньги там, а не здесь. Сколько вы уже имеете? Но он не считает. Я считаю. Я все в уме держу.
Расход через Пискуна в Одессу. Вы же знаете Пискуна, он не китаец, он еврей — 27 рублей 58 копеек. Общественному шамесу — это я! — 5 рублей (пять пишу я прописью). О! Тут вас и взорвало. Это расход! И в ваших глазах это уже не пять, это пятьдесят, сто, пятьсот! Вы встаете утром, вы хотите кушать? Разве Бог мне не дал таких же зубов, как и вам? У вас золотые, но мои не золотые хотят еще больше ваших золотых. Вы не хотите ответить? Вы не можете ответить... Идем дальше: в счет долгов Пирожнику, Яеченику, Гуральнику; они же не такие люди, чтобы простить долги, — а почему они должны простить, я вас спрашиваю? — первому 13 рублей, второму 16 рублей, третьему 9 рублей. А теперь туда-сюда — три рубля. О! Этого вам только и надо. Вы уже хотите схватить меня за горло. Чтоб вас лихоманка так бросала туда и сюда, сколько у меня этого туда и сюда (это я ему не говорю, это я так думаю и желаю). Бронзу надо почистить? Посмотрите, как она горит, — огонь! — 1 рубль. Починка замка. Или, по-вашему, синагогу надо раскрыть, чтобы свиньи приходили сюда рыться в священных книгах? — 30 копеек. Мойка фонаря — чтоб вам на том свете так светло было, как он светит! — 1 рубль 70 копеек. И вот вам 3 рубля, три серебряных рубля, как будто они лежат в кармане. Они же не из железа, они размениваются.
Слюнявим палец, подводим черту, сальдо... И что же вы думаете? Он смеется. Арифметика для него — не закон. Желание его, черная душа его для него — закон. И он берет и выбрасывает меня, как щенка. И я уже сторож. Я стою перед вами и плачу, а он смеется.
Тут Бен-Зхарья неожиданно запускает свои длинные пальцы в отцовскую табакерку и, крякнув, очищает ее до зеркального блеска; вся его рожа, с ее улыбочкой, желтыми зубами и толстым носом, раздувшимся от чужого табака, вдруг мелькает в этом зеркале. Но на этот раз Бен-Зхарья не угощает ни правую, ни левую ноздрю, а кладет табак в красный платок, аккуратно его складывает и прячет в задний карман. Лишь совсем маленькую понюшку, не больше булавочной головки, кладет на ноготь и приближает к носу.
— Бог, ты дал нам зубы, дай нам и хлеба! — восклицает Бен-Зхарья и втягивает ноздрей понюшку табака. — Сколько стоит такой табак?...
— Ай, рассол, ай, запах! — пищал у селедочной бочки человек в засаленном картузике, с засаленной улыбочкой, сам похожий на селедку, купивший эту бочку у богатого бакалейщика.
Еврейки ходили вокруг и принюхивались и, наторговавшись всласть, обозвав человечка селедкой без головы и вонючей селедкой, покупали селедочный запах. И если в рассоле случайно оказывался хвост селедки или глаза селедки, то человечек, не смотря на возражения о том, что хвост — не хвост и глаза — не глаза, брал отдельную плату за хвост или за глаза.
— Вот спички так спички! — выкрикивала женщина с коробком спичек, а муж ее приговаривал: «Из каждой такой спички можно сделать две!»
— Соль! Соль! — кричал еврей с белой бородой и, у кого были толстые пальцы, давал самим брать щепотку, а у кого тонкие, не пускал и давал щепотку сам.
— Перец! Перец! — вторил ему еврей с рыжей бородой. — Чтоб вам горько было.
— Уголь! — как труба, ревел, покрывая всех, трубочист с ведром золы из богатых домов.
Женщины, переругиваясь, отбирали угольки и не хотели золы, а он уговаривал их, что зола лечит семьдесят семь болезней.
Цади в дырявом котелке и туфлях на босу ногу, стоя перед ящиком, где были навалены галоши с кожаными каблуками, туфли с вывернутыми носками, фуражки без козырьков и козырьки без фуражек, и показывая то туфлю, то козырек, выкрикивал: «Туфли на все вкусы! Козырьки на все характеры!» А перед ящиком, как особые ценности, были разложены пуговицы с орлом, старые длинные ключи, которыми когда-то что-то открывали, черные гвозди пожарищ, подкова, найденная на дороге, ржавая пружина, крючок от брюк, потерянный соседом и найденный Цади, и, наконец, перья для шляп, страусовые и гусиные, которые можно принять за страусовые, и, если примут, Цади не будет возражать.
— Пух, пух, еврейский пух! — кричал старый Бенцион, весь засыпанный пухом.
Немой продавал пачку чая, уже бывшего в употреблении, но снова высушенного и завернутого в серебряную бумагу, даже акциз наклеен, и хватал всех за рукава, приглашая взглянуть, как он нюхает чай и мычит, проводя рукой по сердцу, оттого что такой приятный запах у чая.
И кто несется с пачкой иголок, кто с катушкой ниток с таким видом, будто у него единственная на весь свет катушка, а длинноногий Муе — с бубликами. «Дырочки от бубликов хочешь?» — спросил он меня и, рассмеявшись, полетел дальше: «Внимание, ванильные бублики! Сахарные!»
И когда даже нечего было продавать, хвалить, показывать, они все же продавали, хвалили, показывали, предлагая молоко голубиное, слезы соловьиные.
Вот у этого старого еврея одна-единственная пуговица. Он мечется с ней по ярмарке и предлагает пуговицы белые, пуговицы черные, пуговицы желтые, пуговицы-кость, пуговицы-кастор, пуговицы-перламутр. Пусть скажут только, что нужны пуговицы, — будут и пуговицы! И белые, и черные, и желтые, и кость, и кастор, и перламутр. И перламутр из перламутра!..
— Иди домой. Мы пойдем к аристократам, — сказала тетка отцу.
Мадам Канарейка
Она проносилась по местечку в лаковой коляске с белой сеткой на конях, которых со свистом гнал кучер с разбойничьим лицом, готовый раздавить каждого, кто попадется на дороге мадам Канарейке.
И хотя видела она, как смотрели на нее евреи в лапсердаках, мадам Канарейка не оглядывалась, а сидела прямо с таким видом, будто ей интереснее смотреть на толстый зад кучера, чем на них.
И как ей было смотреть на них, когда она, мадам Канарейка, знала вкус того, чего им и не снилось и, если захотят, не приснится? Она рябчиков ела у графини Враницкой. А ну пусть еврею приснятся рябчики!
Какой-нибудь меламед с рыжими пейсами брел из дома богача, где он до хрипоты втолковывал жирному Цюце, что «А» — это не «Б», а именно «А», но Цюця сосал конфетку и назло говорил, что «А» — это «Б», именно «Б», и показывал язык. Он останавливался, когда проносилась мадам Канарейка со своим кучером-разбойником, и, чувствуя за спиной еще одного еврея, указывая вслед ей пальцем, говорил: «Она уже съела рябчика!» Но, оглянувшись, видел, что и тот, кто шел за ним, — еврей в бабьей кофте, с мешком пуха на спине, — также указывал пальцем и говорил ему: «Она уже съела рябчика!»
Актеры у нее играли. Бароны у нее ели. И в доме — лампы голубые, свечи золотые.
Вот куда повела меня тетка.
— В таком доме! С такими мальчиками! С такими девочками! — восхищалась тетка. — Ты тоже будешь в глубоких галошиках, с гербом и пряжкой! Барашковый воротник мы тебе купим. Трубочки с маком ты будешь кушать. Тебе уже хочется трубочек с маком? Ему уже хочется! А потом тебе золотую медаль, синий бантик на шею. Инженер путей сообщения! Фуражка царского цвета, бумажник кожаный, часы и палка с костяной головкой. Ты будешь нас костяной головкой бить?
И она вычищала мне нос, загибая его, печальная и гневная, со слезами на глазах, за то что костяной головкой будут ее бить.
Вот и высокое крыльцо с красным петухом, который будто кукарекает, что здесь живет мадам Канарейка.
И тут же, на двери, в подтверждение петуху, написано: «Канарейка». Но так затейливо, с такими завитушками, что даже и прочесть трудно: пусть подумают, что на неизвестном языке написано, которого никто и не знает, только одни Канарейки. А на крыльце — резные украшения, напоминающие кресты, и нарочно напоминающие: пусть знают, что могут быть и кресты, если захотят.
Раскрылись двери, а в дверях лакей в красных штанах. И нарочно в красных, а не желтых: сразу напугать, чтобы поняли, в какой дом попали, где нельзя громко разговаривать, нельзя сопеть, кряхтеть, вздыхать, нельзя евреем быть, мертвым надо стоять и ждать.
Увидев красные штаны, тетка вдруг стала оглядываться, и, я видел, ей хотелось сказать: «Не туда, совсем не туда мы попали, надо было за версту отсюда, а мы попали сюда». Я слыхал, как, стоя на цыпочках, тетка просила извинить нас и не беспокоиться (как будто красные штаны беспокоились) и сказала, что у нас есть ноги и мы пойдем с черного хода, с кухонного дыма.
Когда она сходила с крыльца на цыпочках, велев и мне сойти на цыпочках, она все оглядывалась, а у меня было такое чувство, будто сейчас мне выстрелят в спину.
Черный ход не был похож на черный ход. И здесь было крыльцо, и даже свой петух.
— Если бы у каждого еврея был такой парадный ход, не было б счастливее народа, — сказала тетка.
Кто-то выглянул в форточку, в форточке же угостил свой нос табаком и, когда тетка сказала «Здравствуйте!», чихнул и закрыл форточку.
Когда мы через кухню, где все было бело: и кафельная печь, и кафельные стены, и посуда на стенах, по бархатной дорожке прошли в круглую залу, мне показалось: мы попали в рай — здесь все было бледно-желтого цвета: и стены, и мебель, и потолок в бледно-желтом шелку, и даже фарфоровый горшок под кроватью, и тот бледно-желтого цвета.
Было удивительно тихо. В нашем доме, заставленном старыми комодами с подсвечниками и широкими кроватями, на которых всегда кто-то кряхтел, я не привык к такой тишине. Я впервые в своей жизни вдруг почувствовал, что шумно дышу. То же, очевидно, почувствовала и тетка. И мы оба, стоя на цыпочках, затаили дыхание.
Со стен из золотых рам грозно смотрели на нас богачи в цилиндрах и пышных париках, допрашивая: «Как вы сюда попали? Кто вас пустил?» А один ехидный старичок, изображенный со сложенными на груди руками, так глядел на меня, будто говорил: «Твое счастье, что у меня руки сложены».
Но странное дело. Сквозь грозные черты вдруг стало проглядывать что-то давно знакомое. Изображенные на портретах, как бы раздеваясь, сбрасывали цилиндры и парики, и вдруг мы узнали их.
Это румяная дама, в белых кружевах, увешанная ожерельями, с бриллиантовой диадемой в огненных волосах, да ведь это же Лейбехе, нищенка, мать мадам Канарейки. Она ее выгнала из дому, и та ходила под окнами и под чужими окнами умерла. А теперь дочь столько ей надарила самого лучшего золота, и самых огненных красок не пожалела на сверкание диадемы. Если бы она знала, Лейбехе, она бы проснулась и пришла с того света, чтобы взять ее: наверно, очень далеко ходить с того света, если она не пришла.
А этот старик с голубыми глазами и серебряной бородой, похожий на первосвященника, дядя мадам Канарейки. Тетка, увидев бороду, даже всплеснула руками: борода, расчесанная надвое, закрывала ему грудь, но было хорошо известно, что ему ее выдрали за кражу общественных сумм.
Пока мы рассматривали портреты и удивлялись, в серебряной клетке вспорхнул ярко-желтый попугай с хвостом, окрашенным во все цвета.
— В еврейском доме попугай? — восхитилась и ужаснулась тетка.
Попугай посмотрел на нас круглыми, в цветных очках, глазами и, стукнув носом, закричал:
— Виват, ура! Виват, ура!
— А если бы ты сказал: «Шолом-алейхем», — у тебя бы крылья отсохли? — проговорила тетка.
— Попка-дурак, — сказал я.
— Попка-дурак! — повторил попугай и захохотал. — Попка-дурак! — закричал он, высовываясь из клетки, как бы желая разглядеть, кто научил его этому.
Тут появились красные штаны и гневно сказали, что попугай из породы какаду или жако в миллион раз умнее нас, евреев. Тетка, испугавшись, толкнулась в первую же дверь, и я за ней.
И мы попали в комнату, на этот раз уже не желтую, а всю голубую, как раз в то время, когда мадам Канарейка произносила:
— Мыфодий Кырылович! Разрезайте поросенка!
И стало тихо, как в пустой церкви.
Холодный поросенок, со всех сторон украшенный зеленью, — даже из ноздрей его торчала петрушка, — вытянувшись на боку, лежал на серебряном блюде, точно спал, головой к хозяину, хвостиком к гостям; если бы он проснулся в это время, то увидел бы занесенный над собою нож.
Мефодий Кириллович, господин Канарейка, надо сразу сказать, имя свое получил не в церкви при крещении, ибо при обрезании был наречен Аврум-Бер в память умершего деда Аврум-Бера, умевшего задавать такие мудрые вопросы, на которые никто, кроме него, и ответить не мог. Это был чистенький, румяный человечек, с цыплячьим пушком на голове и большим черным бантом на груди, по которому сразу можно было определить, что принадлежит к людям, которые не сами одеваются, а которых наряжают.
Мефодий Кириллович водил ножом над поросенком, выбирая место, где бы лучше его разрезать, и все время шептал, точно уговаривал поросенка не беспокоиться: как только выберет место, так сейчас же его и разрежет. И было видно: ему нравится водить ножом над поросенком и хочется это делать подольше. Он даже вспотел и поглядывал на сидящих за столом так, будто хотел им сказать: «Вот задача!»
И все, кто сидел за столом: старичок с похожей на муху бородавкой на кончике носа, влюбленными глазами смотревший на поросенка и, когда Мефодий Кириллович повернул серебряное блюдо, даже раскрывший рот, приглашая поросенка прыгнуть в него, и бабушка в чепце с лиловыми лентами, будто приготовившаяся к смерти, ненавидевшая старичка и следившая, чтобы поросенок не прыгнул, и мадам Канарейка, похожая на попугая, с такими же круглыми и глупыми глазами, которые только одно и выражали: «Разрезают поросенка», и выглядывавшие из-за стола два Канарейчика, хотя и одетые в черкески с костяными патронами на груди, но все равно похожие на попугайчиков, — все они вместе с попугаем в клетке казались одной семьей.
Мосье Франсуа, человек с завитой головкой и маленькими усиками, коммивояжер, продающий духи и пудру, и какой-то домашний музыкант в сюртуке с бархатными отворотами, и какой-то домашний репетитор с серебряными пуговицами и голодными глазами, и карлик в синих очках — лица его и видно не было — одни синие очки, — и важный господин с подвязанной щекой, будто у него зубы болели, хотя, когда он открывал рот, виднелся один только зуб наподобие клыка, — все они понимали, что разрезание поросенка — это задача! И вот, когда нож Мефодия Кирилловича, уже описав круг, готов был разрешить эту задачу, он был остановлен появлением красных штанов, которые, указывая на нас, объявили:
— Из Иерусалимки!
И все взглянули на нас так, будто крикнули: «Из холерного барака!»
— Мыфодий Кырылович, не надо разрезать поросенка! — сказала мадам Канарейка.
Тетка в раздувшихся юбках присела во все стороны, отпуская реверансы каждому в отдельности, а мосье Франсуа, за его завитую головку, даже два реверанса.
— Скажи: «Приятного аппетита», — шепнула она мне на ухо.
Но они на нас так смотрели, что, казалось, скажи я: «Приятного аппетита», — они нас сразу же съедят.
И, ущипнув меня за то, что я не сказал этого, выставила меня вперед и сладким голосом, которого я и не предполагал у нее, объявила:
— Он как раз подойдет вам! Он тоже умеет кушать вилкой и, когда пьет, не чмокает. Вы не думайте!
Бабушка посмотрела на старичка с мухой на носу, старичок на мадам Канарейку, мадам Канарейка на мосье Франсуа, а мосье Франсуа смотрел в потолок, показывая, что это ему интереснее, чем смотреть на нас.
— Мыфодий Кырылович, как вам это нравится? — спросила мадам Канарейка.
Но Мефодий Кириллович не сказал, как это ему нравится, потому что хотя и носил бант на груди, но был дурачком. Правда, рассказывали, что он не всегда был дурачком, а был и умный, и даже проиграл мадам Канарейку в карты. Но это было так давно, что не только другие, но и сам он забыл об этом. И когда ему говорили: «Мыфодий Кырылович, а вы ведь проиграли мадам Канарейку в карты», — он хихикал, и видно было: не верит. И когда проходили мимо него, сидящего на крылечке с бубликом в руках, люди, помнившие, что Мефодий Кириллович был очень злым Мефодием Кирилловичем, отчаянным картежником, любил скачки и даже устраивал петушиные бои — все, чего не любили евреи; и именно за то и любил, что евреи не любили, и мадам Канарейку полюбил за то, что она не любила отца и мать, потому что они евреи, — даже эти люди никогда не вспоминали об этом и видели в нем только дурачка.
Ничего ему теперь не надо было, только бы его называли Мефодий Кириллович. Как же сильна должна была быть любовь к чужому имени, если он берег его, даже потеряв память и перестав любить все, что любил!
При гостях мадам Канарейка усаживала его, как главу дома, на самом почетном месте, доверяя ему только разрезание поросенка, и если злилась на него, то вдруг нарочно тихо скажет: «Аврум-Бер!» И тогда он снова становился злым, как в молодости, и даже вырывал пух на своей голове.
И старичок с мухой на носу, не еврейский, а русский старичок, живший в доме из милости, зная все это, сидя за столом, вдруг шепнет: «Мефодий Кириллович», — и тотчас улыбнется, чтобы Мефодий Кириллович знал, кто шепнул. Этот старичок, всячески угождавший Мефодию Кирилловичу, ходивший за ним, как за малым дитем, забавлявший его, рассказывая диковинные истории и даже приставляя пальцы к голове, делая рожки, сейчас ответил, что Мефодию Кирилловичу все это очень не нравится и ему тоже не нравится.
— Мосье Франсуа, а вам как это нравится? — спросила мадам Канарейка.
И человечек с завитой головкой, принадлежавший к самым почетным гостям дома, ибо, когда раскрывал рот, мадам Канарейка тоже раскрывала рот, чтобы не проронить ни одного слова, зашевелился и сказал: «Фуй!» и замахал розовым платочком, отгоняя даже мысль о нас. Запахло фиалкой, ландышем, кипарисом. Канарейчики повели носами, а мадам Канарейка сказала: «Ах!» и придвинула мосье Франсуа кусок торта с мармеладкой, за которым уже давно следил старичок, и старичок тут же возненавидел мосье Франсуа.
— Фуй! — повторил мосье, снимая мармеладку и объясняя, что у интеллигентных людей каждое слово попрыскано одеколоном и припудрено пудрой, и даже не чувствуешь, что это — слово. — А эти люди, — и он помахал в нашу сторону розовым платочком, — говорят все, как есть: и «кушать», и «пить»! — И он съел мармеладку и запил чаем.
Мадам Канарейка не отрывала влюбленных глаз от завитой головки, шепотом повторяя слова мосье Франсуа, и, когда он кончил, сказала нам: «Так нужно говорить!»
И вдруг мадам Канарейка и сама заговорила, нос ее вытянулся и засвистел. Мадам Канарейка говорила только в нос, чтобы все думали, что она может говорить на таком языке, на котором надо говорить в нос.
— Вы сюда вошли, как входят в еврейский дом: открыли двери, вошли и не спросили, можно ли войти, хотят ли, чтобы вы вошли! (Она посмотрела на мосье Франсуа, и тот кивнул завитой головкой.) Так в этом доме, — продолжала она, — не едят фаршированной рыбы. Вот! — указала она на поросенка, как бы призывая его в свидетели, с таким видом, будто это она родила поросенка и на нем она въедет в покои графини Браницкой и сама станет графиней. — У нас другой язык. И он любит не то, что он любит, а то, что любят люди интеллигентные! И пусть нам в рот положат перец — если люди интеллигентные говорят «сладко», мы тоже будем говорить «сладко». А вам будет казаться сахар сахаром и соль солью. Ну, так могу я с вами беседовать, скажите сами?
И пока она таким образом говорила в нос, у всех токе вытянулись носы: «Стоит нам только захотеть, и мы тоже заговорим в нос». Только бабушка в чепце с лиловыми лентами, как она ни кривилась, не могла достаточно вытянуть нос и с завистью смотрела на ненавистного ей старичка, который отлично вытянул нос и сидел, весь вытянувшись на стуле.
Но тетка моя ничего не видела и не слышала и продолжала свое.
— Он не положит руки на стол! — торжественно заявляла она. — Он не будет смотреть на кусок, как бы ему и ни хотелось, и, пока кусок на столе, он не будет чувствовать его у себя на зубах. Он не будет болтать ногами за столом и не будет свистеть в доме, — обещала она. — Ты не будешь?
И она задавала мне все вопросы, какие только можно задать, сама отвечала на них — и все в мою пользу.
— Посмотрите на него, — сказала тетка.
Но мадам Канарейка не хотела смотреть. Тогда тетка поставила меня прямо перед нею, чтобы она уже не могла не смотреть на меня. И мадам Канарейка пристроила к глазу стеклышко и стала так пристально меня разглядывать, показывая, что разглядеть меня трудно, что я вдруг сам себе показался совсем маленьким, и чем больше она смотрела, тем я становился все меньше и меньше и вскоре почувствовал, что действительно меня разглядеть невозможно.
А те, у которых не было стеклышек, щурились, показывая, что они привыкли смотреть в стеклышки и без стеклышек ничего не могут разглядеть. Особенно старался старичок, хотя я сам видел: когда вблизи его мухи присела другая, чужая муха, он все-таки, не щурясь, одним ударом поймал не свою, а именно чужую муху.
Она была привлечена на кончик носа каплей меда, ибо старичок недавно заглянул в определенную банку в соседней комнате, куда его посылали за выдержками из Евангелия, чтобы прочитать за столом.
— Господи! — сказала мадам Канарейка, разглядев меня наконец. — Он шевелится! Как это его только ноги держат!
Старичок тоже очень удивлялся, как меня ноги держат.
— Ведь он из Иерусалимки, — говорила она мосье Франсуа, — на селедке вскормлен!
— На хвосте селедки! — поправил старичок.
— Как же он выжил? — спросила мадам Канарейка таким тоном, будто жалела, что я выжил. — И даже ямочки на щеках! — воскликнула она. — Скажите, пожалуйста, совсем как у приличного мальчика.
— Не может быть ямочек, — убежденно сказал старичок, — тут что-то не так.
— Я тоже думаю, что тут что-то не так, — проговорила мадам Канарейка и принялась разглядывать, что тут не так.
Особенно ее удивляло, что я не кривой, что голова моя не раздута, как шар.
— Ведь там, в Иерусалимке, они все кривые, все раздутые. А он нет! — И она спрашивала: может, ей кажется?
— Нет, не кажется, — отвечали ей.
— Боже, совсем как мои Гога и Мога. Милые мои Гога и Мога!
Гога и Мога — два косоглазых мальчика, только у Гоги глаза в одну сторону, а Моги — в другую, словно Гога и Мога ни за что не хотели смотреть друг на друга, — пока мадам Канарейка, мать их, меня разглядывала, — затеяли любимую игру: Гога высовывал язык, а Мога ловил его. Так как глазки Гоги стреляли в одну сторону, а у Моги — в другую, поймать язык было очень трудно; но должно же так было случиться: в ту минуту, когда мадам Канарейка со словами: «Милые мои Гога и Мога!» — обернулась, чтобы расцеловать их, Мога изловчился и поймал за язык Гогу, а так как глазки его глядели далеко в сторону, а, схватив язык, он изо всех сил потянул его вслед за глазками, то он едва не вырвал Гогин язык. И все закричали: Гога оттого, что чуть не вырвали язык; Мога оттого, что не вырвал его; мадам Канарейка оттого, что думала, что язык вырван старичок — чтобы за беспокойство получить большую порцию поросенка, а бабушка — чтобы выругать старичка. Все кричали. Только Мефодий Кириллович молчал и, ничего не слыша, все водил ножом над поросенком, выбирая место, где бы лучше разрезать.
Мадам Канарейка хотела упасть в обморок, но передумала и, осматривая язык Гоги и поглаживая по головке Могу, указывала на меня:
— Вы хотите быть такими же разбойниками, как он? И она рассказала им, какой я и какие у нас в доме клопы, красные, как коровы, и что они едят нас живьем.
Гога и Мога, перестав плакать, уставились на меня и тут же провели мелом черту, сказав, чтобы я не смел переступать ее. Мадам Канарейка закричала:
— Какие они умные, как они догадались так сделать?
Мосье Франсуа сказал, что медицина требует сейчас же, немедленно, дать им горячее молочко с сахаром и медом.
— Медицина требует, — забеспокоились вокруг.
— Молока, — крикнула мадам Канарейка, — с сахаром и медом! Скорее!
— Не хотим молока с медом! — закричали Гога и Мога. — Хотим хвостик от поросенка.
— Нельзя хвостик, — сказала мадам Канарейка. — Я вам дам еще пампушек.
— Не хотим пампушек!
— Сладкие шишечки...
— Не хотим шишечек, хвостик!
— Блинчики с маслом, творожные коржики...
— Хвостик! — кричали Гога и Мога.
— Вот я сейчас ему отдам молоко с сахаром и медом! — закричала мадам Канарейка. — Он уже тогда не будет кашлять, вы будете кашлять! Правда, они будут кашлять? — спросила она меня.
Я подтвердил.
— На! Пей за то, что подтвердил, и капли им не оставь. На тебе сахар, соси его!
Но только я взял молоко, Гога и Мога закричали, чтоб им дали молоко; они умрут тут же на месте, если им не дадут этого молока.
Старичок вырвал у меня чашку с молоком и отдал Гоге и Moгe.
— А-а, — говорил Гога, — а мы пьем молочко с медом. Мы едим пампушки, сладкие шишечки.
— У нас петух на крыше, — говорил Мога.
— У них каменный дом, — шептал старичок, — у них мельница с крыльями, — и радовался, словно это у него каменный дом, у него мельница с крыльями.
— Тьфу! Тьфу на него, — говорила бабушка.
И Гога и Мога повторяли: «Тьфу! Тьфу!» — и плевали в мою сторону.
— Дайте им уже хвостик тоже, — посоветовал старичок, который боялся, как бы ему не достался хвостик, — им легче станет, я вам говорю.
Гоге и Moгe дали хвостик, и они, разглядывая поросячий хвостик, закрученный штопором, спорили, почему он так закручен.
— Что за умные мальчики, — говорила бабушка в лиловых лентах, — золотые мальчики...
Мадам Канарейка снова взялась за меня.
— Не крути носом! На месте должен быть нос у приличного мальчика. И не смотри мне в рот... А теперь ты уже смотришь в землю? Когда с тобой говорят, не надо смотреть в землю. Боже, откуда взялся такой мальчик? Он даже не знает, куда смотреть.
Все ей не нравилось, и все было не так, все я делал наоборот. И когда она смотрела на меня, лицо у нее было такое, будто родили меня специально для того, чтобы мучить ее.
— Ну конечно! — воскликнула мадам Канарейка. — Что можно ожидать от мальчика из Иерусалимки, где только молятся, плюют на пол и спят, чтобы, выспавшись, снова молиться и плевать на пол, и от тети, у которой лиловая лента на желтом платье и которая дышит, будто она всю жизнь провела в воде и теперь ее выбросили на горячий песок.
Тетка затихла так же, как и я, только выпучила глаза, оттого что ей трудно было тихо дышать, и, поглядев на нее, я подумал, что она действительно всю жизнь провела в воде и теперь ее выбросили на горячий песок.
— А говорить-то ты можешь? — спросила мадам Канарейка. — Рот у тебя открывается?
— А? — спросил я, не поняв, чего от меня хотят.
Если бы я, мальчик, вдруг кукушкой закуковал, лягушкой заквакал, она бы так не испугалась, так не побледнела. Ей показалось, что вот это «а» я произнес по-еврейски, а не по-русски.
— Что значит по-еврейски «а»? Как у тебя язык повернулся? — допрашивала она меня. — Ты понимаешь, в какой ты дом пришел, ты имеешь понятие? Боже! — обратилась она со страстью к еврейскому Богу. — Они имеют понятие?
И старичок тоже сложил руки, спрашивая уже своего Бога: «Они имеют понятие? »
— Вы можете по-еврейски ругаться, торговаться, Богу молиться, друг другу головы разбивать, — говорила Канарейка, — но разве можно в таком доме говорить по-еврейски? — Она оглянулась на портреты, и те, казалось, отвечали: «Ни в коем случае нельзя!» — А что, если бы услышал поручик Беребендовский, танцевавший у меня на паркете? — ехидно спросила Канарейка. — Или грек Попандопуло, который ел у меня сливочный торт и говорил: «Сколько я ел, а такого сливочного торта еще не ел». Они бы ничего не сказали, но мы бы уже больше не слыхали, как звенят шпоры поручика Беребендовского, мы бы уже больше не видели, как господин Попандопуло ест сливочный торт.
— Он еще будет по-еврейски улыбаться, — сказал старичок с мухой. — По-еврейски хохотать, по-еврейски хлеба просить.
— Я не люблю еврейской улыбки, — вскричала Канарейка, — еврейского смеха, еврейской просьбы! Я у графини была, я у нее рябчика съела.
Мадам Канарейка долго еще о чем-то говорила, но я ничего не слышал: непонятный Попандопуло носился передо мной со своими греческими усами и грозил мне за то, что я задал еврейский вопрос.
— Скажи: ку-ку-ру-за! — сказал вдруг старичок с мухой.
— Кукуруза.
Все засмеялись, даже господин Канарейка, уже разрезавший поросенка, улыбнулся.
— А ну, а ну, скажи еще раз! — воскликнула мадам Канарейка, и на глазах ее появились слезы смеха. — Боже! — обратилась она снова к еврейскому Богу. — Что это у них, евреев, такое в горле, что они не умеют даже сказать «кукуруза»!
— Ах, эти евреи! — сказал мосье Франсуа, хотя по черным глазкам его, по выгнутому носу видно было, что и он еврей, но весь его вид говорил, что у него случайно черные глазки, случайно выгнутый нос.
— Как по-вашему, — спросила мадам Канарейка, — если бы поручик Беребендовский услышал бы это, он бы умер?
— Конечно умер, — ответил старичок. — Вы еще спрашиваете?
— Боже, — проговорила она, закрывая глаза, — я себе представляю эту картину.
И старичок тоже закрыл глаза, тоже переживая эту картину, но сейчас же открыл их и посмотрел: цел ли еще поросенок, не съела ли его бабушка, пока он закрывал глаза. Но, открыв глаза, он только увидел на своем носу муху.
Эта муха, которая на самом деле не была мухой, сидела на самом кончике носа; старичок, на что бы ни смотрел, всегда видел муху и всегда все преувеличивал.
Вдруг он заметил у меня прыщик и воскликнул:
— А не нарыв ли у тебя?
— А он не заразный? — испугалась мадам Канарейка.
— Конечно заразный! — воскликнул старичок, глядя, на какие куски — большие или маленькие — Канарейка делит поросенка.
— Опасно заразный! — радостно проговорил он, увидев, что ему достался большой кусок, и поспешно стал есть.
— Дети, он вас заразит! — пролепетала мадам Канарейка, заедая испуг вареньем и запивая чаем.
Она отхлебнула чай и вдруг схватилась за грудь, будто ей всадили иглу в сердце. Дело в том, что весь чайный прибор — и чайник, и чашечки, и блюдечки были с изображением птиц с синими клювами. У Гоги и Моги — маленькие птицы, у старичка — побольше, а у мосье Франсуа — самая большая птица, но все с синими клювами. И вдруг мадам Канарейка увидела, что на чашке, из которой она пьет, птица — с зеленым клювом.
— Я что-то вижу... — прошептала она. — Чай горький...
И старичок проверил: не зеленый ли клюв и на его чашке? И отхлебнул чай: сладкий ли? И только тогда успокоился.
А за столом уже шло обсуждение: что можно от меня подцепить и как можно вылечиться. Высказывались самые ужасные подозрения: нет ли у меня глистов, и не едят ли меня черви, не пьют ли они мою кровь? И бабушка в чепце с лиловыми лентами советовала подвесить меня за ноги и подставить ко рту чашку с горячим молоком — черви сейчас же вылезут.
Каждый хотел найти у меня такую болезнь, которой он сам болеет, находил ее и после этого чувствовал облегчение, словно половину болезни передал мне.
— А не заикается ли он? — говорили они и ели поросенка. — Или, может быть, наоборот — у него пулеметность?
— А может, у него заячья губа?
В суматохе кто-то даже предположил у меня размягченность мозга, и, увидев в углу человечка с лысой головой цвета зеленого помидора, с тоской жующего поросячью челюсть, я понял, кто это предположил.
— Все возможно, — шептала мадам Канарейка, — у такого мальчика из Иерусалимки все возможно...
И уже все, кто ел и молчал, бросили есть и, угождая мадам Канарейке, увивались вокруг меня, чтобы хоть что-нибудь еще найти — прыщик какой.
Старичок протиснулся ко мне, уверяя, что знает все болезни и по одному пятнышку откроет болезнь, и не только ее, но и те, что тянутся за нею. Его опередил горбун, оттолкнувший старичка и вставший передо мной.
Вьюном он вился вокруг меня, таща за собой горб, все оглядывая, все высматривая.
И наконец нашел: он увидел пятнышко, нежное черное пятнышко, какое было и у матери моей на том месте, где шея переходит в грудь, — мать передала его мне.
— А-а, — засмеялся он. — Вот же оно! Я же знал. — И ногтем пытался сковырнуть пятнышко, чтобы всем показать.
И все окружили меня и смотрели: какое это пятнышко, как оно могло очутиться на мне, и хотели немедленно знать, какие болезни оно с собой несет.
— А что, если б и это пятнышко увидела графиня Браницкая? — сказал старичок с мухой и, увидев, что мадам Канарейка побледнела, стал потирать ручки от удовольствия.
Я стоял среди них, в золотых эполетиках и лаковых сапожках, сковавших мои ноги.
— Вот так, вот так! — говорили они, поворачивая меня и осматривая, напудренные, растрепанные, хитрые рожи. Пискливый скопец и тот толкался, и тот хотел сказать свое.
Но горбун громче всех кричал, злее всех придумывал.
Искра в нем горела.
Он с Богом рассчитывался за горб, за синие очки, закрывшие все его лицо. И особенно мстил он за душу, что вложил в него Бог, — душу злобную и завистливую, что горела в нем, спать не давала, дыхание теснила.
Никто не находил у меня столько болезней, как он.
Одно слово перегоняло другое и все злее, все ехиднее. Горбатый, он до того увлекся, что даже выпрямил спину.
И так он мне надоел, до того въелся в душу, столько раз лазил мне в уши, что я, изловчившись, плюнул ему в рот, который он раскрыл, чтобы еще наврать.
Все закричали, что я убил его, что я сломал его очки, что они уже не синие, а белые.
Даже бабушка, не та бабушка, что с лиловыми лентами, точно приодевшаяся к смерти, а та, что лежала за занавеской и которой уже надоело носить ленты в ожидании смерти: из тех бабушек, что заживаются дольше, чем земля их может вынести и дети могут вытерпеть, и которые с каждым днем кушают все больше, чмокают все громче и давно уже перестали кряхтеть, а, наоборот, иногда даже хихикают, и всем начинает казаться, что они никогда не умрут, — так вот даже и эта бабушка, уже лет двадцать пять не молвившая ни одного слова, там у себя за занавеской вдруг спросила:
— А он не отравит меня? — И голос точно из могилы.
Все вздрогнули, а бабушка с лиловыми лентами вся затряслась, будто смерть пролетела над ней.
Даже младенец в люльке под кружевным одеяльцем, разглядывавший колыхавшийся над ним красный шар, и тот вдруг закричал: «Уа-уа!», словно предупреждал, что я — кровопийца. И все именно поняли это как предупреждение, как пророческий голос из люльки, и говорили: «Даже ребенок почувствовал!»
— Если бы надо было поджечь дом, он бы мог, как вы думаете, он бы мог? — добивалась мадам Канарейка.
— Вы еще спрашиваете! — закричал через весь стол старичок с мухой и побежал с блюдечком. — Мадам Канарейка, дайте мне вот этот кусок с лимонным кремом.
И мадам Канарейка дала ему кусок с лимонным кремом и еще прибавила кусок с шоколадным кремом — за ответ, и старичок побежал назад, поглядывая на блюдечко и прижимая его к себе.
Гога прошелся раскорякой, показывая, как я хожу, а Мога прокартавил, показывая, как я говорю. И хотя Гога прошелся так, как всегда ходил, а Мога говорил так, как всегда говорил, но получилось, что это я так хожу и говорю, и все смеялись не над ними, а надо мной.
Мосье Франсуа сказал, что Гога и Мога будут министрами, у них министерские головы.
Они не останавливались, они не хотели останавливаться. Дураки они были бы — лишиться такого удовольствия! Они продолжали врать, глядя мне прямо в глаза, ничуть не стыдясь.
— Он, наверное, выкидыш, — решили они. И на этом сошлись.
Тетка умирала от несправедливости. Но когда они уже особенно увлеклись и, забываясь, кричали, что все это по наследству, она не выдержала и заскрежетала зубами.
Гости переглянулись и перетрусили. И тут же, краснея и торопясь, стали меня расхваливать.
Моментально оказалось, что я совсем не такой, каким меня хотели представить: и я — тихий, и вежливый, и не заразный, и кто-то даже нашел у меня молочный цвет лица.
— На тебе грушу! — сказала мадам Канарейка. — Но ты знаешь, как надо есть грушу? Ее надо держать вот так: за хвостик и не болтать перед ртом. На, покажи! — и дала мне редьку.
И на редьке я показывал, как надо прилично есть грушу. Слезы мои лились на редьку, и, только убедившись, что я прилично ем, мадам Канарейка дала мне грушу.
— Хорошо, я возьму его выносить за моими детьми, — сказала она, и Гога и Мога закосили глазками. — Только вымойте его, вымойте карболкой, остригите ногти, волосы, чтобы ничего не осталось!
Стало тихо. Только в соседней зале кричал попугай из породы какаду или жако.
Иекеле
Появился маленький Иекеле — в белом переднике с лотком. На лотке — пузырьки с рецептами для выведения пятен, точильные камни, паяльные палочки, золотые краски.
Иекеле затрубил в медный рожок и закричал:
— У кого лопнули стаканы, заржавели ножи, отупели мозги — бегите ко мне! Все, кто ненавидит плесень и моль, кривое и тупое, — Иекеле вас ждет! Несите все, что трещит и ржавеет, рассыпается в прах, — я дохну, я притронусь, и все запоет, заблестит, засверкает золотом, серебром, бриллиантами, будет крепче железа, острей еврейского языка!...
Раскрылись все окна, выглянули дети и женщины, и Иекеле снова затрубил в свой рожок и закричал:
— А ну-ка, детки, пригоните к моей дудочке всех злюк, ехидных, ворчливых, сплетниц и шептуний: они засмеются первый раз в жизни! У кого болят зубы, у кого чешется язык, кто плачет, вместо того чтобы смеяться, кого грызет червь, кто грызет другого, — послушайте сказочку, веселую песенку, шуточку и прибауточку!... Бегите, а то уйду!...
— Иекеле, Иекеле! — закричали из всех окон.
И как при виде служки Бен-Зхарья табакерки закрывались и прятались в самые глубокие карманы, так при виде Иекеле они вдруг появлялись; даже тот, у которого никто и не предполагал табакерки, раскрывал табакерку и с улыбочкой, обозначавшей: «И мы нюхаем!», — говорил:
— Загляните, реб Иекеле, своим носом, очень прошу! Каждый хотел, чтобы Иекеле понюхал из его табакерки.
— Реб Иекеле, у меня табак турецкий! Угостите нас — обрадуются все косточки.
— Иекеле, а ну вдохните мой самодельный, вы такое сделаете «апчхи», что душу выплюнете с этим «апчхи»!...
Кто же такой Иекеле? И что он умеет делать?
Иекеле выведет пятно, такое, что никто и не помнит, когда его посадили — еще на свадьбе прабабушки, когда ели сладкое блюдо. И пятна будто не было. Весь кафтан завидует тому месту, где было пятно.
Иекеле починит часы, даже если из них вытащили все винтики, все равно, он найдет на своем лотке точно такие же винтики, и часы вдруг тикнут и пойдут.
Иекеле склеит и лопнувший стакан: из кусков — новый — ставьте перед самым почетным гостем. И если в нем даже уксус, гостю покажется: вино.
Иекеле перешьет и перелицует. Из старого, смятого, в пуху и пятнах картуза с изломанным, как у злодея, козырьком, — он только перевернет — и выйдет новый картуз, и самые надутые баре поклонятся вам, и городовой козырнет, и вся улица прошепчет: «Какой важный прошел».
Иекеле хотел сложить вечную печку, которую надо топить только раз в году; изобрести вечные чернила: сколько бы ни наливали воды — все равно черные; и вечные горшки, которые переходили бы от бабушки к внучке, — все вечное, чтобы не надо было каждый день покупать... И евреи, встречая его, спрашивали: «Иекеле, а как печка?» А дети по дороге в хедер кричали: «Иекеле, у нас все деньги на чернила уходят».
Вот такой это был человек...
Реб Иекеле обошел и обнюхал все табакерки, чихая и подпрыгивая у каждой.
— На здоровье, реб Иекеле! На здоровье! — кричат мальчишки.
И уже бегут со всех сторон женщины в салопах и кацавейках с дырявыми кастрюлями и черепками и еще издали кричат:
— Реб Иекеле!
В руках Иекеле горшки вдруг слетаются из черепков, и они звенят, они блестят снаружи и изнутри.
Старик принес свой кафтан.
— Что я вижу? — говорит Иекеле, разглядывая кафтан. — Сало, мед, варенье и уксус. Теперь я вижу, сколько вы в себя влили, вижу все праздники, свадьбы и обрезания, на которые вас приглашали и не приглашали, но вы приходили и ели. И мед шипел, будто пчелы в нем еще жили, и гусиное сало было розовое: вы все любите не просто сало, а сало с гузки, вы знаете, откуда любить!..
— Э-э-э! — восклицает вдруг Иекеле, заметив черное пятно на груди. — Эти пятна пусть полицмейстер выводит, я с кровью дела не имею, я только веселые пятна вывожу...
Явился франт в круглой шапке, отороченной лисьим мехом, и требует сделать мех снова пушистым.
Иекеле говорит:
— Я не лисица. Или вы думаете: прибежали весной, так я что-нибудь сделаю? Нет, не сделаю; доносите шапку, чтоб весь мех вылез, и тогда мы пришьем новый мех. О!..
Тетка подвела меня к нему.
— Реб Иекеле! Научите его. У него министерская голова!
— Ну, так чему я его научу, — говорит Иекеле, — когда у него министерская голова? Выводить пятна? Пусть лучше сам их сажает. Самые сладкие, самые густые пятна, чтобы даже я — Иекеле — вывести их не мог.
В центре местечка белокаменный пассаж с высокими колоннами, воздвигнутый графиней Браницкой. Лавки кожевенные, мануфактурные, галантерейные, звенящие меняльни, темные утробы керосиновых складов, белые мучные лабазы, бесящийся люд.
Распахнут настежь магазин красок. Двери и окна, и стены разукрашены: круги, зигзаги и молнии. Ультрамарин, бордо и золото. Они пылали, слепили и ходили кругами в глазах; их нельзя было не купить. Фабрикант готов был расписать своих детишек, как зебр, — пупки в золоте, чтобы расхвалить свои краски, самые огненные, самые зеленые, самые желтые в мире.
— Краски вечные, краски из Индии и Китая, выжатые из водорослей океана, из перьев тропических птиц! Ни вода, ни солнце, ни время не губят их — не линяют, не тускнеют, не шелушатся!
О кадки оранжевых красок! Я упивался их цветом и блеском. Они мучили безумной недостижимостью своей.
— Не притрагивайся! — кричала тетка.
Рядом в роскошном магазине продавали бронзу, красный бархат и обои для комнат молодоженов, обои на все вкусы и характеры: для бешеных и молчаливых, для нежных и грубых, и для завистливых. Еврей привез из невероятных стран фарфоровых слонов, огромные гудящие раковины; с замиранием сердца я слушал их вечный гул.
Какие-то люди с медными лицами, в расшитых тюбетейках носились по ярмарке, расстилая по ветру шелковые шали, и украинское солнце переливалось и сверкало в их руках, и шелка казались то ярко-алыми, то золотыми, то серебристыми.
В толпе, стонущей и орущей, появлялись продавцы птиц, веселые, беспечные евреи. В клетках порхали, свистели, щелкали, рыдали птицы украинских лесов. Но продавцы забывали о них, они готовы были продавать черных лебедей, страусов, жирафов, когда речь заходила о птицах. От их воображения можно было сойти с ума.
Евреи все продавали, даже иконы. Они со страстью предлагали чужого Бога:
— Ах, купите Богородицу, Богородица улыбающаяся, Богородица плачущая, Богородица во всех видах.
— Вы видите этот клетчатый платок? — говорила торговка, разложившая платки прямо на земле. — Спите на нем, кушайте на нем, заворачивайте в него детей, варите в нем, пеките в нем, целуйтесь в нем — ему ничего не будет. Он будет клетчатый, и каждая клетка — это деньги!
— Ах, какая радужная ножка, — лепетал приказчик, стоявший на коленях перед дородной щеголихой. — Подтяните еще чулочек, выше, выше, вот так! Вы уже дрожите, как птичка? — усмехался он. — Вы уже хотите этот чулок, я вижу! Ну, так я вам его уступлю за полцены. — И он охал и жалел, без конца жалел, что уступает.
— Господин хозяин, господин хозяин! — умилялась и отчаивалась маленькая женщина. — Ну разве вы где-нибудь достанете такие полосатые кальсончики? Нигде вы не достанете такие полосатые кальсончики.
— О горчица, моя горчица! — отчаянным голосом выкрикивал желчный еврей в бабьей кофте. — Купите горчицу!
— Дрожжи, дрожжи! — пытался перекричать его сосед. — Ой, без дрожжей вы долго не проживете!
— Уксус, уксус! — заглушал их обоих третий. — Купите уксус. Не уксус, а вино!...
— Купите, купите! — кричала ярмарка.
— Купите! Ой, купите! В вашей душе есть еще Бог? Почему вы не хотите купить?
Хаскеле-факир
Вдруг над ярмарочной толпой из-за ширмы балагана появилась в желтой изодранной чалме голова с длинными усами. Поглядев выпученными глазами на толпу, голова развела усы в стороны и снова сложила их, как муха крылышки. В толпе засмеялись.
Голова зашипела и, ворочая глазами, стала медленно подниматься вверх и, вытянувшись над толпой, закричала: «Ку-ка-ре-ку!»
Так началось представление.
Ширма раскрылась, и вышел в желтых штанах и заплатанных розовых шароварах, испачканных дегтем, удивительный еврей — Хаскеле-факир.
Тетка, стоя за спиной, что-то мне объясняла и щипала меня, чтобы я запомнил ее объяснения, но я ничего не слышал и ничего не запоминал. Я видел только его, удивительного еврея — Хаскеле-факира.
У всех на глазах он собирал и проглатывал брошки, кольца и серьги, а проглотив, разводил руками: нет, мол, ваших брошек, колец и сережек. И когда женщины хотели уже кричать и плакать, он с жалкой улыбкой залезал в карман первого же мужика, с разинутым ртом стоявшего возле него, и вытаскивал оттуда точно такие же брошки, кольца и серьги, к возмущению женщин и ужасу мужика.
Только он прикасался к вещам — они исчезали. Бесследно испарялись серебряные портсигары, курительные трубки, дорогие запонки, и Хаскеле-факир находил их в самых неожиданных местах — в жилетах евреев, у франта в перчатках, в кошелках у баб.
С удивительной ловкостью запускал он свою руку куда угодно и вытаскивал что угодно: коралловые ожерелья, живых бабочек, белых мышей.
Он хвастался и грозился, что залезет кому-нибудь в ухо и вытащит оттуда живого рака. Он все умел, этот Хаскеле-факир, он смеялся над вещами, играл ими, в его руках они превращались в ничто.
Он жонглировал шестью предметами, среди которых был живой дрозд; в воздухе сверкали кольца, диски, дротики и крылья дрозда.
Он проталкивал соломинки в нос и вытаскивал их через рот; он курил, и его уши дымились, как трубы; мужики принюхивались к сладкому дыму и удивлялись.
Восторженно прокалывал он себя тонкими длинными спицами и, сверкая ими, танцевал и тузил себя по животу и надутым щекам.
Он заговаривал зубную боль, зачаровывал беременных, изумлял сумасшедших.
Вдруг он закричал совой. Серебряные колокольчики зазвенели, и мальчики-уроды, мальчики-головастики, чуда-юда, ублюдки, недоноски вышли себя показать.
Хаскеле-факир нажал кукле нос, и кукла кричала: «Ура!» и «Караул!» Оловянные солдатики маршировали сомкнутым строем. Попугай ревел: «Смирно!» Игрушечные пушки открывали пальбу.
Я изнемогал от удивления. Мужики в свитках, не веря своим глазам, тыкали в него пальцами и все же не хотели верить, что он существует на самом деле; рыжая еврейка пребольно ущипнула его, дабы убедиться, что она не спит, и, когда он вскрикнул, успокоилась. Цыганка трясла плечами, хохотала и всему верила; молодой попик шептал и крестился, оглядываясь по сторонам.
Тетка моя так громко восхищалась, что фокусник наконец заметил нас и позвал за ширму, где играли мальчики-уроды и в клетках пели и стонали птицы.
— Такой чудесный мальчик! — сразу приступила тетка к делу, выставляя меня вперед. — Это тоже фокусник, тоже паяц.
Хаскеле-факир недоверчиво поглядел на меня. Да, ему нужны мальчики-идиотики, сопатые, горбатые, гнилозубые, карлики, чтобы их с земли не было видно.
Тетка доказывала, что я смогу всем этим стать, стоит мне захотеть.
Но Хаскеле-факир не верил. Он осматривал, ощупывал меня со всех сторон и очень сожалел, что у меня прямые ноги, прямые руки.
— Вот если бы руки или ноги были завернуты кренделями, — сказал он, — или лучше — совсем не было рук, тогда можно было бы научить писать ногой, это очень хорошо! А сейчас что я буду с ним делать? Если бы у него хоть был шестой палец. Ведь этим пальцем ты бы загребал бриллианты! — сказал он таким тоном, будто приобрести шестой палец зависело от меня.
— Он же зеленый! — вскричала тетка. — Его можно будет показывать, и все будут удивляться.
— Это значит зеленый? — презрительно сказал Хаскеле-факир. — Это значит — красный! Когда положишь на траву и трава рядом кажется желтой, вот тогда значит зеленый.
— Господи! — говорил Хаскеле. — Нос у него на месте: ни вправо, ни влево, не лезет на лоб, не опускается и на подбородок. Ах, как было бы хорошо, — сказал он вдруг, замечтавшись, — если бы вдруг нос вырос на затылке!
И это желание его было так велико, что он даже повернул меня: не выскочил ли у меня на затылке нос.
— Бывает счастье, я вам скажу! — сказал Хаскеле и поднял свой фокуснический палец. — Еще дите у матери под сердцем, ничего оно не знает, ничего не хочет, ни о чем не догадывается, а бог уже над ним фокусничает и помещает глаз во лбу. Такой мальчик есть в Америке, и это не мальчик, а бриллиант. Но я от вас не требую глаза во лбу.
Хаскеле— факир вдруг ущипнул меня, и я заплакал.
— Я так и знал, — сказал Хаскеле, — он плачет, когда ему хочется плакать. Он еще будет смеяться, если ему станет смешно. Ну так что я могу сделать с таким мальчиком? А плакать, когда смешно? А смеяться, когда больно? Смеяться, когда дают тебе щелчок по носу, бросают в тебя корки, плюют тебе в рот и показывают деткам, какой ты дурак, — не знаешь, когда плакать, когда смеяться. А ты еще громче смеешься, чтобы окончательно уверить, что ты действительно дурак, а они умные.
Хаскеле-факир пробовал протолкнуть мне нитку в нос и вытащить ее через рот, но я чихал и кусался. Я не мог даже глотать песок и ракушки. Я до смерти боялся мышей и жаб и не мог даже подражать петуху, как кричит он на заре. Ой, плохо, плохо!
— Он может икать! — вскричала в отчаянии тетка.
— Когда я хорошо поем, — сказал я.
— Господи! — причитывала тетка и закатывала глаза. — Прости меня, Господи, такую дуру! Многого я не хочу, ну хоть бы два пупка!
И так она жалобно всхлипывала, так искренне горевала. И я готов был пожалеть, что появился на свет с одним пупком.
— Идем в золотые магазины, — сказала тетка и снова потащила меня мимо страшной птицы, тень от которой легла уже на всю площадь.
Увидев нас, Бульба поднял усы.
— Разбойник! — сказала тетка. — Ты же с нас уже взял!
— Эге, — отвечал Бульба, — так то ж за то, что пошли туда, а теперь за то, что идете сюда.
Тетка сунула ему в руку пятак, и Бульба опустил усы, точно открывал нам дорогу.
Вокруг стояла такая тишина, что даже гусак, до того величественно шествовавший по площади, увидев, что не перед кем хвастаться, стоя задремал у забора, хвастливую свою голову сунув под крыло, как в карман.
В такие минуты Бульба запрокидывал голову и вместо свистка вставлял в рот бутылочку. Постепенно усы его поднимались все выше, усы вырастали из-под фуражки, и люди за версту узнавали, чем сегодня Бульба дышит — малиновой, или анисовой, или же еврейской пасхальной, что свистит и кипит.
Проходя мимо него в это время, евреи неизменно спрашивали: «Бульба, чи не хочешь чарочку и за мое здоровье?» — на что Бульба, закручивая свои красные усы, обычно отвечал хрюканьем.
Итак, всем был доволен Бульба. Только солнцем и ветром был очень недоволен. Они осушали Бульбино горло, и Бульбе так часто надо было вместо свистка вкладывать в зубы бутылочку, что к полудню он уже видел ее дно. Тогда во вторую половину дня Бульба делал вот что: со всей силой выдыхал воздух и старался понюхать его, чтобы снова охмелеть, но только он вытянет нос — водочка уже на ветру улетела, даже облачко видно, если это зимой.
И удивительное дело: быстрее всех уносится еврейская пасхальная, будто она ни за что не хочет лезть в Бульбин нос. И Бульба грозит ей вслед кулаком, зная, чьи это проделки. «Назад в бутылки к Пейсе или Ципке?! И хитрые все эти жиды, Пейса и Ципка!» — так, наверное, думает Бульба, нюхая табак и глядя на удаляющееся облачко. И на обратном пути он обязательно заходит к Пейсе или Ципке и снова заглядывает в бутылки. А люди тем временем, встречая по дороге облачко, по запаху узнают, чье это облачко, и, если торопятся по делам, обходят его.
Бульба любил предаваться научным исследованиям. Поймав в кулак муху, он понемногу раскрывал кулак, но как только показывалась головка мухи, тотчас снова закрывал его и долго дразнил муху, изредка прикладывая кулак к уху и прислушиваясь, как она жужжит, и удивляясь тому, что жужжит. Затем Бульба, изловчившись, брал муху в пальцы и разглядывал странное ее устройство: отчего это ей так хочется летать? Бульба обрывал крылышко и, положив на ладонь, смотрел — улетит ли, и если муха, ковыляя, ползла, Бульба хохотал и покачивал головой, как бы говоря: «Эх, ты!», и брал однокрылую муху, осторожно клал на забор или другое высокое место, чтобы могла улететь.
Часто Бульба закрывал глаза и стоял не шевелясь, будто спал, со своими длинными ушами и красным носом, так что гусак — не гордый гусак, который любил пройтись по центру площади, а глупый, который всему удивлялся, подходил близко к Бульбе и удивлялся, отчего пахнет водкой, когда вокруг нет ни одного живого человека?
Целый день, вылупив глаза, со свистком и загадочной ухмылкой, поворачивался Бульба то в одну сторону: «А?!», то в другую: «А?!»
И к вечеру раздувался как бочка, а нос его окрашивался в разные цвета, будто все, что он выпивал, вливалось в нос. Тогда за ним приходила старая Бульбиха и под руку уводила домой. Она несла в руках бутылочку, а Бульба кричал деревьям, собакам и воронам: «А?!»
Если Бульба встречал в это время двух беседующих евреев, то ни за что не проходил мимо, а говорил: «Гэр! Гэр!!» Если же видел, что сидели за вечерней трапезой, стучал в окошко или просовывал нос в открытую форточку и кричал: «Жидки-худки!» Встретив еврейского мальчика, Бульба брал его за ворот и крестил, а мальчик и все, кто видел это, кричали так, будто он его убивал. Проходя мимо синагоги и видя в окнах большие белые лица евреев, шевеливших губами, Бульба поднимал полу шинели и показывал свиное ухо. Евреи закрывали глаза, продолжая шевелить губами. А старая Бульбиха шла за сыном, все указывая, все подговаривая и распаляя. Так они доходили до своего домика над речной, домика с петушком, синенькими ставенками и цветочками на окнах. Здесь, сняв наконец с шеи свисток, Бульба садился возле пузатого красного самоварчика и обычно со словами: «А ну-ка, жидко Юдко!» — ибо самоварчик он выгадал у стекольщика Юдки за то, что тот не явился вовремя на призыв, — наливал чаю и любил пить до тех пор, пока в самоварчике ничего не останется. За это время он выкушивал баночку варенья, вишневого или малинового, или из лепестков чайных роз, ибо от всякого варенья, которое варилось на улице, Бульбе полагалась баночка. Если Бульбиха замечала костер, тут же приходила с баночкой и требовала для себя пенку. Бульба, кушая варенье, обычно спрашивал, чье это варенье, и если было закислено, говорил: «Хитрый жид!», но если и сладкое было, все равно говорил: «Хитрый жид!» — и ухмылялся.
Выкушав чай с вареньем, Бульба, если был не очень пьян, раскладывал стульчик, на каких обычно сидят сапожники (и который Бульба и отобрал у сапожника Ерахмиеля за то, что тот не заплатил пошлины), усаживался на этот стульчик и тогда обычно вязал шерстяной чулок, ибо говорил, что и городовому нужны шерстяные чулки.
«Диамант и братья»
Магазины сверкали, как могут только сверкать богатые магазины. У дверей стояли румяные евреи, выставив пуза и заложив ручки за спину, всем своим видом как бы говоря: «Имея такие магазины, можно постоять и заложив ручки за спину». Освободившиеся от работы приказчики, похожие на цыплят, выглядывали из-за спин хозяев, и, когда хозяева смеялись, они тоже улыбались.
Тетка подходила к каждой двери и — с поклонами — показывала меня.
Узнав, в чем дело, хозяева косились, а приказчики, увидев, что хозяева косятся, тоже косились. Все говорили, что я им нужен, как кашель, как скарлатина, как колики в боку.
— Как, по-вашему, мне нужны колики в боку, — допытывался торговец кастрюлями, — или они мне не нужны?
На одной из вывесок золотыми бубликами было выложено «Диамант и братья», и под этим висели золотые крендели, показывая, что это за братья.
Завертелась зеркальная дверь. Три приказчика в острых белых колпаках с розовыми бантиками умильно выглянули из-за стоек, и мне почему-то показалось, что это и есть «братья Диамант». На самом же деле «Диамант и братья» в клетчатом жилете стоял среди висячих окороков, сам похожий на окорок, и будто предлагал: «А ну-ка, разгадайте — где окорок, и где я?»
В магазине — удивительная тишина. Все здесь говорило: это вам не бакалейная лавочка — не деготь и не колесная мазь, а китайский чай, какао и желатин! Только пощелкивала счетами сидящая в клетке старая дева с очками на длинном красном носу, да тихонько сопел Диамантов дядя, убогий еврей в дырявом цилиндре, торжественно бродивший среди бочек. Останавливаясь у какой-либо бочки, он вопросительно глядел на нее и, накручивая бороду на палец, казалось, рассуждал: «Мед в этой бочке действительно мед или только выдает себя за мед, а на самом деле медом не является?» И, запустив палец в бочку, осторожно облизывал его и с покорным видом, — мол, мед так мед, — направлялся к другой бочке. И так, полный сомнений, он переходил от меда к варенью, от варенья к повидлу и если слишком сомневался и пробовал несколько раз кряду из одной и той же бочки, старая дева в клетке, которая, несмотря на то что щелкала на счетах, все время поверх очков следила за ним, до того расстраивалась, что, стукнув счетами, начинала счет сначала. И тогда дядя отходил к следующей бочке с жалкой улыбкой: «Понимаете! Не могу определить!..»
Когда тетка сказала, зачем мы пришли, с лиц приказчиков будто тряпкой стерли умильную улыбку, и они стояли серьезные в своих белых колпаках. Только один дядя, в это время вертевший перед своим носом палец, обмазанный патокой, доброжелательно улыбнулся, да и то неизвестно чему: патоке или мне.
— А если в магазине что-нибудь пропадет? — спросил «Диамант и братья» и важно надулся.
— Да, если что-нибудь пропадет, — вдруг с жаром крикнула из своей клетки старая дева.
И три приказчика, бледнея, прошептали:
— А если что-нибудь пропадет?
Больше всего они боялись за халву.
— Халву ему показывать нельзя, ни в коем случае!
— Особенно шоколадную, особенно миндальную...
— А орехи? Ой, орехи, — вдруг вспомнил «Диамант и братья».
— Изюм! — крикнула из своей клетки старая дева.
— Ты любишь изюм? — спросил дядя, как раз в это время незаметно кинувший в рот несколько изюминок. — Он уж не так изюмист, как о нем говорят...
Три приказчика в острых колпаках, один за другим, тоже высказали свои предположения, причем каждый назвал свое любимое кушанье и оглянулся: цело ли еще это кушанье. И у одного был нос в меду, у другого язык в сметане, у третьего на зубах халва.
— А серебряные колбасы вы забыли? — все не успокаивалась старая дева. — Он их утащит из-за одних серебряных бумажек. А свечки? — И она высунулась из окошка.
— Ну, свечек не сожрет, — сказал дядя, — он не такой бандит.
— А варенье? — ехидно спрашивала старая дева. — Что вы на это скажете?
— Дайте ему только понюхать! — сказал Диамант.
— Не давайте нюхать! — закричали приказчики.
— Зато синьки он уже не тронет, — обрадованно сказал Диамант. — Как вы думаете?
Соль, цикорий — все это отметалось. Даже старая дева не допускала, чтобы я съел цикорий.
Тут она из своей клетки заметила, что я улыбнулся, и сразу закричала, что я сейчас что-то съел: иначе зачем я бы стал улыбаться? И она говорила, что ее вот сейчас в сердце укололо, — ее всегда так колет, когда в магазине что-нибудь съедят.
— Не может быть, чтобы он ничего не съел, — настаивала она, — язык у него красный, видно, что сладко ему было.
— У ребенка всегда такой язык, — уверяла тетка. — У папы его такой язык, у дедушки был такой язык, даже у меня — далекой родственницы — тоже такой язык, у нас у всех такой язык.
Но они не хотели верить и говорили, что не может быть, чтобы язык был такой красный, и что тут что-то такое есть, и они искали, что тут такое есть.
— Где шоколадная бомба?! — вскрикнул вдруг «Диамант и братья», оглянувшись. — Я только что ее видел, разбойник!
— Ой-ой-ой! — завертелась в клетке старая дева. — Он съел бомбу.
— Ой, в ней шоколад, она в серебряной бумаге, — кричали приказчики.
— В ней розовый крем, — сообщил дядя, жующий бомбу: он схватил ее за спиной у всех, пока они рассуждали, какие сорта маринованной селедки я предпочитаю. — Какой бандит! В одну секунду он скушал такую бомбу!
— Ой, скорее, — кричала дева, — вложите ему два пальца в рот, а то он ее проглотит и будет поздно!
— Покажи язык. Больше! — требовал Диамант.
— Поставьте его к окну, — советовал дядя.
— Скажи громко: «А» пусть все увидят, что у тебя во рту, — говорили приказчики.
Они осмотрели мой язык, потом разжали мой кулачок и осмотрели каждый пальчик в отдельности: не липкие ли пальчики, не побывала ли в них шоколадная бомба?
Им уже казалось, что карманы мои полны чернослива и желтослива, и они стояли вокруг меня, чтобы я не мог украсть.
Они смотрели на меня и боялись, как бы я лавровый лист не сожрал, уксус не выпил.
— У нас все в каменных и железных сундуках, под большими замками, за тридцатью тремя запорами, ты не думай! — пугал Диамант.
Гремели орехи в ларях, сверкали на полках рафинадные головы, сладким огнем горела посуда с вареньем. Я дрожал и облизывался.
А они стонали: какой я вор!
— Он хочет работать? — спрашивали нас по дороге и посылали к табачнику, посуднику, конфетчику, собачнику — самым богатым евреям.
И вели меня к табачнику, посуднику, конфетчику, собачнику и показывали меня, как показывают на ярмарке обезьяну, хорька, белую мышь.
Господин посудник, не успели мы войти, тотчас же закричал, что я перебью у него всю посуду, и замахал руками — зазвенели блюда во всем магазине.
Конфетный фабрикант закрыл глаза и сказал, что он и смотреть на меня не хочет, и все спрашивал конторщика: ушли мы или еще стоим?
Табачник прогундосил, что он заранее знает: я стану харкать кровью и буду говорить, что он виноват, а он не хочет быть виноватым. И пока он говорил, приказчики засунули мне в нос махорку и смотрели, что будет? Я глотнул махорку через нос и чуть не задохся, тетка меня еле отходила. А они, смеясь, смотрели в окно.
Мясники в кожаных передниках, точившие ножи, смазали мне лицо свиной кровью, и я плакал, а они удивлялись, отчего мое еврейское лицо не стало свиным.
Хозяин писчебумажного магазина встретил нас ласковой улыбкой и сказал, что он все понимает (недаром он продает книги и чернила!). Он и рад был бы, и даже видит, что у мальчика выражение умное, еврейское выражение, но ничего не может сделать: у него паны покупают, а они не любят еврейского выражения.
— Они войдут в шляпках, в фижмах, с веерами, что они скажут? — спрашивал он. — Еврейский мальчик — от него и редькой запахнет, и чесноком. Не возражайте! Я — сам еврей и знаю, чем кормятся еврейские мальчики. Вы себе представляете, что будет? Вы не представляете!
— Он может сойти за панича, — уверяла тетка, которой нравилось в этом магазине. — Он сделает польское лицо, мы польку ему запустим, мы научим его ручкой манеры делать.
— Уходите, уходите, чтоб я вас не видел! — говорил хозяин. — Они сейчас придут, в шляпках, в фижмах, с веерами.
Господин молочник, самый жирный, самый белый на ярмарке, указывая на бидоны, сказал, что от одного моего вида молоко скиснет, — и смеялся до слез.
Керосинщик предсказал, что я обязательно сделаю пожар: он уже чувствует дым. Главный золотарь вообразил, что у меня дух тяжелый. Собачник прокричал, что мне самому надо петлю на шею, а мыловар — что он накормит меня мылом, если я еще раз приду.
Тетка обезумела от горя.
И вдруг она захотела, чтобы я стал зубным врачом. Чтобы я им всем зубы рвал!
— Всем! Всем! Всем! Особенно коренные, самые коренные!
— Ой-ой-ой!
— Пейте! Кушайте! Целуйтесь!
Из окон манили сладкоречивые сводни в белых чепцах, хихикали девицы в лентах, скопец пискливым голосом расхваливал любовную настойку.
Люди с лицами библейских пророков тасовали крапленые карты и бросали меченые кости.
Каббалисты читали сумасшедшие книги, предсказывая будущее.
Юродивые, беснуясь, предрекали бедствия.
— Судьба! — ревел попугай, вытаскивая в конвертах судьбу и счастье.
Воры, конокрады и коты узнавали будущее свое.
— Слаще меда! — кричал человечек, завитой, как ангел, и за копейку показывал в увеличительную трубку картинки с голыми красавицами. Мальчики прибегали с копейкой, хихикая, смотрели и, отсмотрев свою копейку, стояли и смотрели, как смотрят другие, и хихикали вместе с ними.
Маклеры, советчики, зазывалы вились, как песьи мухи. Обеими руками они хватали мужика за ворот и предлагали ему на выбор: Евангелие или присыпку для младенцев. Ему нужны были гвозди, они уговаривали его купить граммофонную трубу. Он покупал кожу, они умоляли прибавить клистир. Он хотел дегтя, материи и ниток, ему навязывали куклы, склянки, соски и ночные горшки. Они обливались потом и стонали, а мужик совсем не торопился и только ощупывал карманы — при нем ли еще деньги? Он уходил и снова приходил, с дрожью выбирая погремушки, и вгонял всех в десятый пот, пока развязывал наконец узелок с медными деньгами.
Полный сомнения, досады и обид, он брел по улицам и площадям.
Его вызывали на поединок борцы, осаждали бродяги, манили шулера. С ним бились об заклад обдиралы; конокрады продавали ему своих лошадей; ему рассказывали сказки, читали проповеди, его вертели на карусели, поили сладкой водкой.
Настежь были открыты кабаки, притоны, балаганы и церкви. Его встречали притоны, сводни и дьяконы. Его провожали звонари, пономари, вышибалы и служки, и каждый рвал себе, себе. Вслед неслись угрозы, наставления и советы.
А тень птицы, которую охранял Бульба, все увеличивалась и к вечеру, казалось, легла на все местечко.
Господин Дыхес и другие
Свист и крики над местечком.
Запах пареного, запах жареного, запах вареного.
Господин Дыхес продал все гнилое мыло на войну.
Музыканты, идите играть, дудочники, идите плясать! Мясники, рубите мясо, пекари, несите халы, стряпухи, горите в огне — пеките и жарьте! У господина Дыхеса весело на душе.
Дыхеса дом над рекой — самый высокий и красивый в местечке, с белой цинковой крышей, — она на солнце сверкает, как серебро. Дом — с большим золоченым балконом, круглыми окнами и широким парадным, как в синагоге, входом с изображением лежащего льва над ним, который будто стережет золото Дыхеса.
Когда господин Дыхес в боярской шапке утром выходил на золоченый балкон, он на все местечко смотрел как на свою собственность. И было отчего. Взглянет прямо: мельница в пять этажей, арендуемая у графини Браницкой, известная на всю Киевщину. Увидя хлеб, белый как снег, все говорили: мука Дыхеса! Взглянет налево — черный дым над Иерусалимкой — то курят Дыхеса смолу и варят Дыхеса мыло. Взглянет направо — в небе красная труба сахарного завода. Плетутся ли старики в синагогу — поклон Дыхесу: Дыхес построил золотую синагогу. Везут ли мертвеца, и тут ему поклон: Дыхес — почетный глава погребального братства.
Но сегодня ярмарка — всем ярмаркам ярмарка. Никогда еще господин Дыхес не продавал столько мыла, и какого мыла! Никогда у него не покупали столько муки, столько сахара и смолы! Ручьями текло золото.
Во дворе господина Дыхеса ароматное пекло. Бараньи туши висели на крюках. Пар вился над горами горячей лапши. Гигантские пироги, начиненные тертыми яблоками, пеклись в печах, и хромой пекарь следил за ними. Кондитер в розовом колпаке белыми руками закручивал крендели, посыпал их маком и толчеными орехами. Старая женщина, вся в пуху и в куриной крови, начиняла брюхо огромного гуся орехами, яблоками и всякой всячиной, приговаривая: «Вот так любит Дыхес!» Несколько уток, вытянув головы, смотрели с интересом на это: наверное, им казалось, что гуся усыпили и делают операцию и они гоготали, спрашивая, когда им тоже сделают операцию. Старые стряпухи стояли у печей, подбоченившись, дерзко смотрели на огонь, будто вызывая горшки на кулачный бой, и рассуждали, сколько перца и сколько уксуса любит господин Дыхес; а молодые стряпухи больше всего боялись пересолить или недосолить и рассказывали друг другу всякие случаи недосола и пересола. На кострах кипели медные тазы с вареньем, сладкий дым поднимался к небу, и птицы, пролетая над этим двором, замедляли свой полет.
И уже ходил по двору веселый еврей Кукла в соломенной панамке — свадебный шут. Где только кушать садились, уже Кукла сидел; где пить хотели — Кукла уже стоял со стаканом; где музыка заиграла — уже Кукла бежал в своей панамке. И свадьба без Куклы — не свадьба: кто там пьет и кричит? И обрезание без Куклы — не обрезание: кто же обращается с речью к младенцу, кто вливает в рот ему первую каплю вина? И курица, которую съели без Куклы, — не курица. Какая же это курица, если Кукла не съел пупка? Если кто-нибудь ему говорил: «Кукла, нельзя же быть всегда веселым», Кукла отвечал: «Вас колет от гордости, меня корчит от смеха, и вы пьете слезы, а я водку. Что я вижу на дне бутылки, трезвый никогда не увидит, что я съел на похоронах, вам на свадьбе не съесть».
Кукла клялся, что закупили всю ярмарку, закололи вола и кишки его начинили кашей, зарезали сто самых жирных гусей и сто самых злых индюков. Кукла говорил: «Будем кушать, будем пить!»
Тетка умолила стряпух дать мне пропитаться дымом: «Что нужно еврейскому мальчику? Запах».
Вошли музыканты: впереди мордастые трубачи, за ними — длинный флейтист и маленький барабанщик с барабаном на животе, похожем на барабан. Они вошли и встали в ряд, и барабанщик ударил два раза колотушкой по барабану: «Обратите внимание, какие у нас щеки!» Стряпухи засмеялись и дали ему баранью ногу, а мордастым трубачам по куриному пупку, и трубачи, сказав: «Дай вам Бог здоровья», проглотили пупки и заиграли парадный туш.
Съезжались гости.
— Эй, — закричал кучер, — берегись!
На лаковом фаэтоне — господин Прозументик, госпожа Прозуменхиха, три крикливых Прозументика в желтых атласных штанишках стоя показывали всем язык.
Никого не видя и ничего не слыша, с пальцем у виска, прошел член правления банка с расчетами в голове.
Размахивая руками, бежали Колокольчик и Кухарик — два богатых еврея с румяными щеками, по дороге что-то доказывая друг другу. Когда добежали до крыльца, Колокольчик плюнул в сторону Кухарика: «Разговор окончен!»
Показался никому не известный господин с большим пузом и усами. Он нес свое пузо, как драгоценный сосуд. И хотя ни копейки у него не было, но, глядя на пузо и усы, все говорили, что у него много денег; и хотя никто его не приглашал, но, увидев пузо, широко открывали двери; и хотя никто его не знал, все сделали вид, что знают его уже давно, и даже спрашивали: «Как чувствуете себя после вчерашнего?» Все ходили вокруг него и смотрели на него, но, если глядели только на пузо, он хмыкал, показывая, что и усы у него есть, расправлял усы и раздувал их. Калеки, нищие и плакальщицы, теснившиеся у высоких парадных дверей, спорили, сколько сейчас денег в его карманах: в боковом и заднем, где красный платок. «А жилетный вы забыли?» — говорил карлик. И кто считал на рубли, а кто на копейки, прибавляя и гроши.
Прошел господин Глюк в цилиндре, а за ним вприпрыжку Цалюк в котелке; Глюк имел важное дело с золотыми вывесками, а Цалюк заглядывал ему пониже спины.
Госпожа Рацеле в газовом платье, содержащая дом, где пьют чай с вареньем, влетела на цыпочках, всем кланяясь и всем улыбаясь, зазывая пить чай с вареньем.
И все шли и шли: и богатый Гоникштейн, и Зюсман, и Эфраим — все самые хорошие фамилии, и Пискун, который тоже считал себя хорошей фамилией; и мадам Пури — дама с костлявой шеей и подбородком, как лопата, и мадам Тури — с жирной шеей и тройным подбородком, — и одна желала смерти другой; и мадам в тюрбане и мадам в бурнусе — и одна готова разорвать другую; появился еврей, разодетый, как падишах; за ним бежал мальчик с разинутым ртом и завернутыми ушами. И вдруг объявили: Василий Сидорович Юкилзон и Павел Ермилович Юкинтон!
Все были здесь: мазурики в бобровых шапках, и девицы в пунцовых шляпах, и модники в крахмале.
Последней прибыла мадам Канарейка, чтобы все видели, как она прибыла, и улыбнулась только портрету, где Дыхес изображен в боярской шапке, с золотой цепью на животе; улыбнулась так, будто никого, кроме портрета, в зале не было, будто все, кто стоял у стен, — это шкапы или подсвечники. Все лопались от зависти: почему они не прибыли последними, тогда бы все смотрели сейчас не на мадам Канарейку, а на них, и они бы тоже прошли медленно и мадам Канарейку приняли за подсвечник или шкап. За мадам Канарейкой семенил на тоненьких ножках мосье Франсуа, словно неся шлейф мадам Канарейки, хотя никакого шлейфа не было. И все шептали: «Мосье Франсуа!», «Кому это мосье Франсуа улыбнулся?» И Козляк, дантист в оранжевых крагах, смотревший на всех так, словно хотел вырвать всем зубы, умирал от зависти и тоже желал, чтобы все шептали: «Козляк улыбнулся!», «Козляк приподнял шляпу!», «Вы обратили внимание, как Козляк приподнял шляпу?»
Каждый стремился пройти мимо зеркала, заговорить с теми, кто стоит у зеркала, а увидев себя в зеркале, улыбнуться, будто не себя увидел, а знакомого, которого давно не видел.
И так ходили взад и вперед, туда и сюда, и показывали: кто — зуб золотой, кто — бюст накладной, кто — зад подкладной, кто — парик удивительный, кто — живот с золотой цепью. А один ходил с висящими усами, больше ничего у него не было показать, и смотрели на него только те, у кого еще не было усов.
Чьи-то четыре сухие дочери прилепились у стен, с лентами в волосах, и лица их говорили: «Ни за что не выйдем замуж!» И они злились на всех, говоря, что все только и думают выйти замуж. Но когда мимо прошел фармацевт, похожий на ягненка, и взглянул на них, они улыбнулись — сначала первая, потом вторая, потом все вместе: «Неужели вы не понимаете, почему у нас ленты в волосах?» Но он был ягненок и больше всего боялся кого-нибудь обидеть.
Господин с брюхом и усами все басил, никого близко к себе не подпуская, а вокруг него вертелся хлюст в бархатных штанах с сумасшедшей жаждой поговорить. Он ему показывал и серебряный брелок на животе, и цепочку от часов, и коронку на зубах, и полусеребряный мундштук, и полулаковые ботинки, но ничего не помогало, и, когда господин раздувал усы, хлюст отскакивал к стене.
В одном конце залы мадам Канарейка, говоря в нос, о чем-то рассказывала дамам, и дамы слушали не то, о чем рассказывала, а как она рассказывала в нос, и некоторые даже засматривали ей в рот, желая узнать, как она это делает, куда она прячет язык.
В другом конце залы властвовала дама с голубым пером: она поворачивалась, и перо поворачивалось; оно было видно отовсюду и поворачивалось; оно было видно отовсюду и плыло над всеми дамами, и некоторые забегали вперед, чтобы посмотреть.
И сводня выдавала себя за пекаршу, а пекарша за кондитершу, а кондитерша за музыкантшу, а музыкантша и сама не знала, за кого себя выдать. И бандерша разговаривала только о калачах, а пекарша уверяла, что она в глаза калачей не видела, только крендели, а от кондитерши только и слышно было: «до-ре-ми-фасоль!», а музыкантша молчала, показывая, что она такое знает, о чем и говорить тут нельзя.
В центре стоял цирюльник, но с такими усами и такими бровями, и так рассуждал и так указательным пальцем подтверждал то, о чем рассуждает: доктор, непременно доктор! Вот сейчас вынет перо и напишет рецепт! И когда с ним разговаривали, то будто принимали за доктора, и у всех на лицах было написано: «Пожалуйста, пропишите нам лекарство». Но только он отворачивался, они и цирюльника не хотели в нем признать, а говорили, что он собачник, и даже дрыгали ножкой, показывая, как ловят собак.
Все были злы, багровы, надуты и, казалось, только и ждали, чтобы кто-нибудь их зацепил. И только один фармацевт, похожий на ягненка, в котелочке, с тросточкой и в бальных туфельках, вежливо бродил среди них, осведомляясь: не наступил ли он кому-нибудь на мозоль, не побеспокоил ли запахом лекарств? И худые на него шикали, толстые — пыхтели, а худые, которые хотели казаться толстыми, надували щеки и тоже пыхтели, пока не загнали его в угол, сказав ему еще вдогонку: «Мэ-э-э».
Сюда же втерлись: крикливый служка в засаленном халате, который больше всего боялся, что не всем все понятно, и поэтому он все разъяснял; меламед Алеф-Бейз с рыжими пейсами, перед каждым словом говоривший: «Э!»; повивальная бабка с бантом на груди, сообщавшим, чтобы сегодня с ней не говорили о делах повивальных; Менька — вздорный еврей, который мог всюду сбегать, все достать, все сообщить и всем угодить; и у него всегда было такое выражение, будто он прибежал с новостью; и какая-то ехидная женщина Шпринда, и какой-то Цацель, все ходивший на цыпочках, словно боясь, как бы не сказали, что он шумит. А среди них три Диамантовых приказчика все время поглядывали на своего рассуждавшего хозяина и значительно улыбались, показывая, что им известно, о чем говорит их хозяин, и это очень важно — о чем он говорит. Старший из них каждую минуту вытаскивал часы на цепочке, с важным видом прикладывал к уху и затем смотрел, который час, а у двух младших были только цепочки, и они их не вытаскивали, но все-таки делали важные лица, когда старший смотрел на часы.
— Ах, — мечтательно вдруг сказала повивальная бабка, — я бы сейчас съела хорошую заднюю ножку.
И все точно зажглись от одного упоминания.
— Вы знаете, что бы я хотел сейчас? — таинственно сказал господин Прозументик, даже не глядя на повивальную бабку, а обращаясь к Колокольчику и Кухарику. — Вы знаете, что сейчас интересно скушать?
И все, затаив дыхание, прислушивались, что сейчас интересно скушать господину Прозументику.
— Я бы сейчас взял гуся и оттуда вынул бы фарш... фарш...
Повивальная бабка смотрела на него, выпучив глаза, Диамантовы приказчики застыли со сладостью на лице. Менька стоял так, как будто прибежал с новостью, но не смеет ее рассказать.
— Ах, гусь с орехами, это-таки хорошо! — подтвердила повивальная бабка, и даже бант ее раздулся от удовольствия. — А вы думаете, гусь с яблоками — плохо?
— Ах, фасоль, — послышалось кругом.
— Ах, редька с салом! — крикнул служка в засаленном халате и стал всем объяснять, что такое редька с салом.
— Фаршированная рыба, — говорили другие.
— И с хреном.
— И с соусом, чтобы перчик был.
Каждый называл свое любимое кушанье и вздыхал по своему любимому кушанью, и все неслись пожелания. И только Цацель ходил на цыпочках и боялся сказать, что он любит.
— Нет ничего лучше, чем кишка с кашей, — сказал вдруг господин с брюхом и усами, и так сказал, что никто и подумать не посмел, что есть что-нибудь лучшее, чем кишка с кашей, которую любит господин с таким брюхом.
— Я бы открыл кишку, — сказал он и показал двумя пальцами, как бы он открыл, — и осторожно бы съел жареную корочку, а потом кашу, только потом кашу...
И все были вполне согласны, что лишь потом кашу, только потом.
— Вы разве знаете, как кушать? — продолжал он, и все вытянули лица, признаваясь, что они действительно не знают, как кушать.
— Надо сначала попробовать на один зуб, и только когда все зубы заноют, так и на те зубы.
— Э! — решился вдруг произнести меламед Алеф-Бейз и сам испугался своего «э», но все уже хотели слушать: еврей зря не скажет «э».
— Э, — повторил тогда Алеф-Бейз, — если взять и растереть, и в печь, и дать еще чуточку подгореть, а-а.
— А! — вдруг сказал даже Цацель.
— И тогда туда добавить корицы, — все больше увлекался Алеф-Бейз, — но надо знать, как добавлять корицу!
— Да, да, корицу, — поддакнула повивальная бабка, не слыша даже, что нужно взять и растереть, и в печь, и дать еще чуточку подгореть, чтобы было а-а-а.
— А я люблю пастернак! — сказал вдруг вздорный еврей Менька, но никто не слушал, что он любит, никому не интересно, что любит такой еврей.
Среди бального шума тетя вдруг громко чихнула, чтобы все увидели, что и мы здесь. Но они нас не видели и видеть не хотели. Только дама с пером еще чаще приседала, кондитерша еще громче говорила: «до-ре-мифа-соль». Меламед еще протяжнее говорил: «Э», сообщая, что он сейчас что-нибудь скажет.
Но вот вышел господин Дыхес, похожий на поросенка. Несмотря на такую морду, о которой он не мог не знать, он будто нарочно выпятил нос и губы, что сделало его еще больше похожим на свинью. Лицо его ясно говорило: «Мне и не надо казаться человеком, я и свиньей понравлюсь вам».
Никто, казалось, и не заметил, что он похож на свинью, не улыбнулся, не крикнул: «Пшла вон!» Наоборот, у всех были такие лица, будто им сейчас крикнут: «Пшли вон!» А господин Дыхес, оглядев всех, вдруг икнул, словно сказал: «Здравствуйте». И все именно повяли это как «здравствуйте» и закричали вокруг:
— Доброго здоровья, господин Дыхес, как вам спалось?
Но господин Дыхес не хотел сказать, как ему спалось, и, оглядев всех, еще раз икнул.
Господин Дыхес всегда икал. Даже в Судный день, когда господин Дыхес, накануне вечером съев петуха, постился до первой звезды, — даже в этот день он вдруг икнет в синагоге, и все отвлекутся от Бога и подумают: «Икнул Дыхес, что-то он сегодня поел?» И даже Дыхес краснеет, будто он и в самом деле ел.
Как все изменилось! Глюк, который только что, как цапля, шагал по паркету, согнулся в крендель, а усач убрал свое пузо, чтобы шире был проход; а господин Прозументик выставил вперед маленьких Прозументиков, уговаривая их улыбаться, даже Диамантовы приказчики перестали смотреть на хозяина, а смотрели на Дыхеса.
И именно то, что он похож на свинью, казалось, им и нравится, их и умиляет. И кое-кто даже шептал, что шишка под носом господина Дыхеса — не простая шишка, а шишка мудрости, и что если бы эту шишку да поближе к затылку, а еще лучше на макушку, — так это совсем уже был бы министр.
Когда Дыхес, посмотрев на потолок, сказал: «М-да», они все собрались в кружок и обсуждали, что должно обозначать это «М-да», что он хотел этим сказать и как надо это понять. Каждый находил десять решений, с комментариями, и даже появлялись комментарии на комментарии, и это «да» уже расшифровали в целую речь.
— Ты тоже будешь кушать с серебряных блюд, — шептала мне тетка.
Она все ближе и ближе придвигала меня к господину Дыхесу. У господина Дыхеса было столько денег, что обычно все уважающие себя мамы и папы приводили к нему своих деток в черкесских костюмчиках или матросках с золотыми якорями, или в кружевных панталончиках, и они, выставив ножку и подняв ручку, декламировали или пели, или пиликали на скрипке, или решали задачки, которые задавал господин Дыхес. А господин Дыхес уже точно определял, что это: кантор или разбойник, первая скрипка или водовоз. И если господин Дыхес сказал: «Водовоз!» — так это водовоз — и скорее отпускайте ему бороду, ибо какой же это водовоз без бороды!
Вот и сейчас перед Дыхесом стоял мальчик со скрипкой. Вокруг него вертелись папа и мама, и бабушка, и дедушка! Мама советовала, как выставить ножку, папа показывал, как держать головку, бабушка натирала смычок канифолью, а дедушка учил, как водить смычком. Но вот мальчик взял в руки скрипку, тронул ее смычком, будто спросил ее о чем-то, и вдруг заплакал, и скрипка тоже заплакала, А. мальчик водил по ней смычком: «Плачь, плачь!» И уже никто не знал, кто это плачет: мальчик или скрипка. И мама, и папа, и бабушка, и дедушка тоже плакали, и теперь было ясно видно, что совсем не знают они, как надо выставить ножку, как держать голову, как водить смычком, — зря они советовали, и если бы их сейчас спросить, они бы сами сказали, что зря. Все плакали, один Дыхес не моргнул даже глазом. Он долго смотрел на мальчика и вдруг сказал: «Зуб у него как-то не так!» — и отвернулся.
Тут тетка придвинула меня вплотную к господину Дыхесу и сказала:
— Вот золотой мальчик!
Господин Дыхес взглянул на меня и пощупал голову с таким видом, будто хотел осведомиться, что в ней: мозги или солома. И все хотели, чтобы Дыхес сказал: «Солома!» Но он сказал: «Мозги! — хоть с гримасой и с поправкой. — Мозги, которые еще надо вправлять и вкручивать, чтобы они сидели на месте».
Господин Прозументик выставил старшего Прозументика, чтобы Дыхес пощупал и его голову и задал обязательно такой вопрос, на который он может умно ответить, и даже советовал Дыхесу: «Спросите, как зовут его папу...»
Господин Дыхес взял толстую русскую книгу в бархатном переплете, с серебряными застежками и, раскрыв ее, стал перелистывать и все хмыкал: «Какая, мол, умная книга».
Остановившись на какой-то странице, он положил книгу передо мной; она лежала так, как держал ее господин Дыхес — ногами вверх. Но когда я посмотрел в лицо ему и хотел перевернуть книгу, тетка так меня ущипнула, что я понял: правильно лежит книга, всегда так лежала, с тех пор как люди стали читать.
И так, вглядываясь в опрокинутые буквы, я стал читать, а он, улыбаясь, водил пальцем по строчкам, нараспев повторяя то, что я читал, и лицо его было такое довольное, точно это он написал книгу. Буквы, как муравьи, разбегались в разные стороны, а потом сбегались и танцевали в воздухе: вдруг какая-нибудь буква кувыркнется и улетит, а вслед за ней и другие буквы. И я бросил вглядываться в них и стал выдумывать свое и про свое, а господин Дыхес водил пальцем по строчкам а нараспев повторял все, что я выдумывал. При этом он оглядывал всех с улыбкой: «Какая умная книга!» А господин Прозументик говорил, что такому мальчику нельзя давать такую умную книгу; надо ее отдать Прозументикам, и тогда — сколько в книге ума, они прибавят еще свой ум, и выйдет так умно, что никто и понять не сумеет.
— Скажи а-а-а! — сказал вдруг господин Дыхес и поднял палец.
— А-а-а!
— А ну, а ну повтори! — воскликнул он, держа палец наподобие камертона и прислушиваясь.
— А-а-а!
— Нет, певец из него не выйдет, — объявил господин Дыхес. — Это же смешно — представить его в опере! Правда, смешно?
И папы в котелках, и мамы в кружевах, и интеллигентные бабушки, и розовые дедушки сказали:
— Конечно смешно!
— Он лентяй! — сказала неизвестно откуда взявшаяся госпожа Гулька и наставила на меня клюку.
— Заразный! — воскликнула мадам Канарейка.
— Вор! — сказал «Диамант и братья».
— Чем же он может быть? — стали думать они.
— Пусть он тряпки собирает, — предложил маленький мальчик в матроске, и все тотчас же закричали, какой он умный мальчик, и спрашивали, кто его папа.
Предлагали отдать меня собачнику, в баню веники делать, ведра выносить, мух отгонять, хрен натирать.
А тетка моя все толковала, что я — певец и такого певца еще не было и не будет.
— Когда он пел на свадьбе, ангелы на седьмом небе радовались, — говорила она. — Вы хотите быть на седьмом небе?
Господин Дыхес хотел быть на седьмом небе.
Он сел в мягкое кресло, заложив ножку на ножку, взял с вазы конфетку, икнул и стал сосать конфетку и слушать, то ковыряя в зубах, то дрыгая ножкой, особенно на переливах. И все ахали: как чувствует пение, какой знаток!
Я заливаюсь, а господин Дыхес сосет конфетку и то чавкает, то языком прищелкивает. Но вдруг он, пригнув голову, затих и даже конфетку перестал сосать, не шелохнется, не икнет и даже выпучил глаза. Тетка, сложив ручки в умилении, стояла и слушала и все оглядывалась: все ли сложили ручки в умилении?
Вдруг господин Дыхес закричал:
— Ай-яй-яй!
Тотчас все забеспокоились. «Слишком громкая нота!» — сказали одни. «Наоборот, слишком слабая», — сказали другие.
— Ай-яй-яй! — повторил господин Дыхес и, показывая на пятку, засмеялся.
Выяснилось, что у господина Дыхеса щекотнуло в пятке.
— Я все прислушивался, защекочет или не защекочет, — рассказывал Дыхес, необычайно возбужденный.
А они уже обсуждали, какое это предзнаменование, и рассказывали друг другу разные исторические случаи щекотания в пятках.
Заиграла музыка, заорали граммофоны, раскрылись двери, и торжествующая стряпуха внесла фаршированную щуку, которая была приветствуема одобрительным шепотом гостей.
— Гости! — грубым голосом сказал Дыхес. — Я уже вижу, вам хочется до щуки?
— Щука их уже волнует, — сказала мадам Канарейка и посмотрела сквозь стеклышко, желая разглядеть волнение.
Гости застенчиво улыбнулись, как бы хотели сказать, что это, может, и неприлично, и слабость характера, но щука их действительно волнует.
Дыхес выставил ножку, подхватил мадам Канарейку, которая уже стояла возле него, зная, что он сейчас кого-нибудь подхватит, и двинулся к щуке. А за ним и мосье Франсуа, как бы неся шлейф мадам Канарейки, Глюк и Цалюк, мадам Пури и мадам Тури, дама в тюрбане и дама в бурнусе, и член правления банка, все держа палец у виска.
С шумом рассаживались гости, улыбаясь щуке.
— Когда я сажусь за стол, — сказал господин Дыхес, завязывая белую салфетку, — я люблю, чтобы все, что стоит на столе, было красно, как оскобленная собака, и жирно, как свинья. — И концы салфетки зашевелились по бокам его розового лица, как два свиных уха.
Господин Дыхес выпил перцовой водки и, покрутив головой, посмотрел на гостей: «У-у-у, горько!» — и закусил медвяным тортом; потом налил лимонной водки и, выпив, тоже покрутил головой и опять взглянул на гостей: «Кисло» — и закусил уже миндалем; тут он придвинул графинчик с малиновой и, поглядев на гостей, грубо спросил:
— А что, гости, я думаю, вам тоже хочется?
Гости задрожали.
— К счастью! — крикнул господин Дыхес, выпивая рюмку малиновой и закусив потрохами, приговаривая: — Люблю потроха!
— К счастью! — закричали гости, выпивая, кто — перцовую, кто — лимонную, а кто — малиновую, закусывая медвяным тортом, или миндалем, или потрохами, приговаривая: — Хороши у Дыхеса потроха!
— Слава тому, кто дал нам счастье дожить до этого дня! — воскликнул со слезами на глазах господин с брюхом и усами, намекая на Бога, но глядя на Дыхеса, и пока остальные выпили по рюмке перцовой, лимонной или малиновой, он выпил три раза — и перцовой, и лимонной, и малиновой.
Стали делить рыбу.
Тут вскочил Кукла в своей соломенной панамке я закричал торжественно:
— Господину Дыхесу голову, потому что он — голова!
— Господину Дыхесу голову, — повторило несколько голосов, и Рацеле улыбнулась голове, как бы надеясь, что голова передаст Дыхесу, что Рацеле ей улыбнулась.
— А господину Меньке хвост, потому что он — хвост! — прокричал ехидным голосом Кукла.
— Господину Меньке хвост! — закричали все, ликуя оттого, что он — хвост, а не они.
— А мне все остальное, — сказал Кукла, — потому что я люблю все остальное.
Все засмеялись, но забрали все остальное и оставили Кукле самый скверный кусок, ближайший к хвосту. А служке, который только что объяснял, что щука над всеми рыбами рыба, не дали ни куска, и меламеду Алеф-Бейз, сколько ни произносил он «э», тоже не дали ни куска, и он глядел на пустое блюдо с разинутым ртом, произносящим «э»; а Цацель, не посмевший даже сесть за стол, ходил на цыпочках, все боясь, как бы не сказали, что он мешает есть щуку.
В это время раздались крики, и в залу, где ели и пили, ворвались косматые женщины с мыловаренного завода. Гости закривили носами, некоторые даже икнули, а мосье Франсуа тотчас замахал розовым платочком, и запахло фиалкой, ландышем и кипарисом.
— Я спрашиваю, зачем они пришли? — закричал Дыхес. — Что, я замков уже не имею на своих дверях, вышибал я не имею, скотов я не имею? — закричал он, с ненавистью глядя на красную рожу, стоявшую на пороге с поленом в руке. — Я рюмку водки спокойно выпить не могу? И вторую рюмку, и третью рюмку!...
— Не кричите, господин Дыхес, — сказала одна из женщин, — выслушайте евреев.
— Что, пахнет там плохо? — спросил он таким тоном, что ясно было — он уже знает заранее, зачем они пришли.
— Собачьим салом пахнет,— заплакала женщина с ребенком на руках. — Уже даже от ребенка пахнет собачьим салом, от бублика его пахнет.
— А что, духи, наверное, лучше пахнут? — снова спросил Дыхес.
— Лучше, господин Дыхес, лучше, — утирая слезы, ответила женщина.
— Ну, так если бы там пахло духами, я бы сам пошел туда понюхать, и все мои гости пошли бы. Правда, гости?
И гости засмеялись и сказали: да, они пошли бы.
— Кровью харкаем, кровью дышим, — шептала женщина.
Но ее не слушали, гости смеялись, запивая смех водкой и заедая щукой и мясом, густо намазывая горчицей, прибавляя еще хрен и рассол.
— Думаете, я не знаю, кто вам кусок красного мяса показал? Я знаю этого каторжника, уже Бульба за ним сегодня придет.
— Вы не поймаете Самсона! — закричали женщины...
Непонятный мне человек однажды появился у нас во дворе, в широкополой шляпе, какие у нас в местечке никто и не носил, в клетчатой куртке и неслыханно высоких ботинках, шнурованных до колен, длинноволосый, как поп; я даже пуговицу отстегнул, подумав, что это поп.
Чижик со своей голубятни сразу же стал рассматривать его шляпу, Юкинбом вышел и разглядывал клетчатую куртку, а Ерахмиель, высунув в окошко патлатую свою бороду, изучал его ботинки с интересом сапожника. Это был Самсон — сын соседки нашей, бабушки Менихи.
Самсон весь день ходил по местечку в своих неслыханных ботинках: то я видел его на гребле беседующим с мужиками, приехавшими на ярмарку, то у мельницы среди грузчиков, белых от муки, то среди краснокожих биндюжников, грубыми голосами расспрашивающих его, как и что; то в кузне Давида, молчаливо наблюдающим за огнем, как бы что-то вспоминая, то у ворот, среди женщин, мечтающих о курице на субботу.
Иногда сын бабушки Менихи уходил из города с мешком на спине, где был утюг, большие портняжные ножницы, мотки черных и белых ниток: все, что нужно для бродячего портного, которых много в те годы ходило по шляхам Украины от села к селу. Там в крестьянских хатах пели они песни еврейских портных, накладывая заплаты на свитки и шубы.
Я обычно провожал его в эти путешествия за город.
Приличный мальчик Котя предлагал мне пупочек из бульона, лишь бы я сказал, куда я ходил, но я молчал. Тогда он вынимал из кармана серебряный грецкий орех, в котором, казалось, заключено было все счастье мира, но я со слезами на глазах молчал, потому что Самсон велел молчать.
Возвращался он из путешествий, но мотки черных и белых ниток были целы.
— Я вышиваю красными нитками, — говорил он.
Котя вертелся вокруг, выглядывая: целы ли мотки ниток, но вместо мотков я показывал ему фигу, а Котя, плача, бежал к маме и говорил, что я его ударил.
Странные слухи передавались с уха на ухо.
— Он хочет царя сбросить и сесть на его место, — говорили одни.
— Он звездочет, — говорили другие...
— Он бомбист, он бомбы делает! — кричал сейчас Дыхес. — Кто хочет надбавки, со мной не имеет дела. Ша! Идите домой, ложитесь животом на печку, и пусть вам наш великий Бог даст надбавку. Что вы хотите — мои кишки вырвать? — заревел он вдруг и запрыгал на стуле. — Садитесь, пейте, грызите, рвите с Дыхеса.
— Ты хоть помри, — закричала на него женщина, и ребенок ее заплакал. — Но мы тоже кушать хотим. И мы выйдем через парадный ход и выломаем все двери!...
Господин Дыхес даже подпрыгнул от удивления.
— Вы, хозяева, вы — злодеи, — сказала женщина. — В ваших стаканах не вино — наша кровь, посмотрите, какая она красная и сладкая. Вы пьете и еще смеетесь — вам сладко? Вы думаете — всегда война, и всегда ваше счастье, и всегда вы будете спать на мягких перинах?
— Хозяин! — закричали все женщины. — Мы выжжем серной кислотой твои рыжие глаза.
— Ой, люди, — закричал Дыхес, — у меня уже нет глаз!
— Ой, у нас уже нет глаз, — повторили гости.
— Кто обижает моих гостей? Где мое вино? Где моя водка? — заревел Дыхес, когда женщин выгнали.
Из погреба точно из-под земли выкатили бочонок водки; свистком она свистела, кипятком она кипела.
Десять стряпух, с отблеском печей на лицах, внесли на вытянутых руках большие блюда дымящегося мяса, еврейского мяса, залитого огненными соусами, то круто заперченного, то заслащенного изюмом.
Как лебеди плыли гуси.
— Гости, будем кушать, будем пить! — закричал Дыхес, как труба.
Запрокинув головы, гости выливали соус в глотку и сообщали друг другу — кисло это или сладко. Они как бы невзначай выуживали крылышки, а некоторые, заметив пупок, расправляли усы и ртом вылавливали пупок и, съев его, смотрели на хозяина с благодарностью.
— Жрите, гости! — говорил Дыхес.
Телячьи грудки, копченые языки, паштеты, шпинаты, форшмаки, нашпигованное и рубленое, мучное и овощное, мясо, печенное на углях, и мясо, сваренное на пару.
Господин с брюхом и усами, который советовал пробовать сначала на один зуб, жрал сразу всеми зубами. В руках он держал баранью ногу и ел ее с увлечением, два раза он уже подавился.
Соседи стучали кулаками по его спине, и, отдышавшись, он снова брался за баранью ногу. Я смотрел на него, а он все ел, прогоняя меня глазами. Покончив с бараньей ногой и вздохнув, он взялся за бараний бок.
Приказчики вежливо сидели за столом, и, пока хозяин смотрел на них, они, как птицы, клевали ягодки и орешки, но когда хозяин опускал глаза в тарелку, брались за самые жирные куски и закладывали за одну щеку и за другую; если же хозяин вдруг взглянет, делали вид, что клюют ягодки и орешки. И они уже дважды снимали котелки и вытирали с лысенок пот.
А гостей обносили холодным и горячим, заливным и подливным. Была уж челюстям работа, чреву забота, когда дело дошло до гуся со сладкими орехами и они захрустели на зубах, гости не могли нарадоваться и говорили: «Вот это гусь, гусь из гусей!» А некоторые даже кричали: «Спасибо Дыхесу за гуся!»
Подали кугель из лапши с изюмом, и кугель из лапши с медом, и кугель из лапши с творогом, и кугель мучной с вареньем, и мучной с салом, и медвяные торты, и яичные торты, и миндальные торты, и струдели с изюмом, и струдели с виноградом, и струдели с маком. И все это съели.
Мадам Канарейка, осторожно поедавшая какую-то корочку, глядела на нас, стоявших в углу, говорила:
— Как они хотят кушать, эти нищие! Как они смотрят на стол! Они бы нас съели. Как по-вашему, если бы мы пустили их, они бы нас съели?
И госпожа Прозументиха, и мадам Пури, и мадам Тури, и дама в тюрбане, и дама в бурнусе — все, кого подпускала к себе мадам Канарейка, — ответили: съели бы, и Рацеле в розовом платье, которую не подпускала к себе мадам Канарейка, тоже сказала: «Конечно съели бы!»
Музыканты, икнув в последний раз, взяли в руки трубы, и гости запели, застучали блюдами; закричали, засопели гундосые; взвизгнули бабы у дверей. И все закружилось, понеслось, захлопало фалдами, погналось за счастьем.
Господин Глюк с цилиндром в руке, мадам Канарейка с шалью над головой, мадам Пури и мадам Тури, дама в тюрбане, и дама в бурнусе, и дама с голубым пером; когда она подскакивала, и перо подскакивало, когда она приседала, то и перо приседало, даже на улице говорили: «Присела!» За ними господин Прозументик — пальцы в проймах жилетки; хлюст в бархатных штанах; и Колокольчик и Кухарчик, по дороге предлагая друг другу партию присыпки для младенцев, которую перекупили у Дыхеса; и Рацеле, раздувшись в газовом платье, широко улыбаясь, приглашая всех в гости на чай с вареньем; и ягненок с тросточкой, изображая тросточкой состояние своей души; приподняв котелки, фирма «Файвиш и Зускинд» шла навстречу фирме «Юкинтон и Юкилзон»; и вдруг между фирмами вынырнул Менька со своим извещающим лицом и красным платочком и затанцевал, улыбаясь тем и другим. Но они и не посмотрели на него, а пошли в обход, только выше поднимая ноги. А Менька один остался со своим красным платочком и вздорным носом, икая от сладкой водки, чихая от крепкого табака, в упоении рассказывая новости, не замечая, что — один, что все его забыли и смотреть на него не хотят.
Сводня с улыбкой шла навстречу пекарше, но пекарша отвернулась и с улыбкой пошла навстречу кондитерше, но кондитерша отвернулась и с улыбкой — навстречу музыкантше, музыкантша отвернулась, но никому не улыбнулась, и так вертелся круг.
Кланяясь друг другу, хвастаясь друг перед другом, идя друг на друга на каблуках и уходя друг от друга на носках, капризничая друг перед другом, шипя друг на друга, вертясь друг перед другом колесом, волчком, ползком, на карачках,— все кричали: а-а-а! Музыканты — потому, что они музыканты, сумасшедший — потому, что он сумасшедший. Глюк — потому, что он богат, а Менька — потому, что ему хотелось покричать возле богатого. А господин Дыхес стоял в середине, огненный от выпитого и съеденного, и только шевелил пузом вверх и вниз, точно говорил: «С меня и этого достаточно».
Вечером
Давно уже луна заглядывала в окна господина Дыхеса, спрашивая, когда все это кончится. А они все неслись, притоптывая каблуками, прищелкивая языками, сопя носами, выкручивая ногами вензеля, туда и сюда.
Трубачи надували щеки, держась за сердце, барабанщик бил в барабан, и скрипач плакал над своею скрипкой.
Я потерял тетку и еле выбрался.
У парадного входа извозчики — в рваных архалуках, подпоясанные красными кушаками, старые — бородатые и молодые — усатые — пили водку и, насосавшись, падали тут же, храпя и яростно покрикивая во сне на лошадей.
Со двора донеслись крики нищих и калек, которым черным ходом выносили угощенье, пусть помнят Дыхеса! Они стучали костылями и требовали еще: «Дыхес, хозяин, ты мало награбил!» Две старухи подрались из-за кости и кричали: «Там мозг, там мозг, в этой кости».
Я пошел по улице.
У фонаря сидел слепой, подвернувший под себя ноги в тряпье, чтобы казалось, что и ног у него нет. И когда я подошел поближе посмотреть — есть ли у него ноги, он, приоткрыв один глаз, закричал: ему показалось, что и я хочу сесть рядом с ним и то, что должно упасть в его кружку, зазвенит в моей. Как тень, ходил по улице странный человек в дырявом котелке, с мешком за спиной и, заходя во дворы, разрывал железной палкой мусорные кучи, молчаливо вытаскивая тряпки и вскрикивая, если находил бутылку с этикеткой; я пошел за ним, но он погрозил мне палкой, боясь, чтобы и я не нашел бутылку с этикеткой. У булочной стоял франт с бантиком на шее и, умиляясь, смотрел на крендель, выставленный в окне, но, заметив, что и я смотрю на крендель и сосу палец, он прогнал меня и сам стал сосать палец; а крендель был из глины — я сам видел, как Яков Гончар лепил его и черными точками рассыпал по нему мак.
Сонный шел я по главной улице, которая была похожа на дорогу, проложенную луной на земле.
Они сидели на балконах в тени дикого винограда, образующего как бы беседки, у больших зеленых или красных ламп. Они пили чай с молоком и вареньем, рассказывая разные истории или басни; и если были гости, гости смеялись и, хихикая, как бы между делом, просили еще одну чашку чая, закусывая коржиками, если любили коржики, или же крендельками, если с детства предпочитали крендельки.
Увидев меня, они подзывали и спрашивали: кто я такой? Из каких это ангелов? Не из тех ли, что в Иерусалимке! И, узнав, что из тех, пересчитывали ложечки на столе и чашки и смотрели, целы ли китайцы на чашках.
Кто-то дал мне грош и посоветовал пойти в лавочку за юшкой и узнать, почем там лихо и где Кузькина мать.
— Ты хочешь знать, где Кузькина мать? — хрипя, спросил рыжий лавочник, толстым пальцем щелкая меня по носу.
И я сразу узнал, сколько стоит юшка, почем лихо и где Кузькина мать. Увидев юшку, хлынувшую из моего носа, он дал мне печатный пряник и посоветовал скорее бежать домой.
Я побежал.
Увидев меня бегущего, кишечник закричал, что это я, наверное, утащил у него вывеску, где были нарисованы кишки; злая старуха с помойным ведром набросилась на меня: не я ли в прошлом году ее обмочил, — что-то очень похожий мальчик! Господин Окс стоял на крыльце, страдая отрыжкой, и погрозил мне пальцем; мальчики в бархатных курточках свистели мне вслед, девочки в кружевных панталончиках, похожие на бабочек, удирали от меня. «Подкидыш из Иерусалимки! Подкидыш!» — закричала одна девочка. Я поймал ее за косички и стал царапать, и вся улица закричала, будто я всю улицу царапал. Выбежали папы и мамы и объявили, что девочка Китти красавица, а теперь уже неизвестно, что будет с девочкой Китти; Китти — припарки, Китти — компрессы, Китти — банты, шоколадки и мармеладки.
С главной улицы, над которой кукарекал петух мадам Канарейки, свернул в грязные переулки. Беременные еврейки тихонько привлекали меня к себе и почему-то плакали надо мной, роженицы улыбались мне, пьяные клялись в верности и заплетающимся языком чего-то требовали от меня.
Здесь нигде не зажигали огней: при свете луны молились, играли в карты, ели фаршированную рыбу, целовались, бились головой о стену, и только, освещая покойника на столе, горели две бледные свечи.
Я заглядывал в окна домов: кто-то, ударив картами по столу, взглянул на меня сверкнувшими глазами, кто-то плачущий, увидев, что я смотрю, плюнул на меня через окно, кто-то ругавшийся изругал и меня; вор, укравший подсвечник, заметив, что я подсмотрел, погнался за мной. Я попался им на глаза, когда они плакали и вспоминали свои обиды, во время голода их и злобы их.
И пока я дошел до Иерусалимки, меня тысячу раз обидели, заплевали, защелкали лоб до черноты.
Здесь встретил меня старый Бенцион, сгорбленный так, будто нес на своих плечах горе всех евреев, в картузе и кафтане, таких же старых, как и он сам, с мешком пуха на спине. Утром он вышел с этим мешком, весь день с ним простоял и сейчас возвращался домой с этим же мешком пуха; весь в пуху, и пух слезами приклеен к лицу, и даже конфетка, которую он протянул мне, тоже была в пуху. Старый Бенцион взял меня за руку и повел домой. Что шепчет, что высчитывает он, идя дорогой луны, о перьях каких птиц мечтает старый Бенцион?
Шли маляры с голубыми и красными кистями, с кистями всех цветов, в которые они красили этот мир; еле переставляя тяжелые ноги, плелись грузчики с согнутыми спинами, будто все, что они перенесли, еще лежало на их плечах; кровельщики уже не летали как птицы, а еле сползали с голубых лунных крыш, и их раскачивало на ветру; трубочист вытащил из трубы в туче сажи мальчика, обвешанного метелками, и мальчик посмотрел на луну, как будто в первый раз видел ее.
Переругиваясь, катили свои тележки толстые базарные стряпухи; несли остывшие жаровни продавцы каленых каштанов, и старый шарманщик тащил на плече свою шарманку; облезлый попугай, весь день вытаскивавший конверты с судьбою, смотрел на луну и кричал: «Судьба!»
И вдруг из тишины возник стук бондаря.
Открылась наша улица вся в огнях, настежь были распахнуты двери пекарен, и у больших печей, точно черти, прыгали пекари с длинными лопатами и вытаскивали сладкие яичные булки. На горе пылала кузня. Под горой, как и утром, тарахтела крупорушка, будто уезжала куда-то по шоссе, и та же замученная лошадь ходила по кругу. Я пожалел ее, и, очевидно, почувствовав это, лошадь остановилась и посмотрела на меня, как человек.
Те же швеи сидели у окон, но уже не пели, а молчаливо шили при бледном свете луны, и казалось, не венчальные платья, а саваны они шьют.
Вот и дом наш. Парижский портной Юкинбом, в жилетке, с сантиметром через плечо, сидел на столе, подвернув под себя ноги, и метал швы: «Есть игла, нет иглы, я шью с большим почетом!» В мастерской «Новый свет» Ерахмиель, согнувшись, с деревянными гвоздиками в зубах пел песню сапожника: «мм-ммм» и, когда вынимал изо рта гвоздики, говорил: «дирл-бом» и ударял молотком по подошве, а сидевшие вокруг него на полу маленькие Ерахмиельчики, когда отец говорил «дирл-бом», хором отвечали ему: «бим-бом!» На балконе мальчик Котя, сладко улыбаясь, спал на пуховичке. И вдруг он что-то забормотал и заплакал: ему, наверно, приснилась яичница-глазунья, которую он не любил больше всего на свете.
У ворот сидели женщины, держа на руках детей, убаюканных светом месяца.
— Ну, — встретили они меня, — что же ты теперь будешь делать?
В это время из ворот вышел и сел на лавочку Урия — еврей с самой большой в мире бородой, и все, глядя на бороду его, подумали, что он-то знает ответы на все вопросы.
— Вы спрашиваете меня, что этому мальчику делать? — спросил Урия и взялся за бороду, как бы переуступая ей этот вопрос. — Я расскажу вам историю. Большую историю, и в ней несколько маленьких, таких маленьких, что вы и не заметите и подумаете: это одна большая история об одном еврее, который жил и молился Богу, как все евреи, и Бог его тоже слушал, как слушает всех евреев.
Тут Урия провел по бороде сверху донизу, будто свою историю вытягивал из нее.
Рассказ Урии
Америка! Америка! Там едят белую булку круглый год и пекут сахарные бублики на весь свет! И еврей мой уже чувствовал их запах, они уже таяли во рту, когда он высадился в Америке с такими же, как и он, евреями, которые тоже глотали бублики, которых еще не ели.
Все евреи — родственники. И он пошел к рыжему Миклу.
Но Микл уже не Микл, а Мориц, а жена его Яхне — Иохаведа, и сало не сало, и масло не масло.
— Кто вы такой? — спрашивает Мориц.
Ах, рыжий, рыжий! Огонь еще горит на твоей голове, но горит ли огонь в твоем сердце? Ах, Микл, Микл!
И он стал передавать ему приветы — длинные еврейские приветы от тети Соси и от дяди Шаи, от Юкинтона и Юкинзона и даже от господина Шрая, который там, в местечке, плюнуть вместе с ним не хотел.
Но Мориц только носом покривил и выплюнул приветы. Плевать ему на господина Шрая и даже на тетю Сосю и дядю Шаю. Что ему до этих лысых евреек и горбатых евреев, плачущих в своей синагоге где-то там, за морями, за зелеными волнами, каждая из которых — как самый высокий дом.
— Что вам нужно от меня, еврей?
Что ему нужно? Разве он знает, что ему нужно?
Со слезами на глазах он вспомнил улицу, где они играли в орехи: солнечную улицу на Украине, трубы домов, голубые и зеленые ставни, птиц, поющих так только на Украине и нигде больше на земле; и еврея Петахью, продававшего цветные картинки, и шарманщика с зеленым попугаем, и Менаше-стекольщика — всех, кто поразил в детстве и которых человек помнит всю жизнь.
Но не Микл был перед ним, а Мориц, и Мориц рассмеялся ему прямо в лицо.
— Если еврей хочет кушать, я дам ему тележку с гранатами и бананами, и пусть еврей побегает, — сказал Мориц. — Все главноуправляющие с этого начинают. Каждый день приходят сто таких главных управляющих, тысяча главных управляющих, со всей Украины, будто их там специально разводят. — И он протянул ему на прощанье ноготь, не руку еврейскую, не палец, а длинный ноготь, которым под счетом подводят черту.
Белый свет полон горя. Но каждый чувствует только свое горе, каждый тащит свою тачку, каждый слышит звон своих цепей, и нет ему дела до чужих цепей.
И он потащил свою тачку, засвистел и закричал, расхваливая красные гранаты и желтые бананы, и побежал через мосты и улицы, вверх и вниз. И это уже были не красные гранаты и желтые бананы, а золотые бананы и бриллиантовые гранаты.
Автомобили кричали вокруг него, как люди; он оглядывался, а поезда неслись над ним, с красным глазом во лбу, и хотели по голове его проехать, и он падал на землю, чтобы они не проехали, а они ревели оттого, что не переехали его. А рыжие американские городовые стояли, как столбы.
И так от белого рассвета до черной ночи, в мороз и пекло, с горы и в гору. И он уже не знал: то ли автомобили бегут вокруг него, то ли он бежит вокруг автомобилей, и все он кричал.
И до тех пор кричал, пока однажды не упал и уже не поднялся, и тысячи людей — англичане, немцы, негры, китайцы, евреи — каждый на своем языке подняли крик, что он мешает движению. И городовой сдвинулся с места и залаял, как собака. Еврея положили на дроги и увезли, а мальчики растащили его бананы и гранаты и еще засвистели ему вслед.
Когда он вышел из больницы, где сбрили его черные усики, он уже не возвратился к хозяину, а поступил в швейную мастерскую.
Там сказали ему, что он будет вшивать только карманы, а такой же точно еврей, как и он, пришивал рукава, а самый здоровый пришивал крючки, а хозяин ходил вокруг них, как извозчик вокруг своих лошадей, и покрикивал: «Эй, карман-дырка! Эй, крючок-сумасшедший!» И они сами уже забыли, как их звали.
Он вшивал карманы и думал о счастье и богатстве людей, которым эти карманы вшивал.
Чуть свет — он уже садился за шитье: день и ночь, ночь и день. На дворе льет дождь. На дворе льет дождь и сыплет снег. А машина шьет и шьет. Не успевал он вшить один карман, уже ждал второй, скакал третий, и он уже не успевал себе даже вопроса задать и ответить на него, и все шил и шил. «Саван я себе сошью», — подумал он однажды и сел на пароход.
И вот он едет и проезжает Париж.
Но может ли еврей, я вас спрашиваю, проехать Париж и не увидеть Ротшильда?
(Урия смотрит на нас и ждет, чтобы мы сказали: «Конечно не может».)
Не то чтоб он думал: Ротшильд не уснет, не увидев его. И шпалерами выстроятся лакеи в золотых кафтанах, заиграют в рожки и будут кричать: «Реб еврей идет, реб еврею почет! Еле дождались!» И выйдет Ротшильд в бархатном жилете, с золотыми цепями на пузе, с золотыми кольцами на пальцах и золотыми зубами во рту, возьмет его под руку и пойдет на веранду пить с ним чай. Не нужно ему чая Ротшильда, я вам говорю, не нужно! Чай он и без Ротшильда имеет. Он его только хотел спросить, спросить и смотреть в глаза, когда тот будет отвечать: «Почему мы — два еврея, равные перед Богом, но у меня в кармане дырка, а у вас на обед жареные птички?» И он спросил — и через два часа Ротшильд ему ответил.
«Я подсчитал, — ответил Ротшильд, — сколько у меня денег и сколько евреев на всем свете, и поделил и посылаю вам вашу долю — один грош, и езжайте на здоровье!...»
Не мать-отец встретили еврея на пороге, городовой стоял на пороге с красными усами, с желтыми шнурами и со свистком. Тот же городовой, с теми же усами, с теми же шнурами и с тем же свистком. Уезжал еврей в Америку -он свистел ему вслед, приехал еврей — он свистит ему в лицо, будто он и не уходил и все время стоял на пороге и свистел.
Не мать его целует и ласкает, городовой его держит в объятиях и стучит ему в грудь, и свистит ему в уши, требует на призыв.
— Я в Америке был, ваше благородие!
— Знаем ваши жидовские штуки! — В Америке быть — это у него называется жидовские штуки.
Но что с ним говорить? Он разве знает, где Америка, ему разве нужно знать, где Америка? Он говорит, что надо было нанять подводу и приехать вовремя.
Он забирает последнюю подушку и еще свистит, будто это у него подушку забрали. Это бабушка сама своими руками отобрала перья, пушинку к пушинке, чтобы детям сладко было спать и они бы думали во сне, что и жизнь такая сладкая. Ой, бабушка, не знала ты, что городовой будет на ней спать! На этой подушке мать моя видела первые свои сны. Было время, подушка эта была и мне кроваткой, и вот уже мои дети лежат на ней и улыбаются мне. Еврейская подушка! К которой столько раз перья кровью прикипали; зашитая, заштопанная. Если бы все слезы собрать — не найти на всем свете такого сосуда! Если бы все вздохи взвесить — не найти в мире таких весов. Может, только у Бога такие весы, но и они, видно, заржавели...
Доктора, как сычи, идут на него с трубками. «Годен», — шепчут и даже не смотрят на него.
Холодными трубками окружили его горячее тело и выслушивают, но не сердце выслушивают, а сколько денег у него, выслушивают: и если много, тогда и шишки найдут, хотя их и нет, найдут и такие шишки, что ни сидеть, ни стоять нельзя, ни лежать.
А за спиной их сидит писец с кривой рожей. Будто он все писал и смотрел, красиво ли написано, и ей надоело вертеться, и она раз и навсегда полезла набок, чтобы удобно было писать и смотреть. Только еврей вынул желтую бумажку, а тот уже шепчет: «Мало». Но когда он вынул зеленую бумажку, тот даже головы не поднял, одними ушами услышал и увидел, что зеленая, и стал улыбаться.
Даже немой, что двери раскрывал, и тот застучал зубами и замычал, будто его душили, требуя свое...
Поступил он на мельницу к дырявым мешкам; накладывает заплату на заплату, и хозяин получает целый мешок. А что у него остается? У него остается дырка от мешка.
Спрашивается: «Что же делать еврею?»
— Торговать! Я уже слышу, как городовой Бульба свистит и хрипит: «Ага! Торговать? Еврейская привычка». Как будто он знает еврейские привычки...
Сказав это, Урия задумался, а затем снова взялся за бороду и воскликнул:
— Пиво! Пиво! Еврей мой опьянел, пробуя, и охрип, выбирая. Он нагрузил сани, и пивовар проклял его и вдогонку еще крикнул, чтобы он умер под забором, так он ему надоел.
Пиво — светлое, яснее дня, пиво — бархатное, чернее ночи, пиво — шипучее, к которому страшно подойти.
— Вье! — закричал мужик Иван в высокой мохнатой шапке, взявшийся развозить пиво из местечка в местечко, и выехал в снежную степь.
— Вье! — закричал и еврей, и снега засверкали вокруг него, но ему казалось, что это не снега сверкают, а сердце его сверкает.
Было это в месяце феврале, который на Украине называется лютень. Едет еврей и думает. О чем думает еврей? Он думает о Боге, чтобы Он его услышал и помог. Но если каждый еврей думает о Боге, может ли Бог думать о каждом еврее, когда у него столько евреев на всей земле? Железную голову надо иметь! А в эту минуту евреи, наверное, так кричали, так плакали, столько горя изливали перед Богом, что Бог заткнул уши ватой.
Мороз увидел, что Бог не слышит молитв, напал на еврея и на его пиво. И слышит еврей: в санях что-то треснуло, от мороза лопнула бутылка. Он быстро выхватывает ее и дает Ивану погреться. Что делает мужик Иван? Он разом выпивает всю бутылку,говорит спасибо и едет веселей.
— Вье, вье! Скаженные!
Он тоже хочет закричать: «Вье! Вье! Скаженные. Но слезы его душат, и он не может кричать. Всю дорогу трещали бутылки, они лопались, как бомбы, и совсем тихо, будто кто-то их царапал, вкось и пополам и то отлетало горлышко, то вылетало донышко.
— Эх, ты, — говорит мужик — чего же ты соломой не укутав?
— А хиба ж я знаю, — отвечает еврей.
И откуда ему знать, откуда еврею, который никогда в жизни не думал, что такое пиво, и знал только, что оно горькое, откуда, я говорю, ему знать, что бутылки надо кутать, как ребенка!
И он все плакал, а Иван все пил и уже не мог утешать.
Когда они въехали в местечко, Иван уже не знал, где он и к чему на нем шуба и валенки в такую жару, и чего это он, дурень нацепил мохнатую шапку. Досадуя на себя и плюясь, скинул он шубу и шапку и танцевал в санях, а лошади, одним глазом видевшие все это, бежали от него, как от сумасшедшего. Сани неслись через местечко, и за ними бежали мальчишки и бросали снежки, и все смеялись, глядя на сани с танцующим Иваном и непонятным евреем, который держал в руках последнюю бутылку пива, обогревая ее дыханием и плача над нею, и который тоже всем казался ужасно пьяным.
Еврей горем напивается, слезами отрезвляется.
Решил еврей торговать чулками. Вы спрашиваете: почему чулками? Почему не бубликами? Потому что не бубликами, а чулками, — отвечаю я вам.
Самые красивые чулки в Киеве. И он поехал в Киев за красивыми чулками.
Но только он сошел с поезда, уже жандарм в красной фуражке стоял перед ним, будто он только его и ждал.
Оказывается, этот еврей похож на какого-то другого еврея без права жительства, из-за которого жандарм уже неделю не может уснуть и так похудел и побледнел, что и жандармиха, глядя на него, похудела и побледнела.; и когда он его увидел, раздался на вокзале такой свист, что все вдруг стали целоваться, думая, что это поезд уходит.
Жандарм свистнул, взяв еврея за воротник, свистал всю дорогу до участка, свистал там, пока кричали на него за то, что нет у него права жительства, со свистом посадил его в тюремный вагон и свистнул, когда он показал свой нос через решетку, чтобы взглянуть на белый свет.
Он поехал во второй раз и уже пробыл в Киеве два дня и присмотрелся к чулкам, узнав, что есть чулки фильдекосовые и чулки шелковые, зеленые и фиолетовые, но только он это узнал — его снова поймали, и снова сидит он в тюремном вагоне за решеткой и смотрит на поля, на станции, на людей.
И он поехал в третий раз; полиция так к нему привыкла, что уже жить без него не могла: все спрашивала, где он, и днем искала его с шашками, а ночью — с фонарями, а писари радовались и, щелкая его по носу чернильными пальцами, говорили:
— С приездом!
А что делает еврейский нос? Из него течет кровь...
Киев — большой город, и много в нем городовых. На какую бы улицу он ни пришел, маленький еврей, который хочет купить чулки, городовые со свистом накидывались на него. Держась за сердце, он бежал и слушал, как позади гудит и трясется мостовая. По ночам ему уже снились красные усы; они неслись по воздуху, одни, без лица, и вокруг его горла еврейского обвивались.
Скажите мне: видели ли вы когда-нибудь бродячую бездомную собаку? Только появится ее несчастная морда, уже летят в нее камни, поднимается свист и крики, и каждый целится ударить ее по глазам.
Травить и душить! В клетку железную ее и на шкуродерню скорее! И все удивляются, как это до сих пор ее не задушили, на шкуродерню не повезли и она дышит? Она же так без конца будет дышать.
И вот он выезжает, гицель, рыжий и красномордый, в кожаном переднике, пахнущем кровью, с длинными намыленными петлями в руках. Едет и петлями в воздухе делает круги, заранее всем показывая, как он будет душить бездомную собаку, и разбрасывает красное мясо. И она уже бежит, как на праздник, раздув ноздри, ничего не слыша и не видя, сердце ее радуется — наконец-то ей бросили кусок красного мяса. И вот тут-то со свистом настигает ее петля и, закружившись над головой, ложится прямо на горло: собака еще с куском мяса кружится в воздухе. И так он несет ее в петле, воющую, вертящуюся колесом, и сам ее еще вертит и крутит, затягивая петлю все туже и туже. И все ему мало, все ему кажется, что она будет дышать, что она не захочет умереть. Захлопнув решеткой, тычет ей еще в зубы кнут и дразнит: гав! гав!
И несется сумасшедшая коляска, полная затравленных глаз, — страшная собачья тюрьма, и только рев проносится по улице, да скрежет зубов о решетки, да клоки шерсти подхватывает ветер.
Куда несешься ты, коляска?...
Урия замолк и, прикрыв глаза, долго сидел так, будто ждал ответа. Потом открыл глаза и, убедившись, что мы еще стоим перед ним, продолжал:
— Но пока еврея в Киеве ловили и высылали и он приезжал обратно, и городовые снова ловили его, остался он без денег.
Кредиторы — алчные собаки — прибежали и наполнили дом криками, угрозами и слюной, бешеной слюной ростовщиков и процентщиков, которые за рубль хотят рубль и с кишками этот рубль вырывают.
Он поил их чаем и угощал вареньем и рассказывал сказки, чтобы им весело было. Они выпили чай, поели варенья, выслушали сказки и развеселились от граммофонной игры. Они даже сказали, что варенье сладкое, и чай крепкий, и сказки смешные, но они хотели денег и смотрели ему в глаза: сколько он даст.
И они взяли все, что могли унести, что увидели их глаза, что понравилось их душе, — даже подсвечники, которые стояли у мертвой головы его матери и озаряли рождение его детей.
— Что же дальше? — спрашивает нас Урия. Но мы все молчим.
— А дальше — скобяной богач дает ему гвоздей... Но пока он их продавал по штуке, цены на гвозди очень поднялись; в то время была война, и железо с каждым днем дорожало; когда он пришел снова, скобяной богач ему на те же деньги дал уже не сто и не семьдесят пять, а только пятьдесят гвоздей, и еще смеялся над тем, как это хитро получилось, а приказчики хохотали до слез.
Со слезами на глазах он взял гвозди и, продавая по штуке, старался быстрее продать, но женщины, торгуясь и проклиная его, осматривали каждый гвоздь, — все им казалось, что гвозди искривлены и заржавлены. Они выдумывали, что он их выдернул из стены, хотя сам Бог видел — они сверкали как серебро.
Война не хотела знать, что еврей продает гвозди и что еврею не нужна война, невыгодна война. Железо все дорожало, и скобяной богач смеялся все громче, а еврей плакал все тише и получал все меньше и меньше гвоздей. Он продавал гвозди до тех пор, пока однажды на все деньги ему не дали только один гвоздь. В этот день скобяной богач так хохотал, что железо во всем магазине звенело. Еврей сам превратился в гвоздь, а богач оброс жиром, и еврей не ждал, пока тот похудеет, он знал, что пока толстый похудеет, худой умрет.
И вот он стал делать душистую бумагу, которую видел в Америке, бумагу царей, — что ни лист, то золотая монета. Но зачем, я вас спрашиваю, в местечке душистая бумага? Где нужна соль, сахар не годится.
Услыхали в местечке о душистой бумаге и сбежались, как на пожар. Вы думаете — покупать? Нюхать! Прикладывают ее к носу, как табак, пробуют на язык, как сахар. Каждый просил одолжить и подарить кусочек, и уже вертелись десять евреев, расспрашивая, как ее делать и сколько стоит ее делать, и какие рецепты, и при каких обстоятельствах. Но хоть бы один кусочек купили! Только один сумасшедший, сбежавший из сумасшедшего дома, куда посадили его за то, что воображал, будто он египетским фараон, купил кусок и показывал всем как доказательство, что он египетский фараон.
Что делает еврей? Вздыхает. Со вздохом ложится спать и от вздоха просыпается.
Вздохнув, еврей купил на гривенник сахара, насыпал красивыми белыми кучками на табурет и стал продавать. Но, несчастье, куда ты идешь? К бедняку!
Когда несчастье идет к бедняку, никто ему дороги не перебежит, закрыты все окна и двери, все мертвы, один бедняк — жив.
А ну, пусть пойдет теперь счастье, пусть пойдет оно пузатое, шумное, веселое, с жирным красным лицом, громким смехом, грубой отрыжкой, когда раскрыты все двери и окна, и все стоят на дороге и фонарями указывают дорогу к своему дому и кричат, что у них красивые дочери, лучше улыбка, слаще угощение, и раскрывают свои карманы, чтобы счастье наполнило их.
Только он стал торговать сахаром, прибегают люди и кричат, что дом его сгорел.
— Приносящий дурную весть — глупец! — сказал он и заплакал над сахаром.
И тут же к его слезам прибавили свои слезы родственники, которые всегда оказываются поблизости, когда нужно поплакать, и дети, рыдавшие от страха. Когда плакали, ничего не видели, а когда перестали плакать, сахар уже растаял, словно в чае. Хорошо тает сахар от еврейских слез!
Но вдруг счастье и его заметило. Один раз счастье остановилось и у его дверей и закричало жирным голосом, что принесло ему наследство.
Люди говорят: приходит счастье, усади его на стул. Но если оно не хочет сидеть? Если за счастьем тут же бежит несчастье и нагоняет его и стучится во все окна в образе родственников?
У богатого много родственников. Только у него зазвенит в кармане, уже слышно во всех местечках. И откуда они только вылезают?! Из каких домов, из каких щелей — в странных чепцах, плюшевых салопах, в каких-то пикейных жилетах с крапинкой, какие уже тридцать лет никто не носит; со своим табаком, который только они любят, со своими привычками, которых никто не любит. И влетают в дом, с корзинами и желтыми коробками. Они боятся приехать без корзин и коробок, чтобы не подумали, что они живут рядом и приехали на один час.
И вот они уже рассказывают вам свои сны: вы умирали в их снах, а они плакали и просили Бога оставить вас жить. Попробуйте доказать, что им это не снилось, что вы не умирали и они не плакали и не просили Бога, и не благодаря их молитвам вы остались жить.
До тех пор они сидели на его шее, до тех пор ее перегрызали и помогали во всех делах, вкладывая свои копейки в свечи, в подтяжки, в табак, в перец, во все сладкое, горькое и соленое, горячее и холодное, черное и белое, чем еврей торгует, до тех пор, я говорю, вертелись они вокруг со своими чепцами, бархатными салопами и пикейными жилетами с крапинками, пока не остался он с одними этими крапинками. Еврейское богатство! С ветром приходит, с дымом уходит.
Господи! Чем он только не торговал? Даже землей он торговал — белой, как мел, и сухой, как камень, иерусалимской землей, которую кладут под голову покойников, чтобы казалось им в могиле, что спят они в земле отцов. Кульки с землей стояли на табурете, и он выкрикивал: «А вот земля! Хорошая земля!» Рядом с ним такой же еврей принимал заказы на могильные камни: «Ай, камни! Ни дождь, ни снег, ни ветер не сдвинет их с места!»
И земля, черная украинская земля, вокруг них побелела от слез их и отвердела, как камень, так что, если б хотели, они могли продавать, как иерусалимскую.
Однажды он даже менялой стал: рубль на копейки, себе — грош. Но только он стал разменивать, как один бедняк, не имевший ничего, кроме шишки под носом, увидел, что можно разменивать, раздобыл себе рубль и тоже стал менять. Когда у одного сверкнет копейка, другому кажется, рубль горит.
И тут же двадцать таких же богачей, все богатство которых состояло в том, что они имели слюну и они ее непрерывно глотали, присоединились к ним. Он меняет, и рядом с ним все меняют. Сколько нищих, столько менял. А чем им еще быть? Генерал-губернаторами? И скоро на ярмарке не осталось ни одного еврея, у которого был бы целый рубль, у всех гроши, и все хотят разменять.
Он делал уксус и сох, будто пил этот уксус, и продавал дрожжи и опухал, пока продавал пачку; разносил по домам синьку и синел, пока упрашивал купить кружок.
И за что бы он ни брался, все уплывало из его рук, что бы ни придумал — перехватывали; что бы съесть ни хотел, вырывали изо рта. Городовые гнались за ним, как за бешеной собакой; ростовщики ему горло перегрызали, и всегда и везде был он кругом виноват.
— Нет! — сказал он. — В этом городе нет мне счастья: только захочется какой-нибудь черепице упасть с крыши, и я оказываюсь тут же внизу, и она летит прямо на меня; к чему я ни притрагиваюсь, все в прах рассыпается, будь это даже железо. Если бы я саванами стал торговать, люди, наверное, перестали бы умирать...
Еврей купил лошадь, уложил на нее подушки, усадил детей и пошел прощаться со своим домиком.
Еврейский домик! Весь ты перекосился и наполовину зарылся в землю, будто время молотом ударило по твоей крыше; окна твои — глаза заплаканные, крыша твоя — решето, чтобы видел еврей небо, где Бог его! Стены мохом поросли. На улице ветер — в доме гаснут свечи; на улице дождь — в доме дождь еще сильнее; на улице уже сухо, уже светит солнце, а в доме все еще дождь.
Он стоял посреди пустого домика, где он родился и дети его родились.
Уже ржала под окном лошадь и дети кричали: «Вье! Вье!» А он все стоял и в последний раз выплакивал в этом доме свое сердце. Если бы собака лизнула это сердце, она бы с ума сошла от горя.
И вдруг — то ли кажется ему, то ли видит он на самом деле: само несчастье, стуча костылями, отплясывает в углу с еврейской торбой на плечах.
— Чего ты пляшешь, чего ты радуешься?
— Как мне не плясать, как мне не радоваться, когда всю жизнь я ходило за тобой пешком, а теперь поеду на лошади...
— Это рассказываю вам я, Урия, которому захотелось поплакать. И мне вы можете поверить. А если не верите, то вот перед вами этот еврей — я, реб Урия, переживший большую историю со всеми маленькими историями, которые вливаются в нее, как маленькие речки вливаются в большую реку...
— По этому поводу я расскажу вам сказку, — сказал появившийся из темноты Иекеле, у которого всегда и по всякому поводу была сказка. И, держа в пальцах понюшку табака так, чтобы ее можно было в любую минуту понюхать, Иекеле начал сказку о Стране Счастья.
— И все там из сахара! — воскликнул Иекеле. — Земля — как белая скатерть, и дома — как сладкие игрушки. Даже свисток у Бульбы, — потому что там, как и во всякой стране, есть свой Бульба, — свисток этот тоже из сахара. И стоит Бульбе сунуть свисток в зубы, сахар тает, и Бульба только пучит глаза, а люди, зная, что вся сила Бульбы в свистке, не боятся его и проходят мимо, даже маленькие мальчики смеются над ним.
Теперь я вас спрашиваю: когда вокруг сахар, море сладкое или горькое? Сладкое, отвечаю я вам, море сладкое, и туманы сладкие, и птицы, пролетая над туманом, тоже становятся сладкими. Вы ловите птицу, а у птицы вместо сердца изюминка.
А по улице бегут лошадки из пряничного теста: только одни посыпаны маком, другие корицей, третьи абрикосовыми косточками. Вы идете по улице, сосете свой палец и вдруг кричите: тпру! Выбираете, какая вам больше нравится, отламываете ногу и кушаете. А у лошадки сейчас же вырастает новая нога. Она на вас даже не посмотрит, стукнет копытом и понесется дальше.
На всех площадях золотые пушки, те пушки стреляют орехами; только раздается выстрел, женщины и дети бегут собирать орехи и кричат: «Стреляйте, стреляйте день и ночь!»
Когда ветер нагонит тучи, все выглядывают из окон и спорят, что это за тучи. И если сыплется сахар, все закрывают окна и говорят: «Какая плохая погода!» А старики идут в синагогу и, стуча в грудь, спрашивают Бога: «За что ты нас наказываешь?» Но если сыплется соль, все с криками радости выбегают на улицу, выкатывают бочки, выносят тазы и кастрюли и говорят: «Как должны быть счастливы жители той страны, где соли больше, чем сахара, и уксуса больше, чем меда».
Когда курица несется, дети стоят вокруг нее и все время поднимают курицу: что она снесла? И если золотое яичко, с плачем бегут к маме: «Опять наша курица снесла золотое яичко». «Надо ее зарезать на кисло-сладкое, хоть и не делают из курицы кисло-сладкое, — отвечает мама, — а из нее сделать, чтобы знала. А то опять снесет золотое яичко». «И петуха надо зарезать, — говорит мама и кричит петуху: — Разбойник! Это ты виноват!» «Посмотрите, пожалуйста, — говорит она соседкам, — как высоко он поднял свою красную шляпу, как ножку выставил и шпорами тренькает. Нет, ты яичко для яичницы принеси!»
На высоких деревьях растут золотые монеты, и лишь коснется их солнечный луч, всю страну заливает солнечным светом, и только поэтому терпят там золотые монеты.
А по всей стране на верблюде разъезжает старик в высокой шапке и показывает бутылочку со слезами: «Это сто лет назад один человек плакал в этой стране...»
Над горой, где кузня Давида, вдруг вспыхнуло пламя и осветило облака. На фоне неба появился Ездра в широкополой соломенной шляпе, катя кому-то в гости высокое колесо. И мне показалось, что это и есть то самое колесо, которое, если толкнуть так, чтобы оно, перепрыгивая через горы и перелетая через моря-океаны, обогнуло бы всю землю, то вернулось бы назад, на эту улицу, запыленное пылью земли, но без единой трещины и со скрипом, будто его только что выкатили из кузни.
— А! Ты уже прибыл заказать нам дышло? — спросил Ездра. — Какие же тебе пароконные дышла? У тебя пароход с двумя трубами?
— Ездра, возьмите меня к себе, — сказал я, — я знаю, где «а» и где «б», и буду вам письма писать.
Ездра молча взял меня за руку, и мы вместе покатили колесо. Могучая тень Ездры, пересекавшая всю улицу, и маленькая моя тень, как тень кошки, двигались в лунном свете за круглой тенью колеса.
Мимо синагоги. В широких окнах ее большие и белые лица евреев, все еще шептавших, все еще спрашивавших о чем-то Бога, как и утром, как вчера, как тысячу лет назад: вот так, с белыми лицами, над книгами, некогда тоже белыми, а теперь почерневшими от слез, сколько надо было плакать, чтобы книги почернели?
Мимо желтого дома приюта с решетками на окнах. Из окон его стриженые мальчики провожали нас такими взглядами, будто просили, чтобы и их увезли отсюда на колесе.
А вот уже и сумасшедший дом с двумя трубами, стоявший как знак того, что здесь конец местечку. Сумасшедшие старички в полосатых подштанниках и сумасшедшие старушки в желтых кофтах, держась за решетку железной ограды, внимательно смотрели, как в лунном свете катится колесо.
А за оградой безумного дома только кладбище, закрытое, как и все кладбища, деревьями, словно смерть, выказывая свою скромность, не хочет напоминать живым, что она их ждет.
На стук колеса по мостовой выглянул одноглазый кладбищенский еврей в засаленном халате, пахнущем смертью. Но, увидев великана и маленького мальчика, шагавших вслед за колесом, в испуге закрыл единственный глаз. Вот и мраморный домик, построенный господином Дыхесом для себя и жены своей и детей, которые еще не родились, чтобы и после смерти, когда Дыхес уже не будет икать, быть все-таки на самом почетном месте, вызывая зависть всех, и особенно господина Козляка.
Здесь, в стороне от дороги, в широколиственной сени кладбищенских каштанов, стояла высокая бричка на трех колесах; четвертое колесо, как подбитая птица, валялось в пыли. В зеленом лунном свете паслись распряженные кони, которые казались тоже зелеными. Человек в белой свитке и лакированном картузе, с рыжими усами поднялся нам навстречу.
Это был Самсон — сын бабушки Менихи. Я узнал его.
Когда колесо было закреплено и кони запряжены, Самсон сел, свистнул, и бричка покатила по дороге среди высоких тополей, стоявших, будто часовые в серебряных шапках, и в эту ночь казавшейся мне дорогой в Страну Счастья. Мы пошли домой, но уже не прежним путем, а кругом: через уснувшее местечко и странно-пустынную ярмарочную площадь.
На горе пылала и гремела кузня Давида. «Оттозой! Оттозой! Вот так! Вот так!» — доносился его крик, а затем — удары сыновей-молотобойцев.
В красном свете метались полуголые ковали.
В эту ночь мне снилось: под луной лечу я на огненном колесе над лесами, горами и синими морями в Страну Счастья, залитую золотым светом. И за мной, в светлое небо, поднялись и полетели верхом на длинных лопатах пекари в высоких белых колпаках; трубочист на метле, а за ним служка Бен-Зхарья, распахнувший полы лапсердака, как крылья птицы, чихавший все время на луну. Конь из крупорушки, вознесшись всеми четырьмя копытами, как будто для прыжка, летел, храпя и раздувая ноздри, а позади всех на белом облачке сладко спал приличный мальчик Котя. «Куда ты, Котя? — говорю я. — Тебе ведь и там хорошо», но Котя не отвечает, Котя хочет спящим влететь в Страну Счастья, и только оттопыренные уши его прислушиваются, не стреляют ли пушки орехами.
А далеко внизу, в городах и селах, лают собаки и поют петухи...
Десять лилипутов на одной кровати
Рассказы
Однажды в летний вечер
Во дворе кричат, вопят, играют в футбол, в «войну». И шум раздражает его, он выбегает из комнаты, чтобы накричать на них, пресечь. Он с яростью хватает первого же мальчонку, возбужденного, красного, лохматого, обсыпанного крупными веснушками.
И вдруг он узнает самого себя.
Это он, это он, тот, который был когда-то там, давно, далеко, бьется в тяжелых, с желтыми ногтями и синими венозными узлами, старых черепашьих руках.
Сколько же должно было пройти лет? И мысль его охватывает всю жизнь, и он тихо выпускает мальчика.
Веснушчатый, ожидавший трепки и ошарашенный внезапной переменой, странно смотрит на него.
— Иди играй, кричи, — говорит он. — Дай жизни!..
Праздничный обед
За столом собралась вся семья — старшая дочь с мужем, сыновья с женами, внуки, гости.
Во главе стола маленькая женщина с лицом калорийной булочки и взбитыми радиоактивными волосами.
Некогда она училась на юридическом факультете, потом вышла замуж за ответственного работника, бросила юриспруденцию, народила детей, воспитала их в высоком духе, переженила и теперь активно влияла на новые семейные очаги.
— Женечка, — обращается она к одной из невесток, — попробуй, Женечка, феноменальный плов, который приготовила наша Аллочка, я тебя уверяю, проглотишь вилку вместе с пловом, и я не удивлюсь. Наша Аллочка могла бы сделать феерическую карьеру. Когда она была совсем крошкой, ее погладил по голове сам Голденвейзер. Но Аллочка благородно подарила свою жизнь Дим Димычу, на алтарь науки. Расскажите нам, что вы там изобрели, Дим Димыч, в своем «почтовом ящике»?
Дим Димыч, зять, худущий, желчный, как похоронная свеча, возвышающийся над столом, отводит глаза и молчит.
— Он у нас очень скромный, Дим Димыч, очень, очень. И это хорошо, я вам говорю, хорошо. А что, лучше иметь зятя нахала, говоруна? Ха! Ради Бога. Избавьте. Я ретируюсь. Витюшенька, — говорит она младшему сыну, толстому мужчине с усиками, — Витюшенька, скажи что-нибудь остроумное. Наш Витюшенька очень, очень остроумный, а наш папа, Лев Семенович, был еще остроумнее. Наш папа, Лев Семенович, был очень красивый, очень, еще красивее Витюшеньки. Витюшенька красивый, но Лев Семенович был еще красивее, он был ниже ростом, но толще, толще, и очень красивый и остроумный. И вы знаете, на кого он был похож? На Олега Стриженова. Как это ни парадоксально! Магдалина, — обращается она к другой невестке, — твой муж Витюшенька — гроссмейстер, не какая-нибудь пешка. Ты должна за ним тянуться, ты должна регулярно читать «Шахматный листок» и разбирать композиции и быть полноценной помощницей своего мужа. А вот когда наш Юрочка, — она обращает лицо к старшему сыну, — был еще вундеркиндом, он был неземной, он говорил: «Мама, а трава голубая?» Никто, никто не видел этого, все думали, что трава зеленая, а он увидел ее голубой и оранжевой — помнишь, мой мальчик, мой ангелочек, как ты увидел траву оранжевой?
Ангелочек, багровый от коньяка, в одышке сопит над тарелкой, поедая крабы в майонезе.
— Перестань, мама, я тебя умоляю.
— Что значит умоляю? Я разве говорю неправду? Я ведь говорю святую уникальную правду. Пусть все знают, как у тебя устроены хрусталики глаз. Это не военная тайна.
Аллочка, доченька, расскажи гостям, как вы с Дим Димычем провели праздник Первое мая в своем кооперативном доме композиторов. Какой прекрасный дом. Единственный! Он весь звучит музыкой, каждая квартира — это храм музыки. Кто еще живет в вашем доме, кроме вас? Шостакович? Нет, не живет Шостакович? А Святослав Рихтер живет? И Матвей Блантер живет? В одном подъезде? И уже, наверное, живет доцентка Леман-Крандиевская!
Леман-Крандиевская! Моя подруга, моя лучшая, самая старая, самая милая, роскошная подруга. Она заболела и просила купить и принести ей в больницу двести грамм сыра датского, триста грамм колбасы любительской и два сырка сладких. Я пошла в магазин и купила, как она просила, двести грамм сыра датского, триста грамм колбасы любительской, два сырка сладких и еще от себя банку варенья, по своей инициативе. И она очень, очень обрадовалась мне, хорошо приняла и тут же заплатила за двести грамм сыра датского, триста грамм колбасы любительской, два сырка сладких, а за варенье нет. Мелочная! Сенечка, возьми элегантно пирожное эклер, — говорит она мальчику с жадными глазами. — Наш Сенечка тоже из ряда вон выдающийся. Он учится в школе с английским языком обучения. Сенечка, деточка, скажи по-английски: «Я люблю родину».
Ах, дети мои, вы даже не понимаете, какое счастье выпало вам жить в нашу эпоху.
Развод по-итальянски
Маленький городок Жмеринка на Украине. Раннее утро. Только что открылась касса кинотеатра.
Аккуратный круглолицый мальчик в беретике тянется на цыпочках к окошку и подает медяки.
— Тетя, дайте мне билет на «Развод по-итальянски».
— Как будто ты не знаешь, что дети не допускаются?
— Я не дети, — говорит мальчик.
— А кто ты, старик?
— Да, я уже хожу в четвертый класс.
— Вот когда ты пойдешь в одиннадцатый, тогда и являйся.
— Но тогда уже не будет этой картины, — возражает мальчик.
— Будет другая. На твою жизнь хватит. — И окошко с треском захлопывается.
Мальчик с минуту стоит перед закрытым окном, потом, поднявшись на цыпочки, осторожно стучит.
— Тетя, дайте мне билет на «Развод по-итальянски».
— Я же только что тебе сказала, что нельзя! Или это был другой мальчик?
— Да.
— Что да?
— Другой.
— Ну, так я тебе скажу то же самое. Детям на «Развод» нельзя.
Мальчик вздыхает, долго глядит на закрытую кассу. Потом, поднявшись на цыпочки, снова стучит.
— Тетя, дайте мне билет на «Развод по-итальянски».
— Слушай, долго ты меня будешь мучить?
— Да.
— Пока я тебе не дам билета?
— Да.
— Ну, так дай уж свою мелочь, возьми билет и отцепись.
Десятьлилипутов на одной кровати
В городе Киеве, на Куреневке, в своем собственном домике под белой цинковой крышей жил мещанин по фамилии Барыга. Косолицый, длиннорукий, в старинном картузе, из тех, что кричали «Слава, слава!» петлюровским куреням, а потом встречали хоругвями генерала Драгомирова, а потом сидели в подвале чека на Короленко, в нэп он крупно торговал рогатым скотом, а после, в годы реконструкции и пятилеток, разводил в сарае кроликов, мясо пускал на фарш и пек пироги, которые жена продавала на Сенном базаре, а сушеные, выделанные шкурки Барыга продавал шапочных дел мастерам, гнездившимся в подъездах под лестницами больших домов на Крещатике. А кроме того, Барыга сдавал свою большую комнату по договору артистам цирка — клоунам, канатоходцам, укротителям, лилипутам.
Как раз накануне войны у него и поселилась труппа лилипутов, выступавшая в номере гастролирующего иллюзиониста, а кроме того, еще приученная к бальным танцам и чтению политических куплетов.
Для всей этой труппы гамузом хозяин Барыга отрядил свою никелированную кровать. Десять лилипутов спали поперек кровати, как куклы, положив свои крупные, многотрудные головы на маленькие атласные подушечки, которые возили с собой в реквизите. И ночью в комнате стоял храп, как в хорошей казарме.
На этот раз Барыга по договору с администрацией держал пансион и кроме ночлега кормил артистов арены, для чего жена ежедневно лепила из кроличьего фарша и жарила десять котлеток, пять на обед и пять на ужин, по одной котлетке на двух лилипутов.
Все они были родом русские, из среднерусской провинции — Пензы, Тамбова, Орла, но имена у них зачем-то для афишного шика, публичного интереса или по профессиональной цирковой традиции, а может, еще для чего-то были иностранными: Серж, Жан, Макс, Микки, Базиль, и только одного почему-то звали Ваня. Ваня даже среди лилипутов, этой ветви человечества, был карлик. Похоже, что он возник в колбе. И товарищи величали его Иван Иванович.
Крохотный, изнеженный Ваня с желтым, старческим личиком, на которое микроскопическая его жизнь наложила множество морщин, мелких тривиальных забот и обид, но в душе его жила и баюкалась несоизмеримая гордыня, как бы бравшая реванш за все обиды, им пережитые и перечувствованные.
Кроме этой гастрольной труппы лилипутов, самого хозяина, его жены-поварихи и свояченицы, работавшей уборщицей на кладбище в близком отсюда Бабьем Яру, в комнате еще снимала угол студентка консерватории Олечка. И вот в будущую музыкантшу влюбился по уши лилипут Ваня.
Он был очень сентиментальным, задушевным, влюбчивым и писал Олечке по ночам стихи крупными, круглыми буквами, а перед тем как она уходила в консерваторию, просил ее присесть, а он стоял возле ее стула и писклявым, энергичным голосом декламировал ей свои романсы. И это было очень трогательно, и Олечка смеялась и плакала.
Барыга не церемонился с государственными артистами, и, уходя рано утром на привоз, он закрывал еще спящих лилипутов на висячий замок, чтобы не обокрали его, и если кто из маленьких работников арены просыпался и ему надо было во двор, он долго ломился в закрытую дверь, бегал по дому, пока, наконец, к удивлению уток и кроликов, не вылезал в окошко.
Приходя домой, Барыга сурово, насмешливо глядя на старческие восковые личики, выслушивал их кроткие, писклявые жалобы, что-то обычно в это время жевал, а когда ему надоедало, он говорил:
— Ну, цыц!
Барыга вытаскивал из теплой печи накрытую сковородку с кроличьими котлетками и давал по одной котлетке на пару артистов, и они уже сами, аккуратно и справедливо, делили котлетку на равные части, и садились за стол, и клевали, как птицы.
Барыга следил за тем, чтобы они аккуратно ели, не проливали суп или чай на скатерть, не болтали, как дети, под столом ногами, не катали из хлеба катышек, кидая их друг в друга. Вообще, чтобы все было чинно, благородно, как за семейным столом. И если у лилипутов была репетиция, то он, как отец-командир, следил и за репетицией, чтобы все было правильно, благородно и завлекательно.
Киев был прекрасен в эти тихие, прозрачные дни сентября 1941 года. Золото осенних каштанов, шуршание редких машин по перегороженному баррикадами Крещатику, тротуары, полные гуляющей публики, зрелищная толпа у первого кинотеатра, бывшего Шанцера, ничто не говорило о войне, о том, что немцы за Демиевкой, в Голосеевском лесу, и просматривают Киев в полевой бинокль.
Как раз в эти дни на Николаевской улице в помещении театра Франко открывалось новое зрелище, в программе которого участвовали не успевшие эвакуироваться артисты оперы, драмы, эстрады и цирка. И среди номеров была и оратория с музыкой, исполненная труппой цирковых лилипутов. Они были разнообразные и витиеватые артисты, работали с клоунами, кудесниками, к удивлению и аханью цирка, волшебно появлялись вместе с голубями из чемоданов, саквояжей и потайных шкафов. Они подзуживали клоуна в широких клетчатых штанах и грандиозных башмаках Паташона, отвечая на его дурацкие вопросы, принимали участие даже в гимнастических номерах и иногда даже входили в клетку льва, царя зверей. Но на этот раз тут не было ни диких зверей, ни аттракционов, а они просто вышли на сцену строем и под бодрую музыку маршировали и декламировали пафосный текст: «Киев был и будет советским!» И это было смешно и трогательно, и публика, состоящая из военных, ополченцев, бойцов истребительного батальона, жителей Киева, охотно аплодировала им.
После спектакля труппу лилипутов, разместившуюся в одном «виллисе», увезли на Куреневку.
Этим вечером Ваня принес откуда-то бутылку шампанского. Бутылка была больше него, и, так как она не влезала в его карман, он нес ее под мышкой, как ружье, которое вот-вот выстрелит.
В этот вечер Ваня объяснился Оленьке.
— У меня родители большие. Так что с этим все в порядке, — и он подмигивал. Сиплым, быстрым, детским дискантом он говорил, захлебываясь: — Мы с тобой, Оленька, сделаем номер — во! — И тыкал вверх большим пальцем, тоненьким, как соломка. — Ты внизу, я вверху. Ты меня будешь выжимать одной рукой, а я буду делать кульбиты. Мировой номер. Заработаем, во! Ты не беспокойся, у меня с этим все в порядке. — И он снова подмигивал.
Легли спать все поздно. Темное сентябрьское небо освещалось перекрещивающимися лучами прожекторов, и где-то там, в далекой вышине, расцветали трассирующие пули. И всю ночь Иван Иванович кашлял, как ребенок.
Так развивались события в этом домике на Куреневке, жизнь шла по своим заранее предначертанным или непредначертанным колеям, ничего не желая знать об этом истребительном романе в мещанском домике на Куреневке.
Труппа должна была выступить и на следующий день со своей ораторией и маршем, но за ними почему-то не приехал «виллис», и они, никуда не отлучаясь, протомились весь день в домике, выходя погулять только во двор или возле дома на улице, так как были, как все, на казарменном положении и в любое время могло поступить на их счет распоряжение. Не приехали за ними и на следующий день, и они забеспокоились. Но телефона в доме и на ближайшей к Куреневке улице не было, и они решили уже ждать до утра, а утром послать делегата в Киев, в театр на Николаевскую, узнать, в чем дело. К тому же и хозяин Барыга забеспокоился. Как видно, государственная организация забыла его постояльцев, а он продолжает им скармливать котлеты, кипятить чай, а будут за это платить или нет, еще не известно. И теперь он на них покрикивал, как на расшалившихся детей.
В ночь на 19 сентября лилипуты легли поздно, так как все ждали сообщения или распоряжения, прислушиваясь к отдаленному шуму приближающихся машин, к цокоту копыт, к грохоту проезжающей мимо военной фурманки. Каждый раз выскакивая на улицу. Но все было напрасно. Редкая машина с потушенными фарами, шелестя шинами, уносилась куда-то во тьму и пропадала в глубине затемненной улицы, и фурманка с ездовым, курящим во тьме цигарку, тоже проезжала мимо, и никто не обращал внимания на маленьких, странных человечков у ворот.
В эту ночь лилипуты спали, как всегда, крепко, тихо и мирно, как вдруг их разбудил крик соседки:
— Германцы!
Да, по утренней Куреневке двигался немецкий обоз с ездовыми в зеленых шинелях и каких-то рогатых пилотках.
Лилипуты осторожно выглядывали в окна, а их хозяин Барыга стоял у ворот и улыбался, и если немец взглядывал на него, то низко и молча кланялся.
Через несколько дней в немецких афишках и газетах было объявлено, чтобы все евреи Киева явились на сборный пункт, и Барыга тут же почему-то посчитал своих постояльцев причастными к этой афишке, хотя они на вид и не евреи, да все-таки и не совсем православные. Что-то все-таки в них подозрительное, и дабы не вышло прений за неповиновение властям, а он всегда привык повиноваться властям, на сей счет у него был огромный, сокрушающий опыт. Он исполнял приказы царские, гетманские, петлюровские, деникинские, батько Зеленого, он имел дело с ЧК, с ГПУ и с НКВД, и он не хотел сорваться в конце жизни. И поэтому в это солнечное сентябрьское утро, когда киевские каштаны стояли золотыми и солнце слепяще сияло на золотых куполах лавры, Барыга пораньше разбудил своих крохотных постояльцев, велел им обмундироваться потеплее. Он даже выдал им по котлетке, хотя Управление Госцирков эвакуировалось, и он не мог рассчитывать на оплату этой котлетки.
— А вещи брать?
— Все берите. Ничего мне вашего не надо, — грустно сказал Барыга.
Они оделись, обулись, нахлобучили свои большие, пушистые, модные кепи, повисшие на ушах. Взяли в руки свои чемоданчики, баулы, похожие на гномов, собравшихся в эвакуацию.
— Ну, пошли, команда, — сказал Барыга, и к 9 часам утра он вывел их из ворот своего дома на Куреневке. И они пошли за ним, как за отцом-командиром, приноравливаясь к его шагу, щурясь и греясь на солнце.
Они шли гуськом друг за дружкой, все в нахлобученных на лоб, на уши больших мохнатых кепках и длинных серых макинтошах по моде того времени, с большими отворотами и приподнятыми плечами, и подушками. И спесь, и фигуристость, внешняя отдача, все настоящее, но все только очень миниатюрное, и в этом гомеопатическом виде особенно зримо и смешное и грустное. И кроткие старческие лица их выражали веру, что этот огромный, как медведь-гризли, человек выведет их из этого ужаса, из этой неопределенности, приведет их к Управлению Госцирками, с которым у него договор, и сегодня вечером они при свете юпитеров, под туш оркестра, играющего парад-алле, выйдут вслед за униформистами, нарумяненные, напудренные, и вдохнут всей артистической грудью веселящий газ цирковой арены.
Барыга шел впереди, и они за ним цепочкой, как цыплята за квочкой. И все, кто был в это время на улице или смотрел из окошек, удивлялись и сокрушались и никак не понимали, куда Барыга ведет в этот роковой день свою удивительную команду.
Домик был невдалеке, за две улицы до Бабьего Яра, где в этот день затевалось что-то грандиозное, такое, что должно было затмить солнце, и как раз к этому времени в пыли к Бабьему Яру приближались первые колонны киевских жителей.
Барыга привел свою команду к полицейскому участку и сказал полицейскому в пиджаке с повязкой на руке:
— Вот! Принимайте.
— Кто такие? — спросил полицай, усмехаясь.
— Артисты той власти, — серьезно сказал Барыга.
Уходя и не оглядываясь, Барыга про себя думал: «Может, они и для чего-нибудь пригодятся новой власти, для развлечения. А может, и пойдут на мыло, так много ли мыла», — он даже усмехнулся. Но одно Барыга знал твердо: теперь он чист перед новой властью, он сделал то, что сделал бы не только при немецкой, но при любой другой власти, какая бы ни пришла и ни установилась в городе Киеве.
И кто знает — где и как затерялись десять лилипутов, десять маленьких, кротких, тщедушных жизней, десять младенцев с лицами стариков и всеми страстями человеческими. Только больше никто и никогда их не видел, и ни Серж, и ни Жан, и ни Микки, и ни Ваня никогда уже не выходили на арену, не маршировали певческим строем и не появлялись вместе с голубями из чемоданов иллюзиониста.
Это был день 23 сентября, день Бабьего Яра.
Таганка
Он встретил ее у кино осенним вечером. Коротконогая девчурка в силоновой кофточке и обтянутой юбчонке из клетчатого пледа с бахромой, в белом колпаке, как самоварная труба, на голове, с удлиненным тушью разрезом глаз.
Билетов, как обычно, не было. Шел дождь.
Он спросил ее:
— Лишнего нет?
В ответ она слабо улыбнулась:
— А у вас?
Они познакомились.
Она сказала, что ее зовут Стелла, а он на всякий случай назвал чужое имя — Дима.
Они немного поговорили о Жане Марэ, и она сказала, что ей больше нравится Марк Бернес.
— Закатимся куда? — спросил он.
И они пошли в вечернее кафе «Марс» от фабрики-кухни № 3. Выпили оба по триста граммов, съели по солянке и по лангету, который в меню назывался еще и антрекот. Он запил чашечкой черного кофе, а она попросила фирменный пломбир «Марс», похожий на башенку, начиненную клубничным конфитюром и печеньем «Турецкая смесь».
— Ты на самом деле Стелла или придумала себе красивое имя?
— Военная тайна, — сказала она, и ему показалось, что она над ним смеется.
Была полночь. Сеял мелкий теплый дождик, и на всем пути падали листья.
Он провожал ее на Таганку, в тихий, заброшенный переулок, в большой двор с множеством темных раскрытых подъездов.
В один из этих подъездов они вошли и стали прощаться.
Он поцеловал ее, она с жаром ответила.
— Можно, я зайду к тебе на минутку? — попросил он.
— Что ты — так поздно! — Ему почудилась неуверенность.
— На минутку, ведь только на одну минутку, — зашептал он.
Она открыла ключиком дверь и вдруг сказала, «только тихо!» — и в темноте повела его за руку по длинному коридору, он стукался коленками о какие-то сундуки, кадки, по лицу его хлопали мокрые тряпки, лишь потом он понял, что это было развешанное на веревках белье. Пахло газом, стиральным порошком, живым цыганским табором коммунальной квартиры.
Скрипнула дверь, и они вошли в темную комнату, и она сказала «не шевелись», и, пока он так стоял, обмирая, она ощупью постелила на полу.
За окном был дождь, дождь, дождь.
— Чао, — сказала она, засыпая.
На рассвете, когда он по привычке проснулся, чтобы выкурить сигарету, и приоткрыл глаза, он очень испугался. Он вдруг увидел в сером безжизненном свете осеннего утра, что лежит на полу в большой, населенной людьми комнате.
Какой-то парень в трусах, приседая, делал упражнения с гантелями, а за его спиной, сидя на раскладушке, другой, очень похожий на него парень брился, глядя в поставленное на табурет зеркальце, и еще кто-то третий сидел за столом и орудовал ложкой.
У окна на большой, старинной деревянной кровати лежал старик и читал газету.
Ему показалось, что старик сейчас кликнет парней и они начнут его бить гантелями и, может быть, даже полосовать бритвой, и он поспешно закрыл глаза, притворяясь спящим.
Теперь ему показалось, что все это ему приснилось.
Он тихонько приоткрыл веки и, как на экране, увидел, что парень, махавший гантелями, уже одетый сидит на раскладушке и бреется, а тот, кто раньше брился, уже орудует ложкой за столом, третий же, позавтракав, стоит у зеркального шифоньера и повязывает галстук, а старик все читал газету.
Вчерашняя Стелла лежала рядом и спала тихо, как мотылек.
Он опять закрыл глаза, притворяясь спящим, и еще твердо не уяснил себе — снится это ему или не снится.
Через какое-то время он снова осторожно глянул. Парней уже не было.
Зато появился мальчик, прыгавший через веревочку, в углу в коляске плакал ребенок, и пожилая женщина сунула ему в рот соску, и сначала он захлебывался, а потом затих.
А старик глядел поверх газеты бессонными глазами, и казалось, так сидел всю ночь и через тьму тоже глядел на него.
Тогда он решил: «Эх, была не была!», вскочил с постели и тоже стал приседать в физзарядке. Старик молчаливо следил за его манипуляциями. Мальчик продолжал прыгать через веревочку. Женщина убаюкивала ребенка.
Было уже совсем светло, солнечно. Гудели гудки близких заводов. Он тихонечко разбудил девушку.
— Мне в вечернюю, — не открывая глаз, прошептала она, улыбнулась и снова заснула.
Старик слез с кровати. Он был совсем одетый, в защитном кительке и белых бурочках, и, когда встал на ноги, оказался крепеньким, носатым старичишкой, с плоской, как гриб, головой и глубоко ушедшими в лоб журавлиными глазками.
— Сообразим? — строго спросил он.
Гость дал деньги, и мальчик был снаряжен к какому-то «дяде Агафону». Он взял самокат и поехал из комнаты по коридору и скоро притащил откуда-то запечатанную пол-литру, женщина принесла чугун вареной картошки и селедку. Они сели за стол.
— За то, чтобы хуже не было, — сказал старичишка и опрокинул стопочку. Он со вкусом пил и со вкусом ел, и совсем разохотился, с наслаждением вдыхая это праздничное утро.
Когда они допили бутылку и съели картошку, старичишка сказал женщине:
— Ну что ж, пойдем, их дело молодое, — и, захватив газету, он вышел, женщина с ребенком тоже ушла.
Девушка продолжала спать.
Кто она им была — дочь, племянница или жиличка? Этого он не знал.
Осиное гнездо
Был жаркий летний день. Я сидел в старом, запущенном парке на берегу моря, в тени, на скамейке, когда внимание мое привлек аэродромный гул жужжащих ос. Где-то поблизости было гнездо.
Ярко светило полуденное солнце, шумел и сверкал старый парк, и сквозь листву, сквозь высокие травы, сквозь свет и тени, со всех сторон по каким-то своим траекториям, с тяжелым гудением перегруженных бомбовозов летали осы, будто не с нектаром, цветочной пыльцой, а с грузом пороха, динамита, яда.
Они летели в несколько этажей, напружинив усики-антенны на настроенную волну. И ни разу, никогда и ни за что, во веки веков не сталкиваясь в воздухе.
Я проследил их полет. Все они стремились к развалинам старой стены, сложенной из ноздреватого, осыпающегося желтого от времени камня «дикаря», и, покружившись, пикировали на узкий каменный выступ у черной, круглой, как ствол ружья, летки гнезда.
Оса, как штурмовик, садилась на брюхо и, еще жужжа всеми моторами, разворачивалась на сто восемьдесят градусов и лишь потом, сложив крылышки и подобрав тонкие ножки, как-то униженно, задом вползала в свой темный, в свой первобытный, каменно-пещерный город. И тотчас на освободившуюся посадочную полосу садилась другая, третья, пятая, десятая, ножками пропихивая друг дружку в гнездо, беспрерывно, цепью, как на хорошо отлаженном аэродроме, словно там, внутри, отражаясь на локаторе.
Что же там происходило? Кому они отдавали сладкую добычу? Своим деткам — малым оскам, своей старой маме — заслуженной осе, или сеньору, сюзерену, осе-барону, отбиравшему все до последней капли, до последней пылинки, прилипшей к усикам, и пинком выгонявшему их назад, на вечный полет и добычу?
Есть, очевидно, у них там, в злой, жужжащей темной глубине гнезда, своя камарилья, свои маршалы, фавориты, дипломаты, шпионы, палачи и философы-теоретики, все объясняющие и все оправдывающие, есть, наверное, воры и сыщики, комедианты, меценаты, непонятые и непризнанные гении, все, наверное, есть, по-своему, по-осиному.
Я стоял у каменных развалин и слушал тревожное, разнообразно-жадное, жуткое жужжание осиного гнезда.
Может, это у них там была война, бунт, всеобщая забастовка, а может, это было обыкновенное мирно-созидательное осиное гудение. И рождались маленькие осочки, хоть и совсем крошечные, но остро, тонко жалящие и звеневшие: «Пи-и-ить!.. Е-есть!.. Жи-и-ить!» И умирали старые осы-ветераны от перегрузки, от разрыва столько налетавшего сердца.
А может, это был гул искупительной молитвы? Кто его знает. Я не умею разбираться в осином жужжании.
Арбат
В один из первых мартовских дней 1953 года, в ранний оттепельный вечер, когда солнце еще окрашивало соборный шпиль высотного здания Министерства иностранных дел, на Арбате, у диетического магазина, гражданин в старой черной шляпе и пенсне, прислонившись к стене дома, кричал:
— Я человек! Че-ло-век! Поймите!
И непонятно было, пьяный он или больной.
Люди останавливались, смотрели, поспешно отходили.
Регулировщик, сидевший на углу в своем голубом стакане, некоторое время прислушиваясь, посматривал в его сторону, потом высунулся в окошко, призывно свистнул куда-то в сторону Смоленской, оттуда с угла откликнулись, и с другой стороны тоже засвистели.
— Ах, как мне надоели эти крестьяне со свистками, — устало сказал человек и притих. В это время прибежал неизвестный в бобриковом пальто и ботах.
— В чем дело, гражданин, почему нарушаете?
— Я не нарушаю, — тихо сказал человек.
— Пройдемте, гражданин.
— Куда?
— Куда надо, туда и пройдемте, — и он взял его за рукав.
— Пустите меня! — закричал тот, прижимаясь к стене. — Я интеллигентный русский человек.
— Там разберемся, — сказал неизвестный и крепко перехватил его руку.
— Я устал. Я уста-а-ал! — завизжал человек. — Я ничего не сделал. За что? За что?
И мне вдруг тоже захотелось взреветь вместе с ним в тот весенний вечер, в тот последний, казалось, уже невыносимый март.
Я жил в узкой и темной, вырезанной из коридора, комнатушке, доставшейся мне по ходатайству партизанского штаба после того, как прошел от Днепра к Волге и назад к Днепру, и за Вислу...
Это была некогда большая, занимавшая весь бельэтаж барская квартира с высокими, отделанными темным дубом залами, с зимним садом, бассейном и китайской курительной комнатой, с многочисленными службами и комнатами для прислуги, для швейцара, для буфетчика, для повара и поварихи и поваренка, для собак, для кошек... И теперь эти залы и комнаты были поделены, разделены, разрезаны на клетушки, и большие во всю стену сияющие барские окна тоже были поделены между этими клетушками, и назывались теперь световой площадью, и давали по мере своих световых сил солнце жильцам этих клетушек, в том числе и мне.
Вместе с площадью, естественно, был поделен и потолок с изображенными на нем летающими на розовых крылышках амурами, и часто бывало, амур прописан был в одной комнате, многосемейной и крикливой, а пущенная им из лука стрела проживала совсем в другой, такой же многосемейной и шумной, и, несмотря на то, что это были стрелы амура, стрелы любви и внезапного счастья, усталые люди, озлобленные коммунальным бытом, все время чувствовали их совсем не в сердце, а где-то в печенке и в селезенке, и были лютыми врагами, и ничего не хотели друг другу прощать.
Квартира была двусторонняя и выходила на лестничную площадку парадным и черным ходом. И так все было построено или специально барином задумано, что в одной половине — черной — оказалась кухня, а в другой половине — парадной — ванная и туалетная, или, как нынче говорят, санузел.
И теперь обе половины, как и полагается половинам, воевали между собой, как, впрочем, были войны и внутри половинок, как и внутри комнат, это была сплошная война из-за тесноты, неудобства, очередей к умывальнику, к телефону, к конфорке, споров из-за места на кухне, счетов на газ, на электричество. И из-за шума, вечного чада, подглядывания, подслушивания, этой таборной жизни на миру, даже спокойные, добрые, уравновешенные люди становились злыми, подозрительными и хотели насолить друг другу.
Мелкая война шла, неутихающая, упорная, коварная, изматывающая, и иногда, очевидно, когда уж очень накапливалось, из-за какой-то мелочи, как от вспыхнувшей спички, когда возвращались с работы, из очередей, с собраний по борьбе с космополитизмом усталые и нервные, разгоралась Большая война. Начинали ее обычно женщины. «Я прекрасно осведомлена — у вас тайная плитка!» — «А у вас тайный муж!» Потом вступали старики пенсионеры: «Кого хотите обмишурить, ведь вы были ликвидатором!» — «Я был ликвидатором? Вы, махаевец!» И наконец из комнат появлялись тяжелой, солидной, дальнобойной артиллерией главного резерва мужчины в подтяжках, с трубками, с громкими, себя уважающими, себя не дающими в обиду голосами: «Я из принципа не допущу оскорблений моей жены!» — «А я на самом высоком уровне протестую против ваших диверсий!» И лишь подростки не участвовали в споре, а только наблюдали: «Ой, кино!» И кончалось это, когда все уставали, к полуночи, полным разрывом дипломатических отношений парадной и черной половин, которые наглухо закрывались на ключи, на цепочки, и на лестничной площадке оставались запоздалые коты той и этой половины, истерически мяукавшие всю ночь, и считалось, что теперь черной половине напрочь, навечно закрыт доступ в санузел, а парадной — в кухню. «Вот теперь-то они запоют, — говорили люди на парадной половине, — походят, как трубочисты». А на черной говорили: «Попляшут на пустой желудок». И обе половины засыпали в полном удовлетворении своих мстительных страстей.
Но наступало утро, обыкновенное осеннее, серое московское утро, город начинал рычать грузовиками, во всех комнатах оживало радио, поздравляя граждан с добрым утром, со счастливым детством, и «раз, два, вдох, выдох...», и люди, позабыв вчерашнее, бредовое, сонные, на черной половине — с полотенцами, а в парадной со сковородами и кастрюлями направлялись к дверям, и двери оказывались сами собой открытыми, ибо надо было жить, и самопроизвольно восстанавливалось то, что называется на дипломатическом языке статус-кво.
Все тут жили очень давно, казалось, вечно и привыкли к этой жизни.
Барский бассейн занимал старик Хмуренко, бывший красногвардеец, который явился сюда еще в марте 1918 года в кожанке и барашковой солдатской шапке, с винтовкой, пахнущей порохом. Тогда он был молод и одинок и несмышленыш. Но потом женился, родились дети, сначала мальчик, а потом девочка, и жена выписала из деревни мать, и дети пошли в школу, а потом в университет и женились, и сюда, в этот же бассейн, дочь привела мужа, а сын жену, и у них родились дети, и красногвардеец стал дедушкой, а бабушка стала прабабушкой, и вся династия Хмуренко жила здесь. Окно было где-то под потолком, и видно только небо, и осенью свет зажигали в три часа дня, и казалось, что так было и будет всегда, никто не слыхал, чтобы кто-нибудь из нашей квартиры получил или надеялся получить новую комнату. Это было как полет на Марс, который когда-то, может быть, и будет, только не при жизни нашего поколения, где-то кто-то в последние годы и получал комнаты в новых больших, громоздких, серобетонных домах на Кутузовке и на Песчаных, но до нашей квартиры это почему-то не доходило, как, впрочем, и до многих других. Может быть, потому что у нас не жили лауреаты, не было академиков или ведущих писателей, не было выдающихся личностей, а жили, как назло, обычные люди, жил бухгалтер, ясельная няня, фрезеровщик завода «Красный пролетарий», жила уборщица гастронома, сапожник, стрелок вохра, фармацевт Фиалкин был единственным представителем научной мысли.
А тем временем рядом, впритык, стали строить высотный дом, один из тех сказочных гигантов, которые вдруг стали очумело возникать в океане старомосковских домишек.
День и ночь мимо окон рычали самосвалы и тяжелые грузовики с прицепами, возили бетонные столбы, кирпич и железную арматуру, глину и цемент. И вокруг на крышах зажглись прожекторы, и все выше и выше подымался кран и осторожно, мощно, деликатно нес в воздухе тяжелые бетонные плиты, и на лесах девушки-бетонщицы в ватных штанах и резиновых сапогах, заляпанных раствором, работали и пели. Ночью, когда затихал гул улицы, слышно было жужжание крана, и команды диспетчера, и ответы крановщика, а когда не было работы, не подвозили материал или по какой-то другой причине стояла работа, слышно было, как поет крановщик, и радио разносило его песню «Солнце красит нежным светом стены древнего Кремля».
А дом все подымался и подымался, и рядом с дворянскими хоромами XVIII века и чернеющими во дворах длинными бараками первых пятилеток здание это казалось странным, чужеродным и непонятным. Писатели воспевали его в стихах и прозе, художники-академики малевали монументальные картины, и кинорежиссеры высшего разряда наперебой красиво вставляли в свои фильмы, и не было более современной, злободневной, высокоидейной и благонадежной темы, и, казалось, вся главная жизнь народная проходит на лесах высотных домов.
Наконец дом был закончен, он казался чертогом, опущенным с неба на землю. И когда его открывали, играл духовой оркестр и говорили речи с деревянной, крашенной суриком трибуны, и люди приходили со всего города на него смотреть. Кое-кого пускали внутрь. Сразу было видно, что дом построен нерасчетливо, парадные лестничные марши и коридоры, по которым можно было пустить демонстрацию с факелами, и холлы, где впору было загонять голы, соседствовали с маленькими, загнанными по углам рабочими комнатами, которые стыдились своей утилитарной пошлости перед дворцовыми апартаментами и персональными люксами, и было ясно, что служивому человеку среди этого мраморного великолепия будет неуютно и холодно.
Я тоже ходил туда и даже поднимался на скоростном лифте, и было неприятное ощущение, будто мною выстрелили в небо. И наверху, на смотровой площадке, про которую шепотом говорили, что это для противозенитной стрельбы, для чего на самом деле и построен дом, был пронизывающий ветер, и казалось, дом раскачивается, звенит и вибрирует, как туго натянутая проволока. Но вид на освещенный город был великолепен, и казалось, что ты летишь на самолете.
В разных концах Москвы поднялись такие же высотные дома. Говорили, что они исправляют, создают силуэт города и что Сталин по утрам, когда кончает вчерашний рабочий день, смотрит на них из кремлевского окна и курит свою трубку.
Дома были заселены какими-то необыкновенными лауреатами, какими-то секретными изобретателями, народными тенорами, но семьи у них были обыкновенные, простые, те же бабушки, тещи, свояченицы, дети, которые быстро подружились с детьми деревянных соседних домиков и бараков и составляли уже одну уличную компанию.
Появление этого уникального здания не изменило и нашу жизнь, и все у нас продолжалось по-старому со своей теснотой, толчеей, нелепостью, с комплексными обедами в грязной столовой ремесленного училища во дворе.
Я жил в своей маленькой, удлиненной, как гроб, келье, за звонкой перегородкой из сухой штукатурки, она, как мембрана, передавала все, что за ней происходило. Она шептала, вскрикивала, плакала, смеялась, вздыхала, шелестела газетным листом, звенела чайной ложечкой.
Там жила стенографистка, которая ради тренировки записывала все разговоры и потом перепечатывала на машинке.
Ночью я слышал все шаги по железной лестнице, и каждый раз, когда поднимались вверх или стучали в дверь, я ждал неминуемого, все время было предчувствие того, что должно случиться, чего нельзя предотвратить.
Дворник Овидий, аккуратно приходящий поздравлять меня с Женским днем и с Днем Победы, с Днем радио и с Днем печати, с Днем шахтера и с юбилеем Тимирязева, вечно хмельной, появившись однажды 5 декабря поздравить с Днем Сталинской Конституции и получив свою законную стопку, вдруг подмигнул: «А тобою интересуются...» — и попросил разрешения налить вторую стопку.
Правда, вскоре я узнал, что намекал он не только мне, получая за намек и вторую, и третью порцию, пока не допивался до того, что на лестнице кричал: «Все вы у меня голенькие, все в бюллетенчике...», но от этого на душе не становилось менее тревожно.
У самого окна горел всю ночь уличный фонарь, заливая комнату зеленым покойницким светом.
Это был Арбат, я глядел в улицу-колодец и видел всю ночь напролет маячившую у подъезда фигуру в бобриковом пальто, теплых ботах и шапке из фальшивого котика. Он уже был как житель нашего дома, и, проходя мимо, мы не знали, здороваться с ним или нет.
Он стоит, расставив ноги, в позе отдыхающего человека и смотрит на улицу. Постоит, пройдет, заложив руки за спину, и снова остановится, расставив ноги. И так весь день и всю ночь он стоит перед окном и играет отдыхающего человека.
Иногда к нему приходил с соседнего угла близнец, точно в таком же бобрике, ботах и шапке фальшивого котика, и они о чем-то тихо, озабоченно беседовали и, кивнув друг другу, расходились.
О ком и о чем они говорили, за кем следили и зачем стояли у наших домов всю ночь и весь день, день за днем и год за годом, столько лет, которые уже никто не возвратит нашей жизни?
Это была режимная улица, по ней, говорили, Сталин ездит на дачу. И все мы были на учете, все о нас было известно, где мы родились, и где родились и похоронены наши отцы, и где живут наши братья и сестры, и какая фамилия сейчас у наших замужних сестер. Дворники были засекречены, как машинистки секретных бюро. Окна первых этажей никогда не открывались, а чердаки были опечатаны, и давным-давно хозяйки уже не сушили там белье. И когда однажды прохудилась крыша, то дождь долго лил в комнату, потому что засекреченный кровельщик запил, а другого, который имел бы допуск к крыше на Арбате, найти не могли.
На Первое мая и Седьмое ноября во время демонстраций уже с утра в угловые квартиры се балконами приходили гости в темных велюровых шляпах и новых галошах, бодро говорили: «С праздником, товарищи!» — и, не снимая шляп и галош, отстраняя детей и взрослых, проходили через всю квартиру и усаживались у окна и бдительно глядели на кипящую народом праздничную улицу, пока она не пустела, и лишь ветер носил серпантин и апельсиновые корки. После этого сострадательные хозяйки предлагали им чай с домашним печеньем, но они всегда поспешно уходили, будто их уже где-то ждало другое окно, другая улица.
Иногда в часы пик, когда улица Арбат непрерывной живой кишкой медленно выползала на простор Смоленской и тут пережидала горячую, чадную, грохочущую лавину Садового кольца, вдруг сразу на всех углах, как пожар, вспыхивали красные сигналы и откуда-то издалека, с Арбатской площади, нарастала сирена. И все замирало, как в испорченном кино: красная пожарная машина, только секунду назад наполнявшая улицу воем и колокольным звоном, заскрежетавшая тормозами на запретной линии синяя «скорая помощь», разрезанная пополам похоронная процессия, черно-красный автобус с покойником убегал к Ново-Девичьему, а грузовички со скорбящими на скамейках стояли, затертые автофургонами «Мясо», «Хлеб», «Мороженое», и притихшие люди все смотрели туда, откуда шла державная сирена. И с желтым лягушачьим светом во лбу по резервной тенью проносилась длинная черная машина с белыми занавесками, а за ней кавалькада таких же длинных, темных «зисов», набитых пассажирами в габардиновых плащах.
И было тихо на улице. И ветер метелил пустынной осевой. Это проехал Он.
И долго после этого мне казалось, что я видел его грубокаменные, старческой чеканки, надменные черты.
И вот его не стало. А Арбат остался.
Скоро пришел Овидий, оборвал державные печати и открыл чердак, и все увидели, что на потолочной балке висит летучая мышь, и ее долго гоняли, и, ослепшая от солнечного света, она не знала, куда ей деться.
Потом разрешили открыть окна в полуподвалах, и тогда на стенах ясно выступили мокрицы, и пошли бесконечные заявления на ремонт.
Потом в какой-то день исчезли люди в бобрике, и улица стала неузнаваемой, и тут я встретил знакомого гражданина в старой черной шляпе и пенсне, он шел спокойно с портфелем и авоськой, равнодушно поглядывая на регулировщиков, и у меня было чувство, что я увидел давно потерянного родственника.
А потом, потом тетя Луша, уборщица гастронома, старуха в тяжелых башмаках, жившая в конце длинного и темного коридора, в закутке с нарами, без окна, при электрическом свете вырастившая сына и дочь, вдруг и как бы ни с того ни с сего получила ордер на комнату в новом доме.
Серо-голубая длинная квитанция с корешком переходила из рук в руки. Люди рассматривали, покачивали головой и советовали:
— Бегите скорее в нотариальную контору и снимите копию.
— А что, это неправильно? — пугалась тетя Луша.
— Правильно-то правильно, — говорил фармацевт Фиалкин, — но мало ли что может случиться, потеряете, или управдом возьмет и скажет: не было ордера, или вообще все отменят, знаете, как бывает.
Но все-таки однажды ранним утром тетя Луша выехала со двора на грузовике, держа на коленях фикус, который тоже вырос при электрическом свете, может, он был мичуринский.
Потом через каждые несколько месяцев кто-то другой получал ордер на новую комнату в новом районе, а Хмуренко получили сразу три ордера, и теперь этому уже никто не удивлялся, а все торопились встать на очередь и возмущались разными непорядками распределения. А в старом барском доме на Арбате постепенно разрушали перегородки, и комнаты принимали свой первозданный княжеский вид, наяву выступала вся красота пропорций, заулыбались воссоединенные амуры, и их стрелы снова были стрелами любви и надежды.
Старые арбатские переулки в это время стали напоминать муравейник. Из подвалов, полуподвалов, цокольных этажей, из скрывающихся во дворах деревянных бараков и древних развалившихся каменных палат выползало переселяющееся население.
И когда они выносили комоды, кровати, зеркала и выходили дедушки, бабушки, тещи, деверья, невестки, зятья, дети, и дети, и дети, нельзя было понять, как они тут умещались, где спали, где готовили уроки, кончали рабфаки, университеты, академии, как терпеливо вынесли все это долгое, долгое время.
Давно я живу в новом большом районе, я помню еще здесь, в распадке, темные бревенчатые избы деревни с кривыми телевизионными антеннами на крышах из дранки. И когда я сейчас выхожу на новый, вольный, мощенный бетонными плитами проспект с молодыми кленами, вижу великое небо с низко плывущими разорванными буйными облаками, мне кажется, что я заново начал жизнь, и все, что было тогда на Арбате, снилось, и что даже нет никакого Арбата.
Близнецы
Лев и Марк родились один позднее другого на двадцать минут. В один день они сказали «мама», в один день «баста!» В один и тот же день надели короткие штаны, потом надели длинные штаны. И оба не любили каши «геркулес», а любили пирожное «эклер». Потом сели на одну парту, оба черненькие, кучерявенькие, будто повторенные в зеркале, и, казалось, сами они не знают, кто есть кто? Учителя никогда не могли их различить, и Лев успешно сдавал за Марка экзамены по арифметике, а Марк так же успешно сдавал за Льва экзамены по географии. Иногда они даже подменяли друг друга на свиданиях, но странно, именно тут их ждал прокол, то, что не могла за долгие годы освоить старая седая учительница, каким-то образом на второй минуте со смехом разоблачала четырнадцатилетняя девчонка.
Началась война, братья уехали в эвакуацию, а потом их призвали. И вот вдруг один строевой, а другой нестроевой. Когда один стоял перед комиссией голый, другой заглянул.
— А ну-ка, ну-ка, иди сюда, — сказал комиссар и засмеялся.
— Я нестроевой.
— Иди, иди.
И они вместе ушли на фронт, вместе попали в разведку, у каждого в петлицах по два треугольничка.
Однажды братья притащили «языка», и когда внесли в землянку на свет и вынули кляп изо рта, тот завизжал; глядит на них, одинаковых, черных, кучерявых, и изо всех сил визжит, ему казалось, что он сошел с ума и у него уже двоится в глазах.
На вечерах художественной самодеятельности братья пели дуэтом, были звездой полка, и когда в гости к командиру полка приходил командир соседней части, он их вызывал: «Смотри, что у меня есть!»
И вот они вместе вошли в Бухарест, в Будапешт, в Вену, одновременно нацепили на погоны лейтенантские звездочки, вернулись после войны в Москву, кончили институт и решили пойти в аспирантуру. Одного приняли, другого — нет.
Председатель приемной комиссии сказал:
— Слишком жирно: для одной семьи два аспиранта.
Пылинка
Под электронным микроскопом пылинка — как земной шар со своим рисунком жизни, своими материками, океанами, горными хребтами, садами и кладбищами, со своими ураганами, катастрофами, критическими точками и инстинктом самосохранения и неистребимостью во веки веков.
Лотерейщик
В пешеходном тоннеле от дома Госплана СССР к гостинице «Москва» у одной из колонн сидит за маленьким столиком седой, с фанатичным лицом человек, в старой синей кепочке, со свернутым набок галстучком, крутит вертушку с лотерейными билетами и, как-то дремотно опустив глаза, будто сам для себя, на восторженный синагогальный мотив выпевает:
— Через несколько дней... тираж через несколько дней... несколько дней...
И кажется, он спит, что весь он там, далеко — на яркой местечковой ярмарке, среди рундуков и мужицких возов, и вокруг поет-кричит базар: «Пенька!.. Мыло!.. Семечки тыквенные!..»
Мало кто и обращает на него внимание и слышит, что он там бормочет и фантазирует, и он сидит за своим столиком, одинокий, отрешенный, и может вдоволь сладко, с молитвенной веселостью и тоской выпевать: «Через несколько дней... Через несколько дней...»
Мимо валит густая толпа, идут юнцы и девицы в «болоньях», для которых и война-то была где-то в прошлом столетии, а нэп — это средние века, а царь Николай — это уже Ассиро-Вавилония...
И вот он сидит, как осколок этой Ассиро-Вавилонии и, обещая рай земной, ликуя, выпевает: «Через несколько дней... Через несколько дней...»
Мансарда (Рассказ медицинского капитана)
Город только освободили, он еще дымился, весь в красно-кирпичных развалинах, как в ранах, и удивительны были на улицах ярко-зеленые, свежие липы, густые старые губернские липы, на фоне которых кладбищенский строй черных труб был особенно страшен и нелеп.
Вечером я вышел на центральную улицу. В летних сумерках пахло кирпичной пылью, конской мочой, бензином военно-автомобильной дороги.
Из уцелевших домов сквозь щели маскировочных штор пробивался свет, слышны были голоса у ворот, а из одного дома ясно раздались звуки рояля, и я остановился и стал слушать, и так захотелось жить, снова жить, гулять по освещенным улицам, по кирпичной кладке у аптеки с волшебным зеленым шаром в витрине, останавливаться у киосков и пить газированную воду с сенным сиропом и покупать эскимо.
Неожиданно я вышел к кинотеатру, фасад был затемнен, и только в глубине, у кассы, горела синяя лампочка, освещая плакат — женщину, идущую босиком по снегу под виселицами. Демонстрировалась кинокартина «Радуга».
У фасада толпились подростки в крохотных кепочках, длинногие девчонки, выросшие в оккупацию, и спрашивали друг у друга во мраке: «Нет лишнего билетика?»
Я собирался было пройти мимо, и вдруг кто-то тихонько окликнул:
— Товарищ военный, а вам билет, случаем, не нужен?
Высокая девушка в беретике, в цветных немецких ботиках. Красота яркая, порочная, зазывная.
У меня забилось сердце: «Откуда ты такая?»
Она дала мне билет и пояснила:
— Подруга не пришла.
В освещенном фойе разговорились.
Раньше, до войны она работала официанткой в ресторане. Эвакуация была такой поспешной, что она не успела уехать, и вот теперь еще не устроилась и не знает, что делать, может быть, я ей пособлю. И она мельком взглянула на меня своими выпуклыми и чем-то нахальными глазами.
— А что делали в оккупации?
— Жила в селе у родителей.
— А родители кто?
— Простые колхозники.
— А где сейчас живете?
— О, вы как следователь, — она рассмеялась, и я рассмеялся.
В кино сидели рядом, и в темноте я взял ее руку, она легко и податливо отдала.
Я перебирал ее пальчики, и они почему-то были неприятно холодные, как сосульки, а она сидела прямо, отчужденная и бесчувственная, и смотрела на экран своими большими, красивыми синими глазами, и я видел в отраженном свете их чужой голубой блеск.
Вокруг зрители по ходу картины смеялись, ахали, ужасались, а я не знал, что происходит, кино где-то было в другой жизни, давней, детской, в стрекочущем зеленом свете с Мэри Пикфорд и Дугласом Фербенксом.
Я стал прижиматься к ней, и внезапно она жарко прильнула ко мне, и я что-то такое ей шептал, и потом она тоже что-то такое шептала, от чего кружилась голова и все пошло ходуном.
Я и не заметил, как окончилась картина, только вдруг зажегся свет, тусклый, провинциальный, и люди странно сонно глядели на нас.
Из кино вышли вместе. Была такая густая темнота, будто город опущен на дно морское. Редко сверкнет убийственный свет — где-то открыли дверь или вспыхнула случайная фара, и потом становилось еще темнее и безнадежнее. И только с разных сторон глухие хлопки взрывающихся мин замедленного действия, и тревожные свистки, и рычание проходящих танков, и дальний затухающий орудийный гул — обычная какофония прифронтового города. И еще сладко в вечерней прохладе пахло акацией, тянуло гарью пожарищ.
Шли долго. И вот уже вышли на железную дорогу. Мигали синие огни и вскрикивали паровозы. Потом прошли через полотно, и снова начались улицы, длинные, немощеные, которые назывались уже линиями.
Плетни, цветущий жасмин, белые мазанки в зелени садов — все возвращало в детство, в далекую, милую жизнь в семействе, и казалось — я вернулся домой. Казалось, что и ее я давным-давно знаю, и учился с ней в трудовой школе, и вот оба приехали на каникулы, и я останавливался и брал ее за руки, смотрел в ее лицо и восхищался, и казалось, я влюблен и навсегда тут останусь, и бормотал:
— Мне кажется, я давно тебя знаю.
А она усмехалась и отмахивалась:
— Да ну вас, тоже скажете!
Я говорил, что давно уже не помню, когда бы вот так беззаботно ходил по вечерним летним улицам и чувствовал такое искреннее влечение.
И она снова усмехалась своей красивой, холодной, отрешенной улыбкой и говорила:
— Все вы, вояки, обманщики, и больше ничего.
По дороге она зашла в какую-то заброшенную, покосившуюся хибарку и купила там четыре яйца.
Было пустынно и темно, кое-где лаяли собаки, и уже чувствовалось близкое поле.
— Вот мы и дома, — сказала она.
Мы вошли в отдельно стоящий полуразрушенный кирпичный домик. Ни огонька, ни звука. Поднялись по шаткой лестнице на самый верх, в мансарду. В темноте она отомкнула дверь.
— Осторожнее, нагнитесь, — успела она сказать. Я задел фуражкой притолоку.
Она зажгла керосиновую лампу, и мы оказались в малюсенькой белой каморке с замаскированным синей шторой окном. Сюда впихнуто было два белых кожаных кабинетных кресла, семейная кровать с никелированными шариками и старинный красного дерева с перламутровой инкрустацией пузатый комодик на высоких ножках, с новеньким модерным зеркалом над ним. Мебель какая-то случайная, нахватанная, и чем-то недобрым повеяло на меня.
Она сказала:
— Я пойду сделаю яичницу.
Я остался один с жужжащей лампой, и отчего-то мне стало не по себе.
Сколько таких случайных комнатенок, случайных приютов, и девичье тепло, и сиротский шепот, когда и тебе, и ей тоскливо, одиноко и временно, и, в конце концов, не нужно.
Но в этой комнатке, с ее странной, явно награбленной мебелью, меня беспокоило еще что-то, и гирлянда ярких бумажных цветов над кроватью казалась только что снятой с похоронного венка.
Оглядываюсь и вдруг вижу: из-под кровати — струйка, медленная, тягучая, страшная.
Я заглянул туда и будто переселился в рассказ Эдгара По. Там, у стены, лежал мертвец в нашем офицерском белье.
И в это время я услышал по лестнице грохочущий топот сапог. Я быстро задул лампу и стал к стене у дверей.
В комнату ворвались двое, а я в это время — в дверь и с силой захлопнул ее, и вниз по лестнице.
Через полчаса, когда я явился с патрулем, сержант с фонариком поднялся первый, за ним я и боец, никого уже не было, ни девушки, ни мертвеца, только чадный запах потушенной керосиновой лампы.
Сержант поглядел на меня с ухмылкой:
— А может, то показалось вам, товарищ капитан?
Но боец вдруг сказал:
— Нет, я знаю, то бандеры гоняются за офицерской формой, а на девчонку ловят, как на блесну.
Чудо
В маленьком литовском местечке немцы на рассвете летнего дня расстреляли всех евреев.
В полдень проходивший мимо еврейского кладбища ксендз увидел, как зашевелились во рву расстрелянные и на поверхность выполз маленький мальчик.
Он был черный от чужой крови, в разорванной рубашке и одной сандалии.
— Ты кто? — спросил ксендз.
— Я не помню, — сказал мальчик.
— Куда же ты идешь?
— Вот туда, — мальчик показал на дорогу к местечку.
— Там немцы, они тебя убьют.
— Тогда я побегу вот туда, — он указал на село.
— А там еще хуже, там литовские полицейские.
— Тогда я не знаю, — тихо сказал мальчик.
— Я спрячу тебя, — сказал ксендз. — Только запомни одно: ты глухонемой.
Мальчик понимающе кивнул.
— Если тебя спросят, кто ты?
Мальчик, глядя большими темными глазами в лицо ксендза, молчал.
— А если тебя ударят, ты закричишь?
Мальчик отрицательно покачал головой.
— Ты вее время про себя думай: «Я немой», — посоветовал ксендз.
И мальчик пошел с ксендзом по дороге, повторяя про себя как молитву: «Я немой, я немой, я немой, я немой, я немой...» А вокруг лаяли собаки, свистели мальчишки на голубей, гудели костельные колокола, и в высоком небе рычали немецкие самолеты.
На зеленой лужайке мальчики в синих каскетках гоняли мяч, а девочки в кружевных воротничках и белых передниках играли в серсо, и немому казалось, что он это уже раз видел во сне.
Когда-то, в другой жизни, там, дома, у матери мальчик или рисовал красным карандашом домики, или сидел неподвижно и считал в уме цифры. Он с младенческих лет любил цифры, они были как человечки, и он запоминал их в лицо и легко складывал и умножал. А теперь весь день его был занят. Кухарка будила его в четыре часа утра, и он носил дрова и воду на кухню, потом готовил пойло свиньям, кормил кур, гусей и кроликов, убирал двор и тротуар перед домом ксендза, потом выбивал ковры, скреб добела и мыл мылом крыльцо, подметал паперть костела, чистил дорожки в саду, посыпал их желтым песочком и все молчал, молчал.
И только ночью, в сарайчике, где он спал со щенком на соломенной подстилке, он тихонько на ухо щенку шептал: «Ух, ты мой Шарик» — и плакал. И Шарик понимал его и тихонько скулил.
На реке кричали лягушки, и сквозь сладострастное лягушачье безумие слышались грубые немецкие крики: «Вэк! Вэк!»
В местечке все привыкли к немому, и когда он бегал в лавочку за керосином, или в аптеку, или еще куда, уличные мальчишки гнались за ним и дразнили: «Мэ, мэ!» И собаки, видя это, тоже гнались за ним и пытались схватить и разорвать штанину, а он прижимался к забору, и большие печальные глаза его молча и затравленно глядели на солнечный мир.
Наступила осень, все мальчики с ранцами пошли в школу, иногда они у костела останавливались и со смехом спрашивали у немого:
— Ну, ты знаешь, сколько дважды два?
А он, в уме легко умножавший трехзначные цифры, глядел на них и молчал, а они смеялись и говорили:
— Дурак, дважды два — пять.
Однажды, уже поздней осенью, когда с неба сыпалась жесткая, звонкая снежная крупа и немой проходил берегом реки, мальчики нарочно столкнули его в воду, он стал захлебываться, тонуть и вдруг... закричал.
— Чудо! — сказали мальчики на берегу.
— Чудо, чудо! — передавали из дома в дом по зеленым, узким гористым улочкам. И люди стали собираться к костелу, чистые, опрятные литовские старушки и крепкие, настырные, корыстолюбивые старики, слепые и глухие, и немые, и калеки, и грудастые бесплодные молодухи, и золотушные дети. На паперти стоял бледный, испуганный черноглазый мальчик, плакал и глотал слезы, а они, как Иисусу Христу Спасителю, целовали ему руки и просили благословения и исцеления.
— Нет! — вскричал вдруг ксендз. — Это я виноват, я вас обманул. Это не святой, это жидовский мальчик.
В это время мимо на тяжелом зеленом мотоцикле проезжал полевой жандарм, в каске, в пенсне, с автоматом на груди. Он остановился, узнал, зачем шум, и сказал черноокому мальчику:
— Ком!
Он повел его за костел, в бурьян, и там, как кролика, пристрелил.
Студенты
Он думал о тех, с которыми жил в студенческом общежитии, в лесу, обедал в столовой Юридического института на двадцать копеек — красный винегрет, картофельный суп и каша; читали по вечерам вслух Багрицкого и Бабеля, спорили о «Брусках» Панферова, носили одно пальто и одну теплую шапку.
Они так же, как и он, приехали из маленьких городков и сел, из домиков с палисадниками, в которых цвели анютины глазки, из домиков с окнами и вырезанными наличниками и крылечком, над которым кукарекал вырезанный из жести петух, в черных сатиновых рубашках, полотняных брюках, в обмотках и парусиновых туфлях, воспаленные, возбужденные, взбаламученные, больше всего на свете жаждущие, мечтающие взять кайло в руки и лежа на спине рубить уголь или руду, или глину в тоннеле в метро, или, если повезет, стать у токарного, фрезерного или револьверного станка, но уже на пределе мечтаний — взять в руки винтовку и быть ворошиловским стрелком, — честные, чистые, отчаянные, голодные и веселые.
Когда все сидели за одним длинным столом на лекции, ибо у нас не было ни парт, ни столиков, ни тех поднимающихся к потолку галерок, которые мы видим на фотографических снимках и в кино, а просто был длинный стол во всю огромную полуподвальную комнату, когда мы вот так сидели вечерами и кто записывал лекцию слово в слово — стенографически, кто конспектировал, а кто просто слушал, впитывая в себя, а кто слушал и не впитывал, а просто все это было как звон колокольчиков или шум метели за окном, а кто не только не слушал, но даже не знал, о чем говорят, и говорят ли вообще, и сочинял стихи или писал письмо, или просто так — рисовал кучерявые головки, человечков-уродцев, — так вот, когда мы вот так сидели — все молодые и не очень молодые — от восемнадцати до двадцати семи лет, — все как бы рассуждали одинаково, почти одинаково оценивали явления, только разве в художественных вкусах не сходились, и кто знал, кто мог бы догадаться, что именно отсюда, из этого тихого кроткого курса вынырнут, вырастут, появятся вот эти, этот извивающийся, изгибающийся, в такт времени вибрирующая глиста с кучерявой головкой, и этот насыщенный злобой и водкой горбун с красными кроткими глазами кролика, и этот хрипун с крупными черными бородавками.
Они уже были вместе, они слушали одни и те же лекции, читали одни и те же книги — великие и ничтожные, пили вино из одного стакана, все пять, потому что в общежитии был один граненый, щербатый стакан, а когда кокнули, стакан заменила жестяная кружка, прикованная некогда завхозом цепочкой к бачку, и однажды мы цепочку разорвали, разбили, камнем расплющили, и кружка пошла вкруговую, и потом пели одну песню, и как будто понимали друг друга с полуслова, полувзгляда, полукивка.
Что же их развело, разнесло, раскидало? И они оказались на разных берегах. И не только не слыша друг друга, но если бы услышали, то не поняли бы, как будто говорят на разных языках. Они могли бы поговорить жестами, мимикой, но нет — и мимика сейчас не поможет. Сейчас они просто не хотят друг друга понять, опасно друг друга понять, ибо жизнь одного — смерть и ничтожество другого. Вот как далеко, как ужасно далеко, необратимо они разошлись.
Эти все, будто вихрем, будто ураганом давным-давно живьем выдраны из семьи, из рода, забывшие дом отчий, и палисадник, и тополя, и отца, и мать, братьев и сестер. Эти уже ничем не связаны со своим родом, с преданьями, сказками, эти без корней оставлены одинокими, и в одиночестве огрубевшие, одичавшие, ожесточившиеся, этим уже ничего не страшно, и с ними можно все сделать.
И они собрались, вернее, их собрали, тех, готовых к этому, приспевших, решивших идти до конца, а может, только до середины, и еще неизвестно, как все это обернется. Их собрали на закрытые заседаньица на частные квартиры или на дачи и распределили, кто о ком будет выступать на собрании, кто кого будет убивать из своих товарищей, чтобы заранее подготовился, изучил, разузнал всю подноготную своего подопечного, хоть он и товарищ, и учились вместе, сидели рядом на одной скамье, по одному конспекту готовились к зачетам, друг для друга готовили шпаргалки. И он должен был подготовиться именно к этому убийству, прочесть последние сборники стихов, выдрать из них строчки, посредством которых можно было доказать, что подопечный космополит, нигилист, декадент, формалист, сионист. Выпивали ли они при этом или только после запили, и что они при этом думали — никто не знает.
Кое-кто пытался увильнуть, на ходу уйти в тень, спрятать руки за спину, может, он хотел сначала понаблюдать, чем это кончится, а только тогда уже войти в игру, но ему сказали:
— Ты определись. Ты брось эту игру. Ты хочешь сидеть на двух стульях, так мы из-под тебя вышибем оба стула. Будешь валяться.
Вошел он тихо, словно на цыпочках, горбун с розовыми глазами кролика, налитый вином, и горб его казался запасным, как у верблюда, бурдюком, и, как-то бессмысленно улыбаясь посиневшими губами, присел на краешек стула, а тот, высокий, кучерявый, извилистый и красивый, похожий на адъютанта гетмана Старопадского, и, казалось, у него сразу шестнадцать рук, что-то предлагал ему, какую-то сделку.
Когда горбатый вышел на трибуну, он заговорил высоким, чистым детским фальцетом исповеди.
Для меня всегда оставалось загадкой и сейчас есть самая большая в жизни загадка: что, человек рождается негодяем или просто плохим человеком, как глухонемой, или слепой, или с горбом, с красным кадыком, шестым пальцем? Что, все это заложено в хромосомах, сконденсировано, отштамповано в точных пропорциях химии его белков? Какая-то там темная крапинка, какой-то червячок, какая-то путаница в цепи нуклеидов, какой-то узелок в этой цепи? Или, может, он рождается, как все, святым и чистым и готовым к добру и чести, или уже только жизнь его делает таким, жизнь его обозлит, и однажды ночью он говорит самому себе: «Я вам покажу, я вам докажу». Что, и убийцы так рождаются, и тираны, и философы, и юродивые? И можно будет в тот мощнейший микроскоп будущего, уже по хромосоме, распознать — родился Аристотель или Гиммлер, и тогда задавить, прищелкнуть его, как клопа, так, чтобы мир никогда не узнал, что появилось на свет такое сочетание нуклеидов.
— Попенченко!
Из средних рядов поднялся высокий, изгибающийся, как водоросль в воде, и какой-то странной, скользящей, танцующей походкой вышел к сцене, в два прыжка вскочил на сцену к трибуне, откинул волосы и с ужимками, модулируя голосом, ласково заговорил:
— Я не понимаю, я не понимаю, зачем воспевать таких героев?
Только сегодня утром я видел снега Килиманджаро, а сейчас я здесь. Только сегодня утром этой рукой я приветствовал своего друга Бутурли. И сейчас я представляю своего друга и соратника. Коля! Ведь мы с тобой вместе учились, ты идешь в большую жизнь по путевке, только сегодня я видел Килиманджаро, а сейчас я вижу Колю, дай я тебя обниму, ты прелесть, Коля.
Из зала стали кидать записки, некоторые падали у трибуны, и он, как-то странно извиваясь, нагибался, подымал записку и лакейски, словно на подносе, подавал записку председателю.
Наступил просто люфт для проявления лихих дел, мелких низменных наклонностей. И подлость, безграмотность вышла в зенит. Чувствуя свое бессилие, свою бездарность, свое ничтожество и бесперспективность, они обрели уверенность и наперегонки стали развивать и выкладывать свои природные наклонности. Они, может, даже не предполагали в себе столько зависти, злобы и лжи, может быть, все это даже не развилось бы так пышно, так успешно, может быть, это умерло бы в зародыше, в семечке, засохло, если бы было другое время. Но тут вдруг наступило для них такое сумасшедшее, веселое время, засияло такое огромное воспаленное солнце, и все требовало, раздувало в них тщеславие, честолюбие, коварство, все требовалось в таких размерах, так ненасытно, что даже самый маленький кроткий горбун с розовыми глазами кролика раздулся, приобрел бобровую шапку-митру с лиловым верхом, шапку владыки и академиков, и садился в личный собственный черный «зим», вот какое вышло время.
Неужели же они ночью не просыпались и не чувствовали, как бьется сердце, болят нервы, не слышали ясно в ночной тишине, как капают секунды, минуты и зря проходит жизнь, что все идет пропадом и что в сущности незачем жить. Неужели они не просыпаются ночью и не икают, или у них другая сущность, другие белки, иные нейроны и я никогда не пойму их.
В кафе
За столиком сидел старый, усталый человек, с пышными спокойными усами моржа.
— Вам чего? — спросила официантка и подала в разукрашенной обложке меню на меловой бумаге.
Старик поднял голову и поглядел на нее выцветшими глазками.
— Оранжад.
— Что? — переспросила девушка.
— Оранжад, — повторил он. — Апельсиновую воду.
— Только яблочная, — сказала девушка, с любопытством глядя на странного посетителя.
— Оршад, — пробормотал старик, как бы ни к кому не обращаясь.
— Что? — снова переспросила девушка.
— Оршад, грильяж, — бормотал старик.
Девушке казалось, что он бредит или, может быть, над ней смеется.
— Мазагран, — сказал старик и, как бы прислушиваясь к слову, повторил: — Мазагран.
— Чего он хочет? — спросила другая официантка.
— Не пойму, какие-то слова говорит, сейчас в обморок упадет, — сказала девушка.
— Дай ему валидол, — сказала другая официантка, и обе они засмеялись.
В толпе
Я только увидел, как он суетливо-яростно сунул букет свежих розовых астр в мусорную урну и пошел вниз, в подземный переход, сияя лысой макушкой, с плащом, переброшенным через плечо, — этакий деспот и жох. А она, утирая мелкие-мелкие слезинки, чуть помедлив, пошла следом за ним, в жакетике и грубых чулках. Остановить? Покориться? Объяснить? Доказать?
Что произошло только вот сейчас, тут, какая маленькая трагедия разыгралась посреди дня на улице, у ямы подземного перехода, среди толчеи, и сутолоки, и шума большого города, среди тысячи тысяч мелькающих судеб?
Я оглянулся. Никто и не заметил, не остановил взора, не замедлил шага, все бежали по своим делам, москвичи и командировочные, молодые, и пожилые, и старые — в пестрой, разнообразной одежде.
Один я, соглядатай человеческий, и приметил это.
Первый снег
Ранним утром по снежной целине воспитательница ведет темную цепочку закутанных фигурок детского сада. Останавливаются у нового строящегося дома, и она объясняет им действие крана.
Кто слушает, а кто не слушает. Один мальчик все подпрыгивает, словно через скакалку, другой показывает фокус-покус, третий затеял игру в снежки, и кто-то кому-то уже запихал снег за шиворот. Плач. Драка.
Потом все выстраиваются.
— Я впереди!
— Нет, я!
Какая-то девочка сообщает:
— Сотников фигу показывает!
Мальчик с красивым лукавым личиком устраивается, крепенько держась за руку воспитательницы. А кто-то косолапый, в крохотных валенках, самостоятельно отстает. Это уже нигилист.
Все характеры уже здесь, в этих маленьких закутанных фигурках, в плюшевых шубках, в худых пальтишках, в капорах, кепочках.
Пигмалион
Однажды летним утром два мальчика стали из мокрого песка лепить зверей. Они работали весь длинный июльский день, и к вечеру на берегу был уже целый зверинец.
В царской позе равнодушия и презрения лежал лев, крупный, усатый, с зеленой из водорослей гривой и длинным, тонким и упругим, как жгут, хвостом, и рядом в той же наплевательской позе — львенок с зеленой гривкой и упругим хвостиком с кисточкой на кончике.
Во всю хищную длину вытянулась рыба-кит с ракушечьим хребтом и острым перламутровым оскалом зубов. Из носа торчало вверх белое перо чайки, как фонтан.
Рысь с кошачьей, ласковой, политичной ухмылкой глядела зелеными бутылочными глазами и будто знала что-то такое, чего никто не знает.
А молчаливая, угрюмая, гигантская черепаха, вся под бронированным из морских камушков панцирем, выставив лишь для обозрения продолговатую, рыжую, песчаную голову, как бы уходила прочь на тяжелых, как у старинных комодов, лапах, уходила со всеми своими тайнами и медленными мыслями пустыни.
И лягушка в царской короне, присев на задние лапки, словно молилась на закат солнца.
Весь вечер подходили люди и смотрели.
Лев-то замечательный. Пасть какая, прелесть! А почему тигра нет? Неправильно без тигра.
— Вот, Аллочка, погляди, это крокодил, у-у!
— Вот бы еще слона вылепили с клыками, вот была бы работенка.
— Это зайка, да?
— Нет, это бегемот, деточка.
— Ай да мальчики, молодцы!
— Отдайте их в скульптурную школу, будут корифеи.
Поздно вечером, когда взошла над морем красная луна, мальчики ушли спать, оставив на страже своих зверей надписи на песке: «Не трогать! Не трогать! Не трогать!»
И всю ночь во сне рычал лев и плакал львенок, жалобно мяукала рысь, и ляскала зубами рыба-кит, и квакала лягушка, и мудро молчала черепаха, только топала ногами.
Рано утром, проснувшись, мальчики побежали на берег моря. Пляж исчез, будто за ночь сосны и кусты придвинулись вплотную к воде, и штормовое, с белыми бурунами море накатывало и пенилось в дюнах, похоронив под собою льва и львенка, рыбу-кита, рысь, лягушку и черепаху.
Мальчики стояли на берегу, забыв обо всем на свете, всецело захваченные зрелищем бурного моря.
Они еще не знали, что в душе и памяти их навеки остались лев и львенок, рыба-кит, рысь, лягушка и черепаха, однажды, в долгий летний день, вызванные ими к жизни. И что еще не раз они приснятся им, лев и львенок, рыба-кит, рысь, лягушка и черепаха.
Пшют
Я была тогда рыжей, это я теперь индианка.
Я стояла на остановке и ждала автобуса, прошли два юнца, оглядели меня и одновременно сказали: «Смотрится!» — и стали за мной. Слышу, завели разговор.
Один из них, пухлявый, с аккуратной гофрированной головкой, с розовыми щечками, раскачивая шикарным, как чемодан, желтым портфелем, капризно, в нос, чтобы получилось по-иностранному, говорит:
— Послушай, мон шер, всю Москву изъездил и не могу найти голубую плитку для ванной.
— Не расстраивайся, Макс, — говорит другой, — я получил сухого мартинчика, того, который пьет Помпиду. Поедем ко мне.
— А что мы будем делать?
— Кинем по коктейльчику.
— А потом?
— А потом она одного из нас поцелует.
— А потом?
— А потом, а по-том, ше-по-том...
Потеха!
Подошел автобус. Я села. Макс с чемоданом за мной.
Слышу позади шипение:
— Разве это я толкаю? Это масса толкает. Это человечество толкает.
Из косого карманчика вынул роскошное вишневое портмоне, достал двадцатипятирублевую бумажку и протягивает кондуктору.
— Разобьете купюру? На песеты!
И не ожидая ответа, прячет ее и аккуратно отсчитывает пять новеньких бронзовых копеек.
— Мерси, — говорит кондукторше, — за банковскую операцию.
Теперь он сел рядом.
Ну, думаю, как, интересно, начнет?
Тысяча и одна ночь! У каждого цеха свои байки. «Который час на ваших золотых?» — это мелочь, пузыри, в лучшем случае инженеришка, бух командировочный. А вот: «Почему у вас минорное настроение?», «Вы похожи на женщину, которую я любил и потерял», — это тоном выше; юристы, медики. А вот уже: «Вас можно объяснить по Фрейду», — это молодец, заученный бедолага-философ. Аристотель!
Вдруг слышу шепотом:
— У вас врубелевские глаза.
— В чем дело?
— Тише! Я говорю, у вас врубелевские глаза.
— Вы кинооператор?
— А откуда вы знаете?
— Сначала я по талону буду участвовать в массовке, могут и вырезать, но это не печаль, потом вы дадите мне феерическую роль в картине «Плоды любви». Мэрилин Монро!
— Видел вас в гробу! — сказал и испарился.
На днях, на платформе метро, чувствую, кто-то смотрит на меня. Он! Со своим грандиозным портфелем. Прелесть!
Пробился ко мне. Вижу — не узнал.
— У вас роденовская голова! Венера с мыслью.
— Вы хотите, чтобы я нашла время и приехала в вашу мастерскую?
— А откуда вы угадали?
— Вы лепите фигуру «Лаун-теннис», да? У вас никак не кристаллизуется бюст. Вам нужна сильная, мужественная натура, скульптурные икры.
Теперь он узнал, приподнял каскетку:
— Видел вас в гробу в белых тапочках!
Киевский рассказ
Ведь вот никак не могу к этому привыкнуть. Вот только была Москва, холодный дождь на Внуковском аэродроме, еще, кажется, сверкают водяные струи, а самолет уже пошел на снижение. Вот он коснулся бетонной полосы, замелькали сигнальные вешки, и вокруг мягкая киевская травяная земля. И вот уже встречающие южные киевские барышни в светлых летних платьях с мокрой охапкой гладиолусов и пионов. Далекое мое детство. Я бы узнал тебя и через тысячу лет.
К новой высотной гостинице вела крутая лестница, как на Голгофу.
Ужасно в городе, где ты некогда жил и у тебя на каждой улице были товарищи, родственники, искать место в гостинице.
Я вошел в новый отель и не увидел у барьера обычных, темных, чернопальтовых командировочных, в бездонной толпе, чихающей, кашляющей, вздыхающей на ходу.
За новеньким, аккуратно отполированным и отлакированным барьером сидела сухая, старая барышня, знакомая разновидность дежурных администраторов. Она спокойно перелистывала огромные листы со странными таинственными значками, какая-то молодая женщина робко спрашивала:
— Когда можно надеяться с ребенком? Полторы суток жду.
— Нет номеров, — отрешенно сказала дежурная, не подымая глаз, — нет, нет и не будет. Так мы с вами и до будущего года не договоримся. Одна броня уезжает, другая броня приезжает. Неужели это непонятно?
— Разрешите, — громко сказал я.
Она подняла свои выцветшие, все видящие глаза, безразличные, безнаказанные глаза дежурного администратора.
Я смело протянул ей уже заранее услужливо раскрытую служебную карточку. Она и не пошевелилась, чтобы ее взять.
— Нет номеров.
— А вы взгляните, — говорил я ей, держа книжечку в протянутой руке.
Она усмехнулась.
— Чем вы хотите меня удивить?
В ее выцветших глазах сверкнул всесильный блеск, такой блеск появляется у Бога, сотворившего мир, и еще иногда у директоров универмагов, получивших партию дубленок.
Она в упор взглянула на меня этими интересными глазами и сказала:
— А вы знаете, кто ждет номер?
— Иисус Христос, — сказал я.
— Гражданин, если вы из Москвы, то думаете, что уже можете хулиганить.
— А разве я хулиганю?
Еще только проходя через мраморный дворцовый вестибюль отеля, я заметил несколько знакомых, присутствующих во всех гостиницах фигур в огромных плоских кепках «полигон», которые неприкаянно и все-таки как-то уверенно, монотонно- маятниково разгуливали среди колонн и пальм, как бы исполняя какой-то ритуальный танец. Когда я подошел к барьеру, они вдруг все сразу, как куклы, замерли и, повернув головы, прислушались к разговору. Но как только я отошел, они снова начали циркуляцию по вестибюлю вокруг мраморных колонн, создавая какой-то сквозняк, какую-то аэродинамическую тягу, и огромные южные кепки «полигон» мелькали то здесь, то там, завораживая и интригуя служащих гостиницы, швейцаров в серебряном галуне, старуху лифтершу, коридорных в кружевных наколках и белых передниках, посыльного мальчика, дежурного электрика в резиновых сапогах и даже сидящего за перегородкой бухгалтера, которые рано или поздно втягивались в этот сквозняк, в эту искусственно созданную струю и, соприкоснувшись с одной из этих плоских кепок, куда-то бегали, о чем-то шептались, молча на пальцах показывали какие-то знаки.
— Не стойте у меня над душой, — сказала наконец дежурная. — Погуляйте по Крещатику, потом приходите, посмотрим.
В городе все цветет одновременно — каштаны, сирень, черемуха.
Она пустила дым колечком.
— Ну-у, теперь у меня отросли зубы, я буду царапаться, я, Лялечка, имею свое соображение ума.
К полуночи, когда я снова пришел в гостиницу, вестибюль был пуст, громадные кепки-«полигоны» исчезли, будто приснились, сверкал паркет и беспорочно чистыми были зеленые дорожки. В банкетном зале ресторана оркестр играл «Ойру» и кричали «горько-горько». Там была айсорская свадьба.
Дежурная равнодушно взглянула на меня, не узнавая.
— Вы обещали, — кротко сказал я.
— Люкс до семи утра и еще койка в общежитии.
— Тоже до семи?
— Можно до девяти, — разрешила она.
Я выбрал общежитие.
Это была большая, ярко освещенная общая комната, в жизни я еще не встречал такого ослепительного света. Оказалось, администрация считает, что в общежитии все должно быть, наружу, на свету, а может, других лампочек не было. За столом сидел маленький усатый человек и что-то читал, потом он мне рассказал, что он сын кочевника из казахских степей, а вот теперь защищает диссертацию по сварочным аппаратам. На койках спали два человека, молодой командировочный, кричащий со сна: «Лесоматериалы», и старичок, бубнящий: «План, план».
Но все обошлось, и все снова захрапели под ярко горящие всю ночь люстры и музыку оркестра, игравшего «Пусть всегда будет солнце».
Ранним утром, еще солнце не золотило купола Софийского собора, разбудил крик:
— Ри-иба для кошечек, ри-иба для кошечек!
Я заглянул вниз, в каменный колодец двора, и засмеялся. Я был дома.
Внизу стоял румяный старичишка в военном картузе и резиновых сапогах до колен с корзиной из ивовых прутьев, из которой сочилась вода.
— Ри-иба для кошечек!
В окнах на всех семи этажах появились кошачьи усы, словно в доме жили одни кошки.
Это были круглые, самодовольные пушистые рожи, и они облизывались, да, облизывались.
Я оделея и пошел в парикмахерский салон гостиницы.
В кресле у дородной маникюрши сидела дама в седых буклях. И маникюрша, взяв в руки ножнички, гортанно-горько осведомилась:
— Вы любите себя в длинных ногтях?
Я тихо засмеялся, сразу почувствовав себя дома.
Цирюльник был из тех, кого я помнил еще по нэпманским временам — роскошный, медлительный, в роговых очках, похожий на профессора оккультных наук.
Усадив меня в кресло и внимательно взглянув на меня, он швырнул старую простыню на пол, вынул из шкафчика и с треском раскрыл большой запечатанный конверт с белейшей простыней. Потом с таким же треском раскрыл еще несколько маленьких конвертов с салфетками и развернул такую подготовку, словно ему предстояло делать нейрохирургическую операцию.
Наконец, он включил электрическую машинку и жестом жреца приступил. И как только из-под жужжащей машинки полетели хлопья волос, он, как бы почувствовав, что я в его власти, начал:
— Откуда человек?
Я сказал, что приехал из Москвы.
— В командировку или по семейным?
Я ответил, что немного того, немного и этого.
Он помолчал, переваривая мой ответ и соображая, так ли это или я уклоняюсь от разговора.
Когда он наточил бритву и намылил мне щеки, я сказал:
— У меня девичья кожа, а волос жесткий, как у тифлисского кинто. Для него нужны овечьи ножницы.
Цирюльник был философ и кратко, сухо ответил:
— Борода создана для того, чтобы она росла.
Очевидно, он обиделся и теперь молча, высокомерно меня постриг и побрил.
— Компрессик уважаете?
Он сделал обжигающий, чисто юго-западный компресс, обильно наодеколонил меня и сказал:
— Будьте здоровы.
Я пришел к Бессарабке.
— А кому ранние мичуринские уцененные гвоздики?
— Лотос, лотос.
— И сколько вы хотите за всю эту комедию? — спрашивала тетка, разглядывая насыпанную на оцинкованный рундук гору тюльки.
— Мадам Славина, вас сметана встречала?
— Ветречала, встречала. Там дядечка в шляпе и с бородкой, только с рыжей бородкой, не седой, смотрите.
— Нет, девочка, нельзя так, так не пойдет, — говорил пожилой женщине, выбирающей товар получше, старик, продающий яйца прямо с контейнера со стружкой.
— Ничего, папочка, это самый смак, папочка, — уговаривала покупателя румяная молодуха, разложившая на лотке серую, таящую под солнцем подсолнечную халву.
— Стакан боржоми, — сказал я.
Киоскерша внимательно поглядела на меня.
— Вот сейчас я вам нарисую.
— А где можно достать?
— Сломаете ноги. — Она еще энергичнее стала полировать ногти.
Я стал переходить улицу в неположенном месте. Старшина, сидевший в голубом стакане, открыл дверцу и по-домашнему крикнул:
— Щоб тебе повылазило!
Когда я вернулся к гостинице, на углу бродил гражданин в новой соломке и новых босоножках и, не глядя на меня, как бы сам себе пробормотал:
— Мужское слово — три рубля, женское слово — пять рублей.
Я оглянулся. Он продолжал на молитвенный мотив бормотать свою странную фразу.
— Это вы говорите мне?
— А почему бы и не вам? Мужское слово — три рубля, женское слово — пять рублей.
— А что это за слово?
— А вы дайте три рубля.
Он спрятал бумажку в карман, оглянулся и шепотом сказал:
— Сегодня на углу Короленко и Житомирской в магазине «Одежда» сиреневые бобочки, в универмаге — английские ботинки. Будьте здоровы!
И он пошел прочь, бормоча свою молитву: — Мужское слово — три рубля, женское слово — пять рублей.
Город неведомо разросся. Он ушел многоэтажными, монолитными кварталами к Голосеевскому лесу и башнями небоскребов за лес, который стал теперь большим городским парком. Город перешагнул через Днепр, залил широкую пойму, потеснил узловую станцию Дарница и ушел к Борисполю, к Броварам. Город далеко ушел за Шулявку по Брест-Литовскому шоссе, город поглотил дачные Святошино и Пущу-Водицу, и Пост-Волынский, откуда я некогда, в детстве, из окна поезда впервые увидел белые утесы на холмах Киева.
Но этот новый город как бы для меня не существует. Он как бы в другом измерении, в другом веке, в другой, уже не моей жизни. А мой город, как и встарь, весь на этом пятачке Крещатик — Саксаганского — Короленко, где Житомирская улица, по которой вели в Бабий Яр, уже дальняя улица, а Демиевка и Шулявка — окраины, куда попадаешь раз в жизни, а то и за всю жизнь ни разу.
И тихая, укромная, как бы спрятанная в карман города Трехсвятительская с домами-террасами на разных уровнях, домами, вырастающими из оврагов и как бы стоящими на плечах друг у друга, старыми дуплистыми ивами и богатырскими грабами, шумящей, двигающейся лиственной тенью и слепяще солнечными пятнами, с яркой, не жеванной автомобильными шинами травой, и одуванчиками, проросшими сквозь булыжник, и седыми одуванчиками у подъездов, раскрытыми окнами, из которых смотрит на вас фокстерьер или ангорская кошка; тихая, старая, добрая Трехсвятительская, уютно карабкающаяся на Владимирскую горку, откуда открываются в фиолетовой дымке щемящие душу, как воспоминание, далеко ушедшие за реку, за все мыслимые границы, жемчужно переливающиеся, мерцающие миллионами огней, новые, неведомые мне, чужие, как иностранные государства, городские дали, с молниями скоростных трасс, с жизнью и судьбами уже иных поколений, пришедших на землю после меня, вольно и могуче расположившихся, заковав в гранит реки и болота, оседлав окрестные луга и поля.
Как приятны, как спокойны и великолепно торжественны, великодушны старые, с детства знакомые названия улиц — Институтская, Банковская, Зеленая.
Томительная печаль встречает меня на старомодных киевских улицах, мощенных звонким, чистым, еще царским клинкером с чугунными табличками и обсаженных широкошумными каштанами.
Солнечные дни, высокое и синее небо, золотые купола лавры, колокольный звон, звон сияющих в небе тяжелых бельгийских пульманов, цокот копыт и мягкий плавный ход дутиков. Катится высокий желтый обруч, мелькает что-то велосипедное, клетчатое, и розово-желтые свечи, как бенгальские огни, освещали мой путь. Левка-бык, Жора-Паташон, Люськи-Генки... Печаль ведет меня по улицам, заросшим травой, как запасные пути давно оставленной железной дороги, заводит в темные, пахнущие кошками подъезды с неработающими лифтами, в огромные каменные киевские дворы, где пенсионеры в форменных фуражках играют в кости, а мальчики гоняют целлулоидные шарики.
Я стою посреди двора, смотрю на каменные этажи, и кажется мне, все эти Люськи и Генки, Ольги и Ирины, Спартаки, незримые души их собрались и смотрят на меня из этих старых-престарых окон, и я слышу их звонкие голоса, давно заглохшие, умершие, развеянные в Бабьем Яру, на Курской дуге, в Воркуте, стынущие, может быть, где-то и сейчас в коммунальных квартирках, в богадельне или, может, еще веселящиеся на этой земле.
Печаль ведет меня на днепровскую кручу.
Здесь, на Андреевском спуске, еще сохранился старый милый Киев, каштаны, тишина и забвение, далекое запустение моего детства, трава на мостовой, крепкая, грубая крапива у забора, крылечки в зеленом винограде. Мне милы эти уголки, они напоминают мне юность, когда я впервые приехал в этот город и вдруг услышал утренний скрежет трамвая на кругу, и веселый, бодрый его звон, и дальний, протяжный, распространившийся по всему городу гул, который так нужен, так необходим юному, все жаждущему, ко всему восприимчивому сердцу.
Мне мил этот уют, это постоянство, эта неизменяемость и тишина забвения, когда старое доживает свое покойно, и что пока еще не пришли сюда бульдозеры и не смяли и не сокрушили в кучу щебня и пепла этот живший некогда, помнящий свое родство мир.
Я бы и повсюду сохранил, оставил нетронутыми эти уголки старой жизни, старого быта и порядка жизни, пока все, кому это дорого и памятно, еще живут на земле. Молодое, нетерпеливое, азартное все равно улетит из своего старого гнезда, заведет гнездовья на новых местах, на высоких вершинах, а старому дайте дотлеть, дайте спокойно во сне умереть.
Вот на углу, у афишной тумбы, два старых еврея с Подола, в одинаковых, белых, круто накрахмаленных полотняных костюмах, одинаковых соломках производства города Конотопа, только один громадный, носатый, с шишкой на лбу, с дерматиновым портфелем в руках, другой низенький, с узким лукавым личиком, в несказанно широчайших, ниспадающих брюках и с пустой авоськой.
Я остановился читать афиши, а они за спиной разговаривали по-еврейски, но все время проскальзывала одна русская фраза: «Все течет, все изменяется». То один, то другой в быструю заинтересованную, энергичную еврейскую речь вставлял это медленное равнодушное «Все течет, все изменяется», выговаривая ее на разные лады, один басом, другой дискантом.
Иногда они замолкали, и слышен был только шелест вздохов, и мне казалось, что они чувствуют, что я спиной слышу их разговор. Но вот их снова подмывало, и они начинали быстро-быстро, перебивая друг друга, говорить по-еврейски, и снова замелькало: «Все течет, все изменяется».
Слава Черномордик был дитя гражданской войны. Уже в двенадцать лет он работал курьером в армейской газете, привозил домой на Андреевский спуск на саночках паек — пшено, гороховый хлеб, воблу, а по ночам писал стихи в стиле поэтов «Кузницы». «Мы — кузнецы», — декламировал Слава и делал сальто-мортале.
В годы нэпа Слава поехал учиться в Ленинград и сначала снимал угол у вдовы акцизного, бывшего инспектора налогов, которую в коммунальной квартире теперь запросто звали Боба, и у нее был старый, больной ревматизмом и выпадением памяти попугай, роялистски настроенный, который ранним утром будил всю квартиру капризным, непримиримым криком: «Да здравствует его императорское величество!» — и Слава никогда не высыпался и поставил перед хозяйкой Бобой ребром: «Я или он!» И Боба, не задумываясь, выбрала попку и вернула Славе червонец задатка. Тогда Слава по рекомендации поселился в семье оптового фруктовщика, выкреста, Михаила Ивановича Мееровича, старого петербуржца. Утром лопоухий Слава появился в чопорной петербургской гостиной, когда пили чай с теплыми крендельками, и, картавя, выстрелил в присутствующих четырьмя киевскими «ч»:
— Что, чай очень горячий?
Все попадали под стол, особенно поразилась прислуга Нюшка.
После этого обидчивый Слава никогда не ходил в гостиную, а завтракал по дороге в институт, съедая на ходу посыпанную маком халу и круг колбасы.
Поступил сначала Слава в институт сценического искусства, но на первом же семинаре обнаружил, что там изучают его собственную одноактную пьеску, написанную для ТРАМа, и понял, что это за наука, и срочно перешел в институт восточных языков. Там он успел изучить два слова: «кавардак» и «майдан», уловил, что это за язык, и больше уже в институт не явился, а стал работать репортером комсомольской газеты.
Редактором газеты в то время был известный Семен Глязер, юный мудрец из житомирского Ошивобота, перешедший прямо от комментариев к Талмуду к партизанскому клинку, боец знаменитого Таращанского полка, которого сам батька Боженко отличал за фанатическую храбрость. Утром Семен Глязер приходил в редакцию из комсомольского общежития, сурово опрысканный дезинфекционной карболкой в санитарных соображениях, сияя круглой, побритой до синевы головой, похожей на баклажан. Грубые армейские башмаки бывали иногда у него по рассеянности зашнурованы штрипками от кальсон, так что все это составляло одно нерушимое, неделимое целое, в котором он был как в латах.
Как батька Боженко отличал его за храбрость, так он теперь отмечал Славу за бойкость пера. Он вызывал Славу в кабинет и диктовал ему передовую. Несмотря на годы, проведенные им в казачьих лавах кавалерийского полка, и вот уж пять лет комсомольских конференций и заседаний, Семен Глязер все-таки продолжал думать на языке Библии, по-древнееврейски, переводил все это в своей голове на еврейский и уже объяснял Славе содержание передовой по-еврейски, а Слава уже, ухмыляясь, записывал все это по-русски.
Сияя беспощадной своей бритой головой, Глязер хрипло, приказно выкрикивал: «Дер поер зол гибн брейт!» — и сурово задумывалея над следующей установкой. А Слава, зная свое дело, уже строчил: «Середняк должен дать пролетарскому городу хлеб и в союзе с бедняком и рабочим классом против кулака и мирового империализма, монолитно идти в нерушимых рядах вперед и вперед, к светлой цели — коммунизму!»
Громким, срывающимся подростковым голосом Слава ликующе прочитывал Глязеру написанную фразу, и тот согласно кивал головой и только делал единственную поправку: «Надо: в союзе с бедняком, под руководством коммунистической партии».
Однажды Слава написал фельетон и пришел к редактору. Тот, читая фельетон, смеялся, так смеялся, что бритая голова его, апоплексически красная, как помидор, покрылась капельками пота, и он долго не мог отдышаться, а когда отдышался,то сказал Славе, что фельетон не пойдет.
— Но ведь вы смеялись? — удивился Слава.
— Но каким смехом я смеялся, пяточным...
И тогда Слава сразу написал роман. В том романе участвовал старый аптекарь, тайно торгующий гашишем, польская графиня-красавица, про губы которой было сказано: «оранжевое гнездо поцелуев», немецкий капитан Лойда в бежевом котелке и наглухо застегнутом черном рединготе, чья капитанская каюта обклеена обнаженными красавицами всех цветов кожи, среди действующих лиц был и китайский бой, индийский раджа, один цадик, и один монах, и еще там был автомобиль «роллсройс» и пулемет «максим». Действие происходило в Варшаве, Гонконге и Жмеринке. Роман не напечатали, и Слава пошел работать в уголовной розыск и скоро стал работать следователем по важнейшим делам, и в Киеве на Андреевском спуске про него говорили, что он стал шишкой.
Я подошел ближе, и одна старушка сообщала другой:
— Банно-прачечный трест много потерял в моем воображении.
На что другая ей отвечала:
— ОБХСС много потерял в моем воображении.
Так они беседовали, пока я не вошел в их тень, и тут они обратили свои лица на меня.
Я спросил, где мне найти Розалию Яковлевну Черномордик.
— А зачем вам нужна Розалия Яковлевна Черномордик? — спросила одна.
— Кто вы такой? — спросила другая.
Они собирались дорого продать мне тайну Розалии Яковлевны Черномордик.
— Я товарищ ее сына.
— Какого сына? — спросила одна.
— У нее шесть сыновей, — тут же сообщила другая.
— Ростислава Петровича, — сказал я.
— Ростислава Петровича! — воскликнули обе сразу.
— Вы хотите сказать, Славика, — догадалась одна.
— Чего же вы сразу не сказали! — закричала другая.
— Розалия Яковлевна Черномордик больна, — сказала одна.
— Очень, очень больна, — добавила другая.
Старушки подпрыгивали, как воробушки, они забегали вперед друг перед другом, указывая мне путь вниз по узкой каменной сыроватой лестнице в кухню, полную оцинкованных корыт и белья на веревке, а потом еще маленьким, темным коридорчиком в большую сумрачную комнату, с одним окошком над самой землей, в которое видны были лопухи и осколки разбитой шампанской бутылки, на одной травинке повис панцирь умершего кузнечика.
— Кто? Кто там? — слабо спросили из сумрака полуподвала, и эхо откликнулось в далеких годах.
— Розалия Яковлевна, это товарищ вашего сына Славика.
— Славик! — закричали из сумрака. — Сынок мой любимый!
— Это не Славик, это товарищ Славика, — сообщили старушки, подведя меня к большой ореховой кровати, на которой в тряпье ватного одеяла лежала больная.
— Славик, сыночек мой, ты все-таки приехал! Мне снился дивный сон, как мне теперь хорошо!
— Да, — тихо сказал я.
— Мне хорошо не потому, что мне хорошо, — закричала она, — а мне хорошо потому, что тебе хорошо, что мне хорошо, — и, не дав мне ничего сказать, она тут же стала сообщать мне фантастические новости.
— Славик, сын у нашей соседки разбойник, сказочно богат, он торгует голубями. Он выходит на улицу и останавливает такси. — Глаза ее округлились от ужаса. — И он садится в такси и едет. Куда он едет? — спросила она, и глаза ее тихо сомкнулись, она заснула.
— Розалия Яковлевна очень любознательна, очень, очень, — сказали старушки. — Славик, как уехал, так ни разу не приезжал. Что, он так занят там, он государственный человек, да? Я слышала, что он большой профессор, во всех науках знает толк. Ах, Славик, Славик, какой это был милый, деликатный и кроткий мальчик, чисто бархатный мальчик, никогда в жизни я бы не сказала, что он станет прокурором, и в мыслях не раскладывала. Сколько он получает жалованья, Славик, ну хотя бы к примеру, я не хочу точно, к примеру?
Я пошел вверх к Печерску, и, глядя на эти огромные каменные многоэтажные дома, на эти многочисленные окна, я подумал:
«Отсюда все родом, все родом отсюда, прокуроры, пианисты, академики, полярники, все они из этого старого великого города. Тут родились, бегали с ранцем по этим улицам, пинали мяч по асфальту этих дворов, целовались в лунные ночи под розово-желтыми свечами этих каштанов, и там, на Енисее, на Сырдарье, на острове Врангеля, в Каракумах и в Буэнос-Айресе, является им зеленый город на холмах.
Одни уехали еще в те давние, теперь уже нереальные годы, когда по главной улице на белом коне в белой черкеске ехал гетман Скоропадский, другие попозже, когда под черными асфальтовыми котлами грелись беспризорные, третьи уже перед самой великой войной, и еще много позже уезжали и уезжали, каждый пароход, уплывающий вниз и вверх по Днепру, каждый самолет, взмывающий с взлетной полосы в небо, и даже каждый автобус, уходящий по расходящимся звездой магистралям, кого-то увозил из этого старого города, и еще будут уезжать, всегда уезжать из этого великого бездонного города».
В вагон трамвая вошел носатый пожилой человек с сифонами зельтерской воды в громадной авоське и, как мне показалось, очень похожий на меня. Я пристально взглянул на него, и он, чувствуя мой взгляд, растерялся, а потом отвернулся, а я думал о том, что останься я тогда, в тот далекий год, в городе, я мог бы оказаться на его месте, и это я бы сейчас вошел в трамвай с громадной авоськой с зельтерскими сифонами. Потрясала эта возможность, этот вариант жизни.
Длинноногий, длиннорукий, длиннолицый нелепый мальчик по кличке Жора-Паташон, а по имени Мотя, с длинным, вытянутым лицом, он как бы самой судьбой был запрограммирован на несчастья.
У подъезда стояла крышка гроба, и несколько человек обсуждали местные. события. Я поднялся по старой лестнице на третий этаж. Дверь в комнату была раскрыта. Это была огромная старая киевская барская квартира. Вот уж полстолетия коммунальная. Многочисленные двери были закрыты на висячие замки, и только одна дверь настежь распахнута, и оттуда поддувал теплый сквознячок.
— Кто там? — спросили из комнаты, заслышав мои шаги.
В довольно большой, высокой солнечной комнате на столе стоял открытый гроб, пожилая женщина убирала его цветами.
— Простите, — сказал я и узнал Жору-Паташона. Длинное, несчастное лицо глядело в высокий потолок: «Наконец-то я отмучился».
— Вы из собеса? — спросила женщина. — Так мы все оформили.
— Я не из собеса.
— Ну-ну, — сказала женщина. — А если не из собеса, так не беспокойтесь, мы все оформили.
Это были похороны после служебного дня. Полдневный знойный шум города вдруг покрыли тяжелые, безнадежные волны похоронного марша.
По самой середине мостовой, под ярким горячим солнцем, нелепо-торжественно вышагивал лысый совслужащий в широких чесучовых брюках и тенниске с короткими рукавами, неся атласную подушку с медалью «За трудовое отличие», за ним, сбиваясь с ноги, шли четыре сотрудника, скучно неся на плечах крышку гроба.
За ними, дребезжа и повизгивая всеми несмазанными втулками, двигалась старая, смердящая похоронная карета, влекомая толстыми под грязно-белой сеткой конями, которых вел под уздцы кучер в замасленном деревенском чернобумазейном костюме. И уже за каретой уныло, легкомысленно топали советские служащие в затрапезе, в апашах, в босоножках, с портфелями и авоськами, переговариваясь и пересмеиваясь о своем учрежденческом, сиюминутном, преходящем, не божеском. Процессия, медленно продвигаясь через запруженный машинами город, достигла наконец старого Байкового кладбища.
Фиолетовые кони
С художником Миллионщиковым случилась неприятность. Спускаясь по лестнице после ужасного собрания секции живописцев, на котором распинали его нашумевший натюрморт «Розы и синие персики», он привычным жестом нащупал на руке место, где пульс, и пульса не обнаружил. «Потерял пульс! Нет пульса!»
Миллионщиков прибежал домой и стал измерять давление. У него был личный аппарат, и он даже художественно вычерчивал ежедневный график своего давления, хотя врач предупредил, что когда-нибудь кончится это плохо, пусть лучше аппарат продаст или подарит общественной организации.
На этот раз Миллионщиков не вошел, а ворвался в кабинет к врачу и закричал:
— Доктор, У меня двести пятьдесят на сто восемьдесят!
Старый доктор взглянул на него и спокойно сказал:
— А вы помножьте и потребуйте в валюте.
Миллионщиков растерянно сел.
— О молодежь! — сказал доктор.
— Посмотрите, — попросил Миллионщиков.
— А что смотреть, сердце — молот, легкие — мехи.
— Но щемит.
— Марафон в шесть утра на шесть километров.
— Но болит.
— Еще рубка дров хороша.
— Но послушайте.
Доктор взял стетоскоп, стал слушать.
— Да-с, в постельку, — сказал он, — валокординчик.
— А гимнастика?
— Гимнастика? Можно. Пальцевую, полторы минутки.
— Ироничный такой, — жаловался Миллионщиков, — прописал положительные эмоции. А где их взять? Представить себе, что я получил Нобелевскую премию? Что я еду на Лазурный берег?
Раньше, наработавшись и намаявшись кистью или резцом, набегавшись по заседаниям художественных советов, Миллионщиков поздним вечером, только прикоснувшись ухом к подушке, будто на ракете прилетал в солнечное, звонкое и радостное утро.
А теперь ночь похожа была на поездку в старом, захолустном узкоколейном поезде с бесконечно длинными, нудными остановками, и пахло табаком, хлоркой, детскими пеленками, и к утру он был разбит, сердитый, с тяжелой головой и сердечной болью.
Теперь он только и думал о сне, или, как говорили врачи, зафиксировался на этом.
Читая художественные произведения, роман или повесть, Миллионщиков с острым любопытством вычитывал все о сне, и, если кто из героев крепко, беспробудно спал, ему хотелось узнать, как он этого добился, а если у кого была бессонница — это его успокаивало, что он не один на свете такой.
Встречая знакомых, он сразу же сообщал, как-то даже хвастливо:
— Я теперь зафиксированный.
И, оказывается, все были зафиксированные. Нашлась масса знатоков, заслуженных деятелей бессонницы, иные уверяли, что не спят уже десять, двадцать лет, другие, что вообще они всю жизнь не спят и все знают, собаку на этом съели.
Знаете, что очень хорошо помогает: считайте слонов. Вот — один слон, представьте себе хобот, голову, уши, туловище, ноги, хвост. Потом — второй слон, третий. Это очень успокаивает.
Миллионщиков спрашивал:
— А до каких пор считать?
— Хоть до миллиона, пока не заснете. А проснетесь, пососите сахар. Вот это двигательное движение прекрасно помогает, и вы снова провалитесь в бездну.
— Ну? — удивлялся Миллионщиков.
Другие советовали:
— Представьте себе реку, поле, луг, жужжатпчелы, летают мотыльки. Будете спать, как ребенок.
Но Миллионщиков все не спал. Сначала он принимал капли Зеленина, димедрол, адалин, а потом пошел нембутал, ноксирон, люминал и однажды, в тяжелом сне, ему вдруг привиделось, что он принял пачку люминала прямо в упаковке, и ему казалось, что он умирает.
Теперь Миллионщиков у всех выспрашивал рецепты и гонялся за новыми снотворными, и ему казалось, что чем оно дефицитнее, тем сильнее и лучше на него подействует, и стоит только его достать, уже от одного вида он станет спать. И когда в моде стал андаксин, он жрал его, как шашлык.
Наконец кто-то посоветовал Миллионщикову лечение словом.
Это была новая чудесная больница в молодом зеленом парке, вся из стекла, похожая на город солнца Кампанеллы. И Миллионщиков приободрился.
В огромном, залитом светом модерновом холле, с мягким бесшумным, цветным пластмассовым полом, в углу была встроена самодельная, крашенная белилами проходная с микроскопическим окошком, из которого невидная никому женщина голосом пограничника произнесла:
— Паспорт!
Миллионщиков покорно сунул в щель паспорт и стал ждать. Пограничница ушла что-то выяснять, а может, как раз наступил обеденный перерыв и она в своей будке заправлялась всухомятку, а может, она просто забыла о нем и в это время вязала кофточку по рисунку журнала «Болгарская мода».
Миллионщиков робко постучал в закрытое окошко и сказал: «Послушайте...»
— Не стучите, я не глухая! — ответили оттуда. — Психи! — и с этим словом с громом выдвинулся фанерный инкубаторный ящичек и в нем пропуск.
Гардеробщица властным, незаискивающим голосом, которым говорят служащие больниц, судов и жилищных органов, скомандовала: «Пропуск!» выхватила из рук Миллионщикова пальто и выкинула на барьер белый халат.
У кабинета «Гипноз» была очередь, как в салон красоты. Миллионщиков удивился и покорно спросил: «Кто последний?»
Обессиленный ожиданием и волнением, он сидел, потеряв ощущение времени, пока наконец няня, взяв его, как ребенка, за руку, ввела в темный, какой-то ночной жуткий кабинет, где он увидел толстого, с лоснящимися щеками гипнотизера, одетого по-старинному, в тройку.
Гипнотизер стоя что-то спешно дожевывал, и на жилете были крошки, и в лежащей на столе сальной бумажке были крошки, и Миллионщикова поразило, что гипнотизер питается, как все люди, перехватывая между двумя сеансами гипноза бутерброд с ливерной колбасой, и у него сразу пропал тот фантастический строй мыслей, с которым он шел в этот удивительный кабинет.
— Это ваша картина «Розы и синие персики»? — спросил гипнотизер. — Вы талант, вам нечего беспокоиться за будущее. Это я вам говорю.
Гипнотизер усадил художника на круглую белую табуретку посреди кабинета, сам стал у стены, сложил руки и приказал:
— Закройте глаза!
Автор картины «Розы и синие персики» закрыл глаза.
И все пошло абстрактными кругами, и из этих кругов вдруг, будто с того света, дошло:
— Скажите: «Мне хорошо!»
— Мне хорошо, — бездумно повторил Миллионщиков, чувствуя, как бешено бьется сердце.
Он ожидал, что сейчас его коснутся магнетические токи и он потеряет свою волю и растворится.
— Мне очень хорошо! — приказал голос.
«Еще очень», — ворчливо подумал Миллионщиков, но все-таки покорно, громко и глупо повторил:
— Мне очень хорошо!
— Я спокоен! — утверждал голос из темноты.
«Да, черта с два», — подумал Миллионщиков, чувствуя, как пульс бьется в висках, в затылке, в кончиках пальцев, и попкой повторил:
— Я спокоен!
— У меня нет никаких забот! — сказал ликующий голос.
— У меня нет никаких забот, — тупо повторил Миллионщиков и тут же вспомнил, что художник Краснов назвал его за новую картину «Фиолетовые кони» подонком декаданса, что шубу жены побила моль и у нее «мозговые явления»...
Из этих горестных раздумий, из списка благодеяний жизни его вывел приказ:
— Откройте глаза!
Миллионщиков с усилием разлепил веки и взглянул на гипнотизера. Проклятый, он снова жевал, пот струился с его лица.
— Вы большой талант, — сказал гипнотизер, — вы написали «Розы и синие персики». Я за вас спокоен.
Он поставил против его фамилии «птичку».
— Десять сеансов — и вы будете новенький.
«Да, увидишь меня еще!» — устало подумал Миллионщиков и, предчувствуя страшную боль, пошел в салон покорно отбирать свою новую картину «Фиолетовые кони».
Но картину не вернули, ее приняли на «ура». Что случилось? Было какое-то новое вышестоящее указание, что кони могут быть и фиолетовые, или он действительно написал гениальное произведение, Миллионщиков не знал.
В эту ночь он спал.
Инара
В приморском парке, у теннисных кортов, в маленьком белом домике, похожем на киоск мороженого, жила латышская девочка Инара с зелеными, как балтийская волна, глазами на фарфоровом личике.
Отец ее служил сторожем кортов. И тут, в парке, у нее не было ни подруг, ни товарищей, и росла она одна.
Была у нее маленькая желтая лопатка и синее жестяное ведерко, и с утра до вечера она копалась в песочке среди красного вереска, а вокруг тихо летали мотыльки с цветка на цветок.
Однажды на корт пришел со своим отцом красивый смуглый кучерявый мальчик в замшевой курточке на «молниях» и в шерстяных гольфах с пушистыми помпончиками, — стройный, гибкий и гордый.
Он был из другой породы, он был с полуденного юга. И Инара долго испуганно и восхищенно молча глядела на это кучерявое чудо.
Она подошла к нему и, не в силах сдерживать себя, тронула белый пушистый шарик на его гольфах.
— Старуха, — сказал мальчик, — не прилипай!
Он стоял, притаившись у куста жасмина, медленно, осторожно протягивая к чему-то руку, и вдруг быстро, ловко, беспощадно схватил за слюдяные крылышки стрекозу.
— Слабо! — сказал он.
Стрекоза с черной бронированной головой, длинная и острая, как торпедный катер, гудела и старалась вырваться, но кучерявый цепко держал ее тонкими, жесткими мальчишескими пальцами.
Теперь он побежал за голубым мотыльком, поймал его и предложил стрекозе:
— Жевать хочешь?
И стрекоза как бы кивнула.
Мотылек, увиливая и отворачивая голову, захлопотал своими слабыми, своими прозрачными, лазурными крылышками ангела.
— Не надо, мальчик, ой, не надо! — зашептала Инара.
— Отколись! — прикрикнул на нее кучерявый, вплотную придвинул мотылька к стрекозе, и та хищно, быстро схватила его крепкими, железными челюстями.
— Она ее лопает, она ее лопает! — завопил кучерявый и засмеялся.
Мотылек перестал бороться и затих.
— Хана! — сказал кучерявый.
Инара долго-долго глядела на мальчика и вдруг заплакала.
— Дура, клякса! Ни бельмеса не понимаешь!
А Инара плакала и плакала, маленькое непонятливое вещее сердце ее разрывалось от жалости к себе.
Московские негры
Проходят каленные морозом иссиня-пепельные московские негры. И глядя на них, каждый раз я удивляюсь — как похожи они выражением лиц на местечковых подростков, которых я некогда знал там, далеко и давно. Просто каждого из них я уже давно когда-то видел, и звали их Лева, Яша, Зюня, и я помню даже, в каком переулке они жили.
Что, может, и они приехали из таких же маленьких, захудалых, заброшенных поселений? Или просто люди всей земли, всех рас и цветов кожи, в сущности, очень и очень похожи друг на друга?
Кумир
Любочка, ученица магазина «Женская одежда», увлекалась знаменитыми людьми. Она покупала все открытки киноартистов, космонавтов, теноров и даже завела для них альбом.
И вот вдруг сегодня она встретила на улице знакомое, уже почти родное ей знаменитое лицо. Это был ее кумир, ее мечта. Улица показалась Любочке иллюминированной, и вокруг был салют.
Стуча каблучками, она опередила кумира и заглянула в его живое, долгожданное лицо и встретила хмурый, невидящий взгляд.
Потом она долго, как в тумане, как в чаду, отравленная веселящим газом, шла за ним, замечая его шляпу с узкими полями, модное приталенное пальто, из-под которого выпячивало маленькое, незаметное, как у шмеля, круглое брюшко, ярко начищенные узконосые мокасины, чтобы потом все, все рассказать подружкам.
Вот знаменитый остановился у табачного киоска и купил пачку сигарет, и она про себя отметила с удивлением: «Шипка»!
Потом он подошел к будке чистильщика, капризно о чем-то поговорил с ним, и тот вытянул пару шнурков, а он порылся в кошельке, долго сосчитывал бронзовые монетки, дал чистильщику и спрятал шнурки в карман и пошел дальше.
А Любочка плелась за ним, почему-то уязвленная мелочностью его покупки и мыслью о том, как он может думать и помнить о такой чепухе.
И тут ее знаменитый вышел на угол к метро, где возле толстухи в белом халате, торговавшей пирожками, выстроилась очередь, и покорно встал в затылок какой-то старухе.
А Любочка замерла поодаль и не верила своим глазам. У нее от волнения и недоумения пересохло во рту.
А знаменитый как ни в чем не бывало, в шляпе набекрень, в приталенном пальто и узконосых туфлях, стоял среди девчонок и стариков.
Подошла его очередь.
— Один с рисом и один с повидлом, — сказал он кукарекающим голосом.
Получив пирожки в маленьких квадратиках бумаги, ее кумир отошел за будку-автомат и, тупо глядя в стену, стал жадно есть, даже не есть, а как-то всасывать пирожки, от удовольствия дрыгая ножкой.
А Любочке хотелось плакать.
Велосипедисты
Толстый мальчик в бутсах и полосатых гетрах вышел из калитки дачи с насосом, настоящим, великолепным велосипедным насосом, и, посвистывая, пошел по зеленой улице во двор другой дачи. Там его ждали у открытого гаража еще несколько мальчиков в таких же бутсах и гетрах, и в траве навалом лежали их велосипеды.
Хозяин насоса стал надувать футбольный мяч, остальные мальчики стояли вокруг и молча смотрели, как набухает, туго твердеет оливковая покрышка, а потом один из них щелкнул пальцем по мячу и сказал: «Готов», и они вместе стали шнуровать и крепко затягивать круглый, звонкий, легкий и невесомый как перышко мяч.
В мои годы на весь наш городок был один детский велосипед, и, когда рыжий велосипедист в клетчатом кепи и белых гамашах выезжал на солнечные улицы, вся жизнь замирала, как в испорченном кино. «Воры и сыщики», «Красные и белые», «Принцы и нищие» — все стояли, разинув рот или засунув палец в ноздрю, и очарованно глядели на двухколесного фокусника.
А настоящего, футбольного, с резиновой красной камерой и вкусно хрустящей, сшитой из долек кожаной покрышкой, намертво кожаными шнурками шнурованного мяча мы никогда и не имели. Самые ответственные матчи, когда за сухой счет 12:0 проигравшие отдавали победителю свою форму — трусы с красными или зелеными кантами, — эти матчи игрались резиновым мячиком, а тренировка шла на тугом, тяжелом, как камень, размокавшем на дожде тряпичном мяче.
Обо всем этом я думал, когда сзади раздался свист.
Мальчики в разноцветных бобочках пролетели мимо на велосипедах по лесной заповедной аллее, среди дорожных знаков запрещений, и последний прижимал к груди оливковый футбольный мяч.
А я, будто на «машине времени» отброшенный в двадцатые годы, стоял на дороге и смотрел им вслед.
Отель «Коломбия»
В Геную мы приехали вечером, и нас поселили в старой привокзальной гостинице «Коломбия». Как и во многих древних итальянских отелях, парадный ход тут вызывающе модернизирован, холодно-стеклянно-алюминиево торжествен, отлакированные, сияют новизной двадцать первого века вертящиеся амальгамные двери, и медные части надраены, как на линкоре, и в небольшом, но пышном вестибюле малиновые ковры и абстракции из желтой майолики, и за конторкой — лорд; лифт, как международное купе люкс, сверкает красным деревом и жарким золотом бронзы, поднимается бесшумно, неспешно, богато в космополитический рай; а выходишь из лифта — Жмеринка 1913 года, узкие, дремучие коленчатые коридоры, пахнущие нафталином, чесноком, клистирами, всеми постояльцами, их вирусами, их мукой, тоской и безысходностью метаний. В огромных номерах старинные кровати, какие были у наших бабушек и дедушек, с линялыми никелированными шариками и ветхими пружинными матрацами, и шуршат в обоях мыши, прорывшие ходы еще во времена царствования Виктора-Эммануила, а в сумрачном колодце двора, куда глядят окна с дачными жалюзи, местечковый, ярмарочно-яростный итальянский гам и неразбериха.
И весь этот на веки веков единственный, наверное, вечер в Генуе я вижу у гостиницы одну и ту же одинокую птичью фигурку. Высокая, голенастая девчурка, с кукольным опухшим личиком цвета мочи и прыщиками на лбу, расфуфыренная во все ярко-разноцветное: голубой жакет с крупными, как кофейные блюдечки, серебряными пуговицами, алую мини, сиреневые чулки, с гвоздикой в платиново-седых, распущенных «колдуньей» волосах, помахивая дешевеньким японским веером и как-то по-особенному порочно, завлекающе выворачивая длинные, тонкие вибрирующие ноги в открытых лаковых лодочках на высоких шпильках, безостановочно ходит взад и вперед мимо отеля, вихляя худыми пустячными бедрами, предлагая себя не только прохожим, но и афишным тумбам, но и мертво стоящим на приколе у тротуара кротким, похожим на инвалидные колясочки, пузатым итальянским малолитражкам.
А жирная, усатая сатанинская старуха с корзиной невинных цветов, кашалотом торчащая на углу, и лощенный нахальным холуйским блеском, в зеленой униформе швейцар у фешенебельного отеля «Палас», свистком вызывающий к подъезду такси, и красавец чистильщик с пышными баками, как султан, сидящий на своем бархатном табурете под зонтиком и голосом Карузо завлекающий прохожих, и скандальная, все выясняющая между собой отношения супружеская пара у пестро размалеванной тележки «пепси-колы», и молодой ласковый капуцин в домотканой сутане, подпоясанной элегантной белой нейлоновой веревкой, в ультрамодных темных очках и в деревянных сандалиях-«стуколках» времен Древнего Рима или военного коммунизма на Украине, звучно-печально потряхивающий шкатулкой монастырского сбора, и лотерейный шарлатан в зеркально начищенных мокасинах, вопящий: «Фортуна», обещая всем коронный выигрыш — 150 миллионов лир, и полицейский регулировщик в белой каске, белых крагах и белых перчатках с раструбами до локтей, с многоствольным свистком футбольного рефери, — никто, никто не замечает ее, как муху.
А она, этой своей фирменной, всем доступной, всем отдающейся, вихляющей походочкой, под взором ихнего ГАИ, не останавливаясь (останавливаться нельзя!), ходит туда и назад. И то подмигиванием разрисованных глаз, то как бы случайно брошенным в никуда охальным словечком, то как бы непроизвольным неправдоподобно-бесстыжим движением бедра, задевая почти всех прохожих: бизнесменов, пилигримов, матросов, мультипликационных шотландцев в клетчатых юбочках, зелено-оранжево-голубых африканских генералов, хасидов в лапсердаках с пейсами и круглых черных шляпах, будто выскочивших из виленского гетто 1905 года, племенных вождей, йогов и даже советских туристов в широких габардиновых брюках и дырчатых сандалетах производства города Кимры.
— Импозант! — говорит она, а они шарахаются от нее, словно от психа с Канатчиковой дачи, вызывая у нее бурный профессиональный смешок.
И так она бродит, как слепая, не запоминая никого в отдельности. Я раз пять в этот вечер выходил то в «Иллюзион» на Джеймса Бонда, то в «Эспрессо» на углу выпить чашечку «арабико», то просто потолкаться на вавилонском перекрестке, и все пять раз она, не узнавая, делала мне глаза со значением и увязывалась за мной, жалким, умоляющим голоском тихо и нежно в спину говорила: «Симпатик».
Проехала кавалькада машин с орущими рупорами, разбрасывая розовые, желтые листовки, на которых было одно слово: «Баста!» — и то ли это были трамвайные кондукторы, то ли официанты, то ли мусорщики, одна из многочисленных, мгновенно вспыхивающих и гаснущих, как ракета, генуэзских забастовок, и на миг девчурка застыла, прислушалась, присоединилась.
А люди все мимо и мимо. Пробежали, как пони, маленькие, изящные, похожие на костяные фигурки оливковые явайцы, на которых она зрит, как на кукол; чопорной стайкой двигались монахини, сверкающе накрахмаленные, непорочной белизны, и она шустро и весело встала посреди дороги, и они аккуратно обходили ее, как Содом и Гоморру; дисциплинированной цепочкой, как детский сад, аккуратно продефилировали американские квакеры, краснощекие, смирные, выросшие на постном масле, все с открытыми черными книжечками-путеводителями, и она глазела на них, хихикая, а когда прошел пастырь, толстый, важный барбос, тоже с открытой, как псалтырь, книжечкой, в которой он будто читал о сотворении мира, она чуть не лопнула со смеху. Тротуар заполнили сиротские девочки, все одинаковые, словно отчеканенные, в белых халатиках, с розовыми бантами, с толстыми словарями-вокабулярами под мышкой, и она проводила их грустным взглядом старшей сестры. Шумной беженской компанией появились хиппи с голубыми глазами нестеровских отроков, косматые, засоренные, босиком и в разноцветных джинсах с тропическими малюнками на заду, и с ними она была наравне, смело хохотала, все ахала и допытывалась, откуда они и куда, зачем такие, есть ли у них ночлег, Бог, лиры и в чем цветок жизни.
А люди идут и идут, и слышится то рокочущий, отрывистый, как бич, американский сленг, то твердый, грубый, так знакомо ненавистный мне по окружению швабский окрик, то высокие, звучные, кованые терцины латинского, то мягкий, журчащий, как журавлиный шепот, малайский, то просто какая-то тарабарщина, волапюк, а она знает одно — встревает во все языки и наречья своей всем понятной, всем постылой умоляющей улыбочкой: «Закадрите лошадку»...
Но кто хмурится, кто прикроет глаза, как от облучения, а кто и пустит мат — финский или японский, все равно, она понимает, что это не объяснение в любви, и, отстав, про себя тоже пошлет его гекзаметром. Шизо!
Из оранжевой гоночной машины появилась голландка, распутно-пышная, в шортах, и пошла такой полноценной походочкой, что на ходу ее желали статуи, ветер, берсальеры, туристы, автобусы, и девчурка смотрела на нее испуганно, с восторгом и печалью.
— Фульчинели! — крикнула кому-то голландка в открытое окно отеля. — Фульчинели! — про себя повторила, прошептала девчурка и словно приобщилась к этой охотничьей умопомрачительной жизни.
Изредка кто остановится у сигаретного автомата возле дверей гостиницы, ухмыляясь, окликнет: «Пупсик!» — и, дернув рычаг и получив пачку тамошнего «Памира», щелкнув зажигалкой, закурит и, пустив ей в лицо дымом, засмеявшись, уходит. Хай! Приветик! Но она не обижалась, как не обижаются на слякоть, на ветер, на слепоту.
И в промокаемых синтетических лодочках, с увядшим цветочком в волосах, неутомимо бродит и бродит, и если моросило, пережидала под широким бетонным козырьком гостиницы, с жалостным ликованием заглядывая в лицо всем входящим и выходящим, еще издали закидывая улыбочку в подъезжающие такси с гостями, перебрасываясь шуточками с гостиничным карликом, бегающим открывать дверцы машин. И мимо несут огромные вишневые и шоколадные чемоданы, кофры, саквояжи и саквояжики из Сиднея, из Стамбула, из Гонконга, и карлик-лилипут на вытянутых руках осторожно и важно, как живую малютку, проносит целлофановый пакет с нейлоновой шубой. И она, на миг вовлеченная в эту иллюзорную суматоху путешествия, в эту вечную карусель Синдбада-морехода, Марко Поло, Колумба, чувствуя себя участницей, тоже суетится, ахает, хохочет, восхищается, закатывает глаза, близка к счастливому обмороку. И она с кем-то громко заговаривает, гримасничает, волнуется, хорохорится, трескучим голосом рыбной торговки советуя, как лучше ухватиться, чтобы пронести в вертящуюся подлую дверь длинный, окованный медными полосами, похожий на гроб деревянный сундук, уступая дорогу, пятится назад, ассистирует, покрикивая на суетливых носильщиков в полосатых халатах, и ликует, что гроб прошел так удачно и все хорошо кончилось.
Ах, как заманчиво, как прелестно-таинственно на чужом пиру, никто ведь не знает, кто они и зачем они тут, может, они приехали на похороны или у них сифилис, или гонит банкротство, астма общественной жизни, или боязнь замкнутого пространства. Для нее это все равно чудесный, пасхальный праздник вояжа.
Но вот вишневые и шоколадные с миллионом этикеток чемоданы унесены, пассажиры в широкополых кабальеро, пассажиры в узких жокейских каскетках, в чалмах, в мундирах, в сари, в черных сутанах прошли, машины, оставив угарный бензиновый чад, улетели, все растаяло, рассеялось, как фейерверочный дым. И снова она одна, совсем одна, в ауте. В призрачном свечении неона она как рыбка в зеленом аквариуме зоомагазина, под моросящим, теплым, почти горячим генуэзским дождичком; и неожиданно прилетевший с гор ветер гонит уличную пыль, затоптанные листовки «Баста!», крутит юбку вокруг ее тонких-тонюсеньких, циркулем расставленных ног.
Теперь она просто прохаживается, она прохлаждается, она после пикника, раута, бала вышла подышать озоном, она обмахивается веером, ей надоел шум, суета, приставание междусобойчика, она жаждет покоя, тихой пристани...
И вдруг из темного домашнего подъезда появился толстяк в роговых очках, рохля с баулом, и она сразу сделала стойку, головка ее поднялась, как змея из цветка, и она пошла за ним, тихо окликая: — Леонардо! Леонардо! — это что-то вроде нашего Васи. Но итальянский Вася, оглянувшись, сверкнул очками, как доктор оккультных наук, а она скорбно и беззащитно улыбнулась: «Простите, обмишурилась!»
И так весь вечер, весь пылающий и переливающийся аргоном, чадящий, кричащий клаксонами, скрипящий тормозами, пронизанный атомным воплем полицейских машин и карет, родильных и сумасшедших домов, весь теплый, ликующий весенним теплом, фиалками, нарядами, чарующий генуэзский вечер, ходит она взад и вперед то тихоней, то игруньей, мимо нового фальшивого портика гостиницы, мимо сияющей, зеркально-вертящейся двери, за которой колдовским жаром горят модерновые люстры, алый бархат, богатство, удача, чужое лотерейное счастье.
Теперь, когда стало мало прохожих, она увязывалась за каждым и, уже не сохраняя этикет дистанции, вплотную шептала: «Пойдем!» или: «Повеселимся!», или даже так: «Набедокурим?», а иногда просто шла молча и как бы стуком каблучков извещая, что она здесь, есть шанс, возможно кви-про-кво, и кто грубо оглянется: «Давай, давай, рви когти», а другие ускоряли шаги, почти бегом, словно от ее приближения щелкал счетчик Гейгера.
А она, дойдя до угла темной, узкой, как трещина, портовой улочки, словно до какой-то волшебной проклятой черты, всегда круто, по-гвардейски делала «кругом!» и уже увязывалась за идущим в противоположную сторону толсторожим носорогом и шептала: «Пикколо!» — маленький, малюсенький...
Неожиданно из этой улочки вышла на угол портовая дама с лицом медузы и помятым бюстом, как мукой, засыпанная пудрой, этакая «Сонька-золотая ручка». Она остановилась и сощурилась от яркого и алчного вокзального света, жадно дыша чужой жизнью, чужой веселостью, чужой спешкой, и двинулась по гостиничному тротуару осторожно и неуверенно, как по минному полю, и тут же в три прыжка подскочила к ней наша девчурка, и они молча, как бы заранее об этом договорившись, вцепились друг другу в волосы и стали выколачивать друг из друга пудру, и так же молча расцепились, и нарушившая конвенцию медуза, подняв с панели шпильки, как патроны дуэли, кокетливо покачивая отработанными бедрами, исчезла в каменной трещине, а наша профурсеточка поплелась за баскетбольным монстром, шепча: «Пикколино!»
Но он двигался, как телеграфный столб, до него и не долетал шепот, и тогда она его обогнала и тут развернулась и с интеллигентным заходом подмигнула, но он со своей высоты и этого не заметил, лицо его было как фарфоровый изолятор, бледно и спокойно.
Постепенно замирает дальний городской бедлам, грустно пустеет у стен Малапаги, и мертвеет даже эстакада на Турин, похожая теперь на неоновую кладбищенскую аллею. И только изредка грубо щелкнет сигарный автомат, выкидывая очередную пачку запоздалому бродяжке, выпивохе, ночному интеллектуалу или заблудившемуся чужеземному моряку. Теперь она смелеет и подходит совсем близко, впритык, придых, и они наседают на нее, наваливаются, тискают ее к стене, жмут из нее масло, и я понимаю, говорят ей одно и то же — по-итальянски, по-турецки или, может, даже на суахили: «Ты меня уважаешь?» А она им кивает головой и улыбается, и счастливо хохочет. И тогда они выпускают ее из бредовых клещей, ладно, зачехляйся, и тут же, навеки забыв, уходят, шатаясь и фантазируя про себя, и про себя и про свое, мимо фонарей, в ночь, в свой кубрик, в свою конуру, в свой палаццо. В свою фантасмагорию.
А она остается и снова ходит и ходит, словно печатает каблучками лиры. Наконец она останавливается у желтой тележки мороженщика, что-то говорит ему, смеется, визжит, вытаскивает из потайного карманчика несколько смятых, грязноватых, похожих на тряпки мелких купюр и выбирает нечто похожее на наше эскимо, только оно не шоколадное, а почему-то ядовито зеленое, и теперь ходит и, как ребенок, обсасывает со всех сторон свою порцию на палочке.
Гаснут огоньки маленьких лавчонок, и на темном бархате ночи еще ярче и как-то звонче зеленый и ровный искусственный свет, холодно пылающий в витринах огромного универсального магазина, где смирно стоят напоказ пластмассовые ангелочки в чешуйчатых бикини, и каждый раз, проходя мимо, она вглядывалась в них, словно о чем-то расспрашивая, а они из рая не отвечали.
Улица стала глухой, таинственной, чуждой и лишь иногда взрывалась сиреной пожарной машины или человеческим криком, заглушаемым полицейским свистком, и на секунду она останавливалась, и смотрела, и слушала.
И вот уже погас фейерверк бегущего в ночь неона, и стало видно, что и над Генуей есть звезды. И только слышно, как в угловой кофейне звонкими ударами очищают машину «эспрессо», и еще изредка рявкнет сигаретный автомат. И теперь она уже рьяно, откровенно пристает. Вот смело дернула за рукав ночного рабочего в измазанной желто-ипритной робе.
— Ты ведь видишь, что я еле на ногах стою, — огрызнулся он.
— Ну и что? — сказала она, чародейски заиграв глазами.
Он кинул в автомат монету, с силой дернул рычаг и получил пачку, а она отчаянным жестом заголила ногу.
— Я устал, ты ведь, наверно, захочешь танцевать? — мирно сказал он и, прикурив сигарету, ушел, шаркая башмаками.
Шатаясь, навеселе идет круглолицый старичок в шляпе канотье, с черной бабочкой, этакий засидевшийся в кавалерах фасонистый шалун. Она к нему:
— Синьор, вам скучно, пойдемте со мной.
А прима-старичок вдруг церемонно, французисто снял шляпу, обнажив длинные желто-седые пухлые волосы.
— Мадемуазель, взгляните, куда я пойду с вами?
— У синьора есть банкноты?
— Банкноты-то есть.
— А все остальное — дело моей совести, — спокойно сказала девчурка.
Изредко кто-то из безнадежных гуляк, пока в кофейне готовили чашечку «эспрессо», дернув из мензурки убойную смесь, кидал в музыкальный автомат «Джуке-бокс» монету, и сладко и грустно маленькая кофейня и пустынный угол улицы оглашались звуками модной вскрикивающей песенки. И тогда она приостанавливалась, чутко прислушивалась и, улыбаясь, медленно и молча и мертво, как кукла, в трансе начинала дергаться, изображая внутреннее волнение. И вместе с ней в грустной пляске святого Витта подергивалась и ее длинная в свете уличного фонаря тень, и другая, смутная, коротконогая тень от неона кофейни, и было словно в театре, молчаливом и жутком театре бедных глухонемых.
Прошел ночной патруль карабинеров, рослые мужланы в треуголках и красных генеральских лампасах, при саблях, театрально остановились и, красиво и жеманно опираясь на сабли, ухмыльнулись ей и пошли дальше нога в ногу, ритмично, забавно, словно из оперетки «Граф Люксембург» в постановке Йошкар-Олы. И она с новым энтузиазмом, отчаявшись, так откровенно по-детски приставала, а те, к кому она прилипала, отшучивались, будто играли с ней в «третий лишний».
Наконец, по какому-то наитию, она направилась к лояльно стоящему у входа в гостиницу русскому туристу, исподтишка изучавшему ночную жизнь Желтого дьявола. До сих пор девчурка казалась ему просто трудновоспитуемым подростком, с которым нужно только побеседовать, провернуть идейную работенку, и она пойдет учиться на вечернее или заочное отделение и станет человеком, но сейчас, увидев ее направление, деятель в сиреневой бобочке юркнул в вертящуюся дверь, в панике запутался, и дверь его не только не приняла внутрь, но с силой выбросила на улицу.
— Моменто! — сказала девчурка.
— Ортодоксо! — по секрету сообщил он ей. Но она хохотала и кокетливо падала к нему на грудь, создавая ЧП.
— Банкрот! — вдруг закричал он и, как иллюзионист, дунул на ладони и наголо вывернул карманы. — Банкрот! — ликуя, кричал наш земляк.
И все она ходит и ходит, и, наверное, кажется ей весь этот длинный, сверкающий вечер с магараджами и тореадорами, перуанцами и большевиками, капуцинами и лилипутами каким-то бесконечным, фантастическим супербоевиком, в который она безжалостно вовлечена кроткой, неумелой статисточкой, без роли.
Теперь она прошла вверх в гору и стояла, опираясь на чугунную решетку парапета, глядела вниз на Геную. Нет ничего более тоскливого и безнадежного, чем вид голых, пустынных крыш под лунным небом. Когда ты еще внизу на земле, на тротуаре, а крыши где-то таинственно наверху, ты еще чего-то ждешь, какого-то чуда. Но когда ты видишь эту безжалостную наготу города, уже нечего ждать и тоска пронизывает сердце.
В порту загудел пароход перед отправлением в океан, и он так ревел, он просто плакал, надрывая душу, словно не хотел никуда и просил оставить его в покое.
Где-то раздались глухие удары, будто ночной бочар обивал гигантскую, заключавшую в себя весь город немую бочку.
Девчурка забирается в нишу, к Мадонне с почерневшим отбитым носом, и, прижавшись к каменной заступнице, закуривает фильтровую сигаретку, и, жадно затягиваясь, попыхивая глядит вместе с Мадонной на ярко освещенные, уютные, счастливые окна отеля и, не докурив, по-жигански цвиркнув, давит каблучком еще горящий окурок.
В ночном кабаре громко заиграла музыка. И вдруг слышится тоненький подголосок, и непонятно — это скулит ветер в каменной нише старого города или это — она, это то, что безмятежно, безвозмездно сохранилось в ее младенческой душе. Открыв сумочку, она глядит в крохотное зеркальце, припудривает и так уже белое зачумленное личико, вытаскивает «живопись», и еще гуще смолит веки, и, раза два тренированно сама себе улыбнувшись, отклеивается от Мадонны, и снова заведенной куклой лунатически ходит своей вихляющей, своей доступной, отдающейся всем ночным теням спецпоходочкой.
Так почему же за тысячу верст от Лигурийского моря, отделенный тысячью дней с их суетой, болью, обидами, вспомнил я эту девчушку с пестреньким веером и сухим цветком в волосах на панели у отеля «Коломбия»? А Бог весть почему...
Физиономистика
— В тот день я очень торопился, неосторожно заехал колесом на осевую и не заметил, что за мной нарочно едет и наблюдает милицейская машина. Она обогнала меня и дала знак — остановиться. Из машины, как куколка, вышел красавец майор с ангельским лицом, в новом габардиновом плаще и щегольских начищенных сапожках.
— А ведь придется вас послать на экзамены, — сказал майор.
— Извините, но если бы вы знали, товарищ майор, куда я торопился! — пытался я перевести разговор на легкомысленные рельсы. Но это успеха не имело.
— Придется, придется, — сказал майор и кликнул кого-то.
Из машины неохотно вылез капитан с лицом кинематографического злодея — низкий лоб, перекошенная шрамом щека.
— Капитан, есть у вас направление на экзамен? — спросил майор.
Капитан мрачно глядел в сторону:
— Нет.
— Ваше счастье, — сказал майор. — Ну что же, сделаем прокол.
— Надо так надо, — покорно сказал я, протягивая талон.
— Капитан, у вас есть компостер?
— Есть, — так же мрачно, глядя в сторону, сказал капитан.
В это время заморосил дождик, и красавец майор юркнул в машину.
— Пробейте там, капитан!
Капитан-злодей вынул из кармана компостер и все так же мрачно, глядя в сторону, тихо сказал мне:
— Пробью тебе мимо. — И как бы с усилием нажимая на компостер, он щелкнул впустую.
Рассказчик — старый тертый автомобилист — вздохнул:
— Иди после этого верь в физиономистику.
Новоселье
Эстрадный куплетист, вечный бродяга и одиночка Лепа Синенький получил комнату и пригласил на новоселье своего друга, знаменитого украинского актера Б.
Комната большая, гулкая, совершенно пустая, пахнущая холостяцким сиротством, и только по голым, с рваными обоями стенам развешаны бумажки: «Вешалка красного дерева», «Козетка»...
Б. сразу входит в игру, барски скидывает с себя шубу и осторожно вешает ее на воображаемую вешалку. Он останавливается у «трюмо красного дерева», он прихорашивается, он сдувает пылинку с лацкана, он настраивает свое лицо — оно хмурится, оно важничает, оно улыбается, — он как бы подбирает маску и, остановившись на томно-вежливой улыбке, вступает в апартаменты, шаркает ножкой, раскланиваясь с хозяевами, с ним и с ней, отвечает на приветствия, с кем-то знакомится, капризным голосом повторяя: «очень приятно», «ужасно приятно».
Теперь он знакомится с «библиотекой» хозяина. Навешанные друг над другом бумажки сообщают: «Шекспир», «Шиллер», «Бабель».
Он идет вдоль стен и разглядывает картины: «Рубенс», «Рембрандт», «Боттичелли».
— Но вкус какой! — говорит он.
Наконец он подходит к «козетке» — расстеленным на полу газетам «Радянське село» и лениво, салонно укладывается, заложив ногу за ногу, закуривает воображаемую трубку, пропускает дым кольцами, принюхиваясь к табаку «Золотое руно».
Теперь подыгрывает хозяин. Он молитвенно открывает дверцу «бара красного дерева», он зорко вглядывается в его роскошную золотую глубину, в глазах его рябит от изобилия иностранных этикеток, разнокалиберных фигурных бутылок, но вот он наконец увидел то, что ему нужно — ту единственную, ту заветную, испанскую, древнюю, XVII века, королевы Изабеллы, или святого Франциска, или кого-то там еще, кто был в Испании или где-то там в другом месте, — в истории он не так крепок, — он любуется бутылкой, игрой света, переливами, букетом, он приглашает гостя полюбоваться, понюхать... наливая в грубые грешные граненые стаканы «Особую московскую».
Они чокаются.
— Ну, Лепа, наживай дальше! — говорит Б.
Жадно, одним глотком, они опрокидывают горькую, потом деликатно берут с газеты кружочек любительской колбасы, обнюхивают его и, сжевав, смеются и смеются, и уже, сами того не замечая, постепенно снова входят в игру, в вечную игру, вечный спектакль нашей единственной на этой земле жизни.
Одинокий старик
В вечер Первого мая, когда вокруг горит иллюминация и по улице Горького во всю ширину плывет праздничная толпа, возле автоматов газированной воды на углу стоит старик в мятой, засаленной шляпе и каких-то шлепанцах на ногах.
Он налил стакан крем-соды и медленно, с удовольствием пьет, сделает глоток и этак весело, хмельно, с гордостью участника, глядит на ликующую толпу.
Когда выпил до дна и осторожно поставил стакан, он как-то сразу сник, погас, из глаз исчезла веселость, и он торопливо зашагал, держась близко от стены.
Я иду за ним. Он сворачивает в Брюсовский переулок, потом еще в один — Кривоколенный переулок, потемнее, потом в проходной двор, совсем темный, и пропадает в одном из этих вечно открытых, пахнущих помоями, черных туннельных подъездов XIX века.
Глухо доносится гам ликующей улицы.
Банкет
Когда мы пришли в модерновый ресторанчик на улице Горького, в первом зале под разноцветными светильниками было тесно, шумно, накурено, и мы прошли во второй.
Вдоль всего зала от стены к стене стояли длинные банкетные столы, великолепно уставленные снедью — салаты были украшены, как торты, на серебряных блюдах спали розовые поросята с петрушкой в ноздрях, от оранжевых раков шел пар, мелькали белые головки «Столичной», серебряные горлышки шампанского, красносургучные печати портвейнов, по краям стояли батареи пивных бутылок.
— Медицина гуляет! — сказал официант.
За столами сидели важные, седоусые терапевты, ухоженные, румяные осторожные старички, и молодые, пробойные лекари с проборами по лекалу, наполовину аллопаты, наполовину гомеопаты, сторонники последних метод, и ели, и пили, и веселились, и произносили тосты с латинскими поговорками.
Оказалось, это был банкет по случаю годовщины удачных экспериментов лечения голодом.
Официанты шли белой цепью и несли шипящую на углях поджарку, шашлыки на длинных шпагах и истекающую соком колбасу по-извозчичьи.
Бдительность
В вагон метро вошел человек в брезентовом плаще и высоких сапогах, сел, строго огляделся вокруг и покосился в тетрадочку своей соседки налево — там чертежи, формулы, девушка читает и про себя шевелит губами. Он недоверчиво глядит на нее, потом в тетрадочку, потом снова на нее и удовлетворен: «Порядок!» Затем он косится в книгу соседа справа. Гражданин в зеленой шляпе и галстуке с разводом читает учебник английского языка. Он долго глядит на незнакомый алфавит, потом недоверчиво на зеленую шляпу и немыслимый галстук: «Иностранец!» Нет, что-то не нравится ему. Но тут вдруг в поле его зрения попадаю я с раскрытой записной книжкой. И теперь он уже не отвлекается ни вправо, ни влево. Он следит за тем, как бегает мой карандаш, оглядывается — замечает ли это еще кто, и мучается.
На выходе из вагона он легонько берет меня за локоть.
— Гражданин, вы что фиксировали?
— А вам-то что?
— Покажи свою первую строку, что фиксировал?
На платформе он зовет милиционера.
— Пусть покажет блокнот, что фиксировал.
— А в чем дело? — говорит сержант.
— Вот он сидел и что-то записывал.
Сержант смотрит на меня, на него и вдруг говорит:
— Каждый человек имеет свое «я» и может распоряжаться им, как хочет.
— А бдительность? — говорит тот и глядит голубыми глазами убежденности.
Неоновая витрина
Ночью прохожу мимо магазина «Канцпринадлежности» и на тихой, пустынной улице в неоновом свете так ярко вижу все эти прекрасные и удивительные вещи: раскрытые готовальни и на зеленом и черном бархате циркули и кронциркули, волшебный фонарь с красным глазом, перочинные ножики. И я с азартом мальчишки все это разглядываю, смакую, владею этим, держу в руке и маюсь. В сущности, я никогда этого не имел. Как же так случилось?
Теперь я иду один-одинешенек по улице и думаю: сколько же великолепных, чудесных вещей прошло мимо меня! Никогда не было у меня калейдоскопа, не было увеличительного стекла, фотоаппарата «зеркалки», не летел я на велосипеде по улицам в разноцветной каскетке в мелькании солнечных миражей, а позже ни разу не крутил баранки, держа в узде дрожь восьмидесяти лошадиных сил, мягких и покорных, летя мимо ночных строений, ночных теней, по асфальту дороги, к цели и бесцелью.
И вот еще что: правда, есть на свете Мадрид, Рио-де-Жанейро, есть Канарские острова, и Балеарские острова, и Огненная Земля? Или это только на голубой карте полушарий, там, в детстве, в писчебумажном магазине?
Троицкое
В первый теплый день я поехал от Химкинского речного вокзала по каналу на «ракете». Я один сошел на маленькой голубой пристани села Троицкое, и, когда ушла «ракета», я оказался в милом мире детства.
Так же голосили петухи, каркали вороны, медленно разворачивая темные крылья над голыми осинами, на школьном дворе кричали мальчишки, и весенняя земля пахла пасхой.
Я проголодался и зашел в сельмаг, купил колбасы и сухарей и пошел к роще на берегу канала. На опушке под березами стоял в выжидающей позе серо-коричневый кудрявый барбос. Он уже знал, что у меня колбаса, будто ему позвонили из магазина и сказали, и теперь он дрожал всеми кудрями, или мне это только показалось, а он просто стоял, скучая, среди вечной природы и ждал, твердо зная, что кого-то дождется.
Увидев меня, кудряш сошел с тропинки в сторону и пошел следом за мной на кривых терпеливых ногах. Я оглянулся, и он остановился и сконфуженно помигал: «Ничего, что я за тобой увязался?» Я пошел дальше, и он за мной. Я снова оглянулся, и он снова остановился, и тут мы глянули друг другу в глаза и поняли, что знакомы друг с другом давно, с детства.
— Тришка, — сказал я, — Тришка, так тебя зовут.
Он махнул ушами: «А не все ли равно, зови как хочешь».
И теперь мы двинулись рядом, как старые, старые приятели.
Он забегал вперед, шуршал в кустах, нюхал какие-то следы и, взвизгивая радостно-деловито, возвращался назад: «Можно, все в порядке».
Я сел на скамейку у воды, развернул пакет, а он уселся в вежливом отдалении и так неназойливо, как бы наедине со своими собственными воспоминаниями, облизывался, вне всякой связи с моей колбасой.
Я глянул ему в глаза, он отвел их, он не хотел быть нахалом.
Я кинул ему кусок колбасы, он тут же ее проглотил и сел, облизываясь, умиленно глядел на меня. Я подмигнул ему, и вдруг он вскочил: «Что ты, ты неправильно меня понял», и зашел мне за спину, и сел там тихонько.
Я все время чувствовал его за спиной, и кидал ему туда кусочки колбасы, и слышал, как он, шурша в прошлогодних листьях, находит их и жует. Наконец я кинул ему целлофановую шкурку, он и ее проглотил, потом полетел пакет, он попридержал его лапой, и основательно вылизал, и бросил ветру, а потом взглянул на меня и улыбнулся.
Я встал и пошел, и он за мной. Теперь у меня уже не было колбасы, и не пахло колбасой, он это видел, чувствовал и знал лучше всех на свете, он шел рядом, и мы поглядывали друг на друга, и оба были довольны.
Вдали зашумела идущая обратным рейсом «ракета». Я пошел через мостик к маленькой пристани, а он, оставаясь по ту сторону мостика, стоял на крепких кривых своих лапах и сквозь курчавую, свисающую на глаза шерсть долго глядел мне вслед — друг мой, брат мой.
Гиперболический диагноз
— Ну-с, молодой человек! — сказал врач. Он весело открыл историю болезни, вынул из кармашка хрустящие бумажки свежих анализов и стал их читать. И вдруг я увидел, что у него подрагивают пальцы. — Так-с! — сказал он и взглянул на меня. — Как вы себя чувствуете?
И пока я рассказывал свои ощущения, он снял телефонную трубку и кому-то там сказал:
— Пожалуйста, зайдите ко мне.
В комнату вошла молодая изящная сестра в ярко накрахмаленном халате. Врач молча пододвинул к ней листки анализов, она прочла, и они переглянулись.
— Доктор, что случилось? — спросил я.
— Ничего особенного, просто надо лечь в больницу и исследоваться.
— Напишите ему гиперболический диагноз, — посоветовала сестра. — Я вызову «скорую». Ложитесь, — сказала она мне.
— Зачем?
— Иначе не возьмут.
Они вошли в комнату, стремительные, будто все еще летели с сиреной, в белых халатах и белых шапочках.
— Ходить можете?
— Конечно, — с радостью сказал я.
Сестра строго посмотрела на меня и отвернулась.
Сопровождаемый белыми ангелами, я пошел. Встречные поспешно уступали мне дорогу, и спиной я чувствовал их взгляды, и казалось, все знают, что со мной, один я ничего не знаю, а может, никогда и не узнаю.
Я вышел на солнечное крыльцо, отвлеченно сиял день, вокруг уже ничто для меня не существовало и реально не жило — ни этот знакомый дом с разноцветными балконами, ни ларек на колесах, где я покупал раков и польское пиво «Сенатор»; только вот эти несколько шагов по асфальтовой дорожке к длинной светло-кремовой машине с красным крестом и белыми занавесками и мрачным, все уже повидавшим шофером, грудью лежащим на баранке.
Несколько прохожих и зевак и среди них один знакомый мне мальчик смотрели, как я влезал в машину. Мальчик был удивлен и испуган. Я помахал ему рукой, но он даже не улыбнулся.
Ревела сирена, и я слышал, как шуршали шины. Это везли меня.
В приемном покое больницы сестра очень внимательно прочитала сопроводительную бумажку, похожую на ордер, расписалась, и врач «скорой помощи», не взглянув на меня, ушел. Меня сдали и приняли.
Я сидел на скользком клеенчатом лежаке и ждал.
Я мог еще уйти отсюда в раскрытые ворота, сесть на трамвай, на троллейбус, или пойти пешком по длинной горячей летней улице в кино, или в гости, или на собрание. Как все это было теперь далеко, неправдоподобно и незначительно.
Пришла нянечка и сунула мне под мышку градусник. Потом, пока я сидел с градусником, явилась сестра, села за стол, покрытый заляпанной чернилами простыней, положила перед собой бланк истории болезни и стала спрашивать фамилию, адрес, национальность. Я медленно вползал в новую, далекую, чуждую жизнь.
В это время в комнату вошел высокий, худой человек в очках и устало, как бы вскользь спросил, что со мной. Это был дежурный врач.
Он задавал мне вопросы, я отвечал, а он кивал головой и записывал, что ему надо и как ему надо. Потом он встал и как-то сонно, незаинтересованно ощупал мой живот, велел показать язык и, уже не глядя на меня, сел и стал писать неразборчивыми, похожими на латинский шрифт закорючками что-то свое, из себя, уже не связанное с моими ответами.
— Доктор, что у меня?
— Я не колдун, исследуют.
— А если что найдут, нужна операция?
— Это по вашему желанию, — вяло ответил он.
Он положил ручку, и сестра повела меня в соседнюю комнату, более темную и хаотичную. Здесь и воздух был другой, какой-то тюремный, насильственный, беспощадный.
Тут уже ожидали две плотные, грубые грудастые бабы, похожие на надзирательниц. Одна из них сказала:
— Раздевайтесь.
Дверь в коридор была настежь открыта, и там беспрерывно ходили люди.
— Ну раздевайтесь, чего вы?
Вторая няня села за стол и взяла ручку.
Первая брала у меня одежду и профессионально ловко выворачивала карманы, и из них посыпались монеты, хлебные крошки, какие-то старые квитанции, записки со случайными телефонами, и диктовала второй:
— Брюки... рубашка верхняя... рубашка нижняя... носки... туфли мужские...
А я смотрел на горку моих бумажек, похожую на горку пепла. Наконец опись была закончена. Я стоял посредине комнаты голый, двери были распахнуты, окно открыто, и во дворе цвела сирень, продувал свежий, милый, весенний ветерок.
Первая баба куда-то пошла и принесла рубашку и кальсоны с большими дегтярными штампами. Я натянул на себя сиротское белье.
Теперь меня повели в коридор, где у стены стояла длинная больничная каталка.
Я лег, меня накрыли простыней и оставили.
Весь мир с его длинными, грохочущими улицами, полями и облаками сузился, сгустился в этот темный, тоскливо пропахший необратимым несчастьем больничный закуток.
Я лежал на каталке у стены, люди проходили мимо, поглядывали на меня.
Мне казалось, что меня забыли и что я лежу в морге.
Через полчаса пришел санитар в белой шапочке, потухшим мундштуком в зубах и спросил:
— Поедем?
— Поедем, — сказал я.
Он пошел в комнату, получил на меня накладную, вернулся и, уже не глядя на меня, думая о чем-то своем, тошном, ежедневном, покатил меня по длинным белым коридорам, не снижая хода у дверей, так что они распахивались у самых глаз и было чувство, что это головой моей он открывает двери, заворачивая вправо, влево и по пандусам вверх, вниз, вдвигая в белые грузовые лифты, и снова по бесконечным белым коридорам, заставленным койками, мимо больных в синих халатах, на костылях, желтых, заостренных, обиженных жизнью лиц, провожавших меня мучительными глазами, мимо открытых перевязочных с множеством лежаков и каталок, похожих на медсанбат после боя, мимо сестры, капающей лекарство в мензурку, человека с глухим лицом рабочего-котельщика, сосавшего из подушки кислород, мимо королевского выхода профессора с белой свитой.
Я въехал в большую палату, и меня переложили на свежую, белую, только что застеленную, как холодным ветром, простынями приподнятую постель.
...Луна стояла в окне палаты, и стены, и простыни, и тумбочки — все было до ужаса белое, и в этой белой замороженной тишине я остался наедине с собой.
Я вспоминал детство, отца, мать, сестер, брата, всех, кого давно уже не вспоминал, и безнадежное позднее раскаяние овладело мной.
И я подумал, что в мире есть закон любви и внимания — сколько ты, столько и тебе. И все в конце концов отольется!
«Если все кончится хорошо, я буду другой, я буду совсем другой, — жалобно и настойчиво уверял я кого-то, — совсем, совсем другой».
Минул год. Давно забыта та ночь. И редко вспоминается странная клятва, будто это было в другой жизни, с другим человеком.
Птицы нашего дома
Новый многоэтажный дом вырос на месте деревенской улицы, и птицы, живущие раньше на старых ветлах, переселились теперь под плоскую бетонную крышу, в узкие, как древние бойницы, чердачные щели.
Вот какая-то суматошная серая галка прямо с полета сунулась в крайнюю: «Ах, простите, не туда!» И перелетела к соседней щели, исчезла и, наверное, там сейчас кричит: «Привет! Привет!»
А голуби все солнечное утро фланируют по бульвару карниза, выпятив грудь, встречаются и, взмахивая крыльями, вежливо уступают друг другу дорогу или останавливаются и долго гутарят. Одни, толстые, надутые, почтенные, стоят, раскорячив мохнатые ноги, и бурлят, а другие, помельче, скромно слушают, пригнув худую, изящную, граненную кубиком головку, и лишь изредка поклюют, но сделав при этом вид, что кивают: «Любопытно, любопытно!»
А есть и такие, которые не участвуют ни в каких дискуссиях, и никто их не замечает, и мнением их не интересуется, и они сами не придают значения своему существованию, сидят где-то в сторонке, на одиноком кирпичике, и попискивают, потому что светит солнце, дует ветер, потому что есть жизнь, бьется под пухом сердечко.
...Вдруг все птицы сразу, тучей, поднялись в воздух и стали кружиться и кричать над двором. Но никто не обратил на это внимания. Дети играли в классы, дворник ходил с метлой, и в открытых окнах на всех девяти этажах люди целовались, плакали, пели и бранились.
«Девушка с веснушками»
Он вошел в кабинет театра и, щелкнув каблуками, представился:
— Архипчук! Майор внутренних войск, ныне без погон.
— Ну, наверное, надо без погон, — понимающе сказал директор. — Садитесь, товарищ майор, я вас слушаю.
— У меня конфиденциальное дело.
— Зиночка, выйдите, — попросил директор секретаршу.
— Я вот проходил мимо вашего театра и прочитал афишу: «Девушка с веснушками», — посетитель внимательно посмотрел в лицо директора театра. — А подумали ли вы, что разведчики пользуются веснушками как шифром? — Мы подумали, — мягко сказал директор, — но ведь это те веснушки, которые весною появляются на лице у девушек.
— А вы все-таки подумайте, — сказал посетитель без погон, — подумайте! — И, щелкнув каблуками, вышел.
Булат
На берег холодного северного моря приехала летом с Кавказа большая, шумная и веселая армянская семья.
Погода была ветреная, некупальная, и на весь день молодые — невестки, зятья, внучатые племянницы — уезжали в экскурсии или в город по магазинам.
Оставалась одна лишь старая бабка вся в черном — в черном платье, черных грубых чулках, черных старинных башмаках с пуговками и черной косыночке на молочно-белых волосах. И с ней Булат — полуторагодовалый, откормленный мальчишка в соломенной жокейке, с пухлыми румяными щеками, прямо лежащими на плечах.
Весь день старуха, накрывшись темным платком, сгорбившись, сидела на скамеечке в песчанных дюнах под негреющим тусклым солнцем, похожая на брошенную черную чайку, и, отклонив голову от ветра, дремала.
Где все ее сверстники, все, с кем она играла в детские игры, в классы, в палочку-выручалочку, а после в фанты, с кем училась в школе, с кем встречалась лунной ночью под платанами, где ее сестры и братья?
Вдруг она вздрагивала, выпрямлялась, смотрела рассеянно на чужое, холодное море и, казалось, не видела его, а видела знойные голые горы и то, что было в ее молодости.
А Булат, устроившись у ее ног, не обращая внимания на ветер и свист песка, хозяйственно разложив свои пластмассовые тарелочки и сердито надув щеки, молча и терпеливо пересыпал из тарелочки в тарелочку песок.
Иногда он тоже, как и бабушка, задумывался, и вишневые глаза внимательно и долго глядели и запоминали холодное перламутровое море, сосны, красный вереск, рыжих стрекоз и белых чаек, в беспощадном свете шагающих по пустынному пляжу, — великий, странный и удивительный мир, в котором ему еще только предстояло провести жизнь...
Приемный покой
Артист принес «тенора» — канарейку. Он привык, утром «тенор» поет, а вчера тот вдруг замолк, надулся, нахохлился, как солист, которому не дали ставки! Оказалось, воспаление голосовых связок. Прописали одну каплю пенициллина.
Мальчик принес в корзинке ежа. Разбили бутылку, и ежик накололся. Его направили к хирургу.
Две девочки притащили завязанную в платок черепаху, она что-то проглотила. На рентген!
Маленькая старушка пришла с судком и попросила свидания с лиловым шпицем — он стал лысеть, и его срочно положили в больницу.
Шпиц вышел сердитый, неразговорчивый и какой-то отчужденный, но, увидев судок, тотчас же, рыча, уткнулся в него, а старушка умиленно приговаривала:
— Ешь, ешь, проголодался на рационе.
Свидание
Худой, высокий, квелый парень с тонким облупленным носом, очень пестро одетый — в голубых брюках, зеленом вязаном жакете и какой-то странной кремовой плюшевой шапочке, вроде пилотки, — одинокий и всем чужой, мается в воскресной толпе кавалеров у метро «Площадь Революции».
Он увидел ее еще издали поверх толпы и улыбнулся, а сухое, отшельническое лицо его стало мягким и добрым, и даже симпатичным.
Она шла сквозь толпу прямо к нему — очкастая, на тонких-тонких ножках, суровая, как цапля, и такая некрасивая, что ни один из кавалеров, словно матросы на палубе, стоявших в штормовой готовности, не повел за ней даже бровью.
Он тотчас же взял у нее чемоданчик, и они, не сказав еще друг другу ни слова, чему-то своему бесконечно тайному засмеялись, и оба радостные, смеющиеся, счастливые своей близостью, ушли, держась за руки.
И вся земля была цветущим садом, и все человечество было на пиру.
Мгновенье
Вдруг в воздухе будто мелькнет, будто сверкнет что-то знакомое, близкое душе, когда-то пережитое. Вот точно такое же было чистое, эмалевое небо, сверканье полдня, нежно зазеленевшие кусты, воля, простор и чувство, что недобрал в жизни. И вот оно снова — давнее ощущение силы, возможности все сделать, все свершить, всего добиться.
Была война, и собрания, и болезни, удушье тоски, смерть отчаяния, и иное на улице поколение — другие девушки идут с цветами, другие юноши сидят с книжками в университетском сквере, и иные картины в кино, и иные моды, и словечки, и прически. А мгновенье все то же — ясное, солнечное, ветреное.
Как снежные чистые вершины, они над равниной нашей жизни, эти одинокие мгновенья.
Август
На закате солнца три маленькие девочки в розовых платьицах, как ласточки, мелькая между сосен и берез, собирали в лесу цветы.
Они были очень похожи, беленькие, глазастые, две постарше, а третья совсем малюсенькая.
Шли они по траве друг за дружкой, молча, очевидно, все уже было переговорено между сестрами, и теперь только душа их разговаривала с цветами, с пчелами, с муравьями.
И вот вдруг под кустом красной рябины они увидели толстый белый гриб. Нахлобучив широкополую шляпу с рыжими хвоинками, стоял седой, сердитый, занозистый дедок: «Вы чего здесь шуршите?»
Старшие девочки вскрикнули, за ними пискнула и младшая, и все сразу бурно заговорили.
Одна из старших несмело протянула руку и медленно и осторожно, как сапер мину, вынула гриб из земли.
Девочки притихли и испуганно смотрели на выходца с того света.
Великая тайна даром родящей земли впервые коснулась их детских душ.
У театральной афиши
Полночь.
В опустевший вестибюль метро входят он и она, оба пожилые. Муж идет к кассе, она останавливается у театрального киоска и читает вслух афишу:
— МХАТ, «Мария Стюарт». Хорошая вещь.
Подходит муж.
— Пойдем.
Она, не слыша, как загипнотизированная, продолжает:
— Оперетта «Вольный ветер». Хорошая вещь.
Он молчит.
— Вахтангова. «Шестой этаж». Хорошая вещь.
Он:
— Ну пойдем же.
— Сад «Эрмитаж». Кубинские артисты. Хорошая вещь.
Муж:
— Долго ты тут будешь топтаться?
— Малый, филиал... «Стакан воды». Хорошая вещь.
Муж:
— Перестань ты, пора спать!
Она поворачивается к нему. В глазах ее тоска, и укор.
На катке
Февральский солнечный день, ослепительно белый и чистый, пахнет весной, фиалками, и проблеск всего самого яркого, веселого, чудесного, что было в жизни.
На лед осторожно по крутому деревенскому настилу спускается грузная, низкорослая женщина лет сорока.
Но как только коньки коснулись льда, будто сбросила на настил груз лет, будто подхватили ее крылья и повел сам лед, и она заскользила легко, привычно, непринужденно.
И тот давний, довоенный, последний юный день на катке и нынешний слились в один живой, солнечный, карусельный, и между тем и этим днем не было ни войны, ни потерь, ни родов, ни воспитания детей, ссор, семейных неурядиц, болезней, тоски, бессонницы.
И круг за кругом на коньках возвращается в свою молодость, в свою юность, и ветер, и солнце, и с высоких гор, с белых облаков спустились и закружились вокруг Ольки, Сережки, Валерки, и совсем не убит, а вот стоит там, под знакомой, старой белой от инея ивой, и ждет ее с непокрытой головой, в свитере с оленями он, первый, шестнадцатилетний, и улыбается ей, и она улыбается ему.
Круг за кругом, все легче, все быстрее скользящий шаг, и теперь уже нет ни воспоминаний, ни сожалений, только ветер в лицо, и солнце, и Жизнь.
Последняя встреча с Василием Гроссманом
Почему-то в последнее время я все чаще и чаще думаю о нем.
Это предчувствие той же судьбы, или созрело в душе воспоминание, или просто нельзя уже ждать, некогда ждать, время истекает.
Предвестье судьбы приблизило его ко мне, и я подробно вглядываюсь в него, чтобы понять его, увидеть его в себе и себя в нем.
Я вижу его таким, каким встретил тогда, в сумрачный зимний день января 1942 года, на полевом аэродроме 6-й воздушной армии у Изюм-Барвенково. Я только прилетел на «У-2» из штаба 6-й армии, которая нацеливалась на Харьковскую операцию, а он шел навстречу к самолету, возвращаясь в штаб Юго-Западного фронта, который квартировал в то время в Воронеже. В простой шинели и в солдатской цигейковой ушанке, с легким вещмешком, он похож был на усталого пожилого солдата, только тонкие учительские очки нарушали это впечатление. Мы остановились на снежной тропинке и немного поговорили. Он в спокойном, медленном, характерно ироничном тоне все понимающего и все прощающего пожилого человека, а я взвинченно, восторженно, нетерпимо, негодующе.
И, сколько я после о нем ни думал, я почему-то всегда вспоминал его именно тем пожилым и усталым солдатом, спокойно делающим свое солдатское дело, мудро вглядываясь в войну. Это тогда он мне сказал:
— Я пишу только то, что видел, а выдумать я мог бы что угодно.
Голос его глухой, сильный, глубокий, и слова всегда какие-то крутые, подлинные, как крупнозернистая соль, только что добытая на копях, только отколотая от материка земля. Слово, которое он произносит, обработано и весомо и ложится в фразу, в разговор, как стесанный камень или кирпич на стройке, слово к слову, в крепкий, нерушимый ряд, их не сдвинешь, и они никогда не славируют, и он никогда не откажется от них.
В нем была неторопливость, несуетность, медлительность и как бы сонность движений и разговора, в которых таилась взрывчатая, зря не расходуемая, береженая сила, бешеное упорство и терпение, которое все преодолевает.
Я часто видел его в годы его главного творения, Главной книги, и он похож был скорее на каменотеса, казалось, большие, сильные рабочие руки его держали молот и долото, но не хрупкое, обмакнутое в чернила перо. Он, казалось, строил в это время грандиозный Собор, и эта книга его, не увидевшая света, и была Собором, величественным, современным, суровым и светоносным, святым Собором нашего времени. В ней впервые и до сих пор, хотя прошло уже пятнадцать лет, единственный раз была сказана вся правда о прошедшей великой и страшной войне.
В дневнике моем записано: 15 ноября 1963 года.
Вечер этот теперь мне кажется таким печальным, одиноким, ужасным в своей будничности, да таким он, наверно, и был.
Один из тех серых, одинаковых вечеров нашей жизни, которых такое множество, которых уже и не запомнишь, которые повторяются и повторяются и уже сливаются в один постылый день. Может, такими они бывают все, вечера человеческие, и только в волшебном фонаре времени они воссоздаются в ином свете и расцветают, как настурция.
Осенний вечер, когда студеный ветер срывал уже последние бурые листья и некоторые из них вмерзли в ледок уличных луж и просвечивали узором, напоминавшим детство. Вечер смутными, желтыми, как бы растворенными во мгле огоньками окон, спешащими под дождичком с авоськами, сумками и портфелями прохожими, каждый в своей раковине, в своей сиюминутной заботе, никому другому не нужный, погибший, если сам за себя не постоит.
Кто-то еще повстречался на пути, я уже не помню кто, и мы по обыкновению немного постояли и поговорили о чем-то сегодняшнем, злободневном, раздражающем, беспомощно махнули рукой и разошлись.
Здесь, в этих новых, выросших на бывшей городской окраине и следующих в затылок друг за другом массивных кирпичных корпусах, с недавних пор проживали московские литераторы. На неполном квадратном гектаре жили почти пятьсот поэтов, романистов, сатириков, сочинителей опереточных либретто, скетчей, куплетистов, современных мейстерзингеров, бывших и будущих Добролюбовых, с десяток Булгариных, литературных квартальных и надзирателей. И теперь эти дома на ходу осваивала милиция, почта, сберкасса, булочная, молочная и та дальняя, выпыточная организация, которая должна все слышать и все знать.
Я одиноко прошел к большому, мрачному новому дому, построенному в виде буквы «П», на углу Первой Аэропортовской и Красноармейской.
Это был девятиэтажный кооперативный дом, куда перебрались люди после всей их жизни, проведенной в коммунальных муравейниках, на общих кухнях, на общих лестницах, с общими телефонами, жизни с коммунальными сплетнями, интригами, бунтами, с подслушиваниями, подсматриваниями, с доносами. И вот почти к концу жизни человек получил ключи, открыл дверь, вошел в свою пустую, пахнущую краской квартиру, захлопнул дверь и впервые остался один в тишине целого мира, наедине со своей душой, своей совестью.
В одну из этих ячеек, в скромную и тесную коробочку однокомнатной квартиры с окнами в тихий пустынный параллелограмм двора, въехал и Василий Семенович Гроссман.
Над подъездом тлела почему-то вполнакала лампочка под пластмассовым колпачком, и в подъезде тоже было сумрачно и неуютно, настраивало на нехороший лад.
— Вы к кому? — с молодым подозрением спросила старуха лифтерша.
— Знаю к кому, — отвечал я и хлопнул дверью лифта, нажал кнопку, и она осталась внизу, получающая сорок рублей за службу и за наблюдение.
Когда я поднялся в новом скрипящем, дребезжащем, еще не привыкшем к своему гнезду лифте на пятый этаж, на пустую лестничную площадку с четырьмя дверями квартир, три из них были обиты коричневым дерматином, с крупными узорными кнопками, а четвертая была голая и какая-то суровая, непреклонная в своем аскетизме. Я нажал звонок, и за дверью послышались шаги, надтреснуто-знакомый голос спросил:
— Это вы, Борис?
Дверь открылась, Василий Семенович, очень похудевший, печально улыбался, словно до того, как я пришел, случилось что-то, что я должен был уже знать и к чему относилась эта печальная, безнадежная улыбка. Только я сказал: «Добрый вечер!» — и, возбужденный встречей, громко, бурно заговорил, он приложил палец к губам и молча провел меня через тесную тусклую прихожую в слабо освещенную, полную теней, неубранную, неустроенную комнату, где на столе, уже приготовленный заранее, лежал лист бумаги, на котором красным карандашом крупным ломаным почерком было написано: «Боря, имейте в виду, у стен могут быть уши».
Я молча взглянул на него, и он на меня. Чтобы все-таки что-то сказать, я произнес: «Понятно». Ладно, пусть они запишут это «понятно», а что «понятно», ведь непонятно. Я к этому времени уже слышал, что приходили какие-то типы и устанавливали именно над этой квартирой загадочную аппаратуру. Это не могло остаться секретом. Техник-строитель сказал кому-то из членов правления, что квартира «озвучена», тот сказал своему товарищу, и постепенно об этом узнал весь дом, и соседний дом, и даже в других районах узнали все, кто интересовался этим.
У Василия Семеновича были черные руки, он чинил сломавшуюся машинку.
— Теперь сам перепечатываю, — сказал он, — когда были деньги, я отдавал машинистке.
Новая квартира отчего-то казалась старой, изжитой, измученной и заброшенной. Может, оттого, что она забита была старой мебелью, а может, из-за тусклого света, мертвящей тишины, одиночества.
В этой комнате все как бы иссохлось и покрыто было каким-то невидимым пеплом печали.
Старомодная продавленная софа, старый, исцарапанный, с чернильными пятнами письменный стол, линялый, потертый коврик на полу, обветшавшие корешки книг на этажерке. Это впечатление заброшенности усиливали полузасохшая пальма и расставленные на полочках и на подоконнике карликовые кактусы, похожие на обрубленных уродцев. Еще были тут несколько тяжелых черных чугунных фигур то ли лошадей, то ли псов, на стене висели побитые молью лосиные рога, а на рабочем столике стояла старенькая, разбитая машинка, в которой торчал лист с отпечатанными раздерганным шрифтом бледноватыми строчками. Я представил себе, как она дребезжит во время работы. На кресле у софы лежали знакомые красные с золотыми буквами томики Фета издания Маркса и очки в тонкой оправе.
Все вокруг было словно блокировано, занавеси задернуты, и мне стало душно. Первое горькое желание — поскорей уйти, вырваться из этой несчастной, неустроенной жизни, просто тебе самому слишком долго было плохо. О, как теперь в возрасте и опыте страдания, в раскаянии я чувствую тоску его в тот темный сырой вечер, когда я к нему пришел в последний раз.
Я долго не знал, что у него изъят роман. Однажды летним июльским вечером, гуляя по центру, забрел случайно в Александровский сад и увидел на скамейке Гроссмана и его друга Липкина. На этот раз он как-то странно холодно меня встретил и обидчиво заметил, что я не показывался целый год. Я ответил, что болел.
— Все равно, — как-то отвлеченно сказал он.
Так же некогда он выговаривал мне за то, что я не посещал в последние дни перед смертью Андрея Платонова.
Мы немного помолчали, потом я сказал:
— Василий Семенович, дайте мне прочесть ваш роман.
— К сожалению, Боря, я сейчас не имею возможности, — как-то глухо ответил он.
Липкнн странно взглянул на меня и смолчал.
Только теперь я заметил, что у Василия Семеновича подергивалась голова и дрожали руки.
Потом я узнал, что роман арестован. С тех пор в обиходе и появилось словечко «репрессированный» роман. Пустил его, как говорят, «дядя Митя», Дмитрий Поликарпов, бывший в то время заведующим отделом культуры ЦК КПСС и сыгравший в этой операции ключевую роль.
Однажды я принес Василию Семеновичу еще в квартиру на Беговую «По ком звонит колокол». К тому времени роман еще не был напечатан, а ходил по рукам в машинописной копии на правах Самиздата. Мы беседовали о судьбах рукописей, и вдруг я попросил его рассказать, как забирали роман. Он раздраженно ответил:
— Вы что, хотите подробности? Это было ужасно, как только может быть в нашем государстве.
И больше ни слова.
Мне бы надо тогда сказать: «Я ведь не из любопытства спрашиваю». Пусть бы еще одно свидетельство осталось. Может быть, какое-нибудь из них выживет. Чем больше свидетельств, тем больше шансов, что одно из них выживает даже при том, что государство промышляет бреднем. Но я этого не сказал. Я промолчал. Меня только удивила его резкость.
Уже после его смерти я узнал, как однажды днем на Беговую пришли два человека.
— Нам поручено извлечь роман. — Вот именно так они сказали: извлечь.
Забрали не только все копии, но и черновики, и материалы, а у машинистки, перепечатывавшей роман, забрали даже ленты пишущей машинки.
И вот теперь в нашу последнюю встречу он с бессильной мольбой сказал:
— Хочется работать над рукописью, исправлять, переделывать, а нет ее.
И все-таки, мне кажется, он записывал исправления, новые строки, эпитеты, совершенствуя, шлифуя, заостряя, как это делал в свое время до самой смерти, работая над рукописью «Мастера и Маргариты», Михаил Булгаков. Это ведь как дыхание.
Изо дня в день работа над романом, который не может быть, ни за что не может быть напечатан, фанатичная, безумная работа над фразой, над словом в этой как бы не существующей книге, полный отказ, уход из жизни, почти уход в небытие, в сотворенный тобою мир, дерзость, святость, одержимость Бога.
Что же должен пережить, передумать писатель, когда забрали у него то, чем он жил десять лет, все дни и ночи, с чем были связаны восторги и страхи, радости, печали, сны.
Гроссман написал письмо наверх, и его принимали в самой высокой инстанции, выше уже нет.
Василий Семенович рассказывал о человеке, принимавшем его:
— Сердечник, человек поднаторевший, все время вращающийся в интеллигентной среде, но сам не ставший интеллигентом. Не обаятельный ум, но отменно вежлив, без грубости, но это уже давно известно, что на одном этаже грубо, на другом не грубо, что бы ни сделали с вами. Сказал — «это не то, что мы ждем от вас».
Василий Семенович хотел еще что-то добавить, но поглядел на стены и махнул рукой.
Тот, кто принимал его, сказал:
«Мы не можем сейчас вступать в дискуссии, нужна или не нужна была Октябрьская революция», — и еще он сказал, что о возвращении или напечатании романа не может быть и речи, напечатан он может быть не раньше чем через 200 — 300 лет.
Чудовищное высокомерие временщика. Это из той же оперы, что и тысячелетний рейх, десять тысяч лет Мао, дружба на вечные времена, посмертная реабилитация, посмертное восстановление в партии убитого той же партией.
Откроются архивы, откроются доносы, все получит свою оценку. Ну и что? Те, которые будут клеймить это позором, разве не могут повторить со своими современниками то же самое и, может быть, еще в более страшном, чудовищном варианте.
Вот уже лет пять, как Гроссмана забыли, его как бы не существовало. И даже в статьях о военной литературе, где он, бесспорно, был первым, самым крупным художником этой войны, в этих статьях его фамилия встречалась все реже и реже. Нет, он не был под официальным запретом, но как бы и был. Редкий рассказ вдруг прорывался в «Новом мире» или в «Москве». И самое удивительное, что это то же время, когда были опубликованы «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка», когда поговаривали вообще о ликвидации цензуры, именно в эти дни в нашем путаном обществе арестовали роман Гроссмана, негласно репрессировали его имя.
В последние годы жизни он написал «Записки пожилого человека (Путевые заметки по Армении)», произведение, на мой взгляд, гениальное, из того же класса, что «Путешествие в Арзрум». Записки были набраны и сверстаны в «Новом мире» и задержаны цензурой из-за нескольких фраз об антисемитизме. Требовали их убрать. Гроссман уперся. «Записки» пошли в разбор. А после был Манеж, «Обнаженная» Фалька, или, как говорил другой временщик, «Обголенная Фулька», борьба с абстракционизмом, знаменитые приемы интеллигенции, похожие на спектакли на Лобном месте, идеологические качели пошли вниз и вниз, в пропасть, смердяще пахнуло эпохой культа, и уже речи не могло быть о публикации «Записок».
Чья-то рука, вернее, много чиновных рук по указанию одного перста аккуратно и неумолимо изуверски вычеркивали Гроссмана из издательских планов, из критических статей, литературоведческих работ, жилищных списков, вообще из всех списков благодеяний, как это в свое время было с Михаилом Булгаковым, Анной Ахматовой, Андреем Платоновым, а до них с Осипом Мандельштамом.
Василий Семенович показывал мне отрывок, принятый в «Неделе» и отпечатанный только в части тиража, машина посреди ночи была остановлена, и вместо этого отрывка в другой части тиража заверстан очерк о Приморье. На столе у него лежали эти два номера-близнеца с разными носами.
Я сказал ему, что он в свое время сделал ошибку, не пожертвовав в «Новом мире» двумя-тремя абзацами.
— Вы это говорите как писатель и как еврей? — спросил он.
— Да, — сказал я, — там у вас были вещи поважнее и позначительнее, чем антисемитизм.
Он ничего не ответил, смолчал.
Только после молчания рассказал, как одного его знакомого, одетого в шубу, на Арбате задели, а когда он возмутился, плюнули в лицо и сказали: «Скоро будет погром, нам обещали!»
— Как быстро это пришло в подвалы, — печально сказал Гроссман.
Через несколько лет после смерти «Записки», скальпированные, кастрированные, были напечатаны в «Литературной Армении», журнале тиражом две тысячи экземпляров, их прочитали гурманы, любители изящной словесности, фрондирующие интеллигенты.
Заговорили про напечатанное в «Литературной газете» интервью со Стейнбеком, где он вроде бы польстил нашей державе. Василий Семенович сказал:
— Уж как я привык и то возмутился. Я понимаю, что могут приписать, но когда ничего нет, то нет. Тогда пишут: «Пропасть лежит между высказываниями и романами», или: «Трудно понять непонятную и странную позицию». Вот с Белем, как ни вертели, ничего ведь не могли придумать.
Потом заговорили про недавно напечатанные мемуары Эренбурга. Он был недоволен ими.
— Это ведь исповедь, покаяться надо было, а то получился фельетон.
Я сказал, что Эренбург был единственным евреем в России, принявшим католичество.
— Нет, еще был Минский, уехал в Испанию в монастырь, дал обет молчания и уже не произнес ни одного слова. Вот так-то! — и он сверкнул очками.
О, этот вечер, когда он, грузный, с одышкой, ерзая на стуле, поглубже и поудобнее устраиваясь и по привычке касаясь рукой больного бока, как бы успокаивая боль, глухим, глубоким, но уже чем-то неуверенным в себе, чем-то усомнившимся в себе голосом читал грустный, щемящий рассказ, впоследствии названный «Мама». Сильный и страшный рассказ о том, как в Британии, на туманной Темзе, в семье работника советского торгпредства родилась девочка и в младенческом сне видела белых чаек над Темзой. Как раз в эти дни его неожиданно отозвали в Москву и тотчас по приезде арестовали вместе с молодой женой, девочка попала в детский дом. И вот однажды в том замоскворецком переулке, где был детский дом, появилось военное оцепление. Жители говорили, что в детском доме чума, а это Ежов с супругой приехали выбирать приемную дочь и выбрали эту девочку. И как потом снова все повторилось, забрали уже Ежова. До сих пор помню пронзительное описание обыска в этой высокой квартире, где только накануне были Сталин, Молотов и Каганович. И снова девочка в детском приюте где-то в Туле, вырезает из старых желтых газет портрет Ежова, уверенная, что это ее отец. Только, как странное призрачное видение, словно воспоминание того, чего никогда и не было и не могло быть, являются ей белые птицы-чайки из того младенческого сна, когда она еще была дочкой тех убитых. Я слушал, и у меня было ощущение, что это мне снится волшебный полет белых птиц.
Василий Семенович читал рассказ ровным, внятным, несколько учительским голосом, приглушенным болью, хрипловато отчеканивая слова. Иногда казалось, что это не проза, а клятва, проклятие, песня песней. А потом он еще прочел небольшой, протокольно записанный рассказ о старой большевичке Надежде Борисовне Алмазовой, которая в последние дни жизни получила комнату в новом доме на Юго-Западе, вскоре умерла, и как после смерти пришло на ее имя письмо. Это воскресенье, и соседи ее по коммунальной квартире играют на кухне в «подкидного дурачка», игра прерывается приходом почтальона. Письмо вскрывают, а там извещение, что Алмазов — муж Надежды Борисовны — посмертно реабилитирован.
Слесарь, житель квартиры, говорит: «Ладно, завтра пойду в домоуправление и отнесу письмо».
Рассказ заканчивается возобновлением «подкидного дурачка».
« — А кто сдает?
— Кто остался, тот и сдает».
Это были именно те слова, которые входят, как копье, в сердце.
Казалось, в комнате все иссушено, и бумага, шуршавшая в его руках, и то, что он читал, было сухо, ушли краски, свет, кипение, остались только жесткие точные слова, иероглифы и разлитая бессильная боль.
Это было уже во второй раз на моей молодой жизни. Вот так же доходил в сумрачной своей комнате, в матрацной могиле, всеми забытый, заросший бородой Андрей Платонов, и он рассказывал мне, как однажды на фронте ночевал в крестьянской хате, и в сенях вздыхала корова, и он всю ночь не спал и слушал вздохи.
А литературные палачи сменяли друг друга с железной неумолимостью и становились все мельче и ничтожнее. Они вырождались из кобры в клопа. Сначала были те, которые сами умели писать, но и убивать хорошо умели, а потом те, которые не могли писать, а только убивать. Теперь те, которые не могут ни писать, ни убивать, а только кусать.
Гремели литературные диспуты, симпозиумы, форумы, кипела муравьиная суета, паучья толкотня, подымали на щит жуликов, мазуриков, ловчили, печатали миллионными тиражами и награждали Государственными премиями книги, набитые ватой, которые не только через год, но уже в дни награждения читали только обманутые, дезориентированные, сбитые критическим шумом фальшивомонетчиков, а Василий Семенович Гроссман в своей тусклой, сумрачной комнатке выстукивал одним пальцем на старой разбитой машинке слова, которые будут сжимать сердца людей и через сто лет.
Конечно, к этому привыкнешь, как к болезни, тюрьме, потере близких, и это уже не вызывает протеста. Вот так и тянется жизнь.
Ошибочно, что люди, чуждые суеты славы, насмехаются и издеваются над ней, и им, забытым, хочется если и не света «юпитеров», то общения, публикаций, признания. Гроссмана никогда не баловали вниманием. С грустью говорил он: когда печатают роман, звонит телефон, приезжает курьер с гранками, присылают машину, ты нужен, все ж таки приятно. А потом телефон молчит, курьеров нет, и никому ты уже не нужен.
— Знаете, забывают все-таки, — печально сказал он, — за десять лет напечатали три-четыре страницы. Я недавно спросил пятилетнюю девочку, кто такой Сталин, она не знала. А ведь Наполеону и не снилась его слава.
Он говорил спокойно, чуть иронично, как бы посмеиваясь над самим собой, да и над собеседником, глуховатым, пожилым, мудрым голосом раввина и инженера.
Один, совсем один, забытый, сидел он в своей квартирке и писал очередной рассказ, зная и понимая, что никто этого рассказа не ждет, ни одна редакция не позвонит, что и напечатать ему рассказ невозможно. Правда, об этом он сейчас не думал и не мог думать. Думал только о рассказе, и на этот миг мощь и наслаждение работой отвлекали его от тоски, тяжелых мыслей, понимания своего положения, снимали удушье.
За весь вечер, пока я сидел у него, мы беседовали, и он читал мне рассказы, за весь долгий вечер телефон ни разу не зазвонил, не было даже ошибочного звонка.
В этой новой холодной комнате с пальмой в кадке и мертвыми уродцами, кактусами, с живыми слушающими, враждебными стенами чувствовалась обреченность. Меня коснулось и объяло это глухое городское одиночество в камере огромного дома, в миллионном городе, в немоте, постоянном чувстве чуткого, недремлющего, неустающего электронного уха, которое слушает и слушает день и ночь и кашель, и хрипы, и крики боли, и, кажется, даже мысли, кажется, все знает, все просвечивает.
Человек, которому в это время должен был внимать мир, в тот затерянный вечер радовался, что у него есть один слушатель. Кроме меня только кактусы тоже, казалось, слушали его с человеческим вниманием.
А этот единственный слушатель торопился к своей жизни. Куда я торопился, зачем не досидел до поздней ночи, до рассвета в этой последней беседе, последней встрече.
В жизни, в которой мы живем, мы не ценим того, что должны были ценить, мы проходим почти равнодушно мимо близких, родных людей, их бед, их несчастий, нам некогда, мы торопимся, мы очень заняты собой, мы не пишем писем, которые должны были написать, мы даже не приходим на похороны, а потом, потом мы громко плачем, сожалеем, ужасаемся своему эгоизму, своему равнодушию и в дневниках, в стихах и прозе изливаем свою тоску, горе, вымаливаем прощение. Все несправедливости, все притеснения возможны только потому, что каждый думает о себе, всегда только о себе.
В самом конце вечера, как бы подводя итог нашим разговорам, Василий Семенович сказал:
— Меня задушили в подворотне.
После была болезнь, больница, долгое, жестокое, мучительное умирание, крики, которые поднимали в воздух Первую градскую больницу. Природа добивала его с той же, что и государство, неумолимостью и беспощадностью.
Было необычно жаркое сентябрьское утро, прощальный день сухого лета. Почему-то долго, томительно сидели во дворе Союза писателей на скамеечке под падающими листьями и ждали начала панихиды. Летали поздние неожиданные мотыльки, они были какие-то взъерошенные, судорожно, истерическими рывками перелетали с травинки на травинку, вздрагивая, садились на поздние осенние цветы и как бы оглядывались — не приснился ли этот мир, эта однодневная жизнь, данная им случайно, напрасно.
Медленно стекались люди, не много, но и не мало. Не было обычного, торжественно-печального подъема знаменитых похорон, а как-то тихо, таинственно. Одна женщина сказала:
— Так хоронят самоубийц.
Да он и был самоубийца, писал, что хотел и как хотел, не желал входить в мутную общую струю.
Я сидел на скамеечке под падающими желтыми листьями и думал. Поразительная судьба. Действительно задушенный в подворотне. И после смерти его продолжали втихую душить. В редакции «Литературной газеты» долго судили, рядили, как давать некролог — с портретом или без, указаний на этот счет не было, и напечатали на всякий случай без портрета. «Советская культура» неожиданно дала портрет, получился конфуз, но редактор «Литературной газеты» легко его перенес, у него было чувство своей правоты, чувство политической перестраховки, а значит, и превосходства.
Панихида задерживалась, и никто не знал, в чем дело, очевидно, где-то в последней инстанции окончательно утрясали список ораторов.
Толпа все увеличивалась, было много незнакомых лиц. Какой-то человек подсел ко мне и представился:
— Я Аметистов, все знают, что я порядочный человек…
— Очень хорошо, — сказал я, встал и ушел.
У раскрытого подъезда торчком стояла в ожидании глазетовая крышка гроба, в здании вяло, кладбищенски-печально пахло венками. Большое зеркало прихожей было завешено простыней, скульптура в черном крепе, люстры повиты черной кисеей.
Народ жался у стен, и пол был покрыт еловыми иглами и лепестками траурных цветов.
Вдруг что-то произошло, где-то была дана команда, и толпа как-то зрелищно устремилась по широкой лестнице в конференц-зал. Я остался в фойе.
Из тишины пришла взвизгивающая нота, кто-то начал речь.
Все наши муки, горе, сострадание, жизнь и смерть в последние десятилетия были каким-то образом связаны с этим конференц-залом. Здесь шли долгие безумные собрания и убийственные обсуждения, именно здесь и состоялось то заседание секретариата, на котором Первенцев назвал Гроссмана идеологическим диверсантом, а Фадеев сказал, что стоило нам на минуту отвлечься, как выполз национализм Гроссмана.
В фойе была угнетающая тишина, тишина мимолетной жизни, как бы прислушивающейся к миру смерти.
А в больших пустых служебных комнатах на столах неутешно звонили телефоны, во двор на серой машине «Связь» приехал фельдъегерь, сдал засургученный пакет и, даже не взглянув в сторону зала, откуда доносилось жужжание похоронных речей, спустился по лестнице, и в тишине снова зафырчал мотор, а когда он затих, слышно стало, как в техническом секретариате стучат почтовым штемпелем.
Да, учреждение работало на полном газу.
Чем роскошнее, представительнее становилось это учреждение, лакированнее парадный ход, вместо гнусной раздевалки и пахнущего карболкой писсуара — просторный, обитый сосновыми панелями гардероб, на мраморной лестнице — ковровая красная дорожка и в кабинетах массивные, огромные, похожие на прокатный стан столы, чем это учреждение становилось богаче, солиднее, государственнее, тем меньше в нем было живого дыхания и дела, участия к людям, тем больше оно становилось похожим на загримированный, одетый в фальшивую парадную одежду разлагающийся труп.
Когда секция сказочников заседает при закрытых дверях, как Генеральный штаб, когда глупые, никчемные людишки могут болтать все что угодно, хвалить друг друга, подлизываться друг к другу, награждать друг друга, ведь никто не ответит им, никто не посмеется над ними, все перерождается.
Как раз в час похорон на свое очередное заседание собирался секретариат.
Они торопились мимо гроба, собираясь поодиночке. Первым появился Н. Он прошел деловым шагом, даже не остановившись возле распахнутой двери в конференц-зал, прекрасно знал, что тут происходит и какое он лично имеет к этому отношение, выдав доверенную редакции рукопись романа карательным органам. Лицо с крепко натянутой, как ремень, кожей ничего не выражало, кроме вечного недовольства, словно он все время жевал дерьмо.
Другие останавливались на одну-две минуты, но каждый останавливался по-своему.
Вот А. в новой велюровой шляпе и новом костюме, в рубашке с высоким, режущим вялую, мятую шею воротником, сначала прошел мимо, но, поняв, что его видят, вернулся. Я долго смотрел на его землисто-лимонное лицо, заостренное, как у стервятника, куриные серые глаза. Неужели, только взглянув на него, люди не видят, что это страшный человек? Говорили, что недавно было его письмо в «Литературную энциклопедию» с протестом против статьи о Гроссмане, который уже десять лет ничего не пишет. Теперь, он стоял у открытой, жарко дышащей двери в похоронный конференц-зал, в мертвящей тишине гудел чей-то голос, произносящий речь над гробом, а он был напряжен, как пружина, и, глядя поверх голов, слушал и все время поглядывал на ручные часы: «Видите, я ведь занят, а стою». Он послушал, пожевал тонкими костяными губами и спокойно прошел дальше.
Вот Б. с лицом хорька. Он тоже остановился у дверей и с серьезным, как бы соболезнующим, как бы чем-то виноватым лицом недолго, невнимательно послушал, чтобы никто не мог ничего плохого о нем сказать.
Страх и безнаказанность все время сменяются и играют на его лице. Он боится уйти, чувствуя на себе взгляды окружающих, но и страшится перестоять лишнее. Переминается с ноги на ногу, нет, он не в том вечном, необратимом, что происходит там в зале, а весь в своих комплексах. И вот наконец усилием воли отрывается от места, к которому неведомой силой пригвожден, и сначала тихонько, чуть ли не на цыпочках, осторожненько и скромненько отходит, словно не отходит, а как бы случайно делает несколько шажков в сторону и еще несколько шажков, скрывается в коридоре, а там уже чуть ли не бежит.
В. постоял как бы мельком, мимоходом, на одной ноге, всунув в распахнутую настежь смертью дверь мордочку «гиены в сиропе» и, когда ему стало скучно, отошел, забыв все на свете, весь в своей живой авторитетности.
Подошел и Г. с прищуренным, прикрытым глазом, с лицом, приснившимся в дурном сне, как бы сочувственно послушал и пошел дальше.
Все они знали, мимо чего проходят, мимо того вечного, необратимого, что ждет и их, но не хотели, не желали, боялись или не способны были об этом подумать.
Думали ли они, по крайней мере, о содеянном, каялись ли, проникал ли страх возмездия в их душу, или они всецело были в текучке, в интригах, в своих личных шкурных интересах, полной уверенности в своей безнаказанности?
Там, в убранных коврами уютных барских апартаментах, они сидели в глубоких кожаных креслах вокруг массивного министерского дубового стола, и из огромных окон ровно лился спокойный солнечный свет сентября.
О чем же они там говорили, в солнечном кабинете, как могли рядом с гробом своего коллеги обсуждать мелкие хищные вопросики и какими бесчувственными, зачерствелыми должны были они быть, какими выжатыми лимонами, сколько унижения, презрения от высших должны были вытерпеть, сколько их должны были топтать в тех высоких кабинетах, через какие страхи должны были они пройти, чтобы все живое из них выутюжить, вычерпать и чтобы они стали только винтиками этой бесчеловечной машины.
В отделе кадров шла будничная работа. После смерти члена Союза его личное дело сдают в архив, вынимая из роскошной коричневой папки, и сотрудники между собой это называют «раздевать».
— Валя, ты Гроссмана уже раздела?
В крематорий я поехал в одной машине с В. Тевекеляном. Помню, как только он появился в Союзе в 1956 году, старая лиса Никулин, услышав его первую речь на собрании, сказал: «Он вас всех подожмет». Теперь он занимал высокую должность парторга МГК, ему поручено было проследить за порядком похорон, чтобы все было как нужно, тихо, прилично и правильно, без нигилизма, вывихов и вывертов.
Он был комиссаром похорон, и, сидя рядом с ним в машине, что бы я ни думал про себя, я был как бы в безопасности.
Вдруг он сказал мне:
— И мы умрем, а не хочется, как не хочется!
Еще бы ему хотелось. А ведь были в этой скорбной толпе провожающих и такие, которым уже хотелось скорее все кончать.
При виде Донского монастыря я бодро сказал ему:
— Все тут будем.
И он весело кивнул, совсем не ощущая, как, впрочем, и я, и никто не ощущает, что это его лично касается, всех, но не меня, не может же этого быть, чтобы меня повезли в черном автобусе.
И снова краснокирпичные стены Донского монастыря, эти широкие, всегда раскрытые ворота крематория.
Зеленая тишина и строгое модерновое ультраурбанистское сооружение с вечно дымящей трубой.
Тут в высоком и гулком храмовом зале мы стояли и ждали среди высоких шкафов с урнами. Трудно, невозможно, немыслимо представить, что все это были люди, от которых остались только одни выгравированные на металлических табличках имена, что это были счастливые, веселые и печальные, добрые и подлые, мудрецы и невежды, совестливые и бесстыдные, тихие и буйные, завистливые и бессребреники, гуляки и аскеты, дельцы и сумасшедшие. О, если бы вдруг заговорили все эти голоса, если бы засмеялись вдруг или, может, заплакали.
И вот наконец гроб Василия Семеновича Гроссмана на постаменте, как на трибуне.
Стояла тишина, вернее, микротишина этих похорон, потому что в нескольких шагах уже суетились, пошумливали, подвывали следующие похороны.
И были речи, и медленное открывание зеленой шторки, и медленное и неумолимое опускание гроба под звуки реквиема.
Это был последний миг его существования. Еще можно было увидеть, как мелькнули седые виски его, надбровья в жалкой бесполезной сердитости, окостеневшее, ссохшееся в незнакомой желтизне лицо и теперь маленькие, высохшие рабочие, натруженные руки…
Через миг всего этого не станет. Где-то там в адской глубине костяной лопаточкой соберут кучу пепла, да и кто знает, его ли пепла или предыдущего, или последующего. Там у этих кочегаров работа конвейером, и нет для них ни гения, ни палача, ни старика, ни ребенка, ни красавицы, ни уродки.
О, сколько в тот вечер последней встречи еще было в нем силы, какой динамитный заряд творения, жажды, самолюбия, сколько было накоплено, сколько запечатленных картин, удивительных, волшебных, какая уйма острых, метких словечек, которые он так любил. Какие планы, сюжеты, сколько типов, сколько типов! И какая бездна любви, нежности, ненависти. И все это ушло с ним, сгорело в мгновенном адском огне, от всего осталась серая кучка магнезитового пепла с расплавленными золотыми коронками, которые вытащили щипчиками и по акту сдали артельщику Госбанка, а может, и не сдали.
И чувство сиротства, чувство великого одиночества, и что все будет кончено и никогда уже ничего не будет, и удушье, и незачем жить, и такси по чужим, как бы незнакомым улицам, и нет сил сидеть на месте, и пешком где-то по Замоскворечью, по Большой Якиманке, по Болотной через Яузский мост в центр, и медленное возвращение к жизни.
А дома на улице Черняховского я встретил своего соседа, мелкого литературного вертухая. Он вышел из подъезда, веселый, моложавый, светящийся на солнце в периленовом костюме, с дорогим, кожаным, заклеенным пестрыми ярлыками чемоданом.
— Прощайте, до свидания, я уезжаю.
— Куда?
— В Конго Киншаса, в Уганду, к горе Килиманджаро.