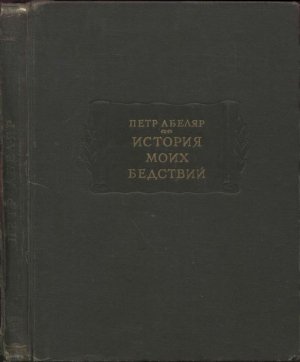
ОТ РЕДАКЦИИ
Знаменитая автобиография Петра Абеляра (1079-1142 гг.), известная под наименованием «История моих бедствий» и публикуемая в настоящем издании, представляет чрезвычайно большой интерес для читателя. Она принадлежит перу прославленного философа – магистра «свободных искусств», одного из самых крупных представителей ранней городской культуры во Франции, который восстал против безоговорочного авторитета католической церкви и подвергся за это с ее стороны жесточайшим преследованиям. «История моих бедствий» интересна особенно тем, что она дает яркое и наглядное представление об идеологической борьбе, кипевшей во Франции в первой половине XII в., и позволяет понять реакционную роль католической церкви в этой борьбе.
Резко отличающаяся и от средневековых хроник, регистрирующих события в их внешней последовательности, и от средневековых трактатов, с их схоластическими рассуждениями и умозаключениями, автобиография Абеляра может рассматриваться как образец весьма ранней мемуарной литературы, тем более редкостной для того времени, что она раскрывает перед читателем душевные переживания человека, подвергшегося преследованиям со стороны католической церкви.
Пронизанная духом борьбы и сопротивления, эмоционально насыщенная, содержащая едкие характеристики его врагов, автобиография Абеляра отличается необычной для XII в. ясностью изложения и превосходным, точным и выразительным языком. Имея огромное познавательное значение для всякого человека, интересующегося духовной жизнью средневековья, «История моих бедствий» читается вместе с тем и как захватывающее литературное произведение. Трагическая судьба Абеляра, дважды осужденного на церковных соборах, философа, которому церковь запрещала вести литературную и преподавательскую деятельность, магистра, школы которого она закрывала, а учеников преследовала, не может не вызывать глубокого интереса и живого сочувствия со стороны советского читателя.
К сожалению, на русский язык текст «Истории моих бедствий» переводился только однажды[1] более пятидесяти лет назад. Издание это стало уже библиографической редкостью, и широкие круги читателей не имеют возможности им пользоваться. Кроме того, необходимо отметить, что перевод автобиографии Абеляра, сделанный П. О. Морозовым под редакцией А. Трачевского, несмотря на несомненные литературные достоинства, в ряде мест неточен, а иногда и просто ошибочен. Так, например, в одном из важнейших разделов «Истории моих бедствий», а именно там, где речь идет о философских разногласиях Абеляра с Гильомом из Шампо – представителем чисто идеалистической точки зрения, утверждавшим, что идеи существуют независимо от реального мира и до него, – старый перевод искажает текст подлинника и делает его просто бессмысленным.
В настоящем издании дается новый, тщательно проверенный перевод «Истории моих бедствий» с латинского текста. В квадратные скобки заключены слова, отсутствующие в латинском тексте, но введенные переводчиком для правильной и точной передачи текста. Внимание как переводчика, так и редакторов было обращено не только на точность и соответствие перевода подлиннику, но и на сохранение в переводе духа этого (подлинника с характерными для него взволнованностью и страстностью.
Анализ публикуемого в настоящем издании литературного памятника и тех общественных условий, которые вызвали его к жизни, дает статья Н. А. Сидоровой «Петр Абеляр – представитель средневекового свободомыслия»[2].
Не меньший интерес для характеристики идеологической борьбы во Франции XII в. имеют и другие произведения Абеляра, которые непосредственно дополняют «Историю моих бедствий» и делают ее более понятной («Пролог» П. Абеляра к собранным им противоречивым суждениям церковных авторов, которые он озаглавил «Да и Нет», «Диалог между философом, иудеем и христианином» и «Возражение некоему невежде в области диалектики, который, однако, порицал занятие ею и считал все ее положения за софизмы и обман»). Весьма важными для понимания жизненного пути Абеляра являются также обращенные к нему письма его возлюбленной, а затем жены – Элоизы, небольшой трактат его ученика Беренгария, написанный в защиту учителя и направленный против виднейших деятелей католической церкви, и письма главного врага Абеляра – аббата Бернара Клервоского[3]. Все эти материалы, публикуемые в «Дополнениях» к автобиографии Абеляра, позволяют воссоздать живую картину борьбы между представителями средневекового свободомыслия и католической церковью и более полно представить себе ту роль, которую в этой борьбе играл Абеляр.
Настоящее издание подготовлено следующими лицами: «История моих бедствий», а также «Первое письмо Элоизы Абеляру» и «Второе письмо Элоизы Абеляру» переведены с латинского В. А. Соколовым. В. С. Соколовым переведено «Первое письмо Абеляра Элоизе». Н. А. Сидоровой выполнен перевод с латинского языка на русский следующих текстов: П. Абеляр. «Возражение некоему невежде в области диалектики, который, однако, порицал занятие ею и считал все ее положения за софизмы и обман»; П. Абеляр. «Пролог» к «Да и Нет»; П. Абеляр. «Диалог между философом, иудеем и христианином» (два отрывка из трактата); письма современников и участников Сансского собора 1140 г. и «Апология» схоластика Беренгария.
Редактором всех переводов является В. С. Соколов. Комментарии составлены Д. А. Дрбоглавом, именной указатель – Е. А. Жаботинской. Сопроводительная статья и общая редакция настоящего издания принадлежат Н. А. Сидоровой.
ИСТОРИЯ МОИХ БЕДСТВИЙ
Человеческие чувства часто сильнее возбуждаются или смягчаются примерами, чем славами. Поэтому после утешения в личной беседе, я решил написать[4] тебе, отсутствующему[5], утешительное послание с изложением пережитых мною бедствий, чтобы, сравнивая с моими, ты признал свои собственные невзгоды или ничтожными, или незначительными и легче переносил их.
Я происхожу из местечка, расположенного в преддверии Бретани, как я думаю, милях в восьми к востоку от Нанта, и носящего название Пале[6]. Одаренный от природы моей родины или по свойствам нашего рода восприимчивостью, я отличался способностями к научным занятиям[7]. Отец мой[8] до того, как я препоясался воинским поясом[9], получил некоторое образование. Поэтому и впоследствии он был преисполнен такой любовью к науке, что, прежде чем готовить каждого из своих сыновей[10] к воинскому делу, позаботился дать им образование. Решение отца было, конечно, исполнено, а так как я в качестве первенца был его любимцем, то он тем сильней старался тщательнее обучить меня.
Я же чем больше оказывал успехов в науке и чем легче они мне давались, тем более страстно привязывался к ним и был одержим такой любовью к знанию, что, предоставив своим братьям наследство, преимущества моего первородства[11] и блеск военной славы, совсем отрекся от участия в совете Марса[12] ради того, чтобы быть воспитанным в лоне Минервы[13]. Избрав оружие диалектических доводов среди остальных положений философии, я променял все прочие доспехи на эти и предпочел военным трофеям – победы, приобретаемые в диспутах. Поэтому, едва только я узнавал о процветании где-либо искусства диалектики и о людях, усердствующих в нем, как я переезжал, для участия в диспутах, из одной провинции в другую[14], уподобляясь, таким образом, перипатетикам[15].
Наконец я прибыл в Париж, где эта отрасль познания уже давно и всемерно процветала, и пришел к Гильому из Шампо[16], действительно выдающемуся в то время магистру в этой области, который пользовался соответствующей славой. Он-то и стал моим наставником[17]. Сначала я был принят им благосклонно, но затем стал ему в высшей степени неприятен, так как пытался опровергнуть некоторые из его положений, часто отваживался возражать ему и иногда побеждал его в спорах. Наиболее же выдающиеся из моих сотоварищей по школе весьма сильно вознегодовали на меня за это и тем сильнее, чем я был моложе их по возрасту и по курсу обучения. Здесь-то и начались мои бедствия, продолжающиеся поныне; чем шире распространялась обо мне слава, тем более воспламенялась ко мне зависть.
Возымев о самом себе высокое мнение, не соответствовавшее моему возрасту, я, будучи юношей, уже стремился стать во главе школы[18] и даже наметил себе место, где я мог бы начать такую деятельность, а именно – в Мелёне[19], бывшем в то время значительным укрепленным пунктом и королевской резиденцией. Упомянутый мой учитель[20] догадался об этом и постарался, насколько это было для него возможно, отдалить мою школу от своей. Он изобретал всевозможные тайные махинации, чтобы помешать открытию моей школы и, прежде чем я покину его, лишить меня избранного для нее места. Но так как некоторые из сильных мира сего относились к нему недружелюбно, то при их поддержке и содействии мне удалось добиться исполнения моего желания, а его явная зависть возбудила у многих сочувствие ко мне.
С самого же начала моей преподавательской деятельности в школе молва о моем искусстве в области диалектики стала распространяться так широко, что начала понемногу меркнуть слава не только моих школьных сотоварищей, но и самого учителя. Вот почему, возымев еще более лестное мнение о своих способностях, я перенес свою школу в укрепленное местечко Корбейль[21] по соседству с Парижем, чтобы получить возможность именно отсюда чаще нападать на своих противников в диспутах. Однако немного времени спустя, вследствие неумеренной страсти к научным занятиям, я подорвал свое здоровье и вынужден был возвратиться на родину. В течение нескольких лет я был как бы удален из Франции[22], зато меня еще ревностней ожидали все увлекавшиеся изучением диалектики.
Когда по прошествии нескольких лет я совсем оправился от болезни, мой бывший наставник Гильом, архидиакон[23] Парижский, сменив свое прежнее одеяние, вступил в ряды уставных каноников[24], как передавали, с целью казаться благочестивее и тем скорее подняться на более высокую ступень духовного сана. Этого он в самом скором времени и достиг, так как его сделали епископом Шалонским[25]. Однако новое одеяние, [соответствующее его сану], не удалило его из Парижа и не отвлекло от привычных занятий философией: в том же самом монастыре[26], в который он удалился, дабы посвятить себя делу веры, он тотчас же, по своему обычаю, стал заниматься публичным преподаванием[27]. Тогда я возвратился к нему, чтобы прослушать у него курс риторики, причем в ходе наших, неоднократно возникавших споров я, весьма убедительно опровергнув его доводы, вынудил его самого изменить и даже отвергнуть его прежнее учение об универсалиях[28]. Было же его учение об общих понятиях таково: он утверждал, что вещь, одна и та же по сущности, находится в своих отдельных индивидуумах вся целиком и одновременно; последние же различаются [между собой] не по [своей] сущности, но только в силу многообразия акциденций[29]. И это свое учение он исправил таким образом, что, наконец, сказал: одна вещь является тождественной [с другой] не по сущности, а в силу безразличия[30].
А ведь этот вопрос об универсалиях был у диалектиков всегда одним из важнейших, и он настолько труден, что даже Порфирий в своем «Введении»[31], говоря об универсалиях, не решился определить их, заявив: «Это – дело чрезвычайной глубины». После того как Гильом изменил и даже был вынужден отвергнуть свое прежнее учение, к его лекциям начали относиться так пренебрежительно, что едва даже стали допускать его к преподаванию других разделов диалектики: как будто бы только в учении об универсалиях заключается, так сказать, вся суть этой науки. Поэтому мое учение приобрело такую силу и авторитет, что лица, наиболее усердно поддерживавшие раньше моего вышеназванного учителя и особенно сильно нападавшие на мое учение, теперь перешли в мою школу. Даже преемник моего учителя в парижской школе[32] сам предложил мне свое место, чтобы вместе с остальными поучиться у меня там, где раньше процветал его и мой учитель.
Вскоре после того, как обучение диалектике оказалось под моим руководством, наш бывший учитель начал столь сильно мучиться от зависти и огорчения, что это даже трудно выразить. Не имея сил дольше терпеть постигший его удар, он коварно стал искать возможность удалить меня из школы. Но так как у него не было предлога действовать против меня открыто, то Гильом решил предъявить позорнейшие обвинения человеку, передавшему мне руководство в школе и отнять ее у него, а на это место назначить моего противника. Тогда я возвратился в Мелён и снова, как прежде, открыл там свою школу, и чем более явно он преследовал меня своей завистью, тем больше возрастал мой авторитет, согласно словам поэта:
Однако немного позже, поняв, что почти все его ученики весьма сомневаются в его благочестивости и без конца перешептываются по поводу его вступления в клир, потому что он ни в какой степени не отказался от городской жизни, Гильом переехал сам и перевез немногочисленную братию и свою школу в некий удаленный от Парижа поселок[34]. А я тотчас же возвратился из Мелёна в Париж, надеясь в конце концов обрести покой от его преследований. Но поскольку, как я уже заметил ранее, он сделал моим преемником моего противника, я раскинул свой школьный стан вне пределов Парижа – на горе св. Женевьевы[35], как бы намереваясь держать моего преемника в осаде. Услышав об этом, наш учитель без всякого зазрения совести немедленно возвратился в Париж и перевел остававшихся еще при нем учеников и братию в прежний монастырь, дабы освободить от моей осады того воина, которого он раньше покинул. В действительности же Гильом сильно повредил ему, хотя намеревался оказать ему помощь. В самом деле, раньше у моего преемника было хоть несколько учеников, интересовавшихся преимущественно его лекциями о Присциане[36], в изучении которого он считался особенно сильным. А после прибытия учителя мой преемник совершенно лишился всех своих учеников и был таким образом вынужден отказаться от руководства школой. Вскоре после того, вконец отчаявшись приобрести мирскую славу, он и сам постригся в монахи.
Ты, наверное, хорошо осведомлен о том, как часто спорили я и мои ученики с нашим бывшим учителем и его учениками после их возвращения в Париж и насколько был удачен для нас, а также и для меня самого, исход этих битв. Скажу об этом смело словами Аякса, чтобы выразиться поскромнее:
И даже если бы я умолчал об этом, то само дело гласит за себя, равно как и исход его.
Пока происходили все эти события, моя возлюбленная мать Люция вызвала меня к себе на родину. После пострижения моего отца Беренгария. в монахи она намеревалась поступить так же. По исполнении этого обряда я возвратился во Францию, чтобы основательнее изучить богословие[38], в го время как часто упоминаемый наш учитель Гильом уже утвердился на престоле епископа Шалонского. Высшим же авторитетом в области богословия считался тогда его собственный учитель – Ансельм Ланский[39].
Итак, я пришел к этому старцу, который был обязан славой больше своей долголетней преподавательской деятельности, нежели своему уму или памяти. Если кто-нибудь приходил к нему с целью разрешить какое-нибудь свое недоумение, то уходил от него с еще большим недоумением. Правда, его слушатели им восхищались, но он казался ничтожным вопрошавшим его о чем-либо. Он изумительно владел речью, но она была крайне бедна содержанием и лишена мысли. Зажигая огонь, он наполнял свой дом дымом, а не озарял его светом. Он был похож на древо с листвой, которое издали представлялось величественным, но вблизи и при внимательном рассмотрении оказывалось бесплодным. И вот, когда я подошел к этому древу с целью собрать с него плоды, оказалось, что это проклятая господом смоковница[40] или тот старый дуб, с которым сравнивает Помпея[41] Лукан, говоря:
Убедившись в этом на опыте, я недолго оставался в праздности под его сенью. Постепенно я стал приходить на его лекции все реже и реже, чем тяжко обидел некоторых выдающихся его учеников, так как им казалось, что я с презрением отношусь к столь великому учителю. Поэтому, тайно восстанавливая его против меня, они своими коварными наговорами внушили ему ненависть ко мне. Однажды после лекции мы, ученики, завели между собой шутливый разговор. И вот тогда кто-то, с намерением испытать, спросил меня, каково мое мнение о чтении священного писания, поскольку я изучал до того времени лишь светские предметы[43]. Я ответил: изучение священного писания является крайне важным, ибо оно учит нас спасению души, но меня сильно удивляет, почему образованные[44] люди считают недостаточным для понимания учения святых знание их подлинных сочинений или толкований и нуждаются при этом еще в чьем-либо руководстве.
Многие из присутствующих, смеясь, спросили меня, – смог ли бы я это выполнить и взялся ли бы я сам за такое дело? Я ответил, что, если они желают этого, я готов попытаться. Тогда с громкими восклицаниями и с еще более громким смехом они сказали: «Разумеется, мы этого желаем. Возьмемте текст, который обычно не проходится в школах, и тогда мы посмотрим, как-то вы исполните ваше обещание». По общему согласию были избраны темнейшие пророчества Иезекииля[45]. Итак, взяв текст, я тотчас пригласил их на завтра же на лекцию. Они же, давая непрошенные советы, предлагали мне не спешить с такими важными вещами и говорили, что мне как человеку неопытному необходимо поработать подольше и основательно обдумать содержание лекции. Я с негодованием ответил, что в моем обычае разрешать вопросы, опираясь не на кропотливый труд, но на разум, и добавил, что я или совсем откажусь от своего намерения, или же они должны прийти на лекцию согласно моему желанию.
Разумеется, на эту первую мою лекцию собралось мало слушателей, так как всем казалась смешною мысль, что я, будучи совершенно неопытен в области богословия, так поспешно к нему приступаю. Однако эта лекция так понравилась всем присутствовавшим, что они стали отзываться о ней с исключительным одобрением и побуждали меня продолжать толкования в том же духе. Услышав об этом, отсутствовавшие на первой лекции чрезвычайно охотно явились на вторую и третью и стали усердно переписывать толкования, которые я давал с самого первого дня моих лекций. Вследствие этого названный выше старец стал терзаться жестокой завистью ко мне и, уже ранее (как упомянуто выше) восстановленный против меня некими наговорами, начал столь же сильно преследовать меня в области богословских вопросов, сколь раньше Гильом – в области философских.
В то время в школе этого старца были два ученика, считавшиеся лучшими среди прочих, а именно – Альберик из Реймса и Лотульф из Ломбардии[46]. Оба они были высокого мнения о самих себе и тем более враждебно настроены по отношению ко мне. Главным образом под влиянием их наговоров (как это обнаружилось впоследствии) разгневанный старец весьма грубо запретил мне іпродолжать мои толкования пророчеств Иезекииля в пределах своей школы под тем предлогом, что, если я в своих лекциях выскажу что-нибудь ошибочное, как неопытный в богословии, ответственность за ошибку падет на него. Когда ученики это услышали, они пришли в сильное негодование против столь очевидной злостной клеветы, какой никогда еще ни на кого не возводили. Но чем яснее обнаруживалась эта клевета, тем больше приобретал я почета, и преследования со стороны Ансельма. только увеличили мою славу.
Немного времени спустя я вернулся в Париж и в течение нескольких лет спокойно руководил той школой, которая первоначально была для меня предназначена и мне предоставлена и из которой я был прежде изгнан. Там, с самого начала моих лекций, я постарался закончить толкования Иезекииля, начатые мной в Лане. Они были приняты читателями так благосклонно, что меня стали считать не меньшим авторитетом в области богословия, чем в области философии. Какие же крупные денежные выгоды и какую славу доставила мне моя школа, крайне разросшаяся вследствие преподавания в ней и философии, и богословия, это, конечно, не могло остаться тебе неизвестным из-за широкой молвы. Но благополучие всегда делает глупцов надменными, а беззаботное мирное житие ослабляет силу духа и легко направляет его к плотским соблазнам.
Считая уже себя единственным сохранившимся в мире философом и не опасаясь больше никаких неприятностей, я стал ослаблять бразды, сдерживающие мои страсти, тогда как прежде я вел самый воздержанный образ жизни. И достигая все больших успехов в изучении философии или богословия, я все более отдалялся от философов и богословов нечистотой моей жизни. Известно, что философы, не говоря уже о богословах (то есть о людях, соблюдавших наставления священного писания), славились больше всего красотою своей воздержанности. Я же трудился, всецело охваченный гордостью и сластолюбием, и только божественное милосердие, помимо моей воли, исцелило меня от обеих этих болезней – сначала от сластолюбия, а затем и от гордости; от первого оно избавило меня лишением средств его удовлетворения, а от сильней гордости, порожденной во мне прежде всего моими учеными занятиями (по слову апостола: «Знание преисполняет надменностью»), оно спасло меня, унизив сожжением той самой книги, которой я больше всего гордился[47].
Я хочу сообщить тебе об этих историях то, что было в действительности, чтобы ты знал о них не по слухам и в том порядке, в каком эти истории происходили. Я гнушался всегда нечистотой блудниц, а от сближения и от короткого знакомства с благородными дамами меня удерживали усердные ученые занятия, и я имел мало знакомых среди мирянок. Моя, так сказать, коварная и изменчивая судьба создала удобнейший случай, чтобы было легче сбросить меня с высоты моего величия в бездну. И вот божественное милосердие унизило меня, косневшего в величайшей гордыне и забывшего о воспринятой благодати.
А именно, жила в самом городе Париже некая девица по имени Элоиза[48], племянница одного каноника[49], по имени Фульбер. Чем больше он ее любил, тем усерднее заботился об ее успехах в усвоении всяких каких только было возможно наук. Она была не хуже других и лицом, но обширностью своих научных познаний превосходила всех[50]. Так как у женщин очень редко встречается такой дар, то есть ученые познания, то это еще более возвышало девушку и делало ее известной во всем королевстве. И рассмотрев все, привлекающее обычно к себе влюбленных, я почел за наилучшее вступить в любовную связь именно с ней. Я полагал легко достигнуть этого. В самом деле, я пользовался тогда такой известностью и так выгодно отличался от прочих молодостью и красотой, что мог не опасаться отказа ни от какой женщины, которую я удостоил бы своей любовью. Я был осведомлен о познаниях этой девушки в науках и о ее любви к ним и потому был уверен, что она легко даст мне свое согласие. Я думал, что мы, даже находясь в разлуке, могли бы переписываться между собой (а ведь писать можно гораздо смелее, чем говорить) и таким образом находиться всегда в приятном общении.
Итак, воспламененный любовью к этой девушке, я стал искать случая сблизиться с ней путем ежедневных разговоров дома, чтобы тем легче склонить ее к согласию. С этой целью я начал переговоры с дядей девушки (при содействии некоторых его друзей), – не согласится ли он принять меня за какую угодно плату нахлебником в свой дом, находившийся очень близко от моей школы. При этом я, конечно, утверждал, будто заботы о домашнем хозяйстве в сильной степени мешают моим научным занятиям и особенно тяжело для меня бремя хозяйственных расходов. А Фульбер был очень скуп и сильно стремился доставить своей племяннице возможность дальнейшего усовершенствования в науках. При наличии этих двух обстоятельств я легко получил его согласие и достиг желаемого; весьма заинтересованный, разумеется, в получении денег, он был убежден и в том, что его племянница чему-нибудь от меня научится.
Сверх моих ожиданий он стал настойчиво меня уговаривать, согласился на мои предложения и сам помог моей любви: а именно, он поручил племянницу всецело моему руководству, дабы я всякий раз, когда у меня после возвращения из школы будет время, – безразлично днем или ночью – занимался ее обучением и, если бы я нашел, что она пренебрегает уроками, строго ее наказывал. Я сильно удивлялся его наивности в этом деле и не менее про себя поражался тому, что он как бы отдал нежную овечку голодному волку. Ведь поручив мне девушку с просьбой не только учить, но даже строго наказывать ее, он предоставлял мне удобный случай для исполнения моих желаний и давал (даже если бы мы оба этого и не хотели) возможность склонить к любви Элоизу ласками или же принудить ее [к любви] угрозами и побоями. Однако были два обстоятельства, которые в глазах Фульбера устраняли всякое постыдное подозрение: это его любовь к племяннице и молва о моей прежней воздержанности. Что же еще? Сначала нас соединила совместная жизнь в одном доме, а затем и общее чувство.
Итак, под предлогом учения мы всецело предавались любви, и усердие в занятиях доставляло нам тайное уединение. И над раскрытыми книгами больше звучали слова о любви, чем об учении; больше было поцелуев, чем мудрых изречений; руки чаще тянулись к груди, чем к книгам, а глаза чаще отражали любовь, чем следили за написанным. Чтобы возбуждать меньше подозрений, я наносил Элоизе удары, но не в гневе, а с любовью, не в раздражении, а с нежностью, и эти удары были приятней любого бальзама. Что дальше? Охваченные страстью, мы не упустили ни одной из любовных ласк с добавлением и всего того необычного, что могла придумать любовь. И чем меньше этих наслаждений мы испытали в прошлом, тем пламенней предавались им и тем менее пресыщения они у нас вызывали. Но чем больше овладевало мною это сладострастие, тем меньше я был в состоянии заниматься философией и уделять внимание школе. Ходить в нее и оставаться там мне было в высшей степени скучно и даже утомительно, так как ночью я бодрствовал из-за любви, а дни посвящал научным занятиям.
Поскольку я начал тогда небрежно и равнодушно относиться к чтению лекций, то я стал излагать все уже не по вдохновению, а по привычке и превратился в простого пересказчика мыслей, высказанных прежде. И если мне случалось еще придумывать новое, то это были любовные стихи[51], а не тайны философии. Многие из этих стихов, как ты и сам знаешь, нередко разучивались и распевались во многих областях, главным образом теми, которых жизнь обольщала подобно мне. Но трудно и представить себе, как опечалились по этому поводу мои ученики, как они вздыхали и жаловались, догадавшись о моем состоянии или, вернее сказать, о помрачении моей души.
Столь явные признаки происходящего уже мало кого могли оставить в неведении, и я полагаю, что на этот счет не обманывался никто, кроме только того человека, которому это приносило величайший позор, то есть кроме дяди моей возлюбленной. Правда, некоторые иногда намекали ему об этом, но он не мог им поверить, то ли по причине своей чрезмерной любви к племяннице (о чем я упомянул выше), то ли из-за того, что была известна моя воздержанность в прошлом. Ведь нам очень трудно заподозрить в постыдных поступках тех людей, которых мы более всего любим. С сильной любовью не могут ужиться черные подозрения.
Вот почему в письме блаженного Иеронима[52] к Сабиниану[53] говорится: «Обычно о зле в своем доме мы узнаем последними и не ведаем о пороках наших жен и детей, хотя об этом болтают соседи. Но трудно скрыть от человека то, что известно всем, и хотя бы в последнюю очередь, но нам все же приходится когда-либо узнать про это». Именно так по истечении нескольких месяцев случилось и с нами. О, как прискорбно было дяде в конце концов узнать об этом! Сколь велико было горе влюбленных при расставанье! Как сгорал я от стыда! Какой скорбью я был подавлен при виде горести моей возлюбленной! Какую печаль претерпела она из-за моего позора! Ни один из нас не заботился о себе, а сокрушался о том, что постигло другого. Каждый оплакивал не собственное несчастье, а несчастье другого. Таким образом телесная разлука сделала еще более тесным духовный союз, а наша любовь от невозможности ее удовлетворения разгоралась еще сильнее. Уже переживши свой позор, мы стали нечувствительны к нему; притом чем более естественным представлялся нам наш поступок, тем слабее становилось в нас чувство стыда. Итак, с нами случилось то же самое, что с застигнутыми врасплох Марсом и Венерой, о чем рассказывает поэтическая басня[54].
Немного позже девушка почувствовала, что она ожидает ребенка, и с великой радостью написала мне об этом, прося меня подать совет, как ей в этом случае поступить. И вот однажды ночью в отсутствие дяди, как между нами было условлено, я тайно увез ее из его дома и немедленно перевез к себе на родину, где она и проживала у моей сестры[55] до тех пор, пока не родила сына, которого она назвала Астролябией[56]. Ее дядя после ее бегства чуть не сошел с ума; никто, кроме испытавших то же горе, не мог бы понять силу его отчаяния и стыда. Но что ему сделать со мной и какие козни против меня устроить, этого он не знал. Он больше всего опасался, что если бы он убил или как-нибудь изувечил меня, то возлюбленнейшая его племянница поплатилась бы за это у меня на родине. Он не мог ни захватить, ни куда-нибудь силою заточить меня, так как я принял против этого все меры предосторожности, не сомневаясь, что он нападет на меня, как только сможет или посмеет это сделать.
Наконец, почувствовав сострадание к его безмерному горю и обвиняя себя самого в коварстве (и как бы в величайшем предательстве), вызванном моей любовью, я сам пришел к этому человеку, прося у него прощения и обещая дать какое ему угодно удовлетворение. Я убеждал его, что мое поведение не покажется удивительным никому, кто хоть когда-нибудь испытал власть любви и помнит, какие глубокие падения претерпевали из-за женщин даже величайшие люди с самого начала существования человеческого рода. А чтобы еще больше его успокоить, я сам предложил ему удовлетворение сверх всяких его ожиданий: а именно сказал, что я готов жениться на соблазненной, лишь бы это совершилось втайне и я не потерпел бы ущерба от молвы[57]. Он на это согласился, скрепив соглашение поцелуем и честным словом, данным как им самим, так и его близкими, однако лишь для того, чтобы тем легче предать меня.
Отправившись вновь на родину, я привез оттуда свою подругу, собираясь вступить с ней в брак, но она не только не одобрила этого намерения, но даже старалась отговорить меня[58], обращая внимание на два обстоятельства: угрожающую мне опасность и мое бесчестие. Она клялась в том, что дядю ее нельзя умилостивить никаким способом, и впоследствии это оправдалось. Она спрашивала: как сможет она гордиться этим браком, который обесславит меня и равно унизит меня и ее; сколь большого наказания потребует для нее весь мир, если она отнимет у него такое великое светило; сколь много вызовет этот брак проклятий со стороны церкви, какой принесет ей ущерб и сколь много слез исторгнет он у философов; как непристойно и прискорбно было бы, если бы я – человек, созданный природой для блага всех людей, – посвятил себя только одной женщине и подвергся такому позору!
Она решительно отказывалась от этого брака, заявляя, что он явится для меня во всех отношениях постыдным и тягостным. Она подчеркивала и мое бесславие после этого брака, и те трудности брачной жизни, которых апостол убеждает нас избегать, говоря: «Свободен ли ты от жены? Не ищи жены. Но если ты и женился, то не согрешил. И если дева выйдет замуж, то она не согрешит. Таковые будут иметь скорбь плоти. Я же щажу вас». И далее: «Хочу, чтобы вы не имели забот». Если же, – говорила она мне, – я не послушаюсь ни совета апостола, ни указаний святых относительно тяжести брачного ига, то я должен по крайней мере обратиться за советом к философам[59] и внимательно изучить то, что написано о браке ими самими или же то, что написано о них. Нередко даже святые отцы старательно делают это ради нашего наставления. Таково, например, утверждение в первой книге труда блаженного Иеронима «Против Иовиниана», где Иероним напоминает, что Теофраст[60], пространно и подробно охарактеризовавший невыносимые тягости и постоянные беспокойства брачной жизни, убедительнейшими доводами доказал, что мудрому человеку жениться не следует. К философским доводам этого увещания сам блаженный Иероним прибавляет следующее заключение: «Если по этому поводу так рассуждает Теофраст, то кого же из христиан он не смутит?» В другом месте того же труда Иероним говорит: «Цицерон[61] после развода с Теренцией[62] ответил решительным отказом на уговоры Гирция[63] жениться на его сестре, заявив, что он не в состоянии равно заботиться и о жене и о философии. Он ведь не сказал просто «заботиться», но прибавил еще и «равно», не желая уделять чему-либо иному такие же заботы, какие он уделял философии».
И если даже отвлечься теперь от этого препятствия к философским занятиям, то представь себе условия совместной жизни в законном браке. Что может быть общего между учениками и домашней прислугой, между налоем для письма и детской люлькой, между книгами или таблицами и прялкой, между стилем, или каламом[64], и веретеном? Далее, кто же, намереваясь посвятить себя богословским или философским размышлениям, может выносить плач детей, заунывные песни успокаивающих их кормилиц и гомон толпы домашних слуг и служанок? Кто в состоянии терпеливо смотреть на постоянную нечистоплотность маленьких детей? Это, скажешь ты, возможно для богачей, во дворцах или просторных домах которых есть много различных комнат, для богачей, благосостояние которых не чувствительно к расходам и которые не знают треволнений ежедневных забот. Но я возражу, что философы находятся совсем не в таком положении, как богачи; тот, кто печется о приобретении богатства и занят мирскими заботами, не будет заниматься богословскими или философскими вопросами.
Поэтому-то знаменитые философы древности, в высшей степени презиравшие мир и не только покидавшие мирскую жизнь, но и прямо бежавшие от нее, отказывали себе во всех наслаждениях и искали успокоения только в объятиях философии. Один из них, и самый великий, – Сенека[65] – в поучении Люцилию[66] говорит так: «Нельзя заниматься философией только на досуге; следует пренебречь всем, чтобы посвятить себя той, для которой мало и всей нашей жизни. Нет большой разницы, навсегда ты оставил философию или же только прервал занятия ею; ведь если ты перестал заниматься философией, она покинет тебя»[67]. С житейскими заботами следует бороться, не распутывая эти заботы, а удалясь от них. Итак, образ жизни, принятый у нас из любви к богу теми людьми, которые справедливо называются монахами[68], в языческом мире был усвоен ради любви к философии знаменитыми у всех народов философами.
Ведь у любого народа – безразлично языческого, иудейского или христианского – всегда имелись выдающиеся люди, превосходящие остальных по своей-вере или высокой нравственности и отличавшиеся от других людей строгостью жизни или воздержанностью. Таковы были среди древних иудеев назареи[69], посвящавшие себя богу согласно закону, или сыны пророческие, ученики пророков Илии или Елисея[70], являвшиеся, по свидетельству блаженного Иеронима, ветхозаветными монахами. Таковы же были в более позднее время участники тех трех философских сект, которых Иосиф Флавий[71] в XVIII книге «Древностей»[72] называет фарисеями[73], саддукеями[74] и ессеями[75]. Таковы у нас монахи, подражающие по образу жизни житию апостолов или же еще более ранней отшельнической жизни Иоанна Крестителя[76]. А у язычников, как уже сказано, таковыми были философы. Ведь наименование «мудрость» или «философия» использовалось ими не столько для [обозначения] усвоенных познаний, сколько для [обозначения] святости жизни, как мы знаем и по самому происхождению слова «философия»[77] и по свидетельству святых отцов.
Вот почему у блаженного Августина в книге VIII его труда «О граде божьем»[78] там, где он характеризует философские школы, есть такое место: «Италийская школа была основана Пифагором Самосским[79], от которого, говорят, дошло до нас изобретенное им самим название философии. До Пифагора мудрецами назывались люди, отличавшиеся, по-видимому, от остальных своей похвальной жизнью; Пифагор же в ответ на вопрос, кем он себя считает, сказал: «философом», то есть стремящимся к мудрости или другом ее, так как назвать себя мудрецом казалось слишком самонадеянным». И эти самые слова: «отличавшиеся, по-видимому, от остальных своей похвальной жизнью» ясно указывают на то, что языческие мудрецы, то есть философы, назывались этим именем более за свою похвальную жизнь, чем за свои выдающиеся познания. А доказывать при помощи примеров, сколь трезво и воздержанно они жили, мне не подобает, чтобы не показалось, будто я поучаю самое Минерву. И если такую жизнь вели миряне и язычники, не побуждаемые предписаниями религии, то разве ты, духовное лицо и каноник[80], не должен тем более предпочитать духовные обязанности презренным наслаждениям, дабы тебя не поглотила эта Харибда[81] и дабы безвозвратно, презрев всякий стыд, ты не погрузился в эту грязь? Если же ты не заботишься о своем духовном звании, то сохрани по крайней мере достоинство философа. Если тобою забыт страх божий, то пусть уважение к приличию послужит уздой для твоего бесстыдства. Вспомни, что Сократ[82], женившись, прежде всего сам поплатился ужасными неприятностями за это унижение философии, – его пример должен сделать других осторожнее. Этого не упустил из виду и сам Иероним, написавший в первой книге «Против Иовиниана» о Сократе следующее: «Однажды, когда он стойко переносил бесконечные ругательства нападавшей на него Ксантиппы[83], стоявшей наверху, она облила его грязной водой, а он ответил ей только тем, что обтер голову и сказал: «Так я и знал, что за этим громом последует дождь»».
Кроме того, Элоиза добавила несколько слов и от себя: о том, сколь опасно оказалось бы для меня ее возвращение в Париж и что для нее было бы гораздо приятнее, а для меня почетнее, если бы она осталась моей подругой, а не женой; ведь тогда я принадлежал бы ей не в силу брачных уз, а исключительно из любви к ней; и мы, время от времени разлучаясь, тем сильнее чувствовали бы радость от наших свиданий, чем реже бы виделись. Убеждая или отговаривая меня при помощи этих или подобных доводов и будучи не в состоянии победить мое недомыслие, но не желая в то же время и оскорбить меня, она вздохнула, заплакала и закончила свои мольбы так: «В конце концов остается одно: скорбь о нашей погибели будет столь же велика, сколь велика была наша любовь». И, как было признано всеми, в этом случае ее предсказание оказалось пророческим.
Итак, после рождения нашего младенца, порученного попечению моей сестры, мы тайно возвратились в Париж и через несколько дней, проведя ночь в молитвах в одной из церквей, мы рано поутру получили там же брачное благословение в присутствии дяди Элоизы и нескольких наших и его друзей. Затем мы тотчас же и тайком отправились каждый в свой дом и после этого виделись редко и втайне, стараясь всячески скрыть наш брак. Однако же дядя Элоизы и его домашние, желая загладить свой прежний позор, начали говорить всюду о состоявшемся браке и тем нарушили данное мне обещание. Напротив, Элоиза стала клясться и божиться, что все эти слухи – ложь. Поэтому дядя, сильно раздраженный этим, часто и с бранью нападал на нее. Узнав об этом, я перевез Элоизу в женский монастырь Аржантейль[84], недалеко от Парижа, где она в детстве воспитывалась и обучалась. Я велел приготовить для нее подобающие монахиням монашеские одежды (кроме покрывала)[85] и сам облек ее в них. Услышав об этом, ее дядя, родные и близкие еще более вооружились против меня, думая, что я грубо обманул их и посвятил ее в монахини, желая совершенно от нее отделаться. Придя в сильное негодование, они составили против меня заговор и однажды ночью, когда я спокойно спал в отдаленном покое моего жилища, они с помощью моего слуги, подкупленного ими, отомстили мне самым жестоким и позорным способом, вызвавшим всеобщее изумление: они изуродовали те части моего тела, которыми я свершил то, на что они жаловались. Хотя мои палачи тотчас же затем обратились в бегство, двое из них были схвачены и подвергнуты оскоплению и ослеплению. Одним из этих двух был мой упомянутый выше слуга; он, живя со мной и будучи у меня в услужении, склонился к предательству из-за жадности.
С наступлением утра ко мне сбежался весь город; трудно и даже невозможно выразить, как были все изумлены, как все меня жалели, как удручали меня своими восклицаниями и расстраивали плачем[86]. Особенно терзали меня своими жалобами и рыданиями клирики и прежде всего мои ученики, так что я более страдал от их сострадания, чем от своей раны, сильнее чувствовал стыд, чем нанесенные удары, и мучился больше от срама, чем от физической боли. Я все думал о том, какой громкой славой я пользовался и как легко слепой случай унизил ее и даже совсем уничтожил; как справедливо покарал меня суд божий в той части моего тела, коей я согрешил; сколь справедливым предательством отплатил мне тот человек, которого раньше я сам предал; как превознесут это явно справедливое возмездие мои противники, какие волнения неутешной горести причинит эта рана моим родным и друзьям; как по всему свету распространится весть о моем величайшем позоре. Куда же мне деться? С каким лицом я покажусь публично? Ведь все будут указывать на меня пальцами и всячески злословить обо мне, для всех я буду чудовищным зрелищем. Немало меня смущало также и то, что, согласно суровой букве закона, евнухи настолько отвержены перед господом, что людям, оскопленным полностью или частично, воспрещается входить во храм, как зловонным и нечистым, и даже животные такого рода считаются непригодными для жертвоприношения. Книга Левит гласит: «Вы не должны приносить в жертву господу никакого животного с раздавленными, или отрезанными, или отсеченными, или с отнятыми тестикулами». А во Второзаконии[87] говорится: «Да не войдет в божий храм евнух».
В столь жалком состоянии уныния я, признаюсь, решил постричься в монахи не ради благочестия, а из-за смятения и стыда. Элоиза же еще до меня по моему настоянию надела на себя покрывало монахини и вступила в монастырь. Итак, мы оба почти одновременно надели на себя монашескую одежду, я – в аббатстве Сен-Дени[88], а она – в упомянутом выше монастыре Аржантейль. Я помню, что многие жалели ее и пугали невыносимым для ее молодости бременем монастырских правил; но все уговоры были напрасны. Она отвечала на них сквозь слезы и рыдания, повторяя жалобу Корнелии:
С этими словами она поспешила к алтарю, тотчас же приняла освященное епископом покрывало и перед лицом всех присутствующих связала себя монашескими обетами.
Едва только я оправился от раны, ко мне нахлынули клирики и стали докучать и мне и моему аббату непрестанными просьбами о том, чтобы я вновь начал преподавание – теперь уже ради любви к богу, тогда как до тех пор я делал это из желания приобрести деньги и славу. Они напоминали мне, что бог потребует от меня возвращения с лихвой врученного им мне таланта[90]. И если до тех пор я стремился преподавать преимущественно людям богатым, то отныне я обязан просвещать бедняков. Теперь-то в постигшем меня несчастье я должен познать руку божью и тем больше заняться изучением наук – дабы стать истинным философом для бога, а не для людей, – чем свободней я стал ныне от плотских искушений и поскольку меня не рассеивает шум мирской жизни.
Между тем в аббатстве, в которое я вступил, вели совершенно мирскую жизнь и к тому же весьма предосудительную; сам аббат, стоявший выше всех прочих по своему сану, был ниже их по образу своей жизни и еще более – по своей дурной славе[91]. Поскольку я часто и резко обличал их невыносимые гнусности как с глазу на глаз, так и всенародно, то я сделался в конце концов обузой и предметом ненависти для всех них. По этой причине они были очень рады от меня отделаться и воспользовались ежедневными и настойчивыми просьбами моих учеников. Так как последние неотступно и долго меня упрашивали, в дело вмешались аббат и братия, и я удалился в одну келью[92], чтобы возобновить там свои обычные учебные занятия.
Ко мне в самом деле нахлынуло такое множество школяров, что не хватало места их разместить и земля не давала достаточно продуктов для их пропитания. Здесь я намеревался посвятить себя главным образом изучению священного писания, что более соответствовало моему званию, однако не совсем отказался от преподавания и светских наук, особенно для меня привычного и преимущественно от меня требовавшегося. Я сделал из этих наук приманку, так сказать, крючок, которым я мог бы привлекать людей, получивших вкус к философским занятиям, к изучению истинной философии. Так обычно делал и величайший из христианских философов – Ориген[93], о чем упоминает «Церковная история»[94].
Поскольку господу было, по-видимому, угодно даровать мне не меньше способностей для изучения священного писания, чем для светской философии, число слушателей моей школы как на тех, так и на Других лекциях увеличивалось, тогда как во всех остальных школах оно так же быстро уменьшалось. Это обстоятельство возбудило ко мне сильную зависть и ненависть других магистров, которые нападали на меня при каждой малейшей возможности как только могли. Они выдвигали против меня – главным образом в мое отсутствие – два положения: во-первых, то, что продолжение изучения светских книг противоречит данному мной монашескому обету; во-вторых, то, что я решился приступить к преподаванию богословия, не получив соответствующего разрешения[95]. Таким образом, очевидно, мне могло быть запрещено всякое преподавание в школах, и именно к этому мои противники непрестанно побуждали епископов, архиепископов, аббатов и каких только могли других духовных лиц.
Тем временем у меня появилась мысль прежде всего приступить к обсуждению самих основ нашей веры путем применения уподоблений, доступных человеческому разуму, и я сочинил для моих учеников богословский трактат «О божественном единстве и троичности»[96]. Ученики мои требовали от меня человеческих и философских доводов[97] и того, что может быть понято, а не только высказано. Они утверждали при этом, что излишни слова, недоступные пониманию, что нельзя уверовать в то, чего ты предварительно не понял, и что смешны проповеди о том, чего ни проповедник, ни его слушатели не могут постигнуть разумом. Сам господь жаловался, что поводырями слепых были слепцы.
Когда весьма многие увидели и прочитали мой трактат, он в общем всем очень понравился, так как, по-видимому, в одинаковой мере давал удовлетворительные ответы по всем возникавшим в связи с ним вопросам. Поскольку же эти вопросы представлялись наитруднейшими, то чем больше в них было трудностей, тем более нравилась тонкость их разрешения. Поэтому мои соперники, чрезвычайно раздосадованные этим, решили созвать против меня собор[98]. Разумеется, главное участие в этом приняли давние мои коварные неприятели: Альберик и Лотульф[99]; после смерти своих и моих учителей – Гильома и Ансельма[100] – они стремились владычествовать одни и сделаться как бы наследниками умерших. А так как они оба заведовали школами в Реймсе[101], то частыми наговорами настолько восстановили против меня своего архиепископа Рауля[102], что он, с одобрения пренестинского епископа Конана, бывшего в то время папским легатом[103] во Франции, торжественно созвал в Суассоне[104] собрание, назвав его собором, и пригласил меня представить собору мой известный труд о троице. Так я и сделал.
Однако еще до моего приезда в Суассон указанные выше два моих соперника так оклеветали меня перед духовенством и народом, что в первый же день моего приезда народ чуть не побил каменьями меня и немногих приехавших со мной учеников, крича, – как об этом ему наговорили, – будто бы я проповедую и пишу, что у нас суть три бога. Прибыв в город, я немедленно явился к легату, передав ему свою книгу для просмотра и суждений, и выразил свою готовность подвергнуться взысканию и претерпеть любое возмездие, если написанное мной в чем-либо отклоняется от католического вероучения. Легат тотчас же приказал мне отдать мою книгу архиепископу и названным моим соперникам; таким образом моими судьями явились как раз те люди, которые были моими обвинителями, будто сбылось изречение: «и враги наши – судьи».
Но сколь внимательно ни просматривали и ни перелистывали они мою книгу, они не находили в ней ничего, что дало бы им возможность на соборе смело обвинить меня, и они оттянули осуждение книги, которого усиленно добивались, до окончания собора. Я же в течение нескольких дней до открытия собора стал перед всеми публично излагать свое учение о католической вере согласно с тем, что я написал, и все слушавшие меня с восхищением одобряли как ясность, так и смысл моих суждений. Заметив это, народ и духовенство начали так рассуждать между собой: «Вот он теперь говорит перед всеми открыто, и никто ничего ему не возражает. И собор скоро близится к окончанию, а он и созван-то был, как мы слышали, главным образом против этого человека. Неужели судьи признали, что они заблуждаются больше, чем он?» Поэтому-то мои соперники с каждым днем распалялись все больше и больше.
Наконец, однажды Альберик пришел ко мне с несколькими своими учениками и, намереваясь уличить меня, после нескольких льстивых слов выразил свое удивление по поводу одного места в моей книге, а именно: как я мог, признавая, что бог родил бога и что бог един, тем не менее отрицать, что бог родил самого себя?[105] На это я немедленно ответил: «Если вы желаете, я приведу вам доказательство этого». Он заявил: «В таких вопросах мы руководствуемся не человеческим разумом и не нашими суждениями, но только словами авторитета»[106]. А я возразил ему: «Перелистайте книгу, и вы найдете авторитет». Книга же была под рукой, потому что он сам принес ее. Я начал искать известное мне место, которое он или совсем не заметил, или не разыскал, так как выискивал в книге только те выражения, которые могли бы мне повредить. С божьей помощью мне удалось быстро найти необходимое место. Это было изречение, озаглавленное «Августин о троице», книга I: «Кто думает, будто бог обладает способностью родить себя, тот грубо заблуждается, так как не только бог не обладает такой способностью, но и никакое духовное или материальное существо. Ведь вообще нет такой вещи, которая бы сама себя порождала».
Услышав это, присутствовавшие при разговоре ученики Альберика даже покраснели от замешательства. Он же сам, желая хоть как-нибудь выпутаться из затруднительного положения, сказал: «Это следует еще правильно понять». На это я возразил, что данное суждение не ново и к настоящему вопросу оно не имеет никакого отношения, но что сам Альберик потребовал не рассуждения по существу вопроса, а лишь авторитетного свидетельства. Однако же, если бы Альберик пожелал обсудить доводы и доказательства по существу, то я готов показать ему на основании его же собственных слов, что он впал в ту ересь, согласно которой отец является своим собственным сыном. Услышав это, Альберик тут же пришел в ярость и начал мне угрожать, заявив, что в этом случае мне не помогут никакие мои доказательства и авторитеты. Высказав эту угрозу, он ушел.
Действительно, в последний день собора[107] перед открытием заседания легат и архиепископ долго совещались с моими противниками и некоторыми другими лицами о том, что же следует постановить по поводу меня и моей книги, ради чего, главным образом, они и были созваны. И так как ни в моих словах, ни в представленной моей книге они не нашли ничего такого, что могли бы вменить мне в вину, то на некоторое время воцарилось молчание, и враги мои стали нападать на меня менее яростно.
Тогда Готфрид, епископ Шартрский[108], выделявшийся среди остальных епископов славой своего благочестия и значением своей кафедры, начал речь таким образом: «Все вы, присутствующие здесь владыки, знаете, что учение этого человека (каким бы он ни был) и врожденный талант его, проявляющийся в изучении им любой отрасли знания, приобрели ему многочисленных сторонников и последователей и что его слава совершенно затмила славу его собственных и наших учителей; его, так сказать, виноградная лоза распростерла свои побеги от моря до моря[109]. Если вы – чего я не думаю – обвините его на основе заранее вынесенного суждения, то знайте, этим вы оскорбите многих даже, в том случае, если осудите по справедливости. Не будет недостатка во многих людях, которые пожелают его защищать тем более, что в представленной здесь книге мы не можем усмотреть никакого явного нечестия. И так как у Иеронима есть такое место: «Явная сила имеет всегда завистников» и так как известны также слова поэта:
то смотрите, как бы вы еще больше не укрепили его добрую славу, поступив круто, и как бы мы не добились скорее против себя обвинения в зависти, чем против него обвинения по всей справедливости. Ведь как сказал только что названный учитель церкви[111]: «Ложная молва быстро исчезает, и последующая жизнь свидетельствует о предыдущей». Если же вы предлагаете поступить с ним по каноническим правилам, то пусть его учение или книга будут представлены здесь и пусть ему будет дозволено свободно отвечать на вопросы, так, чтобы он, уличенный или вынужденный к покаянию, совсем умолк. Это будет согласно с тем суждением блаженного Никодима[112], который, желая освободить господа, сказал: «Осуждает ли наш закон человека прежде, чем его выслушают и узнают, что он делает?»».
Выслушав это мнение, мои противники тотчас же закричали: «Вот так мудрый совет: спорить против его красноречия. Ведь весь божий свет не смог бы опровергнуть его доказательств или софизмов!» Однако же гораздо трудней, несомненно, было спорить с самим Христом, выслушать которого на основании закона требовал Никодим. Епископ, не будучи в состоянии склонить их к принятию своего предложения, попытался обуздать их ненависть другим способом: он заявил, что для суждения о столь важном вопросе собрание слишком малочисленно и такое дело требует более внимательного исследования. В конце концов епископ посоветовал, чтобы мой аббат, присутствующий на соборе, препроводил меня обратно в мое аббатство, монастырь Сен-Дени, и там был созван многочисленный собор ученейших людей для вынесения приговора после тщательного исследования данного вопроса. С этим мнением епископа согласился легат, а также и все остальные.
Затем легат встал для того, чтобы до начала заседания собора отслужить обедню, и через названного епископа передал мне приказание возвратиться в наш монастырь и там ожидать исполнения вынесенного решения. Тогда мои противники, полагая, что они ничего не добьются, если это дело будет разбираться за пределами их архиепископства, где они, разумеется, не смогут прибегнуть к насилию, и не доверяя справедливому суду, внушили архиепископу, что для него весьма оскорбительно, если это дело будет передано в другой суд, и опасно, если я таким образом избегну кары. Они сейчас же побежали к легату, заставили его изменить свое решение и против воли вынудили его согласиться на осуждение моей книги без всякого рассмотрения, на немедленное и публичное ее сожжение и на вечное мое заключение в другом монастыре. Они говорили: для осуждения этой книги вполне достаточно того, что я осмелился публично читать ее без одобрения со стороны римского папы или другой церковной власти и даже сам предлагал многим ее переписывать. Будет якобы чрезвычайно полезно для христианской веры, если мой пример пресечет подобное же высокомерие и у многих других.
Легат, не обладая необходимыми богословскими познаниями, руководствовался преимущественно мнением архиепископа, а этот последний следовал советам моих противников. Догадываясь о происходящем, епископ Шартрский тотчас же осведомил меня об этих кознях и настойчиво убеждал меня претерпеть это с тем большей кротостью, чем более явным для всех было насилие; и не сомневаться в том, что столь очевидные ненависть и насилие повредят моим врагам в будущем, а мне принесут пользу; и нисколько не беспокоиться по поводу заключения в монастырь, так как он знает, что легат, вынесший этот приговор по принуждению, конечно, через несколько дней после своего отъезда [прикажет] освободить меня. Так епископ, насколько мог, утешал меня и себя самого, плача вместе со мною.
Призванный на собор, я немедля явился туда. Там без всякого обсуждения и расследования меня заставили своей собственною рукой бросить в огонь мою названную выше книгу, и она была таким образом сожжена. А чтобы не показалось, что при этом царило полное молчание, кто-то из моих противников пробормотал, будто он обнаружил в этой книге утверждение, что всемогущ один только бог-отец. Разобрав это бормотанье, легат с большим удивлением ответил, что заблуждаться до такой степени не может даже мальчишка, и что, сказал он, все христиане твердо исповедуют существование трех всемогущих[113].
Услышав это, некто Тьерри[114], магистр одной школы, с усмешкой привел слова Афанасия[115]: «И однако всемогущи не трое, но один всемогущ». Его епископ[116] начал бранить и порицать Тьерри за то, что он якобы повинен в богохульстве. Тогда Тьерри стал смело возражать и, как бы вспоминая слова Даниила[117], сказал: «Итак, дочь израилеву осудили вы, неразумные сыны израилевы, не умеющие судить и не знающие истины. Возвратитесь в суд и судите самого судью, которого вы сами поставили для утверждения веры и исправления заблуждений; а когда он должен был судить, он обвинил себя своими собственными устами. Ныне же милосердие божье освобождает явно невинного, как некогда Сусанну[118], от ложных обвинителей». Тогда архиепископ встал и, несколько изменив выражения сообразно с обстановкой, подтвердил мнение легата, сказав: «В самом деле, о господи, всемогущ отец, всемогущ сын, всемогущ дух святой. И кто с этим не согласен, тот явно уклонился от веры, и его не следует слушать. Если угодно собору, то хорошо сделает этот брат наш, изложив перед всеми нами свое вероучение, дабы мы могли соответственно одобрить, или не одобрить, или исправить его».
Когда же я встал с целью исповедать и изложить свою веру, предполагая выразить свои чувства собственными словами, мои противники объявили, что от меня требуется только одно – прочесть символ [веры] Афанасия[119], что мог отлично сделать любой мальчишка. А чтобы я не мог отговориться незнанием слов этого символа, велели принести рукопись для прочтения, как будто бы мне не случалось его произносить. Вздыхая, рыдая и проливая слезы, я прочел его как только мог. Затем меня, как бы виновного и уличенного, передали аббату монастыря святого Медарда[120], присутствовавшему на соборе, и немедленно увезли в его монастырь, как в тюрьму. Тотчас же был распущен и собор.
Аббат и монахи этого монастыря, предполагая, что я останусь у них и далее, приняли меня с величайшей радостью и, обращаясь со мною весьма любезно, безуспешно старались меня утешить. О боже, праведный судья! С какой желчью в сердце, с какой душевной горечью я, безумный, оскорблял тогда тебя самого и яростно нападал на тебя, непрестанно повторяя вопрос блаженного Антония[121]: «Иисусе благой! Где же ты был?» Какое мучило меня горе, какой стыд меня смущал, какое волновало отчаяние, все это я чувствовал тогда, теперь же не могу пересказать. Я сравнивал то, что я теперь переносил, с теми муками, которые некогда претерпело мое тело, и считал себя несчастнейшим из всех людей. Прежнее предательство представлялось мне ничтожным в сравнении с этой новой обидой. И я гораздо более огорчался от того, что опорочили мое доброе имя, чем от того, что изувечили мое тело: ведь тогда я был некоторым образом сам виноват, теперь же я подвергся столь явному насилию из-за чистых намерений и любви к нашей вере, которые побудили меня писать.
После того как распространилась молва о том, как жестоко и незаслуженно со мной поступили, все стали резко порицать приговор, но некоторые из присутствовавших на соборе старались отклонить от себя ответственность и переложить ее на других. Даже сами мои враги начали отрицать, что со мной так поступили по их совету, а легат при всех признался, что он решительно осуждает злобу франков[122], проявленную в этом деле. Находясь под влиянием моих врагов, он был вынужден временно уступить их злобе, но, побуждаемый раскаянием, через несколько дней отослал меня обратно из чужого монастыря в мой собственный. А там, как я уже упомянул, почти все относились ко мне враждебно; гнусная жизнь и бесстыдное поведение заставляли их смотреть на меня вообще с подозрением; из-за моих же обличений они меня с трудом выносили. И вот через несколько месяцев им представился благоприятный случай сделать попытку погубить меня.
Однажды, когда я читал, мне случайно попалась одна фраза из комментариев Беды к «Деяниям апостолов»[123], где он утверждает, что Дионисий Ареопагит[124] был не афинским, а коринфским епископом. Это показалось весьма неприятным нашим монахам, похвалявшимся тем, что основатель их монастыря Дионисий и есть тот самый Ареопагит, деяния которого свидетельствуют о том, что он был афинским епископом. Отыскав это свидетельство Беды, противоречившее нашему мнению, я как бы шутя показал эту фразу нескольким находившимся поблизости монахам. Они пришли в величайшее негодование, обозвали Беду самым лживым писателем и признали более надежным свидетелем своего аббата Хильдония[125], который долго путешествовал по Греции с целью исследования этого вопроса и, установив истину, в описанных им деяниях святого совершенно устранил всякие сомнения по этому вопросу. Затем, когда один из моих собеседников настойчиво допытывался у меня, чье свидетельство по этому вопросу представляется мне более авторитетным – Беды или Хильдония, – я ответил, что мне кажется более веским авторитет Беды, труды которого признаются во всей латинской церкви.
Этим ответом я сильно их раздражил, и они начали кричать, что теперь-то они меня явно разоблачили, что я всегда был врагом нашего монастыря, а в данном случае тяжко оскорбил и все королевство[126], отрицая, что их [монахов] покровителем является Ареопагит, что я отнял у королевства честь, которой оно особенно гордится. Я ответил, что ведь не я отрицал это и меня мало интересует, был ли святой Дионисий Ареопагитом или кем-то другим; важно лишь то, что он удостоился от бога венца святого. Однако они тотчас же побежали к аббату и передали ему слова, которые они приписывали мне. Аббат охотно их выслушал, радуясь представившемуся случаю поставить меня в затруднение: ведя еще более постыдный образ жизни, чем другие, он тем сильнее меня опасался. Созвав монастырскую братию, он обратился ко мне с жестокими угрозами и заявил, что он немедленно отправит меня к королю, дабы тот наказал меня за то, что я лишил его государство и его самого венца славы. До передачи королю аббат приказал строго стеречь меня. Моя просьба подвергнуть меня, если я в чем-нибудь провинился, обычному наказанию осталась безуспешной.
Тогда, сильно опасаясь вероломства монахов Сен-Дени и придя в совершенное отчаяние при мысли, что судьба меня столь долго преследует, как будто против меня восстал весь свет, я, при содействии нескольких сочувствовавших мне монахов и при помощи некоторых моих учеников, тайно ночью убежал из монастыря в близлежащие владения графа Тибо[127], где я раньше уже жил в некоей келье. Сам граф был немного знаком со мной и вполне сочувствовал мне, слыша о моих бедствиях.
В означенной области я поселился сначала в замке Провена[128] в одной из келий[129] монахов из Труа[130], настоятель которых еще раньше был дружен со мною и очень меня любил; он сильно обрадовался мне и стал обращаться со мною весьма любезно. Случилось однажды так, что в замок приехал мой аббат по каким-то своим делам к упомянутому графу. Узнав об этом, я также явился к графу вместе с названным настоятелем и стал просить графа, если возможно, вступиться за меня перед аббатом, чтобы он отпустил меня и позволил мне жить по-монашески в любом подходящем месте. Аббат и его спутники начали совещаться друг с другом, поскольку они должны были дать ответ графу до своего отъезда в тот же день. Им показалось, что я желаю перейти в другое аббатство, и они признали это весьма оскорбительным для монастыря Сен-Дени. Они очень гордились тем, что при пострижении в монахи я избрал именно их монастырь и этим как бы выразил презрение ко всем другим аббатствам. Они утверждали, что если я, оставив их, перейду к другим монахам, это нанесет им величайшее оскорбление. Поэтому об удовлетворении моей просьбы они и слышать ничего не хотели ни от меня, ни от графа и даже стали грозить мне отлучением, если я немедленно не вернусь в их монастырь. А настоятелю, к которому я бежал, они настрого запретили удерживать меня, если он не хочет быть отлученным вместе со мной[131].
Услышав об этом, и настоятель и я стали сильно беспокоиться. Но настаивавший на своем аббат скончался через несколько дней после своего отъезда. Тогда я явился к его преемнику[132] вместе с епископом Мо[133] с просьбой разрешить мне сделать то, о чем я ходатайствовал перед умершим аббатом. Сначала и его преемник не соглашался удовлетворить мою просьбу, но затем при посредстве нескольких моих друзей я обратился к королю[134] и его совету и таким образом добился желаемого. Этьен, занимавший в то время должность королевского сенешала[135], призвал к себе аббата и его приближенных и спросил их, зачем они хотят удержать меня у себя против моей воли, указав, что этим они могут только вызвать смуту и не получат от этого никакой пользы, ибо согласовать мое и их поведение никак нельзя. Я знал об имевшемся в королевском совете мнении о том, что это аббатство должно было подчиняться королю и доставлять ему мирские выгоды, невзирая на то, что оно все менее следовало уставу. Поэтому я надеялся легко получить согласие короля и его советников на мое ходатайство. Так и произошло. Однако для того, чтобы наш монастырь не лишился приобретенной им из-за меня славы, мне разрешили удалиться в любую пустынь по моему избранию, но с условием не подчиняться никакому другому аббатству. На это дали согласие обе стороны, подтвердив его в присутствии короля и его советников.
Итак, я удалился в уже известную мне пустынь в округе Труа, где некие лица подарили мне участок земли. Там с согласия местного епископа я выстроил сначала из тростника и соломы молельню[136] во имя святой троицы. Проживая в уединении от людей вместе с одним клириком, я поистине мог воспеть псалом господу: «Вот бежав, я удалился и пребываю в пустыне». Узнав об этом, мои ученики начали отовсюду стекаться ко мне и, покидая города и замки, селиться в пустыне, вместо просторных домов – строить маленькие хижинки, вместо изысканных кушаний – питаться полевыми травами и сухим хлебом, вместо мягких постелей – устраивать себе ложе из сена и соломы, а вместо столов – делать земляные насыпи. Так что ты мог бы подумать, что они подражают древним философам, о которых Иероним во второй книге своего сочинения «Против Иовиниана» упоминает в таких словах:
«Пороки входят в душу через пять чувств, как бы чрез окна. Столицу и твердыню ума нельзя взять иным путем, как вторжением неприятельского войска чрез врата... Если кто-либо наслаждается цирковыми играми, борьбой силачей, движениями скоморохов, женской красотой, блеском драгоценных камней, роскошью одежд и т. п., то чрез окна очей в плен берется свобода души. И исполняется пророчество: «Чрез окна наши вошла смерть». Итак, если через эти врата в твердыню нашего ума вторглись треволнения, наподобие атакующего войска, то где же окажется тогда свобода [ума], где его сила, где помыслы о боге? В особенности когда чувство рисует картины минувших наслаждений, а воспоминание о пороках побуждает душу к сочувствию им и некоторым образом – к совершению того, что не совершается в действительности. По этим причинам многие из философов оставили многолюдные города и загородные сады с их тучной почвой, пышной листвой деревьев, щебетанием птиц, зеркальными источниками, журчанием ручейка и многими соблазнами для зрения и слуха, «е желая, чтобы роскошь и изобилие приятных впечатлений ослабили твердость души и осквернили ее целомудрие. И в самом деле, бесполезно многократно взирать на такие вещи, которые когда-то пленяли тебя, и подвергаться воздействию тех предметов, лишение которых ты переносишь с трудом. Потому-то пифагорейцы[137], убегая от многолюдства, обычно жили в уединении и в пустынных местах. И сам Платон[138] – человек богатый, ложе которого Диоген[139] попирал грязными ногами – для философских занятий и своей Академии[140] избрал виллу, не только удаленную от города, но и пораженную чумой, затем, чтобы обуздать порывы страстей постоянной угрозой болезни и чтобы его ученики не испытывали никаких иных удовольствий, кроме удовольствия от того, что они изучают».
Передают, что такой же образ жизни вели и сыны пророческие, ученики Елисея. Сам Иероним пишет о них, как о монахах того времени, и в своем сочинении «К монаху Рустику» между прочим говорит: «Сыны пророческие, о которых мы читаем в Ветхом завете, были подобны монахам, строили себе хижины вблизи реки Иордана[141] и, оставив города и шумные скопления людей, питались ячменной крупой и полевыми травами».
Так и мои ученики, построив себе хижины на берегу реки Ардюссона[142], казались скорее отшельниками, нежели школярами. Но чем больше прибывало их в эту местность и чем суровей был образ жизни, который они вели, пока у меня учились, тем больше в глазах моих врагов это приносило мне славы, а им самим унижения. Они с горечью видели, что все, предпринятое ими против меня, обратилось мне во благо. Итак, хотя, по выражению Иеронима, я удалился от городов, площадей, толпы и споров, все же, как говорит Квинтилиан[143], зависть отыскала меня даже в моем уединении. Мои недруги, молча жалуясь и вздыхая, говорили себе: «Вот за ним пошел целый свет, и мы не только не выиграли, преследуя его, но еще более увеличили его славу. Мы старались предать его имя забвению, а на деле лишь сделали его более громким. Ведь вот школяры в городах имеют все необходимое, но пренебрегают городскими удобствами и стекаются в эту пустынную местность, приемля добровольно нищету».
В действительности же взять на себя в то время руководство школой меня вынудила главным образом невыносимая бедность, так как капать землю я не имел сил, а просить милостыню – стыдился. Итак, я был должен, вместо того чтобы жить трудами рук своих, вновь заняться знакомым мне делом и обратиться к услугам своего языка. Школяры же стали снабжать меня всем необходимым – пищей и одеждой, заботились об обработке полей и приняли на себя расходы по постройкам, чтобы никакие домашние заботы не отвлекали меня от учебных занятий. Так как наша молельня не могла вместить даже и малое количество учеников, они по необходимости расширили и значительно улучшили ее, построив из камня и дерева. Хотя она и была основана, а затем – освящена во имя святой троицы, но так как я бежал сюда в отчаянье, а здесь, но милости божественного утешения, вздохнул несколько свободнее, то в память об этой благодати я назвал этот храм Параклетом[144].
Многие узнали об этом с большим удивлением; некоторые же начали резко порицать меня, утверждая, будто неприлично посвящать храм исключительно святому духу преимущественно перед богом-отцом и можно – согласно с древним обычаем – посвящать храмы или одному только сыну божию, или же всей троице в совокупности. Причиною этого несомненного заблуждения была их ошибка, будто бы нет различия между «параклетом» и «духом-параклетом». Между тем и сама троица, и каждое отдельное ее лицо может быть называемо как богом, или помощником, так и параклетом, то есть, именно «утешителем», согласно изречению апостола: «Благословен бог и отец господа нашего Иисуса Христа, отец милосердия и бог всякого утешения, утешающий нас во всякой нашей горести». И сама истина гласит так: «И другого утешителя даст он вам». А так как всякая церковь освящается равно во имя отца, и сына и святого духа и принадлежит всем трем ипостасям безо всякого между ними различия, то что же препятствует посвятить дом божий богу-отцу так же, как богу – духу святому и богу-сыну?
Кто дерзнет уничтожить над входом в дом имя того, кому этот дом принадлежит? Или если сын принес себя в жертву отцу, вследствие чего и при совершении литургии молитвы обращаются в особенности к отцу и ему же приносится жертва, то почему же не признать, что жертвенник посвящен именно тому, к кому главным образом обращаются с молитвами и ради кого совершается жертвоприношение? Разве не правильно, что жертвенник посвящается тому, кому приносится жертва, а не тому, кто приносится в жертву? Или, быть может, кто-нибудь станет утверждать, что жертвенник посвящается кресту Христову, или гробу господню, или святому Михаилу, или Иоанну, или Петру, или какому-либо иному святому, коим не приносится жертвы и кои сами не приносятся в жертву и к коим не обращаются при жертвоприношении с молитвами? Во всяком случае, даже идолопоклонники считали, что жертвенники или храмы посвящены тем, кому они приносили жертвы и к кому они обращались с молчаниями.
Но, может быть, кто-нибудь скажет, что и богу-отцу не должно посвящать ни храмов, ни жертвенников, так как ему не установлено какого-либо особого праздника. Однако это соображение относится ведь и к самой троице, но не относится к святому духу, сошествию которого посвящен особый праздник пятидесятницы точно так же, как пришествию бога-сына посвящен особый праздник рождества Христова. Ведь как богу-сыну, посланному в мир, так и богу – духу святому, сошедшему на учеников, был установлен особый праздник. Да и кому же более подходит посвящение храма пред другими ипостасями, чем духу святому, если внимательно вникнуть в указания апостолов и в деяния самого святого духа. Ведь апостол не присваивает храма духовного никому из лиц святой троицы в отдельности, кроме именно святого духа; апостол не говорит о храме бога-отца или бога-сына в том же смысле, как о храме святого духа, написав в первом послании коринфянам: «Кто соединяется с господом, тот единый дух с ним». И дальше: «Или вы не знаете, что ваши тела – суть храм пребывающего в вас духа святого, коего вы имеете от бога, и что вы уже не свои?».
Кому же не известно, что совершаемые в церкви таинства божественного милосердия приписываются именно действию божественной благодати, под которой разумеется святой дух? Ведь мы в крещении возрождаемся водою и святым духом и только после этого становимся как бы особым храмом божьим. В довершение нам предоставляются, правда, семь даров благодати святого духа, коими сей божий храм украшается и освящается. Что же удивительного, если мы посвящаем видимый храм тому лицу троицы, коему, как признает апостол, принадлежит храм духовный? Какой же ипостаси правильней посвятить церковь, как не той, действию коей приписывается всякая подаваемая во храме благодать? Впрочем, в то время, когда я назвал свою молельню Параклетом, я сначала вовсе не думал об этом и не намеревался посвятить храм одному лицу троицы, а сделал это просто по той причине, которую указал выше: я назвал молельню Параклетом в память о полученном мной утешении. Но если бы даже я действовал по соображениям, которые мне приписывают, то это все же не противоречило бы разуму, хотя и отклонялось бы от обычая[145].
Итак, телесно я скрывался в упомянутом выше месте, но слава моя распространялась по всему свету, уподобляясь тому, что поэтический вымысел называет эхом, имеющим множество голосов, но ничего материального[146]. Мои старые враги, уже не имевшие сами по себе веса, возбудили против меня неких новых апостолов, которым все чрезвычайно доверяли. Из них один похвалялся тем, что он преобразовал жизнь уставных каноников, а другой – жизнь монахов[147]. Странствуя по свету и проповедуя, эти два человека бесстыдно и жестоко нападали на меня и, насколько могли, успели сделать меня на некоторое время предметом ненависти не только духовных, но и светских властей. Эти двое распространяли о моей вере и о моей жизни такие дурные слухи, что от меня отвернулись даже самые большие мои друзья; те же из друзей, которые все-таки еще сохранили в какой-то мере любовь ко мне, стали всячески скрывать ее из страха перед упомянутыми лицами. Бог свидетель, всякий раз, как я узнавал о созыве какого-либо собрания лиц духовного звания, я полагал, что оно созывается для моего осуждения. В оцепенении, как бы перед ударами надвигающейся грозы, я ожидал, что меня вот-вот потащат на собор как еретика, нечестивца или отступника. И если допустимо сравнение блохи со львом и муравья со слоном, то мои враги преследовали меня с неменьшим ожесточением, чем некогда еретики блаженного Афанасия.
Богу известно, как часто я впадал в отчаяние и помышлял даже о бегстве из христианского мира и о переселении к язычникам[148], чтобы там, среди врагов Христа, под условием уплаты какой-нибудь дани спокойно жить по-христиански. Я полагал, что язычники отнесутся ко мне тем благосклоннее, чем менее они будут видеть во мне христианина вследствие приписываемых мне преступлений, и будут надеяться легко склонить меня к своей вере. И вот, в то время когда я беспрестанно и мучительно переживал эти треволнения и подумывал уже в крайности искать христианского убежища у врагов Христа, я воспользовался случаем, который, как я ожидал, мог бы в известной мере уменьшить коварство моих недругов. Но я очутился в руках христиан, и даже монахов, несравненно более свирепых и скверных, чем язычники. В Бретани, в епископстве Ваннском[149], находился монастырь св. Гильдазия Рюиского[150], оставшийся без настоятеля вследствие его смерти; я был призван туда в качестве его преемника единогласным решением братии. На мое избрание было получено согласие владетеля той земли, а также без всякого труда и разрешение моего собственного аббата и братии[151]. Таким образом, ненависть французов удалила меня на запад подобно тому, как ненависть римлян изгнала Иеронима на восток.
Бог свидетель, я никогда не согласился бы на это избрание, если бы, как я сказал, у меня не было необходимости избавиться от беспрестанно переносимых мной притеснений. Область та действительно была варварской, языка ее жителей я не знал[152], постыдная и необузданная жизнь монахов в упомянутом монастыре была почти всем хорошо известна, а живущий в этой области народ был диким и неукротимым. Подобно человеку, который, страшась занесенного над ним меча, бросается в пропасть и, отсрочив на секунду одну смерть, находит другую, я сознательно бросился от одной опасности к другой; и там, на берегу зловеще гудящего океана, достигнув границы земли и уже не имея возможности бежать дальше, я часто повторял в своих молитвах: «Взываю к тебе от конца земли в унынии сердца моего».
Я думаю, теперь уже всем известно, какою тревогою терзалось мое сердце и днем и ночью при мысли о том, сколь непослушную братию принял я под свое управление и какая опасность угрожает поэтому и душе моей и моему телу. Для меня было совершенно ясно, что, если я буду заставлять этих людей вести в силу принесенных ими обетов соответствующую монашескому уставу жизнь, я сам не останусь в живых. Если же я не буду по мере моих сил исполнять свои обязанности, то я буду достоин вечного осуждения. Один властитель, весьма могущественный в данной области, воспользовавшись беспорядками в этом монастыре, давно уже подчинил его себе и использовал все принадлежащее монастырю земли в своих интересах, а монахов притеснял, требуя от них исполнения более тяжких повинностей, чем те, которые требовались некогда от иудейских данников. Монахи настоятельно просили меня удовлетворить их повседневные нужды, но не имели никакого общего имущества, за счет которого я мог бы им помочь: каждый ив монахов содержал сам себя, своих наложниц, сыновей и дочерей за счет средств, бывших некогда его собственными[153].
Монахи радовались, когда видели, что от этого я испытываю тревогу, сами же жрали и тащили все, что могли, стремясь, если я не справлюсь с управлением ими, заставить меня либо ослабить дисциплину, либо – совсем от них уйти. И так как жители той области были вообще беззаконниками и непокорными варварами, то не было там людей, к которым я мог бы обратиться за помощью; а нравы всех жителей той области были мне совсем чужды. Вне монастыря меня постоянно притесняли упомянутый властитель и его приспешники, а внутри монастыря против меня беспрестанно строила козни вся братия; так что сам ход событий показал, что именно ко мне применимы слова апостола: «Извне нападения, внутри – страхи».
С горечью размышлял я о том, сколь бесполезную и жалкую жизнь я веду, сколь бесплодна она для меня самого и для других, в то время как прежде я приносил такую пользу клирикам[154], – а теперь, оставив их ради монахов, я ни в чем не могу быть полезен ни тем, ни другим. Все мои начинания и старания оказываются безуспешными, и ко мне вполне справедливо можно отнести упрек: «Этот человек начал строить, но не мог окончить». Я приходил в полное отчаяние, вспоминая, от чего я бежал, и думая, что я на себя навлек. Считая свои прежние злоключения почти ничтожными, я часто со вздохами говорил себе: «Я терплю по заслугам за то, что покинул Параклет, то есть утешителя, и вверг себя в полное одиночество; желая избегнуть угроз, я очутился в явной опасности». Особенно же прискорбно мне было то, что, покинув мою молельню, я уже не мог заботиться об отправлении там божественной службы так, как бы следовало: чрезвычайно бедная местность, в которой находится Параклет, едва давала возможность прожить там даже одному человеку. Однако же, хотя я и приходил в отчаяние по этому поводу, сам истинный утешитель подал мне великое утешение и сам позаботился о своей молельне.
А именно случилось так, что наш аббат монастыря Сен-Дени сумел захватить в сваи руки упомянутое выше аббатство Аржантейль, где постриглась в монахини теперь уже скорее не жена моя, а сестра во Христе – Элоиза; это было сделано под тем предлогом, что Аржантейль когда-то давно подчинялся власти монастыря Сен-Дени[155]. Захватив Аржантейль, аббат насильственно изгнал из него ту общину монахинь, настоятельницей которой являлась моя бывшая подруга. Изгнанницы рассеялись в разные стороны, и я понял, что это господь предоставил мне благоприятный случай позаботиться о нуждах моей молельни. И вот, отправившись туда, я пригласил переселиться в вышеназванную молельню Элоизу и других оставшихся верными ей монахинь из ее общины; после же их переселения я подарил ей эту молельню вместе со всем имуществом, ей принадлежащим; затем с согласия и по ходатайству местного епископа папа Иннокентий II[156] особой дарственной грамотой утвердил мое дарение в пользу этих монахинь и их преемниц[157].
Правда, вначале они жили бедно, а по временам в большой горести. Но вскоре божественное милосердие, которому они так набожно служили, их утешило. К ним снизошел истинный Параклет, под воздействием коего все окрестное население стало сочувствовать этим монахиням и относиться к ним благосклонно. И я полагаю (истинно же про это ведает только бог), что в течение какого-нибудь года их земельные владения увеличились больше, чем увеличились бы в течение ста лет, если бы там остался я[158]. Ведь женщины слабее мужчин, а поэтому нужды женщин легче вызывают в людях сочувствие, а женская добродетель приятней и богу и людям. Господу было угодно внушить всем людям такую благосклонность к нашей сестре-настоятельнице, что епископы любили ее, как дочь, аббаты – как сестру, а миряне – как мать; и все вообще удивлялись ее благочестию, благоразумию и терпению, которые она сохраняла при всех обстоятельствах. Чем реже она показывалась, чтобы, уединившись в своей келье, с большей чистотой души предаваться набожным размышлениям и молитвам, тем более все, приходившие к ней извне, добивались общения с нею и ее наставлений в духовных беседах.
Поскольку все соседи общины всячески винили меня в том, что я поддерживал этих монахинь в нужде меньше, чем мог и должен был это делать (тем более, что я легко мог бы помочь им, например, своей проповедью), я стал чаще приезжать к ним, стремясь тем или другим быть им полезным. Но и это вызвало сплетни из ненависти ко мне: те мои действия, совершать которые побуждала меня моя искренняя благожелательность, обычная низость моих врагов сделала предметом бесстыдных обвинений; говорили, будто бы я все еще одержим обольщениями плотской страсти, так что едва могу и скорее даже совсем не могу оставаться в разлуке с моей бывшей возлюбленной. И мне часто вспоминалось сетование блаженного Иеронима, который писал о ложных друзьях в письме к Азелле: «Ничего мне не ставят в упрек, кроме моего пола, да и а этом не упрекнули бы, если бы в Иерусалим не собиралась Паула». И далее Иероним говорит: «Пока я не знал дома святой Паулы, по всему городу раздавались похвальные отзывы обо мне и, почти по всеобщему мнению, я признавался достойным верховного священного сана. Но я знаю, что можно достигнуть царства небесного и при доброй и при дурной славе».
Когда, говорю я, мне пришло на ум, что оскорбительная клевета возводилась даже на столь великого человека, я нашел немалое утешение, говоря себе следующее: «О, если бы мои враги нашли во мне повод для подобного подозрения, какой черною клеветою они преследовали бы меня! Теперь же, когда божественное милосердие уже освободило меня от подобного подозрения, лишив способности совершать постыдное, то какое же может возникнуть подозрение? И что же значит это новое бессовестное обвинение против меня?» Мое телесное состояние в глазах всех очищает меня от всякого гнусного подозрения. Ведь если кто-либо желает установить особенно строгий надзор за женщинами, то приставляет к ним евнухов: так повествует священная история об Эсфири и прочих наложницах царя Агасвера[159]. Мы читаем, что всеми сокровищами царицы Кандакийской заведовал евнух, которого ангел повелел апостолу Филиппу обратить в истинную веру и крестить. Богобоязненные и почтенные женщины тем больше чтили таких людей и удостаивали их своей близости, чем дальше они были от всякого подозрения.
Книга VI «Церковной истории» содержит рассказ о том, как величайший христианский философ – Ориген, желая наставлять женщин в святом учении, сам нанес себе увечье, чтобы уже совершенно отстранить от себя подобное подозрение. Я даже считал, что божественное милосердие проявило ко мне больше внимания, чем к нему: ведь он, как считается, действовал недостаточно благоразумно и потому навлек на себя немалые обвинения; в моем же случае божественное милосердие сделало меня свободным и подготовленным к подобному же занятию в результате вины других и с тем меньшими мучениями, что изувечили меня внезапно, объятого сном, и я почти не чувствовал никакой боли, причиненной мне чужими руками. Но если тогда я лишь в слабой степени чувствовал боль от раны, то теперь я страдаю гораздо больше от унижения и сильнее мучаюсь от клеветы, возводимой на мое доброе имя, чем от нанесенного моему телу увечья. Ибо написано: «Лучше доброе имя, чем большое богатство». И блаженный Августин говорит в своей проповеди «О жизни и нравах духовенства»: «Кто доверяется своей совести и пренебрегает мнением о себе, тот – жесток». А несколько выше он же говорит: «Будем проявлять свои добрые свойства по слову апостола, не только пред богом, но и пред людьми. Для нас самих достаточно нашей собственной совести; ради же других слава наша не должна затемняться, но должна возрастать. Совесть и добрая слава – это различные вещи. Совесть для тебя, а слава для ближнего».
А если бы сам Христос и его последователи – пророки, апостолы и другие святые отцы, – вовсе не изувеченные, жили бы в одно время с моими врагами и последние увидели бы их в близкой беседе главным образом с женщинами, каких бы мерзостей по своей злобе не наговорили мои враги о Христе и его последователях? Ведь и блаженный Августин в своей книге «О деянии монахов» указывает, что некоторые женщины стали неразлучными спутницами господа Иисуса Христа и апостолов и следовали за ними даже на проповедь. Августин говорит: «С ними шли верные женщины, обладавшие земными благами, и питали их, чтобы они не испытывали нужды ни в чем необходимом для поддержания жизни». А если кто не верит, что так делали апостолы, странствуя ради проповеди евангелия в безгрешном общении с женщинами, тот пусть послушает евангелие и узнает, что апостолы поступали так по примеру самого господа. Ведь в евангелии написано: «Затем и сам он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя царствие божие, а с ним двенадцать [апостолов] и несколько женщин, исцеленных от злых духов и болезней: Мария, нарицаемая Магдалиной, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, а также многие другие, служившие Христу всем, чем могли».
И папа Лев IX[160] сказал в своем сочинении против послания Пармениана «О стремлении в монастырь»: «Мы признаем вообще, что епископу, пресвитеру, диакону и иподиакону не позволяется отрекаться от заботы о собственной жене под предлогом посвящения себя делу веры, если это касается обеспечения жены пищей и одеждой, а не плотского сожительства»[161]. Мы читаем у блаженного Павла, что так поступали и святые апостолы: «Разве мы не имеем власти иметь спутницей сестру-жену, как братья господни и Кифа?» Обрати внимание, неразумный, что апостол не сказал: «Разве мы не имеем власти обнимать сестру-жену», а сказал: «иметь спутницей»; и именно для того, чтобы за свою проповедь получать от них пропитание, а не затем, чтобы вступать с ними в плотское общение.
Конечно, тот фарисей, который в душе помышлял о господе: «Если бы он был пророком, то знал бы, кто и какая женщина прикоснулась к нему, ибо она – грешница», в силу слабости человеческого суждения мог скорее так дурно подумать о Христе, чем мои враги предполагать постыдное обо мне; или тот, кто видел, как Христос поручил свою мать юноше или как пророки посещали вдовиц и разделяли их общество, мог бы с большею вероятностью на основании этого возыметь подобное подозрение. А что бы сказали эти мои хулители, если бы они увидели, как захваченный в плен монах Малх, о котором пишет блаженный Иероним, жил в одной келье с женой. В каком преступлении они обвинили бы Малха на основании того, о чем выдающийся учитель церкви говорит с большой похвалой: «Там был один старец, по имени Малх, местный уроженец. И в его келье жила старуха... оба они были исполнены ревности к вере и так усердно посещали церковь, что можно было бы подумать, что это – евангельские Захария и Елизавета[162], только вот между ними не было Иоанна».
Почему же мои враги воздерживаются от клеветы на святых отцов, о которых мы часто читаем, что они устраивали также женские монастыри и управляли ими, и сами наблюдаем это? Обратимся к примеру семи диаконов, поставленных апостолами вместо себя для забот о пропитании и для попечения о женщинах. Ведь именно слабый пол нуждается в помощи сильного пола, потому-то апостол и устанавливает, что муж должен быть как бы главою жены, и в знак этого предписывает женщинам иметь всегда голову покрытой. Поэтому я немало удивляюсь уже давно укоренившемуся в монастырях обычаю ставить над женщинами аббатисс, так же как над мужчинами – аббатов, причем как женщины, так и мужчины в силу обетов должны соблюдать одинаковые правила, хотя в них содержится много такого, чего никоим образом не могут выполнить ни стоящие во главе, ни подчиненные женщины. Во многих местах мы видим даже, что нарушая естественный порядок, аббатиссы и монахини повелевают клириками, которым повинуется народ; и чем большей властью обладают аббатиссы и монахини, тем легче они могут вызвать дурные желания у клириков и тем тяжелее лежит на тех это иго. Взирая на подобное, знаменитый сатирик сказал: «Нет ничего на свете несносней богатой женщины»[163].
Размышляя часто обо всем этом, я решил, насколько мне было возможно, заботиться об упомянутых сестрах и оказывать им покровительство, а чтобы они больше меня уважали, лично наблюдать за ними. И так как преследования со стороны моих духовных сынов огорчали меня теперь еще больше и чаще, чем прежние преследования со стороны братии, я укрывался у этих монахинь, как в тихой пристани от свирепой бури, и дышал у них несколько свободнее. У монахов мои старания оставались бесплодными, но я видел некоторые их плоды у монахинь, и чем более необходимой являлась моя поддержка их немощи, тем утешительней было это и для меня.
Однако теперь сатана воздвиг на меня такое гонение, что я не нахожу себе места, где бы я мог успокоиться или даже просто жить; наподобие проклятого Каина я скитаюсь повсюду, как беглец и бродяга. Меня, как я уже сказал выше, постоянно мучат «извне нападения, внутри-страхи», беспрестанно терзают и внешний и внутренний страх и борьба. Преследования моих духовных сынов значительно-опаснее, чем преследования врагов. Ведь духовные сыны всегда находятся предо мной, и я постоянно должен переносить их коварство. Телесное насилие со стороны врагов угрожает мне, когда я выхожу за пределы монастыря; внутри же его мне сплошь и рядом приходится терпеть столь же жестокие, сколь и коварные козни со стороны духовных сынов, то есть монахов, порученных мне, аббату, как их отцу.
О, сколько уже раз они пытались погубить меня отравой, подобно тому, как это бывало и с блаженным Бенедиктом[164]. Та же причина, из-за которой он покинул своих развращенных духовных сынов, могла бы побудить и меня последовать примеру столь великого отца церкви. Если бы я не выступил против этой явной опасности, то высказал бы не свою любовь к богу, а легкомысленное желание искушать его и погубить себя. Хотя я пытался, насколько мог, предотвратить ежедневные покушения на мою жизнь во время подачи мне пищи и питья, монахи старались отравить меня даже при совершении таинства причастия, а именно, влив в чашу яд. В другой раз, когда я отправился в Нант навестить заболевшего графа и остановился там в доме одного из моих братьев по плоти, монахи задумали отравить меня с помощью сопровождавшего меня слуги, предполагая, что я совершенно не буду остерегаться подобного покушения. Но по промыслу божию случилось так, что, пока я еще не отведал приготовленной для меня пищи, один из прибывших со мной монахов, по неведению, воспользовался ею и тотчас же упал мертвым; слуга же, виновник этого, почувствовав укоры совести, а также испугавшись обнаружения улик, бежал.
Итак, после столь явного для всех доказательства их злонамеренности, я начал уже, по мере возможности, открыто бороться против их козней, перестал даже ходить на собрания капитула и пребывал в кельях с немногими монахами. Остальные же, если бы они узнали, что я намереваюсь куда-нибудь поехать, расставили бы по дорогам и тропам подкупленных разбойников, чтобы убить меня. И вот пока я претерпевал все эти опасности, рука божья нанесла мне однажды сильный удар: я выпал при езде из повозки и повредил себе шею; это падение огорчило и ослабило меня гораздо больше, чем когда-то прежняя рана. Обуздывая мятежный дух братии угрозой отлучения, я заставил некоторых из них, наиболее опасных для меня, публично обещать мне или даже дать клятву, что они совсем уйдут из аббатства и больше не будут меня ничем беспокоить. Но они открыто и бессовестнейшим образом нарушили данное слово и клятвы и были вынуждены по повелению римского папы Иннокентия, через особо присланного легата, повторить прежние клятвы и дать еще много других заверений в присутствии графа и епископов.
Однако и после этого они не успокоились. Недавно, когда, изгнав тех, о которых я только что сказал, я снова пошел на собрание капитула и доверился остальной братии, к которой я относился с меньшим подозрением, я обнаружил, что оставшиеся еще много хуже, чем изгнанные. И я едва успел спастись, теперь уж не от их яда, а от их меча, приставленного к моему горлу: меня укрыл от них один из местных владетелей. В столь опасных условиях я тружусь до сих пор; каждый день я вижу как бы занесенный над моей головой меч, так что не могу себя чувствовать спокойным даже за обедом. Подобное этому рассказывается о человеке, который считал могущество и богатство тирана Дионисия[165] величайшим счастьем, но увидев меч, тайно подвешенный над ним на нитке, уяснил себе, какого рода счастье сопутствует земному могуществу[166]. То же самое беспрестанно испытываю теперь и я, возведенный из состояния бедного монаха в сан аббата и ставший тем несчастнее, чем большей стала моя власть. Пусть же мой пример обуздает честолюбие тех, которые сами стремятся к этому.
Такова, о возлюбленнейший мой во Христе брат и ближайший спутник в жизни, история моих бедствий, которым я подвергаюсь беспрестанно, чуть ли не с колыбели. Ты теперь впал в отчаяние и мучаешься от сознания причиненной тебе обиды. Поэтому я желаю, как я и сказал в начале этого послания, чтобы рассказанная мною история послужила тебе утешением и чтобы по сравнению с моими ты признал бы свои невзгоды или ничтожными, или легкими и терпеливее бы переносил их. Следует всегда утешаться предсказанием господа о его последователях и приспешниках дьявола: «Если они преследовали меня, они будут преследовать и вас... Если вас ненавидит мир, то знайте, что прежде вас он возненавидел меня. Если бы вы были от мира сего, то мир любил бы свое». И апостол говорит: «Все, желающие жить во Христе, благочестиво, будут гонимы». И в другом месте: «Я не стремлюсь угождать людям. Если бы я и поныне угождал людям, я не был бы рабом Христа». И Псалмопевец[167] говорит: «Введены в заблуждение те, кто угождает людям, так как бог презрел их».
Подвергая этот вопрос тщательному обсуждению, блаженный Иероним, наследником которого-по моей участи человека, терпящего поношения из-за клеветы, – я себя считаю, в письме к Непотиану говорит: «Апостол сказал: «Если бы я и поныне угождал людям, я не был бы рабом Христа». Но он перестал угождать людям, и стал рабом Христа». Тот же автор в письме к Азелле о ложных друзьях заметил: «Благодарение господу за то, что я удостоен ненависти мира». И в послании к монаху Илиодору: «Заблуждаешься, брат мой, заблуждаешься, если думаешь, что христианин когда-либо не будет подвергаться преследованиям. Враг наш, аки лев рыкающий, бродит, ища, «ого поглотить. А ты помышляешь о мире. Сидит враг в засаде вместе с богатыми». Воодушевленные этими словами и примерами, будем же тем терпеливее переносить несчастия, чем они несправедливее. И не будем сомневаться в том, что они полезны для нас, если и не как заслуга, то, во всяком случае, как некое искупление.
А так как все происходит по промыслу божьему, то пусть каждый верующий во всякой напасти утешается по крайней мере тем, что божья благость никогда и ничего не допускает вопреки своим предначертаниям, и что бы дурное ни совершалось, она все приводит к наилучшему концу. Оттого-то и правильно во всех случаях обращаются к богу со словами: «Да будет воля твоя!». А притом сколь великое утешение любящим бога содержится в словах апостола: «Знаем ведь, что для любящих бога все творится во благо». Это разумел и мудрейший из людей[168], сказав в «Притчах»: «Праведника не опечалит ничто с ним случившееся». Этим он ясно показывает, что люди, приходящие во гнев из-за случившегося с ними несчастья, удаляются от справедливости, хотя и не сомневаются в том, что все происходит по божьему промыслу. Эти люди стремятся подчиняться не воле божьей, а собственной, и, втайне противясь словам «Да будет воля твоя!» предпочитают божьей воле свою собственную.
Прощай!
ДОПОЛНЕНИЯ
I
Первое письмо Элоизы Абеляру[169]
Своему господину, а вернее отцу, своему супругу, а вернее брату, его служанка, а вернее дочь, его супруга, а вернее – сестра, Абеляру – Элоиза.
Недавно некто доставил мне, о возлюбленнейший, утешительное послание ваше к другу. Увидев тотчас же из самого заглавия, что оно написано вами, я начала читать его с тем большим увлечением, чем более преданно люблю писавшего; утратив человека в действительности, я хотела хотя бы утешиться словами его и как бы представить себе его образ.
Вспоминаю, что почти все послание это было исполнено желчи и полыни, ибо в нем заключается печальное повествование о нашем пострижении и о твоих, о единственный, непрестанных страданиях. В этом письме ты действительно исполнил то, что обещал в начале его своему другу, и он должен признать свои невзгоды, по сравнению с твоими скорбями, – ничтожными или незначительными. А именно, ты рассказал в послании о преследованиях, которым подвергали тебя твои учители, затем – о гнуснейшем изувечении твоего тела, об отвратительной зависти и о крайней злобе твоих сотоварищей по школе – Альберика Реймсского и Лотульфа Ломбардского. При этом ты не забыл рассказать об их наветах на твое знаменитое богословское сочинение и на тебя самого, после чего тебя заключили как бы в тюрьму. Далее ты перешел к злоумышлениям твоего аббата и лжебратии[170] и к весьма тягостному для тебя поношению со стороны двух лжеапостолов, побужденных к этому теми же твоими соперниками; рассказал о том, какое недовольство вызвало у многих наименование Параклета, данное тобою молельне вопреки обычаю; наконец, ты заключил свое печальное повествование рассказом о невыносимых и до сих пор еще продолжающихся покушениях на твою жизнь со стороны некоего жесточайшего гонителя и со стороны гнуснейших монахов, которых ты называешь своими сынами.
Я полагаю, что никто не может читать или слышать об этом без слез[171]. Во мне же чтение возбуждало тем более сильную скорбь, чем подробнее ты писал об отдельных событиях. Эта скорбь возрастала по мере того, как ты повествовал об усилении угрожающих тебе опасностей. Поэтому в страхе за твою жизнь все мы[172] равно приходим в отчаяние и каждодневно с трепетом в сердце и с замиранием в груди ожидаем вестей о твоей кончине. Заклинаем тебя самим Христом, еще хранящим тебя доныне, чтобы ты чаще удостоивал оповещать письмами его рабынь и твоих о тех опасностях, которые угрожают сокрушить твой корабль, плавающий по волнам жизни, и чтобы мы, которые одни только и остались у тебя, могли быть участницами в твоих скорбях или радостях. Ведь сострадающие все же приносят страждущему некоторое утешение, и всякая тяжесть, распространенная между несколькими людьми, выдерживается или переносится легче.
Если же эта буря несколько утихнет, ты должен тем более поспешить с присылкой писем, чем они будут радостней. Но о чем бы ты нам ни писал, ты всегда принесешь нам немалую отраду уже тем самым, что ты о нас помнишь. А сколь приятно получать письма от отсутствующих друзей, то на собственном примере нам показывает Сенека, написавший в письме к своему другу Люцилию: «Благодарю тебя за то, что ты часто мне пишешь. Ведь это единственный для тебя способ явиться ко мне. Всякий раз, получая твое письмо, я сейчас же вижу тебя со мной вместе»[173]. Если нам приятно смотреть на портреты отсутствующих друзей, ибо эти портреты оживляют нашу память о них и обманчивым, призрачным видом утоляют тоску по отсутствующим, то еще приятнее письма, в коих мы получаем осязательные приметы отсутствующего друга. Благодарение богу, никакая злоба[174] не помешает тебе общаться с нами хотя бы этим путем, никакие помехи не воспрепятствуют тебе в этом, и, о умоляю тебя, пусть не задержит тебя и никакая небрежность.
Ты написал своему другу длинное утешительное послание, хотя и по поводу его невзгод, но о своих собственных. Подробно припоминая их с намерением утешить друга, ты еще больше усилил нашу тоску. Желая же исцелить его боль, нам ты нанес новые и растравил старые горестные раны. Умоляю тебя, исцели этот недуг, причиненный самим тобой, раз уже ты облегчаешь боль от ран, нанесенных другими. Ты поступил как друг и товарищ и отдал долг дружбе и товариществу. Но еще больший долг лежит на тебе перед нами, коих следует именовать не просто друзьями, а друзьями наиближайшими, и не столько товарищами, сколько твоими дочерьми или каким-либо еще более нежным и чистым именем, какое только можно измыслить. Сколь великим долгам ты обязан перед нами, это не нуждается ни в доказательствах, ни в свидетельствах, ибо не подлежит никакому сомнению, если бы даже все молчали: дело само говорит за себя. Ведь после бога – ты единственный основатель и единственный строитель этой молельни[175], единственный создатель этой монашеской общины.
И ты ничего не построил здесь на чужом основании: все, что есть здесь, создано тобой. Этой пустыни, где пребывали лишь дикие звери или разбойники, было неведомо никакое человеческое жилье: в ней не стояло ни единого дома. Среди звериных логовищ, среди разбойничьих вертепов, где не произносилась имя божье, ты воздвиг божественную скинию[176] и посвятил храм духу святому. Для построения этого храма ты не взял ничего ни из королевских, ни из княжеских богатств, хотя и мог бы получить у них очень многое. Ты хотел, чтобы все, что будет сделано, было приписано только одному тебе. Клирики или ученики[177], толпами стекавшиеся сюда, ради того, чтобы учиться у тебя, доставляли все необходимое; и те, кто жил на церковные доходы и привык не жертвовать, а получать, те, чьи руки прежде только брали, а не давали, стали расточительными и даже навязчивыми в своих дарениях.
Таким образом, этот новый священный вертоград по праву принадлежит тебе и только тебе, и его насаждениям, пока все еще крайне нежным, необходимо частое орошение. Эти насаждения уже по самой природе женского пола слабы[178]; даже если бы они и не были новыми, они все же были бы некрепкими, а потому они и требуют более внимательного и частого ухода по слову апостола: «Я посадил, Аполлос поливал, а бог возрастил». Апостол[179] насадил учение Христа среди коринфян, коим он написал эти слова, и утвердил коринфян в вере проповедью своей; а после ученик того же апостола, Аполлос, наставил их священными увещаниями, и таким образом божье милосердие даровало коринфянам возрастание добродетелей. Ты часто тщетными увещаниями и проповедями безуспешно возделываешь лозы чужого виноградника[180], которых ты не насаждал и которые обращаются тебе же в горечь. Обрати же внимание «а свой собственный виноградник, ибо ты обязан это сделать, раз уже ты так заботишься о чужом. Ты учишь и увещеваешь мятежников и не имеешь успеха. Ты напрасно мечешь бисер божественного красноречия перед свиньями. Если ты так много тратишь труда на упорствующих, подумай о том, что ты должен сделать для послушных; будучи столь щедрым к твоим врагам, поразмысли о долге твоем перед твоими дочерьми.
Но оставим всех других в стороне. Подумай о том, сколь великий долг лежит на тебе предо мною лично: ведь тот долг, которым ты обязался вообще перед всеми женщинами, ты должен еще ревностней уплатить мне, твоей единственной. Как много рассуждений о вере ради наставления или ради утешения святых жен написали святые отцы, и то, что они сочиняли такие рассуждения с большим усердием, твоя ученость знает лучше нашего ничтожества. Поэтому-то меня чрезвычайно удивило, что ты уже предал забвению нежные чувства, явившиеся поводом к нашему пострижению, так что ни уважение к богу, ни любовь ко мне, ни примеры святых отцов не побуждают тебя к попыткам утешить меня – терзаемую волнением и удрученную уже длительной скорбью – беседой при личном свидании или хотя бы письмом в разлуке. А между тем ты знаешь: на тебе лежит тем большая обязанность предо мною, что, как всем известно, ты связан со мною таинством брака; и это налагает на тебя тем больший долг, что, как это всем очевидно, я всегда любила тебя безмерной, любовью.
О мой любимейший! Все наши знают, сколь много я в тебе утратила и как злополучное наигнуснейшее и всем известное предательство разлучило меня не только с тобой, но и с самой собой; но моя скорбь еще более возрастает при мысли не о самой утрате, а о там, как она совершилась. А ведь чем важнее причина скорби, тем сильнее должны быть и средства утешения. Принести же утешение должен не кто-либо иной, а ты сам: ты один был источником скорби, так будь же сам и милосердным утешителем. Только ты один можешь и опечалить, и обрадовать, и утешить меня. Только ты один и должен более всех это сделать: ведь я выполнила все твои желания, вплоть до того, что решилась по твоему приказанию погубить самое себя, так как ни в чем не могла противиться твоей воле. Мало того: моя любовь (ведь вот что удивительно) обратилась в такое безумие, что я сама отняла у себя безо всякой надежды на возвращение то единственное, к чему стремилась[181]. Ведь когда я сама по твоему приказанию сменила без промедления одежду, а вместе с нею и душу, я показала этим, что ты – единственный обладатель как моего тела, так и моей души.
Бог свидетель, что я никогда ничего не искала в тебе, кроме тебя самого; я желала иметь только тебя, а не то, что принадлежит тебе. Я не стремилась ни к брачному союзу, ни к получению подарков и старалась, как ты и сам знаешь, о доставлении наслаждений не себе, а тебе и об исполнении не своих, а твоих желаний[182]. И хотя наименование супруги представляется более священным и прочным, мне всегда было приятнее называться твоей подругой, или, если ты не оскорбишься, – твоею сожительницей или любовницей. Я думала, что чем более я унижусь ради тебя, тем больше будет твоя любовь ко мне и тем меньше я могу повредить твоей выдающейся славе. Об этом ведь ты и сам не забыл в упомянутом выше своем утешительном послании к другу. Там же ты не пренебрег изложить и некоторые доводы, при помощи которых я пыталась удержать тебя от нашего несчастного брака, хотя и умолчал о многих других, по которым я предпочитала браку любовь, а оковам – свободу. Призываю бога в свидетели, что если бы император Август[183], владевший всем миром, удостоил бы меня чести брачного предложения и навсегда утвердил бы за мной владычество над всем светом, то мне было бы и милей и почетней называться твоей возлюбленной, нежели его императрицею. Ведь не тот непременно лучше, кто богаче или могущественней: быть и богатым и могущественным – зависит от удачи, быть ли хорошим – зависит от добродетели.
И пусть не считает себя непродажной та женщина, которая охотней выходит замуж за богатого, чем за бедного, и прельщается больше имуществом своего мужа, чем им самим. Несомненно, что женщина, вступившая в брак из-за подобного прельщения, заслуживает платы, но – не любви. Конечно, такая женщина ищет богатства, а не мужа и, при возможности, захочет продаться тому, кто еще богаче. В этом ясно убеждает беседа женщины-философа Аспасии[184] с Ксенофонтом[185] и его женой, переданная Эсхином[186], учеником Сократа. В этой беседе Аспасия, приведя убедительные философские соображения для примирения супругов, закончила свою речь таким образом: «А так как вы решили, что в этой стране нет ни мужа лучше, ни жены приятней, то, конечно, вы всегда будете стремиться к тому, что вы считаете наилучшим, ибо ведь и ты, муж, женился на самой лучшей жене, и ты, жена, вышла замуж за самого лучшего мужа»[187]. Разумеется, это мнение свято, и оно больше, нежели философское, и его следует назвать не любомудрием, а самой мудростью. Заблуждение здесь свято, а ложь в супружестве блаженна, дабы совершенная взаимная любовь сохраняла брачный союз нерушимым не столько в силу телесного воздержания, сколько в силу душевного целомудрия.
Но что дается другим путем заблуждения, мне было дано очевидной истиной. Ведь тогда как другие жены лишь сами думают о высоких свойствах своих мужей, я, и даже весь свет, не только предполагали, но и твердо знали о твоих достоинствах. Итак, моя любовь к тебе была тем истиннее, чем далее отстояла она от заблуждения. Кто даже из царей или философов мог равняться с тобой в славе?[188] Какая страна, город или поселок не горели желанием увидеть тебя? Кто, спрашиваю я, не опешил взглянуть на тебя, когда ты появлялся публично, и кто не провожал тебя напряженным взглядом, когда ты удалялся? Какая замужняя женщина, какая девушка не томилась по тебе в твоем отсутствии и не пылала страстью в твоем присутствии? Какая королева или владетельная дама не завидовала моим радостям или моему браку? В особенности же, признаюсь тебе, ты обладал двумя качествами, которыми мог увлечь каких угодно женщин, а именно – талантами поэта и певца. Этими качествами, насколько нам известно, другие философы вовсе не обладали[189].
Как бы шутя, в минуту отдыха от философских занятий, ты сочинил и оставил много прекрасных по форме любовных стихов, и они были так приятны и по словам, и по напеву, что часто повторялись всеми, и имя твое беспрестанно звучало у всех на устах; сладость твоих мелодий не позволяла забыть тебя даже необразованным людям. Этим-то ты больше всего и побуждал женщин вздыхать от любви к тебе. А так как в большинстве этих песен воспевалась наша любовь, то и я а скором времени стала известна во многих областях и возбудила к себе зависть многих женщин[190]. Какие только прекрасные духовные и телесные качества не украшали твою юность! Какую женщину, хотя бы она и была тогда моей завистницей, мое несчастье не побудит пожалеть меня, лишившуюся таких радостей? Кто из мужчин или женщин, пусть они раньше и были моими врагами, не смягчится из сострадания ко мне?
Я принесла тебе много вреда, но во многом, как ты сам знаешь, я совсем невиновна. Ведь в преступлении важно не само деяние, а намерение совершающего его лица. Справедливость оценивает не само деяние, а управлявшую им мысль. А о том, какие намерения по отношению к тебе я питала, ты один только и можешь судить по собственному опыту. Я всецело предаю себя твоему суду и во всем подчиняюсь твоему свидетельству. Скажи мне, если можешь, только одно: почему после нашего пострижения, совершившегося исключительно по твоему единоличному решению, ты стал относиться ко мне так небрежно и невнимательно, что я не могу ни отдохнуть в личной беседе с тобой, ни утешиться, получая от тебя письма? Объясни мне это, если можешь, или же я сама выскажу то, что чувствую и что уже все подозревают.
Тебя соединяла со мной не столько дружба, сколько вожделение, не столько любовь, сколько пыл страсти. И вот, когда прекратилось то, чего ты желал, одновременно исчезли и те чувства, которые ты выражал ради этих желаний. О возлюбленнейший, это догадка не столько моя, сколько всех, не столько личная, сколько общая, не столько частная, сколько общественная. О, если бы так казалось мне одной, о, если бы твоя любовь нашла что-нибудь извиняющее, от чего – пусть немного – успокоилась бы моя скорбь! О, если бы я могла придумать причины, которые, извиняя тебя, как-либо опровергли бы мое низкое предположение! Умоляю тебя, исполни мою просьбу: ты увидишь, что она незначительна и нисколько не затруднит тебя. Если уж я лишена возможности лично видеть тебя, то по крайней мере подари мне сладость твоего образа в твоих высказываниях, которых у тебя такое изобилие. Напрасно я буду ожидать от тебя щедрости на деле, если буду подозревать, что ты окуп на слова.
До сих пор я верила, что я много значу в твоих глазах: ведь я исполнила все ради тебя и поныне во всем продолжаю тебе повиноваться. Будучи юной девушкой, я обратилась к суровой монашеской жизни не ради благочестивого обета, а лишь по твоему приказанию. Если я этим ничего пред тобою не заслужила, посуди сам, сколь ненужными оказались мои старания! Ведь я не могу ожидать за это никакой награды от бога: очевидно, что я так поступила совсем не из любви к нему. Я последовала за тобой, устремившимся к богу, и по образу жизни даже предупредила тебя. В самом деле, ты сначала побудил меня надеть монашеские одежды и произнести монашеские обеты, как бы вспомнив о жене Лота, обернувшейся назад[191], и лишь затем посвятил богу самого себя. Признаюсь, этот единственный знак твоего недоверия ко мне побудил меня сильно страдать и даже устыдиться. Ведь я, да видит бог, нимало не усомнилась бы по твоему приказанию предшествовать тебе или следовать за тобою, даже если бы ты поспешил в царство Вулкана[192], ибо душа моя была не со мной, а с тобой! Даже и теперь если она не с тобой, то ее нет нигде: поистине без тебя моя душа никак существовать не может[193].
Но, умоляю тебя, сделай так, чтобы ей было с тобой хорошо. А ей будет с тобой хорошо, если она найдет тебя благосклонным, если ты за любовь отплатишь любовью, и пусть немногим вознаградишь за многое, хотя бы словами за дела. О, если бы, мой дорогой, твоя привязанность ко мне была не столь уверенна, ты больше бы заботился обо мне! А ныне, чем более ты уверен во мне, в результате моих стараний, тем больше я вынуждена терпеть твое ко мне невнимание. Умоляю тебя, вспомни, что я для тебя сделала, и подумай о том, чем ты мне обязан. Пока я наслаждалась с тобой плотской страстью, многим было неясно, почему я так поступаю: по любви ли к тебе или ради чувственности. Ныне же конец являет, что побуждало меня в начале. Ведь я отреклась совершенно от всех удовольствий, лишь бы повиноваться твоей воле. Я не сохранила ничего, кроме желания быть теперь целиком твоей. Подумай же о там, насколько ты несправедлив, когда того, чья заслуга пред тобою больше, ты вознаграждаешь меньше и даже вообще ничего не даешь, хотя от тебя требуется весьма малое и то, что выполнить тебе очень легко.
Итак, самим богом, коему ты посвятил себя, заклинаю тебя восстановить каким угодно способом твое общение со мною и написать мне что-либо утешительное, – хотя бы с тем намерением, чтобы, ободренная, я могла ревностнее отдаться божественному служению. Прежде, когда ты увлекал меня к мирским наслаждениям, твои письма часто приходили ко мне, и ты нередко воспевал в стихах твою Элоизу, имя которой было у всех на устах; оно звучало на всех площадях и во всех домах. Насколько же теперь праведней увлекать меня к богу, чем тогда – к наслаждениям. Умоляю тебя: взвесь то, чем ты мне обязан, и отнесись внимательней к моим просьбам.
Заключаю длинное письмо кратким концом. Прощай, единственный!
II
Первое письмо Абеляра Элоизе[194]
Элоизе, возлюбленной во Христе, Абеляр, брат ее во Христе. Если после обращения нашего от мира сего к богу я еще не написал тебе никакого утешения, ни увещания, то это надо приписать не моему небрежению, а твоей мудрости, на которую я всегда в высокой степени полагался. Я был убежден, что она ни в чем подобном не нуждается, ведь ей милость божья в изобилии предоставила все необходимое, чтобы ты могла и словами и своим примером наставлять заблудших, утешать малодушных, побуждать остывших, как ты давно уже это привыкла делать, когда при аббатиссе была первой ее помощницей. И если ты теперь с такой же заботой печешься о своих дочерях, как в то время о сестрах, то мы убеждены, что есть достаточно оснований считать совершенно излишним наши поучения или увещания. Если же смирению твоему представляется это иначе и ты нуждаешься в нашем поучении и послании даже в вопросах, относящихся к богу, то напиши мне, о чем ты хочешь, чтобы я мог ответить тебе, как внушит мне господь. Благодарение богу, который вложил в сердца ваши заботу о тягчайших и непрерывных моих опасностях и сделал вас участницами моего терзания, так что возношение молитв ваших приносит мне поддержку милости божьей, быстро повергающей сатану под ноги наши. При сем я особенно позаботился также послать тебе псалтырь, о котором ты настойчиво меня просила, о некогда столь дорогая мне сестра в миру, ныне же дражайшая во Христе. По псалтырю, ты, конечно, сможешь непрерывно возносить господу жертву молений твоих за великие и многие наши прегрешения и за избавление меня от ежедневно угрожающих мне опасностей. А о там, какую цену имеют перед господом богом и его святыми молитвы верных (и особенно женщин) за близких и жен за мужей своих, мы встречаем много примеров и имеем свидетельства. Апостол[195], придавая этому большое значение, увещевает нас молиться непрерывно. Читаем также мы, как господь сказал Моисею: «Отпусти меня, чтобы распалился гнев мой», и у Иеремии: «Ты же не молись за этот народ и не противодействуй мне». В этих словах сам господь явно признает, что молитвы святых налагают как бы некую узду на гнев его, и он сдерживается, чтобы не гневаться в той мере, как этого требуют дела грешников. Подобно этому, в тех случаях, когда правосудие произвольно привлекает кого-нибудь к ответственности, мольбы друзей склоняют его к милосердию « как бы против его воли удерживают, точно какой-то силой. Поэтому и сказано в обращении к молящемуся или собирающемуся молиться: «Отпусти меня» и «Не противодействуй мне». Предписывает господь не молиться за нечестивых. Но молит праведник, несмотря на запрет господа, и вымаливает у него, о чем просит, и изменяет приговор разгневанного судьи. Также оказано дальше и о Моисее: «И смилостивился господь и не сделал зла, какое хотел причинить народу своему». А в другом месте написано о всех делах божьих: «Сказал, и было совершено». В этом же месте упоминается, что господь произнес свой приговор [в соответствии с тем], какое наказание заслужил народ, но, остановленный чистотой молитвы, не исполнил того, что сказал. Обрати внимание, какова сила молитвы, если мы просим о том, что нам предписано [законом милосердия]: ведь пророк молитвой достиг того, о чем молиться ему запретил господь, и удержал его от того, что он уже произнес. И другой пророк говорит богу: «И когда ты придешь в гнев, вспомни о милосердии». Да услышат и да воспримут это князья земные, которые в случае предположенного и объявленного приговора своего оказываются более упорными, чем справедливыми, и стыдятся показаться слабыми, если бывают милосердны, и лжецами, если изменят свой приговор или если не исполнят того, что недостаточно осмотрительно ими постановлено, хотя делами могут исправить слова. Я бы сказал, что их правильно сравнить с Иеффайем, который, произнеся неразумный обет, неразумно заклал свою единственную дочь[196]. Но кто стремится стать членом тела его, тот вместе с псалмопевцем восклицает: «Милосердие и суд твой воспою тебе, господи!» «Милосердие» как написано, «возвеличивает правосудие», тем более, что в другом месте священное писание угрожает: «Суд без милосердия над тем, кто не оказывает милосердия». Сам псалмопевец, глубоко вникая в это, из милосердия отменил по мольбам жены Навала из Кармелы свой приговор, вынесенный на основе правосудия, именно: о казни ее мужа и разрушении его дома[197]. Итак, мольбы он поставил выше правосудия, и моление жены исправило то, в чем согрешил ее муж.
В этом, о сестра моя, указуется тебе пример и дается обеспечение, чтобы ты убедилась, чего мажет достигнуть твоя молитва за меня перед богом, если столь многого достигла мольба этой женщины перед человеком. Ведь господь бог, отец наш, больше любит сынов своих, чем царь Давид возлюбил молившую его женщину. И он был благочестив и милосерден, но Истинные благочестие и милосердие есть сам бог, и то, о чем тогда умоляла Давида женщина, было мирское и светское и не было построено на исповедании преданного служения господу; так что если ты не найдешь в себе столько силы, чтобы умолить бога, то окружающая тебя святая община девиц и вдов достигнет того, чего ты одна достичь не сможешь. Ведь сама истина говорит ученикам своим: «Где соберутся двое или трое во имя мое, там и я буду среди них». И еще: «Если двое из вас согласятся во всем, о чем просят, то дастся это от отца моего». Да и кто не видит, какое значение перед богом имеет частое Моление святого собрания? Если, как утверждает апостол, «многое может молитва праведника», то чего же можно ожидать от молитвы многочисленной святой общины? Ты знаешь, дражайшая сестра моя, из 28-й проповеди святого Григория[198], какое облегчение и как быстро принесло моление братьев возражавшему и не соглашавшемуся брату их. Тебе, при твоей большой начитанности, конечно, известно, насколько подробно сказано там о том, каким страхом была объята страждущая душа его, когда он был уже доведен до крайности, и в каком отчаянии, уже отрешившись от жизни, он удерживал братию от молитв. О, если бы сам господь бог внушил тебе и святой общине твоих сестер твердую надежду в молениях ваших и оградил жизнь мою для вас: ведь от него, по свидетельству апостола Павла, женщины принимали воскрешенными мертвецов своих. Если ты перелистаешь страницы Ветхого завета и евангелия, то ты найдешь там свидетельства о том, как одним только женщинам, или преимущественно женщинам, открывались величайшие чудеса воскрешения из мертвых, совершенные ради них или над ними. Ветхий завет упоминает о двух воскрешениях мертвецов по молитвам матерей: о воскрешении, совершенном пророкам Илией, и воскрешении, совершенном Елисеем, учеником Илии. В евангелии имеются всего три воскрешения мертвых, совершенные господом; открытые женщинам, они особенно подтверждают как действительно случившееся то, что сказано в упомянутом выше речении апостола: «Приняли женщины воскрешенными мертвецов своих». Еще господь воскресил у ворот города Наим умершего сына вдовицы и вернул его матери из сострадания к ее горю. Воскресил он также и друга своего Лазаря по мольбам сестер его Марфы и Марии. «Принимали женщины воскресшими мертвецов своих» и тогда, когда он оказал такую же милость дочери начальника синагоги по просьбе отца ее. Только на этот раз она сама приняла тело свое, пробудившееся от смерти, а другие женщины – тела своих близких. И эти воскрешения совершены были по ходатайству немногих. Сохранения же жизни нашей легко достигнет многоустное моление вашего благочестия. Ваше воздержание и смирение, посвященные богу, насколько ему самому любезнее, настолько больше заслужат его милости. И, может быть, многие из воскрешенных не стали его верными последователями, как не стала таковой и вдовица, о которой мы читаем, что господь воскресил ее сына даже и без просьбы с ее стороны. Нас же сближает не только чистота нашей веры, но объединяет исповедание одной и той же религии. И если даже я оставлю в стороне вашу святую общину, в которой непрерывно служит господу столько преданных девиц и вдов, я обращась к тебе одной, твердо убежденный в том, что твоя непорочность имеет много заслуг перед богом, к тебе, которая особенно много может сделать для меня, столь страдающего от напастей несчастной моей судьбы. Помни же всегда в молитвах твоих о том, кто исключительно принадлежит тебе, и бодрствуй в молениях своих с тем большим упованием, что ты признаешь это для себя справедливым, и потому молитвы твои более доходчивы до того, к кому они должны быть обращены. Услышь, умоляю тебя, слухом сердца то, чему ты часто внимала телесным своим слухом. Написано ведь в притчах: «Жена любящая есть венец мужу своему». И еще: «Кто обретет жену добрую, обретет благо и испытает удовлетворение от господа». И дальше: «Дом и богатство дается родителями, от господа же – жена разумная». И в Экклезиасте: «У хорошей жены счастливый муж». И немного ниже: «Добрая участь – добрая жена». И согласно апостольскому авторитету: «Неверующий муж освящается женой верующей». Примеры этого милость господня показала особенно в нашем государстве, именно франков, где король Хлодвиг был обращен в веру христову больше по просьбам жены своей, нежели благодаря проповеди святых мужей, и все королевство подчинилось священным законам [церкви] так, как по примеру старших побуждаются к усердной молитве и все подчиненные. К такой настойчивости побуждает нас и евангельское господне поучение: «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». И, конечно, по причине этой – как бы сказать – беспрестанности молитв и Моисей, как я уже выше упомянул, ослабил строгость божественного правосудия и достиг изменения приговора. Ты знаешь, о возлюбленная, сколько любви и преданности проявляла раньше община ваша в молитвах, воодушевленная моим присутствием. Действительно, ежедневно при исполнении молитв, положенных на каждый час, сестры обычно добавляли еще особую молитву господу за меня, составленную так, что, пропев сначала строфу и антистрофу, они добавляли к ним еще моление и общее заключение по следующему образцу. – Строфа: – «Не оставь меня, господи боже мой, и не отступись от меня». Антистрофа: – «Боже, на помощь мне приходи постоянно». Моление: – Спаси раба твоего, господи боже мой, уповающего на тебя. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой пусть дойдет до тебя». Заключительная молитва: – «Боже, ты удостоил раба твоего собрать служанок твоих во имя твое, молим тебя, чтобы ты дал как ему, так и нам укрепиться в воле твоей, о господи», и т. д. Теперь же мне, отсутствующему, тем более необходима поддержка молитв ваших, чем больше охватывает меня тревога в ожидании еще больших опасностей. Итак, умоляя, я требую и, требуя, умоляю (поскольку теперь в разлуке я испытываю, как правдива ваша любовь к отсутствующему), и, исполняя молитвы, на каждый час положенные, я добавляю еще особую молитву такого образца.-Строфа: – «Не оставь меня, господи, отец и владыка жизни моей, чтобы мне не пасть на виду у противников моих, чтобы не торжествовал надо мною враг мой». Антистрофа: – «Возьми оружие и щит и встань на защиту мою, да не восторжествует...» Моление: – «Спаси раба твоего, господи, боже мой, уповающего на тебя; пошли ему помощь от святости твоей и от Сиона охрани его; будь ему, господи, оплотом твердыни перед лицом врага. Господи, услышь моление мое и вопль мой пусть дойдет до тебя». Заключительная молитва: – «Боже, ты удостоил раба твоего собрать служанок твоих во имя твое, молим тебя, защити его от всякой беды, верни его невредимым к служанкам твоим. О. господи», и т. д. Если же господь предаст меня в руки врагов моих и они, одолев, убьют меня, или если я по какому другому случаю вступлю на общую стезю всей плоти человеческой в разлуке с вами, умоляю вас, труп мой, где бы он ни оказался погребенным или брошенным, прикажите перенести на ваше кладбище, чтобы дочери наши, или сестры во Христе, часто взглядывая на нашу могилу, побуждались больше изливать за меня своих молитв ко господу. Я не знаю никакого другого места, столь же безопасного и спасительного для души страдающей, сокрушающейся о заблуждении в прегрешениях своих, кроме того, которое особенно посвящено истинному параклету, то есть утешителю, и специально носит его имя. Я считаю также, что ни в какой другой обители верных нет лучшего места для христианского погребения, чем в обители женщин, посвятивших себя богу. Ведь это они позаботились о могиле господа Иисуса Христа, они пришли туда с драгоценными маслами и ухаживали за ней и неусыпно оберегали ее вокруг, обильными слезами оплакивая смерть жениха, согласно написанному: «Женщины, сидящие против гробницы, слезно оплакивали господа». Там же и прежде всех они получили утешение, увидев ангела и услышав от него о воскресении, и сейчас же вслед за этим удостоились радостного созерцания дважды явившегося им воскресшего господа и дотрагивались до «его руками.
И, наконец, еще того требую я от вас, чтобы, подобно тому как вы теперь мучаетесь из-за опасностей, угрожающих моему телу, так и тогда вы заботились бы о спасении моей души, и поскольку любили меня живого, и умершему оказывали бы помощь своими особыми оба мне молитвами.
Будь же здорова, живи, пусть будут здоровы и сестры.
Но Христа ради прошу, не забывайте меня.
III
Второе письмо Элоизы Абеляру[199]
Своему единственному после Христа «его единственная во Христе.
Удивляюсь я, о мой единственный, что ты, вопреки принятому в письмах обыкновению и даже вопреки самому естественному порядку вещей, вздумал в письме в самом заголовке приветствия поставить мое имя впереди своего, поставить женщину впереди мужчины, жену впереди мужа, рабыню впереди хозяина, монахиню впереди монаха и священника, диакониосу[200] впереди аббата! Ведь в посланиях к высшим или равным совершенно правильно и прилично ставить имена тех, кому пишут, раньше имен тех, кто пишет. Однако при письменном обращении к низшим впереди пишутся имена тех, кто выше по достоинству.
Немало мы были удивлены и тому, что ты лишь увеличил скорбь тех, которым должен был принести лекарство утешения, и только усилил слезы, которые должен был осушить. В самом деле, кто из нас мог слышать без слез[201] то, что ты говоришь в конце твоего письма: «Если господь предаст меня в руки врагов моих и они, одолев, убьют меня» и т. д.?
О возлюбленнейший! В каком состоянии духа ты подумал об этом, как мог ты произнести такие слова?! Никогда не забудет бог настолько своих рабынь, чтобы дать им пережить тебя! Никогда не пошлет он нам такой жизни, которая горше любой смерти! Тебе надлежит отпевать нас и молить бога за наши души, посылая к нему прежде себя тех, кого ты собрал для служения ему, дабы тебя уже не тревожили больше о них никакие заботы и дабы тем радостнее последовал бы ты за нами, чем больше ты будешь уже уверен в нашем спасении. Пощади, умоляю тебя, господин мой, избавь нас от слов, от которых несчастные делаются несчастнейшими, и не отнимай у нас того прежде смерти, чем мы только живем. «Довольно для каждого дня своей заботы», а тот день, полный горя для всех, кого он застанет, и так принесет с собою достаточно тревог. «Разве нужно, – говорит Сенека, – призывать зло и утрачивать жизнь раньше смерти?»[202].
Ты просишь, единственный, чтобы в случае, если ты окончишь эту жизнь вдали от нас, мы перенесли твое тело на наше кладбище[203], дабы наши молитвы в результате постоянной о тебе памяти принесли тебе больше пользы. Но, говоря по правде, неужели же ты считаешь нас способными забыть тебя? Да и сумеем ли мы молиться в такое время, когда величайшее огорчение не даст нам ни минуты покоя, когда душа утратит способность рассуждать разумно, а язык не сможет произносить слова, когда наш обезумевший дух будет скорее (выражусь так) роптать против бога, нежели смиряться пред ним, и скорее гневить его жалобами, нежели умилостивлять молениями.
В этот момент, мы, несчастные, сможем лишь плакать, а не молиться, и не найдя в себе сил хоронить тебя, мы будем стремиться скорее быть погребенными вместе с тобою. Ведь когда мы в твоем лице утратим и нашу жизнь, жить, лишившись тебя, станет для нас невозможно. О, только бы не дожить до этого! Даже и мысль о твоей смерти для нас смертельна. Что же будет, если нас и на самом деле поразит смерть твоя? Не дай бог, чтобы нам пришлось пережить тебя, отдавать тебе последний долг и оказывать тебе попечение, кое мы ожидаем сами именно от тебя! О, только бы нам предшествовать в этом тебе, а не следовать за тобой.
Итак, умоляю, пощади нас, пощади по крайней мере свою единственную и отбрось те слова, коими ты поразил наши души, будто ударами смертоносных мечей, чтобы то, что предшествует смерти, не было тяжелее ее самой. Объятый скорбью дух не бывает спокойным, и пораженная треволнениями мысль не может искренне стремиться к богу. Умоляю тебя, не препятствуй нам служить богу, раз ты сам посвятил нас ему. Все неизбежное, что случается с нами, приносит с собой величайшую скорбь, и надо желать, чтобы это случалось внезапно, дабы не терзался преждевременно бесполезным страхом человек, коему не в состоянии помочь никакая предусмотрительность. Об этом справедливо молит бога поэт, говоря:
На что же смогу я надеяться, если я потеряю тебя? И что сможет еще удерживать меня в этом земном странствовании, где у меня нет утешения, кроме тебя, да и это утешение – только в том, что ты жив, ибо все прочие радости от тебя для меня недоступны и мне даже нельзя насладиться твоим присутствием, чтобы хоть сколько-нибудь укрепиться. О, если не грех говорить так, бог жесток ко мне во всем. О немилосердное милосердие! О злосчастная судьба, которая истратила на меня так много стрел, что их уже не хватит для расправы с другими! Она истощила на меня целый колчан, так что другим уже нечего бояться ее нападений. Да если бы у судьбы еще и осталась какая-либо стрела, то она не нашла бы на мне места для новой раны. Нанося мне столько ударов, судьба страшится лишь одного: как бы я своей смертью не положила предела этим мучениям, и, не переставая губить меня, опасается моей гибели, которую сама же ускоряет.
О я несчастнейшая из несчастных, злополучнейшая из злополучных! Благодаря тебе, я была превознесена превыше всех женщин, и вот тем ниже низверглась я с этой высоты, поплатившись вместе с тобою тяжким падением. Ведь чем выше ступень, на которую человек поднялся, тем тяжелее его падение. Какая из благородных и знатных женщин была счастлива более меня или равно мне? И какую из них затем судьба так унизила и поразила скорбью? Какую великую славу из-за тебя принесла мне судьба и какое из-за тебя же она приготовила мне крушение? С какой силой она бросала меня то туда, то сюда, не зная меры ни в добре, ни в зле! Чтобы сделать меня всех несчастней, она сначала сделала меня всех счастливей. Так что, когда я вспоминаю о там, чего я лишилась, меня тем сильнее терзают сожаления, тем более угнетают утраты, и тем больше охватывает скорбь о потерянном, чем сильнее была моя любовь к тому, чем я обладала; и вот – радости наивысшего блаженства окончились величайшей печалью.
И как будто бы с тем, чтобы еще более вызвать наше негодование от обиды, по отношению к нам одинаково были нарушены все требования справедливости. Ведь пока мы наслаждались радостями страстной любви, или – окажу грубее, но выразительней – пока мы предавались прелюбодеянию, гнев божий щадил нас. Когда же мы заменили незаконную связь законным союзом и искупили позорное прелюбодеяние честным браком, тогда гнев господень простер над нами свою тяжкую длань и поразил наше неоскверненное ложе, хотя ранее долго терпел оскверненное. Понесенное тобою наказание было бы достойной карой для мужей, виновных в каком угодно прелюбодеянии. То, чем другие поплатились за последнее, ты навлек на себя в результате того самого брака, которым, как ты был вполне уверен, ты уже исправил все свои прегрешения.
Собственная жена навлекла на тебя такое бедствие, какое навлекают на прелюбодеев развратницы, и притом не тогда, когда мы предавались прежним наслаждениям, а тогда, когда некоторое время мы уже находились в разлуке и стали вести более целомудренную жизнь, – ты, став во главе парижской школы, а я, пребывая согласно твоему велению с монахинями в Аржантейле. Итак, разлучившись друг с другом для того, чтобы ты мог усерднее заниматься школой, а я – свободнее отдаваться молитве или размышлениям о священном писании, мы вели целомудренную, а потому и более праведную жизнь; и вот тогда-то ты один поплатился своим телом за то, что мы совершали в равной степени оба. Ты один был наказан, хотя вина лежала на нас двоих, и хотя ты был виновен меньше, ты претерпел все. Ведь чем более ты унизился ради меня и чем более ты возвысил меня и всю мою родню, тем меньше ты заслуживал наказания пред богом и пред этими предателями.
А я, несчастная, родилась на свет, чтобы стать причиной такого злодеяния! О, величайший всегда вред от женщин для великих людей! Поэтому-то в «Притчах»[205] и написано, что женщин необходимо остерегаться: «Итак, сын мой, теперь слушай меня и внимай словам уст моих. Да не отклоняется дух твой на пути ее [женщины] и да не будешь ты введен в заблуждение тропами ее. Ведь многих повергла она ранеными и много сильнейших убито ею. Дом ее – пути адовы, нисходящие во внутренние жилища смерти». И в «Экклезиасте»[206]: «Обозрел я миры духом моим и нашел я, что женщина горше смерти, ибо она сама сеть охотничья, сердце ее – невод, а руки ее оковы. Угождающий богу спасется от нее, а грешник будет уловлен ею».
Уже первая женщина тотчас же лишила своего мужа рая[207] и, будучи создана господом в помощь мужу, обратилась в величайшую погибель для него. Сильнейшего перед господом из назареев, рождение коего было возвещено ангелом, одолела одна лишь Далила[208], которая предала его врагам и, ослепив его, довела до такого отчаяния, что он погиб под развалинами вместе с врагами. Мудрейшего из всех людей, Соломона, женщина, с которой он вступил в связь, до того сбила с толку и довела до безумия, что он, избранный богом для построения храма (тогда как отцу его, праведному Давиду, в этом было отказано), впал в идолопоклонство и пребывал в нем до конца своей жизни[209], навсегда оставив поклонение богу, которое он сам же на словах и в писаниях проповедовал и которому учил. Праведнейший Иов[210] выдержал последнюю и самую тяжелую борьбу со своей женой, которая побуждала его проклясть бога. Коварнейший искуситель прекрасно знал по многократному опыту, что мужья легче всего находят гибель именно из-за своих жен.
Простирая и на нас привычную свою злобу, он попытался через брак наш достичь того, чего не смог добиться чрез наше прелюбодеяние; так как ему не было дозволено употребить для зла зло, то он употребил во зло само благо. Благодарение богу, что искуситель не вовлек меня в грех по моей доброй воле, как упомянутых выше женщин, хотя и сделал мою любовь причиной совершенного злодеяния. Но хотя невинность моя и сохранила мой дух чистым от этого злодеяния и я непричастна к нему, однако ранее я совершила много грехов, кои не позволяют мне оставаться в полной к этому злодеянию непричастности. Ведь предаваясь до этого долгое время наслаждениям плотского сладострастия, я сама заслужила тогда то, от чего теперь мучаюсь, и понесенное мною наказание явилось заслуженным следствием моих прежних грехов. Злополучный конец имеет своею причиной дурное начало. О, если бы я за все это могла подвергнуться надлежащей каре, чтобы хоть как-нибудь отплатить за боль твоей раны длительным покаянием и чтобы те страдания, которые испытывало твое тело в течение некоторого времени, я, во имя справедливости, претерпевала в уничижении духа в течение всей моей жизни и стала бы этим угодной, если не богу, то хотя бы тебе!
Сознаваясь в слабости моего истинно несчастнейшего духа, я не в силах отыскать такое покаяние, которым я могла бы умилостивить бога, обвиняемого мною все время в величайшей жестокости из-за этой несправедливости; делая этим противное его предначертанию, я более оскорбляю его своим возмущением, чем умилостивляю своим раскаянием. Разве можно назвать кающимися грешников, как бы они ни умерщвляли свою плоть, если при этом дух их еще сохраняет в себе стремление к греху и пылает прежними желаниями?! Ведь всякому легко признаваться на исповеди в грехах и даже смирять свою плоть внешними истязаниями, но поистине крайне трудно отвратить свою душу от стремления к величайшим наслаждениям. Поэтому совершенно правильно говорит праведный Иов: «Против себя поведу речь мою», т. е. дам волю языку и отверзу уста для обличения грехов своих, а затем тотчас же добавляет: «Говорю я с горечью в душе моей». Блаженный Григорий[211], толкуя это место, говорит: «Некоторые открыто каются в своих грехах, однако не стенают душою при покаянии и радостно рассказывают о том, о чем должно скорбеть». Следовательно, тот, кто говорит о своих грехах с ненавистью, необходимо должен говорить о них с горечью в душе, дабы эта горечь являлась карой за то, что по приговору ума осуждено словами. Но насколько редко встречается горечь истинного раскаяния, говорит блаженный Амвросий[212], рассматривая этот вопрос: «Я нашел, что легче встретить невинных, чем раскаивающихся».
И в самом деле, любовные наслаждения, которым мы оба одинаково предавались, были тогда для меня настолько приятны, что они не могут ни утратить для меня прелесть, ни хоть сколько-нибудь изгладиться из моей памяти. Куда бы ни обратилась я, они повсюду являются моим очам и возбуждают во мне желания. Даже во сне не щадят меня эти мечтания. Даже во время торжественного богослужения, когда молитва должна быть особенно чистою, грешные видения этих наслаждений до такой степени овладевают моей несчастнейшей душой, что я более предаюсь этим гнусностям, чем молитве. И вместо того, чтобы сокрушаться о содеянном, я чаще вздыхаю о несовершившемся. Не только то, что мы с тобой делали, но даже места и минуты наших деяний, наравне с твоим образом так глубоко запечатлелись в моей душе, что я как бы вновь переживаю все это и даже во сне не имею покоя от этих воспоминаний. Нередко мысли мои выражаются в непроизвольных движениях и нечаянно вырывающихся словах.
О я, поистине несчастная, достойнейшая жалобного стенания души: «Бедный я человек! Кто избавит меня от тела смерти?!». О, если бы я смогла добавить к этому и следующие за тем слова: «Благодать божия, чрез господа нашего Иисуса Христа!» Эта благодать была дарована тебе, возлюбленнейший, ибо одна телесная рана, избавив от плотских побуждений, излечила тебя и от многих душевных ран, так что, хотя сначала и кажется, будто бог ополчился на тебя, в конце концов оказывается, что он был сострадателен к тебе как истинный врач, который не отступает перед страданиями больного, лишь бы сохранить ему жизнь. Во мне же эти плотские побуждения и этот пыл страсти все больше и больше разжигаются горячностью молодости и опытом приятнейших наслаждений; они тем сильней угнетают меня, чем слабей я сама – предмет их нападений.
Люди прославляют мое целомудрие, не зная о моем лицемерии. Они принимают за добродетель чистоту телесную, тогда как добродетель – свойство не тела, а души. Приобретя некоторую похвалу от людей, я не имею никакой заслуги пред богом, испытывающим сердце и душу человека и видящим сокровенное. Меня считают благочестивой в наше время, когда только в редких случаях благочестие не является лицемерием и когда наибольшими похвалами превозносится тот, кто не вступает в противоречие с общественным мнением. Может быть, это до известной степени и заслуживает похвалы и даже представляется угодным богу, если кто-либо внешним своим поведением – каковы бы ни были его намерения – не приводит к соблазну в церкви и из-за него имя божье не подвергается хуленью у неверных и не становится предметом поношения у мирян тот духовный орден, к которому он сам принадлежит. В этом заключается также некоторый дар божественного милосердия, которое дает возможность не только делать добро, но и воздерживаться от зла. Но напрасно воздерживаться от зла, если не совершать затем добра, согласно написанному: «Уклонись от зла и сотвори благо». Но и то и другое напрасно, если оно не творится из любви к богу.
Бог свидетель, что я всю мою жизнь больше опасалась оскорбить тебя, нежели бога, и больше стремлюсь угодить тебе, чем ему. И в монастырь я вступила не из любви к богу, а по твоему приказанию. Подумай же, сколь печальную и жалкую жизнь я влачу, если и на земле я терплю это все напрасно и в будущей жизни не буду иметь никакой награды. Тебя, как и других, долго обманывало мое притворство, и ты принимал лицемерие за благочестие, а потому, когда ты поручаешь себя моим молитвам, ты требуешь от меня того, что я ожидаю от тебя. Умоляю тебя, не думай обо мне так и не переставай помогать мне своими молитвами. Не считай меня здоровой и не лишай меня милости исцеления. Не верь, что я в нем не нуждаюсь, и не уклоняйся от помощи в моей нужде. Не думай, что я сильна, и не дай мне погибнуть раньше, чем ты успеешь поддержать меня в моем падении.
Лживая лесть повредила многим, лишив их той опоры, в которой они нуждались. Господь восклицает устами Исайи[213]: «Народ мой, ублажающие тебя тебя обманывают и рассеивают пути шагов твоих». То же говорит он и устами Иезекииля: «Горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывала для головы всякого размера, чтоб уловлять души!»[214]. С другой стороны, говорит так же и Соломон: «Слова мудрых, как иглы и как глубоко вбитые гвозди, которые не исцеляют раны, а бередят их».
Умоляю тебя, перестань хвалить меня, дабы не навлечь на себя постыдного обвинения в лести и преступной лжи и чтобы, если ты даже находишь во мне нечто хорошее, суетное дуновение похвалы не унесло прочь то, что ты хвалишь. Ни один опытный врач не судит о внутренней болезни по одному только внешнему виду больного. Никакой заслуги пред богом не имеют те качества, которые общи как отверженным, так и избранным. А таковы именно внешние поступки, о которых ни один святой не заботится столь тщательно, как лицемер: «Лукаво человеческое сердце и недоступно исследованию; кто познает его?». И «Есть пути человеческие, кои представляются верными, но в конце концов ведут к смерти».
Безрассудно человеческое суждение о том, что подлежит лишь суду божьему. Потому и написано: «Не хвали человека при жизни его». То есть: не хвали человека тогда, когда, восхваляя его, ты можешь сделать его недостойным похвалы. Так и твоя похвала: чем приятнее она для меня, тем опаснее; и чем больше я пленяюсь и восхищаюсь ею, тем больше стараюсь во всем тебе нравиться. Умоляю тебя, не будь во мне уверен, а скорее всегда опасайся за меня и всегда помогай мне своими заботами. Ныне же нужно особенно опасаться за меня, ибо я лишена всякой помощи от тебя в моей несдержанности.
Я не хочу, чтобы ты, уговаривая меня быть добродетельной и призывая меня бороться с искушениями, говорил: «Сила укрепляется в немощи» и «Не будет увенчан тот воин, кто сражался недобросовестно». Я не ищу венца победы. С меня довольно избежать опасности. Удалиться от нее вернее, чем вступить в войну. В каком бы уголке неба ни поместил бы меня бог, я буду довольна. Ведь там никто никому не будет завидовать, а каждый будет довольствоваться тем, что у него есть. А чтобы подкрепить мое мнение каким-нибудь авторитетом, послушаем блаженного Иеронима: «Я сознаюсь в своей слабости и не желаю сражаться с надеждою на победу, дабы как-нибудь не потерпеть поражения». К чему же отказываться от надежного и стремиться к сомнительному?
IV
Возражение некоему невежде в области диалектики, который, однако, порицал занятие ею и считал все ее положения за софизмы и обман[215]
В народе широко распространена некая иносказательная басня о лисице. Как говорят, лисица, заметив на дереве вишни, начала карабкаться на него, чтобы освежиться ими. Когда ж лисица не смогла взобраться на дерево и, соскользнув, упала, она, разгневавшись, сказала: «Не надо мне вишен; они отвратительны на вкус»[216]. Так и некие современные ученые, будучи не в состоянии постичь силу доказательств диалектики, проклинают ее настолько, что считают все ее положения скорее софизмами[217] и обманом, нежели доводами разума. Эти слепые поводыри слепцов, не знающие, как говорит апостол, ни того, о чем они говорят, ни того, что они утверждают, осуждают то, чего они не знают, и чернят то, чего не постигают. Они считают смертельным испробовать то, чего они никогда не вкушали. Все непонятное им они называют глупостью и все, для них непостижимое, полагают бредом.
Так обуздаем же дерзость этих лишенных разума людей свидетельствами священного писания, на которое, по их признанию, они больше всего опираются, потому что мы не в силах опровергнуть их доводами разума. Пусть они, наконец, признают искусство диалектики, так сильно порицаемое ими (как противоречащее священному писанию), поскольку церковные учители восхваляют ее и считают необходимой для этого писания. Ведь блаженный Августин решился превознести это знание великими (похвалами и признал, что по сравнению с прочими искусствами только оно одно дает возможность познания и только его одно следовало бы назвать знанием. Поэтому во второй книге «О порядке» он говорит: «Наука наук, которую называют диалектикой. Она учит учить, она учит учиться. В ней сам разум проявляет себя и открывает, что он такое и что он хочет; только она есть знание, и она не только хочет, но также и может творить знающих».
Он же во второй книге «О христианском учении» заявляет, что из всех искусств для священного писания особенно необходимыми являются диалектика и арифметика. Одна – для разрешения вопросов, другая для – разъяснения аллегорических тайн, которые мы часто находим в природе чисел; и тем более он превозносит диалектику, чем более необходимой считает ее для разъяснения всех сомнений в исследованиях. Он говорит также: «Остается то, что относится не к телесным чувствам, но к разуму души, где царят наука рассуждения и наука числа».
Но наука рассуждения больше всего имеет значения для проникновения во всякого рода вопросы, имеющиеся в священном писании, и для разрешения их. Однако там следует избегать любви к препирательствам и известного мальчишеского хвастовства при обмане противников. Ведь существует много так называемых софизмов, или ложных умозаключений, по большей части до такой степени похожих на истину, что это обманывает не только тугодумов, но даже и проницательных людей, если они недостаточно внимательны. По-моему, писание осуждает этот вид обманчивых умозаключений в том месте, где оно гласит: «Кто ухищряется в речах, будет ненавистен». А известно, что диалектика и софистика[218] весьма сильно отличаются друг от друга, так как первая заключается в истинности доводов, вторая – в подобии их; софистика учит ложным доказательствам, диалектика же разоблачает их лживость и путем различения истинных доказательств учит опровергать ложные. Однако и то и другое знание, а именно как диалектика, так и софистика, ведут к умению различать доказательства, и только тот сможет разобраться в них, кто будет в состоянии отличить ложные и обманчивые доказательства от истинных и требуемых.
Поэтому и писатели-диалектики не обошли рассуждения об этом искусстве, так как сам глава школы перипатетиков Аристотель[219] также учил ему [этому искусству], написав [труд] «О софистических доказательствах». Ведь подобно тому, как справедливому человеку необходимо также и знание зла не для того, чтобы совершать его, но для того, чтобы избегать познанного зла, подобно этому и у диалектика должно иметься понимание софизмов, чтобы таким образом уберегать себя от них. И он будет разбираться в разумных доводах только в том случае, если, познав равно как ложные, так и истинные, он будет в состоянии различать первые от вторых и точно судить об обоих.
Поэтому, по свидетельству блаженного Иеронима, и сам Соломон также очень советовал познавать равно ложные и истинные доказательства. Ведь когда он [Иероним] писал против клеветы на великого римского оратора, как и мы сейчас пишем против подобных клеветников, он говорил между прочим о величайшем мудреце Соломоне: «Он напоминает в начале „Притч”, чтобы мы понимали как слова мудрости, так и хитросплетения слов, притчи и замысловатую речь, изречения мудрецов и загадки, которые в обычае у философов и диалектиков». Ибо что же тот понимает под словами мудрости и хитросплетениями слов, если не различие между истинными и ложными доказательствами? А они, как мы сказали, так переплетены друг с другом, <что тот, кто не знает одних, не сможет различить других, так как для познания любых предметов необходимо познание им противоположных.
Ведь никто не познает точно добродетели, если не имеет понятия о пороке, в особенности когда некоторые пороки до такой степени близки к добродетелям, что легко обманывают многих своим подобием; также и лажные доказательства своим сходством с истинными очень многих вовлекают в заблуждение. Поэтому 'различие мнений имеет место не только в области диалектики. Даже и в христианской вере имеют место многочисленные заблуждения, так как красноречивые еретики сетями своих утверждений завлекают в различные секты многих простаков, которые, не будучи искушены в доказательствах, принимают подобие за истину и ложь за разумное. Бороться с этой чумой в спорах нас побуждают также сами церковные учители, чтобы то, чего мы не понимаем в писании, мы постигали бы не только молясь господу, но и исследуя это при помощи рассуждений.
Из этого вытекает и то известное положение Августина в трактате «О милосердии», где он излагает слова господа: «Просите и дастся вам, ищите и отыщете, стучитесь и откроется вам»; он говорит: «Просите, молясь, ищите, рассуждая, стучитесь, спрашивая, т. е. вопрошая». Ведь мы не сможем опровергнуть нападки еретиков или каких-либо неверных, если не будем в состоянии сокрушить их рассуждения и опровергнуть их софизмы истинными доказательствами так, чтобы ложь уступила место истине и чтобы диалектики подавили софистов, всегда готовые, как увещевает святой Петр, к удовлетворению всякого спрашивающего у нас доказательств об имеющейся у нас надежде или вере. В этом споре, когда мы победим названных софистов, мы, конечно, выкажем себя диалектиками и тем более будем верными учениками Христа, который есть истина, чем более будем полны истинных разумных доказательств.
Наконец, кто же не знает, что как первые, так и вторые равно получили свое наименование от самого искусства рассуждения? Ведь самого сына божьего, которого мы называем словом, греки называют логос (λόγος), т. е. началом божественной мысли, или божественной мудростью, или разумом. Поэтому и Августин в книге «83 вопроса» в сорок четвертой главе говорит: «Вначале было слово, которое греки называют логос». Он же в книге против пяти ересей говорит: «Вначале было слово. Греки правильнее говорят „логос”. Ведь „логос” означает и слово и разум». И Иероним в послании к Паулину о священном писании говорит: «Вначале было слово, логос, обозначающее по-гречески многое. Ибо оно является и словом, и разумом, и исчислением, и первопричиною всех вещей, благодаря коей существует все, что существует. Все это мы правильно мыслим во Христе».
Ведь подобно тому, как господь Иисус Христос называется словом отца – по-гречески «логос», – точно так же он называется и «софией» (σοφία), т. е. мудростью отца, и потому к нему, несомненно, больше всего относится та наука, которая даже по наименованию связана с ним и по происхождению от слова «логос» названа логикой. И подобно тому, как от Христа возникло название «христиане», так и логика получила название от «логоса». Последователи ее тем истиннее называются философами[220], чем более истинными любителями этой высшей мудрости они являются. Эта величайшая мудрость наивысшего отца, когда она облекается в нашу природу для того, чтобы просветить нас светом истинной мудрости и обратить нас от мирской любви к любви в отношении его самого, конечно, делает нас в равной степени христианами и истинными философами. Когда он обещал ученикам ту добродетель мудрости, в силу которой они смогут опровергнуть рассуждения своих противников, говоря: «Ведь я дам вам уста и премудрость, которой не смогут противостоять все противящиеся вам», он, конечно, сверх любви к себе, благодаря которой их только и должно называть истинными философами, явно обещает им и то вооружение доказательствами, благодаря которому в рассуждениях они смогут стать наилучшими логиками. Оба эти достоинства, проистекающие от любви к нему и от его учения, благодаря коим они становятся как философами, так и наивысшими логиками, тщательно различает гимн к празднику пятидесятницы[221] «Блаженная нам радость», вещая:
На эти две добродетели ясно указало явление высочайшего духа, открывшееся в огненных языках[222], чтобы создать через любовь – философов, а через добродетель разумных доказательств – наивысших логиков. Поэтому хорошо, что дух явился в огне и в виде языков, дабы сообщить им любовь и красноречие на всякого рода языках. Наконец, кто не знает, что также сам господь Иисус Христос побеждал иудеев в частых спорах и подавил их клевету как писанием, так и разумным доказательством, и что он укрепил веру в себя не только могуществом чудес, но особенно силой слов. Почему же он пользовался не только чудесами, делая то, что больше всего подействовало бы на иудеев, просивших у него знамения, как не потому, что он решил наставить нас собственным примером, каким образом мы должны привлекать к вере при помощи разумных доказательств тех, которые ищут мудрости? Различая это, апостол говорит: «Ибо иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрости», т. е. последние укрепляются в вере преимущественно доказательствами подобно тому, как первые – чудесами.
Когда же не хватает знамений чудес, то нам остается единственный способ сражаться против любых противников: победить словами то, что мы не можем победить деяниями. В особенности когда у разбирающихся людей большую силу имеют разумные доказательства, чем чудеса, относительно коих можно легко впасть в сомнение, не сотворены ли они дьявольским наваждением. Поэтому и истина говорит: «Восстанут лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Но, скажешь ты, и в доказательствах рождается больше всего заблуждений, и не легко различить, когда приводятся обоснованные доказательства, которые надо принимать за таковые, и когда нужно такие отвергать как софизмы. А так, говорю я, случается с теми, которые не достигли опытности в доказательствах. Так вот для того, чтобы этого не случилось, следует изучать науку о доказательстве в рассуждениях, т. е. науку логики, которая, как упоминает блаженный Августин, имеет больше всего значения для исследования всякого рода вопросов, встречающихся в священном писании. И это, конечно, необходимо для тех ученых, которые меньше всего избегают рассмотрения вопросов, так как уверены в своей достаточной опытности для их разрешения.
V
Диалог между философом, иудеем и христианином[223]
(два отрывка из трактата)
I отрывок[224]
Мне снилось ночью, что три мужа, пришедшие различными путями, предстали предо мною, и я их тотчас же спросил, как бывает во сне, кто они такие и почему пришли ко мне. Они ответили: «Мы люди, следующие различным вероисповеданиям. И все мы равно утверждаем, что являемся почитателями единого бога, однако служим ему различно по вере и по образу жизни. Ибо один из нас язычник, принадлежащий к тем, которых называют философами, довольствуется естественным законом. Другие же двое имеют писания, и один из них зовется иудеем, а другой – христианином. Мы долго спорили, сравнивая поочередно различные направления веры, и, наконец, решили прибегнуть к твоему суду». Сильно удивляясь этому, я спросил, кто навел их на эту мысль, кто свел их вместе и, более всего, почему они избрали в этом споре судьей меня?
Философ, отвечая, сказал: Это начинание – дело моих рук, потому что самым главным для философа является исследовать истину при помощи разума и следовать во всем не мнению людей, а доводам разума. Итак, преданный всем сердцем нашим учениям и исполненный как их разумными доводами, так и их авторитетом, я, наконец, обратился к этике, которая является целью всех наук и ради которой, как я решил, должно быть испробовано все. Изучив, насколько я смог, все, что касается как высшего блага, так и величайшего зла, и то, что делает человека или блаженным или несчастным, я обратился тотчас же к тщательному исследованию различных направлений веры, разделяющих ныне мир, и решил примкнуть к тому, которое окажется более соответствующим разуму после рассмотрения и взаимного обсуждения всех их. Итак, я обратился к учению иудеев, а также и христиан, и к лицам, которые у тех и у других рассуждают о вере и законах или об основаниях, указанных разумом.
Я постиг, что иудеи глупцы, а христиане, так сказать, с твоего дозволения, поскольку ты называешь себя христианином, безумцы. Я беседовал долго и с теми и с другими и, так как спор наш не пришел к концу, мы решили представить на твой суд доводы каждой из сторон. Мы знаем, что от тебя не остались сокрытыми ни сила философских доводов, ни твердыни того и другого закона. Ибо христианское исповедание опирается на свой собственный закон, который оно называет Новым заветом, однако так, что не дерзает отвергать и Ветхий и уделяет величайшее внимание чтению того и другого. Нам надлежало избрать некоего судью для того, чтобы наш спор пришел к концу. И мы не могли отыскать никого, кто не принадлежал бы к одному из этих направлений.
И затем, как бы возливая масло лести и умащивая им главу мою, он тотчас же прибавил: «Итак, поскольку идет молва, что ты выделяешься остротою ума и знанием любого из писаний, постольку ясно, что ты тем более окажешься вполне авторитетным в твоем положительном или отрицательном суждении и сможешь опровергнуть возражения каждого из нас. О том же, каковой является острота твоего ума и насколько изобилует сокровищница твоей памяти философскими и божественными изречениями, помимо обычных занятий с твоими учениками, в чем, как известно, ты превзошел – и в области философии, и в области богословия – всех магистров, а также твоих учителей и самих творцов вновь обретенных знаний, достаточно свидетельствует та удивительная книга „Теология”[225], которую зависть не может ни перенести спокойно, ни уничтожить и которую она своим преследованием только еще более прославила».
Тогда я говорю: Я не стремлюсь к такому почету, который вы мне оказываете, а именно к тому, чтобы, пренебрегши всеми мудрецами, вы выбрали меня, глупца, своим судьей. И я похож на вас, привык к пустым спорам этого мира и легко выслушиваю то, чем привык заниматься. Однако ты, философ, ты, который не исповедуешь никакого закона и уступаешь только доводам разума, ты не сочтешь за большое достижение, если окажешься победителем в этом споре. Ведь у тебя для битвы имеются два меча, остальные же вооружены против тебя только одним. Ты можешь действовать против них, опираясь как на писание, так и на доводы разума, они же против тебя, поскольку ты не следуешь закону, от закона выставить ничего не могут и тем менее также могут выступить против тебя, опираясь на доводы разума, чем более ты привык к этому и чем более богатым философским вооружением ты владеешь.
Однако, так как вы пришли к такому решению по уговору и по обоюдному согласию и так как я вижу, что каждый из вас в отдельности уверен в своих силах, то наша скромность никоим образом не считает возможным препятствовать вашей попытке, в особенности потому, что я, без сомнения, извлеку из нее некое поучение и для себя. Конечно, ни одно учение, как упомянул кто-то из наших [христиан], не является до такой степени ложным, чтобы не заключать в себе какой-нибудь истины, и нет ни одного столь пустого спора, который не имел бы в себе какого-либо поучительного доказательства. Поэтому и тот величайший из мудрецов[226], желая привлечь внимание читателя, говорит в самом начале своих притч: «Послушает мудрый и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы». И апостол Иаков говорит: «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен же на слова». Они согласились, радуясь моему согласию.
Философ говорит: Мне, который довольствуется естественным законом, являющимся первым, надлежит первому вопрошать других. Я сам собрал вас для того, чтобы спросить о прибавленных позже писаниях. Я говорю о первом законе не только по времени, но и по природе. Конечно, все более простое является, естественно, более ранним, чем более сложное. Естественный же закон состоит в нравственном познании, которое мы называем этикой, и заключается только в одних этических доказательствах. Ваши же законы прибавили к ним некие предписания внешних определений, которые нам кажутся совершенно излишними и о которых в своем месте нам также надо будет потолковать.
Оба остальные согласились предоставить философу в этом поединке первое место.
Тогда он говорит: Итак, прежде всего я спрашиваю вас одновременно о том, что, как я вижу, относится в равной степени к вам обоим, опирающимся более всего на написанное, а именно, – привели ли вас к этим направлениям в вере некие доводы разума или же вы следуете здесь только мнению людей и любви к людям вашего рода? Конечно, первое, если это так, следует больше всего одобрить, второе же совершенно отвергнуть. Я думаю, всякий сознательный и разумный человек должен будет признать, что это последнее мое положение является истиной. Ведь у отдельных людей любовь к себе подобным и к тем, с кем они воспитываются, врождена до такой степени, что они не принимают никаких суждений против их веры; и обращая привычку в природу, они упорно придерживаются в зрелом возрасте того, что они восприняли в детстве как благочестивое, и прежде чем они в состоянии воспринять обращенные к ним слова, они утверждают, что верят в это, подобно тому, как упоминает и поэт:
Именно таких людей, безусловно, порицал один из философов, говоря: «Неужели, если они восприняли что-нибудь во время обучения в детстве, то это должно почитаться за святое святых? Ведь положения, приспособленные для юных ушей, часто устраняются позднейшими философскими занятиями». Разве не так? И удивительно, что в то время, как с веками и сменой времен возрастают человеческие знания обо всех сотворенных вещах, в вере же, заблуждения в которой грозят величайшими опасностями, нет никакого движения вперед. Но юноши и старцы как невежественные, так и образованные, утверждают, что они мыслят о вере совершенно одинаково, и тот считается крепчайшим в вере, кто совершенно не отступает от общего с большинством мнения. А это, разумеется, происходит обязательно, потому что расспрашивать у своих о том, во что должно верить, не позволено никому, как и не позволено безнаказанно сомневаться в том, что утверждается всеми. Ибо людям становится стыдно, если их опрашивают о том, о чем они не в состоянии дать ответа.
Всякий, конечно, из тех, кто не доверяет собственным силам, нападает неохотно, и добровольно бросается в битву только тот, кто надеется на славу победы. Первые же (то есть, опирающиеся на закон) впадают в столь великое безумие, что, как они сами признают, не стыдятся заявлять о своей вере в то, чего понять не могут, как будто бы вера заключается скорее в произнесении слов, нежели в духовном понимании, и более присуща устам, чем сердцу. И эти люди особенно похваляются, когда им кажется, что они верят в столь великое, чего они не в состоянии ни высказать устами, ни постигнуть разумом. И до такой степени дерзкими и высокомерными делает их исключительность их собственного убеждения, что всех тех, кого они находят отличающимися от них по вере, они провозглашают чуждыми милосердия божьего и, осудив всех прочих, считают блаженными только себя.
Итак, долго обдумывая подобную слепоту и высокомерие такого рода людей, я обратился к божественному милосердию, смиренно и беспрестанно умоляя его, чтобы оно удостоило извлечь меня из столь великой пучины ошибок и, спасши от ужасной Харибды, направило бы меня после таких великих бурь к спасительной гавани. Поэтому также и ныне вы видите, что я с нетерпением жажду как ученик ваших ответных доказательств.
Иудей: Ты обратился с вопросом одновременно к двум, но оба одновременно отвечать не могут, дабы множественностью речей не затемнить понимания. Если будет позволено, я отвечу первым, потому что мы первые пришли к вере в бога и восприняли первое учение о законе. Этот же брат, который называет себя христианином, если заметит, что у меня не хватает сил или что я не могу дать удовлетворения, добавит к моему несовершенному слову то, что в нем будет недоставать, и действуя с помощью двух заветов, как бы с помощью двух рогов, он сможет, будучи ими вооружен, сильнее сопротивляться противнику и сражаться с ним.
Философ: Я согласен.
II отрывок[228]
Христианин: После обращения в нашу веру многих философов ни тебе, ни потомкам нельзя сомневаться в ней, и, по-видимому, нет нужды в столь горячем споре, так как в мирских науках вы во всем доверяете авторитету этих философов; но все же пример их не побуждает вас к вере, хотя вы и говорите [вместе] с пророком: «Мы не лучше, чем отцы наши».
Философ: Мы не настолько полагаемся на их авторитет, чтобы не обсуждать при помощи разума их высказывания, прежде нежели согласиться с ними. Иначе мы перестали бы философствовать, а именно, если бы, отбросив исследование разумных доводов, мы более всего пользовались авторитетными высказываниями, которые являются простейшими, совершенно не касающимися сути дела и заключающимися больше в утверждениях, нежели в истине, мы могли бы поверить, что и сами наши предки не были склонены к исповеданию вашей веры при помощи доводов разума, а что они были побеждены силой, с чем согласуются и ваши предания. Ведь прежде чем были обращены к вере вашей, как вы говорите, посредством чудес императоры и знать, ваша чистота завоевала из числа мудрецов лишь немногих или совсем никого, хотя тогда народы легко могли быть вырваны из совершенно явных заблуждений идолопоклонства и приведены хотя бы к какому-нибудь культу единого бога.
Поэтому ваш Павел в своем послании к афинянам предусмотрительно говорит в начале так: «Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно склонны к предрассудкам» и т. д. Ведь уже тогда исчезло знание естественного закона и божественного культа, и множество заблуждающихся совершенно уничтожило и подавило малое число мудрецов. Говоря по совести и подтверждая немалую пользу христианской проповеди, мы не сомневаемся в том, что именно благодаря ей всего более тогда было уничтожено идолопоклонство.
Христианин: Прибавь к этому и то, что, как это ясно, и естественный закон, и совершенство нравственного учения, которым, как вы говорите, вы только одни и пользуетесь и которые, как вы верите, является достаточным для опасения, были пробуждены, или, вернее, даны тем, кем, как истинной мудростью, то есть премудростью бога, были наставлены все те, коих должно назвать истинными философами.
Философ: О, если бы ты мог доказать, как ты говоришь, то, что вы являетесь логиками, вооруженными разумными словесными доводами от самой, как вы говорите, высшей мудрости, которую по-гречески вы называете логосом, а по-латински словом божьим! И не дерзайте предлагать мне, несчастному, известное спасительное прибежище Григория, говорящего: «Та вера не имеет цены, коей человеческий разум предоставляет доказательства». Ибо ведь те у вас, которые не в состоянии обосновать воздвигаемую ими веру, для оправдания своего невежества тотчас же прибегают к этому изречению Григория.
А оно, соответственно их мнению, не означает ли того, что мы должны быть удовлетворены любыми высказываниями о вере, равно как здравыми, так и глупыми? Ведь если разум не допускается к обсуждению веры для того, чтобы она не утратила своего значения, а также к обсуждению того, во что надлежит верить, и если тотчас же должно соглашаться с тем, что провозглашается, то сколько бы заблуждений ни насаждала проповедь, ничего нельзя сделать, потому что нельзя ничего опровергнуть при помощи разума там, где не дозволено применять разум.
Утверждает идолопоклонник о камне или бревне или каком-либо творении: это – истинный бог, творец неба и земли. И какую бы явную глупость он ни высказал, кто в состоянии опровергнуть его, если разуму совсем не дозволено рассуждать о вере. Ведь уличающему его, – и скорее всего христианину, – он тотчас же противопоставит то, что сказано выше: «та вера не имеет цены...» и т. д. И тотчас же христианин смутится в самой своей защите и должен будет сказать, что вовсе не должно слушать доводов разума там, где он сам совершенно не разрешает их применять и совершенно не дозволяет себе открыто нападать на кого-либо в вопросах веры при помощи разума.
Христианин: Как говорит величайший из мудрецов, такими и оказываются в большинстве случаев доводы разума, то есть высказанными разумно и соответствующим образом, хотя на самом деле они вовсе не таковы.
Философ: Что же оказать о тех, «то считается авторитетами? Разве у них не встречается множества заблуждений? Ведь не существовало бы столько различных направлений веры, если бы все пользовались одними и теми же авторитетами. Но, смотря по тому, кто как рассуждает при помощи собственного разума, отдельные лица избирают авторитеты, за которыми следуют. Иначе мнения всех писаний должны были бы восприниматься одинаково, если бы только разум, который естественным образом выше их, не был бы в состоянии судить о них. Ибо и сами писавшие заслужили авторитет, то есть то, что заставляет им немедленно верить, только благодаря разуму, которым, по-видимому, полны их высказывания.
По их собственному суждению, разум настолько предпочитается авторитету, что, как упоминает ваш Антоний, поскольку потребность человеческого разума явилась изобретателем письменности, последняя менее всего нужна тому, у кого эта потребность совсем не развита. В любом философском обсуждении авторитет ставится на последнее место или совсем не принимается во внимание, так что вообще стыдятся приводить доказательства, проистекающие от чьего-либо суждения о вещи, т. е. от авторитета. Те, которые полагаются на свои собственные силы, презирают прибежище чужой помощи. Поэтому правильно философы признали, что подобные доказательства, когда к ним принужден прибегать скорее оратор, нежели философ, являются совершенно внешними, устраненными от существа вещи, лишенными всякой силы, поскольку они заключаются скорее в мнении, нежели в истине, и не требуют никаких ухищрений ума для того, чтобы отыскать собственные доказательства, и что тот, кто приводит их, пользуется не своими словами, а чужими.
Поэтому и ваш Боэций[229], объединяя в своих «Топиках» изречения как Фемистия[230], так и Цицерона, говорит: «В суждении о вещи те доказательства, которые представляют как бы свидетельства, иной раз лишены искусства и не связаны совершенно с существом и, по-видимому, относятся не к сущности вещи, а к высказыванию». Опять он же говорит об этом, следуя Цицерону: «Для них остается то положение, которое они называют взятым извне. Оно опирается на суждение и авторитет и является лишь вероятным, не заключая ничего необходимого».
И немного ниже: «Это положение называется взятым извне, потому что оно берется не из тех заключений, которые являются сказуемыми или подлежащими, но приходит согласно суждению, созданному извне. Потому также, – говорит он, – оно называется лишенным искусства и простейшим, что оратор создает доказательства не сам для себя, но пользуется заранее подготовленными установленными свидетельствами».
Относительно же твоего замечания, что иногда также происходит ошибка в различении и познавании, то это, конечно, ясно и правильно. Но это происходит с теми людьми, которым недостает опыта философии, опыта разума и различения доказательств. Таковыми являют себя иудеи, которые стремятся взамен доказательств к знамениям и которые ищут себе спасения в высказываниях других, как будто бы легче высказывать суждения, опираясь на авторитет или сочинения отсутствующего, чем на разум или суждение присутствующего; как будто бы к рассудку первого может быть лучше найден доступ, чем к рассудку второго.
Пока же, насколько мы в состоянии, мы ищем бога, заботясь о пашем спасении; во всяком случае, его благодать приходит к нам на помощь там, где наших стараний недостаточно, и он помогает алчущим достигать, он, который внушает им, что им желать. И тот, который часто влечет даже нежелающих, не отталкивает алчущих и простирает свою десницу старающемуся, коего он не может изобличить в небрежении. В силу этого, сама, как вы говорите, истина, т. е. Христос, делает вас уверенными в спасении, добавляет, предпослав соответствующий пример: «Просите и дастся вам, ищите и отыщете, стучитесь и откроется вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит и стучащемуся отворяют».
Я помню, что, толкуя вышеуказанные слова в своем трактате «О милосердии», Августин говорит: «Просите, молясь, ищите, рассуждая, стучитесь, действуя». Поэтому предпочитая искусство рассуждения другим наукам и восхваляя его, так как только оно одно само знает и творит «знающих», он говорит во второй книге «О порядке»: «Наука наук, которую называют диалектикой. Она учит учить, она учит учиться. В этом сам разум показывает себя, что он такое, чего он хочет, что знает только он один. Она не только хочет, но и может творить знающих». Он же [Августин], показывая, насколько она является необходимою священному писанию, говорит во второй книге «О христианском учении»: «Остается то, что относится не к чувственному восприятию, но к разуму, где числа управляют наукою рассуждения».
Но наука рассуждения имеет больше всего значения для всякого рода вопросов, которые должны быть исследованы в священном писании. Однако при этом должно избегать страсти к опорам и некоего детского стремления обмануть противника. Существует ведь многое, что называется софизмами, ложными заключениями доказательств, более всего похожими на истинные, так что они обманывают не только тугодумов, но даже разумных, недостаточно внимательных людей. Этот род софистических заключений, насколько я могу судить, осуждается писанием в том месте, где говорится: «Иной ухищряется в речах, а бывает ненавистен».
Христианин: Ни один разумный среди нас не запрещает исследовать и обсуждать нашу веру при помощи разумных доказательств, и никто разумным образом не успокаивается на сомнительном, если; только не будет предпослано на основе разума то, на чем должно успокоиться. Ведь когда он придает веру сомнительной вещи, конечно, она сама делается тем, что вы называете доказательством. Во всякой, конечно, науке как относительно написанного, так и относительно суждения и в любом столкновении рассуждений противоречие возникает само по себе, и возникшая в опоре истина разумного доказательства сильнее, чем приведенный авторитет. Ведь для отвержения веры не важно, что есть истинного в вещи, но важно то, что может появиться в результате мнения. На основании же слов самого авторитета очень часто возникают вопросы, и приходится скорее судить о них, а не опираться на авторитет. После же разумного доказательства, даже если оно и не будет таковым и явится только мнимым, не останется никаких вопросов, потому что не останется никакого сомнения.
С тобой же тем меньше должно действовать на основании авторитета, чем больше ты опираешься на разум и чем меньше ты признаешь авторитет писания. Каждый, конечно, может быть опровергнут только на основании того, что он допускает, и быть побежден только на основании того, что он признает. И спорить нам друг с другом должно иначе, чем с тобой. Мы знаем, что утверждения Григория или прочих наших ученых, а также то, что утверждал сам Христос или Моисей, к тебе еще не относятся настолько, чтобы сами их высказывания привели тебя к вере. Среди нас, которые приемлют это, данные высказывания имеют силу; в некоторых же случаях веру должно защищать и утверждать больше всего при помощи разумных доводов, и я хорошо помню об этом в противоположность тем, которые отрицают возможность исследования веры при помощи разумных доказательств. Об этом вторая книга «Христианской теологии»[231] рассуждает полнее и полностью побеждает противников как на основании доказательств от разума, так и на основании авторитета писателей.
Теперь же вернемся к нашему вопросу...
VI
«Пролог» к «Да и Нет»[232]
Хотя при столь великом множестве слов нечто, высказанное даже святыми, кажется не только отличным друг от друга, но и противоположным друг другу, нельзя необдуманно судить о тех, коими должен быть судим сам мир согласно тому, как написано: «Святые будут судить народы», и опять: «Воссядете и вы, судящие». Да не дерзнем мы обвинять как лжецов или презирать как заблуждающихся тех, о которых сказано господом: «Кто слушает вас, слушает меня; кто вас презирает, меня презирает». Итак, имея в виду свою собственную слабость, признаем, что скорее нам не хватает благодати при разумении, нежели то, что ее не хватало при написании у тех, кому самой истиной было сказано: «Ведь не вы говорите, но дух отца вашего говорит в вас».
Итак, что удивительного в том, если при отсутствии в нас того самого духа, при посредстве коего это было записано и высказано, а также внушено писавшим, нам не хватает их понимания, достигнуть которого нам всего более препятствует необычайный способ речения и разнообразное значение одних и тех же слов, поскольку одно и то же слово является высказанным то в одном, то в другом значении? Ведь как в своих мыслях, так и в словах каждый из них был весьма плодовит. И так как, согласно Туллию[233], тождество во всем является матерью пресыщения, то есть рождает отвращение, то надлежит изменять сами слова по отношению к одному и тому же предмету и не обнажать все посредством общеупотребительных и обычных слов, ибо, как говорит блаженный Августин, все прикрывается, чтобы не обесцениться, и тем более бывает приятно то, что с большим старанием исследуется и что трудней постигается.
Часто также надо изменять слова по причине различия тех, с кем мы говорим, потому что нередко бывает так, что собственное значение слов или неизвестно некоторым или ими мало употребляется. А, конечно, если мы желаем говорить с ними, как и должно для их назидания, то следует больше стараться об их пользе, чем о собственном значении слова, как и учит главный грамматик и наставник в речениях – Присциан[234]. Обращая на это внимание, также блаженный Августин, рачительнейший учитель церкви, наставляя учителя в четвертой книге «О христианском учении», увещевает его обходить молчанием все, что мешает пониманию тем, коим он говорит, и пренебрегать как украшениями, так и собственными значениями слов, если без них ему легче достигнуть понимания «в заботе, – как говорит Августин, – не о том, со сколь великим красноречием он учит, а о том – со сколь великой убедительностью. Усердное стремление пренебрегает иногда более изысканными славами. Почему, – говорит некто, высказываясь о такого рода речи, – ей и присуща некая сознательная небрежность». И далее: «Хорошие учители при обучении должны главным образом заботиться о том, чтобы слово, которое на латинском языке может казаться лишь темным и сомнительным, при произнесении общеупотребительным образом, с целью устранить его сомнительность и неясность, произносилось бы не так, как это делают ученые, но скорее так, как оно произносится неучеными. Ведь если толкователям нашим не претило говорить о кровях так, как они понимали это по существу, применяя в этом случае множественное число, тогда как в латинском языке это слово употребляется в единственном, то почему бы претило учителю благочестия, говорящему с несведущими, произносить скорее ossum, чем os, но так, чтобы они понимали это слово как происходящее от слова ога, а не от слова ossa[235]? Ибо что полезного в чистоте речи, которая не приводит к пониманию слушателя, поскольку совершенно нет надобности высказывать то, что остается непонятным для тех, ради которых мы говорим? Итак, тот, кто учит, будет избегать всех слов, которые не поучают». Так же далее: «Признаком таланта является любить в словах их истину, а не сами слова. Ибо что полезного в золотом ключе, если он не может открыть того, что мы хотим? Или что вредного в деревянном ключе, если он может сделать это, когда мы добиваемся только того, чтобы открыть запертое?»
Кто не знает также о том, сколь безрассудным является судить о мыслях и понимании одного по мыслям и пониманию другого? Ведь только богу открыты сердца и помышления, и он отклоняет нас также от этого самомнения, говоря: «Не судите, да не судимы будете». И апостол говорит: «Не судите прежде времени, пока не придет тот, который осветит сокрытое во мраке и обнаружит помыслы сердечные», как если бы он прямо сказал: «предоставьте суждение об этом тому, который один только все знает и различает сами помышления». Согласно этому и о скрытых тайнах его образно написано по поводу пасхального агнца[236]: «Если останется нечто, да будет сожжено», то есть если имеется что-либо из божественных тайн, чего мы не в состоянии постигнуть, то да предоставим мы это постигнуть духу, при посредстве которого это написано, нежели безрассудно определим это сами.
Также надлежит тщательно обращать внимание на то, чтобы в случае, если кое-что из высказанного святыми вызовет у нас возражение, как противоречивое или чуждое истине, мы не впадали бы в ошибку из-за ложно надписанного заглавия или порчи самого текста. Ибо многие апокрифические сочинения[237] с целью придать им авторитет озаглавлены именами святых; и кое-что даже в самом тексте божественных заветов является испорченным по вине переписчиков. Поэтому достовернейший автор и истиннейший толкователь – Иероним, когда он пишет Лете относительно обучения дочери, предупреждает нас, говоря: «Да избегает она всех апокрифов; и если когда-либо она пожелает прочитать их не ради догматических истин, но из уважения к написанному, то пусть она знает, что они не принадлежат перу тех, именами коих обозначаются, и что только великой мудрости присуще отыскивать злато в грязи». То же самое и о LXXII псалме, а именно, о его названии, которое таково – «Понимание Асафа», он [Иероним] говорит: «У Матфея написано – «так как господь говорил в притчах, и они не поняли”...» и т. д. «И, говорит он, – это было сделано для того, чтобы исполнилось написанное пророком Исайей: „Я раскрою уста мои в притчах”. В евангелиях так написано и поныне. Но это сказал не Исайя, а Асаф».
Итак, столь же откровенно признаем, что если у Матфея и Иоанна написано, что господь был распят в шесть часов, а у Марка[238] – в три, то это была ошибка переписчика – шесть часов было написано и у Марка, но многие думали, что вместо греческого знака эписима там стоит гамма[239]. Здесь была допущена ошибка переписчика подобная тому, когда написали вместо Асафа – Исайю. Ведь мы знаем, что церковь в своей массе составилась из несведущих язычников. И когда они читали в евангелии: «Да исполнится то, что написано у пророка Асафа», тот, который первым переписывал евангелие, стал говорить: «Кто такой пророк Асаф? Народу он не известен». И что же он сделал? Он совершил ошибку, желая исправить неверное.
Нечто подобное мы скажем и в отношении другого места у Матфея. Он говорит: «Он взял тридцать сребреников, цену оцененного, как написано у пророка Иеремии». Но мы нигде не можем найти этого у Иеремии, однако встречаем это у Захарии[240]. Вы видите, следовательно, что здесь была такая же ошибка, что и выше.
Итак, если и в евангелиях нечто было испорчено в результате невежества переписчиков, то что же удивительного, если это иногда имело место также и в сочинениях позднейших отцов, авторитет которых несравненно меньше? Следовательно, если кое-что в сочинениях святых случайно кажется несогласным с истиной, то будет благочестивым, соответствующим смирению, а также долгом любви, которая всему верит, на все надеется, все переносит и с трудом подозревает о пороках тех, которых любит, верить тому, что это место писания является неверно переведенным или испорченным, или признаться, что мы его не понимаем.
Я полагаю, что столь же много внимания должно обращать и на то, не является ли высказанное в сочинениях святых пересмотренным ими самими в другом месте и исправленным после познания истины, как это во многих случаях делал блаженный Августин; или — не высказали ли они своего суждения скорее в соответствии с чужим мнением, нежели со своим собственным, подобно Экклезиасту, приводящему во многих местах противоречащие суждения различных лиц и даже считающемуся путаником, согласно свидетельству блаженного Григория в четвертом из его «Диалогов»; или не ставили ли они этого при исследовании скорей в виде вопроса, нежели давали ему твердое определение, подобно тому, как утверждает вышеназванный достопочтенный ученый Августин. Он сделал это в своем «Буквальном истолковании бытия», упоминая об этом своем труде в первой книге своего «Отречения» следующим образом: «В этом произведении больше было поставлено вопросов, чем найдено ответов, и из того, что было найдено, меньшее было установлено твердо, остальное же высказано, как подлежащее дальнейшему исследованию».
По свидетельству блаженного Иеронима, мы знаем также, что обычным для католических ученых было включать в свои комментарии среди своих собственных суждений также некоторые наихудшие мнения еретиков, когда, стремясь к совершенству, они наслаждались тем, что не обошли молчанием никого из древних писателей. Поэтому, отвечая блаженному Августину, когда тот упрекал его за изложение одного места из послания Павла к галатам[241], он [Иероним] говорит: «Ты спрашиваешь, почему в комментариях на послание Павла к га-латам я сказал, что Павел не мог упрекать Петра[242] за то, что он сделал сам? И утверждаешь, что апостольское притворство было истинным, а не предумышленным, и что я не должен учить лжи. Я отвечаю, что мудрость твоя должна была бы вспомнить о небольшом предисловии к моему комментарию, ибо, чувствуя свою немощность, я следовал в комментарии за Оригеном[243]. Ведь этот муж о послании Павла к галатам написал томы; я опускаю моего ясновидца Дидима, Аполлинария Лаодикийского, недавно отлученного от церкви, и старого еретика Александра, которые также оставили некие комментарии относительно этого. Я прочитал все это и, накопив в своем уме очень много всего, пригласил писца и продиктовал ему и свое и чужое». И далее: «Надлежало твоей учености спросить – имеется ли у греков то, что мы написали, и, если те ничего не оказали об этом, осудить мое собственное мнение, в особенности же потому, что я добровольно признал в предисловии, что следовал в комментарии Оригену, и продиктовал свое и чужое так, чтобы предоставить суждению читателя, что должно быть одобрено и что осуждено». Мы не сомневаемся, что таким же образом и блаженный Иларий[244], и некоторые из святых вставили в суждения многое, заимствованное из сочинений самого Оригена или других заблуждавшихся, скорее предоставляя нам мнение других, нежели высказывая свое собственное; однако это стало известно вам впоследствии не столько от них самих, сколько от других. Поэтому вышеназванный ученый Иероним и говорит пресвитеру Вигилантию, оправдываясь в том, что иногда он утверждал или заимствовал нечто сказанное Оригеном: «Если это преступление, то пусть будет обвинен исповедник Иларий, который заимствовал перевод псалмов и гомилий[245] на Иова из его же [Оригена] книг». Вот почему когда мы находим там нечто, противоречащее истине или противоположное сочинениям других святых, то это должно быть вменено в вину скорее Оригену, чем Иларию, хотя бы сам Иларий не сознавал, какое значение имеет то обстоятельство, что он старается доказать необходимость понимать в первом псалме под «главою» не Христа, а вообще любого другого праведного человека. И сам Иероним утверждал, что при изложении некоторых псалмов он также следовал за Оригеном.
Согласно его [Иеронима] свидетельству, также не следует сомневаться и в том, что может быть сам Ориген высказывал иногда суждения, преисполненные многих заблуждений, приводя мнения других. Вот почему Иероним в письме к пресвитеру Авиту, собрав многочисленные ошибки, которые Ориген сделал в своей книге «О началах», говорит о самом Оригене так: «После столь нечестивого рассуждения, которым он ранил душу, все это, по нашему мнению, является не догматами, но только исследованиями и предположениями и совершенно не представляется неприкосновенным». И сам Иероним сказал выше: он часто диктовал свое или чужое таким образом, чтобы предоставить суждению читателя, что должно быть одобрено и что осуждено.
Также и блаженный Августин, пересматривая и исправляя многие из своих творений, заявляет, что он утверждал там многое скорее на основе мнения других, чем в силу собственного убеждения. Кое-что и в евангелии кажется высказанным скорее согласно людскому мнению, нежели согласно истине, как, например, когда мать самого господа называет Иосифа[246] отцом Христа, говоря так, согласно общераспространенному мнению и обычаю: «Я и отец твой, скорбя, отыскивали тебя». И смотря по тому, что именно мы воспринимаем зрением, мы называем небо то звездным, то нет; и солнце то жарким, то нежарким; луну то больше светящей, то менее, а то даже совсем не светящей, несмотря на то, что всегда пребывает неизменным то, что нам не всегда кажется постоянным. И апостол, во многом следуя словам упрекавших его, не боялся говорить о себе иначе, чем думал, как, например: «Мы глупцы ради Христа, вы же мудрые во Христе». Тот же апостол говорит, что Мелхиседек[247] не имел ни отца, ни матери, ни родословной, пи начала, ни конца дней; но ведь это сокрыто от нашего знания потому, что об этом не говорит писание, а не потому, что это так есть на самом деле.
Говорят также, что Самуил[248] являлся чародейке в видении не поистине, а в силу внешнего сходства, которое породило ложное мнение у взиравших на это. Ведь, как упоминает блаженный Августин, это видение было названо Самуилом потому, что представляло подобие Самуила, как если кто-либо говорит, что он видел во сне Рим, потому что умственно созерцал его подобие. В поэтических или философских сочинениях многое высказывается на основании мнения[249], так, как будто бы это существовало в действительности, хотя вполне очевидно, что это далеко от истины. К этому относится известное двустишие Овидия:
Также и Боэций[251], в четвертой главе «Топики»[252], называя акциденцию и субстанцию двумя основными видами вещей, скорее имел в виду мнение, нежели истину. А то, что философы высказывали многое скорее согласно мнению других, чем согласно своему собственному суждению, об этом открыто заявляет Туллий в книге «Об обязанностях»[253] в следующих словах: «Хотя справедливость без мудрости имела бы достаточно значения, мудрость без справедливости не в состоянии вызвать доверие. Ведь чем изворотливей и хитрей кто-либо, тем больше он вызывает зависти и подозрения, так как его не считают честным. Поэтому справедливость, соединенная с разумом, будет иметь сколько хочет сил для того, чтобы вызвать доверие. Справедливость без мудрости значит много, мудрость без справедливости не значит ничего. Пусть же никто не удивляется тому, что признанное всеми философами и неоднократно высказанное мною самим мнение: именно, что имеющий одну добродетель имеет и все, ныне я разграничиваю таким образом, будто кто-либо может быть справедливым, не будучи одновременно мудрым. Ведь одно дело, когда сама истина глубоко исследуется путем обсуждения, другое – когда речь приспосабливается к пониманию всех. Поэтому как все, так и мы называем обычно одних сильными, других добрыми, третьих мудрыми; ибо, высказываясь, мы должны говорить общеупотребительными и обычными словами»[254]. Наконец, существует практика обыденной речи, согласно восприятию телесных чувств и многое выражается в словах иначе, чем существует на самом деле. Ведь в то время, как во всем мире нет никакого пустого места, которое не было бы заполнено воздухом или каким-либо другим телом, мы говорим, однако, что небесный свод, в котором мы ничего не видим, бывает совершенно пустым. Кто судит о вещах, исходя из того, что он видит, тот называет небо то звездным, то нет; и солнце то жарким, то нежарким; и луну то больше светящей, то менее, а то даже совсем не светящей, хотя всегда пребывает неизменным в действительности то, что нам не всегда кажется постоянным. Итак, что удивительного, если также святые отцы нечто произносили или писали скорее на основе мнения, нежели истины?
Когда говорится различное об одном и том же, тщательно следует обсуждать также, имеется ли в виду строгость предписания, или же снисходительное послабление, или увещевание к совершенству, для того чтобы в соответствии с различием намерений мы отыскивали бы возможность уничтожить противоречие; если же это – предписание, то является ли оно общим или частным, то есть установленным для всех вообще или специально для некоторых. Должно различать также обстоятельства и поводы для предписаний, потому что часто то, что разрешается в одно время, в другое – оказывается запрещенным, и то, что чаще предписывается ради строгости, в отдельных случаях смягчается. Более всего это следует различать в церковных установлениях или канонах.
Если же мы сможем доказать, что одни и те же слова употребляются различными авторами в различных значениях, то мы легко отыщем решение многих противоречий.
С помощью всех вышеприведенных способов внимательный читатель найдет разрешение спорных вопросов в творениях святых. А если случайно противоречие будет до такой степени явным, что не сможет быть разрешено ни на каком разумном основании, то следует сопоставить авторитеты и предпочесть тот, свидетельства коего более сильны, а утверждения – более вески. На это указывают слова Исидора[255], обращенные к епископу Массиону: «Я решил привести этот пример в конце письма, для того чтобы, сколько бы раз ни встречались в постановлениях соборов противоречивые суждения, придерживаться больше суждения того, авторитет которого является более древним или более веским».
Известно ведь, что и сами пророки иногда были лишены благодати пророчества, но так как они верили, что имеют дух пророчества, кое-что из того, что говорили произносили своими устами ложно. И это было допущено для сохранения в них смирения, а именно, чтобы они правдивее познавали, каковыми они являются благодаря духу божьему, а каковыми – благодаря собственному, и что они обладают духам божьим (когда обладают), не могущим ни лгать, ни быть обманутым, в качестве дара. Господь же, когда вселяется в них, не сообщает все дары одному, подобно тому, как и іне озаряет полным светом ум того, коего он наполняет, но приоткрывает то одно, то другое и когда открывает одно, другое скрывает. Блаженный Григорий в первой своей гомилии на Иезекииля доказывает с помощью ясных примеров, что даже сам глава апостолов[256], который блистал столько раз чудесными дарами божественной «благодати, после того особого обещанного господом излитая святого духа, который открывает ученикам всю его истину, впал в заблуждение по поводу соблюдения обрезания и еще некоторых древних обрядов и, будучи веско, открыто и здраво исправлен своим соапостолом Павлом, не постыдился отступить от опасного и ложного утверждения.
Итак, когда известно, что даже сами пророки и апостолы не были совсем чужды ошибок, что же удивительного в том, если в столь многочисленных писаниях святых отцов иное, по вышеуказанной причине, кажется произнесенным или написанным ошибочно? И не следует обвинять святых, как бы уличенных во лжи, если, думая об чем-либо иначе, чем это есть на самом деле, они утверждали что-либо не по двоедушию, но по незнанию. Не следует приписывать злому умыслу или считать за грех все, что говорится для некоего назидания по причине любви, так как известно, что у господа все рассматривается в зависимости от намерения, согласно тому, как написано: «Если глаз твой будет прост, все тело твое будет светлым»; поэтому и блаженный Августин, рассуждая о церковной дисциплине, говорит: «Имей любовь и делай, что хочешь». Также и о послании Иоанна он говорит: «Не имеющий любви – не от господа. Имей все, что хочешь, но если только ты не будешь иметь любви, ничто тебе не поможет. Если ты даже не будешь иметь ничего иного, имей любовь, и ты исполнил закон». Далее: «Следовательно, раз навсегда тебе предписывается краткое правило: возлюби и делай, что хочешь». Точно так же в первой книге «О христианском учении» он говорит: «Всякий, которому кажется, что он постиг божественное писание или любую его часть, но который, несмотря на это постижение, не воздвиг в себе любви к богу и ближнему, тот ничего не понял. Всякий же, кто извлек для себя такое убеждение, которое является полезным для пробуждения любви, и однако не высказал того, что явно чувствовал при этом автор, которого он читал, тот ошибается не опасно и (вообще не лжет. Ведь лгущему присуще желание говорить ложное». Он же против лжи: «Ложь есть обманное толкование слова при желании обмануть». Также в «Энхиридионе»[257]: «Нельзя, конечно, считать лжецом того, кто произносит ложь, считая это истиной, потому что, поскольку это зависит от него самого, он не лжет, но ошибается. Поэтому следует обвинять не во лжи, но иной раз в необдуманности того, кто принимает за истину ложь, неосторожно придав ей веру. Скорее наоборот, лжет тот, кто высказал истину, сам считая ее за ложь, поскольку ведь это относится к его душе, ибо он говорит не то, что думает. Он высказывает не истину, хотя то, что он говорит, оказывается истиной; и никоим образом не является свободным от лжи тот, кто произносит устами истину, не сознавая ее, или, зная истину, сознательно лжет». Далее: «Всякий, кто лжет, говорит вопреки тому, что он мыслит в душе, из желания обмануть». Также по поводу евангелия, кн. I: «То, что сделал Иаков по наущению матери, так что показалось, что он обманул отца, если тщательно это рассмотреть, есть не ложь, но тайна». Ведь истинное высказывание никоим образом не может быть по справедливости названо ложью. А ложь в данном случае духовный учитель понимает только как грех, который существует скорее согласно намерению говорящего, чем согласно содержанию сказанного. Господь, испытующий сердца и недра, взвешивает, рассматривая не столько то, что делается, сколько то, с каким намерением это делается. От этого, конечно, свободен всякий, говорящий не двоедушно и без обмана то, что он думает, согласно чему и написано: «Кто поступает искренно, поступает по вере». В противном случае надлежало бы обвинить во лжи и апостола Павла, который, следуя более своему суждению, чем истине, говорит в послании к римлянам: «Итак, когда я исполню это и вручу им этот плод, я отправлюсь чрез вас в Испанию»[258]. Следовательно, одно дело – лгать, другое – заблуждаться в речах и отступать от истины в словах в силу заблуждения, а не злого умысла. А если бог допускает это, как мы сказали, даже по отношению к святым, то, конечно, он допускает это также и по отношению к тем, которые не наносят никакого ущерба вере; и это не бесполезно для тех, кои все делают ко благу.
Уделяя этому большое внимание, сами церковные учители, считавшие, что и в их сочинениях есть кое-что подлежащее исправлению, дали право своим последователям исправлять это или не следовать за ними, если им что-либо не удалось пересмотреть и исправить. Поэтому и вышеупомянутый учитель Августин говорит в книге «Отречений»: «Написано, что в многоглагольствовании не избежишь греха. Также апостол Иаков говорит: „Да будет всякий человек скор на слушание к медлен на слова”». И далее: «Ведь все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Я не приписываю себе этого совершенства даже ныне, когда являюсь стариком; насколько же менее в то время, когда я начал писать юношей?» Также в прологе книги III «О троице» Августин пишет: «Не пользуйся моими книгами как каноническими писаниями, но если в последних отыщешь то, чему не верил, твердо верь. В моих же книгах не запоминай крепко того, что раньше не считал за достоверное, если только не поймешь, что оно достоверно». Он же в обращении к Винценту Виктору пишет: «Не могу и не должен я отрицать, что как в самих моих нравах, так и в многочисленных моих сочинениях имеется многое, что может быть вменено мне в вину в силу справедливого и вполне осмотрительного суждения». Также в письме к Винценту Виктору он пишет: «Не стремись, брат, собирать превратные толкования против столь ясного божественного свидетельства в сочинениях епископов как наших, так и Илария, Киприана или Агриппина[259], потому что этот род писаний следует отличать по авторитету от (канонических книг. Ведь их читают не для того, чтобы из них извлечь свидетельства, против которых не позволено спорить, в том случае, если случайно где-нибудь в них говорится иначе, чем того требует истина». Он же [Августин] пишет к Фортунанциану: «Мы не должны принимать рассуждения любых, хотя бы католических[260] и достохвальных людей за канонические писания, так чтобы не иметь права, при сохранении всего уважения, которое надлежит иметь к этим людям, осуждать или отвергать что-нибудь в их сочинениях, если мы случайно найдем что-либо, что они понимают иначе, чем того требует истина. Я сам отношусь к сочинениям других так, как я хочу, чтобы мои читатели относились к моим». Он же против Фауста[261], кн. I, гл. II: «Да не будет того, чтобы мы говорили, что мы не ошибались сильно когда-либо и не изменяли своего мнения совершенствуясь. Ведь об этих книгах можно сказать, что в них не все согласуется друг с другом, так как они пишутся нами не ради предписания в силу авторитета, а ради совершенствования, в качестве упражнений». Далее: «Мы из тех, коим тот же апостол говорит: „Если же вы о чем иначе мыслите, то и это бог вам откроет”». Писания такою рода следует читать не с обязанностью верить им, но сохраняя свободу суждения.
Однако для того чтобы не исключать этого рода писаний и не лишать последующих авторов произведений, полезнейших по языку и стилю для обсуждения и рассмотрения трудных вопросов, от книг позднейших авторов отделены книги Ветхого и Нового завета[262], обладающие превосходством канонического авторитета. Если там что-либо поражает нас как абсурдное, нельзя говорить: «Автор этой книги не придерживался истины», – надо признать, что или рукопись ошибочна, или толкователь ошибся, или ты сам не понимаешь. В отношении же трудов позднейших авторов, чьи сочинения содержатся в бесчисленных книгах, если что-либо случайно кажется отступающим от истины, потому что она понимается не так, как там сказано, читатель или слушатель имеет свободу суждения, потому что он может или одобрить то, что ему понравилось, или отвергнуть то, что ему не нравится. Поэтому не следует упрекать того, кому не понравится или кто не захочет поверить всему, что там обсуждается или излагается, если только оно не подтверждается определенным обоснованием или известным каноническим авторитетом в такой степени, чтобы считалось доказанным, что это безусловно так и есть или могло бы быть таким.
Итак, канонические сочинения Ветхого и Нового завета Августин называет документами, по отношению к которым является еретическим утверждать, что в них что-нибудь отступает от истины. Об этих же писаниях он упоминает в четвертом письме к Иерониму в таких словах: «Также и в изложении послания Павла к галатам мы находим нечто, что нас сильно потрясает. Ведь если будет допущено и принято то, что и в священных писаниях имеется ложь, что же в них останется авторитетного? Какое, наконец, будет высказываться суждение об этих писаниях? Чьим авторитетом сможет быть уничтожена любящая раздоры бесчестная ложь?» Он же к тому же Иерониму об этих же писаниях: «Мне кажется самым опасным верить в то, что в священных книгах имеется что-либо ложное, то есть, что те люди, благодаря которым это писание дошло до нас и которыми оно было написано, в чем-либо в своих книгах лгали. Ибо если допустить хоть раз наличие какой-либо лжи в столь великом и высочайшем авторитете, то не сохранится никакой частицы этих книг, которая бы не считалась, в зависимости от взглядов каждого, или трудной для усвоения в нравах, или неприемлемой для веры, или же весьма гибельной для мнения и исполнения долга самого автора». Также блаженный Иероним, предпочитая некоторых из церковных учителей прочим, советовал нам их читать так, чтобы мы больше рассуждали о них, чем слепо следовали им. Из этого вытекает и тот совет Лете относительно воспитания дочери, где он говорит: «Пусть она всегда держит в руках сочинения Киприана; произведения Афанасия и книгу Илария пусть читает беспрепятственно. Пусть наслаждается рассуждениями и талантами тех, в книгах которых не колеблется благочестие веры. Остальных же пусть читает так, чтобы более рассуждать о них, чем следовать им». Он же [в комментарии] на псалом LXXXI, как бы совершенно лишая все эти книги авторитета, говорит: «Господь изъяснит в писании народов и их князей, „которые были в нем”. Он не сказал, „которые находятся в нем”, но – „которые были». И недостаточно сказать «народов», он говорит еще „князей”, и каких князей? „которые были*'. Видите, следовательно, как полно тайнами священное писание. Мы читаем слова апостола: „Вы ищете доказательства того, Христос ли говорит во мне?” Что говорит Павел, говорит и Христос („ведь кто вас принимает, меня принимает”) в писаний вождей, в писании народов, которое является писанием для всех народов. Видите, что он говорит: „которые были”, а не „которые суть”, для того чтобы было устранено, за исключением [трудов] апостолов, все иное, что говорилось когда-либо после и чтобы оно не имело впоследствии авторитета. Итак, если даже после апостолов кто-нибудь был святым и красноречивым, он не имел бы авторитета». Иероним к Вигилантию пишет: «Всякий, кто читает произведения многих авторов, должен быть как бы опытным менялою, так чтобы не принимать никакой монеты, если она является поддельной и не имеет ни изображения Кесаря[263], ни печати государственной. Тот же, кто предпочитает образ Христа ясному свету, пусть скрывает его в глубине сердца». Ведь должно иметь вес не предвзятое мнение учителя, но основание учения, подобно тому, как написано: «Все испробуйте, придерживайтесь же того, что есть доброе». Это, однако, сказано о комментаторах, а не о канонических писаниях, к которым надлежит относиться с полной верой. Он же говорит Паулину о святых учителях в следующих словах: «„Добрый человек из доброго сокровища сердца”; умалчиваю об остальных как умерших, так еще и живущих, относительно которых будут судить после нас в ту и в другую сторону».
После этих предварительных замечаний, как мы установили, угодно нам собрать различные высказывания святых отцов, поскольку они придут нам на память, вызывающие вопросы в силу противоречия, каковое, по-видимому, в них заключается. Это побудит молодых читателей к наибольшему труду в отыскании истины и сделает их более острыми в исследовании. Конечно, первым ключом мудрости является постоянное и частое вопрошание; к широкому пользованию этим ключом побуждает пытливых учеников (проницательнейший из всех философов Аристотель, говоря при истолковании выражения «ad aliquid» [к чему-либо]: «Может быть трудно высказываться с уверенностью о вещах такого рода, если их не рассматривать часто. Сомневаться же о каждой в отдельности будет небесполезно». Ибо, сомневаясь, мы приходим к исследованию; исследуя, достигаем истины. Согласно чему и сама истина говорит: «Ищите и отыщете, стучитесь и откроется вам».
Наставляя нас нравственно собственным примером, бог пожелал воссесть в двенадцатилетнем возрасте среди учителей и спрашивать[264], скорее являя нам образ учащегося в вопрошании, чем образ учащего в высказывании, хотя тем не менее он обладал полной и совершенной божественной мудростью.
Когда же приводится нечто высказанное в писании, то оно побуждает читателя и привлекает его к исследованию истины тем более, чем более восхваляется авторитет самого писания. Поэтому мы хотим предпослать этому сочинению нашему, которое мы составили из высказываний святых, собранных в одном томе, то постановление папы Геласия[265] о подлинных книгах, в силу которого пусть будет известно, что мы не привели здесь ничего апокрифического. Мы присоединили также те извлечения из «Отречений» блаженного Августина, из которых ясно, что здесь не приведено ничего из того, что он сам, пересмотрев, исправил.
VII
Письма современников и участников Сансского собора (1140 г.)[266]
Письмо аббата Гильома к Готфриду епископу Шартрскому и Бернару аббату Клервоскому относительно Петра Абеляра[267]
Достоуважаемым владыкам и отцам во Христе – Готфриду епископу Шартрскому и Бернару аббату Клервоскому – здоровья и добрых дней!
1. Видит бог, отцы и владыки, что вынужденный обращаться к вам, хотя и по делу серьезному и важному для всех, я, ничтожнейший из людей, испытываю смущение перед вами, ибо молчите и вы, и другие, коим надлежало бы высказаться. Ведь когда я вижу, что вера общего упования, которую Христос освятил для нас своей кровью, за которую апостолы и мученики наши боролись вплоть до смертного часа и которую святые учители путем тяжких трудов и великих стараний сохранили неповрежденной, защищенной и нерушимой до печальных дней нашего времени, когда я вижу, что эта вера подрывается столь серьезным и опасным образом, в то время как нет никого, кто оказал бы этому сопротивление и противодействие, я стражду и от скорбящей души и сокрушенного сердца принужден говорить о том, за что, если бы это было необходимо, я готов был бы и умереть.
Ведь не о малом идет речь, а о вере в святую троицу, о личности искупителя, о духе святом, о божественной благодати и о таинстве общего искупления. Ибо Петр Абеляр опять учит новому, пишет новое, и книги его переплывают моря и переступают чрез Альпы. Его новые суждения о вере и новые его учения распространяются по областям и королевствам и настолько невозбранно проповедуются и свободно защищаются, что, как передают, они пользуются авторитетам и в римской курии.
Говорю вам, молчание ваше – опасно как для вас, так и для церкви божьей. Мы почитаем за ничто уничтожение веры, ради которой мы отреклись от самих себя! Мы не страшимся того, что нападают на бога, лишь бы не нападать самим! Говорю вам, что, только еще рождаясь, это зло чревато многим, и если этого не предотвратить, оно превратится в змия, для которого едва ли можно будет найти заклинателя. Обратите внимание на то, почему я так говорю.
2. Занимаясь недавно чтением, я натолкнулся на некую книжицу этого человека, заглавие коей было: «Теология Петра Абеляра»[268]. Признаюсь, что заглавие возбудило мое любопытство и побудило меня к чтению. Вообще же имелись две книжицы, содержащие почти одно и то же, за исключением того, что кое-что в одной книге было дано более пространно, а в другой – менее[269]. Когда же я нашел там нечто такое, что сильно меня взволновало, я взял это на заметку и, пояснив также то, почему это меня взволновало, послал вместе с самими книжицами вам: судите сами, справедливо ли я пришел в волнение.
Я был тяжко смущен непривычными новшествами в выражениях о вере и новыми измышлениями неслыханных значений и, не имея никого, кому бы я маг излить это, я избрал вас из всех, к кому я мог бы обратиться и кого мог бы призвать на защиту дела божьего и всей латинской церкви. Ведь вас этот человек опасается и страшится. Кого же он будет бояться, когда вы закроете глаза? И тот, кто уже говорит то, что он говорит, чего не наскажет тогда, когда он не будет никого опасаться? Ведь после того как сошли в могилу почти все наставники церковного учения, внутренний враг, не изучающий, а критикующий, не подражающий, а направляющий, ворвался в опустошенное как бы царство церкви и присвоил в «ем только себе одному право учить и высказывать в области божественного писания то, что он привык высказывать в области диалектики, а именно свои собственные измышления и ежегодные новшества.
3. Главы же, извлеченные из сочинения его, которые я счел необходимым послать вам, суть таковы: 1. Вера определяется им как суждение о невидимых вещах. 2. Он говорит, что имена отца и сына и духа святого в боге – суть не имена собственные, а выражение полноты высшего блага. 3. Что отец есть полное могущество, сын некое могущество, дух же святой не является вовсе никаким могуществом. 4. О духе святом – что он не исходит от отца и сына подобно тому, как сын исходит от отца. 5. Что дух святой есть мировая душа. 6. Что мы можем и желать и действовать благим образом в силу свободной воли и без содействия благодати. 7. Что Христос воспринял плоть и пострадал не для того, чтобы освободить нас от власти дьявола. 8. Что Христос – бог и как человек не является третьим лицом в троице. 9. Что в таинстве евхаристии[270] образ первоначальной субстанции продолжает пребывать воображаемым. 10. Он говорит, что дьявольские соблазны возникают в людях благодаря физической природе. 11. Что мы наследуем от Адама не вину первородного греха, но наказание. 12. Что грех заключается только в помыслах грешащего и в презрении к богу. 13. Он говорит, что не совершается никакого греха по вожделению, стремлению к удовольствию и незнанию и что все подобного рода есть не грех, а естество.
4. Я решил, что эти несколько глав, собранные из презренного его сочинения воедино, должны быть переданы вам, прежде всего, как для того, чтобы возбудить вас, так и для того, чтобы оправдаться мне самому, дабы не казаться пришедшим в волнение напрасно. Поэтому я начну рассуждать об этом и о прочем, сюда относящемся, пространнее[271] при содействии того, в руце коего и мы пребываем, и слова наши; и мне неважно, что я, может быть, не угожу вам словесно, лишь бы только я был угоден по вере и вы бы пришли в волнение, если бы мне удалось внушить вам каким-либо образом, что мое волнение справедливо, и в деле, угрожающем главе, вы не устрашились бы отъять длань, стопу или даже око.
Любил и я его, и, – бог свидетель, – любить желаю, но в таком деле никто и никогда не будет мне ни близким, ни другом. Не тайным увещанием или обличением может быть подавлено это зло, ибо, будучи обнародовано, оно стало общеизвестным. Существуют к тому же, как я слышу, и другие его произведения, которые называются «Sic et Non», «Scito te ipsum»[272], и некоторые другие, и я опасаюсь, не столь ли ужасны они по своему содержанию, сколь ужасны они по наименованию. Однако, как говорят, они ненавидят свет, и, даже разыскивая, их нельзя отыскать. Но обратимся же к делу...
Ответное письмо Бернара Клервоского аббату Гильому
Возлюбленнейшему своему Гильому – брат Бернар.
Ваше волнение я признаю и справедливым я необходимым. А то, что оно не бездеятельно, показывает книжица[274], полностью преграждающая и смыкающая уста, глаголящие нечестивое. И хотя я не просмотрел этой книжицы, как вы советуете, достаточно внимательно, признаюсь, что уже из того, что я смог увидеть при беглом чтении, она мне понравилась, и я полагаю, она может превозмочь учение нечестивых. Но так как вы прекрасно знаете, что я не привык доверяться всецело собственному суждению, особенно в столь серьезных делах, я считаю, что стоит труда, при удобном случае, сойтись нам вдвоем и обо всем потолковать. Однако я не думаю, чтобы это могло произойти до пасхи, ибо это окажется помехой тому, чего требуют теперешние дни, т. е. усердному молению.
Кроме того, будьте терпеливы к моему терпению и молчанию относительно всего этого, потому что очень многое из этого, даже почти все, до сих пор мне было неведомо[275]. К тому же, к чему вы меня побуждаете, я готов, и вашими молитвами бог да дарует мне дух сильный! Будьте здоровы!
Письмо Бернара Клервоского епископам, созываемым на собор в Сансе
Епископам, созываемым в Сане[277] в целях борьбы с Петром Абелярам.
Мы думаем, что слух, который распространился среда многих, достиг и вас; отчего же это нас созывают в Сансе на следующую неделю после пятидесятницы[278] и вызывают на суд ради защиты веры, хотя и следовало бы, чтобы раб божий не участвовал в спорах, а был терпелив ко всем?
Если бы дело касалось меня лично, то, может быть, раб вашей святости и мог не совсем незаслуженно получить похвалы при вашем содействии. Ныне же, поскольку дело является также и вашим и даже более вашим, я смелее увещеваю и настойчивее прошу, чтобы в нужде вы показали себя друзьями. Друзьями, сказал я, не нашими, но Христа, невеста[279] коего вопиет к вам из дебрей ересей и всходов заблуждений, которые уже почти задушили ее, возросши под покровительством вашим и вашей охраною. Но друг жениха не оставит ее ни в напасти, ни в счастии.
Не удивляйтесь, что мы приглашаем вас так внезапно и в столь скором времени. Противная сторона в своей изворотливости и хитрости предвидела также и это, дабы напасть на беззаботных и вынудить к бою невооруженных.
Письмо Бернара Клервоского епископам и кардиналам[280] Римской курии[281]
Владыкам и отцам, достопочтенным епископам и кардиналам курии – слуга их святости.
1. Нет сомнения в том, что именно вам надлежит удалять соблазны из царства божьего, подрубать под корень растущие шипы и прекращать распри. Ибо так предписал Моисей[283], когда он подошел к горе, говоря: «Вот Аарон и Ор[284] с вами; у кого будет дело, тот пусть приходит к ним». Я же говорю о том Моисее, который явился чрез воду и не только в воде, но и в крови. А так как вместо Аарона и Ора над народом божьим пребывают власть и ревность римской церкви, то мы обращаемся к «ей с полным правом и не по поводу отдельных вопросов, а в связи с поношением веры, оскорблениями Христа, охаиванием отцов, пренебрежением к ним, соблазнами для современников и опасностями для потомков.
Осмеивается вера простых, раздирается сокровенное бога, безрассудно обсуждаются вопросы, касающиеся высочайшего, подвергаются поношению отцы за то, что они сочли должным об этих вопросах скорее молчать, нежели делать попытки их разрешить. Поэтому и происходит то, что пасхальный агнец, вопреки божественному установлению, или варится в воде, или раздирается сырым по звериному обычаю. То же, что остается, не сжигается в огне, но попирается ногами.
Таким образом человеческий разум захватывает себе все, не оставляя ничего для веры. Он пытается постичь то, что выше его, он исследует то, что сильнее его, он врывается в божественное и скорее оскверняет святыню, чем открывает ее, запертое и запечатленное не раскрывает, но раздирает, и все, что он находит для себя непостижимым, считает за ничто, не удостаивая веры.
2. Прочтите, если угодно, книгу Петра Абеляра, которую он называет «Теологией» (ведь она находится у вас под руками, ибо, как он похваляется, в курии ее читают многие) и посмотрите, что говорится там о святой троице, о рождении сына, об исхождении духа святого и прочее без числа, совершенно непривычное как ушам, так и умам католиков. Прочтите и другую, которую называют книгой его «Сентенций»[285], а также и ту, которая называется «Познай самого себя», и обратите внимание на то, сколь густо произрастают там посевы святотатственных заблуждений. Обратите внимание на то, как он мыслит относительно души Христа, лица Христа, нисхождения Христа в преисподнюю, таинства алтаря, власти вязать и разрешать, первородного греха, вожделения, греха наслаждения, греха бессилия, греха невежества, греховного деяния и воли к греху.
И если вы найдете, что я возмущаюсь справедливо, возмутитесь и вы; и возмущайтесь не попусту, но действуйте сообразно тому положению, которое вы занимаете, сообразно достоинству, вас украшающему, сообразно той власти, которую вы получили. И каким образом тот поднялся на небеса, таким образом пусть низвергнется он в преисподнюю. И деяния мрака, осмелившиеся выступить на свет, да будут уличены при свете светом, так чтобы тот, кто грешил при всех, при всех бы и был изобличен. Да обуздают себя и другие полагающие мрак светом и болтающие на перекрестках дорог о божественном, и те, которые дурное высказывают в сердцах своих и пишут в своих книгах. Итак, да преградятся уста глаголящих нечестивое!
Письмо Бернара Клервоского папе
Владыке, папе Иннокентию[287].
Возлюбленнейшему отцу и владыке Иннокентию, по милости божьей высочайшему первосвященнику, брат Бернар, именуемый Клервоским аббатом, – смиренно нижеследующее.
1. Неизбежно, чтобы возникали соблазны, неизбежно, но неприятно. И потому говорит пророк: «Кто даровал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и нашел покой». И апостол жаждет умереть и найти успокоение с Христом. И другой святой говорит: «Довольно уже, господи! Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И у меня ныне есть нечто общее со святыми, не в смысле заслуги, а в смысле желания. Ибо и сам, побежденный малодушием и бедами времени, я признаюсь, желал бы умереть, только опасаюсь, окажусь \и я в такой же мере подготовленным, в какой оказываюсь желающим. Жизнь мне внушает отвращение, но лучше ли будет мне умереть, я не знаю. И тем также я может быть отличаюсь в желании от святых, что они побуждались стремлением к лучшему, меня же толкает на то, чтоб уйти, желание избежать соблазнов и огорчений. Ведь еще говорит апостол: «Имею желание разрешиться и быть со Христом несравненно лучше». Итак, у святого сильно желание, а у меня – чувство. Но в этой несчастнейшей жизни ни он не был в состоянии иметь то благо, к которому стремился, ни я не могу избавиться от того, что меня тяготит. И поэтому, конечно, оба мы жаждем уйти с равным желанием, но не с одинаковыми побуждениями.
2. По неразумию я давно уже рассчитывал на покой для себя, когда будет усмирено львиное бешенство[288] и в церкви восстановится мир. И вот нашла успокоение – она, не я. А я и не знал, что обретаюсь в долине слез, или забыл, что нахожусь в земле забвения. Я не замечал того, что земля, на которой я обитаю, растит для меня лишь шипы и тернии, и что, после того как подрезаны одни, вырастают другие и что опять на месте тех появляются новые – безостановочно и бесконечно. Я слышал об этом, но, как я испытал ныне, наилучшее представление о слышанном дается самими муками. Вновь возобновляется скорбь, не подавленная окончательно; вновь нахлынули слезы, потому что вновь усилилось зло. И на испытавших иней обрушился снег. Пред лицом мороза этого – кто устоит! В результате хлада этого вновь остыла любовь, так что силу возымела несправедливость.
Мы избегли льва, но наткнулись на дракона[289], который, может быть, не менее вредит в засаде, чем тот, рыча с высоты. Хотя уже не в засаде. О, если бы его насыщенные ядом рукописи продолжали находиться под спудом и не читались на перекрестках дорог. С быстротою распространяются книги, и те, которые ненавидят свет, потому что являются злыми, нападают на свет, полагая мрак светом. В города и замки вносится мрак вместо света. Всем повсюду предлагается яд вместо меда, или, вернее, в меду. Они переходят от племени к племени и от одного государства к другому народу. Новое куется евангелие для племен и народов, новая предлагается вера, закладывается иной фундамент, чем положенный ранее. О добродетелях и пороках рассуждают безнравственно, о таинствах церкви не соответствующим вере образом, о тайне святой троицы не просто и не здраво. Но все преподносится нам искаженно, все необычайно и вопреки тому, как мы это восприняли.
3. Выступает Голиаф[290], огромный телом, защищенный со всех сторон своими прославленными воинскими доспехами, и предшествует ему также его оруженосец Арнольд Брешианский[291]. Чешуя с чешуей соединяется, и нет между ними доступа воздуху. И вот нажужжала пчела французская итальянской пчеле, и они соединились против господа и против Христа его. Натянули лук, приготовили в колчанах своих стрелы, для того чтобы поразить из засады праведных сердцем. Являя по жизни и облику вид благочестия, но от добродетели его отрекшиеся, они тем обманывают многих, что преображаются в ангелов света, хотя суть ангелы сатаны. Итак, стоя вместе со своим оруженосцем между обоими полчищами, Голиаф вопиет против фаланг Израиля[292] и порицает отряды святых тем более смело, что знает об отсутствии Давида. И, наконец, в поношение учителей церкви превозносит величайшими похвалами философов. Выдумки их и собственные новшества предпочитает вере и учению католических отцов. И когда пред лицом его все бежали, меня, наиничтожнейшего из всех, он вызвал на поединок.
4. И в конце концов написал мне, конечно, по его наущению, архиепископ Санса[293] и установил день заседания, где Абеляр, в присутствии его и соепископов, смог бы, если сумеет, изложить свои превратные учения, возражать против которых должен был бы я. Я отказался[294] как потому, что я еще молод, а он является мужем-борцом со дней своей юности, так и потому, что я считал недостойным предоставлять ничтожным умам людишек обсуждение основ веры, которая, как известно, опирается на твердо установленную истину. Я говорил, что для осуждения его достаточно его сочинений и что должны звучать не мои слова, но мнения епископов, которым надлежит по их долгу судить о догматах. Тем не менее, он заговорил еще громче, созвал многих, собрал единомышленников. Я не хочу говорить о том, что он писал обо мне своим ученикам. А то, что он будет мне возражать в установленный день в Сансе, он сам распространил повсюду. Слух об этом дошел до всех и не остался скрытым от меня. Но вначале я скрывал это, ибо общие разговоры трогали меня мало. Однако, хотя и с трудом, со слезами уступая совету друзей, видевших, каким образом все готовились как бы к зрелищу и опасавшихся того, чтобы из-за нашего отсутствия не возрос бы соблазн для народа и не выросли бы рога у противника, потому что заблуждения укореняются больше, когда нет того, кто бы ответил на них или высказал возражения, я прибыл в указанный день «а место, само собой разумеется, неподготовленный и невооруженный, повторяя мысленно изречение: «Не заботьтесь о том, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать», и другое: «Господь, за меня! Не устрашусь: что сделает мне человек?».
Собрались же, кроме епископов и аббатов, многие благочестивые мужи и школьные магистры из городов, а также многие образованные клирики, присутствовал и король[295]. Итак, перед лицом всех, когда противники находились друг перед другом, были принесены некоторые главы, извлеченные из книг Абеляра. Но когда их начали читать, он, не пожелав слушать, вышел и обратился с жалобой к папе на избранных им же судей, что, как мы думаем, является недозволенным. Затем эти главы, подвергнутые общему суду, были найдены и противными вере, и противоречащими истине. Вот все, касающееся меня лично, дабы не думали, что в таком деле я действовал легкомысленно или же с нарочитою опрометчивостью.
5. Но ты, о преемник Петра, рассудишь, должен ли обрести прибежище у престола Петра тот, кто нападает на веру Петра? Ты, говорю я, друг жениха[296], позаботишься о том, каким образом освободить невесту[297] от нечестивых уст и от коварных речей. А говоря еще смелей, о мой владыка, обрати также внимание на себя самого, возлюбленнейший отец, и на божественную благодать, в тебе пребывающую. Хотя ты и мал в своих собственных глазах, но разве бог не поставил тебя над племенами и царствами? И именно для того, чтобы ты разрушал и полол, созидал и насаждал? Прошу, обрати внимание на то, сколь многое сделал душе твоей тот[298] и тогда и после, кто отнял тебя из дома отца твоего и помазал тебя в милосердии своем миром[299]. Сколь многое сделал он чрез тебя для церкви своей; сколь многое, в чем свидетелями являются небеса и земли, властию твоею и ради оздоровления нивы господней и выполото и разрушено; и сколь многое вновь превосходно создано, взращено и распространено. Возбудил бог бешенство схизматиков[300] в твое время для того, чтобы твоими трудами они были сокрушены. Узрел я глупца, прочно укрепившегося, но тотчас же была провозглашена анафема[301] красоте его. Узрел, говорю я, нечестивца, высоко вознесшегося наподобие кедров ливанских. И прошел мимо, и вот не было его. «Надлежит же, – говорит апостол, – быть ересям и расколам для того, чтобы стали явными достойные похвалы». И, конечно, как сказано, господь уже искусил и познал тебя в схизме. Но дабы ничто не отсутствовало в венце твоем, ереси появились снова. Итак, для увенчания добродетелей и чтобы не оказалось, что вы сделали меньше, чем великие епископы, ваши предшественники, изымите от нас, о возлюбленнейший отец, лисят, опустошающих виноградник господен: изымите, пока они еще маленькие, для того, чтобы, если они возрастут и размножатся, потомки не упрекнули бы вас в том, что вы их не уничтожили. Да они уже и не малы и не малочисленны, но, конечно, их много, и они уже выросли, и они могут быть уничтожены только сильной рукой или вами. Гиацинт[302] явил нам много дурного, хотя и не сделал того, что хотел или мог. Но, по-видимому, я должен терпеливо переносить того, кто не пощадил ни лица вашего, ни курии в этой курии[303]. Об этом вам лучше расскажет мой, а еще более ваш Николай[304] – устно.
Письмо Бернара Клервоского папе от лица архиепископа Реймсского и других
Достопочтенному владыке и дражайшему отцу, божьей милостью высочайшему первосвященнику Иннокентию – Самсон, архиепископ Реймсский[306], Иосцелин, епископ Суассонский[307], Готфрид, епископ Шалонский и Альвизий, епископ Аррасский[308] – выражают добровольное послушание и должное повиновение.
1. Так как ваше внимание занято многим, то мы обращаемся к вам с кратким словом относительно пространного дела, тем более, что полнее и подробнее оно изложено в посланиях владыки Сансского[309].
Петр Абеляр, пытаясь уничтожить заслугу христианской веры, полагает возможным при помощи человеческого разума постигнуть все то, что есть бог. Восходя до небес, он спускается и до преисподней. И ничто не остается от него скрытым, ни в адских глубинах, «и во всевышних. И самому себе он представляется великим, рассуждая о вере противно вере и свободно бродя среди того, что выше его, среди чудесного и великого, которое он исследует, измышляя ереси. Он давно уже написал книгу о своей троице, но эта книга была предана огню в присутствии легата римской церкви, ибо была сочтена нечестивой. Да будет проклят тот, кто восстановил руины Иерихона[310]! Воскресла эта книга из мертвых, и вместе с нею воскресли многие пребывающие в дреме ереси и стали явны для многих. И уже до моря простер он длань свою и до Рима персты ее. И бахвалится этот - человек тем, что книга его находится в римской курии и что именно там может он преклонить главу свою. Укрепляется и утверждается этим его неистовство.
2. Вот почему, когда аббат Клервоский, вооруженный ревностью к вере и справедливости, уличил его перед лицом епископов относительно этого, он ничего не признал и не отвергнул, «о, упорствуя в своей нечестивости, от суда, добровольно им избранного и не нанесшего ему ни оскорбления, ни обид, обратился с жалобой к апостольскому престолу[311].
Епископы же, собравшиеся ради этого воедино, полагаясь на суд досточтим ости вашей, относительно его личности ничего не решили и только главы книги его, осужденные святыми отцами, обрекли как бы в силу врачебной необходимости на уничтожение, для того чтобы болезнь не размножалась. Ибо ведь человек этот увлекает вслед за собой очень многих, и существует народ, ему верящий. Необходимо смешным лекарством предотвратить эту заразу –
Мы дошли в этом деле до такого предела, до какого осмелились; твое дело, наиблаженнейший отец, позаботиться об остальном, дабы никакой порок превратной ереси не запятнал в твой век красоту церкви. Тебе, друг жениха, вручена невеста христова, тебе же надлежит передать непорочную деву единственному мужу – Христу.
Письмо Бернара Клервоского магистру Гвидо де Кастелло
Достопочтенному владыке к возлюбленнейшему отцу, магистру Гвидо, божьей милостию кардиналу пресвитеру святой римской церкви, Бернар, именуемый аббатом Клервоским, желает не склоняться ни одесную, ни ошую.
Я был бы несправедлив к вам, если бы считал вас способным любить кого-либо настолько, чтобы любить вместе с ним в равной степени и его заблуждения. Ибо ведь, если кто-нибудь любит кого-нибудь именно так, он не понимает еще, как ему должно его любить. Ведь такая любовь есть земная, животная, дьявольская и вредящая одинаково как любимому, так и любящему. Пусть другие судят о прочих, как им угодно. Я же до сих пор могу думать о вас только то, что является близким к разуму и относится к стезе справедливости. Пусть некие прежде судят, а после исследуют. Я же не буду судить о напитке, сладок ли он или горек, прежде, нежели не испробую его.
Магистр Петр вводит в книги свои нечестивые новшества слов и понятий: рассуждая о вере противно вере, он (нападает на закон при помощи слов закона. Он ничто не рассматривает как бы в зерцале и как загадочное; но взирает на все лицом к лицу и свободно разгуливает среди того, что выше его, среди чудесного и великого. Для него было бы лучше, если бы, согласно заглавию его книги, он познал себя самого[314], не преступал бы меры своей и стремился к умеренности. Не я обвиняю его пред папой. Имеется книга его, его обвиняющая, которой он принес себе мало пользы. Ведь, когда говорит он о троице, от него пахнет Арием[315]; подобно Пелагию[316] помышляет он о благодати; когда же он рассуждает о личности Христа, он думает, как Несторий[317].
Я слишком мало верил бы в вашу справедливость, если бы дольше просил вас о том, чтобы в деле, касающемся Христа, вы никого не предпочли бы Христу. Знайте же, что и для вас, коим власть дана господом, и для церкви христовой, а также и для этого человека полезно, чтобы тот, чьи уста преисполнены злоречивости, горечи и коварства, был обречен на молчание.
Письмо Бернара Клервоского кардиналу пресвитеру Иву
Возлюбленнейшему своему Иву, божьей милостью кардиналу-пресвитеру святой римской церкви, Бернар, именуемый аббатом Клервоским, желает любить справедливость и ненавидеть несправедливость.
Магистр Петр Абеляр, монах, не подчиненный уставу, прелат, не имеющий забот, не соблюдает правил и не сдерживается ими. Человек, полностью двуличный и непохожий сам на себя, внутри Ирод, снаружи Иоанн[319], он не имеет в себе ничего монашеского, кроме имени и одеяния.
Но что мне до этого? Всякий несет свое бремя. Однако имеется нечто иное, чего скрыть я не в состоянии и что касается всех тех, кто любит имя Христа. Он высказывается нечестиво по отношению к небесам; он подрывает нерушимость веры и чистоту церкви; он преступает пределы, которые положили наши отцы, когда пишет и рассуждает о вере, о таинствах и о святой троице; прибавляя и отнимая, он изменяет отдельное по собственному желанию. В своих книгах он проявляет себя творцом лжи и создателем превратных догматов и высказывает себя еретиком не столько в заблуждениях, сколько в упорной защите ошибок[320]. Он является человеком, преступающим меру свою и уничтожающим силу христова креста в мудрости слова. Он знает все, что имеется на небесах и «а земле, кроме себя самого.
Вместе с книгой своей он был осужден в Суассоне в присутствии легата римской церкви. Но, по-видимому, ему недостаточно этого осуждения, ибо он действует вновь для того, чтобы быть осужденным вторично. И уже нам известно, что теперешние заблуждения его еще хуже, чем прежние. Однако он чувствует себя в безопасности, ибо, как он похваляется, он имеет учеников среди кардиналов и клириков курии, и он берет в защитники своих прежних и нынешних заблуждений тех, суда и осуждения которых ему следовало бы страшиться.
Если в ком-либо есть дух божественный, то пусть (вспомнит он стих псалмопевца: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, господи, и не возгнушаться восстающими на тебя?» Да освободит бог церковь свою от уст нечестивых и языка вероломного через вас и через прочих сынов своих!
Письмо Бернара Клервоского папе
Возлюбленнейшему отцу и владыке Иннокентию Бернар, именуемый аббатом Клервоским, смиренно о том, что есть.
Горько плачет в ночи невеста Христа, слезы на ланитах ее. И нет никого из всех ее любящих, кто бы принес ей утешение. Поскольку медлит жених, тебе, о владыка, доверена сунамитянка[322] в месте пребывания своего на чужбине. Никому более доверчиво, чем другу жениха, не расскажет она о несправедливостях, никому доверительнее не изольет, стеная, свои треволнения. Ты не пренебрежешь невестой, вопиющей к тебе в «напастях и горестях, ибо ты любишь жениха.
Среди же различных врагов, окружающих церковь божью, подобную лилии среди терниев, нет более опасных и более вредных, чем те, которые взлелеяны грудью ее и пребывают в лоне ее, терзая ее изнутри. Из-за них и по поводу них прозвучал глас скорбящего и стенающего: «Друзья мои и близкие мои воздвигнулись на меня и восстали». Ведь нет чумы более вредоносной и гибельной, чем внутренний враг. Об этом нам говорит дружба Авессалома, и поцелуй Иуды[323].
Закладывается иной фундамент, чем положенный ранее. Новая куется вера во Франции. О добродетелях и пороках рассуждают безнравственно, о таинствах – не соответствующим вере образом, о тайне святой троицы – не просто и не здраво и вопреки тому, как мы это восприняли. Против господа и против Христа его сошлись и объединились магистр Петр и Арнольд, от чумы коего ты очистил Италию[324]. Чешуя с чешуей соединяются, и нет между ними доступа воздуху. Испорченные вконец, они сделались отвратительными по своим занятиям и бродилом своей испорченности подрывают простоту веры, вносят беспорядок в нравственные устои и пятнают церковную непорочность. По образу и подобию того, кто преобразился в ангела света, они, имея вид благочестия, но от добродетели его отрекшиеся, разукрасили себя, подобно храму, лишь затем, чтобы исподтишка метать стрелы в праведных сердцем.
Мы избегли рыкания Петра Льва, захватившего престол Петра Симона[325], но мы наткнулись я а Петра Дракона[326], нападающего на веру Петра Симона. Тот преследовал церковь божью явно, подобно льву, ищущему добычи; этот же, как дракон, расположился в засаде для того, чтобы умертвить невинную. Но ты, господи боже, ты заставишь взоры возгордившихся склониться долу, ты растопчешь Льва и Дракона. Вредил первый, пока был жив, и конец его злобы был также концом его жизни. Этот же, запечатлевая в письменах новые догматы, уже обдумывает, каким образом он изольет свой яд на потомков и каким образом причинит вред всем тем поколениям, кои будут. И, наконец, – скажу в немногих словах о многом, – наш теолог устанавливает ступени и степени в троице вместе с Арием; вместе с Пелагием предпочитает свободную волю благодати; вместе с Несторием, разделяя Христа, исключает воспринятую тем человеческую сущность из соучастия в троице. Но при всем этом бахвалится, что он открыл источники знания кардиналам и клирикам курии, что он вложил в руки римлян свои книги и заронил в умы римлян свои мысли. И он берет в защитники своих заблуждений тех, коими должен быть судим и осужден.
С какими мыслями, с какою совестью, гонитель веры, ты прибегаешь к защитнику веры? Какими глазами, с каким челом, осквернитель невесты, ты будешь взирать на друга жениха? О, если бы меня не удерживала забота о братии! О, если бы мне не препятствовали телесные немощи! Сколь желал бы я видеть друга жениха ревностно заботящимся о невесте в отсутствие жениха!
Не имея сил молчать об оскорблениях владыки моего, могу ли я перенести поношения, которые претерпевает церковь? Ты же, возлюбленнейший отец, не медли прийти ей на помощь: подумай о защите ее, препояшься мечом твоим. Ибо от изобилия несправедливости уже охладевает любовь многих, и невеста Христа, если ты не приложишь руки своей, вот-вот выйдет и удалится по следам стад и будет пасти их возле шатров пастушеских.
Письмо Бернара Клервоского Стефану – кардиналу и епископу Пренестинскому
Достопочтенному владыке и возлюбленнейшему отцу, божьей милостью Пренестинскому епископу брат Бернар, аббат Клервоский, желает храбро действовать и укрепляться во господе.
Я возвещаю вам о стесненных обстоятельствах и стенаниях христовой невесты с тем большим доверием, что знаю вас как друга жениха и знаю, что вы преисполнитесь радости при его зове. Ведь я имею доверие к вам во господе, если только я хорошо познал вашу внутреннюю суть, потому что вы ищете не того, что ваше, а того, что – Иисуса Христа.
Петра Абеляра, гонителя католической веры, врага страданий Христа, изобличает и его жизнь, и его обхождение, и книги, уже вышедшие из мрака на свет. По внешности монах, в душе еретик, он не имеет ничего монашеского, кроме имени и одеяния. Он раскрывает старые водоемы и давно известные топи еретиков, для того чтобы упали туда осел и бык. Он молчал уже долгое время; но пока он безмолвствовал в Бретани[328], он почувствовал родовые схватки, а ныне во Франции породил зло. Выползла, извиваясь, из логова своего змея и, наподобие гидры, породила семь новых голов, после того как ранее была отсечена одна. Была отсечена, была уничтожена одна его ересь в Суассоне[329], но взамен ее появилось семь и более ересей. образчик которых, имеющийся у нас, мы вам посылаем. Неопытных и молодых, только лишь отнятых от сосцов диалектики слушателей и тех, которые, так сказать, едва могут постигнуть самые начала веры, он вводит в тайну святой троицы, в святое святых, подводит к царскому ложу и к тому, который полагает мрак своим пристанищем. И, наконец, наш теолог устанавливает ступени и степени в троице вместе с Арием, вместе с Пелагием предпочитает свободную волю – благодати; вместе с Несторием, разделяя Христа, исключает воспринятую тем человеческую сущность из соучастия в троице.
Так, пробегая почти по всем таинствам, он дерзко касается всего от начала и до конца и толкует все достойным осуждения образом. К тому же бахвалится тем, что он заразил римскую курию ядом своих новшеств, что он вложил в руки римлян свои книги и заронил в умы римлян свои мысли. И он берет в защитники своих заблуждений тех, коими должен быть судим и осужден.
Да позаботится бог о церкви своей, за каковую он умер, дабы сохранить ее для себя не имеющей ни пятен, ни морщин; да будет принужден к вечному молчанию человек, уста коего полны злоречия, горечи и лукавства.
Письмо Бернара Клервоского кардиналу Г...
Достопочтенному владыке и возлюбленнейшему отцу, кардиналу святой римской церкви Г... Бернар, аббат Клервоский, желает сильного и мудрого духа.
Я не могу молчать об оскорблениях Христа, стесненных обстоятельствах и горестях церкви, о нищете неимущих и о стенаниях бедняков. Мы вступили в опасные времена. У нас есть магистры, прожужжавшие нам уши; учащиеся отвращают свой слух от истины и обращаются к небылицам.
Имеется у «ас во Франции монах, не подчиненный уставу, прелат, не имеющий забот, аббат, не сдерживаемый какими-либо правилами, Петр Абеляр, который рассуждает с юнцами и болтает с женщинами. Он преподносит своим приспешникам тайную воду и потаенный хлеб в книгах и вводит нечестивые новшества в слова и суждения своих проповедей. И он шествует не один, наподобие Моисея, во тьму, где находился бог, но с большою толпою своих учеников. На площадях и улицах ведутся споры о католической вере, о рождении девы, о таинстве алтаря, о непостижимой тайне святой троицы.
Мы избегли рыкания Петра Льва; мы наткнулись на шипение Петра Дракона. Но ты, владыка Иисус, ты заставишь взоры возгордившихся склониться долу, ты растопчешь Льва и Дракона. Вредил первый, пока был жив; конец его злобы был также концом-его жизни. Этот же уже обдумывает, каким образом он изольет свой яд на потомков и каким образом причинит вред всем тем поколениям, кои будут.
Проказу своих измышлений он запечатлел в книгах чернилами и пером. Его книги имеются у нас, и мы посылаем их вам. Познайте автора по его творениям. Узрите, как наш теолог устанавливает ступени и степени в троице вместе с Арием; вместе с Пелагием предпочитает свободную волю – благодати; вместе с Несторием, разделяя Христа, исключает воспринятую тем человеческую сущность из соучастия в троице. И это – в немногих словах о многом.
Неужели же среди вас не найдется такого, которого охватила бы скорбь относительно участи Христа, который возлюбил бы справедливость, который возненавидел бы несправедливость? Если уста говорящего нечестивое не будут преграждены, да обратит на это внимание и да рассудит это тот, кто один помышляет о горестях и трудах.
Письмо Бернара Клервоского кардиналу Г...
Достопочтенному мужу и другу своему кардиналу-диакону Г...[332],. во имя святого Сергия и Вакха, аббат Клервоский Бернар желает здоровья и любви.
Согласно твоему обыкновению, всякий раз, когда я вхожу в курию, ты считаешь своею обязанностью вставать передо мною. Слова эти кажутся шуточными, однако дело касается серьезного. Вот я вхожу в курию и говорю о деле, а не о личности. Тот, кто имел обыкновение вставать передо мною лично, ныне пусть встанет ради моего дела, а скорее ради Христа. Потому что речь идет о Христе, и истина находится в опасности.
Подымись и скорее ополчись против того, который рассуждает о вере противно вере, нападает на закон при помощи слов закона, рука коего против всех и против коего длань всеобщая. Это Петр-Абеляр, который пишет, учит и рассуждает о нравах, о таинствах, об отце и сыне и духе святом, разделяя их, как ему угодно. Теперь же он обращается в курию, после того как он потряс церковь и внес в нее смуту, не с тем, чтобы курия исправила его заблуждения, но с тем, чтобы она признала достойными прощения его оправдания в грехах. Если ты сын церкви, то защити ее лоно, носившее тебя, и грудь, тебя питавшую.
Письмо Бернара Клервоского Гвидо Пизанскому
Гвидо Пизанскому аббат Клеровский Бернар шлет пожелания здорового духа в здоровом теле[334].
Я не колеблясь доверил бы вам свое личное дело из-за чувства взаимной любви между нами; и я поручаю вам данное – с тем большим доверием, чем более должен являться предметом любви тот, кого дело касается.
Дело идет о Христе, а скорей это дело есть сам Христос, и истина находится в опасности. Делятся одежды Христа, разрываются таинства церкви, но нешвенное одеяние, покрывающее все, остается неповрежденным. Одеяние это – единство церкви, которое не может быть ни разорвано, ни уничтожено, ибо то, что покрывает все и что соединено святым духом, не может быть разорвано людьми. Хотя еретики и обнажили языки свои, подобно змеям, хотя они и испустили все стрелы своего ума, дабы смутить покой церкви, однако, поскольку они ниже врат ее, они ее не одолеют.
И если ты сын ее, если ты не отвергся от материнской груди, ты не покинешь мать, находящуюся в опасности, и не лишишь ее твоей поддержки в грозную минуту.
Магистр Петр обращается в курию, дабы авторитет апостольского престола послужил бы ему щитом и опорою для подкрепления его заблуждений (запечатленных им в книгах), согласно которым он обучал и с помощью которых он нападал на католическую веру.
Письмо Бернара Клервоского некоему кардиналу-пресвитеру
Кардиналу-пресвитеру аббат Клервоский Бернар желает здоровья и любви во господе.
Никто не презирает тебя за молодость. Ибо господь нуждается не в сединах чела, а в мудрости ума, и незапятнанная жизнь заменяет собой зрелость возраста. Не испугался Иеремия, не устрашился Даниил, хотя оба они были юношами, нечестивых старцев, состарившихся во зле.
Я бы заслуженно назвал нечестивым того, кто пятнает честь церкви и чистоту веры. А таковым является Петр Абеляр, который рассуждает о вере, о таинстве, о тайне святой троицы противно тому, как он воспринял, и разделяя по отдельности, как он желает. Теперь же он обращается в курию, после того как он потряс церковь и внес в нее смуту, не с тем, чтобы курия исправила его заблуждения, но (поскольку он склонил ее к своему злоречию) с тем, чтобы она признала достойными прощения его оправдания в грехах. Да встанут твердо за церковь те, кои считают себя сынами церкви!
Письмо Бернара Клервоского некоему аббату
Возлюбленнейшему брату и аббату брат Бернар, аббат Клервоский, желает быть ревностным к богу, как это и следует.
Надлежит существовать ересям для того, чтобы выявлялись люди, достойные одобрения. И если кто принадлежит господу, то да соединится с ним! Ведь дело касается бога. Истина находится в опасности: делятся одежды Христа, разрываются таинства церкви. Уничтожается святость от самого основания до вершины, осмеивается простота верующих. Уже недалек тот день, когда лев воспрянет со своего ложа и губитель народов поднимется против церкви.
Уже торопится Петр Абеляр уготовить дорогу Антихристу[337] до его появления, проповедуя о вере, о таинствах, об отце, о сыне и духе святом иначе, чем мы восприняли. Он пишет и учит и стремится в речах смутить слушающих. Он устанавливает ступени и степени в троице вместе с Арием? вместе с Пелагием предпочитает свободную волю – благодати; вместе с Несторием, разделяя Христа, исключает воспринятую тем человеческую сущность из соучастия в троице. И при всем том бахвалится, что он склонил на свою сторону римскую церковь, потому что он вложил в руки римлян свои книги и заронил в умы римлян свои мысли. И он берет в защитники своих заблуждений тех, коими должен быть судим и осужден.
Пусть же зрит и пусть судит бог, если уста, глаголящие нечестивое, не будут немедленно преграждены. Остальное вам подробнее объяснит податель сего послания.
Письмо Бернара Клервоского папе от лица епископов
Достопочтеннейшему отцу и владыке Иннокентию, по божьей милости верховному первосвященнику, Генрих, архиепископ Сансский, Готфрид, епископ Шартрокий, слуга святого апостольского престола[339], Элиас, епископ Орлеанский[340], Гуго, епископ Оксерский[341], Аттон, епископ Труаский[342] и Манассесс, епископ Мо[343] шлют преданнейшие молитвы и выражают должное повиновение.
1. Никто не сомневается в том, что все, подкрепленное апостольским авторитетом, остается навсегда незыблемым и не может затем быть ни извращено чьим-либо ложным мудрствованием, ни исключено чьей-либо завистью. В силу этого, наиблаженнейший отец, мы сочли должным довести до сведения вашего апостольского престола кое-что из того, что было недавно рассмотрено в нашем присутствии и что ждет одобрения вашего святейшества, а вместе с тем подкрепления вечным авторитетом, поскольку и нам, и многим благочестивым и мудрым мужам кажется, что это было совершено разумно.
Итак, хотя почти по всей Галлии, в городах, деревнях и замках, не только в школах, но и на перекрестках дорог, и не только образованные или зрелые, но и юные, простые и заведомо невежественные школяры рассуждают относительно святой троицы, каковая есть бог; и хотя, сверх того, они высказывают по поводу этого много совсем неуместных несообразностей[344] и много явно противного католической вере и авторитету святых отцов; и хотя чем более часто увещеваемые и порицаемые теми, которые мыслят здраво, считая, что эти несообразности должны быть отвергнуты, они (не без ущерба для многих душ (И полагаясь на авторитет своего магистра Петра и на некую книгу его, нареченную им «Теологией», а также и на другие его книжицы) все сильней укреплялись и все больше и больше вооружались для утверждения этих нечестивых новшеств; и хотя все это и нас и многих других не мало тревожило и оскорбляло, однако все опасались начать относительно этого следствие.
2. Но аббат Клервоский, неоднократно и от многих слышавший об этом, тщательно изучил вышеназванную «Теологию» Петра Абеляра, а также и прочие его книги, на которые он случайно наткнулся во время чтения, и, согласно евангельскому предписанию, сначала один, а затем вместе с двумя или тремя присоединившимися свидетелями пришел к этому человеку и вполне сердечно и дружественно постарался его убедить в том, чтобы он удержал своих слушателей от подобных поступков и исправил бы свои книги. Он [Бернар] побуждал также многих из школяров отвергнуть и презреть книги, насыщенные ядом, и остерегаться и избегать учения, оскорбляющего католическую веру.
Относясь к этому весьма нетерпимо и с излишней горечью, магистр Петр стал тревожить нас многократными просьбами и прекратил их лишь тогда, когда мы написали об этом владыке аббату Клер-воскому и пригласили его явиться к нам в Сане, в назначенный для того день, а именно в восьмое воскресенье пятидесятницы. Туда же был готов явиться и магистр Петр для утверждения и защиты тех мнений, за которые, как было сказано выше, его упрекал аббат Клервоский. Впрочем, владыка аббат не обещал нам ни того, что он явится в назначенный день, ни того, что он выступит в диспуте против Петра.
Но так как, несмотря на это, магистр Петр начал тем временем собирать отовсюду своих учеников и заклинал их прийти на тот диспут, который должен был состояться между аббатом Клервоским и им, для того чтобы защищать вместе с ним [Абеляром] его мнения и учение, и так как это стало хорошо известно аббату Клервоскому, то он сам [Бернар] прибыл к нам в Сане (в назначенный ему нами, хотя первоначально и не принятый им день), побуждаемый ревностным и благочестивым пылом, а скорее, конечно, воспламененный огнем святого духа, и опасаясь, чтобы из-за его [Бернара] отсутствия все эти столь нечестивые не учения, а безумства, не показались как их защитникам, так и всем недостаточно разумеющим заслуживающими большего доверия.
В этот же день, а именно в восьмое воскресенье пятидесятницы, к нам в Сане собрались наши братья и суффраганы-епископы[345], чтобы почтить святые мощи, которые мы обещали открыть для народа в нашей церкви.
3. Итак, там присутствовали: достославный король французов – Людовик, благочестивый граф Неверский – Вильгельм, владыка архиепископ Реймсский со своими епископами-суффраганами[346] и мы с таковыми же нашими, за исключением епископов Парижского и Неверского[347], а также многие благочестивые аббаты и ученые, весьма образованные клирики; присутствовал там и владыка аббат Клервоский, присутствовал там и магистр Петр со своими приверженцами[348].
Чего же еще? Когда владыка аббат вынес для всеобщего обозрения «Теологию» магистра Петра и изложил те несообразные и даже явно еретические главы из этой книги, которые он отметил, для того, чтобы магистр Петр сказал, что он этого не писал, а если он признает своим, то или одобрил бы это или исправил, магистр Петр Абеляр, по-видимому, не будучи уверен в своих силах и желая от этого ускользнуть, ответить не захотел. И хотя ему была дана полная возможность высказаться, а в данном месте ему не грозила никакая опасность и он имел справедливых судей, он тем не менее покинул собор вместе со своими приверженцами и обратился с жалобой, наисвятейший отец, лично к вам.
4. Мы же, хотя это обращение и казалось нам совершенно не соответствующим канонам[349], всецело доверяя апостольскому престолу, не пожелали высказать никакого суждения относительно личности этого человека. Однако, поскольку его превратные догматы уже многих заразили и порча проникла в самую глубь сердец, эти догматы, будучи неоднократно публично прочитаны и перечитаны, были признаны (на основании как справедливейших доводов, так и приведенных аббатом Клервоским авторитетов блаженного Августина и прочих святых отцов) не только ложными, но и явно еретическими. И мы осудили их накануне того самого дня, когда вам была подана жалоба.
И мы единодушно и настойчиво просим, возлюбленнейший владыка, чтобы вы, пользуясь вашей властью, осудили навеки эти догматы, потому что они вовлекают многих в опаснейшие и явно достойные осуждения заблуждения; и чтобы вы, справедливейший отец, подвергли заслуженному наказанию всех тех, кои упорно и неутомимо их защищают. И если ваша досточтимость обречет на молчание столь часто упоминавшегося Петра и лишит его совершенно возможности читать лекции и писать и книги его, несомненно насыщенные превратными догматами, осудят, то, после того как будут вырваны шипы и колючки из церкви божьей, тучная нива христова получит свободу произрастать, цвести и плодоносить.
Нечто же из осужденных нами глав мы посылаем вам, достопочтенный отец, в письменном виде, дабы после того, как вы прочитаете это, вы легче смогли судить о сути всего произведения.
Письмо Бернара Клервоского кардиналу и канцлеру Гаймерику
Светлейшему мужу и сердечному другу Гаймерику, кардиналу-диакону и канцлеру святой римской церкви, Бернар, аббат Клервоский, желает всего наилучшего перед богом и перед людьми.
1. Как мы видели книги Петра Абеляра, так мы слышали и его мнения. Мы заметили его слова и отметили его тайны, и последние оказались тайнами нечестивыми. Нападает теолог наш на закон при помощи слов закона. Святое бросает псам и жемчуг мечет пред свиньями. Подрывает веру простых, пятнает чистоту церкви.
Книга его прошла чрез огонь и достигла прохлады[352]. Враг церкви пребывает внутри самой церкви, гонитель веры обрел приют в лоне веры, просочился подобно воде.
Да сгинет тот, кто взошел на ложе отца своего и осквернил постель его. Запятнал человек этот церковь и занес свою ржавчину в умы простых. При помощи своих мудрствований он пытается исследовать то, что благочестивый ум воспринимает посредством живой веры. Вера благочестивых верит, а не рассуждает. Но человек этот, относясь с подозрением к богу, согласен верить только тому, что он ранее исследовал с помощью разума. И хотя пророк сказал: «Если не уверуете, не поймете», этот человек обвиняет простосердечную веру в легковесности, злоупотребляя известным свидетельством Соломона: «Кто скоро доверяет, тот легкомыслен». Так пусть же он упрекает блаженную деву Марию за то, что она быстро поверила ангелу, возвестившему и говорившему: «И вот ты зачнешь во чреве и родишь сына». Так пусть же он уличает и того, кто в последний час своей жизни поверил словам умирающего и говорящего: «Ныне же будешь со мною в раю». Да восхвалит он прямо жестокость сердец тех, которым было сказано: «О, немысленные и медлительные сердцем, чтобы верить всему, что предсказывали пророки». Да восхвалит он медлительность того, коему было сказано: «За то, что ты не поверил словам моим, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить».
2. И, наконец, при краткости письма, в немногих словах скажу о многом – превосходный ученый устанавливает ступени и степени в троице вместе с Арием; вместе с Пелагием предпочитает свободную волю – благодати; вместе с Несторием, разделяя Христа, исключает воспринятую тем человеческую сущность из соучастия в троице. Но при всем том бахвалится, что он открыл источники знания кардиналам и клирикам курии, что он вложил в руки римлян свои книги и заронил в умы римлян свои мысли. И он берет в защитники своих заблуждений тех, коими должен быть судим и осужден.
Гиацинт явил нам много дурного, но он не совершил его не потому, что не хотел, но потому, что не мог. И мы равнодушно перенесли это, хотя он не пощадил ни личности владыки папы, ни курии в этой курии. Остальное, что видел и слышал мой, а скорее ваш Николай, он лучше передаст вам устно.
Рескрипт папы Иннокентия II относительно Петра Абеляра[353]
Иннокентий, епископ, раб рабов божьих, достопочтенным братьям архиепископам – Генриху Сансскому, Самсону Реймсскому и их суффраганам, а также возлюбленнейшему во Христе сыну Бернару, аббату Клервоскому, – привет и апостольское благословение.
1. Согласно апостольскому свидетельству признается как единый господь, так и единая вера, на коей, как на незыблемом фундаменте, который никто не может сменить на иной, основана непоколебимая твердость католической церкви. Вот почему блаженный Петр, глава апостолов, за выдающееся свое исповедание этой веры удостоился услышать господа и спасителя нашего, говорившего: «Ты есть Петр, и на камне сем воздвигну я церковь мою»[354], и явно подразумевавшего под словом «камень» – твердость веры и прочность католического единства. Это, конечно, и есть нешвенное одеяние искупителя нашего, одеяние, относительно которого метала жребий стража, но разделить которое никоим образом не могла[355]. Против этой веры роптали племена вначале, против нее тщетно замышляли народы, выступали земные цари и князья собирались воедино. Но апостолы, пастыри стада господня, и апостольские мужи, их преемники, воспламененные ревностным пылом любви к справедливости, не поколебались выступить на защиту веры и насадили ее в сердцах других, проливая кровь собственную. А когда истощилась ярость гонителей, успокоил владыка ветры, и в церкви настало великое спокойствие.
2. Однако, поскольку враг рода человеческого бродит вокруг, ища кого бы пожрать, он ввел тайком [в церковь] коварную ложь еретиков для сокрушения чистой веры. Но пастыри, мужи церкви, восстали с твердостью против них и предали извращенные догматы вместе с создателем их – осуждению. Так на великом Никейском соборе[356] был осужден еретик Арий. Константинопольский собор в соответствующем решении осудил еретика Мани[357]. Столь же заслуженно было осуждено на Эфесском соборе[358] заблуждение Нестория. Ту же самую несторианскую ересь, а также евтихианскую вместе с Диоскуром и его единомышленниками сокрушил справедливейшим осуждением Халкидонский собор[359]. Кроме этого, Маркиан[360], хотя и мирянин, однако же наихристианнейший император, воспламененный любовью к католической вере, высказался против тех, которые стараются осквернить священные тайны, говоря, между прочим, в письме к предшественнику нашему, святейшему папе Иоанну[361], следующее: «Да не пытается в дальнейшем никто, ни клирик, ни человек военного или какого-либо иного звания, рассуждать всенародно относительно христианской веры. Ибо нанесет оскорбление приговору достопочтеннейшего собора всякий, кто попытается вновь рассмотреть и опять обсудить то, что было уже раз обсуждено и установлено как правильное. И преступающие этот закон понесут наказание как святотатцы. Итак, если клирик осмелится рассуждать о религии всенародно, он будет изгнан из сообщества клириков».
3. Мы же скорбим потому, что в последнее время (когда наступают опасные дни), как это стало известно нам из письма вашего и из присланного нам вашим братством перечня заблуждений[362], из-за пагубного учения Петра Абеляра и вышеназванных лиц начинают распространяться ереси и прочие извращенные и противостоящие католической вере догматы.
Однако больше всего нас утешает при этом (за что мы и воздаем благодарность всемогущему богу) то, что бог взрастил в странах ваших на месте отцов таких сыновей и возжелал, чтобы во времена нашего апостольства в церкви его были столь превосходные пастыри, усердно противодействующие наветам нового еретика и стремящиеся передать непорочной и чистой деву-невесту единственному мужу Христу.
Итак, хотя мы считаем себя недостойными восседать на престоле блаженного Петра, коему господом было сказано: «И ты, некогда обращенный, утверди братьев твоих», однако, посоветовавшись с братьями нашими кардиналами я епископами и опираясь на авторитет священных канонов, мы осудили переданные нам, по вашему решению, главы и все превратные догматы этого Петра вместе с их автором. И мы присудили его как еретика к вечному молчанию. И мы считаем, что все последователи и защитники его заблуждений должны быть удалены из сообщества верующих и связаны узами отлучения.
Дано в Латеране[363], 16 июля.
Послание папы Иннокентия II Самсону, архиепископу Реймсскому, Генриху, архиепископу Сансскому, и Бернару, аббату Клереоскому, относительно Петра Абеляра[364]
Иннокентий епископ, раб рабов божьих, – достопочтенным братьям архиепископам Самсону Реймсскому, Генриху Сансскому и дражайшему во Христе сыну Бернару, аббату Клервоскому, – привет и апостольское благословение.
Настоящим посланием мы предписываем братству вашему относительно Петра Абеляра и Арнольда Брешианского, создателей превратных догматов и гонителей католической веры, чтобы вы заключили их каждого в отдельности в те монастыри, в кои вы сочтете наилучшим, и чтобы вы предали огню книги их заблуждений, где бы таковые ни были найдены.
Данное предписание не показывайте никому до тех пор, пока это послание не будет передано самим архиепископам на предстоящем собеседовании в Париже.
Дано в Латеране, 15 июля.
VII
«Апология» схоластика Беренгария[365]
Образцы твоих сочинений, Бернар, во множестве и повсюду распространила молва. Неудивительно, что сочинения твои со славою вещаются с кафедр, так как известно, что какими бы они ни были, их одобряют наши самые видные современники[366]. Люди дивятся в тебе, незнакомом с мирскими науками, столь великому изобилию красноречия, потому что твои сочинения покрыли уже всю поверхность земли. Им [этим людям] придется ответить от бога, что «велики дела господа» и что «это есть изменение десницы всевышнего». Но нет оснований им удивляться так сильно. Скорее следовало бы дивиться тому, что тебя угнетает сухость высказываний, потому что, как слышали мы, ты с самых ранних лет своей юности любил сочинять театральные песенки и старательно обработанные мелодии. И мы, конечно, передаем не непроверенный слух. Свидетелем нашего утверждения является твоя кормилица-родина. Разве не запечатлелось глубоко в твоей памяти, что ты всегда стремился превзойти твоих братьев как в стихотворных состязаниях, так и в измышлении хитросплетенных острот? Тебе казалось тяжелой и горькой несправедливостью, когда отыскивался кто-либо, кто был способен ответить тебе с равной дерзостью. Я мог бы кое-какие из вздорных твоих пустячков включить в настоящий скромный мой труд, дабы присоединить к нему достоверное свидетельство, но боюсь запачкать страницу включением гнусных выдумок. Впрочем, всем известное не нуждается в свидетелях.
Этот способ вымыслов и болтовни ты теперь нередко применяешь по отношению к божественным произведениям, и неопытные люди принимают за высказанное всерьез и с глубоким значением то, что ты выбалтываешь ради красноречия и велеречия. Но разум не убеждает, что так и должно быть действительно. Ведь часто истина высказывается прямо и без прикрас, ложь же преподносится в вызывающей одобрение ласковой речи. Простота речи [в сравнении] с красноречием, как говорит Августин, подобна сельским и городским сосудам; ложь же [в сравнении] с истиной – дешевым и дорогостоящим кушаниям. И то, и другое может быть подано в тех и в других сосудах. Это сказано мной не затем, чтобы привлечь к тебе внимание или вызвать к тебе подозрение, но с целью подтвердить, что не во всяком (красноречии заключается истина. Но об этом достаточно, перейдем скорей к следующему.
Уже крылатая молва распространила благоухание твоей святости по свету, прославила твои заслуги, провозгласила громко чудеса. Мы превозносили счастье нашего века, украшенного блеском столь сверкающей звезды, и считали, что мир, уже обреченный на гибель, продолжает существовать только в силу твоих заслуг. Мы льстили себя надеждою, что во власти твоего языка заключено божественное милосердие, благорастворение воздухов, плодородие земли, благословение плодов. Твоя глава уже касалась облаков; и, согласно народной пословице, ветви твои превосходили тени гор. Ты долго так жил. и долго так преобразовывал церковь целомудренными уставами[367], что, по нашему убеждению, бесы рычали даже при виде кончика твоего пояса, и мы считали себя уже совсем блаженными благодаря столь великому покровителю.
Ныне, о горе! Стало явным, что было скрыто, и ты обнажил, наконец, жало спавшей змеи. Обойдя вниманием всех, ты сделал Петра Абеляра как бы мишенью для стрел, и ты изрыгнул на него яд твоей желчи, дабы устранить его из сообщества живых и поместить среди мертвых. Собрав отовсюду епископов, ты провозгласил его еретиком на Сансском соборе, и ты отсек его, словно выкидыш из утробы матери церкви. Появившись, как убийца из темного угла, ты похитил у него, идущего дорогой Христа, нешвенную тунику. Ты обращался с речью к народу, чтобы тот возносил за него молитвы к богу; в душе же ты замыслил изгнать его из христианского мира. Что было делать народу? О чем молиться, когда он не знал, за кого ему следует молиться? Ты, божий человек, творивший чудеса и восседавший у ног Иисуса вместе с Марией, ты, сохранивший все эти слова в сердце твоем, ты должен был бы воскурить чистейший фимиам твоей молитвы перед лицом высших заступников для того, чтобы обвиняемый тобой Петр образумился и сделался бы таким, чтобы его не могло запятнать никакое подозрение. Но, по-видимому, ты предпочитал иметь его таковым, каким тебе было удобнее его порицать.
Наконец, после пиршества[368] была принесена книга Петра, и кому-то было поручено громко огласить некоторые сочинения Петра. И вот, воодушевленный ненавистью к Петру и возбужденный виноградной лозой, не той, которая изрекла: «Я есмь лоза истинная», но той, которая повергла обнаженного патриарха на землю[369], чтец стал выкрикивать громче, чем этого от него требовали. Через некоторое время ты мог бы заметить, как прелаты вскочили, затопали ногами, смеялись, болтали, так что любой скорее мог бы подумать, что они служат Вакху[370], а не исполняют обеты Христу. При этом слышится звон бокалов, осушаются чаши, прославляются вина, орошаются глотки прелатов. Тогда можно было бы позабавиться и остротой Горация:
Ибо то, о чем тот же поэт говорит в другом стихотворении:
там в точности происходило. Сколь полезнее было бы выслушать приятное суждение поэта Галла[373], к тому же высказанное прекрасными стихами. Ведь он говорит:
Но питье дающего забвение сока уже усыпило сердца прелатов. И вот, говорит сатирик:
Всякий раз, когда звучало нечто тонкое и божественное, непривычное ушам прелатов, сердца всех слушателей раздирались и они скрежетали зубами по адресу Петра. И имеющие зрение крота говорили про философа: «Неужели же мы давали возможность жить этому чудовищу?» И, покачивая головой, как иудеи, они произносили: «О горе! Бот тот, кто разрушил храм божий». Так судят слепые о словах света, так осуждают трезвого пьяные, так против орудия троицы рассуждают словоохотливые бокалы. Так против простоты вступают в спор вооруженные рогами софисты. Так обгладывают псы святого, а свиньи пожирают жемчуг. Так лишается остроты соль земли. Так заставляют замолкнуть свирель закона. Мудрец сказал всенародно: «Кто прикоснется к смоле, запачкается ею». Мы же можем выразить ту же мысль словами: «Кто коснется вина, запачкается им».
Распивала епископская трезвость чистейшую кровь виноградной лозы, чистоту коей вода не лишила девственности, потому что согласно Марциалу:
Наполнили примасы мира сего, философы глотки, бочки своим вином, жар которого так бросился им в мозги, что глаза всех погрузились в оцепенение сна. Между тем как чтец выкрикивал, слушатели храпели. Один опирается на локоть для того, чтобы облегчить сон глазам своим. Другой на мягкой подушке старается нагнать дрему на вежды свои. Третий спит, склонив голову к коленям. Поэтому, когда чтец отыскивал у Петра что-нибудь достаточно колючее, он кричал в глухие уши прелатов: «Осуждаете?» [«damnatis?»]. Тогда некоторые, едва пробужденные при последнем слове, говорили сонным голосом, с опущенною головой: «Осуждаем!» [«damnamus!»]. Остальные же, растревоженные голосом осуждающих, не разобрав первый слог, говорили: «...плывем» [«namus!»][375]. Истинно плывете, но плавание ваше — буря, плавание ваше – утопание.
Так и спавшие стражи свидетельствовали: «В то время, как мы спали, пришли апостолы и унесли тело»[376]. Тот, кто стоял на страже закона господня днем и ночью, ныне осуждается священнослужителями Вакха. Так больной лечит врача. Так утопающий осуждает стоящего на берегу. Так приговоренный к виселице, когда его уже ведут к ней, – обвиняет невинного.
Что делать тебе, душа моя? Куда обратиться? Не забыла ли ты предписания риторов и, охваченная печалью, подавленная рыданиями, в состоянии ли ты рассказать все по порядку? «Думаешь ли ты, что сын человеческий, пришед, найдет веру на земле». Лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда; Петр же не имеет, где преклонить главу свою. Так судят подсудимые, воссев на судейском месте, преследователи невинности на месте карающего. Так искажается все у таких судей и подобных истцов:
Что же могли сотворить таковые, что могли постановить подобные правоведы? Утешает чтение евангелия. Оно говорит: «Первосвященники фарисеи собрали совет и сказали: „Что мы сделаем? Этот человек творит много чудес. Если отпустим его так, все уверуют в него”. Один же из них, по имени аббат Бернар, так как он был первосвященником этого совета[377], пророчествовал, сказав: „Полезно для нас, чтобы был удален один человек от народа и не погиб бы весь народ”». И с этого дня они решили осудить его, говоря по Соломону: «Устроим ковы праведнику, опровергнем благодать уст его...» «Отыщем корень слова против праведного». Задуманное вы совершили и обнажили языки ехидны против Абеляра. Низвергнутые, вы низвергли и поглотили вино, как тот, который пожирал бедного скрытно. Между тем Петр молился: «Господи, освободи душу мою от уст нечестивого и от языка лукавого». Иногда он повторял усердно псалмопевца: «Множество тельцов обступило меня, тучные быки окружили меня. Раскрыли на меня пасть свою». Поистине тучные, толстые выи которых источали на жирную грудь пот жидкого сала. И неудивительно. Ибо слуги веры смотрели на слезы без милосердия и без любви.
Сидел же на соборе суеты, вопреки предписанию XXV псалма, некий, всем прекрасно известный епископ[378], во имя авторитета коего проявилось согласие весьма многих. Отрыгивая вчерашний хмель, он изблевал в собрании следующие слова: «Братья, сопричастные христианской религии, примите меры против общей опасности. Да не поколеблется в вас вера, да не закроется бельмом чистое око голубицы. Ибо нет никакой пользы в обладании другими добродетелями там, где не будет веры, согласно словам апостола: „Если бы я говорил языком людей и ангелов, но не имел бы любви, не было бы для меня никакой пользы”». О привлекательность Минервы! О аттическое остроумие! О цицероновское красноречие! Конечно, такого хвоста не желает этот осел. Такому началу конец этот не соответствует[379]. Поэтому даже те, которые ему [епископу] сочувствовали, нахмурив лоб, покрылись краскою стыда. Угодно мне, и с полным основанием, приобщить эту тень великого имени к стаду тех, о которых написано: «Они зачали ветер и соткали паутину». Названный же выше епископ добавил к ранее высказанному следующие слова: «Петр всегда потрясает церковь, всегда измышляет новшества». О времена! О нравы![380]. Так судит о солнце слепой, так живописует на слоновой кости увечный. Так осел оценивает город. Так судят «духовные» епископы, так рассматривают они дело, так обсуждают доводы разума. Так сражаются против него сыны одной с ним матери[381]. Так жирные свиньи хрюкают на безмолвного.
Застигнутый врасплох столькими и столь великими притеснениями, Абеляр прибегнул, как к последнему убежищу, к расследованию в Риме. Он говорит: «Я сын римской церкви. Я не хочу[382], чтобы дело мое было подвергнуто суду как дело нечестивца. Требую суда Кесарева». Аббат же Бернар, на авторитет коего полагалось большинство епископов, вместо того чтобы сказать подобно наместнику, который держал Павла в оковах: «Требуешь суда Кесарева, к Кесарю отправишься», сказал: «Ты требуешь суда Кесарева, но к Кесарю не отправишься».
Ведь он довел до сведения апостольского престола, что было содеяно, и тотчас же от римского престола в галликанскую церковь[383] полетели послания, осуждавшие Петра. Таким образом осуждаются эти уста, сокровищница разума, труба веры, приют троицы... Осуждается, о горе! отсутствующий, невыслушанный, неизобличенный[384]; что сказать мне или о чем промолчать, Бернар?
Чей проступок, Иисусе благой, имел когда-либо столь слепых судей, что они не выслушали бы ни той, ни другой стороны и не склонились бы на сторону того, в чью сторону преимущественно обращено право? Эти же, смежив веки, слегка касаются дела, и как бы зрячие, познавшие его, выпускают внезапно ядовитую стрелу из натянутого лука несправедливости. Какое бы внутреннее бешенство ненависти, какой бы беспощадный вихрь безумия ни обратились на Петра, какой бы огонь ни раздуло несправедливое рвение, трезвая острота апостольского суждения, никогда не должна была бы пребывать спящей. Но легко отклоняется от справедливости тот, кто в судебном деле страшится более человека, чем бога[385]. И истинным оказывается то, что вещают уста пророка: «Вся голова в язвах, от подошвы ноги до темени нет у него здорового места».
Но защитники аббата говорят, что он хотел исправить Петра. Блаженный муж, если ты предполагал возвратить Петра к чистому состоянию веры, почему ты заклеймил его печатью вечного проклятия перед лицом народа? И опять, каким образом ты думал исправить его. если ты отнимал у Петра любовь народа? Из всего этого в общем следует, что ты воспылал к Петру не любовью исправления, но жаждой личного мщения. Прекрасно сказано пророком: «Да обличит меня праведный в милосердии», ибо там, где отсутствует милосердие, там налицо не исправление со стороны праведного, а дикое варварство тирана.
Свидетельствует также о злобе души его [Бернара] письмо, направленное к папе Иннокентию, в котором он так негодует и говорит: «Не должен обрести прибежища у престола Петра тот, кто нападает на веру Петра»[386]. Пощади, пощади, прославленный вояка! Не подобает монаху сражаться подобным образом. Верь Соломону, который говорит: «Не будь слишком строг, дабы не погубить себя».
Не нападает на веру Петра тот, кто утверждает веру Петра. Следовательно, он [Петр Абеляр] должен найти прибежище у престола Петра. Позволь, прошу, Петру быть вместе с тобой христианином. И ежели ты захочешь, он будет католиком вместе с тобою. И ежели ты даже не захочешь, он все-таки будет им. Ибо бог существует для всех, а не для одного.
Но если в сердце засела мысль, продолжим вместе рассматривать, каким образом [магистр] Петр нападает на веру [апостола] Петра. Ведь пишет Петр рабе божьей Элоизе, отлично наставленной в священном писании, весьма дружеское письмо, которое, между прочим, благоухает следующими словами: «Сестра моя Элоиза, некогда любимая мною в миру, ныне же во Христе возлюбленнейшая! Логика сделала меня ненавистным миру, ибо извращающие все и вся люди, мудрость коих заключается в причинении зла, говорят, что я превосхожу всех в области логики, но что в толковании Павла я сильно хромаю. И хотя они восхваляют остроту моего ума, они лишают меня чистоты христианской веры. Мне кажется, что они судят так скорее соответственно своему мнению, нежели опыту...»[387].
Я счел нужным привести эти слова из письма Петра дословно, чтобы было ясно, каким образом [магистр] Петр нападает на веру [апостола] Петра.
Теперь, строгий судья, лично сам взвесь, с непредвзятым мнением веру Петра. Ты сказал: «Не должен обрести прибежища у престола Петра, тот, кто нападает на веру Петра». Сказанное, само по себе является превосходным и, в общем, истинным мнением. Но так как ты сказал это о Петре, я уличаю тебя, что ты мыслишь противно истине. Ведь Петр не нападает на веру, по стезе которой он шествовал в своей жизни, и он не чужд заветам Христа, именем коего он так смиренно себя обозначил. Итак, он должен был бы найти прибежище у престола Петра, если бы соблазны твоего красноречия не закрыли милосердного лона римской церкви. Но тем, что ты преграждаешь Петру доступ к милосердию, ты ясно обнаруживаешь ярость зачатого тобою безумия.
Ты, может быть, скажешь здесь: «Ты возводишь на меня слишком большие обвинения в несправедливости. Ревность о доме божьем снедает меня, потому что проказа безумного учения пятнает тело церкви. Я думал, что ему следовало противостоять немедленно, в самом зародыше испорченности, чтобы сила яда не распространилась широко. Разве не осторожно и не предусмотрительно я сделал, собрав в одном рукописном перечне эти отвратительные и святотатственные догмы для того, чтобы желающим кратко коснуться сути дела не было бы обременительно блуждать по обширным дебрям писаний Абеляра». На это я скажу: «Хвалю тебя за это, отец, но вот за что не хвалю. Мы видели твой донос, в котором мы читаем не положения из учения Петра, но главы непозволительных измышлений, а именно, что отец – это всемогущество, сын – некоторое могущество, дух же святой – никакое не могущество, и хотя дух святой одной и той же субстанции с сыном, однако он не от той же самой субстанции; что человек мог бы священнодействовать без новой благодати; что бог не мог бы сделать более, чем он желает, или лучше, чем он делает, или иначе, чем он делает; что душа Христа не спускалась в преисподнюю». Вот это и еще другое содержится в твоем доносе, из чего кое-что я признаю, Петр и говорил, и писал. Но кое-чего он не произносил и не писал. А что он сказал, и чего не сказал и сколь католическим разумом он понимал то, что сказал, покажет ясно и четко путем христианского обсуждения второе наше произведение, посвященное осуждаемому трактату. Ведь все, что требует оправдания и опровержения такого рода, то заслуженно должно быть сохранено в особом произведении.
Теперь же необходимо тщательно исследовать, почему ты, святой муж, прославленнейший в устах молвы и предавший вечному молчанию кое-что из своих собственных сочинений[388], воздвиг на Петра Абеляра обвинение в ереси. Ведь законным является глас народа, провозглашенный издревле как бы законом природы, что никто не имеет права уличать другого в преступлении, сходном с собственным. Так как ты это сделал, ты поступил неразумно и бесстыдно. Петр впал в ошибку, пусть будет так. Но почему ошибался ты? Ты-то ошибался умышленно или неумышленно? Если ты заблуждался умышленно, ты оказываешься врагом веры. Если ты заблуждался неумышленно, каким образом ты являешься защитником церкви, ты, который не в состоянии увидеть ошибку? Поистине ты ошибался, когда утверждал, что души имеют небесное происхождение. А как ты утверждаешь это в своем сочинении (поскольку это легко и полезно познать), я раскрою для проницательного читателя, начиная с самого первого положения.
Имеется книга, которую евреи называют «Шир гаширим», латиняне же – «Песнь песней»[389]. Текст ее раскрывает для внимательных душ тайну некоего божественного понимания. К этой книге Бернар прилагает руку как толкователь, чтобы извлечь плод возвышенного смысла из шероховатых сочетаний в тексте, пользуясь достаточно умеренным и сдержанным способом высказывания. Но нам хочется слегка расследовать, почему Бернар, после столь многих и напряженнейших трудов известных мужей, которые приложили свои таланты к толкованию вышеуказанного произведения, сам сделал попытку выпустить в свет том своих трудов столь огромного значения? Ведь если предки наши полностью и достаточно пролили света на сокровенные места этой книги, то я удивляюсь, с каким челом ты простираешь свои дерзновения на произведение, исследованное досконально? Если же тебе открылось нечто сокровенное, что ускользнуло от их внимания, я не препятствую и даже весьма одобряю твой труд. Но когда я старательно перелистываю как их соображения, так и твои измышления, я вижу, что ты не сказал ничего нового; наоборот, я нахожу чужие мысли, облеченные в твои слова. Следовательно, твои толкования представляются совершенно излишними. А чтобы никто не подумал, что я высказал нечто не подтвержденное фактами, я скажу о славной четверке истолкователей этой книги, а именно о греке Оригене, Амвросии Медиоланском, Реции Августодунском и Беде Английском. Первый из них, хотя и являлся, как говорит Иероним, победителем во всех остальных произведениях, в «Песне песней» превзошел самого себя. Второй же убедительною и ученою речью утвердил в нашем понимании взаимную любовь жениха и невесты. Третий рассуждал возвышенными устами о сложности книги. Четвертый же сложности ее разъяснил в семи книгах. Таким образом, после стольких и столь трудолюбивых мужей Бернар начинает вспахивать ниву, как будто бы наши предки оставили ее почти нетронутой.
Конечно, мы могли бы оставить в покое ночные труды краснобая, если бы не оказалось, что он написал скорее трагедию, чем комментарии. Ибо после того, как была обнародована часть труда, он вводит вдруг смерть своего брата[390], на описание похорон которого тратит почти две четверти книги. В нескольких словах я докажу, сколь неподходяще и неуклюже это там вышло. Знаменитая «Песнь» Соломона создана в мастерской святого духа и под видом жениха и невесты изображает брачный союз Христа и церкви. Итак, созвучными свадебным торжествам являются радости. Бернар же, преисполненный отвращения к темному содержанию или пренебрегая изречением апостола, советующего радоваться вместе с радующимися, выводит своего покойника на свадьбе, хотя написано: «Бог есть бог не мертвых, но живых». Итак, когда жених возлежит на персях невесты и дружки жениха и подружки невесты взаимно предаются радости, вдруг звучит похоронная труба. Пир переходит в печаль, музыка превращается в похороны. Трагедия прерывает свадебную радость. Ты оказался неразборчивым и неискусным кифаристом, ты, который привнес похоронные напевы на царский пир. Кому когда-либо снилась такая дикость? Мы привыкли смеяться над картинами, начинающимися с человека и оканчивающимися ослом. Перелистай, прошу, монументальные толкования этой книги у прежних талантов, и ты не найдешь никого, кто бы смешивал в произведениях этого рода печаль и радость. Поэтому золотая муза Реция Августодунского вещает так: «Должен быть соблюдаем обычай благородного дела, чтобы женихи и невесты танцевали под праздничную трубу». Ведь нельзя отвлекать дух к похоронам, когда веселье приглашает пирующих к свадебным песням. Но так как в нас нет никакого понимания таковой возможности или она еще ограничена, я обопрусь на благодать того, кто говорит в своем евангелии: «Без меня не можете ничего делать». «Конечно, найдется у меня подходящее слово, так как я верю в слово, которое было вначале у бога». О глас, достойный католического учителя! О верный исповедник благодати! Правильно начертил себе прямую линию своего суждения мудрый муж, который отделил столь великим промежутком печаль от радости. Ты же, перейдя границы, которые положили отцы твои, обратил жалким образом песни в элегии, стихи в плач.
Если же у тебя не хватало знания отцов церкви, ты мог собрать также установления языческой мудрости. Ибо, когда Зевксис[391], превосходный художник, нарисовал изображение Елены[392], он не придал ей обезьяньих рук, или туловища химеры, или рыбьего хвоста, но тщательной отделкой человеческих членов открыл глазам всех нечто совершенное. Иначе непристойной и смешной была бы картина. Поэтому и Гораций в «Поэтическом искусстве» говорит:
Искусство допускает, чтобы ты начал, что хочешь, но не допускает, чтобы ты присоединил любой конец к твоим начинаниям. Поэтому тот же поэт немного ниже писал:
В твоем же произведении созданы пустые безжизненные образы, как причуды болезненных сновидений:
А кому-либо из защитников твоих можно ответить:
Чего же больше? Все «Поэтическое искусство» объявляет тебе заклятую войну. Ты должен был бы, согласно предписанию того же самого поэта, порождение твоего таланта предать молчанию на девять лет, так чтобы плохо отделанное произведение можно было опять подвергнуть переработке и позаботиться о том, чтобы ночной труд не пришелся бы тебе во вред. Во всяком случае ты должен был бы не спешить с его выпуском в свет, так как написано:
Мы хвалим в тебе, отец, силу таланта, но осуждаем незнание искусства. Поэтому-то древние утверждали, что талант неполноценен, если только он не привлекает к себе на помощь искусство. Хвалят остроты Люцилия и, однако, порицают его за то, что стих его хромает.
Среди них встречаются и такие:
Но так как даже «слепым и брадобреям»[400] ясно, что ты неправильно соединил сетования с брачными песнями, то мне хочется повнимательней рассмотреть самый трагический твой вопль.
Между прочим, если я не ошибаюсь, плачущая муза нашего оратора причитает следующим образом:
И немного дальше:
Конечно, эти слова, высказанные Бернаром, красивы и звучны, но он домогается оценки и славы за труды другого, ибо Амвросий в том сетовании, которое он написал своим нежным и сладким пером на смерть своего друга Сатира, высказал от слова до слова то же самое.
Бернар же в этих жалобах до того неистов, до того упорен, до того оживлен, что любому читателю становится понятным, что он изливает не искренние слезы, а только слова, звучащие подобно подлинным жалобам. Однако говорят некие бестолочи, увлеченные соблазнительной соразмерностью его речи, а именно те, которые любят словесную форму, но презирают душу смысла, что он пользуется столь возвышенным красноречием в своих причитаниях, что никакое современное красноречие не в состоянии с ним сравниться. О лживые судьи красноречия, которых, как пыль, поднимает словесный ветер с лица земли! Какая там сила мыслей! Какие сосуды разума! Весь целиком он истекает в словах, а смерть попадает в круговорот смехотворного силлогизма. Поэтому поэт говорит:
Пышная поросль слов заглушает посевы мыслей. Или, может быть, говоря одно и то же много раз, он хотел подражать Одиссею[401], о котором написано:
Но не такими средствами воскрешается умерший, и не при помощи фокусов красноречия уготовляется жизнь мертвому. Поэтому прекрасно звучит двустишие одного поэта:
А если он хотел рассеять свою скорбь красотами красноречия и средствами поэзии, то почему он не создал, по крайней мере, собственного отдельного произведения об этом? Не было у него недостатка в тех, у которых он мог бы заимствовать образец подобного содержания. Сократ свидетельствует о смерти своего Алкивиада[402] изобилием философского творчества. Платон провожает к могиле замечательной эпитафией юношу Алексея, для которого он составлял любовные песенки. Я умалчиваю о Пифагоре, Деметрии[403], Карнеаде[404], Посидонии[405] и остальных, выдающейся славой которых гордится Греция и которые, по свидетельству Иеронима, в различные времена, в различных произведениях пытались облегчить скорбь различных людей. Кроме того, я умалчиваю о вечно восхваляемом суждении Анаксагора[406], который, когда ему сообщили о смерти сына, подавив рыдания, сказал: «Я знал, что породил смертного».
Наконец, оставив далекие нам примеры, обратимся к близким. Цицерон, величайший создатель римского красноречия, утешил себя выпуском книги на смерть своего сына, в которой он запечатлел, подобно сверкающим звездам, славные и достопамятные деяния из жизни великих мужей. Иероним излечивает скорбь, которую он испытал от смерти Непотиана, похвальным словом последнему. Амвросий, о котором я сказал выше, своим сладостным пером в двух книгах написал о смерти своего любимца Сатира. По образцу их и ты был бы должен соткать свое сетование, помня следующую народную поговорку: «По бороде соседа и свою равняй!».
Но так как об этом мы поговорили достаточно и изобильно, настало время (рассмотреть ту главу в той же книге, в которой ты измышляешь, что души имеют небесное происхождение. Тут я напоминаю тебе твои же слова: «Справедливо сказал апостол: „Наша жизнь на небесах”». Эти слова твои, если их внимательно рассмотреть, отдают ересью на вкус христианского мышления. Ибо если ты говоришь о небесном происхождении души только потому, что когда-либо она будет блаженной на небесах, то на том же основании берет на небе начало и тело, так как когда-нибудь оно будет блаженным на небе. Но эти слова [апостола] не имеют в виду данного понимания. Или, «ели ты приписываешь небесное происхождение душе потому, что она некогда родилась, т. е. была создана на небе, каковой смысл, конечно, вытекает из подобных слов, то ты впадаешь в лжеучение Оригена, который в книге «О началах», следуя учению пифагорейцев и платоников, полагает место рождения душ на небе. А так как дело дошло до упоминания о душе, уместно вспомнить о том, какие велись разнообразные споры относительно происхождения душ.
Философы, вождями которых являются Платон и Пифагор, на которых и ты опираешься в очень значительной степени, говорят, что когда-то первоначально души были созданы и скрыты в сокровищнице бога, что затем, по старой привязанности к жизни, они впали в темницу тел и что, если они будут справедливо управлять телом, они опять возвратятся на колеснице заслуг к прежнему почетному положению.
И еретики стараются доказать, что душа является частью божественной субстанции, находя повод для подобного вымысла в том, что в «Бытии» написано: «И вдунул бог в лицо его, то есть Адама, дыхание жизни». Против них в немногих словах гремит Августин: «Говорится о том дыхании, которое одушевило человека. Оно производится им, но не создано от него, потому что дыхание человека не есть часть человека, и человек производит его не из себя самого, но вдыхая и испуская как дуновение воздуха». Были также некие, окутанные густым мраком невежества, которые бредили, что души появляются путем передачи от родителей. Опровергать этих означает, некоторым образом, подкреплять их нелепости.
После того, как три эти заблуждения, как бы противные разуму, были отсечены мечом ортодоксальной истины, святые отцы утвердили, что заново созданные тела наполняются заново созданными душами, согласно изречению евангелия: «Отец мой действует доселе, и я действую».
Следовательно, ты, уклонившись от стези спасительного учения, сокрушился о скалы философов. И в то время как ты отбрасываешь достоинства души, в цветах твоего пустого красноречия ты задешево уступаешь ей звездное происхождение. А если бы в сочинениях Петра ты отыскал подобное безумие, нет сомнения, что ты поместил бы его среди тех чудовищных глав, кои ты сам породил.
Теперь нам следует перейти к другим плодам твоего таланта. Спрашивает у тебя преисполненный спеси муж с римской выей, что и как надлежит любить. Ему ты отвечаешь так: «Обычно ты просишь от меня, Гаймерик, молитв, а не исследований», и немного дальше: «Ты спрашиваешь, что надлежит любить? Отвечаю на это кратко – бога». Римлянин, этот жирный верблюд, сгорбившийся от галликанских доказательств, скачет через Альпы с намерением узнать, что надлежит любить, как будто бы подле себя он не имеет человека, который внушил бы ему понимание этого. И вот наш философ поучает его, что любить должно не добродетель, как то утверждает Хрисипп[407], не наслаждения, согласно Аристиппу[408], но бога, как говорит истинный христианин. Конечно, это остроумный ответ и достойный ученого человека. Но какая отверженная бабенка, какой последний невежда не знают этого? Так философствуют старушонки в прядильнях. Так с насмешкою мы привыкли дивиться фразам Дагания. Из высказываний его я приведу кое-что для примера. Так, он говорит: «Я – сын своей матери; лепешки – это хлеб; голова моя толще моего кулака; когда наступил полдень, наступил и день». Отыщется ли кто-нибудь, у кого губы не содрогнутся от смеха после того, как он услышит столь смешные истины? Точно так же и когда Бернар сказал, что надлежит любить бога, конечно, он сказал истиннейшее и истинно достойное уважения слово; но для высказывания этого он открывал свой рот напрасно. Ведь никто и не сомневается в этом. Так и римлянин надеялся услышать нечто откровенное, а наш архимандрит[409] провозглашает громко то, что в состоянии ответить любая деревенщина. Однако в то же самое время, сокровенно провозглашая, что надлежит любить бога, он поражает римлянина, который в папской курии научился любить не бога, но золото.
Далее он говорит о мере любви: «Мерой любви является любить без меры». Когда ты открыто возвестил, что должно любить бога, ты напоил Гаймерика (ведь так ты назвал того, к кому ты пишешь) как бы напитком из молока. Ныне же ты внезапно поднимаешь его ввысь, когда говоришь, что мерой любви к богу является безмерная любовь. Он спрашивал, что надлежит любить, в чем не колеблется даже самый скудоумный христианин. Каким же образом он сможет понять такую тонкость, что мерою любви к богу является безмерная любовь? Тут, по-видимому, ты вещаешь нечто невозможное. Ведь твердо установлено то, что бог одарен таким величием, что наша любовь к нему никоим образом не может равносильно соответствовать его достоинству. Каким же образом мы будем любить без меры того, кого не в состоянии любить с мерою? Каким образом, повторяю, будет простираться любовь сверх меры, когда она всегда остается ниже меры? Если же ты понял слова «любить безмерно» как любовь к тому, что не постигается соответствующей мерой любви, то грезы твои обещают смехотворное понимание. Следовательно, когда ты поучал, что бога надлежит любить без меры, то, желая витийствовать, ты напустил тумана и изготовил нечто скудное и невозможное.
Так Иисус Христос, выражая через евангелие свою меру любви, говорит: «Возлюби господа бога твоего от всего сердца твоего и от всего ума твоего и ото всех сил твоих». Здесь нет никаких прикрас красноречия, но только чистая истина выражена простыми и прямыми словами. Пусть здесь навострит уши твой римлянин! Перед этими словами да откажется верблюд от зоба гордыни, потому что Иисус здесь не возвещает ничего невозможного. Иисус, повторяю я, не окутывает света мысли мраком красноречия, как Бернар, который величие чтимого скрывает в облаках изысканного словоблудия. «Мудрый муж, – говорит Гораций, – мыслит, как получить свет из дыма, а не дым из пламени». На это Бернар обращает мало внимания, отводя словесным туманом от стези понимания то, что Иисус высказал просто и открыто.
Полную и насыщенную меру этих и подобных забав, Бернар, ты включил в недра твоих книжиц. Подвергнуть это критике, легко сможет тот, которого ученость сделала зрячим. Но если бы я захотел проследить это подробнее, то, конечно, величина моего труда отпугнула бы даже старательного читателя.
Итак, когда в твоих высказываниях встречаются столь большие бревна, почему ты стараешься превратить в эти бревна сучки Абеляра? Милосердное деяние заключается не в увеличении вины, но в уменьшении ее. Поэтому псалмопевец, когда он намеревался сказать: «Милосердие и суд воспою тебе, господи», вполне справедливо предпослал суду милосердие, как бы желая сказать: «Безмерный боже, я знаю, что ты милосерд и справедлив, но в одном мое спасение, в другом мое осуждение, и прежде всего и охотнее я желаю воспеть милосердие». Написано у Исайи: «И перекуют они мечи свои в плуги». Именно мечи должны быть перекованы в плуги, не плуги в мечи, потому что и дурные должны быть привлекаемы к благу легкостью исправления, и добрые не должны быть побуждаемы к раздорам суровостью наказания. Смягченный этими и подобными примерами, ты должен был бы возложить Петра на своего осла, если Петр был изъязвлен заблуждениями, и таким образом возвратить его в жилище всеобщей веры.
Многие католики высказывали нечто, что можно им было поставить в вину, и, однако, они не были отнесены из-за этого к числу еретиков. Два положения высказал Иларий, борец против заблуждений, защитник церкви, в чем трезвая мысль церкви не согласилась с ним. Во-первых, он утверждал, что Христос в страстях не испытывал боли. Лионский пресвитер Клавдиан, христианнейший муж, столь же тонкий в обсуждении, сколь искусный в высказывании, опровергает это так: «Если Христос не испытывал в страстях боли, то он не претерпел истинно, а если он истинно не претерпел и т. д. ...» Во вторых, он утверждал, что бестелесное не может быть сотворено. На это говорит Клавдиан: «Следовательно, и душа, которая бестелесна, не сотворена. А если она не сотворена, то она не является творением бога». Но из-за этого, как говорит тот же Клавдиан, знания учителя не уничтожают заслуг исповедника, потому что церковь прощает доброму сыну то, что он неосторожно рассудил умом человеческим. Но я не сомневаюсь, что если бы это сказал Петр, то твоя суровость и строгость присудили бы его к побиению камнями.
Также блаженный Иероним в книге против Иовиниана говорит о браке, в особенности в том месте, где он приводит следующее мнение апостола: «Является благом не касаться женщины». К этому Иероним прибавляет: «Если является благом не касаться женщины, то будет злом ее касаться. Ведь нет ничего противоположного благу кроме зла». Всякий, кто считает себя приобщенным к науке рассуждения, знает, что это доказательство – ничтожно. Ибо подобным же образом хорошо не есть мясо и не пить вина, но из этого не следует, что дурно есть мясо и пить вино. Некоторые, утверждавшие это, были причтены к еретикам. Однако, допустим, что касаться женщины, как говорит Иероним, является в известной степени злом. Сколь великая нелепость следует из этого, показывает сама последовательность рассуждения. Ибо если является злом касаться женщины, то является злом и сожительствовать с женщиной. Ведь не может быть, чтобы сожительство являлось благом, если прикосновение есть зло. А если сожительство с женщиной есть зло, плохо поступает всякий, кто сожительствует с женщиной. Следовательно, грешат женатые, пользуясь законно брачным сожительством, ибо, сожительствуя, также касаются женщины. Следовательно, для того чтобы женатые не поступали дурно, пусть они разлучатся с женами. Или, если будет необходимо сожительствовать, пусть они сожительствуют таким образом, чтобы не касаться женщин. Но это невозможно. Следовательно, наступает крушение брачного блага, которое божественный промысел уготовил для излечения смертного распутства. Ведь если брак не извиняет совокупления, то пусть мужья идут и наперебой приносят покаяние в том, что когда-либо они сожительствовали со своими женами. В другом месте той же книги Иероним еще суровее рассуждает о браке по поводу изречения апостола: «Лучше вступить в брак, чем сгорать от вожделения». Но если жениться является благом, то почему это сравнивают со злом? Ведь никто разумно не сравнивает зло с благом. Сгорать от вожделения, конечно, является злом, и вступление в брак есть благо по отношению к этому злу. А то, что является благом в сравнении со злом, не есть просто благо. Из этих слов Иеро-нима мы ясно усматриваем, что брак не является благом в абсолютном смысле. Следовательно, исчезает благо брачной жизни. Ведь благо брака, согласно Иерониму, является благом лишь потому, что сгорать от вожделения есть худшее зло, чем вступать в брак. Это суровое и горькое рассуждение взволновало многих верующих мужей и среди них сенатора Памахия, и горесть свою относительно этого они засвидетельствовали в письмах, обращенных к самому же Иерониму. А если бы Петр столь резко выступил против брака, конечно, Бернар вооружил бы на его погибель когорты тех, кто состоит в браке.
Августин, враг своих заблуждений, в книге «Отречений» допускает, что эти заблуждения должны быть исправлены. Лактанций[410], о котором сам Августин писал, что он ушел из Египта, отягощенный большим количеством золота, некогда пламенеющими устами защищал Христа против язычников, а впоследствии бредил кое-чем, противоречащим догматам церкви. Долго перечислять писания древних трактатов, которые не доведены до такой чистоты, чтобы в них не нашлось многого, что было бы вполне достойно розог исправления. Ибо истинно суждение апостола Иакова: «Во многом мы погрешили все. А если кто не погрешил в слове, тот есть муж совершенный».
Итак, если Петр погрешил в слове, то, судимый тобой, он должен был бы почувствовать скорее ласковое прикосновение милосердия, чем раздражение гнева. Справедливость требует того, чтобы ты вспомнил, что пророк Аввакум[411] говорил богу: «Когда будешь гневен, вспомни о милосердии». Вот какое различие между гневом бога и гневом человека. Когда гневается человек, то мысль о милосердии исчезает из его сердца. Когда же гневается бог, в силу изобилия врожденной ему благодати, он вспоминает о милосердии; вспоминает, не забывая, тот, который гневается бесстрастно. Велик господь наш, который, соблюдая высшее, не пренебрегает заботой о низших. Тебе надлежало бы стремиться к его подобию, идти всеми силами по его стопам, так чтобы углем, который ангел взял клещами с алтаря[412], ты смог бы очистить порочность уст Петра. Тебе бы следовало знать, что ты являешься человеком, склонность которого к проступку влечет к наказанию, а врачующая благодать может привести к прощению.
Хотя мы только бегло коснулись всего этого, однако чрезмерная величина моего произведения требует молчания. И так как усталый голос уже стремится к гавани отдохновения, то ради того, чтобы не пресытить читателя, да будет положен надлежащий предел первому произведению с тем, чтобы к изъяснению того, что мы обещали во втором[413], мы подготовились бы более усердно и так, как следует.
ПЕТР АБЕЛЯР – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОГО СВОБОДОМЫСЛИЯ
I
Фигура Петра Абеляра, всеевропейски известного философа, магистра «свободных искусств», преподававшего в Париже в начале XII в. и пользовавшегося огромной популярностью среди многочисленных учеников, неоднократно привлекала к себе внимание исследователей средневековой культуры. Помимо общих работ по истории этой культуры, и в первую очередь по истории средневековой философии, содержащих разделы о литературных трудах Абеляра, – его жизни и деятельности посвящен также ряд специальных монографий.
Что касается исследований по истории средневековой философии, принадлежащих перу немецких, французских, английских и американских философов (как XIX, так и XX в.), то, несмотря на большое количество таких работ, они принципиально не отличаются друг от друга. И немецкие историки средневековой философии (К. Прантль, А. Штекль, М. Грабман, Б. Гейер), и французские (Ж. Орео, Ф. Пикаве, Э. Жильсон, М. Вульф), и английские (А. Тейлор, Д.Дуглас, Ч. Госкинс), и американские (Г. Тейлор, Ф. Коплстон) излагают взгляды Абеляра в полном отрыве от обусловившей их действительности и даже не ставят вопроса о той социальной среде, которая породила такого мыслителя, как Абеляр. Эти исследователи занимаются рассмотрением философских взглядов Абеляра, изучением их идеологических корней и вопросом о связи этих взглядов с позднейшими философскими учениями, исходя из антинаучной и чисто идеалистической схемы филиации идей.
На столь же неверных методологических позициях стоят и авторы, подходящие к творчеству Абеляра с конфессиональной точки зрения и отчетливо делящиеся на католиков (Ф. Клеман, Е. Вакандар, Т. Ратисбон) и протестантов (А. Неандер, С. Дейч, Г. Рейтер, А. Гаусрат)[414]. Общность методологии всех этих авторов привела к тому, что, несмотря на коренные расхождения в оценке Абеляра, которого историки католической ориентации клеймят как явного еретика и опасного врага церкви, а историки протестанты восхваляют как одного из наиболее ранних предвестников будущей реформации, и те, и другие (подобно историкам средневековой философии) оказались едиными в своей неспособности дать ответ на главный вопрос: о причинах, породивших свободомыслие Абеляра и, в конечном счете, обусловивших беспощадную борьбу, которую католическая церковь вела с ним на протяжении всей его жизни.
Решение этого вопроса очень важно, тем более, что значительная часть буржуазных историков нашего времени[415], с их общей тенденцией к реабилитации мрачного прошлого католической церкви и настойчивым стремлением показать ее якобы благодетельную роль в развитии всей средневековой культуры, делает многочисленные попытки «объединить» теологию с наиболее прогрессивными направлениями во французской культуре XII столетия и умолчать о трагической судьбе Абеляра[416]. То, что церковь преследовала Абеляра и его учеников, осуждала его на церковных соборах, закрывала его школы и сжигала его сочинения, объясняется с точки зрения этих историков лишь «скверным характером» философа и должно, по их мнению, рассматриваться в чисто психологическом плане. Однако знакомство с произведениями Абеляра[417] и, прежде всего, с его знаменитой автобиографией, а также исследование многочисленных свидетельств его современников о происходивших в XII в. событиях, наглядно показывают всю лживость подобных измышлений. Абеляр предстает перед нами как человек, осмелившийся выступить против авторитета католической церкви и именно этим вызвавший с ее стороны жестокие кары.
II
Каковы же были те общественные условия, в которых сформировалось сознание Абеляра?
Социально-экономическая жизнь Франции конца XI – первой половины XII в. характеризовалась окончательным утверждением феодальной собственности на землю и закрепощением большинства крестьян. К этому же времени производительные силы феодального общества уже настолько выросли, что ремесло отделилось от сельского хозяйства, и во Франции возникли города как центры ремесла и торговли. В цветущем состоянии находились южнофранцузские города (Монпелье и Нарбонна, Марсель и Бордо, Тулуза и Альби, Тараскон и Сен-Жиль), основу жизни которых составляло ремесленное производство. Развитие городов достигло в XII в. немалых успехов и в Северной Франции. Такие города, как Руан, Бовэ, Бурж, Труа, Провен, Реймс, Шалон-на-Марне и Бар-на-Об, являлись центрами сукноделия. В Амьене, Сен-Кантене, Санлисе, Шартре, Берне и Каене вырабатывались льняные ткани. Париж славился обработкой кож, меховыми изделиями и предметами ювелирного производства.
Развитие ремесла в Южной и Северной Франции определило там и быстрый рост торговли. Особенное значение с начала XII в. во Франции приобрели ежегодные ярмарки в Шампани, на которые съезжались купцы из разных стран Западной Европы.
Окончательное оформление поземельной и личной зависимости крестьянства и усиление феодальной эксплуатации в условиях постепенного роста товарно-денежных отношений в стране привели к обострению классовой борьбы в деревне. В самом конце X в. вспыхнуло крупное крестьянское восстание в Нормандии, в 1024 г. – в Бретани, в 1035 г. – во Фландрии. Антифеодальная борьба выражалась нередко и в массовом бегстве крестьян из-под власти их господ. Особенно широкие размеры это бегство приняло в конце XI в., когда во время так называемого «похода бедноты», непосредственно предшествовавшего первому крестовому походу рыцарей, тысячи крестьян со стариками, женами и детьми двинулись на Восток в поисках земли и свободы, обретя в результате лишь гибель.
Одновременно с антифеодальной борьбой в деревне шла не менее острая борьба горожан против их феодальных сеньеров, ибо, по мере экономического усиления, города не могли не вступить в столкновение с феодалами, на земле которых они находились и все возраставшему гнету которых они подвергались. Освободительное движение городов, известное под наименованием коммунального движения, приняло наиболее бурный характер в Северо-Восточной Франции, где горожане боролись нередко с оружием в руках и зачастую достигали полной победы.
Установления власти коммуны, т. е. городского самоуправления, независимого от феодала, в конце XI и в XII в. добились такие города, как Камбрэ, Бовэ, Сен-Кантен, Нуайон, Амьен, Суассон, Корби, Сен-Рикье, Санс, Реймс, Лан[418] и др.
Во многих из названных городов горожанам пришлось бороться не со светскими, а с духовными сеньерами, причем борьба за коммуну во всех этих случаях велась с особенным ожесточением. И это, разумеется, не было случайностью, ибо в отличие от борьбы со светскими сеньерами, когда каждый город и каждый сеньер боролись один на один, феодалы духовные опирались на мощную поддержку католической церкви в целом. Резко враждебное отношение церкви к освободительному движению городов обусловливалось не только желанием представителей католической иерархии сохранить свою власть над богатыми торгово-ремесленными центрами, но и тем, что в городских коммунах церковь видела рассадник ересей и свободомыслия, крайне опасных для феодального строя, на страже которого она стояла.
Возникновение и развитие народных еретических движений во Франции в XI-XII вв. было действительно связано с городом. Об этом свидетельствует и то, что особое распространение ереси получили именно там, где города достигли наибольшего расцвета, и то, что основными носителями антицерковных, еретических идей являлись городские ремесленники. «Революционная оппозиция феодализму, – указывал Энгельс, – проходит через все средневековье. Она выступает, соответственно условиям времени, то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания»[419].
Участники народных еретических движений отрицали основные церковные догматы и таинства, требовали отмены десятины, отказа от храмов, упразднения дорогостоящей католической иерархии. Проведение этих требований в жизнь означало бы фактическую ликвидацию католической церкви, которая выступала в эпоху средневековья как наивысшее обобщение феодального строя и освещала феодальное государство и феодальную эксплуатацию своим авторитетом. Богословская оболочка народных ересей скрывала таким образом под собой антифеодальный протест трудящихся масс Франции.
Еретические движения имели место и на юге и на севере страны. Так, в начале XI в. возникла ересь Леутара Шампанского, внушавшего крестьянам Шампани, что никто не должен платить церковной десятины, и привлекшего к себе этой проповедью большое число сторонников. В 1022 г. вспыхнуло еретическое движение одновременно и в Орлеане и в Тулузе. Последователи этой ереси отвергали важнейшие таинства церкви и заявляли, что мир существует вечно и что бог не мог сотворить порядки столь порочные, как существующие на земле. В 1025 г. возникла ересь в Аррасе, последователи которой учили, что в католической церкви нет ничего священного и что все люди должны жить «трудами рук своих». Начало XII в. было отмечено появлением массового еретического движения на юге Франции, где действовали Петр де Брюи и его ученик Генрих, учившие своих приверженцев не верить в церковные таинства, не посещать католических храмов и повсеместно жечь и уничтожать кресты как символы позора и пыток. Антицерковное движение на севере в это же время возглавлял Танхельм Фландрский, пользовавшийся очень большой популярностью у ремесленного населения Фландрии и открыто выступавший с антицерковной проповедью. В 1113 г. еретическое движение распространилось в области Суассона, а в середине XII в. возникла ересь в Периго, последователи которой считали, что «никто не должен ничем владеть».
Крестьянско-плебейская ересь, неизмеримо более революционная, чем ересь бюргерская (т. е. ересь зажиточных и богатых горожан), в XI-XII вв. почти еще не отделялась от последней, ибо на первом этапе развития городов, в борьбе с феодальными сеньерами, горожане выступали еще как нечто целое. Внутренние противоречия в городах, свободное население которых вело происхождение от крепостного крестьянства, проявились во всей остроте лишь с окончанием борьбы городов с их феодальными сеньерами. Вот почему в массовых еретических движениях этого времени мы можем видеть выражение общей революционной оппозиции феодализму со стороны угнетенных слоев феодального общества.
Понимая опасность подобных движений, церковь вела с ними упорную борьбу: еретиков сжигали на кострах, приговаривали к пожизненному заключению, предавали церковной анафеме. В борьбе с народными ересями единым фронтом действовали и духовенство, и королевская власть, и феодалы. Но никакие репрессии со стороны господствующего класса не могли сломить революционного протеста трудящихся масс против феодальной эксплуатации.
Упорная борьба крестьян с феодалами и столь же ожесточенная борьба горожан с их феодальными сеньерами имела огромное прогрессивное значение. В зависимости от этой борьбы развивались и все остальные конфликты внутри феодального общества.
Изменения, которые произошли во Франции в социально-экономической области и привели к обострению классовой борьбы в стране, нашли свое отражение и в области политической. К первой половине XII в. относится начало объединения феодально раздробленной Франции в единое централизованное государство и связанное с этим усиление королевской власти. Развитие городов и товарно-денежных отношений нарушило прежнюю феодальную замкнутость и обусловило зарождение экономических связей между отдельными частями страны. Обострение же классовой борьбы во Франции определило поддержку королевской власти со стороны подавляющей части средних и мелких феодалов. В стремлении ликвидировать феодальную раздробленность и усилить свою политическую власть короли Франции находили естественного союзника в торгово-ремесленном населении городов, страдавшем от гнета крупных сеньеров и от бесконечных феодальных усобиц.
Однако на исторически прогрессивном пути государственного объединения Франции королевской власти пришлось столкнуться с большими препятствиями: крупные светские и духовные феодалы, обладавшие полной самостоятельностью в своих владениях, не желали мириться с утратой политической независимости. И хотя борьба королевской власти с крупными феодалами являлась борьбой внутри одного и того же господствующего класса, тем не менее она принимала весьма острые формы.
Первой задачей, стоявшей перед королевской властью во Франции, была борьба с непокорными феодалами собственного королевского домена – Иль-де-Франс. Эта борьба заняла около трех десятилетий и окончилась в конце концов победой короля Людовика VI Толстого (1108-1137 гг.) и его фактического соправителя аббата монастыря Сен-Дени – Сугерия. Борьба с крупными феодалами вне собственных королевских владений, особенно с враждебными Капетингам герцогами Бретани, Нормандии и Аквитании, а также с графами Шампани, Блуа и Оверни, выпала уже на долю последующих королей, продолжавших вести эту борьбу с переменным успехом вплоть до XV в. Оценивая как прогрессивные усилия королевской власти в ее борьбе с крупными феодалами, мы не должны, разумеется, забывать того, что укрепление феодального государства происходило, за счет усиления эксплуатации трудящихся масс.
Но королевской власти, во Франции приходилось бороться не только с крупными светскими феодалами. Претендентом на политическое господство в стране выступало и папство, стремившееся увековечить свое прежнее, характерное для периода раннего средневековья положение в качестве некоего руководящего центра всей феодальной Европы. Основываясь на том, что церковная организация, владевшая в разных странах примерно третью земли, служила тогда реальной связью между феодально раздробленными государствами Запада, папство выдвинуло идею о преобладании власти духовной над властью светской и всеми силами добивалось практического проведения этой теократической программы в жизнь.
Однако реакционная идея всеевропейского теократического государства, с центром в городе Риме и с системой вассального подчинения государей отдельных стран папе, противоречила прогрессивному ходу исторического развития, и папство не только пришло в неизбежное столкновение с королевской властью там, где начался процесс государственной централизации, но и потерпело при этом полное политическое поражение.
Во Франции защиту папской программы взяла на себя та часть клира, именуемая в дальнейшем «теократической партией», которая требовала безусловного преобладания власти церковной над властью светской. Разумеется, «теократическая партия», объединявшая самые воинствующие элементы католической церкви во Франции, была совершенно едина с королевской властью в том, что касалось их классовых интересов и отношения к народным массам; разногласия начинались лишь там, где речь шла о политическом преобладании.
Организационным ядром «теократической партии» была иерархия цистерцианского монашеского ордена, руководимого Бернаром Клервоским (1091-1153 гг.) – аббатом монастыря Клерво. Вокруг Бернара, соединявшего фанатизм с трезвой расчетливостью, а мистицизм с необычайной практичностью в житейских делах, группировались самые реакционные представители французского клира. Социальной базой «теократической партии» являлась крупнейшая феодальная знать. Об этом свидетельствует и происхождение наиболее видных деятелей «теократической партии», и их высокое положение в католической церкви, и та программа, которую они защищали.
Сам Бернар происходил из знатного и богатого феодального рода в Бургундии. Из среды феодальной знати вышли и Роберт, основавший цистерцианский орден, и Норбер, основавший орден премонстрантов, и все ближайшее окружение Бернара. Все эти лица были теснейшим образом связаны друг с другом и не только в силу общности интересов, но очень часто и в силу личной дружбы. Сплоченность «теократической партии» равнялась ее активности. Переписка Бернара Клервоского, главы «теократической партии», с монахами, аббатами, епископами, кардиналами, папами, светскими феодалами и королями показывает, что ни одно из событий XII в., которое так или иначе затрагивало интересы католической церкви, не ускользало от его пристального внимания.
По этим письмам, трактатам и проповедям Бернара нетрудно представить себе ту программу, которую выдвинула руководимая им группа. С точки зрения крупных духовных феодалов, входивших в состав этой группы и боровшихся за политическую независимость, далекий папа был гораздо приемлемей близкого короля. Именно поэтому первым требованием «теократической партии» было требование абсолютного преобладания власти духовной над властью светской, власти папы над властью короля. Стремясь, таким образом, к увековечению феодальной раздробленности Франции, и Бернар, и его окружение чрезвычайно охотно поддерживали тех крупных светских феодалов, которые выступали против централизаторских усилий королевской власти.
Реакционность «теократической партии» сказывалась и в других пунктах ее программы. Выступая как злейший враг народных движений, Бернар Клервоский требовал неустанной борьбы с освободительным движением горожан и беспощадной расправы с народными ересями. Поэтому неудивительно, что для «искоренения» ереси Петра де Брюи и Генриха на юге Франции церковь направила туда Бернара, а для «искоренения» ереси Танхельма Фландрского – Норбера.
Как выразитель теократической программы Бернар проявил себя не менее ярко и в деятельности, связанной с организацией крестовых походов. В 1128 г. он принял активное участие в создании духовно-рыцарского ордена тамплиеров на Труаском соборе, между 1132 и 1136 гг. написал специальный трактат «Во славу нового воинства», в котором превозносил духовно-рыцарские ордена, подчинявшиеся непосредственно папе, в качестве силы, способной приступить к практическому осуществлению теократического идеала, а в 1147 г. выступил в роли главного организатора и проповедника второго крестового похода в Сирию и Палестину и одновременного похода германских феодалов в земли полабских славян. Истребление всех «язычников», т. е. славян, живших к востоку от Эльбы, тюрок-сельджуков и других народов, населявших Египет, Палестину и Сирию, захват этих территорий во славу и на пользу церкви – таков был еще один пункт программы «теократической партии». Одновременно Бернар Клервоский требовал активной борьбы с византийской церковью и подчинения ее папе. Создание новых монашеских орденов, а также реформа белого духовенства (в целях укрепления его дисциплины) должны были, по мысли Бернара Клервоского, усилить католическую церковь на Западе и сделать ее способной к осуществлению этой программы.
Наконец, одной из важнейших задач, которую ставила перед собой «теократическая партия», являлось сохранение вечной и нерушимой монополии церкви в области образования и безжалостная расправа со всеми представителями свободомыслия. Самым ярким примером этого может служить та борьба, которую церковь вела с Абеляром и его многочисленными учениками. Застрельщиком в этой борьбе выступала «теократическая партия» и ее глава – Бернар Клервоский.
В феодальном обществе, создавшемся после гибели Римской империи, возникла новая феодальная культура, отвечавшая интересам господствующего класса. В период раннего средневековья носительницей этой культуры была церковь. Религия в новом обществе служила одним из мощных средств утверждения и сохранения власти феодалов. Влияние церкви со всею силой сказалось и в области духовной культуры. В статье «Юридический социализм» Энгельс писал: «...феодальная организация церкви освещала религией светский феодальный государственный строй. Духовенство к тому же было единственным образованным классом. Отсюда само собой вытекало, что церковная догма была исходным моментом и основой всякого мышления. Юриспруденция, естествознание, философия – все содержание этих наук приводилось в соответствие с учением церкви»[420].
Церковь господствовала в области образования. Все школы находились в ее руках. Она определяла и программу занятий, и состав учащихся, способных впоследствии стать ее верными служителями. От этих последних требовалось очень мало: они должны были знать определенные молитвы и порядок церковных служб, а также уметь читать по-латыни священное писание, хотя бы и не понимая прочитанного. В целом образование, даваемое в церковных школах, носило весьма примитивный характер и отнюдь не имело своей задачей сохранение и продолжение традиции античных школ, – как это пытаются представить многие буржуазные историки. Используя доставшееся ей культурное наследство в своих чисто утилитарных целях, церковь последовательно выступала против светского знания, не совместимого с церковными доктринами, максимально урезала преподавание «семи свободных искусств» в своих школах и целиком подчиняло его богословию.
Так называемое «Каролингское возрождение» (конец VIII – начало IX в.) не нарушило монополии церкви в области образования. Церковь продолжала искусственно ограничивать его распространение узким кругом клириков и допускала к преподаванию только лиц духовного звания.
Монополия церкви в данной области отражала господствующее положение феодально-церковной идеологии и духовной культуры в феодальном обществе. Но это не значит, что эта культура являлась единственной. Так же как учению церкви противостояли народные ереси, так и господствующей феодально-церковной культуре противостояла духовная культура народных масс (сказочно-былинный эпос, песенное творчество, музыка, танцы и элементы театрального искусства, зарождавшегося на народных праздниках и игрищах).
Церковь боялась развития народного творчества, нередко носившего антифеодальный характер, неустанно преследовала народных сказителей и певцов, в лице так называемых жонглеров (скоморохов) и запрещала народные песни и пляски, объявляя их зачастую «языческими». Особенно беспокоило церковь то, что, начиная с XI в., ей пришлось встретиться с новыми явлениями в области духовной культуры, связанными теперь уже с зарождением и развитием городской жизни. Освободительное движение горожан, направленное против их светских и духовных сеньеров, естественно сочеталось с сопротивлением горожан духовному авторитету церкви. Возникновение ранней городской культуры, т. е. той культуры, в которой нашла свое отражение революционная оппозиция феодализму со стороны городов, привело к нарушению многовековой монополии церкви в области образования и было встречено представителями церкви крайне враждебно.
Ранняя городская культура уходила своими корнями в народное творчество. Об этом свидетельствуют и песни городских ремесленников, тесно связанные с народным хоровым пением, и зачатки городской драмы, столь сходной с народными игрищами, деревенскими ряжениями и обрядами, и городская литература на народном старофранцузском языке (фаблио, сатирический эпос) и т. д. Бежавшие в города крестьяне, только что ставшие лично свободными людьми, привнесли в складывавшуюся идеологию горожан элементы мыслей и чувств крепостного феодально-эксплуатируемого крестьянства. Это оказывало непосредственное влияние на раннюю городскую культуру в целом, хотя вовсе не все ее представители принадлежали к трудящимся слоям города. Антицерковная оппозиция горожан в области духовной культуры и на раннем этапе развития городов, подобно антицерковному еретическому движению, была представлена различными социальными элементами.
Наибольшую тревогу со стороны католической церкви вызвало появление городских нецерковных школ, возникших в результате потребности горожан в грамотных людях, способных оформлять расширявшиеся торгово-ремесленные сделки, работать в органах городского самоуправления и пр. Новые школы отличались от существовавших до этого церковных школ, в которых воспитывались и обучались будущие представители католического клира, не только своей программой и составом учащихся. Главной особенностью нецерковных школ являлось то, что это были школы частные, содержавшиеся не за счет церкви, а на деньги, которые школяры платили своему учителю.
Разумеется, между вновь возникшими школами и церковью продолжали существовать еще тесные связи: церковь давала магистрам городских нецерковных школ право на преподавание; многие из школяров, обучавшихся у таких магистров, были клириками и проходили курс «свободных искусств» в качестве подготовительного к курсу богословия, наконец, сами магистры нередко вступали впоследствии в духовное звание. И тем не менее то обстоятельство, что городские нецерковные школы были материально не связаны с церковью, в значительной степени освобождало их от непосредственного контроля с ее стороны и обусловливало относительную свободу преподавания в этих школах.
Нецерковные школы привлекали огромное по тем временам количество учащихся и в XII в. прославили Париж, как один из крупнейших центров образования на Западе. Наиболее знаменитым магистром «свободных искусств» в это время был Абеляр.
III
По рождению Абеляр (1079-1142 гг.) принадлежал к классу феодалов. Его отец, рыцарь Беренгарий, имел небольшие владения около Нанта в Бретани, которые и должны были перейти по наследству к Абеляру как к старшему сыну. Однако Абеляр избрал иной жизненный путь и, отказавшись от всех прав старшинства в пользу своих братьев, целиком отдался изучению философии. Он покинул семью и родные места и превратился в так называемого ваганта, т. е. бродячего школяра, переходившего в поисках знаний из школы в школу.
Так Абеляр добрался до Парижа и стал там учеником католического богослова и философа Гильома из Шампо, преподававшего философию в кафедральной школе. Одни исследователи полагают, что это произошло уже в конце XI в., другие – относят данное событие к первым годам XII в. Гильом очень скоро заметил способного юношу и выделил Абеляра из числа других своих учеников. Но хорошее отношение Гильома к Абеляру длилось недолго. Абеляр начал открыто и смело выступать против философской концепции своего учителя и вызвал этим большое недовольство с его стороны. Разрыв был неизбежен. Абеляр we только покинул кафедральную школу, но и решил открыть свою собственную, выбрав для этого Мелён, расположенный недалеко от Парижа.
Несмотря на противодействие Гильома, школа была открыта, и лекции нового магистра привлекли сразу же много учеников. Увидев это, Абеляр решил перебраться к Парижу еще ближе и перевел свою школу в Корбейль для того, чтобы чаще встречаться со своими философскими противниками – Гильомом и его учениками. Однако в результате тяжелой болезни, вызванной напряженными занятиями, Абеляру пришлось прекратить свою деятельность и на время уехать на родину. Оправившись от болезни, он опять возвратился в Париж (около 1108 г.), возобновил свои старые споры с Гильомом из Шампо и одержал над ним решительную победу. Слава Абеляра как философа к этому времени настолько выросла, что преемник Гильома в кафедральной школе пригласил туда Абеляра для чтения лекций и сам превратился в его слушателя. Гильом же переехал из Парижа в аббатство Сен-Виктор и лишь изредка наезжал в кафедральную школу ради надзора.
Узнав о слабости, проявленной его преемником, Гильом поспешил заменить его (в качестве руководителя школы) другим своим учеником и вынудил таким образом Абеляра опять переехать в Мелён и открыть там новую школу. Однако и на этот раз Абеляр пробыл в Мелёне недолго. Собрав вокруг себя учеников, он вместе с ними вернулся в Париж и «раскинул», – как он выражался, – «свой школьный стан» на холме св. Женевьевы. Неизвестно, чем окончились бы на этот раз бесконечные диспуты Абеляра и его учеников с их противниками. По семейным обстоятельствам, связанным со вступлением обоих его родителей в монастырь, Абеляр был вынужден вновь уехать на родину, а когда он вернулся в Париж (пробыв некоторое время в Бретани, а затем в Лане, куда он отправился с целью пополнить свое светское образование богословским), Гильома из Шампо в кафедральной школе Парижа уже не было: назначенный епископом Шалона, он переехал в свою епархию (1113 г.). Поле битвы осталось свободным, и Абеляр получил возможность читать лекции в той же самой школе, из которой ранее был изгнан. Казалось, что в будущем Абеляра ожидали одни лишь успехи, но это было совсем не так. Вот почему, оценивая позднее свои философские споры с Гильомом из Шампо, Абеляр утверждал, что здесь-то и начались его бедствия, продолжавшиеся в течение всей его жизни.
Надо признать, что у Абеляра имелись весьма веские основания говорить таким образом. В конце XI и в начале XII в. в Париже, как и в других городах Северо-Восточной Франции, шла упорная борьба между представителями различных философских школ. Именно здесь, и именно в это время в средневековой философии сложились два основных направления – реализм и номинализм, последователи которых вступили друг с другом в ожесточенные столкновения.
Говоря о борьбе номиналистов и реалистов, В. И. Ленин считал допустимым ее сопоставление с борьбой материалистов и идеалистов. «Конечно, – писал он, – в борьбе средневековых номиналистов и реалистов есть аналогии с борьбой материалистов и идеалистов, но и аналогии и исторически-преемственную связь можно установить еще со многими и многими теориями, вплоть не только до средних веков, но и до древности. Чтобы изучить серьезно связь хотя бы средневековых споров с историей материализма, потребовалось бы особое исследование»[421]. Родоначальником средневекового номинализма был Росцелин, учитель Абеляра, а современный Росцелину реализм представлял Ансельм, архиепископ Кентерберийский, ученый наставник богослова Ансельма Ланского, ближайшим учеником которого являлся философский враг Абеляра – Гильом из Шампо.
Средневековый реализм получил свое наименование от латинского слова «res» – «вещь», так как представители этой чисто идеалистической теории утверждали, что общие понятия (универсалии) обладают реальным существованием независимо от действительно существующего мира и до него. Доказывая таким образом и «реальность» существования объектов веры, средневековый реализм целиком отвечал интересам католической церкви и находил с ее стороны полную поддержку.
Учению реалистов номиналисты противопоставили учение о том, что все общие понятия и идеи (универсалии) – есть лишь слова или же наименования («nomina» – «имена») вещей, существующих действительно и предшествующих понятиям (отсюда и само наименование номинализма). Следовательно, номиналисты резко противопоставляли общее частному и признавали за подлинную реальность один только мир индивидуальных вещей. Отрицание номиналистами независимого существования общих понятий несомненно расчищало почву для стремления к эмпирическим знаниям и в какой-то степени толкало последователей номинализма на путь материалистических выводов.
Церковь сразу же усмотрела опасность в учении номиналистов и на одном из церковных соборов (в Суассоне, в 1092 г.) предала взгляды Росцелина анафеме и заставила его отказаться от философских занятий. Несмотря на это, философские взгляды Росцелина оказали чрезвычайно большое влияние на Абеляра, что и сказалось в его столкновениях с представителем крайнего реализма – Гильомом из Шампо, правда, несколько видоизменившим свои взгляды в процессе споров и примкнувшим к умеренным реалистам[422]. Настойчивое стремление Абеляра опровергнуть учение реалистов неизбежно вело к столкновению с католическими ортодоксами и делало Абеляра весьма подозрительным и нежелательным магистром в их глазах.
Не меньшее раздражение со стороны церкви должно было вызвать и столкновение Абеляра с видным католическим богословом Ансельмом Ланским во время пребывания Абеляра в Лане. Школа Ансельма Ланского с начала XII в. была одним из центров богословского образования. В ней воспитывались и обучались многие лица, занимавшие впоследствии видное место в католической иерархии. Можно сказать, что церковь гордилась школой Ансельма Ланского. Однако живой и критический ум Абеляра, специально приехавшего в Лан для того, чтобы прослушать курс богословия у столь известного теолога, не был удовлетворен, хотя и красноречивыми, но бессодержательными и пустыми лекциями Ансельма Ланского.
Перестав посещать его школу, Абеляр объявил, что отныне он сам возьмется за толкование священного писания, ибо это доступно любому образованному человеку. Заявление Абеляра, так же как и то, что объявленные им лекции по богословию привлекли к себе очень большое количество слушателей и понравились им, вызвало ярость Ансельма Ланского и его ближайших учеников – Альберика Реймсского и Лотульфа Ломбардского. Ансельм Ланский поспешил запретить Абеляру чтение лекций по богословию и изгнал его из Лана. Таким образом, столкновение Абеляра с Ансельмом Ланским по богословским вопросам привело к тем же самым результатам, что и философские споры Абеляра с Гильомом из Шампо.
Возвратившись в 1113 г. из Лана в Париж, Абеляр, как уже было указано выше, возобновил чтение лекций по философии, причем слава его как магистра «свободных искусств» росла с каждым днем. В кафедральную школу Парижа, где он преподавал, с разных концов Европы стекались ученики, стремившиеся приобрести философские знания под руководством прославленного учителя, и постепенно, как признается сам Абеляр, он начал считать себя «владыкою в области диалектики». Так, в неустанных научных занятиях и в непрерывном общении с многочисленными учениками, Абеляр провел пять наиболее спокойных и обеспеченных лет своей жизни.
Роман с Элоизой, поистине замечательной девушкой своего времени, отличавшейся не только красотой и умом, но и редкой для тогдашних женщин образованностью, резко нарушил спокойную жизнь философа, а внезапный и трагический конец этого романа привел Абеляра и Элоизу в монастырь (в 1119 г.)[423].
Вступив в монастырь Сен-Дени и несколько оправившись от пережитого потрясения, Абеляр, побуждаемый, как он сам говорит, настойчивыми просьбами клириков, через некоторое время удалился в одну из келий, расположенных вне монастыря, и вновь приступил к чтению лекций по философии и богословию, привлекших, как и ранее, множество учеников. Возобновившаяся преподавательская деятельность Абеляра возбудила волнение церкви, и против Абеляра немедленно выступили два прежних его врага, ученики Ансельма Ланского – Альберик Реймсский и Лотульф Ломбардский. К этому времени и Гильом из Шампо и Ансельм Ланский уже умерли, однако на смену ушедшим представителям «теократической партии» пришли другие, и борьба католической церкви с Абеляром, хотя и одетым отныне в монашескую рясу, не прекратилась.
Враги Абеляра обвиняли его в том, что, несмотря на вступление в монастырь, он не прекратил занятий философией, хотя это и не подобает монашескому званию, а также в том, что он осмелился читать лекции по богословию, не получив на это предварительного церковного разрешения. Они требовали категорического запрещения Абеляру вообще читать какие-либо лекции и добились созыва церковного собора для рассмотрения и осуждения «ошибочного учения» Абеляра. В доказательство еретических взглядов последнего они ссылались на его богословский трактат[424], по-видимому, пользовавшийся у учеников Абеляра огромным успехом.
Церковный собор был созван в 1121 г. в Суассоне, духовенство которого отличалось своим фанатизмом. Оно доказало это я на Суассонском собора 1092 г., осудившем учение Росцелина, и во время публичного сожжения представителей суассонской ереси в 1113 г. Наиболее осторожные участники Суассонского собора пытались несколько отсрочить расправу над Абеляром, стремясь противопоставить ему самых опытных в диспутах богословов и предлагая перенести его дело на суд парижского духовенства. К сторонникам такого решения принадлежал, в частности, видный член «теократической партии», один из ближайших помощников Бернара Клервоского – Готфрид, епископ Шартрский, боявшийся, что поспешное и неподготовленное осуждение Абеляра возбудит еще большую любовь к нему со стороны его учеников.
Однако точка зрения Готфрида не возобладала, и руководивший собором Реймсский архиепископ Рауль при поддержке папского легата Конона провел все то, чего добивались Альберик Реймсский и Лотульф Ломбардский. Собор осудил взгляды Абеляра как еретические и принудил его публично предать свой собственный богословский трактат сожжению. После этого Абеляр был отправлен в монастырь св. Медарда, славившийся строгой дисциплиной, и подвергнут в нем как бы заключению. Попытка известного в начале XII в. магистра «свободных искусств» Тьерри, который присутствовал на соборе, выступить в защиту Абеляра, никакого успеха не имела.-Несмотря на поддержку Тьерри, несомненно свидетельствовавшую о сочувствии Абеляру со стороны магистров и школяров городских нецерковных школ, и несмотря на то, что в монастыре св. Медарда Абеляр оставался очень недолго, решения Суассонского собора произвели на него крайне тяжелое впечатление. От глубокого потрясения, испытанного во время сожжения его книги, Абеляр не избавился уже до конца жизни.
Возвратившись в монастырь Сен-Дени, Абеляр погрузился в чтение монастырских рукописей и провел за этим занятием несколько месяцев. А затем для него вновь наступили беспокойные дни. Основываясь на содержании одной из прочитанных рукописей, он вступил с монахами Сен-Дени в спор по поводу того, кого именно надо считать основателем их монастыря и, вызвав своими предположениями сильнейшее негодование с их стороны, был вынужден бежать из Сен-Дени и отдаться под покровительство графа Шампани. Начались длительные переговоры между Абеляром и аббатом монастыря Сен-Дени, в результате которых Абеляр, прибегнувший к поддержке видных членов королевского совета, получил, наконец, разрешение жить вне стен этого аббатства с условием – не подчиняться никакому другому аббатству, кроме монастыря Сен-Дени. Абеляр поселился в пустынном местечке, недалеко от Труа, на подаренном ему (каким-то оставшимся нам не известным владельцем) участке земли и с помощью одного из своих учеников выстроил небольшую молельню.
Однако уединенная жизнь Абеляра длилась недолго. Как только ученики узнали, где находится знаменитый учитель, они тотчас же двинулись вслед за ним и вскоре в долине реки Ардюссона, близ воздвигнутой Абеляром молельни, выросла шумная и многолюдная колония, созданная явившимися туда школярами. Выстроив себе хижины, они занялись обработкой полей и, снабжая своего учителя всем необходимым, усердно слушали его лекции.
В занятиях и трудах прошли два мирных года (1122-1123 гг.). Но это спокойствие кончилось, лишь только вести о новой школе распространились по Франции. Большое стечение школяров, готовых мириться со всевозможными неудобствами ради лекций учителя, который был только что осужден на церковном соборе, не могло не встревожить церковь, тем более, что ардюссонская школа существовала вне всякого контроля с ее стороны.
На борьбу с Абеляром на этот раз выступили два наиболее видных представителя «теократической партии» – Бернар Клервоский и Норбер, из которых первый превосходно знал обо всем, что происходило в ардюссонской колонии, ибо монастырь Клерво, основанный Бернаром в 1115 г. в долине реки Об, находился недалеко от местопребывания Абеляра.
В состоянии паники и растерянности стал ожидать Абеляр нового удара, как только до него дошли слухи о том, что Бернар и Норбер замышляют против него нападение. Когда Абеляр, впав в отчаяние, уже начал обдумывать план бегства из «христианского мира» к мусульманам в Испанию, он получил неожиданное сообщение из Бретани о том, что братия находившегося там монастыря св. Гильдазия, по-видимому, прельщенная славой своего земляка, избрала его аббатом. Стремясь укрыться от нависшей над ним угрозы, Абеляр не раздумывая, покинул свою ардюссонскую школу и переехал в Бретань (1126 г.). Задача, которую ставил перед собою Бернар Клервоский на данном этапе борьбы с Абеляром, была достигнута: его последняя школа закрыта, а тесные связи с учениками – на долгое время прерваны.
Но самому Абеляру его переезд в Бретань не принес спокойствия. Совершенно не подготовленный к роли руководителя монастырской братии, он очень быстро пришел во враждебные с ней отношения и бежал из монастыря св. Гильдазия, бросив его на произвол судьбы. В каком месте Бретани скрывался в последующие годы Абеляр и как он провел их, нам неизвестно. Достоверно лишь то, что, бежав из монастыря, он написал свою удивительную автобиографию – «История моих бедствий».
IV
«История моих бедствий», публикуемая в настоящем издании – уникальное явление в средневековой литературе, ибо как никакое другое произведение она показывает читателю душевный мир человека, непрерывно преследуемого и гонимого церковью.
Задумав вернуться из Бретани в Париж (что и было им выполнено в 1136 г.), Абеляр, по-видимому, решил обратиться с подробным рассказом о бедствиях своей жизни ко всем тем, кто мог оказать ему помощь в предстоящей борьбе с врагами или просто выразить сочувствие. Поэтому, рассказав в «Истории моих бедствий» о коварных, завистливых и невежественных противниках, обрисовав в самых черных красках монахов тех монастырей, в которых ему довелось жить, и в то же время подробно описав свою прежнюю плодотворную деятельность в качестве магистра «свободных искусств», Абеляр переслал свое сочинение друзьям, после чего оно и получило широкое распространение по всей Франции.
Но надежды, которые Абеляр возлагал на «Историю моих бедствий», оправдались лишь только отчасти. Несомненно, что автобиография Абеляра напомнила лицам, заинтересованным в слушании его лекций, о его существовании, возбудила новую волну сочувствия к его тяжелой судьбе среди учащихся и магистров городских нецерковных школ и в какой-то степени восстановила порванные связи между Абеляром и школярами. Но, с другой стороны, автобиография Абеляра вызвала новые волнения и в лагере его врагов, вновь привлекла к нему внимание деятелей «теократической партии» и не только не оградила Абеляра от их преследований, но и безусловно ускорила его вторичное осуждение. Для того, чтобы понять это, достаточно ознакомиться с содержанием автобиографии Абеляра.
Написанная им уже после того, как он пробыл в монашестве более десяти лет. «История моих бедствий» не содержит в себе ничего монашеского. Напротив, все содержание и весь тон показывают, что и в монашеской рясе Абеляр продолжал оставаться магистром «свободных искусств» и ни в чем не изменил прежнего умонастроения. В этом нет ничего удивительного, ибо причины, которые заставили Абеляра обратиться к монашеской жизни, не имели ничего общего с религиозными мотивами. Он заявляет об этом с полной откровенностью.
Наиболее характерной чертой Абеляра, предстающего перед нами в «Истории моих бедствий», является его чрезвычайно высокое представление о собственной личности, столь необычное и неподходящее для человека, отрекшегося от «суетного мира». Шаг за шагом описывая свою жизнь, Абеляр не устает вспоминать о всех больших и малых успехах и не жалеет ни места, ни слов для изображения своей мирской славы. «История моих бедствий» полна восхваления ума и разнообразных талантов Абеляра, причем похвалы эти высказываются им не только от собственного имени или от имени его друзей и Элоизы, но и от имени его врагов. Автобиография Абеляра свидетельствует о том, что, принеся монашеские обеты, он нисколько не раскаялся в прежней «гордыне» и, рассказывая читателю о своей жизни, больше всего боялся опустить какие-либо подробности, способные увековечить его славу в глазах потомков.
Очень важно, что Абеляр останавливался лишь на таких фактах, которые относились к его литературной или преподавательской деятельности, т. е. гордился именно тем, за что его осуждала и преследовала церковь. Нежелание подчиняться церковному авторитету наиболее ясно сказывается в тех частях автобиографии Абеляра, где он описывает Суассонский собор и сожжение своей книги по несправедливому приговору его участников. Подобное изложение событий не могло не вызвать резкого возмущения в лагере церковников. Равное возмущение с их стороны должны были вызвать и те в высшей степени отрицательные и уничижительные характеристики, которые даны Абеляром всем сколько-нибудь видным представителям католического клира.
Деятели «теократической партии» не могли также пройти мимо отношения Абеляра к монашеской дисциплине. Став монахом в сорокалетнем возрасте и прожив после этого еще двадцать два года, Абеляр находился за это время в различных монастырях всего лишь несколько лет, неизменно стараясь избавиться от жизни за монастырскими стенами и от подчинения монашескому уставу. Монашеская дисциплина казалась магистру, привыкшему к славе, свободе и обеспеченному существованию, невероятной обузой, и он неизменно бежал из различных монастырей, куда забрасывала его судьба, возвращаясь к тому образу жизни, который был ему свойствен и приятен. Влечение Абеляра к занятиям философией и к повседневному общению с учениками было настолько сильным, что он продолжал создавать одну школу за другой и читать лекции, несмотря ни на какие преследования.
Препятствия, встречавшиеся на этом пути, оценивались Абеляром как нечто закономерное. Как показывает «История моих бедствий», ее автор превосходно учитывал то обстоятельство, что против него выступают не отдельные лица, а сильная и сплоченная группа людей, обладающих большой властью в церкви и не желающих мириться с его деятельностью. Вот почему, характеризуя противников, с которыми ему пришлось бороться, и рассматривая причины, заставившие долгие годы преследовать его, Абеляр неизменно употребляет одно и то же слово – «зависть» (invidia). Этой «завистью» были охвачены, говорит Абеляр, и Гильом из Шампо, и Ансельм Ланский, и Альберик Реймсский, и Лотульф Ломбардский, и остальные его враги. И если со сцены сходили одни, то на смену им приходили другие, которые в свою очередь передавали как по наследству свою ненависть к Абеляру новым преследователям.
Об этом же свидетельствует и переписка между Абеляром и Элоизой, являющаяся как бы непосредственным дополнением к «Истории моих бедствий»[425]. Особенный интерес безусловно имеют письма Элоизы, написанные ею в то время, когда она уже была аббатиссою женского монастыря, основанного там, где некогда находилась ардюссонская школа Абеляра. Поводом для возобновления переписки с Абеляром, как указывает сама Элоиза в первом письме к нему, явилось то, что ей в руки попала «История моих бедствий». Мучимая страхом за жизнь своего бывшего возлюбленного, она решила тотчас же написать ему. Как видно из этого письма, безграничная любовь к Абеляру продолжала жить в душе Элоизы, и монашеское одеяние, в которое она облеклась еще в ранней юности, оказалось для нее не менее тяжким, чем для философа.
Ответ Абеляра на это письмо был очень теплым. Он выражал благодарность Элоизе за ее беспокойство, с умилением вспоминал о том, как сердечно его принимали в ее монастыре, восхвалял Элоизу за ее мудрость и добродетели, а в заключение умолял в случае его смерти похоронить его в той обители, где она была аббатиссою. Послание Абеляра вызвало второе письмо Элоизы, в котором она с полной искренностью и огромной душевной силой писала о своих подлинных чувствах и переживаниях, лишь подавленных, но не уничтоженных принесенными ею монашескими обетами. Это письмо, как и первое, показывает, что Элоиза вела мучительнейшую жизнь и сожалела вовсе не о том, что некогда «грешила», а лишь о том, что ее счастье длилось столь недолго. Подобно Абеляру, Элоиза заявляла, что вступить в монастырь ее побудило совсем не благочестие, и горько оплакивала трагический конец их любви. Не переставая думать о радостях прежней жизни, Элоиза в сущности оставалась мирянкою и в монашеском одеянии. Ее письма, обращенные к Абеляру, это не письма монахини, а страстные любовные послания. Чисто мирская направленность этих писем еще более зримо выражала настроения, характерные и для автобиографии Абеляра.
На второе письмо Элоизы Абеляр ответил крайне сухим и рассудочным посланием, по-видимому, не желая будить мучительные для Элоизы воспоминания о прошлом. Абеляр требовал, чтобы Элоиза переносила выпавшие ей на долю страдания с покорностью и не писала бы больше подобных писем. Элоиза повиновалась, и с тех пор переписка ее с Абеляром велась уже в рамках, обычных для образованных монахов тогдашней эпохи.
V
Автобиография Абеляра обрывается как раз на тех годах его жизни, которые предшествовали открытому столкновению с главою «теократической партии» Бернаром Клервоским. Поэтому об обстоятельствах, сопутствовавших подготовке церковного собора в Сансе (1140 г.), о том, что происходило на этом соборе и о реакции учеников Абеляра на вторичное его осуждение церковью, мы узнаем из других источников, – главным образом, из современных хроник, из писем Бернара Клервоского и из «Апологии» схоластика Беренгария, ученика Абеляра.
Возвратившись из Бретани в Париж, Абеляр вновь поселился на холме св. Женевьевы, где когда-то, еще в период борьбы с Гильомом из Шампо, имел свою школу, и вновь начал чтение лекций по диалектике. Как и раньше, лекции Абеляра пожелало посещать большое количество слушателей, и его школа опять стала центром публичного обсуждения богословских проблем, рассматриваемых с философской точки зрения. Открытие «новой школы и возобновившаяся преподавательская деятельность Абеляра вызвали немедленную реакцию со стороны церкви, которую больше всего тревожила многочисленность учеников, собравшихся вокруг осужденного ею учителя[426].
Однако церковь тревожило не только личное общение Абеляра со школярами. Еще большее беспокойство с ее стороны вызывало то, что ученики Абеляра, и прежде всего ваганты, распространяли его сочинения не только во Франции, но и в Италии, и в Англии. По-видимому, немалую роль в особенной популярности Абеляра в эти годы сыграла «История моих бедствий». Наибольшей известностью среди школяров и магистров «свободных искусств» в это время пользовались такие произведения Абеляра, как «Диалектика», «Введение в теологию» (которое в письмах Бернара и его друзей именовалось просто «Теологией»), «Этика» или трактат «Познай самого себя», а также «Да и Нет»[427]. Эти книги читались и переписывались, и таким путем взгляды Абеляра приобретали все большее распространение.
Но каковыми же были эти взгляды? И в чем церковь видела главную опасность, грозившую ей со стороны Абеляра? С исчерпывающей ясностью на этот вопрос ответил Энгельс, писавший: «У Абеляра главное – не сама теория, а сопротивление авторитету церкви»[428]. И действительно, наибольшую ярость церкви вызывали не богословские «заблуждения» Абеляра, а его отношение к вопросу о разуме и вере, его постановка вопроса о разуме и церковных «авторитетах» и, наконец, даваемая им оценка античной философии и светского знания. В условиях широкого распространения народных ересей и роста освободительного движения городов антиавторитарные тенденции Абеляра казались церкви весьма опасными. Общий дух учения Абеляра делал его в глазах церкви наихудшим из еретиков.
В эпоху, когда философия, согласно церковным воззрениям, считалась лишь служанкой теологии, интерес философов к богословским проблемам был естествен и закономерен. Заняться ими решил и Абеляр. Но обратившись к занятиям богословием, он попытался прежде всего поставить и разрешить целый ряд общих вопросов и посвятил им свое «Введение в теологию», трактат, которым он больше всего гордился.
Первым из таких общих вопросов, поставленных Абеляром в его трактате, был вопрос о разуме и вере. Уже в небольшом «Прологе» к своему «Введению в теологию» Абеляр высказал по этому поводу несколько любопытных мыслей. Он утверждал: что христианская вера нуждается в укреплении ее доводами разума; что «глубины философии» облегчают понимание христианской веры и что светская литература и книги «язычников», т. е. античных философов и писателей, не только приводят к лучшему пониманию священного писания, но и помогают утвердить его истину[429].
Продолжая далее рассмотрение этой проблемы в самом «Введении», Абеляр выдвигал следующие положения: христианское вероучение должно быть «понятным»; нельзя принимать на веру ни одного положения, не проверив его предварительно с помощью разума; «невеждами» являются все те, которые восхваляют пыл веры, принимающей то, что не доказано прежде разумом. Таким образом, Абеляр выражал здесь точку зрения, прямо противоположную церковной, ибо официальная формула церкви гласила: «верую, чтобы понимать», а не «понимаю, чтобы верить». Положения, высказанные Абеляром о разуме и вере, вызвали бурю негодования у представителей «теократической партии»[430].
Столь же неверно с точки зрения церкви решал Абеляр вопрос о разуме и церковных «авторитетах». Отношение Абеляра к этой проблеме вскрывается лучше всего при ознакомлении с «Прологом» к его известному труду «Да и Нет»[431].
«Да и Нет» состоит из огромного количества цитат, которые Абеляр выбрал из произведений различных церковных авторов, дававших на одни и те же вопросы прямо противоположные ответы. По-видимому, занявшись изучением богословских вопросов и обнаружив непримиримые и вопиющие противоречия в трудах многочисленных церковных писателей, Абеляр обратил на это свое внимание и решил собрать воедино все противоречивые высказывания. Сам он не сделал попыток как-либо разрешить обнаруженные им противоречия и передал этот труд непосредственно своим ученикам, указывая, что путем к отысканию истины является «сомнение». Нетрудно представить себе, каков был результат подобного выступления Абеляра.
Как уже было указано выше, Абеляр снабдил свой колоссальный труд небольшим «Прологом»[432], в котором высказал свое весьма далекое от ортодоксального отношение к церковным «авторитетам». Хотя «Пролог» и начинается предостережением, обращенным к читателю, – не судить о сочинениях церковных авторов по первому впечатлению, – однако Абеляр тут же отмечает, что в сочинениях этих авторов кое-что кажется явно противоречивым. Абеляр призывает читателей не доверяться слепо тому, что они читают, и не соглашаться с суждениями, явно противоречащими друг другу, но, напротив, стараться объяснить попадающиеся в тексте несообразности. Указывая далее на ряд способов, при помощи которых читатель может попытаться достигнуть этого, Абеляр вместе с тем подчеркивает, что в случаях, когда противоречие остается неразрешимым, всякий имеет право, следуя своему разуму, избрать тот «авторитет», утверждения которого представляются ему более убедительными. Разумеется, будучи сыном своего времени, Абеляр не мог отрицать значения церковных «авторитетов» вообще. Его собственные богословские трактаты полны ссылок на сочинения церковных авторов, как и трактаты других современных ему теологов. И тем не менее Абеляр решительно отличался от последних тем, что рассматривал труды различных церковных писателей не как выражение абсолютной и незыблемой истины, а как сочинения, в которых встречаются и неточности, и ошибки, и прямые противоречия. Сколь бы велик ни был авторитет того или иного автора, утверждал Абеляр, разум имеет право отклонять все ошибочное, не подвергаясь за это упрекам.
Положения, развитые Абеляром в его «Введении в теологию» и в «Прологе» к «Да и Нет», были глубоко продуманными, что подтверждается одним из интереснейших ранних произведений Абеляра, написанным также до Суассонского собора в форме диалога между философом, иудеем и христианином[433]. Начинается этот «Диалог» с рассказа Абеляра о том, что ему приснился сон, будто бы к нему обратились три мужа – философ, иудей и христианин – с просьбою разрешить их спор: какая из исповедуемых ими религий является наилучшей? Абеляр охотно согласился выслушать соображения каждого, заявив, что ни одно учение не является до такой степени ложным, чтобы не заключать в себе какой-нибудь истины. В соответствии с этим положением, как бы определяющим направление всего трактата, Абеляр и излагает далее свое понимание иудейской и христианской религий, а также естественного закона (т. е. предписаний разума) – у философа.
Форма трактата, написанного в виде диалога, давала Абеляру возможность значительно более свободно высказывать свои мысли, далекие от ортодоксальности, чем он мог это делать в других произведениях. В «Диалоге» он как бы скрывался за фигурами спорящих и вкладывал в их уста такие суждения, которые он вряд ли мог бы выразить от своего имени. Наибольший интерес в этом смысле имеют, конечно, высказывания философа и христианина. Рассуждениям философа, излагающего свое понимание естественного закона, положения которого не нуждаются в подтверждении «предписаниями внешних определений»[434], подобным тем, которые устанавливаются священным писанием, в «Диалоге» уделено самое значительное место. Устами философа Абеляр восхваляет и этическое учение древних философов. Он доказывает, что их понимание высшего блага и высшей справедливости выше иудейского и нисколько не ниже христианского, и заявляет о полном соответствии этики древних философов с требованиями разума. При этом Абеляр высказывает те же самые мысли по поводу разума и церковных «авторитетов», которые были им развиты в «Прологе» к «Да и Нет». Более того, Абеляр заставляет в «Диалоге» соглашаться с этими мыслями и христианина, который, казалось, был бы обязан самым решительным образом выступить против подобных антицерковных утверждений[435]. Неудивительно, что положения, высказанные Абеляром по поводу разума и церковных «авторитетов», вызвали не меньшую злобу со стороны церкви, чем его заявления относительно веры и разума[436].
Столь же серьезные основания деятели «теократической партии» имели для борьбы с Абеляром как с убежденным защитником светского знания, восхвалявшим античную философию во всех своих философских и богословских произведениях. Точка зрения Абеляра, который отстаивал самостоятельное познавательное значение «свободных искусств», и прежде всего философии, противоречила точке зрения церкви, которая видела в них лишь вспомогательное средство к овладению, как она утверждала, «единственной истинной наукой», т. е. богословием. Особенно возмущала лиц, подобных Бернару Клервоскому, аргументация Абеляра.
В самом деле, справедливость своей точки зрения на «языческую» философию Абеляр доказывал двояким образом: во-первых, он утверждал, что античные философы, жившие согласно естественному закону или велениям разума, в нравственном смысле стояли несравненно выше, чем современное Абеляру католическое духовенство; во-вторых, он заявлял, что между древней философией и христианством фактически лет никакой грани[437]. Настойчиво «христианизируя» учение античных философов, Абеляр стремился таким путем утвердить высокую его ценность и доказать необходимость самостоятельного по отношению к богословию существования светского знания.
Особенно резко обрушивался Абеляр на тех представителей католической церкви, которые прикрывают свое невежество ссылками на ни о чем не спрашивающую веру и клянут философию, как пустую софистику. Против этих, как он называл их, «невежд» Абеляр выступал и в «Диалоге», и во «Введении в теологию». Этому же вопросу он посвятил и специальное небольшое произведение «Возражение некоему невежде в области диалектики, который, однако, порицал занятие ею и считал все ее положения за софизмы и обман»[438]. Указывая, что он не может убедить сторонников слепой, ни о чем не рассуждающей веры, доводами разума, которых эти люди не приемлют, Абеляр пытался доказать высокую ценность античной философии при помощи ссылок на церковные авторитеты. Вряд ли при этом Абеляр мог думать, что люди, подобные Бернару Клервоскому, будут убеждены его ссылками. Цель, преследовавшаяся Абеляром в его «Возражении некоему невежде...», была, по-видимому, иная: сравнивая сторонников слепой веры с лисой, хулившей вкус вишен на высоком дереве, куда она была не в силах забраться, Абеляр в весьма наглядной форме доказывал ученикам невежество своих врагов из лагеря католической ортодоксии. Последние не остались в долгу. Восхваление Абеляром античных философов и их учения вызвало самую резкую критику со стороны Бернара Клервоского[439].
VI
Вокруг Бернара Клервоского, ставшего инициатором нового церковного собора, сразу же образовалась сплоченная группа из самых воинствующих элементов католической церкви. Против Абеляра выступили: Готье Мавританский – будущий Ланский епископ; Гуго Метелл – горячий поклонник Бернара; последователи и ученики Гильома из Шампо, объединявшиеся вокруг богословской школы в аббатстве Сен-Виктор; монахи премонстрантского и цистерцианского орденов и видные представители католической иерархии. Собору, который открылся в Сансе в начале июня 1140 г., предшествовала большая подготовительная работа[440].
Для участия в суде над Абеляром в Санс съехалось многолюдное общество. На этот раз против опасного для церкви магистра объединились самые видные представители «теократической партии»: сам Бернар Клервоский, Самсон, архиепископ Реймсский с подчиненными ему епископами – Иосцелином Суассонским, Альвизием Аррасским.и Готфридом Шалонским[441], Генрих, архиепископ Сансский со своими епископами – Готфридом Шартрским, Элиасом Орлеанским, Гуго Оксерским, Аттоном Труаским и Манасессом, епископом Мо[442], и другие. Некоторые из этих «судей» выступали против Абеляра уже вторично, ибо в свое время они были участниками Суассонского собора 1121 г.
Наряду с представителями высшего духовенства на Сансский собор прибыли также король Франции Людовик VII, граф Шампани и граф Невера со своими свитами, многочисленные аббаты и клирики, а также школьные магистры из городов, по-видимому, рассчитывавшие на то, что между Абеляром и Бернаром Клервоским на соборе развернется диспут, как об этом повсюду рассказывал сам Абеляр перед приездом в Санс.
Однако этим надеждам было не суждено сбыться, ибо уже накануне открытия собора состоялось предварительное совещание участников собора (соединенное с пиршеством), где было предрешено осуждение Абеляра[443].
Официальное открытие собора произошло на следующий день, причем события развернулись не совсем так, как это было задумано Бернаром Клервоским. Когда Абеляр появился перед своими «судьями» и Бернар, выступавший в роли официального обвинителя, начал громко оглашать те «еретические» главы из сочинений Абеляра, которые уже были рассмотрены и осуждены на предварительном совещании, Абеляр прервал чтение и, заявив, что он апеллирует к папе, покинул собор вместе со своими сторонниками. Участники собора осудили сочинения Абеляра и обратились к папе с посланием. Они просили у Иннокентия II осуждения еретического учения Абеляра на веки вечные, беспощадной расправы с теми, кто это учение поддерживает, полного запрещения Абеляру писать и преподавать и, наконец, повсеместного уничтожения книг Абеляра, где бы они ни были найдены[444]. Папа выполнил все эти просьбы[445].
Оценивая реакционнейшее значение решений Сансского собора, выдающийся русский мыслитель и революционер XVIII в. А. Н. Радищев писал в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «...священнослужители были всегда изобретателями оков, которыми отягчался в разные времена разум человеческий... они подстригали ему крылие, да не обратит полет свой к величию и свободе... Собор Сансский в 1140 г. осудил мнения Абелярдовы, а папа сочинения его велел сжечь...»[446].
Почему же Абеляр покинул собор, не пожелав выступить? Бернар настойчиво утверждает, что Абеляр якобы растерялся и, будучи крайне неуверен в своих силах, решил уклониться от диспута. Это совершенно не соответствует истине.
Когда Абеляр ехал на собор, он надеялся на возможность вступить в спор со своим главным врагом и легко разбить его, поскольку ему было известно о невежестве Бернара в области философии. Однако, приехав в Санс и узнав о составе своих «судей», а также о состоявшемся предварительном совещании «отцов» собора, уже осудивших его взгляды, Абеляр понял, что его ожидает простое повторение Суассонского собора. Так как лицо, обратившееся к папскому суду, не могло быть подвергнуто наказанию по приговору церковного собора, Абеляр ухватился за эту соломинку и апеллировал к папе[447].
Письма Бернара Клервоского, посвященные Сансскому собору, ярко воссоздают картину расправы над неугодным церкви магистром. Однако значение этих писем намного шире, ибо именно в них подводится итог борьбе, которую церковь вела с Абеляром в течение трех десятилетий, и сформулированы причины, делавшие эту борьбу необходимой для церкви. Из писем Бернара видно, что церковь рассматривала Абеляра не только как еретика, восстанавливающего важнейшие и давно уже осужденные ею ереси, но и как человека, сознательно извращавшего все католическое учение в целом.
Действительно, желание постигнуть и объяснить с точки зрения разума принципиально иррациональные догматы церкви неизбежно приводили Абеляра к еретическим выводам. Этим объясняются предъявлявшиеся ему обвинения сразу и в арианской, и в пелагианской, и в несторианекой ересях[448].
Но из писем Бернара Клервоского с очевидностью следует также, что главную опасность со стороны Абеляра церковь видела в другом. Стараясь дискредитировать Абеляра в глазах его многочисленных учеников как человека, виновного в самых тяжких ересях, Бернар в то же время с полною откровенностью писал в Рим, что больше всего его пугает общее направление учения Абеляра и прежде всего тот чисто мирской дух исследования, критицизма и скепсиса, который он перенес из области философии в теологию, так что самые важные догматы католической церкви стали предметом споров и обсуждений среди школяров Франции. Бернар писал: «Запятнал человек этот церковь и занес свою ржавчину в умы простых. При помощи своих мудрствований он пытается исследовать то, что благочестивый ум воспринимает посредством живой веры. Вера благочестивых верит, а не рассуждает. Но человек этот, относясь с подозрением к богу, согласен верить только тому, что он ранее исследовал с помощью разума»[449].
VII
Свободомыслие Абеляра, дерзавшего низводить теологию на уровень обычного школьного предмета, пугало Бернара именно потому, что оно находило сочувственный отклик у многочисленных слушателей преследуемого церковью философа. О большом количестве учеников и приверженцев, окружавших Абеляра накануне собора в Сансе,. Бернар писал в Рим как об очень грозном явлении: «Мы вступили в опасные времена. У нас есть магистры, прожужжавшие нам уши; учащиеся отвращают свой слух от истины и обращаются к небылицам. Имеется у нас во Франции монах, не подчиненный уставу, прелат, не имеющий забот, аббат, не сдерживаемый какими-либо правилами, Петр Абеляр, который рассуждает с юнцами и болтает с женщинами. Он преподносит своим приспешникам тайную воду и потаенный хлеб в книгах и вводит нечестивые новшества в слова и суждения своих проповедей. И он шествует не один, наподобие Моисея, во мрак, где находился бог, но с большою толпою своих учеников. На площадях и улицах ведутся споры о католической вере, о рождении девы, о таинстве алтаря, о непостижимой тайне святой троицы»[450].
Конечно, нельзя думать, что все ученики Абеляра были его последователями. Лекции прославленного учителя посещали и клирики, и рыцари, и горожане, и лица, подобные вагантам, утратившие связь со своими сословиями. Многим из слушателей Абеляра общий антиавторитарный дух его учения оставался глубоко чуждым. Напротив, другие ему сочувствовали и видели в свободомыслии Абеляра отражение собственных настроений. Эти приверженцы Абеляра безусловно были связаны с городом, составляли часть складывающейся прослойки молодой городской «интеллигенции» и выступали то как сторонники еретических учений, то как носители антицерковной культуры в городах. Это были магистры городских нецерковных школ, вроде Тьерри, заступившегося за Абеляра на Суассонском соборе, или схоластика Беренгария, написавшего в защиту Абеляра (уже после его вторичного осуждения на Сансском соборе) свою «Апологию». Это был такой яркий представитель ранней бюргерской ереси, как Арнольд Брешианский, ученик и друг Абеляра, заимствовавший у своего учителя ряд положений, которые он применил в своей проповеди идей «бедной церкви»[451]. Это были «бродячие школяры» – ваганты, создатели голиардической[452] поэзии, повсюду следовавшие за Абеляром и не боявшиеся поддерживать философа, преследуемого церковью.
Лишенные всякой собственности и оседлости «бродячие школяры», весьма близкие по своему положению к плебейским элементам города, очень чутко реагировали на любые проявления революционной оппозиции феодализму в идеологической области. Об этом свидетельствует содержание их поэзии. Нападая на католическую церковь, бичуя ее пороки и нередко высмеивая ее догматы, поэты-голиарды вместе с тем решительно отрицали лицемерную церковно-аскетическую мораль и воспевали в своих стихах всевозможные земные наслаждения. Постоянной мишенью критики голиардов являлось папство, сатирическое изображение которого дополнялось не менее сатирическим изображением белого и черного духовенства. Голиарды беспощадно и ядовито высмеивали продажность, царящую в папской курии, алчность епископов, неподобающий образ жизни священников, лицемерие, грубость и невежество монахов.
«Бродячие школяры» подхватывали и распространяли стихи, сложенные их товарищами, распевая эти песенки во встречавшихся им по пути городах и замках. Бродя по всей Франции, ваганты, непосредственно наблюдавшие жизнь народных масс, испытывали прямое воздействие с их стороны, что не могло не усиливать антицерковную и демократическую направленность поэзии голиардов. Несмотря на то, что ваганты писали свои произведения на латинском языке (официальном языке тогдашней школы), их поэзия по своему содержанию была несравненно ближе к народному творчеству, чем феодально-придворная поэзия труверов на старофранцузском языке.
Оппозиционное по отношению к церкви настроение «бродячих школяров» не могло не оказывать влияния на магистров городских нецерковных школ. В свою очередь и сами ваганты стремились попасть в те школы, магистры которых преподавали в желательном для них духе. Они охотно слушали лекции таких магистров, охотно переписывали и распространяли их книги. Так возникала крепкая связь между «бродячими школярами» и лицами, подобными Абеляру.
Учитывая все это, церковь жестоко преследовала вагантов, создателей и носителей антицерковной поэзии. В церковных постановлениях их творчество рассматривалось как «бесстыдное» и «безумное», а сами ваганты клеймились как люди, ведущие порочный и беспорядочный образ жизни. Являвшиеся своего рода связующим звеном между школьными магистрами, выступавшими против безоговорочного авторитета церкви, и народными массами, с которыми во время своих бесконечных странствований они постоянно соприкасались, ваганты были весьма опасны для католической церкви. Вот почему, обращая внимание папы на эту опасность и требуя принятия срочных мер, Бернар писал: «Почти по всей Галлии, в городах, деревнях и замках, не только в школах, но и на перекрестках дорог, и не только образованные или зрелые, но и юные, простые и заведомо невежество венные школяры рассуждают относительно святой троицы...»[453].
Чрезвычайно большой интерес для понимания того, что представляли собою приверженцы Абеляра, имеет фигура его ближайшего ученика – схоластика Беренгария. Беренгарий выступил со своей «Апологией»[454] после Сансского собора и утверждения его приговора папою, т. е. в тот момент, когда Бернар Клервоский и другие участники собора торжествовали полную победу над Абеляром и полагали, что теперь уже навсегда отняли у него многочисленных учеников и последователей. И однако это было не так. «Апология» Беренгария, в которой он подверг Сансский собор беспощадной и едкой критике, очень быстро распространилась во Франции и Италии – обстоятельство, показавшее, что и вторичная расправа над Абеляром не уничтожила его нежелательного для церкви влияния на учащуюся молодежь.
Время и место рождения Беренгария неизвестны. Можно лишь только предполагать, что по месту рождения и воспитания или по месту своей дальнейшей деятельности Беренгарий имел отношение к Севеннской области. До собора в Сансе Беренгарий, являвшийся одним из ближайших учеников Абеляра, жил, по-видимому, в Париже. Во время Сансского собора он был еще совсем молодым, хотя содержание «Апологии» ясно свидетельствует о том, что ее написал человек, уже вышедший из ученического возраста. Значительно определеннее данные о том положении, которое занимал Беренгарий. В «Апологии» он прямо называет себя схоластиком, т. е. школьным магистром, а в одном из более поздних посланий к епископу Манда – мирянином. Таким образом, Беренгария можно считать типичным представителем той общественной прослойки, к которой принадлежали магистры городских нецерковных школ, ваганты и другие близкие к ним представители зарождавшейся городской культуры. О чисто мирском направлении мышления Беренгария свидетельствует и все содержание его «Апологии» – этого раннего публицистического произведения, непосредственно связанного с современными событиями и насыщенного духом борьбы. Значение антицерковного памфлета Беренгария очень велико. Появление и распространение этого памфлета свидетельствовало, что во Франции возникла такая общественная прослойка, представители которой уже начали обращаться к перу, как к единственному доступному им роду оружия.
Памфлет Беренгария строен по композиции, обнаруживает выдающуюся для XII в. эрудицию его автора и показывает его незаурядные сатирические способности. Язык «Апологии» – образный, острый, изобилующий неожиданными сравнениями. Памфлет делится на две части. Первая посвящена описанию Сансского собора, вторая – критике главного организатора этого судилища – Бернара Клервоского. Видимо, Беренгарий стремился вызвать симпатии общественного мнения по отношению к Абеляру не путем защиты его взглядов, а путем разоблачения закулисной стороны собора и дискредитации его участников. Отсюда особенное внимание Беренгария к предварительному совещанию, состоявшемуся перед заседанием собора, и те резкие выпады против самых видных представителей католического клира, и особенно Бернара Клервоского, которыми изобилует «Апология».
Очень важно отметить, что эта критика перерастает у Беренгария в критику папства и папской курии. Резко осуждая папу за его безоговорочное согласие с решениями Сансского собора, Беренгарий столь же резко отзывается и о римских кардиналах, которые, как он пишет, научились в папской курии любить не бога, а золото. Заявление Беренгария весьма интересно, ибо оно свидетельствует о несомненной идейной связи Беренгария с Арнольдом Брешианским, находившимся в то время во Франции, я о близости Беренгария к голиардам, высказывавшим те же мысли в своих сатирических стихотворениях. Общее оппозиционное по отношению к католической церкви настроение самых близких учеников Абеляра несомненно, как несомненна и связь этого настроения с антицерковной и антипапской проповедью городских еретиков.
Намерение Беренгария выпустить вскоре в свет продолжение «Апологии», исключительная смелость, с которой он расправлялся в своем памфлете с наиболее видными деятелями «теократической партии» и, наконец, быстрое распространение «Апологии» не только во Франции, но и в Италии (нет никакого сомнения в том, что самое активное участие в этом приняли «бродячие школяры»), все это вместе взятое позволяет утверждать, что Беренгарий не был одинок в своем сочувствии к Абеляру. Антицерковная направленность его памфлета нашла непосредственный отклик среди того общественного слоя, к которому принадлежали представители оппозиционной по отношению к церкви ранней городской культуры.
Неудивительно, что церковь не прошла мимо «Апологии» Беренгария. На него обрушилось одновременно и белое и черное духовенство, и он оказался вынужден не только бежать от этих преследований в Севеннские горы, но и письменно заявить о своем отказе от выпуска в свет продолжения «Апологии».
Но в чем же значение выступления Беренгария? В отличие от другого ученика Абеляра – Арнольда Брешианского, Беренгарий не имел непосредственной связи с народными массами и не участвовал в их антифеодальной борьбе. Свою «Апологию», написанную на латинском языке, он предназначал для узкого слоя магистров «свободных искусств» и их учеников. Круг его интересов ограничивался пределами преподавательской и литературной деятельности, и дальше этого Беренгарий не шел. Ни в памфлете, ни в своих письмах он не выдвинул никакой позитивной программы. И все же, несмотря на это, его выступление имело большое значение. Сильная сторона «Апологии» заключалась в общей тенденции этого произведения, носившего тот же антиавторитарный характер, что и трактаты учителя Беренгария. Самым же главным являлось то, что памфлет Беренгария был написан непосредственно после расправы, учиненной над Абеляром деятелями «теократической партии», и явился как бы ответом на эту расправу со стороны тех, кто стоял на позициях свободомыслия.
VIII
Такова история Абеляра и той борьбы, которую он и его ученики вели с католической церковью. Прогрессивный характер этой борьбы не вызывает сомнений, так же как не вызывает сомнений и то, что гонения, которым церковь подвергала людей, осмелившихся оказать открытое сопротивление ее авторитету и нарушить ее многовековую монополию в области образования, нанесли огромный ущерб развитию средневековой культуры.
Конечно, нельзя забывать, что сам Абеляр был человеком весьма далеким от народных масс и так же, как Беренгарий, не принимал никакого участия в антифеодальных движениях своего времени. Принадлежавший к умеренному крылу молодой городской «интеллигенции», Абеляр отражал в своей деятельности интересы тех элементов, из которых впоследствии сформировалось средневековое бюргерство. Отсюда нестойкость и непоследовательность Абеляра, особенно заметная при сравнении его поведения с поведением даже рядовых участников средневековых народных ересей.
В своих столкновениях с церковью Абеляр чаще оборонялся, чем: наступал, готов был идти на различные компромиссы и даже просить у церкви прощения. Нельзя сказать, что Абеляр был всегда последователен и в своих взглядах. Так, например, выдвигая на первый план разум и категорически отрицая слепую веру, он в то же время не отвергал католических догматов и, хотя часто истолковывал их в антицерковном духе, был субъективно уверен, что поступает как верный сын церкви.
Но субъективные представления Абеляра и объективные результаты его преподавательской и литературной деятельности были различны. Тесно связанный со своими учениками, и прежде всего с вагантами, постоянно соприкасавшимися с народными массами, Абеляр, несмотря на свою непоследовательность, был страшен для церкви тем влиянием, которое могли оказать на народные массы его антицерковные высказывания. Наибольшую тревогу со стороны церкви вызвали антиавторитарные тенденции Абеляра, ибо именно в этом пункте его учение особенно близко соприкасалось с народными ересями. Совершенно реальная для господствующего класса опасность, которая вырастала в XI и XII вв. во Франции «снизу», дает нам возможность понять не только причины резко враждебного отношения католической церкви к Петру Абеляру, но и исторически-прогрессивный: смысл его деятельности, о которой В. Г. Белинский писал: «...еще в средние века являлись великие люди, сильные мыслию и упреждавшие свое время; так, Франция еще в XII веке имела Абелара; но люди, подобные ему, бесплодно бросали во мрак своего времени яркие молнии могучей мысли: они были поняты и оценены через несколько веков после их смерти»[455].