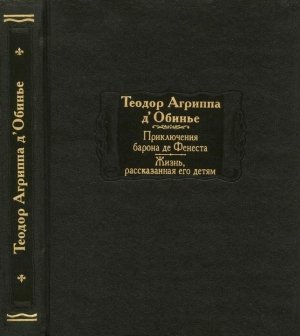
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Замысел этой книги возник почти тридцать лет тому назад, когда Ирина Волевич принесла мне первые наброски своего перевода «Фенеста». Перевод этот еще требовал работы, хотя переводчица знала французский совсем неплохо, а русским умела пользоваться на удивление свободно (видимо, это от Бога). Уже тогда она могла переводить легко, изобретательно и смело, подчас даже лихо, как потом переводила Жана Жироду, Мишеля де Гельдерода, Франсуазу Саган, Раймона Кено, Веркора, Мишеля Турнье или Паскаля Киньяра. Однако филологической подготовки явно не хватало. Выслушав мои замечания, Ирина Волевич принялась самозабвенно учиться. Но учиться своеобразно – переводя, переводя, переводя, идя от простого к сложному. Она переводила современную литературу и одновременно литературу старую, особенно новеллистику, вообще прозу французского Возрождения – от анонимных «Пятнадцати радостей брака» и «Тристана» Пьера Сала до авторов второй половины XVI столетия, а потом и знаменитого Брантома («Галантные дамы»), современника и знакомца д’Обинье.
Тем временем перевод «Фенеста» все дорабатывался, улучшался, переписывался заново. Готовность и стремление Ирины Волевич делать все новые и новые варианты перевода, вообще ее усидчивость и трудолюбие всегда поражали. Таким образом набирался опыт, прибавлялись знания. На определенном этапе перевод посмотрел придирчивый и мизантропичный Н. М. Любимов и серьезных замечаний не сделал. Смотрел перевод и A. M. Ревич (о нем речь впереди).
Странная вещь: почти за тридцать лет я так и не смог понять, почему недавней выпускнице Инъяза пришло в голову переводить Агриппу д’Обинье, писателя в России не очень известного, к тому же переводить текст невероятно трудный, полный нарочитых архаизмов, диалектных выражений, сложной словесной игры. Изобилует текст романа и всевозможными намеками, в наше время непонятными даже специалистам; поэтому «Фенеста» не пробовал переводить у нас никто. К тому же эта книга не считалась у писателя главной. Главное произведение Агриппы – «Трагические поэмы», труднейшие и просто для понимания, и для перевода. Еще в первые десятилетия XX века их пытался переводить Валентин Парнах, поэт, литературный и художественный критик, джазмен, сценограф, мемуарист, вообще личность примечательная и несколько загадочная. Часть того, что Парнах перевел, увидело свет, сначала в его книге «Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции» (1934), а потом в сборнике 1949 г. (Агриппа д’Обинье. Трагические поэмы. Мемуары). Еще в 1914 г. около 200 строк из «Трагических поэм» перевел и напечатал Сергей Пинус. Кое-что затем печаталось в антологиях и хрестоматиях, в том числе в переводе М. М. Казмичева или того же Парнаха. Долгие годы над переводом эпического цикла д’Обинье работал Валентин Дмитриев. Он перевел всё, дважды предлагал свой перевод «Литературным памятникам», но редакционная коллегия серии этот перевод не одобрила.
В начале 1970-х годов переводить Агриппу д’Обинье предложили Александру Михайловичу Ревичу. Для «Библиотеки всемирной литературы» он перевел несколько стихотворений и отрывок из поэмы «Мечи» (пятая книга «Трагических поэм»). Все это было напечатано в 1974 г. И тут Ревич «заболел» Агриппой. Он по сути дела совершил три подвига: во-первых, он прочел весь этот трудный и длинный текст, вжился и вчувствовался в него, понял и полюбил его суровую красоту; во-вторых, он «Трагические поэмы» перевел, на что ушел не один год кропотливого и вдохновенного труда; в-третьих, он нашел издателя, что в наше время совсем непросто. Им оказалась Елизавета Нестерова, директор издательства «Присцельс». Был приглашен опытный редактор – Елена Тарусина. Книга, роскошно оформленная, вышла в 1996 г. Ее появление стало заметным фактом нашей литературной жизни. Появились рецензии, затем последовала премия имени Мориса Ваксмахера, присуждаемая журналом «Иностранная литература» совместно с посольством Франции в России, и наконец государственная премия за 1998 год.
Вместе с «Трагическими поэмами» в том «Присцельса» вошли и мемуары д’Обинье в переводе В. Я. Парнаха (впервые напечатанные в 1949 г.), причем, перевод был исправлен и дополнен И. Я. Волевич. Одно время предполагалось издать вместе с «Трагическими поэмами» и «Приключения барона де Фенеста», но разительное несходство этих произведений и различие использованных в работе над ними переводческих принципов заставило от этой идеи отказаться.
В наш том вошли самые поздние, в полном смысле слова последние произведения Агриппы д’Обинье. Но «Приключения барона де Фенеста» и «Жизнь, рассказанная его детям» – книги совершенно разного жанра. Однако их объединяет не только время написания, но единство авторской позиции и отчасти эпоха, в этих книгах изображенная.
Перевод «Фенеста» связан с определенными трудностями прежде всего потому, что д’Обинье сознательно заострил диалектные особенности речи главного героя. От искусственного воспроизведения постоянной замены одних звуков другими в переводе пришлось отказаться. Это отчасти восполняется использованием просторечных слов и выражений, а также архаизмов.
Перевод мемуаров д’Обинье, осуществленный В. Я. Парнахом, пришлось для настоящего издания еще раз сверить с оригиналом и кое-где исправить.
Комментарии в нашей книге неизбежно достаточно обширные. Они могли бы быть во много раз пространнее, если бы мы решились постоянно ссылаться и даже по необходимости цитировать огромный исторический труд д’Обинье – его «Всеобщую историю», которая фактически рассказывает о тех же самых событиях, что и мемуары Агриппы, но рассказывает, естественно, с несколько иных позиций и в ином масштабе. В наших комментариях привлечение материала «Всеобщей истории» – самое минимальное.
В заключение с благодарностью упомяну тех, кто в той или иной мере помогал нам в работе. Это A. M. Ревич, Н. Т. Пахсарьян, Ю. Я. Яхнина, М. В. Акимова, Ю. В. Иванова, а также мои французские коллеги профессора Анри Вебер, Жан Дюфурне, Жизель Матье-Кастеллани.
А. Д. Михайлов
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА ДЕ ФЕНЕСТА
КНИГА ПЕРВАЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Утомившись возвышенными и трагическими материями[1], автор решил обратить перо к описанию своего века, припомнив для того немало занимательных историй. В чем заключается главная причина несходства нравов и характеров людских? Да в том, что одними из нас руководят обманчивые стремления и цели, другими же – истинные. Вот отчего автор и вложил сии Диалоги[2], с одной стороны, в уста некоего барона из Гаскони (баронства весьма сомнительного!) – сей юный вертопрах, полупридворный, полувояка, величает себя «де Фенест», что на греческом языке значит «слыть» – и, с другой стороны, в уста довольно уже пожившего дворянина по имени Эне, что на том же языке означает «быть», – господина широкообразованного, искушенного в превратностях военной и придворной жизни; сей хитроумец из Пуату[3] залучает Фенеста к себе в дом для забавы и потехи гостей своих[4] и себя самого. Онако при всем том спешу заверить читателя, что автор сих строк всем провинциям французским предпочитает Гасконь, что он и рта не раскроет, не похвалив и не превознеся гасконцев (насколько возможно наделять всеми мыслимыми добродетелями ту или иную нацию), и что именно советам одного из предостойнейших гасконских дворян обязан появлением своим на свет наш герой – эта накипь на бурлящем котле Гаскони, подарившей Франции более полководцев и военачальников, нежели любая другая из ее провинций[5].
ПОЯСНЕНИЕ
Барон де Фенест возвращается с Онисовой войны[6]. В Ниоре[7] он сменяет лошадь, но, отъехав на несколько лье от города, сбивается с пути вместе с одним верховым слугою и двумя пешими, которые ропщут на то, что хозяин накормил их весьма скудным обедом и не разделил, как должно, верховые часы[8], а потому следуют за ним с величайшей неохотою. Блуждая меж парком и рекою, барон встречает некоего старика в грубошерстном камзоле и без модных башмаков со скрипом. Это Эне. Фенест заговаривает с ним так:
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Встреча господина Эне с Фенестом, который повествует о том, как он отличился в десяти или двенадцати стычках
Фенест. День добрый, приятель!
Эне. Вам также, сударь.
Фенест. Откуда это вы взялись?
Эне. Я живу неподалеку, вот и прогуливаюсь по этой рощице.
Фенест. Кой черт, рощица! Вот уж четверть часа, как мы блуждаем в этой чащобе, так что зовите это лесом или парком – не ошибетесь.
Эне. Как же в таком случае прикажете величать парк Монсо[9] или Мадридский лес[10]?
Фенест. О, по мне, чем пышнее названье, тем и лучше, а деревьев от этого не убудет, верно?
Эне. Оно так, да ведь одним пышным именем срама не прикроешь.
Фенест. Не скажете ли, чьи это владения?
Эне. Мои, к вашим услугам.
Фенест. Ваши?! (в сторону): Чуть не влопался! Вольно же ему разгуливать без брыжей и панаша[11]! Хорош бы я был, коли бы приказал ему вывести нас на дорогу.
Эне. Так куда же вы направлялись, сударь? До реки здесь с пол-лье, не более.
Фенест. Мсье, вот уж битый час, как мы плутаем по вашему лесу. Надобно вам сказать, для меня спрашивать дорогу – что нож острый. Слуги мои поотстали, а этот мошенник, что в седле, чересчур спесив и не желает заговаривать с одним мужиком, двое же нам не попадались[12]. Да еще эта чертова кляча упирается. Своих-то лошадей я оставил в Сюржере[13]; сам монсеньор де Кантелуз[14] мне их продал... гм... коняги, впрочем, еще не совсем мои... словом, он их держит покамест у себя.
Эне. Так не окажете ли мне честь и удовольствие посещением моего домика – он в тысяче шагов отсюда? Я пошлю предупредить, чтобы там готовились к встрече.
Фенест. Мсье, я ценю вашу любезность. (Слуге): Эй ты, попридержи коня! А ты, Карманьоль, стащи-ка с меня треклятый камзол, я пройдусь налегке с этим вот господином.
Эне. Дом совсем недалеко, дружок, иди, не сворачивая, по этой дорожке, и она приведет тебя прямиком к порогу.
Фенест. И вы зовете это дорожкою?! Да ведь это прекрасная аллея, прямая, тенистая и утоптанная!
Эне. Вы правы, ее хорошо разровняли телеги с сеном.
Фенест. Но как же это вы, мсье, расхаживаете один-одинешенек, да еще без шпаги?
Эне. А я, сударь мой, ссор ни с кем не завожу и не сутяжничаю, затем соседи и арендаторы меня и любят; впрочем, на крайний случай в моей трости спрятан стилет.
Фенест. Так отчего бы вам не выставить его напоказ? Нет, что до меня, я не таков – взгляните, мой лакей носит за мною длинную боевую шпагу и кинжал с эфесом.
Эне. То, что я вижу у вашего человека, скорее походит на умывальный таз, нежели на эфес.
Фенест. Что ж вы хотите, такое снаряжение не лишнее для храброго кавалера, который не привык уступать кому бы то ни было. Мне ведь случалось сражаться, ни много ни мало, на тридцати дуэлях в год; сперва-то всяк кому не лень задирал меня, а нынче отступились, поняли, что с господином бароном шутки плохи!
Эне. Сочувствую вам; должно быть, тяжкое это занятие – без конца размахивать шпагою. Некогда я и сам немалый урон понес от одной дуэли.
Фенест. А при дворе так нет иного средства прослыть храбрецом – одним задирам честь. Вот послушайте: однажды лакей мой, по имени Эстрад[15], пожаловался, что некий гвардеец отбил у него подружку. Ну-с, я, так и быть, послал гвардейцу билетец с вызовом, но проклятый волокита даже не потрудился явиться на Пре-о-Клер[16]. Другой случай: сел я как-то играть в приму[17] с одним парижанином, не то адвокатом, не то прокурором; так вот, он возьми да приметь, что слуга мой за его спиною строит мне гримасы и подает знаки, да как запустит ему шандалом в башку, а после сгреб все мои денежки, ливров восемь. Компания наша рассудила дело, и он, не будь дурак, тотчас пошел на попятный двор. Что же до моих денег... гм... я уж, так и быть, по доброте моей, оставил их наглецу. Еще случай: один преважный дворянин из свиты монсеньора де Шатовьё[18] вздумал насмехаться над моим панашом. Я, конечно, хвать его за шиворот и тащу на лужайку. Там расстегнули мы камзолы, сорвали с себя пояса и наколенные повязки, развязали ленты на башмаках, распустили шнуровку на штанах и принялись за дело... само собой, на словах. Потом однажды какой-то школяр пригласил меня сыграть с ним партию. А я в ту самую минуту был ужасно как разгневан: ни с того ни с сего один гвардеец из охраны здорово наподдал мне, когда я рвался пролезть на балет к Маркизе[19]. Вот я и говорю школяру, что с тех пор, как повздорил с адвокатом, мне карты не в радость, да и шпаги при себе нет, всего и есть, что кинжал на столе. Этот мужлан возражает, что у него-то шпага имеется, а еще есть привычка пускать ее в ход, чтобы узнать, с кем он имеет дело. Я ему отвечаю тогда, что с радостью откинул бы прочь свое дворянское звание, да и прочие славные чины, дабы сразиться с ним. А этот нахал заявляет, что мне нет надобности что-то там скидывать, он, мол, побьет меня и одетого. «Башка господня! – говорю я себе. – Я должен проучить эту каналью!» Но тут припомнился мне королевский указ[20], и я, решив свести дело к шутке, говорю ему: «Что ты привязался ко мне, ведь я тебя не задирал!» Куда там, он не унимался, и мы схватились врукопашную. Между тем на берегу реки какая-то толстуха полоскала свое тряпье. И вот эта бесстыжая кидается ему на шею, и... мне стало жаль убивать его у нее в объятиях.
Эне. В истории бывали подобные случаи. Так, госпожа де Бонневаль[21] из Лимузена, узнав о дуэли, из-за нее происходящей, велела подать себе носилки и поспела на место поединка как раз вовремя, чтобы бросить кадуцей[22] между сражающимися.
Фенест. Вот за это самое я и презираю Париж! Я бы давно уж прослыл самым модным кавалером средь «записных», но там не очень-то разгуляешься – дуэлянтов, чуть что, разводят, а уж на законность я и вовсе рукой махнул; взять хоть карету, – в Париже любая судейская крыса конфискует ее у вас глазом не моргнув, а насчет жратвы и не заикайся: при этакой-то дороговизне подлец хозяин из-за каких-нибудь тридцати пистолей[23] засадит тебя под замок, и попробуй удери от него, не заплатив! Нет, что ни говори, а нынешние законы совсем не защищают дворян! Что до меня, я нынче в больших хлопотах: мне надобно добиться помилования моего приятеля – он, знаете ли, прикончил одного олуха.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Как преуспеть при дворе. Речь в защиту сапог и роз, париков и панашей
Эне. Ну и дела! Однако, коли уж вы столь охотно посвящаете меня в свои заботы, позвольте нескромный вопрос: к чему надобно так суетиться?
Фенест. Да для того, что надобно преуспеть!
Эне. А каким же манером преуспевают нынче при дворе?
Фенест. Первым делом, нарядитесь точно так, как трое-четверо самых модных «записных». Камзол подбивается тафтяною подкладкою в четыре, а лучше в пять слоев, да и штаны шьются попышнее, так, чтобы фриза[24] и эскарлата[25] пошло на них локтей восемь, никак не меньше.
Эне. Да возможно ли таскать эдакий тюфяк на пояснице и не нагулять себе камней в почках?!
Фенест. Какой такой «тюфяк»? Не понимаю я вашей деревенской тарабарщины, ей-богу! Но, нагуляю я себе камни или что иное, а делать нечего – летом изволь одеваться по моде! Итак, я продолжаю: модный кавалер непременно должен обуваться в башмаки со скрипом, с большим языком и разрезами до самой подошвы.
Эне. А как же обуваются зимой?
Фенест. Да неужто не знаете? Однажды, года за два до смерти[26], королю случилось похвалить Сен-Мишеля[27] за расторопность и за то, что сей господин ни днем ни ночью не вылезает из сапог; с тех пор все придворные обуваются тем же манером – в сапоги из выворотки на высоченных каблуках, с широкими голенищами и застежками в виде ремней. Кстати, сапоги эти, ежели натянуть их повыше, до бедер, весьма сокращают расход на шелковые чулки. Притом когда вы разгуливаете в них по городу, то вполне можете сойти за всадника, что оставил где-то поблизости своего коня. Но только шпоры непременно должны быть позолочены[28]. Смех берет, как глянешь на всех этих надутых господ гугенотов, когда они в своей жалкой обувке ковыляют пешком в Шарантон[29]. А вот моему приятелю и одному из моих родичей довелось как-то путешествовать на своих двоих, так они знатную штуку удумали: повстречают, бывало, в дороге каких-нибудь сеньоров и давай тросточками помахивать, да так преважно, словно и впрямь прогуливаются по собственным владениям. Да, от сапог изрядная экономия выходит, хотите верьте, хотите нет. И все бы хорошо, кабы не Помпиньян[30]; он завел моду разрезать сапог донизу, а в разрез выставлять напоказ шелковый чулок пунцового цвета. Да голь на выдумки хитра: бесчулочники додумались подсовывать в разрез шелковую ленту. В таких сапогах можно ездить верхом не иначе как с длинным стременем... Потом еще в моде ладрины[31] – это пошло от Ламбера[32], – и широкие капюшоны, накинутые сверху на шапку, на португальский манер, и ниспадающие до самой поясницы. Только эдак и сойдешь за истинного модника. Уж поверьте, когда наши придворные кавалеры проезжают по улицам, они так блистают, что в глазах темно. Конечно, ботфорты со шпорами не стащишь с ног ни в карете, ни на почтовой станции, но, ежели галантный кавалер не разжился такими сапогами, лихо ему придется зимою, разве что повезет влезть в какой-никакой экипаж; кстати, и розы тогда в грязи не изваляются.
Эне. Вы носите розы, зимою?!
Фенест. О да, все мы их носим, а как же иначе! – на пятках, так, чтобы волочились по земле, под коленками, чтобы свисали на икры, на боках и на полах камзола, на перевязи шпаги и на животе, на запястьях и на локтях.
Эне. Ай да цветочки! И каковы же от них ягодки?
Фенест. Покраше обличье – повыше отличье! Ну-с, ротонды[33] носят нынче на разные фасоны – либо с двойною оборкою, либо с брыжами «сумятица».
Эне. Вы, верно, соперничаете по этой части с дамами?
Фенест. Странно вы рассуждаете! Вот взять хоть господ де Ла Ну[34] и д’Обинье[35], что заезжают изредка ко двору: ну и пугала! На шее вместо воротника – мятая тряпица, штаны, как макароны, – не в этом ли наряде они собираются преуспевать! Дивлюсь я, как это привратник и пропускает-то эдаких шутов гороховых в королевский кабинет!.. А сколько есть прекрасных фасонов панашей!
Эне. Вы еще ухитряетесь водружать панаш на парик?!
Фенест. Сразу видно, что вы не были в Ларошели, когда туда прибыл Месье[36]! А как преуспел герцог де Сюлли[37] на балете в Арсенале[38], хотя явился даже не в парике, а всего лишь в накладке, а ей-то куда до парика! Зато на левую руку он нацепил повязку с драгоценными каменьями, а в правой держал громаднейший жезл. Кабы вы видели его в тот день, вы бы признали, что в таком наряде только и преуспевать!
Эне. Ну, что касается нарядов, тут я все уразумел. Итак, вырядились вы эдаким манером, по моде или вроде; как же вы дальше «преуспеваете»?
Фенест. В таком убранстве, в сопровождении трех лакеев, при драгоценностях (чаще всего их берут напрокат), верхом на лошади (ее, как правило, одалживают) вы и появляетесь в дверях Лувра.
Эне. В дверях – верхом?
Фенест. Да нет же, черт возьми, как вы непонятливы! Спешиться надобно еще перед караулкою. А попавши во двор, вы улыбаетесь первому же встречному, тому помашете, с этим заговорите: «Эй, братец, до чего ж ты хорош, расцвел, точно роза! Твоя любовница, видать, знатно ублажает тебя! Как, эта жестокосердная еще не сдалась?! Неужто ее не покорили эти лихие усы, эти пышные кудри, эти стройные ноги? Вот уж, право, бесчувственная!» Эдак мели языком да в то же время успевай еще размахивать руками, трясти головою, подрыгивать ногами, подкручивать усы или взбивать волосы. Потом, ежели вам удалось пробраться в переднюю, не медля подцепите какого-нибудь кавалера помоднее и заводите с ним беседу о добродетелях.
Эне. Вот это восхитительно! Поистине, сударь, в ком еще и поискать добродетелей, как не в придворных! Но просветите же меня, сделайте милость: добродетели, кои вы обсуждаете, относятся к области разума или нравственности?
Фенест. Гм... Знакомые слова... где это я их слышал?.. Ага, ежели я верно понял, вы хотите знать, о чем мы ведем речи; ну-с, мы говорим, к примеру, о дуэлях: тут Боже упаси нахваливать кого бы то ни было, напротив, следует небрежно эдак бросить: «Н-да, он недурно преуспевает – или преуспевал – в сих упражнениях!» Засим, меряемся мы успехом у дам; ваш покорный слуга отнюдь не был им обойден!
Эне. О, не сомневаюсь; на вас разве только слепая не польстится!
Фенест. Далее, болтаем мы о том, как преуспеть при дворе, как добиться пенсиона, где и когда можно увидеть короля, сколько пистолей проиграли Креки[39] и Сен-Люк[40], а ежели вам не угодно затрагивать столь высокие материи, то всегда уместно пофилософствовать об новом покрое штанов или же обсудить модные придворные цвета: турецкий бирюзовый, бледно-оранжевый, светло-коричневый, коричневато-красный, красновато-лиловый, королевский, каштановый, цвет «печальная подружка», цвет оленьего брюшка, или, иначе «животик Нанетты», цвет анютиных глазок, малиновый, алый, зизуленовый, гриделеновый, цвет голубиной грудки, опальный и постельный, цвет хворого испанца, цвет Селадона и Астреи[41], цвет незабвенного заката и расцарапанной физиономии, цвет крысиной шкурки и «цветок греха», ярко-зеленый, блекло-зеленый, веселенький зеленый, тускловато-зеленый, синевато-зеленый, желтовато-зеленый, жутковато-зеленый, цвет гусиного помета, бледно-желтый и золотисто-желтый, цвет оспенного больного и «Иудин поцелуй»[42], цвет зари и сумерек, ярко-красный и «бычья кровь», водянистый, серебристый, туманистый, обезьянистый, черновато-белый, беловато-жемчужный, жемчужно-серый, серовато-синий, синевато-гороховый, горохово-желтый, цвет детской неожиданности и конской мочи, цвет «бойкая вдовушка» и «адское пламя», цвет «благосклонность» и «упущенная возможность», цвет черствого хлеба, запора и поноса, обмоченных штанов и пота, цвет дохлой обезьяны, цвет «хохот уродины», цвет восставшего покойника и дохлого испанца, цвет «поцелуй-меня-моя-милашка», цвет смертного греха и ангельской непорочности, копченой говядины и солонины, цвет «докучные заботы», «любовное вожделение» и, наконец, цвет трубочиста. Я своими ушами слыхал, как Гедрон[43] говорил, будто бы по-ученому все эти цвета зовутся Хроматикой, но что впредь при дворе войдут в моду цвета Медицины, из них главные: цвет сбитых ног, сифилитических носов, вонючих ртов, гноящихся глаз, чесоточных голов, а также цвет висельника. Гедрон вроде бы говорил еще, что цвета Риторики давно устарели, а уж цвета Дружбы и носить не моги – засмеют!
Эне. Так-так... И до чего ж вы в эдаких речах доходите?
Фенест. А мы доходим до большого королевского кабинета, замешавшись для того в свиту какого-нибудь вельможи, минуем покои Беренгана[44], спускаемся по малой лестнице, а после рассказываем, что видели короля, и прочие враки. И вот тут-то самое время пристроиться к тому, кто идет еще обедать.
Эне. Как это «еще»? Неужто при дворе обедают дважды?
Фенест. Ха! С чего вы так решили?
Эне. Не вы ли только что сказали «еще»? Быть может, на вашем диалекте это значит то же самое, что у анжуйцев «как раз»? Но не будемте придираться к словам, а продолжим об ваших трапезах; вам, что же, сегодня не ведомо, где вы будете обедать завтра?
Фенест. Нет... отчего же... Правда, дворецкий иногда и обругает, а иные знатные господа высылают слугу сказать, что они больны или заняты...
Эне. И тогда как же вы находитесь?
Фенест. О, я ничуть не теряюсь, но тут уж приходится набраться духу, состроить веселую мину, а ежели еще станешь напоказ ковырять зубочисткою во рту, то как раз и сойдешь за сытого.
Эне. Получаете ли вы жалованье и в каком состоите чине?
Фенест. Я? Я, некоторым образом, состою в свите герцога де Гиза[45] – это когда наш Монсеньор[46] в отъезде; вот уж принц так принц – галантный кавалер, приветливый и всегда в превосходном расположении духа!
Эне. Простите мое невежество, сударь, но кого зовете вы Монсеньором?
Фенест. Да герцога, кого же еще? Его все запросто величают «Монсеньор герцог», и как иначе прикажете его звать с тех пор, как взята Ларошель[47]?! Храбрец из храбрецов, удалец из удальцов, вот он каков!
Эне. А мне и невдомек, что Ларошель пала.
Фенест. Ну да... она покамест держится, но я с уверенностью предсказываю, что на Пасху ей конец; ведь нашему Монсеньору во всем удача, и у него такие прекрасные советники, среди коих ваш покорный...
Эне. Остановитесь, прошу вас, и вернемся к Лувру; я очень желал бы узнать, как вы туда попали.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Прибытие Фенеста ко двору
Фенест. Надобно вам сказать, мы с младшим Поластроном[48] взялись за дело с большим умом: он вытянул из своего братца двести пятьдесят франков – само собой, бордолезских[49] – в счет своей законной доли, я же разжился двадцатью пятью пистолями у моего кузена, епископа Эрского[50]. Ну-с, разрядились мы как могли, запаслись рекомендательными письмами и прошениями к королю и спустились по Гаронне в Бордо. Там, в «Красной шапке»[51], повстречали мы одного знатного дворянина – я, болван, не удосужился спросить, как его звать! Стали мы набиваться ему в попутчики до Парижа, но он отвечал, что едет на почтовых перекладных. «Что это за почтовые такие? – спросил я. – Почтой, что ли, их в Париж отправляют?» Тогда он разъяснил нам, как ездят на почтовых, и я, сочтя, что это прекрасный способ путешествовать, просил его распорядиться, чтобы нам также оседлали лошадей. Он велел своему лакею привести пару на станцию, а мы, замечу вам, как раз тем утром вырядились в отличные белые, тонкого полотна, штаны. Знакомец наш весьма любезно и подробно растолковал нам, почему для такой езды необходимо надевать ботфорты и класть подушечку на седло. Мы, признаться, между собою втихомолку посмеялись над ним, а заодно и над всеми уикалками[52], этими дураками с кашей во рту. Итак, мы с Поластроном протрусили кое-как полсотни верст до Корбон-Блан[53], и там покровитель наш приказал купить нам обоим твердые стремена – ехать без них дальше не было никакой мочи. В Гросле[54] мы прибыли чуть ли не замертво, а в Сен-Сибардо[55] я приметил, что форейтор и лакей хихикают; глядь, а мои белые штаны все как есть в крови, – оказалось, шпенек от стремени воткнулся мне в ляжку, а я сгоряча и не почуял. Что до моего приятеля, бедняга был вовсе плох: он жаловался, что от такой езды у него причинное место огнем горит, а потому сидел на лошади, как кот на заборе. О том, чтобы передохнуть и закусить, и речи не было – знай погоняй! В Эгр[56] мы прискакали оба в лихорадке и без полушки за душой (денежки-то мы растрясли еще раньше); пришлось терпеть до Вильфаньяна[57], где наш знатный курьер повел нас к Лекоку[58], подарив три пистоля на двоих. Этот самый Лекок принял нас с распростертыми объятиями и, представьте, оказал гостеприимство задарма (да и еще бы ему нас обдирать – он один будет побогаче десятка наших баронов вместе взятых, доходу у него четыре-пять тысяч экю, не меньше). Одно только досадно – пыль в глаза пустить не умеет!.. Мы уже слегка очухались от скачки, когда прибыл граф де Мерль[59]. Будучи влюбленным, а оттого в веселом расположении духа, он пригласил нас к себе в попутчики, дабы придать блеску своей свите, а потом, в Пуатье, даже велел купить нам обоим по превосходному широкому плащу. На полпути между Ла Тришери[60] и Шательро[61] встретился нам курьер с пятью лошадьми – с тех пор я его частенько видывал, рыжего черта! Граф скинул плащ, дабы выставить напоказ свой наряд; я решил последовать его примеру. «Эй ты, бездельник, – сказал я форейтору, – возьми-ка мой плащ!» Он взял и бросил его перед собою на седло вместе с одеждою Поластрона и двух других кавалеров, и лишь на следующей станции мы спохватились, что плащи-то наши уехали, пиши пропало! Известно, что беда одна не ходит: в Босе[62] все лошади оказались нанятыми для господина де Ла Варенна[63], которому некстати вздумалось путешествовать, и графу поневоле пришлось расстаться со мною в Анжервиле[64], дав мне деньжонок, с тем чтобы я назавтра догнал его. Тут вышла у меня стычка с форейтором из Гийербаля[65], которого обругал я мошенником – так уж у нас водится. «Сами вы мошенник!» – отвечал он мне. Я было кинулся к нему, намереваясь отколотить рукояткою шпаги, но шпага моя, как на грех, запуталась в портупее. Едва этот подлый трус смекнул, что мне ее не достать, он вытянул меня кнутом, да так прежестоко – ремень намертво захлестнул мне шею! Уф, башка господня! Я свалился наземь, оглушенный ударом, и не успел опомниться, как негодяя уже след простыл, а хуже всего то, что лошадь моя ускакала за ним следом. По счастью, на ней не было никаких моих пожитков. Делать нечего, подобрал я стремя (упал-то я вместе с ним) и отправился дальше на своих двоих. Ну, я вовек не забуду, как тащился через холмы Этампа[66] по песку и камням. Спасибо, стремя сослужило мне добрую службу: я выставил его напоказ, чтобы все встречные-поперечные видели, кто я таков. Хотите верьте, хотите нет, но когда я наконец добрел до «Трех мавров»[67], мне пришлось сорвать с себя брыжи, до того у меня в глотке пересохло. К вечеру подобралась веселая компания, а после ужина подходит ко мне какой-то замухрышка и спрашивает, не перекинусь ли я с ним в карты. А мне только того и надобно: в свое время я перенял множество карточных штучек у лакеев монсеньора де Роклора[68]. Они меня обучили играть короткой и длинной картой, подтасовывать колоду, передергивать, крапить, натирать пемзою и метить рубашку. При них я здорово насобачился прятать карты под мышку, в рукава и в шапку, заменять их или незаметно подметывать. Уф, башка господня! Ну и влип же я в историю! Мой новый знакомец – а звали его Монтезон – нагрел меня, как младенца, на все три пистоля, подаренных мне курьером; слава Богу, у него еще хватило совести заплатить за мой постой и ужин. Вслед за чем он сам поделился со мною секретом, как подкладывать ртуть в козырную масть, чтобы взять туза или двойку. Немудрено, что утром я встал с левой ноги, отыскал свой хлыст и стремя и отправился в Париж, имея всего восемь су в кармане. Однако по дороге я преважно размахивал хлыстом и, где только мог, выставлял его напоказ, а встречным приказывал поторопить там, сзади, моего форейтора. Как видите, стремя сгодилось мне дважды, не говоря уж о хлысте – кабы не он, нипочем бы мне не сыскать себе жилья, а так я встал на квартиру, хоть и не без труда, в предместье Сен-Жак[69]. Но вот когда я пошел разыскивать монсеньора графа, тут пришлось мне туго: сколько ни справлялся я у прохожих, где он живет, эти наглецы только хохотали в ответ. Вспомнилось мне что-то об арбалетах[70], но Бог его знает, верно ли я понял. Сунулся я было к служанкам да лакеям, но стоило мне только рот раскрыть, как они принимались горланить: «Эй, деревенщина вонючая! Держи его!» – да так усердно, будто кричали: «Слава королю!» Вот таким-то манером я и прибыл ко двору.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Встреча с Руссо; проделка с вязанками хвороста; о честолюбии Фенеста
Эне. Прибыть-то вы прибыли, а что двору от вас прибыли! Не посетуйте на мой смех, сударь, просто я радуюсь счастливому вашему избавлению от эдаких переделок. Однако расскажите, каким же образом попали вы ко двору?
Фенест. Монсеньор граф распорядился приодеть меня (дьявольщина, вечно я забываю! – нынче принято говорить «облечь в одежды»!). Итак, меня ужас как хорошо облекли и решительно отсоветовали служить в гвардии, куда я собирался, – уж больно благородный был у меня вид. Вскорости граф представил меня монсеньору де Монтеспан[71]; там я мигом осмотрелся и стал вхож повсюду, кроме разве малого королевского кабинета. Свел я знакомство и с дворецкими, и с прочими служивыми дворянами... Когда же я остался без покровителя, то изловчился пролезть в дом герцога де Гиза при содействии монсеньора де Лу[72], который частенько спрашивал меня, не пособлю ли я ему убить одного герцога, на что я всегда отвечал: с превеликой, мол, охотою! Что ж вы думаете, я и тут заделался прямо-таки своим человеком; однажды мне довелось даже услышать беседу монсеньора епископа Сеэзского[73] с Берто[74], Малербом[75], Маттьё[76] и еще с одним дворянином весьма благородной наружности, хотя и рыжим. Все четверо философействовали не хуже настоящих мудрецов; да, ума им не занимать стать! Когда же я остался наедине с тем, четвертым, то осведомился, кто он таков и кого держится. Рыжий отвечал мне, что при дворе он новичок и у него мало надежды попасть в штат к какому-нибудь принцу. Я тогда рассказал ему, как сам преуспел в этом деле, но он возразил, что у него на такое никогда сноровки не достанет. Он столь ловко повел дело, что я представил его монсеньору де Гизу, а ведь в его спальне рыжий мошенник провел предыдущую ночь, но это я уж спустя узнал. Спустя два дня, гляжу, мой молодчик совсем освоился у принца; я было учуял подвох, но он так и рассыпался передо мною мелким бесом, благодаря за те милости, что принц оказал ему якобы из любви ко мне. Однажды вечером, когда монсеньор де Гиз играл у короля, прихожу я туда и вижу, что мой рыжий протеже держит свечу королю и нашептывает ему на ухо какие-то глупости, а король, слушая его, прямо подыхает со смеху. Сочтя себя причиною такого продвижения, я, натурально, продвигаюсь вперед, и что же он на это? Шепнув что-то королю, протягивает мне подсвечник и командует: «Посветите государю!» Я, на седьмом небе от счастья, хватаю подсвечник и спешно придумываю какую-нибудь шутку, чтобы также рассмешить короля, но тут лакей подбросил в камин пару вязанок хвороста. Короля-то заслонял от огня плотный деревянный экран, но я!.. В жизни не попадал в такую передрягу! Я так вертелся, так подпрыгивал, что король, как раз начавший новую партию, заметил мне: «Светите-ка получше!» Куда там – мои шелковые чулки уже дымились, вот-вот загорятся вместе с ногами. Ох, до чего ж мне захотелось опять побарахтаться в холодной грязи Боса! А у дверей толкутся придворные и, слышу, шепчутся между собою: «Эге, да он прямо горит честолюбием!» – «Смейтесь, смейтесь, – думаю, – зато я позабавил короля!» Наконец, отпустили меня восвояси, и я кинулся прочь, насилу протиснувшись сквозь толпу. Правду сказать, сперва я заохал не своим голосом, да гляжу – все смеются, пришлось и мне тоже через силу осклабиться, дабы обратить все дело в шутку. Но уж этот рыжий интриган, чтоб его! Он ведь потом еще раз подложил мне свинью, пообещав место в карете королевы, – словом, потешился надо мною всласть, пока я не признал в нем того самого рыжего из приключения с плащами[77]!
ГЛАВА ПЯТАЯ
Рассуждения о доме господина Эне. Об охоте
Эне. Сударь, не угодно ли вам совершить прогулку по аллее в ожидании нашего скромного ужина?
Фенест. О, разумеется, невредно нагулять аппетит. Ах, что за прекрасный у вас замок; однако же, захоти вы этого, он мог бы выглядеть еще авантажнее.
Эне. Благодарю покорно; когда авантажу чересчур много, от дома остается слишком мало.
Фенест. А почему бы не перенести вон тот флигель на задний двор и в нем поселить весь штат, чтобы это мужичье не мозолило вам глаза?
Эне. По мне, так лучше держать всего пару слуг, но подле себя.
Фенест. Да и конюшни ваши стоят очень уж близко от замка.
Эне. Стойла и должны находиться возле дома затем, что эдак легче уследить за плутнями конюхов.
Фенест. Фи, как вы неблагородно выражаетесь! У вас три десятка породистых лошадей, а вы именуете конюшни стойлами, а замок свой зовете домом, да можно ли это?! Ведь у вас тут целая крепость: восемь башен, сорокафутовый ров, три подъемных моста, а один скотный двор чего стоит!
Эне. Двор – он и есть двор!
Фенест. Да где же размещается ваша псарня?
Эне. В сарае.
Фенест. Отчего же у вас по двору не бегают собаки? Да и ловчих птиц я что-то не вижу.
Эне. Они мешали мне спать, вечно путались под ногами, а сокольничие и псари разоряли меня. Я совсем потерял покой и, боясь, что они меня рано или поздно прикончат, взял да и покончил с ними сам, ну а уж после годы докончили то, что я начал.
Фенест. Да как же благородство-то?
Эне. А благородства придется вам поискать в других местах.К слову, как-то прочел я в «Утопии» Томаса Мора[78] такую историю: однажды услыхал он шум и гам, рев труб и рогов и увидел, как мимо его дома промчалась кавалькада со сворою собак всяческого вида: тут и гончие, и ищейки, и на волка псы, и на кабана, борзые и легавые, да к тому еще тьма-тьмущая ловчих птиц под колпачками, а следом три повозки с сетями и столько же с веревками. Он осведомился, кто эти знатные господа, и ему отвечали, что они, мол, и впрямь господа здешних мест, а именно городские мясники, которым одним дозволено охотиться в этих краях.
Фенест. К дьяволу англичан! Что бы они сказали о маршале де Монморанси[79], когда он, будучи послом в Англии, выезжал на ловитву не менее чем со ста шестьюдесятью соколами. Нет, мсье, благородство не всякому дано: вот моя матушка откормила пару жирных быков, а я взял да обменял их на сокола господина де Роклора, да только он мне его не отдал, надул!
Эне. Обмен не из выгодных.
Фенест. И не говорите! Зато мена – занятие в высшей степени благородное, да к тому ж можно ли сравнить сокола с быками?! Хотите верьте, хотите нет, но в разгаре сезона во Фью[80] – не знаю, знакомы ли вам те места, – мы с соколами устраивали куропаткам настоящую бойню.
Эне. Видывал я такие охоты! Поутру куропаток бьют, ввечеру кабана подают.
Фенест. Но что это там? Зачем у вас во дворе копны сена?
Эне. Помилуйте, сударь, должна же быть и от двора кой-какая польза.
Фенест. А это куда мы вышли? На галерею? О-о ужас! Вы храните тут зерно! Устроить из галереи амбар, какой позор!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
О слугах
Эне. Что делать, сударь, мы ведь люди простые и больше печалимся, когда наши амбары пустуют, как галереи. Но, мне кажется, вон идут ваши люди?
Фенест. Верно, это мои лакеи. Эй, Шербоньер, какого дьявола вы там застряли?
Шербоньер. Волчьи кишки! Вы, сударь, позабыли что ли, как мы обедали? С такой жратвы, право слово, ноги протянешь!
Фенест. Вот видите, только оттого, что он стар и служил сержантом у кэтена Папфю[81], я вынужден сносить его грубости.
Эне. И верно, он дожил до седых волос и все ходит в лакеях, а сколько молокососов сидят советниками при дворе!.. Эй, там! Поднесите-ка по чарочке этим бравым молодцам и подайте сюда закуску для их господина да поторапливайтесь с ужином!
Шербоньер. Волчьи кишки, что за фигли-мигли! И хозяину, и слугам сейчас впору бы добрый кус сала.
Эне. Простите, сударь, мог ли я предположить, что вы не обедали, ведь час уж не ранний!
Фенест. О, я так плотно позавтракал, что вполне сойду за пообедавшего. А этим обжорам только подавай! Обнаглели вконец, словно каждый из них, по меньшей мере, захватил Ларошель.
Эне. А вот и закуска для гостей – не чета захвату крепостей. Эй, принесите-ка еще ветчины; а вы, сударь, отведайте пока телячьего паштета, наскоро, по-походному; вообразите, будто вы на поле битвы.
Фенест. Прекрасно сказано! Помню, когда мы воевали в Савойе[82], мы отлично ужинали эдаким манером в палатке господина де Борда[83].
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
О четырех войнах Фенеста
Эне. Так вы, стало быть, участвовали в Савойской войне[84]?
Фенест. Хотите верьте, хотите нет, я подоспел туда аккурат в тот самый день, когда проклятый поп[85] заключил мир. Мы страх как намучились во время перехода, а что толку? Так и не привелось нам блеснуть отвагою; но что бы ни было, а наш король все же прослыл победоносным, хоть и недолго он пользовался славою.
Эне. Все наше несчастье в том и состоит, что мы вечно тщимся кем-нибудь прослыть что в государственных дела, что в частных.
Фенест. Вот взять хоть меня – я славно повоевал в четырех войнах: в Савойской, в войне Жюлье[86] (будь я там на месте маршала де Ла Шастра[87], я бы уж не допустил принца Мориса[88] действовать самостоятельно, без нас). Мы тогда прикрывали армию со стороны Арденн. В третьей войне[89] нами командовал маршал де Буа-Дофен[90]; я присоединился к нему под Шательро. Четвертая война – Онисовая[91], ее-то я прошел с начала до конца.
Эне. А вы, видать, счастливчик – даже не ранены?
Фенест. Ого, поглядели бы вы, как я стоял под мушкетным огнем, и пули – вжик! вжик! – свистели и цокали совсем рядом, между ног, под мышками, мимо уха! Но я тоже не зевал: в нашем деле главное – увернуться вовремя!
Эне. Нимало не сомневаюсь, сударь, особливо, помня все те прекрасные истории, что вы мне успели поведать.
Фенест. Ах, полно вам, какие пустяки! Вот кто был настоящим храбрецом, так это маршал Бирон[92]. Проживи он подольше, не пришлось бы мне нынче нужды хлебнуть. Ох уж этот Лафен[93]! Поплатится он мне за измену! Да окажись я в деле на мосту Нотр-Дам[94], я бы в лапшу изрубил негодяя! На том свете его заждались.
Эне. Дождались – он уж убит. Так вы были с ним знакомы?
Фенест. Ну как же, и близко; он, бывало, как повстречает меня, все спрашивает: «Ну что, мой храбрый барон? Сладили свои дела?» Ах, ах!
Эне. Ну-ну, сударь, прочь печальные воспоминания! Приободритесь и поговоримте лучше о дворе и дамах!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Любовные похождения Фенеста. Стычка с кучером
Фенест. О, что касается придворных сплетен и дам, тут я как у себя дома! Хотите верьте, хотите нет, я сразу завел себе и даму сердца, и любовницу; первая была супругою одного ученого доктора, который держал постояльцев. Она тайком совала мне деньжонки, чтоб было чем платить за пансион ее мужу; старый хрыч прямо лопался от злости, когда натыкался у себя в доме на бородатых пансионеров, – сам-то он норовил держать одних сопливых школят.
Эне. Что ж, те хоть с женой не нашалят!
Фенест. Ничего, все в дом, а не из дома! А вы, я гляжу, тоже не промах!
Эне. История ваша не нова. Жил в Париже некий ученый луденец по имени Ле Гулю[95]. Он приходил в ярость, когда его супруга[96] принимала в дом пансионеров, уже изучавших юриспруденцию; ему было спокойнее селить у себя малых детишек. Тогда-то и сложили про него катрен, коего содержание стоит рифмы:
Фенест. Ах, прошу вас, дайте мне списать этот куплетец! Но я еще не кончил. Любовница же моя и вовсе отличалась несравненными достоинствами; судите сами – она дважды экипировала меня с головы до ног, дай ей Господи всяческого благополучия! Правда, из-за моей любви к ней вышло преужасное происшествие! Как-то раз на Телячьей площади[97] сцепились колесами семь или восемь экипажей, среди коих был и наш; пошли в ход шпаги, а кучер госпожи Бара[98] заехал мне ножнами поддых. Ух, кабы не его приятели, я бы из негодяя кишки выпустил! Долго мы с друзьями судили да рядили, следует ли послать ему вызов. Многие стояли за дуэль, так как в молодости он все-таки был сержантом и командовал ротою. Наконец сыскался, слава Богу, один умный человек, который уверил остальных, что вызов неприличен, и нашел к тому убедительное разъяснение. Вам известно, надеюсь, как одеваются эти висельники-кучера; ну так вот, я преспокойно мог с ним не драться, поскольку во время стычки на нем был длинный кучерской плащ.
Эне. Да, при дворе, я вижу, завелись великие умы!
Фенест. Вы правы, честь никогда еще не ценилась так высоко, как при нынешнем дворе, – там ведь, куда ни плюнь, одни «записные». Эх, кабы мне пролезать в их компанию, я был бы на седьмом небе от счастья!
Эне. Да расскажите, что же такое ваши пресловутые «записные», – мне это словцо внове.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
О храбрости; о «записных»; о дуэлях
Фенест. Такие кавалеры дерутся из любой безделицы: взглянешь ли на них искоса, кивнешь ли вместо поклона, заденешь ли полою плаща или плюнешь ближе, чем в четырех шагах; бывает, «записной» и сам проштрафится либо обознается, а ты все равно отказываться не смей, дерись! Взять хоть случай с двумя дворянами, из коих один состоял при кардинале Жуайёзе[99]: выйдя на лужайку, дворянин этот спрашивает противника: «Вы не такой-то, из Оверни?» – «Нет, – отвечает тот, – я такой-то, из Дофинэ». Однако, порешили они, коль скоро вызов сделан, то и надобно сразиться насмерть, что и исполнили. Вот это и значит быть настоящим «записным»!
Эне. А скажите, требуется быть таковым постоянно или дело сводится к отдельным стычкам?
Фенест. О нет, конечно, не постоянно; мы ж не какие-нибудь дурни деревенские! Важно лишь прослыть им – и дело в шляпе.
Эне. А не могли бы вы мне назвать некоторых из сих рыцарей чести?
Фенест. Извольте: доблестный Баланьи[100], Помпиньян, Беголь, младший де Сюз, Базане, Монгла, Вильмор, Лафонтен, барон де Монморен, Петри и многие другие, чья отвага блистала...
Эне. Отвага-то блистала, да с ними что же стало?
Фенест. Гм... верно, они сами убиты, но слава их живет! Не правда ли, отлично сказано?
Эне. И вы полагаете, историки упомянут об эдакой храбрости в своих книгах?
Фенест. Да по мне, какая-нибудь рокамандурская бляшка[101] или зубочистка господина маршала де Роклора[102] стоит вдесятеро дороже всех этих пресловутых историков вместе взятых; коли о наших смельчаках говорят при дворе, чего же вам еще?!
Эне. Ну, и кто же из ваших «записных» преуспел при дворе? Слышали ли вы хоть об одном губернаторе провинции или маршале Франции, который обязан своей карьерою поединку?
Фенест. Вот я и толкую о том, что храбрые благородные кавалеры нынче не встречают должного уважения.
Эне. Уважения или славы? Не последняя ли их прельщает?
Фенест. Послушать вас, так ни один кавалер ордена Святого Духа[103], ни один маршал Франции не прогулялся на лужайку со шпагою кто двадцать, а кто и тридцать раз!
Эне. Так что же вам угодно? Чтобы все уподобились вам, да еще столь же дешево за свои эскапады расплачивались? То, что зовете вы «прогулкою на лужайку», есть преступление, за которое, по приказу нашего славного короля Генриха Великого, должно за ноги вешать на площади[104]! Вы же требуете высочайшими почестями венчать позорнейший из проступков. В мое время маршалом Франции становился тот, кто сразился не менее чем в трех баталиях, командовал, по крайней мере, в трех приступах, выдержал, не дрогнув, три осады и выиграл три боя с развернутыми знаменами. Вот из какого теста делались наши маршалы; они достигали своего положения тяжкими испытаниями, а не эдакими вашими «прогулками».
Фенест. Ну, стало быть, и войны в прежние времена были иные, не чета моим четырем.
Эне. Да, уж мы вдосталь понюхали пороху... За какие-нибудь полтора года нам выпало столько, что иному хватит на всю жизнь! Нынче уже не то, люди измельчали. За те восемнадцать месяцев мы побывали в четырех сражениях да еще в двух боях, каждый из которых стоил целой войны; восемь городов осаждали мы и все их взяли, и уж бессчетно выпало нам всяких прочих приключений.
Фенест. Я читал о таком, но видеть своими глазами не пришлось.
Эне. Не попадалась ли вам «История трех войн»? Там описано все, о чем я упомянул: от боев под Жарнаком[105] до сражения в Люсоне[106].
Фенест. Н-да, разумеется... я читал... Но тоже и с дуэлями раньше дело обстояло иначе!
Эне. Эх, да какое сравнение! Прежде было – время, а ныне – пора!
Фенест. Вы, стало быть, ратуете за упразднение дуэлей?
Эне. Ничуть не бывало. Есть дуэли оправданные, коих избежать невозможно: к примеру, в случаях оскорбления величества или при государственной измене; по особому дозволению короля – для защиты чести женщины либо в поддержку сироты против убийцы его родителей; также одобряю я поединок между вождями двух армий во избежание общего кровопролития. Сюда же следует отнести дуэли во славу религии, хотя правда, что из них добрая половина религией лишь прикрывается.
Фенест. Да возьмите в толк, что жестокие кары, записанные в Указе, никого не запугали!
Эне. Многие правоведы и высокие государственные деятели размышляли над сей задачей. В беседах со мною высказывали они убеждение в том, что все так называемые подвиги чести должно наказывать тяжким позором, и лекарство вышло бы преотличное! Вот что, по их мнению, следует соблюдать и исполнять бестрепетно: всякий, кто вызвал другого на дуэль, оскорбил тем самым короля, а потому лишается он дворянского звания, а на имение его накладывается секвестр; одновременно конфискуют у него все состояние или пансион. Поверьте, претерпев такую кару, сии храбрецы на весь мир закричат о вреде дуэлей. Для вызванного же на поединок подобрал бы я более мягкое наказание. Ежели неуклонно поступать так со всеми виноватыми, то доблесть, ныне попусту расточаемая на лужайках, помогла бы дворянам исполнять свой прямой долг, верно служа королю.
Фенест. Да полно вам, кому из наших маршалов пришлось хлебнуть того, о чем вы вспоминали?! Среди них и нет таких, что сражались бы в трех баталиях.
Эне. Есть, сударь, но лучше оставимте пустой спор; негоже судить тех, кому наш долг повиноваться.
Фенест. Э, мы при дворе вовсе не такие разумники, там перемывают косточки всем подряд.
Эне. А мы, деревенские жители, воспитаны в почтительности к сильным мира сего.
Фенест. Башка господня! Кабы мне промочить горло, вы услыхали бы от меня презанятные истории!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Застольная беседа; рассуждения о религии
Эне. Кушать подано, сударь, и, с вашего разрешения, мы сядем за стол.
Фенест. Мсье, мне знаком ваш обычай; отчего вы не перекрестились, севши за трапезу?
Эне. Увы, сударь, я отнюдь не так благочестив, как следовало бы.
Фенест. А в вашей партии[107] попадаются достойные люди.
Эне. Что ж, она в них всегда нуждалась.
Фенест. Не угодно ли вам пригласить к столу моих молодцов?
Эне. Разумеется, сударь, они займут места, им подобающие.
Фенест. Мне кажется все же, что крестись почаще – и прослывешь добрым христианином.
Эне. Чтобы им слыть, нужно им быть. Господь ожидает от нас благочестивых дел, а мы от него открещиваемся. Но, прошу вас, оставим теологию в покое, это плохая приправа к блюдам.
Фенест. Ну так после ужина я непременно постараюсь вас обратить; я ведь в богословии собаку съел, самого отца Кутона[108] слушал, а ведь он отличным манером проповедует, и вдобавок по новому фасону!
Эне. Найдутся кутоны на все фасоны; фасон-то меняется, да материя остается.
Фенест. А какие у него воспламененные проповеди!
Эне. Не смею отрицать, сударь; прямо сгораешь от восторга, их читая[109]; вот только пришлось нам попотеть, пока мы разобрались, к кому он там взывает – то ли к Богу Отцу, то ли к Богоматери, то ли к Иисусу Христу; у него на всех троих одни и те же слова. Однако стоит ли углубляться в этот вопрос; не лучше ли выпить, к чему я вас и приглашаю.
Фенест. Золотые ваши слова! Но я все-таки доберусь до вас с моей религией, дайте только встать из-за стола.
Эне. Что ж, попробуйте, а я отвечу вам попросту, по-деревенски.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
О бароне де Файоле. О Доньоне
Фенест. Ну, коли вы не желаете рассуждать о религии, расскажу-ка я вам другую историю. Однажды в Сюржере[110] устроили мы роскошный обед. Я сидел за столом напротив барона де Файоля[111] – это один из моих приятелей, – как вдруг слышу: толкуют о какой-то развалюхе, называемой Доньоном[112]; один утверждал, что замок слывет неприступным, другой – будто его и осадить-то невозможно, а третий и вовсе твердил, что этот самый Доньон – дьявольская дыра. Все наши капитаны, сидя за столом, прикидывали, как бы окружить и захватить его и дорого ли станет настелить гать на тамошнее болото, чтобы подвести армию. Уж они судили-рядили, конца не видать, и мне стало досадно, что у всех на языке какая-то старая бесславная хоромина. Я тогда выставляю локоть, опираюсь подбородком на руку, морщу значительно лоб и долго качаю головой, после чего обращаюсь к высокому концу стола: «Эх, монсеньор (это я говорю), доверили бы вы это дельце барону, так не устоять никакому Доньону, вмиг запросил бы пардону!» Право, недурную шутку я им отмочил; вот провалиться мне на этом месте, если вся компания не покатилась со смеху!
Эне. Что ж, вы, стало быть, вызволили своих приятелей из бедственного их положения.
Фенест. Ну, мне ли привыкать! Некоторые, правда, ворчали, представляя дело вовсе не таким уж пустяковым, да Бог с ними. «Господа, – продолжал я, – хотите верьте, хотите нет, но есть у меня записки одного смельчака-капитана по имени Линью[113]; вот кто был великий мастер брать города, а уж на выдумки горазд, как никто иной!» Монсеньор пожелал услышать, что это за выдумки, а мне только того и надобно; не часто выпадает случай прослыть остроумцем и краснобаем в большой компании.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Затеи Линью
Фенест. «Монсеньор, – начал я, – порасскажу Вам о самых лихих его затеях. Как-то осадили мы в Лимузене один городишко, в коем местный цирюльник проживал у самых городских ворот. Этот хитрец Линью вздумал отобрать семь-восемь солдат понадежнее да нанести им сабельные раны по голове, не опасные, только так, чтобы крови было побольше. Далее, должны были эти люди попроситься в город на перевязку к цирюльнику, потешая своим видом народ и особливо отвлекая охрану, а наши в тот же миг взломали бы ворота и ворвались в город». Тут вся компания чуть со смеху не лопнула, я же продолжал: «А вот другая его выдумка. Те, кто воевал в Остенде[114], рассказывали о мортирах, коих прицел был настолько точен, что ядра ложились прямо в указанное место, притом, что осажденных и осаждавших разделял высокий крепостной вал. Так вот что пришло ему в голову: взять сорок или пятьдесят эдаких короткоствольных мортир да начинить их порохом, а перед жерлами поставить наших людей, только зад им прикрыть от жара заслонкою потолще, да и пальнуть в сторону города, затем быстро перезарядить и выстрелить эдак же еще четыре-пять раз. Таким манером две сотни наших попадут в город; там они быстро откроют ворота остальным, и дело в шляпе! Ну, разве не хитро задумано?» Все меня слушавшие пришли в восторг, только один болван предложил подбирать для этой пальбы горбунов – ими, мол, удобнее будет мортиры закупоривать.
Эне. Ничего не скажешь; ай да капитан Линью, ай да пройдоха! Вы от него самого об этих изобретеньях слышали?
Фенест. Ясное дело, нет; я его и в глаза-то не видел!
Эне. А я так знал Линью, и притом коротко. Шико[115] дразнил его Святым Матюреном[116]. Не останусь у вас в долгу и расскажу, как однажды привел я его в кабинет короля Наваррского[117], где он и поделился с нами первою из упомянутых вами затей, а устроил он ее в Сен-Жюньяне[118]. На словах, как вы знаете, все легко, вот мы и стали перебирать, каким бы образом сослужить королю службу, захватив для него Лимож. А король меж тем забавлялся нашей беседою. «Капитан Линью, – сказал я, – вам, верно, известно, что, попадись вы сегодня лиможцам в руки, они вас назавтра же вздернут?» Линью признал, что это вещь весьма вероятная. «Тогда устроим-ка штуку: знаете ли вы большой амбар вблизи Ворот Королевы?» Линью отвечал, что это место ему знакомо. «Так вот, – сказал я, – вы как-нибудь вечером дадите захватить себя в плен, а я той же ночью проберусь в амбар с четырьмя сотнями храбрых молодцов. Этот же господин, – продолжал я, указывая на виконта де Тюренна[119], – с тысячью отборных солдат ляжет в засаду в ближайшем леске, в виду предместья. По обычаю, пленных вешают в два часа пополудни, а уж на казнь знаменитого Линью соберутся все от мала до велика. Сперва увидим мы, как народ с шумом и гамом сбегается на площадь, потом все затихнут, так как приговоренному дадут сказать последнее слово, – вот тут-то вы должны собрать все свое красноречие и разливаться соловьем, чтобы они как следует развесили уши. И аккурат в этот момент – штурм! Что вы на это скажете?» Линью стал клясться и божиться, что это самое верное дело, на какое он когда-либо шел; весь фокус лишь в том, чтобы ворваться в город не слишком рано, но и, упаси Бог, не слишком поздно. Долго потом не мог он угомониться и все рвался исполнить сию затею.
Фенест. Вот славный храбрец! Хотел бы я очутиться на ту пору в засаде у леса и поглядеть, как он будет изворачиваться!
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
О королевском дворе
Фенест. К слову об изворотливости: несладко мне придется по возвращении ко двору; там ведь, сами, небось, знаете, все меняется, только успевай вертеться! Пригреешься, скажем, под крылышком у какой-ни-будь важной персоны, так уж не зевай, а то как раз получишь под зад коленом!
Эне. Да, двор – не двор, коли он не изменчив; ничего другого мы от него и не видели.
Фенест. Каково ваше мнение, мсье, относительно маршальства господина де Темина[120] – вот, не правда ли, новый и притом весьма дерзкий способ преуспеть?
Эне. Об этом, сударь, я лучше помолчу.
Фенест. Но вам, без сомнения, известно, что Францией нынче правят Барбен[121] и Манго[122]; говорят, они ловкие пройдохи и, как псы, преданы королеве и госпоже маршальше[123].
Эне. Не знаю, что и сказать, сударь; к нам в деревню слухи не доходят, да и имена тоже...
Фенест. Вы, провинциалы, чересчур уж робки; мы там, при дворе, гораздо развязнее... Превосходные у вас фрукты, они не из того ли сада, по которому мы прогуливались?
Эне. Оттуда, сударь.
Фенест. Я должен вам заметить, если позволите....
Эне. Я слушаю со всем вниманием, сударь.
Фенест. Нехорошо, что у вас в саду лишь фруктовые деревья; поверьте мне, самшитовые шпалеры выглядят не в пример авантажнее. У моей матушки сад ничуть не больше вашего, но в нем устроены высоченные шпалеры; правда, что для них приходится возводить особые подпорки. Родительнице это удовольствие влетает в тысячу пистолей ежегодно, да и гулять по такому саду с гостями мало радости, но куда денешься? – благородство превыше всего! Недаром же мы, дворяне, выставляем его напоказ, где только возможно.
Эне. Это я тотчас заметил по вашем появлении, сударь, особливо же по той предлинной шпаге, что таскает за вами слуга. Скажу одно: всяк по-своему с ума сходит: вы, благородные господа, все тщитесь кем-то прослыть, а мы – люди простые, такими нам и быть.
Фенест. Вы кстати напомнили мне об одном сонете: какая-то деревенщина состряпала его в пику нам, придворным. Я вам прочту его в благодарность за угощение... где-бишь он? Ах, вот, в кармашке:
КНИГА ВТОРАЯ
К ЧИТАТЕЛЯМ[125]:
Господа, все вы так подружились с бароном Фенестом, что он, почистив свое платье и прихорошившись, возвращается к нам, ведя за собою приятеля своего, кадета[126], столь же шустрого молодца, как и он сам, вот разве только не посвященного в кое-какие догматы современной теологии. Но все же не премините свести с ним знакомство, даром что малый он легконравный и не ломает головы над серьезными материями, почти на все глядя сквозь пальцы. Чего же, спросите вы, ждать от него в таком случае? А вот чего: он вполне дитя своего века, и, спознавшись с ним, вы припомните, что и в числе ваших знакомых сыщется немало ему подобных.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
О послеобеденной латинской молитве и о том, как следует ее толковать
Фенест. Et beata viscera Mariae[127] quae portaverunt aeterni Patris Filium. Вот так я читаю послеобеденную молитву, каково?
Эне. Надеюсь, что вы сами понимаете ее смысл.
Фенест. Ну, еще бы; я ведь штудировал риторику в Гиенском коллеже[128], а философию в Пуатье[129]. За школяров-то мы сходили, да только на лекции не ходили, все больше погуливали... Я тогда еще совсем молокососом был. Помнится, однажды в зале для игры в мяч[130], что в предместье Сен-Жак, где играли комедию, я взялся переводить с итальянского одному дурню неотесанному по имени Скалигер[131]; вот только никак я не мог понять, с чего это так веселились господа де Сент-Март[132], там же находившиеся... Надобно вам сказать, что мы в ту пору ужасно как высоко ставили свою честь, вроде благородного Кастель-Байяра[133] – уж этот насмешек не спустил бы никому. По части храбрости любому сто очков вперед даст!.. В Пуатье был проездом один придворный кавалер, и чего-то они с Кастель-Байяром не поделили, он и шепнул ему на ухо: «Встретимся, мол, у ворот Ла Транше!»[134] И что же наш ему в ответ? – «Я-то с вами встречусь, да вы-то с нами навек расстанетесь!» Но я позабыл растолковать вам мою молитву; стало быть, так: «И благословенно чрево Марии, породившее сына от Отца Небесного...»
Эне. Как, вы начинаете молитву с «И»?
Фенест. Да нет, там ведь впереди стоят такие слова: «Laus Deo, pax vivis, requies defunctis. Tu autem, Domine, miserere nobis», и только после этого идет «et beata». Но я никогда с начала не читаю, уж больно долго оно выходит, а потом, не стану от вас скрывать: там есть одно чертово слово, от которого у меня с души воротит, – вот этот самый «defunctis»[135]. Он, скажу я вам, подстроил мне однажды преподлейшую штуку. Как-то мы с младшим Поластроном[136] решили наведаться к Дюмуленше; вошли к ней без стука и наткнулись на доминиканца из Сен-Марри, который, завидя нас, вздумал спрятаться; тогда мы отняли у него рясу и прочее разное добро, а эта шлюха возьми да и донеси на нас. Выходим мы из ее дома и у самого порога видим человека, который держит другого за шиворот, а тот отбивается что есть мочи. Первый нам кричит: «Эй, господа, помогите-ка мне дотащить этого висельника до тюрьмы, что на Малом мосту[137], и я вам отсчитаю сотню экю!» – «Башка господня! – говорю я. – Сто экю на дороге не валяются». И мы ему пособили, даром что тот мерзавец лягался и пинал нас по икрам, как бешеный. Ну-с, втащили мы его внутрь, и тут нас самих – хвать и за решетку! Это Дефунктис и впрямь отсчитал нам сотню, да только не экю; как оказалось, тот, второй, был его же лучником, а привел он с собою лишь его одного затем, что дело следовало держать в секрете, дабы не ославить доминиканца; вот нам и всыпали сотню горяченьких без лишнего шума... Но я опять заболтался... О чем-бишь я начал-то?
Эне. Об этом «и», а также о том, что стоит перед ним.
Фенест. Что же, придется, видно, сказать вам всю молитву по-французски. «Хвала Господу, мир живущим, а мертвым упокоение, но ты, Отец небесный, смилуйся над нами и благословенное чрево...»
Эне. Погодите, так кто же должен над нами смилостивиться – Господь или чрево?
Фенест. Да кто же эдак-то разбирает молитву? Нашей теологии с грамматикой не по дороге, вот возьмите хоть это «но», которое вроде бы должно противоречить началу молитвы – ан-нет, не противоречит. Вот как надобно читать: после «defunctis» (тьфу, проклятое слово!) следует помолчать, и после «nobis» тоже; во время первой паузы вы мысленно говорите что-нибудь обратное сказанному вслух, а уж после произносите: «Но ты, Отец Небесный...», а во время этой второй паузы думаете о том, что Господь, мол, блажен и также это самое чрево.
Эне. Я укажу вам способ избавиться от этого ненавистного «Defunctis». Молитесь так: «Мир живущим (иными словами, да будет мир меж вами и лучниками, или же просто разумейте под этим мирное житье), а затем «requies Defunctis» – да почиет Дефунктис». В Бастилии сыщется не менее пяти или шести человек, которые с превеликой радостью воскликнут «аминь» после такого пожелания. Вот эдак и обходитесь с вашей молитвою. Но вернемся все же к «и».
Фенест. Да разве вам неизвестно, что и месса начинается с «и»; один говорит: «И войду я в Царствие Небесное», а другой подхватывает: «к Господу, что осияет юность мою...». Как подумаешь, не больно-то складно выходит, вот от чего столько чудес... Среди богословов нового толка есть такие, что готовы переиначить и Входную молитву[138]; однако, по моему мнению, этого следует остерегаться, иначе вы, гугеноты, мигом крик подымете: католики, мол, впали в ересь.
Эне. Да, немало есть молитв такого рода; желал бы я знать причину сей несуразицы.
Фенест. Так ведь то молитвы – язык возвышенный, не обыкновенный. Даже в заклинаниях вы отыщете множество отрывков из псалмов; взять хоть такой пример: кто хочет поймать змею, должен сказать: «Et conculcavis[139] leonem et draconem». Я это не к тому, что имел в виду господин Маршал[140], когда он обвинил отца Кутона[141] в колдовстве, – тот якобы славил Господа в слишком развязных выражениях; Боже меня упаси судить об этом, я слишком добрый католик... Однако существует же божественная магия, как говорит отец Сегиран[142]; да вот и Шарон[143] в одном из своих трактатов – я сам читал! – сравнивает мессу и Пресуществление с действами колдунов и магов, которые подмешивают кровь в любовные зелья. Там он уверяет, что во время мессы нас причащают кровью и телом Господним именно затем, чтобы преисполнить любви... а дальше и выговорить-то боязно. Помнится, Казобон[144], в чьем кабинете разбирали мы это сочинение, отобрал у нас книгу, сказавши, что нечего, мол, и знать подобную ересь.
Эне. Я читал этот отрывок; он начинается словами: «О любовь, ты вершишь все!» Весьма похвально, что вы не стали толковать их; однако следовало бы лучше признать это пресловутое «и» грамматической ошибкою, нежели объяснять его всяческими богохульствами.
ГЛАВА ВТОРАЯ
О Мазильере. Невидимая церковь, реликвии и благие намерения
Фенест. Что до меня, то я готов защищать все вплоть до освящения колоколов; я и вас обращу, коли вы того пожелаете. А к моей молитве вам придираться не след, она так же сойдет за настоящую, как «Ave Maria».
Эне. Судя по вашим словам, стоит вам мигнуть, как все кругом пожелают обратиться.
Фенест. Еще бы! Обращение Мазильера[145], капитана Наваррского полка, – это, можно сказать, моих рук дело. И сколь доброе дело! Он отправился к мессе, а после обошел всех знатных господ, похваляясь своим обращением. Однажды у монсеньора де Роклора зашел спор о том, чья религия лучше. «Надобно спросить у этого капитана», – сказал господин Маршал. «Ну что же, – обратился он к Мазильеру, – ты попробовал и там и тут; считая с субботы, побывал и протестантом и католиком; как тебе кажется, какая религия лучше?» Тот с уверенностью отвечает, что, мол, католическая, на что Маршал возражает: «Ты, братец, либо самому себе врешь, либо нам; я-то ведь знаю, что ты содрал и с тех, и с других и за обращение, и за возвращение».
Эне. Отлично сказано. Я вижу, вы решили обращать меня с шуткою на устах.
Фенест. Таким вот, стало быть, манером он и перешел опять к вашим, а мне отослал обратно эти четки, которые я ему одолжил, чтобы он сошел за доброго католика; теперь-то они ему не нужны, ведь ваша набожность невидима, так же как ваша церковь.
Эне. Да долго ли вы, подобно нечестивым язычникам, будете ставить нам в вину нашего невидимого Бога?!
Фенест. Ну как же не ставить, ведь мы-то любим все видимое.
Эне. Так вот отчего в церкви Святого Фронта[146] нашли среди реликвий маленькую склянку, где заключен был чих Святого Духа.
Фенест. Ох уж ваши гугенотские выдумки! Это ведь кто-то из ваших составил инвентарь реликвий[147], согласно коему у святого Павла якобы восемнадцать голов, у святого Петра шестнадцать туловищ, а святой Антоний – сорокарукий.
Эне. А зачем же выставлять напоказ то, чего на самом деле не существует? Почитайте-ка обо всех этих чудесах в книге[148], которую я держу здесь, у себя; она называется «Le Cose maravigliose de l’alma citta di Roma, ove si tratta de le reliquie dei corpi santi, per Giovanni Osmarino Gigliotto, con licenzia di superiori».
Фенест. Что за беда, коли наши добрые богословы слегка приврут: они ведь это затем делают, дабы выставить напоказ свою набожность до показать, как они почитают святых. А вы, гугеноты, лишили их последнего покоя.
Эне. Стало быть, вот что у вас называется почитать святых – делать из них ярмарочные чудища! Никому из нас сроду не довелось увидеть ни единой косточки[149] какого бы то ни было святого, а вы поклоняетесь мощам, коими торгуют вразнос по всей Европе.
Фенест. Нет, я с вами не соглашусь; я полагаю, напротив, что все, совершаемое с благими намерениями, – хорошо.
Эне. Вот это справедливо.
Фенест. Куда как справедливо, да ведь вы не верите в благие намерения. Эне. Сами по себе благие намерения мы не отрицаем, только надобно еще доказать, какое намерение благое, а какое дурное, ибо то, что оскорбляет Господа, не может считаться благом.
Фенест. Как же вы определите благое намерение?
Эне. Его можно назвать благим, когда оно отвечает понятию добра.
Фенест. А сверх того, благое намерение должно быть видимым.
Эне. Это именно то, чего мы ждем от нашего времени и от светоча истины.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Спор сеньора Канизи. Вопрос о крещении, возбужденный в Риме
Фенест. Я твердо стою на том, что главное – это намерение. Послушать бы вам отца Кутона, как он в сем вопросе отличился, когда призвали его рассудить спор барона де Куртомера[150] и сеньора де Канизи.
Эне. Мне как будто доводилось слышать эту историю; не о том ли она, что без благого намерения священника таинство недействительно?
Фенест. Точно так. Однако, кой черт донес ее до вас, в здешнюю глушь? Я-то думал, что вы, точно бретонцы, узнаете о свадьбе короля лишь тогда, когда крестят его детей. Итак, эти господа заключили пари, и весь двор оказался в величайшем затруднении. «Как быть? – восклицал один. – Мы утверждаем, что святые таинства необходимы для вечного спасения, а я даже не помню, причащался ли!»
Эне. Это вовсе не противоречит канонам вашей религии, она ведь не обещает вам наверняка вечного спасения и поступает весьма предусмотрительно, ибо, будучи в нем уверены, вы бы своих священников оставили с носом.
Фенест. Погодите, дайте досказать! А другой говорил: «Вот мой отец вчера умер; а что ежели бы какой-нибудь потаскливый кюре, давая ему последнее причастие, думал в то же время о девках – стало быть, родитель мой за чужие грехи должен отправиться в ад?» А третий добавлял: «Мы считаем бракосочетание таинством; а что как священник во время венчания мечтает о вкусном обеде – значит, брак недействителен, и я, да и все мы, таким образом – незаконнорожденные ублюдки?»
Эне. И более того: ежели бы священники, епископы и архиепископы служили все мессы Святого Духа без благого намерения, то что же сталось бы с вашими отпущениями грехов, монашескими орденами и церквями; что сталось бы с вашим личным наследованием, коим все вы так бахвалитесь? Месяцев шесть тому в Римской Консистории[151] разбирался подобный же вопрос. Некий архиепископ, из самых богатых и образованных в Италии, да к тому же еще один из заметнейших государственных деятелей, пригласил к себе погостить свою кормилицу, хоть и была она простою крестьянкою, да и пригласил-то на целых два дня, ибо пожелал еще раз позабавиться ее сказками, коими заслушивался в детстве. На второй день глупая баба, восхищенная роскошью, в которой жил ее выкормыш, бросилась ему на шею, восклицая: «V’е qui dunque il bambino ch’io battezzai pensando che traspassasse!»[152] – «Как, дорогая матушка, – удивился прелат, – да разве никто, кроме вас, не крестил меня?» – «Нет, – говорит она, – мы все считали, что вы померли». – Тогда он спрашивает: «Что же вы говорили, когда крестили меня?» – «Mi fiol, diss’io, io ti battezzo nel nome de nostra Donna»[153]. – «Ну а еще-то что?» – настаивает епископ. – «Non piu, disse la balia, che noi altre non battezavamo d’altra foggia»[154]. Тут-то и пришел конец благоденствию злополучного епископа, который огласил всю кардинальскую коллегию воплями и жалобами: «Как! Я даже не христианин, ибо не окрещен именем Господним! Что же станется теперь с теми, кто посвящен мною в сан, что будет с духовниками, коих я благословил и которые, в свой черед, благословляли прочих верующих! Сколько же несчастных попадет из-за меня в ад, ежели для спасения души потребно таинство! Ведь Господь повелел, чтобы все совершалось ex opere operato»[155].
Фенест. Я вижу, вам многое известно об этом деле.
Эне. Не обессудьте, это все было написано в мемуаре, который нам сюда прислали.
Фенест. Ну, отец Кутон будет половчее всей ихней Консистории; он-то в два счета распутал дело со спором, объявив, что поскольку человек может судить лишь по внешним признакам, следовательно, одной видимости вполне довольно. Вот и толкуйте теперь, что «быть» лучше, чем «слыть»!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
О бароне Арелэ. Игра в монаха и другие забавы
Эне. О, разумеется, но сие не касается таинств, недаром же Габриэль Биль[156] утверждал, что новшество Тайной молитвы[157], состоящее в том, чтобы читать ее шепотом, привело к полной неразберихе: хлеб клириков стали путать с телом Господним, отчего и началась великая смута. Но мы отвлеклись от нашего предмета. Вернемся к барону; я желал бы узнать, остался ли он доволен таким разрешением спора.
Фенест. Барон Куртомер? Да нет, не сказать, чтоб доволен, хотя он за-ставил-таки Канизи купить ему доброго конька, даром что недомерка; при дворе его прозвали Куртомерком[158]; одни шутили, что он, мол, Куртомерок «тайный», другие – что он Куртомерок «немеряный». Я его своими глазами видел, когда мы с капелланом монсеньора Люксембургского[159] прогуливались в Жуанвильском лесу[160]; конька держали там для подставы. Мы возьми да спроси у слуг, вправду ли это тот самый проспоренный недомерок. Они же с бранью набросились на нас, схватили обоих и, спустив штаны, всыпали нам нещадно; капеллану так даже солонее моего пришлось. Мерзавцы хохотали при этом во все горло; делать нечего, притворился через силу и я, будто мне весело: мол подстава так подстава, подставили и нас под кнут. Клянусь святым Арно, у меня после этой самой подставы дней десять рубцы не сходили, так что и на люди показаться было нельзя.
Эне. Что ж делать, коли вам по душе старинные церемонии; тут сетовать не след, ведь это все давние охотничьи обычаи.
Фенест. Нет, вы послушайте, каковы мерзавцы эти людишки! Кетэн Бруаж повел меня как-то к Жибо (или Анжибо[161]), у которого остались лошади монсеньора герцога и несколько слуг его; я-то заранее знал, что этих подлецов хлебом не корми, только дай сыграть с кем-нибудь ночью злую шутку, вот и объявил за ужином, дабы отвадить их, что со мною, мол, шутки плохи, и это слыхали все слуги из малой конюшни. Ночью, когда все уже заснули, да и мы с капитаном тоже, я вдруг чую – кто-то, уж и не знаю, кто, цап меня за большой палец на ноге. Я заорал во всю глотку, кетэн двинул меня как следует локтем поддых и заорал еще громче моего, что я, мол, мешаю ему спать и он не желает слушать мои вопли. Не сказать вам, сколько времени я эдак промучился: стоило мне вытянуть ноги, как тут же кто-то дергал меня за палец, только что из ноги его не вырывая; я в крик, товарищ мой горланит еще почище меня и без устали пинает в бок... Я бы его придушил, ей-богу, но не до него было – нога у меня горела, как в огне. Наконец я покорился своей участи и замолчал, тогда эта чертова штука стащила меня за ногу с постели и тут только оставила в покое.
Шербоньер. Сударь, да ведь этот капитан сам и привязал вам к пальцу веревку, а потом одной рукой дергал за нее, другою же вас колошматил.
Фенест. В самом деле, Шербоньер? Отчего же ты раньше мне об этом не сказывал? Я бы назавтра же вызвал его!
Шербоньер. Да ведь вы куда как незадачливы в дуэлях, сударь! Но не печальтесь, зато вы сможете сыграть такую же штуку с кем-нибудь другим.
Фенест. Ну, это само собой! Однако палец у меня так ломило, что хоть волком вой! Ай да Жибо, вот хитрая бестия! Мы с ним затевали множество игр, к примеру игру в «болвана»; хоть и дурацкая, а забава. Однажды мне с товарищем выпало водить; мы оба накрылись с головою скатертью и пошла потеха... Я думал, они мне все ногти на ногах посрывают, ей-богу; вместо того чтобы бить снизу, они все норовили долбануть по пальцам, а у меня и без того мозолей не счесть, да и башмаки, как видите, всего пятый номер[162], вот и судите сами, сколь солоно мне досталось; угадать же, кто бил, не было никакой возможности, так и пришлось водить до самого конца.
Шербоньер. Вот я бы так сразу догадался. Это ведь сам Жибо приподнимал скатерть да и пинал, кого хотел.
Фенест. Ну так я и знал, ах, проклятая шайка! Со мною обошлись не лучше, чем с гугенотами в Лудене[163]; не ввязываться бы мне и вовсе в эдакие забавы! Ох, уж запомню я этого «болвана», навек запомню!
Шербоньер. А скажите, сударь, когда вы искали экю с завязанными глазами, не пришлось ли вам натыкаться на чьи-нибудь колени?
Фенест. Конечно! Ох, и смеху же было, никак мы не могли его нащупать.
Шербоньер. Волчьи кишки! Да ведь то не колени были, а задница одного лакея, а вы по ней языком елозили и монету чуть ли не в задний проход загоняли.
Фенест. Ах он прохвост! У нас в Сентонже таких только прохвостами и зовут! Недаром я тогда подумал, что уж больно вонючие колени у этого мерзавца, а нюх у меня, надо вам сказать, преострый.
Эне. Да, происшествие не из приятных, но что поделаешь, игра есть игра.
Фенест. Ваша правда! Впрочем, в остальном мы там недурно провели времечко. Каждое воскресенье хозяин звал своих лакеев и приказывал развлекать себя.
Эне. Мы тоже могли бы поразвлечься нынче вечером – благо воскресенье, – ежели бы вы не прилагали столько усилий к моему обращению. Даром время тратили, но что делать – гостю рот не зажмешь.
Фенест. Эстрад, сбегай-ка, скажи там, что Монсеньор зовет своих людей для игр, как оно заведено. Вот посмотрите, какую игру я затею сейчас со своими лакеями, – точь-в-точь как принцы, когда они забавляются с нами. А пока люди придут, позвольте все же заметить вам, что, доводилось вам увидеть чудеса, какие творятся в некоторых местах, а особливо в Ардильерах[164], вы как пить дать обратились бы.
Эне. Что же это за чудеса такие, сударь?
ГЛАВА ПЯТАЯ
О бесноватой Марте и о прочих чудесах
Фенест. Я как раз находился в Ардильерах, когда привезли туда бесноватую Марту[165]; страх брал на нее глядеть!
Эне. Какое же такое чудо сотворил с нею епископ Анжерский?
Фенест. Я вижу, вы предубеждены против него. Духовенство тоже было против епископа, да и хорошо ли поступил прелат, когда капуцин велел ему коснуться колена Марты обычным крестом, он же дотронулся до него своим ключом. А то, что сделал он после, уж и вовсе не достойно доброго пастыря: вместо того чтобы почитать ей из Евангелия, он продекламировал эпиграмму Марциала[166].
Эне. Я слышал, у ней начались корчи при обоих этих испытаниях.
Фенест. Ну еще бы! И я вам растолкую, отчего: ведь демоны, овладевшие Мартою (они назвались Вельзевулом и Аскалотом[167] советнику Матра[168], который обращался к ним по-гречески), были один чересчур беден, а другой слишком молод, чтобы выучиться этому языку.
Эне. Что же, эти демоны так и трудились на пару, стар да млад, под стать проповедникам? А известно ли вам, к какому загадочному выводу пришел синклит? Мне-то рассказал об этом Рапен[169], которому было поручено вернуть бесноватую ее родителям.
Фенест. Если бы поверили отцу Гонтье[170], весь синклит следовало бы отлучить от церкви. Но вы все же зря насмешничаете; в Сомюре творятся великие чудеса. Разве не чудо случилось с сержантом Мажором[171], который отправил свою лошадь в паломничество, когда та ослепла? Так вот, коняга-то его прозрела, а сам он ослеп.
Эне. Говорили, будто неделю спустя он увидел входившего к нему епископа и повернулся к нему спиною; а еще ходили слухи, что Господь покинул его, и тогда несчастный принялся чеканить фальшивую монету и занимался этим ремеслом четыре или пять лет кряду, за что и был повешен в Туаре[172].
Фенест. Может статься, все обернулось бы иначе, кабы он совершил такое же паломничество, как его конь. Но все же, доведись вам посетить тамошние места, вы бы воочию убедились, что хромые и безногие пооставляли такую кучу костылей, какая и в этой зале вряд ли уместится.
Эне. В благодарность за сонет, коим вы угостили меня после обеда, я вас попотчую эпиграммою, доставшейся мне от одного сомюрского школяра; пусть она ответит вам вместо меня:
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Чудеса в Ларошели и в Сент-Лерине. Чудо, сотворенное священником из Биллуэ. Чудо с Богоматерью Красного моря
Фенест. Вот так ехидная эпиграмма! Прошу вас, перепишите мне ее!
Эне. С превеликим удовольствием! Я присовокуплю к ней еще один стишок, записанный на том же листке – о кюре из Ларошели, который научил некую сметливую девку прикинуться бесноватою; однако ларошельцы, крепко себе на уме, не позволили ему сотворить чудо, на память же о сем происшествии сложили вот что:
Первую эпиграмму подарил мне один ларошелец, вторую же получил я прямо на месте, приехавши туда в надежде, что мне покажут, наконец, чудо, которое было бы воистину чудом и воистину зримым. Но увы! Все они оказались невидимы. Так что в этом пункте я вполне соглашусь с вами: пускай выставят нам хоть одно чудо напоказ! Сколько уж встречали мы подкупленных мошенников, притворявшихся слепыми и горбатыми, вроде того кузнеца из Ниора, что три месяца кряду проходил, втиснув зад в железную лохань и притворяясь увечным горбуном, а потом вдруг чудом исцелился, пользуясь тем, что проверить это дело представлялось весьма затруднительным. Сентский епископ[173] однажды поступил как истинный пастырь: четверо нищих, изображавших слепцов, якобы исцелившихся от своего недуга, явились затем поведать о чудесном своем исцелении водою источника, незадолго до того забившего в Сент-Лерине[174], близ Аршиака. Чудо это столь воспламенило сердца всех верующих из соседних приходов, на шесть лье в округе, что они в два месяца натаскали к этому источнику чуть ли не две тысячи возов камней. Епископ посетил эту местность и, произведя расследование, заставил каждого прихожанина унести свои камни обратно. Кардинал Лотарингский[175] за это предал его анафеме, и он же добивался смерти Фервака[176] за то, что тот разорил священника из Биллуэ[177].
Фенест. Это почему?
Эне. Священник тот, родом лотарингец, славился как опытный костоправ и вылечил многих увечных в нашей местности. В то же время он зазывал к себе знакомых слепых и безногих и якобы исцелял их; другим же калекам, чужакам, внушал, что желание исцелиться и вера, выраженная вслух, уже есть начало исцеления. Он построил себе жилище рядом с разрушенной часовней; и года через два с лишком вокруг выросло уже целое поселение из ста двадцати или ста сорока домов, в числе коих было сорок гостиниц и харчевен. Все наши принцы крови да и многие иноземные побывали там. Но дело кончилось плачевно: вздумалось ему подучить одну девку прикинуться бесноватой, с тем чтобы «исцелить» ее на Троицу; но Фервак и Лалозьер[178] переманили ее от него и, отдавши потом в руки правосудия в Орбеке[179], заставили сознаться в мошенничестве. Вслед за чем селение, которое видел я во всем его расцвете, было стерто с лица земли за какие-нибудь два дня. Кардинал же утверждал, что не следовало разоблачать сей обман, ибо он способствовал укреплению благочестия. Подобные махинации прославили в свое время Берн и Женеву; первый – чудом с якобинцами[180], вторую – чудом с усопшими младенцами[181], коих «оживляли» в часовне, кажется, прижигая им затылки раскаленными иглами. Эдаким жульническим проделкам верят лишь те простофили, которые и сами всею душой жаждут обратиться, и, напротив, «вийонады»[182] эти отвращают от церкви умы, желающие приобщиться истинного благочестия, ибо невозможно и грешно строить истину на лжи.
Фенест. Я вам так скажу: бывали, конечно, разные фокусники, что водили за нос верующих; вот взять хоть двух галантерейщиков из Бренна[183], которые водрузили Богоматерь Красного моря[184] на сорочье гнездо, свитое на старом дубе. Набожные прихожане изгрызли этот дуб и растащили его по щепочкам, так что одни корни остались. Однако ваши слова будут причиною тому, что я перестану доверять чудесам.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Игры и забавы
Фенест. Вот явилась отменная компания для игры; ну что ж, молодцы, сыграем, что ли, в «обдери-короля»[185]? Эх, и славная же игра! А то, еще лучше, в «оббей-грушу»[186]!
Эне. Ну и сумбур же в голове у этого недотепы-барона! Ага, вот и ему пришел черед водить, а Шербоньеру – сторожить его. Карманьоль, взгляни-ка, – твой приятель усерднейшим образом пинает вашего господина в зад, вместо того чтобы охранять его... Неужто же он совсем не боится, что барон догадается, кто его лупит?
Карманьоль. Куда ему, Монсеньор, ведь у нашего господина, ей-же-ей, не все дома. Да и какой из него господин-то!.. Когда вы с ним стоите рядышком, так сразу видать, кто из вас будет поумнее... Ну, слава Богу, отыгрался, наконец!
Фенест. Эти висельники мне всю задницу испинали, но все же я отыгрался. Эй вы, сыграем-ка теперь в чехарду!
Эне. Вот любимая игра придворных; притом один вечно подставляет спину, другие же прыгают. Что ж, забавляйтесь, коли вам угодно, я же пойду взглянуть, как вам приготовили комнату.
Шербоньер. А после возвращайтесь сюда, Монсеньор, ежели хотите позабавиться. Ваши люди затеяли с нашим хозяином «игру в Мишо»[187] – ваш лакей подучил Карманьоля и того, второго, подглядывать из-под повязки, а чтобы барон о том не догадался, велел им попадать в него лишь через раз.
Эне. Вот так оно всегда и бывает: кругом человеку вредят, и никто не остережет его... Эй, сударь, не пора ли вам передохнуть?
Фенест. О, мне бы все нипочем, но этот подлец пребольно хлещет меня самым концом полотенца.
Карманьоль. Что ж я могу поделать, коли не вижу, куда бью!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Диспут о Преддверии Рая
Фенест. Ну тебя к дьяволу, Карманьоль, с твоими полотенцами, уж больно они хлесткие!.. А все же славно мы провели времечко. Однако потешились и будет. Сдается мне, в это полотенце была завязана мушкетная пуля; сам-то я на такие штуки никогда не пускался – вот хоть развяжите мое да проверьте. Завтра, как пить дать, на загривке шишка вскочит. Лучше бы уж, сударь, я занялся вашим обращением; по крайней мере, хоть пенсион бы себе заработал, да и вы тоже. Уж если отец Кутон кому посулит, считай, пенсион у тебя в кармане... Как он говорит, читая проповедь о пресуществлении[188]: едва слово произнесено – хлоп! он уж тут как тут!
Эне. Неужто же отец Кутон – апостол того, кто начинает свои проповеди с Dabo tibi[189]?
Фенест. Да ведь ему доверяют, равно как и его собратьям... Они все частенько наведываются в тюрьмы: ежели какой осужденный вашей веры соглашается перейти в нашу, они выхлопатывают ему помилование.
Эне. Ну, а коли откажется?
Фенест. Тогда делать нечего, полезай в петлю.
Эне. Поистине, если и есть место, где легко сыскать людей, на все согласных, так это ступени эшафота. Но как же удается им в столь краткий срок подробно наставить верующего на путь истинный?
Фенест. Однажды я в компании попов сходил в тюрьму, чтобы взглянуть на одного осужденного, родом из Нижнего Пуату, звали его Лакомб; правда что с тех пор он опять вернулся к прежней вере. Так вот, я сдуру приготовился к диспуту по всем пунктам – и напрасно старался, наши-то придают значение лишь главенству Папы, а во всем остальном сторговываются, как выйдет. Я даже рассердился: они ни словом не помянули ни о Чистилище, ни об индульгенциях (чего особенно избегают), а на расспросы мои отвечали, что, мол, все, касающееся до состояния души после смерти, для непосвященных – темный лес. Я еще спросил отца Байля[190], как он понимает отрывок о многочисленности райских обителей и лоне Авраамовом[191], на что он мне без обиняков сказал, как отрезал: «Читайте Святого Августина»[192].
Эне. Хотя мне и претит затрагивать столь высокие материи среди игр и забав, я не могу удержаться, чтобы не сказать вам: в этом он прав. Ибо святой Августин излагает сей вопрос в следующих словах: «Поскольку обители сии принадлежат к дому Отца Небесного, нечестивейшим почитается желание устроить там юдоль мучений». И вот как возражает он уповающим на существование еще чего-нибудь, будь то Чистилище или Преддверие Рая: «Таковое стремление не достойно истинного католика; всем святым заклинаю вас не делить жилища вашего с теми, кто впал в подобную пагубную ересь». Что же до лона Авраамова, то вот что он говорит по этому поводу: «Сколь жестоко вкладывать в него, на ком зиждется надежда наша, очаг мучений и адское пекло». И я берусь, не сходя с этого места, доказать вам правоту каждого из приведенных мною слов.
Фенест. О, вы меня весьма обяжете; а заодно растолкуйте мне одно неясное место у Шарона[193]. И, однако, уверяю вас, я знавал многих, что верили разом и в Чистилище, и в Преддверие Рая[194], что бы там о них ни говорилось.
Эне. Взгляните-ка на этого кривого верзилу-каменщика и на крестьянина рядом с ним. Они прервали игру, чтобы послушать нашу беседу. Так вот, они вечно спорят друг с другом, отчего работа у них, прямо скажем, не спорится; иной раз и до потасовки доходит, но им никак не удается договориться, и каждый, подобно вам, сетует на то, что другой столь несговорчив. Спросим-ка их; таких рассуждений и на диспуте в Сорбонне не услышишь, зато они будут куда забавнее, чем все наши с вами доводы. Я уж по физиономиям этих мудрецов вижу, что им не терпится высказать свое мнение.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Богословские рассуждения Клошара и Матэ
Фенест. Да, я вижу, кривой чуть не в рот нам лезет. Ну-с, куманек любезный, какое твое мнение о Преддверии Рая и Чистилище?
Клошар. Это вы, сталбыть, об Рае да Чистилище толкуете? Да я вас мигом на обе лопатки положу, в точности как наш проповедник: он на прошлой неделе разделал одного капуцинишку, что твоего борова на ветчину. А ну-ка, сударь мой, нешто врут, будто небо все как есть из одного куска скроено? Что вы на это скажете?
Эне. Он спрашивает вас, правда ли, что небеса составляют одно целое.
Фенест. Да-да, я его кое-как понял; не говорил ли я вам, что живал в Пуату? Все верно, куманек, я с тобою согласен; небо точно из одного куска скроено.
Клошар. Сталбыть, согласные вы? А нашему проповеднику чихать на ваше согласье. Ну-ка, вот вам еще загадка: нешто врут, будто небо выведено на манер свода?
Фенест. Ну конечно, потому и говорится: «небесный свод».
Клошар. Ну а коли уж дошло до сводов, тут я самый мастак и буду. В нашей округе все погреба со сводчатыми потолками мною складены; один так не меньше как в тридцать брассов[195] будет. А вот ежели кто из вас заявится сюда и давай дырявить стены да расковыривать своды, так что весь дом, того гляди, обвалится, нешто я буду стоять сложа руки да поглядывать на такие дела? Вот то же самое и с небом: Отец-то Небесный, небось, поважнее вашего птица, так нешто он даст разорять свод небесный да строить там разные чистилища да райские сени?! Что на это скажете?
Фенест. Фу, что за строительная теология? Ни черта не разобрал!
Эне. Сударь, попроси-ка его приятеля ответить ему. Эй, Матэ, подойди ближе да ответь Клошару, а то уж больно «умственно» он рассуждает.
Матэ. Монсеньор, я в Клошаровой премудрости вот на столечко не смыслю. Этот Клошар как зачнет колпаком своим размахивать, так у добрых людей в глазах рябит от маханья ейного, да от речей в ушах свербит. Помнится мне, вы однова спросили его, не собрался ли он вам голову снести.
Клошар. Уж такова у меня повадка. Да ладно, я ведь колпак-то и убрать могу.
Матэ. А еще я вот как скажу, монсеньор: знаю я такую штуку, что из-за нее одной всю мою жизнь к мессе прохожу; эту штуку даже Клошар, хоть он весь свой язык об зубы обтрепи, не раскусит. А ну-ка, ответь, приятель, нешто это враки, что орешник каждый год зацветает аккурат на праздник Богородицы[196]?
Клошар. Ну, зацветает, и что с того?
Матэ. А то, что это, почитай, церкви нашей так угодно.
Клошар. Зацветает!.. А чего ж тут мудреного, коли два года кряду и зимы-то настоящей не было. А вот нынче что-то не видать цвета на твоем орешнике. Что на это скажешь?.. А туда же: «Каждый год, мол!»
Матэ. Господи, спаси и помилуй этого грешника окаянного! Нет, братец, цвет цветом, а тебе меня все едино не обратить. Послушайте-ка, господин барон, как дурак глупого уму-разуму учит, да будьте пооглядчивее, не переметывайтесь туда-сюда.
Эне. Ну, что скажете, сударь, о сих ученых мужах?
Фенест. То и скажу, что эти болваны один другого стоят. А вы, как я погляжу, тут отнюдь не скучаете. Ладно, согласен, будет с нас религии, поболтаем-ка лучше о дворе и государстве.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Любовные похождения барона. О ворожбе
Эне. О, не стоит насмешничать над этими святыми понятиями. Поговорим лучше о Париже.
Фенест. Ах, Париж! Кто не живет в Париже, тот, можно сказать, не живет вовсе! Бедняжка любовница моя, уж верно, вконец исстрадалась там без меня... Одному Богу известно, как она грустит в разлуке, несчастная! Правда, я написал ей письмецо...
Эне. Вот это похвально, ибо хоть на вашей войне и пролилось больше вина, чем крови, все же Ларошель – крепкий орешек[197], и мало кто знает, сколько еще продлится осада.
Фенест. Была крепким орешком, да мы его разгрызли; теперь все пойдет по-иному, ведь король повелел сровнять крепость с землей. Я слыхал от одного верного человека, которому довелось составлять манифест господина герцога[198] к ларошельцам, что все принадлежащее мятежникам будет уничтожено, ну а то, что мы успели захватить, останется в целости, вот разве называться станет по-другому[199].
Эне. Да, боюсь, именно так оно и случится... Но вернемся к Парижу. Не осталось ли у вас при себе копии того письма, что отослали вы вашей даме?
Фенест. Ах, и в самом деле, у меня ведь черновик завалялся где-то в кармашке.
Эне. Посмотрим, посмотрим, сударь, на плоды столь блестящего ума.
Фенест. Погодите-ка, где же он... ах вот! «Мадамизель! Наконец-то звезды и светила, чье расположение, а равно и нерасположение столь безжалостно лишили меня вашего нежного расположения и сладких воспоминаний в разлуке, вдали от прелестных ваших глазок, подобных дождливому рассвету, каковые побудили меня бежать вдаль от Елисейских полей... Однако смею ли надеяться, что столь бедственное положение ваше не лишит вас расположения к вашему несчастному и покорному рабу. Впрочем, знайте, что в честь любви нашей поблизости от Тадона[200] устроена была перестрелка шестью десятками доблестных кавалеров (среди коих ваш покорный слуга славится как бывалый вояка), решительно расположенных прикончить мятежников прямо в расположении их стен. И заверяю вас, что о бароне Фенесте вскорости непременно заговорят, притом в хорошей компании. Что же до новостей, то главная вот какая: вам не придется более упрекать меня, что я закусил удила, ибо здесь, в армии, мы живем смирно и вовсе забыли дебоширить, моля Бога, мадамизель, чтобы Он и вам того же послал.
Писано в расположении лагеря под Ларошелью».
Эне. Н-да, и впрямь высокий стиль! Поистине, любовь – коварная наставница. Но неужто же вы завели в Париже всего одну любовницу?
Фенест. Ну вот еще, не так уж я глуп! Одну я завел, чтобы жениться, то был номер первый; ох и натерпелся же я от нее напастей – побольше, чем вшей в голове у четверки испанцев! Однажды ночью привел я к ее дому скрипачей и певцов, желая усладить ее слух серенадою, да не тут-то было – приказчики из соседних лавок забросали нас камнями, и мы еле ноги унесли. Тогда пошел я к одному колдуну, а еще наведался к даме по имени Ласкот[201], и они оба пообещали мне приворожить эту капризницу.
Эне. Что же за чудеса показали вам эти двое?
Фенест. Ласкот брала ребенка трех-четырех лет и, потерев ему ногти, смазывала их какой-то волшебной мазью; тотчас дитя указывало человека, которого разыскивали за кражу или убийство.
Эне. А не шептала ли она при этом молитвы на ухо ребенку?
Фенест. Ваша правда; притом же она надевала епитрахиль, и зажигала свечу, и размахивала кадильницей.
Эне. Так вот: ребенок просто повторял то, что она шептала ему на ухо.
Фенест. А однажды она повела меня в сад и там показала мне мою возлюбленную; ну-с, как вы это растолкуете?
Эне. Очень просто. Возлюбленная ваша находилась за стеною, и вы увидали ее посредством отражения двух зеркал, одно из коих было полусферическим, чтобы она не предстала вашему взору вверх ногами; пари держу, что ваша ворожея очертила круг, из которого вы не должны были выходить.
Фенест. И точно; а все-таки чудо есть чудо. Ну да ладно, коли уж начал, не стану таить, скажу вам все до конца; та, на которой я собрался жениться, в такой раж меня вогнала, что я решил сообщаться с дьяволом. Один итальянец[202] сулил мне его вызвать, поставив, однако же, условием, что я не испугаюсь. «Испугаюсь?! – воскликнул я. – Да будь предо мною опущен подъемный мост в адское пекло, да будь я вынужден взорвать его за собою, мне все нипочем, я храбро пойду вперед, и посмотрите, как я заставлю всю эту адскую чертовню служить мне!» Итак, приступили к опыту. Ворота Сен-Марсо[203] в ту пору были открыты всю ночь до утра, так как случился чумной год. Мы вышли через них и часам к одиннадцати вечера добрались до маленькой прогалины у подножия Бисетра[204]. Тут колдун мой опять спрашивает, не оробел ли я. «Клянусь кишками святого Христофора! – отвечаю я. – Не иначе как черти в аду устрашились моего бравого вида и решили твоими устами запугать меня!» Тогда он отходит подальше и битый час где-то пропадает, затем возвращается и, взяв меня за руку, ставит внутри очерченного им круга. В руке он держит палочку из белого орешника, с небольшою на конце развилкою, курит вокруг ладаном и бормочет: «Adeste spiritus benevoli»[205], и еще какую-то тарабарщину, а после разворачивает меня лицом к востоку. Здесь он ничего не говорит и не делает. Затем поворачивает меня к югу и тут говорит: «Et ессе ego totus vester»[206]. Потом опять ничего не делает, а дальше произносит: «Сие принадлежит духам Севера!» Тут мы делаем пол-оборота, и, едва он выговорил «Agla varcan!»[207], я вижу, как прямо из-под земли возникает человек такого гигантского роста, что, встань мы с колдуном один на другого, он и то оказался бы выше нас обоих, а к тому ж еще горбатый и с переду, и с заду. Ну а рожа у него!.. Ух, башка святого Мамулена! Я весь затрясся с перепугу – гляньте-ка, у меня при одном воспоминании волосы дыбом встают, – и пустился наутек быстрее ветра сквозь колючий кустарник, где бегом, где ползком. Так я мчался, сам не знаю куда, и вдруг – бац! – провалился в яму, упав, слава тебе, Господи, на что-то мягкое и ни одной косточки себе не повредив. Тут как раз взошла луна, и я разглядел, что угодил в яму для чумных мертвецов. Ох, и смердели же они! Но я не растерялся: мигом нагромоздил кучу из десятка или дюжины трупов, выкарабкался наверх и пустился домой во весь дух. Ясное дело, об этом приключении я никому ни гу-гу, исключая только нашего кюре, которому заказал я отслужить мессу святому Роху[208]. Он было хотел пустить мне кровь, дабы уберечь от чумы, но мне не до того было, очень уж я испугался дьявола. Что, как вы мне это дело растолкуете?
Эне. А так и растолкую, что там, в лесу, была либо канавка, либо какие-нибудь развалины, где и прятался ваш «демон», и, пока колдун вертел вас туда-сюда, тот успел встать на ходули и в таком виде показался вам.
Фенест. Черт подери, вы меня надоумили; у него и впрямь ноги были худые, как жерди. Эх, жаль, плакали мои денежки – ведь я тому колдуну целых двенадцать пистолей отвалил!
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Другие любовные приключения
Эне. Что же, после стольких страданий удалось ли вам завоевать сердце вашей возлюбленной?
Фенест. Надо вам знать, что я по-прежнему устраивал ей серенады. Я свел знакомство с тремя беспутными шалопаями, и вот однажды к ночи мы вчетвером, встав под ее окнами, напели ей с три короба: она, мол, и свет моих очей, и сосуд добродетелей, и сосуд прелести, ну прямо тебе целая сосудная лавка. И вот когда мы уже завершали нашу серенаду следующим двустишием:
– вдруг мне на голову свалился-таки сосуд, только полный мочи и еще кое-какой мерзости, едва не раскроив череп. Приятели мои давай честить даму на все корки; один окрестил ее сосудом мочи, второй – сосудом дерьма, после чего мы удалились.
Эне. Ай да любовная песнь!
Фенест. И за это я решил ославить ее на весь город. К несчастью, мерзавцы-стражники вооружены алебардами, так что пришлось нам удирать во все лопатки. Но не тут-то было; мы налетели на засаду, и пришлось мне отсидеть три денька в Шатле[209]. Спасибо, маршал де Фервак[210] за небольшую мзду вызволил меня оттуда. Потом я еще как-то раз собрался жениться, но на том и зарекся. Тогда-то, во второй раз, люди господина маршала повсюду сопровождали меня, величая маркизом де Францискасом; многие знатные особы даже одалживали мне карету, чтобы ездить к невесте. Она была рода, правда, невеликого, всего-навсего дочь торговца «пух-перо», однако за нею давали в приданое десять тысяч бордосских экю[211] – так уверяла ее мать, которая спала и видела, как бы сделать свою дочь маркизою, оттого и помолвила ее за меня. Но увы! Однажды господин маршал уговорил меня наведаться в бордель к дядюшке Тома[212]; сам он первым поднялся к девице, за ним подошла и моя очередь. Башка святого Филибера! Кого же, как вы думаете, увидел я в той комнате? Мою нареченную! Вот уж был конфуз так конфуз! С тех пор я и поставил крест на женитьбе, хотя господин Кайе[213] все сулит мне приворожить какую-нибудь красотку...
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
История Кайе
Эне. А вы полагаете, что Кайе ворожит искуснее других?
Фенест. Ну еще бы! Он показывал мне книги по магии, написанные им самим[214], в две сажени высотою; он же давал мне заглянуть в яичную скорлупу, в которой вырастил крошечного человечка из куриного зародыша, мандрагоры[215] и малинового шелка, подогревая их на медленном огне; тем самым достигал он вещей, какие я вслух и назвать-то боюсь. А еще он показывал мне фигурки, слепленные из воску; женскую, изображавшую ту или иную даму, он растапливал на огне, дабы воспламенить ее сердце, а мужскую протыкал маленькой стрелкою, и тем мог навлечь смерть на любую знатную особу, вплоть до принца, хотя бы тот находился в ста лье от него... Что вы на это скажете?
Эне. Скажу, что он такой же колдун, как и все ему подобные.
Фенест. Эге, да вы тут, как я погляжу, не веруете ни в Бога, ни в черта!
Эне. О нет, ведь в таком случае мы бы уподобились каким-нибудь саддукеям[216], на манер одного здешнего еретика[217], чьего имени я вам называть не стану, ибо он сделал вид, будто раскаялся. Писание учит нас, что есть чародеи и колдуны: первые попадаются столь редко, что один из герцогов Савойских напрасно потратил сто тысяч экю на розыски таковых; вторые же развелись в изобилии; к их числу отношу я и вашего Кайе, что предался в руки дьявола; тому имеется письменное подтверждение – обязательство, к коему руку приложил как сам он, так и адский его покровитель. Вы, верно, слыхали об ужасном его конце; я же своими глазами видел в руках господина Жило[218] подлинник сей запродажной. Долго обсуждали при дворе, следует ли сжечь его тело или же подвесить оное за ноги на Монфоконе[219]; однако в гнусных его манипуляциях замешаны были кавалеры и дамы столь высокого происхождения, что мерзкое это дело постарались замять, как оно нынче и принято, – люди предпочитают сгнить у себя в доме, нежели вынести сор за порог; вот уж когда выставлять себя напоказ и впрямь невыгодно.
Фенест. А правду ли болтают, будто он продал дьяволу также своего барана и мула?
Эне. Вот уж чего не знаю, того не знаю.
Фенест. Его уход нанес вам, однако, большой урон.
Эне. Э, да это не он от нас ушел, а мы сами его выгнали, и никто из гугенотов не был слишком огорчен – таким людям средь нас не место.
Фенест. Стало быть, вы изгнали его за колдовство?
Эне. Прежде всего, ему вменили в вину сочинение двух книг. В первой из них он доказывал, что супружеская измена и блуд отнюдь не запрещены седьмой заповедью и что эта последняя осуждает лишь το μοιχον χευειν[220], имея в виду грех Онана[221]; этим восстановил он против себя известный католический орден. Во второй книге предлагал он вновь дозволить бордели, но на процессе его обвинили еще и в колдовстве, и нам достались эти самые книги, написанные им в Тей-Шовен[222]. Неужто вам не случилось прочесть сонет, сложенный в его честь; он в свое время ходил по рукам.
Фенест. Нет, я его не читал, а вы мне не дадите?
Эне. Я знаю его наизусть, слушайте:
Фенест. Подумать только! Чего только он в свое время ни сулил маршалу Ферваку, да и мне самому должно было перепасть от его милостей.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
О маршале де Ферваке и о клириках из Дворца Правосудия
Эне. Как же случилось, сударь, что маршал, с коим водили вы столь тесную дружбу, не способствовал вашей карьере?
Фенест. Тесную дружбу?.. О да, да! Такую тесную, что один завистник, когда я рассказывал, что мы с маршалом сделали то-то и то-то, мне заявил: «Etiam nos, poma natamus»[224].
Эне. Так обычно говорится по поводу дома, разрушенного половодьем, когда меж обломками плавают фекалии вперемежку с яблоками. При крушении же великих домов наверх всплывают, вместе с отборнейшими фруктами, такие мерзкие нечистоты, что и сказать нельзя. Однако выражение сие верно для шампиньонов, что растут на навозе, но никак не для вас.
Фенест. Ах, вот жалость-то! Знай я тогда же перевод этого изречения, кое-кто из нормандцев оказался бы в больших дураках. Надо вам сказать, что эти нормандцы[225] вечно задирали меня. Иду я однажды по улице и вижу – выглядывают они из окна и потешаются надо мной. А я, как вы, верно, заметили, не бегаю трусцою и не семеню при ходьбе на манер простого буржуа или какого-нибудь там служки, а напротив, выступаю эдак важно и степенно, потряхивая головою в такт шагам, как оно и подобает истинно светской особе[226]. Так эти висельники наняли за одно экю пару барабанщиков и наказали им ходить за мною по пятам. Я сперва было принял их за караульных и – врать не стану, – услыхав, что они лодлаживают свою дробь под мой шаг, сам с удовольствием зашагал под бой их барабанов. Однако спустя некоторое время сомнение меня взяло; что за оказия, думаю: куда я, туда и они! Я останавливаюсь – они тоже, я иду – они за мной. Наконец мне это надоело и я решительно у них спрашиваю: «Какого черта вы за мною бегаете?» На что они мне: «А какого черта вы перед нами идете?» Я им: «Какого черта вы барабаните, когда я иду? «А они мне: «Какого черта вы идете, когда мы барабаним?» Я им: «Какого же черта вы не барабаните, когда я останавливаюсь?» Они мне: «Какого же черта вы останавливаетесь, когда мы не барабаним?» И такой же ответ на все прочее. «Ах, вы, наглецы! – говорю я им наконец. – Башка господня, да я вам сейчас все ваши барабаны к дьяволу попротыкаю!» – «Глядите, как бы мы вам барабан-то на голову не нахлобучили, словно тому кюре из Сент-Эсташа!»[227] Я выхватываю шпагу – они берутся за свои... Ну, словом, я почел за лучшее войти в лавку оружейника...
Эне. Что ж, вы обратили ссору в шутку; я был свидетелем такой же забавы на рынке в Ниоре; предметом ее оказался дворянин, у коего один сапог был натянут до бедра, второй же сложился гармошкою.
Фенест. Так вот, как я уже сказал, я был весьма хорош с маршалом, и отнюдь не этот случай был причиною того, что я его покинул, да и не другие насмешки, коим я подвергался у него в доме; я даже посулил ему, коли мы затеем войну с гугенотами, что приведу из дому небольшое войско. И я на самом деле поставил бы ему тысяч восемь аркебузиров и пару тысяч кавалеристов, не считая простых пехотинцев... Однако я оскорбился наглостью приятелей моих: в один прекрасный день, за обедом, отослав лакеев, человек двадцать наших тайком сговорились явиться в четыре часа во Дворец Правосудия и пройтись по главной зале, не снимая шпор[228]. Я присоединился к компании. Но вот в чем состояло коварство: их слуги поснимали с них шпоры на лестнице, а я остался как был. И когда мы вошли в залу, они же, негодяи, меня и ославили! В ноги мне тотчас, как псы, вцепились клирики Базоши[229], а я давай их колошматить, думая, что дружки мои за меня вступятся. Куда там! – вокруг все только гогочут, а я стою побитый, дурак дураком. Потом они меня подняли на руки – ни дать ни взять точно их короля[230], – и, как вы думаете, для чего? Да для того, чтобы те мерзавцы могли безнаказанно втыкать мне булавки в задницу. Вырвавшись и удирая, я им крикнул, что тот, кто все это подстроил, свалял большого дурака, а они мне вдогонку: «Дурака мы, мол, точно, большого поваляли!» Решив оставить за собою последнее слово, я обозвал предателем того из них, кто научил клириков фехтованию булавками, и он, схвативши меня за руку, сказал на ухо: «Тогда марш на Пре-о-Клер!»[231]. Тоже нашел дурака! И я с большим достоинством возразил: «Не вам мне приказывать!» Надо вам сказать, что при мне, как нарочно, не случилось никакого оружия, разве что одна «дворянская честь»[232], но после-то я все же послал ему записку с вызовом, и с тех пор, как вы можете убедиться, всегда хожу при шпаге.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Рассказ про Матэ и четырех кюре
Эне. Приведи вы маршалу обещанный отряд во время Онисовой войны[233], вас приняли бы с распростертыми объятиями.
Фенест. Дьявольщина, да ведь тогдашняя война не против гугенотов велась; к тому же мой отряд поднял бы на подходе такую пылищу, что не видать бы нам из-за нее города, а городу – нас.
Эне. Вот похвальное благоразумие!.. Но я возвращаюсь к прежнему нашему разговору: поверьте и вы мне, что следует постоянно ходить при оружии, ибо того, кто не готов к бою, нетрудно застать врасплох, нанеся ему немалый урон. Видите ли вон того неотесанного мужика, что собирает орехи? С ним однажды приключилась история, которой, впрочем, далеко до ваших придворных приключений. Я рассказал бы вам ее, не будь мне стыдно оскорблять ваш слух деревенскими россказнями.
Фенест. О, не стесняйтесь, мсье, такие истории иногда бывают презабавны.
Эне. Наш приятель – деревенский сводник. И вот однажды порешил он устроить любовные дела четырех кюре и их служанок. Каждому из кюре он сказал: «Что это вы связались с такой грязной потаскушкой, да к тому же еще и беззубою? Давайте-ка я вас сведу с честной и опрятной девицею!» Каждой же из служанок говорил он вот что: «Неужто тебе еще не опротивел этот насквозь прогнивший развратник, который ни на что путное не годен?! Давай-ка я тебя познакомлю с кем помоложе, вон ты какая пригожая да гладкая!» Заручившись согласием всех восьмерых, а заодно и обещанием подарка от них, он велел четырем служанкам принарядиться получше; то же самое приказал он сделать всем кюре, а после взял да перемешал эти четыре парочки, получивши себе за то плащ, шляпу и пять пистолей; он только устроил так, чтобы наименее безобразная из девиц спала с его соседом. Спустя некоторое время, в один прекрасный вечер, Матэ любезничал с этой девицей в отсутствие кюре, стоял у ней под окном, но никак не мог добиться, чтобы она отворила ему дверь; тогда он пригрозил ей, что, ежели она его не впустит, он сведет со двора борова, и уже принялся было за дело, но Мадлен завопила во всю глотку: «Караул! Грабят!» Незадачливый ухажер давай бог ноги. Когда кюре вернулся домой, верная его служанка не преминула ему намекнуть, лежа с ним в постели, что вот, мол, кое-кто пристает кое к кому и ежели бы кое-кто другой знал, как кое-кто ему верен, то он не думал бы... и прочее, и прочие. Наконец, вдоволь поломавшись, назвала она кюре имя его соперника и призналась, что назначила тому свидание на завтрашний вечер; тогда кюре сделал вид, будто отправляется на этот вечер в поле – старинная уловка, известная еще со времен Боккаччо[234]. Матэ не замедлил явиться на свидание к одиннадцати часам. Беда только, что у священника не случилось при себе оружия – точь-в-точь как у вас; он вспомнил лишь о самостреле, с которым слуга его в бытность их в Лимузене охотился на кроликов во Фье[235]. Вот он и спрашивает у Мадлен, куда она подевала самострел. «Я как раз после обеда велела зарядить его», – отвечает та. Пришлось кюре идти на поиски самострела впотьмах, без свечки, чтобы Матэ не углядел света в щелку двери; таким вот манером служанка и всучила своему толстяку – да только не самострел, а мышеловку, которую эта дуреха величала самострелом. Она объяснила ему, как и за что следует дергать; кюре, отворяя дверь, ненароком задел пружину, и ему так защемило палец, что он взвыл не своим голосом. Матэ кинулся наутек, и соседям, сбежавшимся на крик, осталось лишь гадать, на кого охотился бедняга-кюре.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Богословие в Сюржере. Ссора барона
Фенест. Вот так занятная сельская байка! Эй, деревенщина, давай руку, мы с тобою товарищи по любовным похождениям!.. Надо вам сказать, мсье, что в другую мою поездку в Сюржер я решил полечиться от одной парижской напасти[236]; в ту пору я как раз горячо ударился в благочестие и, по совету местной Богородицы, которая дала мне неоспоримое доказательство своей силы, отправился поклониться святому Ригомеру[237], что в Майезе[238].
Эне. Ну-ка, поглядим, что это за неоспоримое доказательство.
Фенест. Я храню его, как зеницу ока; хотите верьте, хотите нет, но ваши проповедники, ознакомившись с ним, мигом язык прикусили, только один молодой человек из Мейезе приписал внизу четыре слова по-гречески. Читайте, вот они.
Эне. Вижу, вижу: Ου διαλεχτεον ταις μεταφοραις[239]. Что ж, вернее некуда, ведь и ваши богословы также говорят: «Theologia allegorica non est argumentativa»[240].
Фенест. Башка святого Арно! Что-то вы больно много вычитали из одного-единственного изречения!.. Ну так вот, проделав все положенные церемонии, подцепил я там служаночку одного кюре, и она назначила мне свидание в садовой беседке. Бегу туда через какие-то мостки, падаю и плюхаюсь носом в канаву, вверх тормашками, едва не переломав себе ребра. Вот и верьте после этого, будто святой Ригомер исцеляет колотье в боку! Тут-то он как раз едва меня не изувечил[241]. Да, я и позабыл досказать вам о том забияке, что вызвал меня на Пре-о-Клер; мой лакей отнес ему записку, в которой я назначал ему встречу в полулье от города, возле часовни Святой Женевьевы; мимо Бисетра-то я поостерегся во второй раз идти – хватит и того страха, что натерпелся я тогда с колдуном. Вот отчего я и пошел в обход, каменоломнями Вожирара[242], где несколько замешкался, укрываясь от холодного ветра. Не знаю уж, долго ли околачивался в назначенном месте мой болван-противник, но он не оставил своего намерения и вызвал меня еще раз в Мулене[243], куда как раз прибыл двор, а местом поединка назвал городской сад. Размышляя, идти мне к нему или нет, я угодил в другую канаву. Да, скажу я вам, когда уж сойдутся два таких упрямца, тут только держись – нашла, что называется, коса на камень. Маршал де Бирон[244] – тот, последний, – в бытность свою в Шевутоне[245] поручил мне сразиться с одним овернцем из тамошних, и мы с этим малым отправились на лужок. Я выбрал себе пригорок: дай, думаю, заберусь повыше, не то мошенник как раз проткнет меня. Он мне приказывает спуститься, я его приглашаю подняться. «А ну, поди ко мне!» – говорит он. «Нет, поди ты ко мне!» – говорю я ему. И ни один из нас не желал уступить другому. Эдак мы препирались бы до второго пришествия, кабы не прибежали мельник с женою и не развели нас.
Эне. Похвальная осторожность – доверься вы ему, кто знает, не обвел ли бы он вас вокруг пальца. Но возможно ли, сударь, чтобы, заводя такое множество ссор, вам не случилось хоть раз сразиться как должно?!
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Поединок с Корвино
Фенест. Ну разумеется! Знаете ли вы, отчего я больше ни на миг не расстаюсь со шпагою? Месяц тому назад жил я в предместье Нотр-Дам, в Сенте[246], и там приключилась со мною напасть: маялся я животом и каждый вечер облегчался, выставляя зад в окно. Один спесивый дурак, сержант Корвино, которому на порог плюхалось то, что посылал я сверху, сперва пригрозил мне, а после улучил минуту и вдвоем с женою напал на меня: сам выпалил холостым зарядом, а его половина воткнула мне в зад спицу. Ух, что кровищи было – полны штаны и чулки! Я заорал во всю глотку и бегом к знакомому цирюльнику, который, приспособив свой наипервейший аппарат, обмыл мне из него зад добрым белым вином, да еще подогретым; затем, не обнаружив никакой раны и получив шиш с маслом в уплату, замахал кулаками, крича, что он мне не банщик, а армейский лекарь, и что он сыщет на меня управу. Ну, думаю, пропал я совсем, с этим пройдохою шутки плохи; позже узнал я от соседей, что нанес мне сей урон именно Корвино, которого, благо он был хромоног и сухорук, я и вызвал на конную дуэль, назначив место на Королевском лугу. Один монах-францисканец, коему я исповедался перед поединком, наговорил мне об этом негодяе сплетен с три короба, описав его как хитрейшего из обманщиков – вроде тех, что выведены в «Амадисе»[247]. Вот, стало быть, явился Корвино в назначенный час и первым делом заявляет, что хотел бы удостовериться, нет ли на мне кольчуги. И что ж, вы думаете, сделал проклятый калека? Он дернул вниз узду моего коня и в тот же миг ткнул ему в нос свой костыль, чтобы заставить отвернуть голову. Я схватился было за шпагу, чтобы проткнуть ему горло; он парировал удар костылем, нацелив его прямо в меня, и тут конь мой умчал меня в городское предместье, а был, замечу вам, базарный день, и лошадей там собралась чертова пропасть. Увечный негодяй не отставал от меня ни на шаг и беспрестанно колотил и колол своей клюкою. Тут подвернулся мне, на беду, каноник Руа, ехавший верхами в Терак[248], и мой взбеленившийся конь выкинул его из седла и покрыл его кобылу. Народ кругом хохочет, держится за бока, а Корвино, видя меня в столь плачевном положении, кричит: «Давай, давай, хоть одно доброе дело сделаешь!» Хуже всего было другое: собравшиеся принялись что было сил колотить и пинать моего жеребца, чтобы заставить его слезть с кобылы, притом немало пинков досталось и на мою спину, каковые удары я не почел оскорблением собственной чести, ибо назначались-то они моему коню, а не мне. Вдобавок, эти канальи во всю глотку распевали «Жеа-на Футакена»[249]. Но что вы хотите, не мог же я вызывать на дуэль всю эту сволочь! Да, совсем из головы вон: когда Корвино скакал за мною следом, то кричал, что победа, мол, на его стороне. Такого афронта я не вытерпел и потребовал разбирательства. Мэр, который судил наш поединок – ловкая бестия! – указал мне на его увечье, отметил, что я пришел на место вторым, и, наконец, заключил, что будь он в моей шкуре, то удовольствовался бы столь благополучной развязкою, – словом, уговорил меня все забыть.
Эне. Полагаю, будь он сам на вашем месте, он бы уж точно постарался все забыть, да поскорее; что же до меня, то и не уговаривайте забыть вашу историю. К сему добавлю, что стычка ваша – знатное мошенничество, хоть и не при дворе учиненное.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Ворожба при дворе о предмете любви барона
Фенест. Я был свидетель тому, как в покоях короля рассказывали о точно такой же ссоре с подобным же прекрасным исходом. Ей-богу, не пожалел бы и сотни пистолей за описание этого поединка! Вот чем и блистает двор: отнимите у него дам, дуэли да балеты, так и смотреть не на что. Там, при дворе, равно как и в деревне, всегда находилась целая толпа завистников моему везению. Но довольно уже говорено о деревне; лучше расскажу вам, как однажды беседовал я с одним придворным по имени Сен-Феликс[250], вхожим ко всем принцам и принцессам. И вот, когда зашла у нас речь о ворожбе, он мне признался, что разбирается в сих делах не хуже, чем Козимо[251], Цезарь[252], священник-малютка[253], кюре Сен-Сатюрнена[254] и даже мессир Луи из Марселя[255], который был искусником в колдовстве с жабами, приворожил и испортил сто двадцать девственниц и съел за свою жизнь столько заговоренных облаток, что уж, конечно, заткнет за пояс тех двух священников, о процессе над коими вы, верно, слышали; словом сказать, он взялся, коли будет на то мое желание, свести меня в одно знатное общество, где сам проводит вечера, и притом так, чтобы я остался незамеченным. В подкрепление своих слов он прислал ко мне своего лакея по имени Вюльпен[256]. Засим приказал он мне вывернуть наизнанку плащ и шляпу и, взявши в каждую руку по щепоти золы, бросить ее одной рукой кверху, другою же – книзу, произнеся при этом заклинание: «Каруд и лесо я!»[257]. После каковых слов я вошел в комнату, где сидели мой и его лакеи, и вот один из них с размаху налетел на меня, второй пнул в ногу, так что чуть кость не растрощил. Я и поверь, что стал невидим, и отправились мы с моим приятелем к одной герцогине; там горничная, которая как раз плоила брыжи, заехала мне горячим утюгом в нос, над чем я втихую посмеялся. Еще день спустя приятель мой велел мне ехать туда верхом; ну и переполох же поднялся! – дамы все разбежались и попрятались под кроватями, затем что конь мой стал лягаться; но когда Сен-Феликс увидал, что на крик спешат конюхи с вилами и служанки с хлыстами из бычьих жил, он меня вывел за двери и велел вновь надеть вывернутые плащ и шляпу; тут же мигом все утихомирились. В другой раз он меня привел туда же под видом льва, потом осла (при этом таща за ухо), а однажды, когда я влюбился в одну даму, он превратил меня в скамеечку, на каковую Фервак и уселся подле моей избранницы – едва хребет мне не сломал, плюхнувшись на мою спину. Таким образом я имел удовольствие выслушать их любовные излияния, среди коих они злословили о бедном бароне Фенесте. Наконец, покровитель мой, видя, что у «скамеечки» совсем было подломились ноги и что она вся взопрела от тяжких усилий, подошел к маршалу со словами: «Вы желали присутствовать на вечернем туалете у короля, так уж пора отправляться!» – и тем самым освободил меня от невыносимой тяжести. Когда мы вволю позабавились эдаким манером, он выдумал новую затею: однажды вечером привел меня к гостям в полном параде, внушив присутствующим, будто я голый; для этого фокуса он научил меня другому заклинанию: «Навлоб и анитокс я!» Дамы, что помоложе, вскрикивали и закрывали лицо; старые же, вместе с лакеями, собрались отстегать меня. Тогда он живенько вывел меня через гардеробную, уверяя, будто заколдовал их всех. По дороге домой я ему признался, что дама, в которую я влюблен, беседуя со мной, всегда кладет, как бы невзначай, руку мне на гульфик; так вот не мог ли бы он привести меня к ней совсем голым, но так, чтобы всем казалось, будто я одет? «Нет ничего легче!» – отвечает он. На следующий вечер он завел меня в какую-то каморку и там пособил раздеться. Когда я уже снял рубашку, что-то мне стало не по себе; я вспомнил, как накануне дамы остерегали меня: «Смотрите, не явитесь к нам в голом виде, не то спознаетесь с плеткою!» Я и шепчу Сен-Феликсу на ухо: «Отчего же я сам вижу, что гол?» На это он запальчиво мне возражает: «Да где ж ваша хваленая честь?! С каких пор барон де Фенест робеет?!» Таковые слова раззадорили меня донельзя, и я впрыгнул в залу, точно лев, а дамы и девицы от меня врассыпную да через двери в сад. Этот коварный Сен-Феликс намеревался получить удовольствие с двух сторон, а потому тоже и дам не предуведомил. Так что я успел покрасоваться перед теми, кто замешкался, – перед одной красивой девицей, одной почтенной дамой в чепце и двумя мальчишками-пажами, которые тут же пустили в ход ремни и трости. Несколькими ударами они загнали меня обратно в гардеробную, где я и укрылся от них. Зачинщик после оправдывался тем, что мы якобы позабыли произнести особое заклинание, на сей раз такое: «Аклап и енитокс оп!»
Эне. Что ж, всякий чародей может впасть в ошибку, дьявол ведь горазд на всяческие коварства. Но вернемся к Парижу: меня не удивило ваше рассуждение о том, что не видевший его не видел ничего, – в деревне и впрямь таких развлечений не видано. Но гвоздь вашей истории в изречении «А где же честь?!» Вот уж поистине слова, которые подвигают людей на всяческие небезопасные авантюры, ведущие не к одним только ударам хлыста или ремня, а и на виселицу и на эшафот. Знавал я таких, что и сифилис заполучали из чувства чести; по этому поводу я намерен рассказать вам сказочку в обмен на вашу; в ней как раз осмеивается подобная «честь»; хочу только напомнить, что в вашей последней истории «быть» и «слыть» пришли к полному согласию.
Фенест. Мало того, проделки мои сурово осудили в Лувре, и я с досады отправился в эту экспедицию. Но послушаем-ка теперь вас.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Случай с Брийбо. Об изречении «А где же честь?!»
Эне. Король Наваррский находился в ту пору в Ажене[258], где обещал подарить одну из ночей своего Королевского величества старой шлюхе, прозванной Марокеншею, с условием, что взамен ему достанется одна из ее молодых сестер-красоток. Старая развратница счет потеряла дурным болезням, и кожа у ней вся шла пятнами, отчего и присвоили ей эдакое прозвище. Вот в один прекрасный вечер сей принц пробрался задами, мимо конюшни, к ее дому в компании сьера де Дюра[259], еще нескольких придворных и Перотона[260], который тащил лестницу. Заодно пристал к ним один рыжий молодец по имени Брийбо[261], блестящий франт, хоть и не в чести он был при дворе. Поначалу приняли его нехотя, но, когда лестница была уже приставлена к окну, короля взяло сомнение, не слишком ли дорого обойдется ему обладание пятнистыми прелестями нимфы; он обратился к Брийбо с вопросом, верный ли тот ему слуга. Брийбо было на попятный, но тут король прямо приказал: «Идите вместо меня и возвращайтесь, а там – молчок!» – «Могу ли я позволить себе дерзость, – возразил Брийбо, – занять место моего повелителя!» На что король ему: «Да вы просто струсили! Где же ваша честь?! Коли вы ею дорожите, делайте, что я вам велю!» Тут бедняга понял, что на карту поставлена его репутация; он прыгнул к лестнице, словно лев – точь-в-точь как вы тогда нагишом в залу! – и, найдя окно отворенным, ввалился в него, а затем в постель, где и был принят с нежными поцелуями и подобострастными речами. Он решил отделаться, не раздеваясь, но не тут-то было; дама заявила, что это-де не по-королевски. Вслед за чем снимает с него штаны и принимается стаскивать камзол. Потом, улегшись с ним под полог, развратница просит – словно мало ей самого дела – еще и преамбулы: «Как, сир, вы не удостоите ни единым королевским словом бедняжку, которой оказали столь высокую честь?» Наш немой так торопился восвояси, что, забывшись, шепнул ей: «Тише, я вовсе не король». – «Что за черт, а кто же вы?» – воскликнула дама. И, едва он выговорил свое имя, как она завизжала на весь дом: «Брийбо, кой дьявол, Брийбо! На помощь! Грабят! Убивают!» И высунулась в окно, вопя на всю округу: «Караул! Караул! Караул!» Увидав приставленную к окну лестницу, она попыталась ее отшвырнуть и, не достигнув успеха, завизжала «Караул!» еще громче. Незадачливый любовник услышал внизу шум – то проснулись два брата этой чертовки, оба капитаны. Пока она пыхтела над лестницею, он выбежал в дверь спальни, попал на галерею, с нее спрыгнул на черный двор и прополз по водостоку в сад советника, где проживал сьёр де Фронтенак[262], который тем временем находился в свите короля. Там бедняга сорвался с виноградной лозы и повис на ветвях, разорвав рубашку до пупа и болтаясь в воздухе, точно паяц на ниточке. Пребывая в столь бедственном положении, слышит он, как чуть ли не весь город с истошными воплями «Караул! Стража!» сбегается к дому, а на улицах забили в барабаны – не то в восемнадцать, не то в двадцать, – задудели в трубы, ударили в колокола. Он уж и барахтаться перестал, боясь обнаружить себя, как вдруг через беседку пробежали лакеи господина де Фронтенака, несущие оружие своему хозяину; на бегу один из них угодил нашему приятелю острием шлема в ляжку, а потом гребнем того же шлема полоснул по причинному месту и сам упал от толчка. Второй слуга, видя что-то белое, болтающееся в воздухе, и своего поверженного наземь товарища, завопил: «Avete, omnes spiritus!»[263]. На что наш висельник прежалостно воззвал: «Друзья мои, пощадите!» При этих словах храбрецы решились захватить его в плен, и он взмолился: «Не показывайте меня никому, а я вас отблагодарю!» Тут они поняли, что он-то и есть один из тех злодеев, от коих пошел весь переполох, сняли его с дерева и отвели, под честное слово, что не сбежит, в уголок конюшни, давши ему накинуть синий плащ с желто-белою каймою. Пленник, не зная, как унять всю эту суматоху, умолял их не двигаться с места, клялся и божился, что все это пустяки, что он исправит дело, что влезать на лестницу должен был вовсе не он и что он сам был обманут. Выслушав его мольбы и заверения, один из слуг, псарь, сбегал в покои короля, дабы сообщить, что они схватили кого-то из зачинщиков сей проказы. Король уже начинал понимать, что из невинного сумасбродства вышло нечто совсем иное, когда младший Фронтенак прибежал с докладом, что он наведался с фонарем в конюшню и видел там Брийбо, сам оставшись незамеченным. К концу ночи, когда переполох улегся, король решил доставить себе удовольствие самолично освободить пленника и отправился со всей развеселою компанией в конюшню, где и поручился за Брийбо перед слугами. Затем они увели его оттуда, хромающего, с нахлобученным на голову капюшоном плаща, подол коего Перотон нес, как шлейф, ибо он волочился по земле; так они привели его в спальню короля, где и почествовали под громкие крики собравшихся: «Да здравствует честь, и любовь также!» Но ничто так не разозлило Брийбо, как панаш, который проказники сорвали с головы Фронтенакова мула и привязали ему к заднице.
Фенест. Ай да история! В жизни такого не слыхивал; неужто взаправду все так и было?!
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
О том, что лучше – быть или слыть. Отход барона ко сну
Эне. Мы с самого начала сурово осудили всяческие выдумки и враки и рассказываем лишь о подлинных событиях; вот разве что иногда позволим себе приписать одному то, что приключилось со многими. Суть рассуждений наших сводится к следующему: в шести вещах весьма опасно слыть, а не быть; вот они, эти вещи: богатство, сладострастие, дружба, честь, служба королю или отечеству и, наконец, вера. Ибо, рассчитывая обогатиться, вы рискуете все потерять; гонясь за парижскими усладами, заполучаете сифилис; полагаясь на друга, свою собственную спину подставляете под хлыст; выказывая честь, наградою себе видите побои либо всеобщее презрение. Две же последние вещи имеют вдвое большее значение – и оттого еще более тяжкие последствия: обмануться в них страшнее вдвойне, ибо те, кто лишь делает вид, будто радеет о всеобщем благе, благо сие получает – но только для себя одного. По этому поводу в Лудене[264] сложены были куплеты; вот как изображаются в них эдакие ревнители всеобщего благоденствия:
Однако если даже и здесь можно еще обойтись видимостью, то в религии, которая есть последний пункт из названных шести, обман немыслим и даже гибелен, ибо лицемерие, еще простительное сильным мира сего в игре, дружбе, войне и службе, особенно свойственно вере. Впрочем, беседа наша в столь поздний час и на ходу не позволяет мне продолжать – пора ко сну. Эй вы там, возьмите эти шандалы!.. Идемте, сударь!
Фенест. Ох, ну можно ли так небрежно выражаться! Отчего бы не сказать «канделябры»?! Они ведь серебряные и слишком даже тонкой работы для деревни!
Эне. Идемте же, сударь! Я даже не спрашиваю вас, ляжете ли вы на перине, – вы слишком долго прожили при дворе, чтобы почивать на чем-нибудь другом.
Фенест. В этой спальне деревней и не пахнет. Ах, какие прекрасные у вас гобелены!
Эне. Доброй ночи, сударь; если нужно, располагайте мною, я весь к вашим услугам.
Фенест. О что вы, мсье, это я ваш слуга!
Эне. Ну, не будемте устраивать лиможских церемоний.
Фенест. Это как понимать?
Эне. Несколько лиможцев однажды убили целую ночь, расточая друг другу подобные любезности, – никто не захотел остановиться первым.
Фенест. Ага, понятно... Эй, Шербоньер, Эстрад, глядите у меня, ковры сапожищами не пачкать! Да не вздумайте воровать, башка господня! Здешний хозяин – малый не промах.
Шербоньер. Вы, сударь, еще не знаете, кто он таков! Я вам на ухо шепну, потому как он скрывает свое имя. Это господин N...
Фенест. Башка господня! Пойду-ка я к нему, объяснюсь... Нет, не надо мне камзола, дай-ка накину плащ, сойдет за халат... Как, монсеньор, это вы? Ну не грех ли вам таиться? Да ведь вас все знают, вы занимали такое высокое положение[265], столько услуг оказали королю, а в благодарность у вас отняли и старые, и новые пенсии, вашему гарнизону уж два года как не платят жалованья, вас ограбили – это вас-то, кому ничего не стоило бы ограбить других, и при всем том вы не пожелали рассуждать о государстве! Я тут кое-что разузнал от вашего секретаря.
Эне. Я секретарей не держу; тот, кто пишет под диктовку, слишком много знает, а мне не желательно мстить словом врагам моим, что нанесли мне урон. Я готов спокойно принять и смерть, и разорение от руки моего короля, зато имена тех, кто его именем притеснял меня, я и в гробу помнить буду. Им я сумею воздать должное иначе.
Фенест. Завтра утром я докажу вам, что мне известны многие придворные тайны; я порасскажу вам новости, которые вы сможете потом использовать затем, чтобы очернить кого захотите.
Эне. Доброй ночи, сударь, отправляйтесь-ка в постель; я вижу, вы совсем продрогли.
Фенест. Храни вас Господь!
КНИГА ТРЕТЬЯ
ОТ ИЗДАТЕЛЯ К ЧИТАТЕЛЮ:
Барон, продолживши свое путешествие, дал нам пищу для третьей книги романа, каковую книгу я, исполняя свое обещание, и отдаю на ваш суд. А поскольку издание первых двух книг совершилось без моего ведома (даром что с моей собственной рукописи) во многих городах и по многу раз[266], я просил автора исправить и перечесть их, что он и исполнил, добавив заодно множество новых занимательных историй и стихов. Посему издаю ныне все три книги вместе – третью вслед за двумя ее старшими сестрами. Надеюсь, со временем, ежели настроение у барона не переменится, мы сможем прочесть и четвертую, так что без дела я не останусь. И. М.[267]
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Жизнь Фенеста в Париже
Эне. Что ты ищешь, сын мой?
Шербоньер. Надобно мне пару щеточек, зеркало, жаровню, ложку с ручкою подлиннее да пшеничных отрубей горсть.
Эне. Друг мой, все нужное тотчас же доставят, но скажи, для чего тебе все эти вещи?
Шербоньер. Ну как же, расчесывать усы да делать припарки на физиономию хозяину – ведь наш господинчик чистоту блюдет там, где ее можно напоказ выставить, а что до прочего... тьфу! Я сам свидетель, как он вбил все свои денежки в брыжи отбеленного фламандского кружева, а напялил-то их на последнюю свою рубашку, что вся истлела на нем и разлезалась на нитки. Бывало, проезжаем по какой местности, а он возьми да и сдерни на ходу рубашку с веревки, а коли хозяйка увидит, так он говорит, что это, мол, так, для смеху. Зато зубы начищает в день по полчаса, не меньше. Однажды утром в Париже заявился он к утреннему туалету мамзель Кабош[268], перерыл все ее ночные одежки и отыскал среди них коробочку слоновой кости, ну и пристал к ней как с ножом к горлу: скажи да скажи, что там внутри запрятано. Ей же неловко было признаться, что в коробочке детский кал (она постоянно лечила им свои женские хворобы), вот она и соврала ему, будто это снадобье для отбеливания зубов; тут же наш молодчик понесся в переднюю и давай намазывать эту дрянь себе на зубы; она же поскорее заперлась от него в спальне, побоявшись, как бы он не отколотил ее за такой обман.
Эне. Да уж, дружок, нечего сказать, почтенный у вас господин!
Шербоньер. Ничего, с ним уладиться можно, кабы только не безденежье его; когда ни спроси, у него в кармане ветер свищет, а стало быть, и у нас тоже.
Эне. Но наряжен-то он по моде, да и все трое слуг одеты-обуты.
Шербоньер. Тут такое дело: когда мы проживаем в Париже, всяк за себя, а Бог за всех... По вечерам мы погуливаем в компании с разным жульем, а с утра и весь день напролет дуемся в брелан[269] либо в харчевне, либо у ворот Лувра. Играем краплеными картами, не брезгуем и всякими прочими уловками, какими барон тут намедни перед вами похвалялся, хотя сам не смыслит в них ни уха ни рыла; но, все одно, мы вручаем ему его долю, вроде как главарю. Ну а ежели когда мы в разъездах, особливо в военное время, тут только держись – любую курочку так ловко ощипем, что и закудахтать не успеет; а то еще в попутной деревеньке поживимся: прикинемся фурьерами или поселимся все вместе на одном подворье, а денежки за постой кладем себе в карман; в другой раз притворимся, будто обокрали нас, – стало быть, опять хозяин плати. А не то с хозяйки стребуем: подай, мол, птичьего молока да и баста, а не доставишь, пеняй на себя; тот прикинется буяном, этот – Иудой-доносчиком, а всю добычу – опять же в общий котел. Ну а в мирное время приходится заезжать на постоялые дворы (оно, по правде сказать, не часто случается); тут уж завсегда стянешь какую ни есть салфетку, а коли служанка зазевается, то и простыню ухватишь. Чаще всего на фермах встречают нас приветливо, да и в благородный дом когда-никогда впустят; вот тут-то, коли видишь, что хозяева посовестятся гостей обыскивать, и тянешь все, что плохо лежит; здесь, у вас, мы этих затей остережемся – я ведь всем нашим объявил, кто вы такой, сударь.
Эне. Ну, благодарствую, друг мой, вот уж правда одолжил. А откуда же ты меня знаешь?
Шербоньер. Да ведь я служил в роте алебардщиков капитана Бурдо[270], вашего начальника штаба. Помню, точно вчера это было, как вы собственными руками повесили под Барбезьё[271] Патавата[272] и четверых его дружков за то, что они принудили хозяйку своей квартиры смазать их пики своим жирком. И вы же втихую велели капитану Фонсальмуа[273] обрубить веревки, а после мы его прятали чуть ли не десять дней в обозе да по чуланам, потому как вы прилюдно грозились убить его за такую дерзость.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Жизнь дамы Лакот. О цыганах
Эне. Да, дружок, похоже, мы и впрямь знакомы. Вот тебе на том моя рука.
Шербоньер. То-то что и впрямь, да ведь я и вырос здесь, в имении ближайшей соседки вашей; тут и обучился ловчить да изворачиваться. В Лимузене полным-полно голоштанников, что эдаким умением бахвалятся; у них и в поговорку вошло: не словчишь – не проживешь. Знавал я одного молодца, который своего осла сбывал с рук целых четыре раза, – сперва подрезал ему одно ухо, потом другое, в третий раз укоротил хвост, а в четвертый надсек ноздри. Я бы вам и о других много всяких разностей порассказал, но вот послушайте сперва, что приключилось с нами самими в Массиньяке[274]. У хозяйки моей был экипаж с ивовым плетеным кузовом, что привязывался к осям одними веревками; мы завели обыкновение попозже к вечеру подъезжать к какому-нибудь богатому дому, навроде вашего; там веревки втихую распутывали, а то и разрезали, и кузов – бац на землю кувырком. Стало быть, надобно звать кузнеца либо тележника, а самим оставаться на ночлег в доме, чего мы якобы вовсе не желаем, но, как говорят, деваться некуда; и вот мы с превеликими извинениями водворяемся на ночлег, сетуя на неудобства, причиненные и госпоже нашей, и самим хозяевам. Назавтра, перед отъездом, напоминаем даме, что нужно бы заплатить хоть малость за постой и гостеприимство; госпожа наша вынимает какое-нибудь одно экю и вертит им перед носом хозяина, громко приговаривая, что он, верно, слишком хорошо воспитан, чтобы взять плату с дамы. Но вот однова случилась так, что мы сыграли нашу обычную шутку к вечеру, промеж двух больших поместий в Массиньяке, где на дороге по причине дождя ни живой души не было; глядь, а оба дома уже заняты бандою дядюшки Шарля-Антуана[275]; эти нехристи нагрянули туда после того, как вволю пошуровали в Сен-Сире[276], где одного из них поймали за воровство и осудили на повешение в получетверти лье от города. К месту казни валом повалил народ, – еще бы, ведь такая потеха не всякий день выпадает. Будущий висельник исповедался и причастился, обнял жену и детей, а потом вдруг потребовал над собою суда египетского[277], в каковом суде ему отказывать не стали; ну а пока судили да рядили, фараоново племя[278] всласть похозяйничало в пустых домах, особливо же в доме у кюре, который исповедовал виновника.
Эне. Знаю я этих мошенников; то же самое творили они в Майезе в день святого Ригомера[279]. Их предводитель ради праздничка срезал кошелек у кюре, пока исповедовался ему. У богомольцев они увели сорок или более лошадей, а потом доказывали им, что на богомолье должно ходить пешком – точно как благочестивый святой племянник (племянник на бретонский манер) святой Екатерины[280], и в доказательство своей правоты помянули прискорбный случай с лекарем Бомье, ехавшим на своем муле в процессии святого Мексана[281].
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О богослове из Майезе
Эне. Один тамошний богослов, который с особым рвением обличал ворожей и гадалок, попался в лапы старой цыганке, и та сумела убедить его, что он околдован; беднягу такой страх взял, что он поспешил укрыться вместе с нею у себя в доме. Старуха велела принести чистой воды и, подав доктору кольцо, приказала бросить его своей рукою в стакан, отчего вода тут же помутнела; затем устроила она еще одно испытание: клала ему на живот курицу и барашка[282], и те мигом издыхали; цыганка выкидывала их за забор, а там уж вся цыганская компания только того и ждала. Пришлось ему раскошелиться на тринадцать двойных дукатов[283], из коих старуха вернула ему лишь один, веля зашить его в подол рубахи и так носить не менее суток. А пока суд да дело, у него обчистили ларь, выкрав оттуда четыреста лиаров денег. Старая ведьма, желая избегнуть возмездия, стащилау него вьючную корзину с мула, повесила ее себе на шею, а живот с корзиною прикрыла просторным плащом, да так и сбежала, притворясь беременною на сносях. Назавтра доктор, обнаружив обман и покражу, вскочил на коня (чего ему давненько делать не приходилось) и, догнав черномазых нехристей, стал угрожать им карою. На что Шарль-Антуан ему в ответ: «Ах, мой добрый монсеньор, да вы поглядите сами, как отлично-хорошо вас исцелили. Эй, люди, смотрите, как он бодро взбрыкивает! Повезло вам, сударь, на доброе лечение. Ведь наша лекарка целых шесть лет изучала свою науку в Монпелье[284]!» Слово за слово, и наш умник, кроме пустой болтовни, никакого иного утешения так и не добился. Но я тебя отвлек своими речами; чем же кончилось ваше приключение, когда вы застряли меж двух поместий? Так, верно, и проехали мимо?
Шербоньер. Э, нет; мессир Жюльен, кюре из Булье[285], нас ободрил, и мы, заручась его поддержкою, попробовали было очистить от нехристей один из домов, да не тут-то было; тогда половина наших заночевала на первой ферме, половина – на второй, взявши клятву с их предводителя, что никто из его шайки не посягнет на имущество дамы, почтенной супруги знатного сеньора, а вдобавок заставили предъявить нам письменное свидетельство о смирном и честном поведении его племени. Утречком выехали мы оттуда первыми, да так рано, что два часа спустя после восхода солнца добрались уже до Сен-Реми[286]. Местное кладбище показалось нам неплохим местечком для привала, и компания наша решила остановиться там, ибо кто-то углядел, как мамзель де Лавессьер[287] – та самая, что в Массиньяке притворялась, будто собирается платить за ночлег, – утаила ото всех хозяйскую ложку, сочтя ее за серебряную; однако нас не проведешь, мы ее хорошенько потормашили и ложку вытрясли, – она ее засунула себе за корсет. Ну, стало быть, расположились мы на зеленом пригорочке, поросшем шалфеем, мессир Жюльен расстелил свой плащ, и каждый из нас вывалил на него свою добычу. Чего там только не было: четыре сальные свечи, долото, отмычка, краюха хлеба, одна головка сыра целая, другая початая, кожаный короб, надтреснутый горшочек масла, перстень лиможского серебра с жабьим камнем[288], полтора фунта прогорклого сала, лошадиный гребень с выческами, пара гетр небеленого полотна, из коих одна полуобгоревшая (она здорово нас подвела – эти подлые цыгане мигом учуяли запах паленого!), далее, три лоскута от старого саржевого покрывала святого Мексана – желто-красные и здорово обтрепанные по краям, кувшин орехового масла, полсклянки жира, накладная борода и, наконец, пара монет по десяти солей[289] каждая, отчеканенных только с одной стороны (их добыла наша мамзель, срезавши кошелек с шеи одной цыганки, которая попросила ее вытащить ей соломинку из-за ворота); что же касается хозяйкиного пажа, то ему достались ладрины[290], в которые он мог влезть весь целиком, но и то благо, ибо до сей поры этот малый, еще никогда не промышлявший в городе, щеголял в башмаке на левой ноге и в сабо – на правой. Стало быть, поживились мы недурно, но когда пригляделись как следует, обнаружили и недостачу: цыгане-то обошли нас – к ним уплыли обувной рожок, половина маски, два клубка белой пряжи, моток проволоки, кусок сильно дырявой тафты, почти три четверти фунта булавок, пара ложек оловянных и одна фальшивого серебра, пара салфеток тонкой работы – даром что не нашей, третья часть простыни, чулок, набитый орехами, старый часослов на манер Шартрского, футляр для очков, три перчатки, короб для брыжей, наполовину ивовый, наполовину жестяной, затем штопор, воронка, коловорот, кропильница с колокольчиком, которую кюре думал загнать по дешевке, и, наконец, к величайшей нашей досаде, бурдюк из-под вина, принадлежавший нашей хозяйке. Да, ничего не скажешь, в те времена Пуату был прямо-таки академией для ворья, куда там Гаскони или Бретани! Помнится мне, как один форейтор из Мелля[291], обозлясь на то, что при нем хвалили за плутовство слугу господина Сен-Желе[292] по имени Фамин[293], объявил, что украдет у того рубашку, на нем надетую, и что же вы думаете – украл-таки!
Эне. Ох, братец, дай отдышаться от смеха, и я тебе расскажу, что на кладбищах еще не такое случается.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Об адвокате Шенвере и о том, как запродали кладбище
Эне. Некий Матюрен Биро из Лабит[294] потерял все свое состояние после тяжбы, из-за того что следовал глупым советам адвоката Шенвера из Ниора. Будучи вынужден покинуть родные места, дабы спастись от кредиторов, Биро собрался переселиться в Гатинэ[295]; и вот перед отъездом, в субботу вечером, явился он к своему адвокату с плачем и стенаниями; швырнув наземь шапку, присел он на деревянную скамеечку и давай причитать в голос, как оно положено у пуатевинцев: «Ахти, господин мой дорогой, не видать вам меня больше вовеки, зашел я лишь на минутку распрощаться с вами и с супругой вашей! Ох, горе мне, горе, приходится покидать родную сторонку из-за жуликов-свидетелей моих!» И как Шенвер с женою ни утешали его, он все тянул свое: «Видите ли, добрый мой господин, у меня только и осталось добра, что садик в четырнадцать буасселей[296], да не простой садик, а, можно сказать, баронское владение, и без дела не остается с самого сотворения мира – все соседи мои к той землице приписаны и должны удобрять ее. Ах, друг мой, думал я было приберечь ее себе на старость да кормиться с нее до самой моей кончины. Но вот хозяйка моя померла в болезнях, и я, как Бог свят, землицу мою продал; уже и стряпчие из Этрильи[297] прибыли, чтобы выправить запродажную». Шенвер, взяв Матюрена за руку, укорил его: «Как же это ты, дружок, забыл обо мне, ведь я тебе щедро заплатил за все, что ты продал мне из твоего имущества, грешно тебе к другим обращаться!» На что Матюрен ему: «Ах, добрый мой господин, да ведь вы же еще в четверг жалобились, как Бог свят, будто у вас ни полушки в кармане, когда я у вас просил четыре франка взаймы!» Адвокат, кое-как вывернувшись с извинениями, спешит осведомиться, окончательно ли заключена сделка, и узнает, что по рукам еще не ударили; тогда спрашивает он о стоимости земли, о крайней цене, по какой Матюрен уступил ее, и, наконец, убеждает своего клиента, что четыреста ливров наличными – самая подходящая цена, да к тому же еще сотню он под честное слово обязуется выслать ему в Брессюир[298]; однако Матюрен все плакался, что боится, как бы не побили его те, с кем вел он торг ранее, и пришлось адвокату, не сходя с места, выложить денежки на стол, да поскорее выдворить беднягу, который, дрожа, как осиновый лист, тем не менее на прощанье пожал своему благодетелю руку, клятвенно заверив, что никогда еще тот не заключал подобной сделки и что он не раз вспомянет его, Матюрена. Назавтра адвокат и его половина, не теряя даром времени, отправляются в Сен-Реми. Остановив экипаж свой перед церковью, выходят они, взявшись под ручку, шествуют по городу и, наконец, добираются до ворот кладбища, где как раз толпился местный люд; там объявляют они собравшимся, что прибыли вступить во владение новой своею собственностью, и адвокат оглашает договор, где указаны все условия купли и наследования земельного надела, каковой документ повергает слушающих в величайшее недоумение. Более получаса все гадали, какой-такой надел купил стряпчий, и вдруг один старик, уперев руки в бока, воскликнул: «Ну, понял я что к чему! Господин бальи[299], да ведь Матюрен, черт его раздери, и впрямь этой землицей владел, так как он вам и толковал, да только не всею, а лишь своей долей!» – «Как, – вскинулся адвокат, – он, стало быть, не имел права на продажу?!» – «Господь с вами! – отвечает тот. – Да ведь он вам наше кладбище запродал!» Делать было нечего, тут не поспоришь, и верна та пословица, которая гласит, что, когда адвокату натянут нос, сам дьявол в аду ликует.
Шербоньер. И куда же подевался тот растяпа?
Эне. А ему пришлось стать садовником в Ларош-Буасо[300], в том самом, где сержанты тише воды, ниже травы.
Шербоньер. Это отчего же?
ГЛАВА ПЯТАЯ
О Ларош-Буасо и о сержантах
Эне. Да оттого, что в Ларош-Буасо с сержантами обходились еще покруче, нежели на свадьбе у Баше[301]. Я мог бы рассказать об этом сеньоре множество всяких басен; вот одна из них: однажды он вымазал сержанта в смоле, обвалял в перьях, а потом, привязав ему руки к шесту и прикрутив самого к лошади, средь бела дня провез по городу в дурацком колпаке с надписью «Антихрист». Вид сержанта внушал столь великий ужас всем встречным, что никто не осмелился прийти к нему на помощь; так он и ездил до самых сумерек, а под вечер конь промчал его по торговым рядам на Молеврие[302], и тут сержант зацепился за крюк для телячьих туш и повис на нем. А вот еще шутка: другого сержанта он приветил хорошим угощеньем, а после ужина предложил позабавиться игрою «раз-куропатка, два-куропатка, три-перепелка»[303]. Гость не захотел подчиниться приказу сеньора; тогда он был привязан полотенцем за ногу к ножке кровати, а Ларош-Буасо[304] объявил, что все присутствующие будут играть так, как ему угодно. Сержант в суматохе свернул себе пятку на сторону, отчего и заполучил на всю жизнь хромоту и прозвище «сержант-перепелка». Не стану рассказывать о прочих весьма коварных проделках, от коих пострадали многие храбрецы и исчезли многие долговые обязательства; вспомню лишь об одной шутке – весьма жестокой, хотя ей не откажешь и в некотором остроумии: один сержант из Дуэ[305] должен был вручить Ларошу вызов в суд; вся его родня и соседи предостерегали его, рассказывая, как совсем недавно этот сеньор приказал обрить наголо другого сержанта, за неким делом к нему прибывшего, да и чем обрить-то – копьями! Но наш сержант, посмеявшись над их страхами, объявил: «Сдохнуть мне на этом месте, ежели я позволю ему хоть оцарапать себя; да я его укушу, коли что!» Ларош-Буасо, которому донесли об этих словах, спустя два дня принял своего гостя со всевозможною учтивостью, угостил обедом, напоил вином и попотчевал застольными песнями. Убрали со стола; хозяин велит подать ножницы и принимается обравнивать себе ногти, но, притворясь, будто у него плохо выходит, просит сержанта докончить дело, облекая свою просьбу в столь вежливую форму, что тому неловко отказать. Как скоро сержант кончил, Ларош-Буасо, показав ему свои пальцы, заявляет: «Господин Леруа, теперь мне нечем вас оцарапать, стало быть, вы в безопасности, надо же и мне за то обезопасить себя!» И кончилось дело тем, что сержанту вырвали все зубы до единого, ибо, рассудил сеньор, «коли ему самому нечем теперь царапаться, пускай тому нечем будет кусаться».
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Чудеса с волком, с устрицею и с проглоченным пистолетом
Шербоньер. Волчьи кишки! Это он, на мой вкус, отлично хорошо удумал! Моему хозяину вот так же не повезло в Париже, когда двое сержантов зацапали его и повели по улицам, подталкивая в зад рукоятками шпаг, чтоб шагал резвее. Это уж он завсегда так: сперва ерепенится – фу-ты ну-ты! – а дойдет до дела, мигом в кусты. Однажды в Вильбуа[306] его здорово излупил один солдат за то, что он слишком развязано окликнул его: эй, мол, приятель! А уж коли найдутся дурни послушать его, он такого наврет, что уши вянут. Да вот совсем недавно расписывал он знакомым дамам, как попал в плен к туркам где-то за сто лье от Алепа[307]; турки якобы засунули его, за неимением тюрьмы, в большую винную бочку, а бочку ту поставили на самом краю высокой скалы, и будто бы прибежал волк и стал мочиться в дырку для втулки, а барон, просунув в эту дырку свой длиннющий ноготь, коим так бахвалился (а еще говорят, длинные ногти ни на что не годны!), подцепил этим самым ногтем шерсть на волчьем хвосте и привязал ее к своему левому усу (вот на что сгодились длинные-то ногти и усы, какие нынче в моде!). Волк почуял, что пойман и, желая вырваться, стащил бочку с вершины скалы вниз, и там бочка разбилась о камни, а барон упал на волка, задавил его насмерть и тем спасся. Еще он уверял, что ежели устрицу вытащить из раковины, а раковину бросить обратно в море, то в ней, мол, опять заведется устрица; в доказательство рассказывал он, как, будучи в Александрии, пометил своим шифром, то есть двойным «Ф», раковину, а три года спустя выловил ее в Бруаже[308]. Еще он врал, будто во время одного сражения в Коньяке[309] упал с берега в пруд, а там щука проглотила его пистолет с зарядом; потом эту щуку с пистолетом в брюхе поймали в Шераке[310], что на Шаранте, и тогда барон побился об заклад на сотню пистолей, что пистолет его выстрелит, и якобы не проиграл. Да он эти самые пари на каждом шагу заключает, и обязательно на сто пистолей, не меньше. Последний раз, когда мы были в Эскюре[311], он затеял спор с одним бедным поденщиком, который просил у него лиар[312] за услуги; а спорил о том, кто такой лейтенант Борегар[313]. «Ставлю сотню пистолей, – сказал ему мой хозяин, – что ты мне соврал». Так и не отдал бедняге заработанный лиар, да еще изругал за обман. Но чуть не позабыл, монсеньор, вы же обещались рассказать про доктора, который желал выказать себя примерным католиком.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Шествие Бомье
Эне. Ну что же, коли так, слушай. Речь пойдет о лекаре Бомье[314] из Ниора. Он был столь ревностным католиком, что, когда один из его собратьев по вере попросил навестить его родную мать, больную, при смерти (а она была такой же стойкой гугеноткою, как ее сын – католиком), Бомье отвечал, что отказывать в помощи тем, кто произвел вас на свет, смертный грех и что он, пожалуй, и зашел бы, да совесть не дозволяет ему пользовать гугенотку. Однажды, во время своего пребывания в Сен-Мексане[315], вздумал он изобразить из себя ревнителя древних обычаев: он вспомнил, что когда-то в трех лье от города, где и домов уже нет, устраивалось торжественное шествие к святому Сильвену[316]. Он потолковал с местным кюре, и они сошлись на том, что ветер, до сей поры дувший с севера, а теперь переменившийся на южный, горячий и удушливый, обещает назавтра дождь, каковое обстоятельство приходится весьма кстати: можно устроить пышное шествие под носом у еретиков и испросить у Бога дождя. Дело было в июле месяце, жара стояла такая невиданная, что сам Бомье упал без памяти, а все прочие маялись колотьем в боку, особливо бедняки, коим лекари не по карману. Мало-помалу собравшиеся принялись роптать на то, что Бомье едет на муле, да еще не надев штанов, в одной только широкой мантии то ли из шерсти, то ли из аррасской саржи[317]; крестьяне громко осуждали его, а один даже воскликнул: «Господи помилуй, какое ж тут благочестие, коли он не пеши идет, а едет верхами, на лошади!» Другой возразил ему: «Да не на лошади, а на муле; они все норовят оседлать какую ни на есть скотину, когда едут молиться Богородице Ардильерской[318], а уж кюре – те первым делом!» А третий добавил: «Ну, этот к тому же и дурак божевольный; слышно, хозяйке своей он подарил юбку, лишь бы она не добивалась спать с ним, ну а кое-кто другой подарил ей платье, чтоб не спала одна. Нынешним Сретеньем аккурат год исполнится, как он нанимал меня в провожатые до Партене[319]. Я было повел его окольною тропкой, чтоб по грязи не шлепать, так он, черт подери, разбранил меня на все корки: веди, мол, по большой дороге, по прямому, мол, пути к католической церкви, к Отцу нашему Небесному! Я ему толкую: «Да разрази меня гром, ведь большая-то дорога заболочена и вдобавок подлиннее будет!» Но куда там – гляжу, поехал мой дурак наобум Господа Бога, и не успел я мигнуть, как завалились они на пару с мулом в рытвину, да так, что у доктора шапка, а у мула уши только наружу и торчали. Пришлось народ скликать да вызволять их оттудова. Вот я и говорю ему после: «Черт подери, святой отец, это, что ли, по-вашему, прямая дорога к святой церкви! Слыхивал я от Гиймара из Шанденье[320], что широкая-то дорога, по которой в каретах раскатывают, ведет прямохенько к погибели». Пока крестьяне вели меж собою такие речи, один паломник, что нес колокольцы, вдруг закричал: «Ой, бока мои, бока!» – и вся процессия остановилась; тогда Бомье, желая успокоить всех своих болящих ходоков, требует колокольчики себе, а узду сперва берет в зубы, после же накидывает на шею. Но, как говорится, недолго музыка играла: мул под Бомье был родом из Шоре[321] (заметь себе это особо, ведь тамошние жители все сплошь еретики!), ему не понравился звон колокольцев, и он давай лягаться и бить задом. Доктору кричат со всех сторон, чтобы он бросил колокольцы, а он в ответ: «Mater Dei[322]! И не подумаю бросать, они же освященные!» Все кинулись ему на подмогу, норовя ухватить строптивую скотину за уздечку, и этот переполох так напугал мула, что он взвился, будто его овод в зад ужалил, поопрокидывал людей и прямиком через них, не разбирая дороги, кинулся в лес. Всадник схватился за узду, второпях заехал в глаз мулу колокольчиком и, по закону колебания маятника, им же хлестнул себя по лбу. Мул вскинул круп и таким аллюром, брыкаясь, проскакал сотни две шагов; под конец доктор не удержался в седле и плюхнулся носом в грязь, нога же его застряла в стремени, так что некоторое время он ехал волоком, обдирая зад о камни, а рубашка и мантия задрались ему на голову. Уж и не знаю, призвал ли он в тот миг на помощь святого Сильвена, но чудо свершилось, и стремя, отвязавшись от седла, осталось у него на ноге. Кюре и самые сердобольные из прихожан, шедших в процессии, искали Бомье до двух часов ночи; наконец, когда взошла луна, увидели сперва его зад, торчавший из канавы, а потом и задовладельца, пребывающего в глубокой меланхолии, из какой он, говорят, и по сей день не вышел. Что же до мула, то местность и для него оказалась роковой – он издох у подножия «осанного креста»[323], что стоит на кладбище Сен-Мексан, в том самом месте, где по кусочкам собирали брата Жана Дампошеям, великого озорника былых времен, как выразился наш превосходнейший мэтр Франсуа[324].
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Часы Лезуша; о движении Солнца
Шербоньер. Позвольте, монсеньор, я вас оставлю; вон идет мой хозяин, он еще нечесан.
Фенест. Добрый день, мсье, добрый день!
Эне. Вам также, сударь. Боюсь, вы дурно выспались.
Фенест. О, что вы, мсье, отнюдь! Но должен вам сказать, что эти треклятые войны так приучили нас постоянно носить при себе оружие, что я не смог заснуть иначе, как приладив на спину свою кирасу. Пускай мне вовек больше ко двору не попасть, коли я вру. Однако, я полагаю, час уж поздний?
Эне. Взгляните сами – вон солнечные часы.
Фенест. Правду сказать, я в них ни черта не разбираю; мы люди военные, куда нам до астрологов, а в этих часах больно много всего понатыкано. Помнится, однажды, когда мы были в Бироне[325], один старый пуатевинский вельможа по имени Лезуш[326] созвал нас, не то пятнадцать, не то шестнадцать дворян, и обучал узнавать время по свечке.
Эне. Неужто это возможно?
Фенест. А вы как думали! Я, правда, только всего и запомнил, что господин маршал хохотал до упаду, остальным же было не до веселья.
Эне. А вы, значит, так ничего и не уразумели?
Фенест. Да говорю же вам, что нет. Я ведь не из тех, что ищут Антиподов. Ну, а коли не ищу, стало быть, их и нету!
Эне. Я вижу, вы, скорее, последователь святого Августина[327].
Фенест. А он тоже в них не верил?
Эне. Нисколько, и даже объявил еретиками тех, кто верит в их существование. Но разве не приходилось вам размышлять над тем, куда девается солнце после заката и какой путь оно проделывает, чтобы утром снова встать с востока?
Фенест. Ну еще бы! Я чуть ли не двадцать тысяч ночей провел в седле, пытаясь проследить, откуда оно встает; но по сю пору никак в толк не возьму, как это оно ухитряется пролезать там, под землей?
Эне. Видите, пришлось ему потрудиться двадцать тысяч раз, лишь бы не обмануть ваших ожиданий; замечу только попутно, что двадцать тысяч суток составляют около шестидесяти лет.
Фенест. А может, солнце после заката возвращается вспять той же дорогою, какой оно прошло по небосклону днем?
Эне. А кто видел, как оно движется вспять?
Фенест. Верно, никто; да разве ночью что увидишь?!
Эне. Верно, тяжеленько было нашему солнцу скрываться от вас целых двадцать тысяч ночей. И, однако, хоть вы не желаете узнавать время по солнечным часам, сами, как я вижу, носите часы у пояса.
Фенест. Не стану вам врать, мсье, это всего лишь корпус; он мне служит бонбоньеркою, а я выставляю его напоказ, словно настоящие часы.
Эне. Стало быть, можно их назвать «частичные часы».
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Сон о коннетабле. Исчезновение Эстрада
Фенест. Я непременно хочу рассказать вам сон, что видел нынче ночью, ближе к утру, как раз в то самое время, когда снятся вещие сны. Итак, привиделось мне, будто бы я – король Франциск, и один из моих принцев желает стать коннетаблем без моего на то соизволения.
Эне. Ого, какие у вас возвышенные ночные сны, сударь, – не менее возвышенные, чем дневные речи! Хотел бы я быть сейчас Иосифом, чтобы суметь истолковать ваш сон[328].
Фенест. Хотите верьте, хотите нет, но я иногда предвижу во снах важнейшие государственные события, к примеру арест принца Конде[329], – тогда мне приснилось, будто мы охотимся с герцогом на птиц, и наш манок сам попался на клей.
Шербоньер. Волчьи кишки! Скверная новость, сударь! Ваш распрекрасный Эстрад, которого вы так отличали пред всеми нами, удрал среди ночи, да еще и вашу шпагу с собою прихватил!
Фенест. Мою дуэльную шпагу! Мою убийственную шпагу! Башка святого Капре[330]! О, моя безотказная шпага, которой я сразился целых тридцать пять раз, моя победоносная шпага, что никогда меня не подводила! Эй, карту мне! Географическую карту мне, сейчас же!
Эне. Поднимитесь на галерею, там вы найдете одну из новейших карт нашего времени.
Фенест. Башка господня! Да проищите там, на карте, хоть до завтрева, и вы не найдете такого места на Земле, куда бы мог укрыться от меня этот мерзавец! Обокрасть меня! Меня!!! О Господи, пошли мне терпения!
Эне. Мне приятно видеть вашу решимость сдержаться, сударь, но глядите-ка, ваш сон оказался в руку: ведь тот, кто носит шпагу за королем, становится его коннетаблем, так и ваш Эстрад стал коннетаблем короля Франциска[331], сам того не ведая.
Фенест. Ах, я и позабыл; там у меня в ножнах было припрятано несколько десятков пистолей, но Бог с ними, об этой пропаже я тужу меньше всего; пускай его следующий хозяин видит, что прежний господин этого прохвоста не какой-нибудь голодранец. До него у меня служил другой негодяй, по имени Барбакан[332]. Однажды я приказал этому висельнику нести за мною три перстня с фиолетовыми рубинами (я взял их напрокат в Мон-де-Пьете[333], желая преподнести своей любовнице); вот усаживаюсь я на скамеечку подле нее и отвожу руку за спину, чтобы тот подал мне кольца, – так оно авантажнее выглядит, чем если бы я нес их сам; итак, тяну руку назад, а там – ничего! Оглядываюсь, а моего молодца и след простыл. Я было кинулся вдогонку, выбежал на улицу, а потом все же решился возобладать над собою.
Эне. Ого! Хвалю вашу решимость. Сразу виден настоящий мужчина!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
О решимости
Фенест. О, я с младых ногтей отличался ужасно какой решимостью; во мне, чуть что, вся кровь вскипала. Дайте мне только сесть за стол и я поведаю вам три-четыре историйки, от которых у вас волосы дыбом встанут; я докажу, что благородный кавалер непременно должен во все ввязываться и притом обязан быть тверд в своих решениях. Итак, сядемте, и я начну. Во время Онисовой войны[334], когда стояли мы лагерем в Мозе[335] и Монсеньор[336] делал обход, вдруг видим мы отряд богато одетых всадников; я хватаюсь за пистолет и свирепо кричу: «Кто идет? Стоять на месте! Первого, кто шевельнется, убью насмерть, башка господня!» Но они вместо того, чтобы подчиниться, только расхохотались. «Ах, вы смеетесь?» – спрашиваю я. «Как видите!» – отвечают они. Тотчас я принимаю решение и объявляю им: «Ну так и я смеюсь тоже!»
Эне. Блестящее решение!
Фенест. А вот еще пример: смотрели мы одну комедийку – так себе, дрянь! – и какой-то парижанин в фиолетовом костюме все время вскакивал и заслонял мне сцену; я ему, опять-таки свирепо, кричу: «Эй, ты, фиолетовый, а ну-ка сядь, не торчи передо мной!» Этот наглец, повернувшись, отвечает: «И не подумаю сесть!» Ах ты, думаю, такой-сякой, но тут же решаюсь и говорю ему: «А когда так, то стой!» Таким образом, он уже стоял как бы по моему приказанию.
Эне. Вот что значит привычка всегда оставлять за собою последнее слово.
Фенест. А однажды, в предместье Сен-Жермен, на улице Кёр-Волан, где у меня назначено было свидание с моею любовницей, я наткнулся на одного подлеца, который шел опустя голову; вдруг, ни с того ни с сего, он хватается левой рукою за мой плащ, а правой приставляет мне кинжал к горлу; я, надо вам сказать, слегка опешил и позволил ему стянуть с себя плащ, так у него еще хватило наглости остановиться шагов через десять и оглянуться на меня. Тут уж я не оплошал и закричал во все горло: «Эй, кавалер, распрощайтесь с вашей честью, вы ведь теперь носильщик моего плаща!» После чего, облегченный и телом и душою, я все же явился к любовнице, правда в одном камзоле – совершенно, так сказать, в интимном виде.
Эне. Удачно выразились, хотя и не слишком точно: не «носильщик плаща», а «уносильщик». Что ж, недурная вышла забава – или я ничего не смыслю в шутках. Надо, однако ж, иметь немалый запас терпения или быть большим философом, чтобы принимать эдакие решения. Но коли взглянуть с другой стороны, то, когда дело сделано, остается утешать себя хотя бы тем, что не вышло хуже. Такого же рода решения, кстати, принимал и пастор из Глене[337].
Фенест. Постойте, придержите-ка вашу басню на малое время, я сперва расскажу вам, как однажды решил не принимать решения и как худо это дело обернулось для меня.
Эне. Хорошо, после вас... Так, стало быть, вы однажды упустили случай принять одно из тех замечательных решений, какие свойственны вашему, и только вашему, нраву?
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Ссора с ученнусом. Дуэль в Валери
Фенест. Из всех затеянных мною ссор я сожалею лишь об одной; особливо же злит меня то обстоятельство, что ссоре этой стала свидетельницей моя любовница. Некий гугенот, эдакий ученнус, пичкал ее идеями Платона и прочей чепуховиной, я же при сем вынужден был помалкивать, ибо, как говорится, крыть нечем. Слово за слово, взялся он подшучивать над ее четками. Она ему и говорит: «Знайте, что я добрая католичка!»[338] – «Католичка? – смеется тот. – Я не желал бы думать о вас столь дурно; я полагал, что вы принадлежите одному только мужу или уж, самое большее, наряду с ним еще какому-нибудь сердечному дружку, а не всему свету!» И этот негодяй принимается разглагольствовать о том, что слово «католическая», якобы означает «всеобщая», а потому следует говорить: «Я принадлежу к католической церкви», но ни в коем случае не называть себя католичкою. Тогда вмешался и я в беседу, заявив, что дама ни в коей мере не «всеобщая». «Вы у меня глядите, господин ученнус! – говорю я ему. – Мне на вашу греческую латынь начхать, я вас живо на французский ум наставлю!» Уф, башка господня! Не успел я рот закрыть, как этот болтун уже нашелся с ответом: «Господин невеждус! Я тоже не знаю латыни и греческого в той мере, в какой мне хотелось бы, а потому на чистом французском языке объявляю вам, что вы дурак набитый!» – и, словно этого мало, бац мне кулаком в нос! Счастье его, что я почитал мою любовницу, – а она кинулась нас разнимать, – да к тому же ему повезло, что я как раз сбирался на войну, не то мы бы с ним побеседовали в каком-нибудь укромном местечке! Уж и разозлил он меня своей греческой латынью!
Эне. Следовательно, он мог быть французом, когда хотел. Но у меня есть одно соображение: он – на свое несчастье, конечно, – так прилежно изучал греческий и латынь, что уж, верно, не смог бы сразиться с вами на французский манер?
Фенест. Башка господня! Я вам главного не сказал: самое-то обидное и состоит в том, что он, как говорят, побеждал в Париже всех, с кем изволил скрестить шпагу.
Эне. Сражаясь по-римски?
Фенест. Вот этого не знаю; слышал только, что и Большой Жан-англичанин и Жан-Малыш[339] – оба они остерегаются теперь выходить против него.
Эне. Но вы ведь – оскорбленная сторона, стало быть, выбор оружия за вами.
Фенест. Да, я подумывал вызвать его сразиться на арбалетах – за каждым по три стрелы – или же на конную дуэль. Может, он хоть верхом ездит скверно... Да нет, кой черт, совсем запамятовал, что он слывет одним из искуснейших всадников.
Эне. Что же, придумайте иной способ. Вот принц Конде[340] нашел преостроумнеший выход, когда его дворецкий поссорился с лакеем при гардеробе. Оба они были известными храбрецами, и ему не хотелось лишиться ни того, ни другого. Он назначил им местом поединка Валери[341] и объявил, что, будучи слугами принца крови, они должны сражаться верхами, как оно и подобает, когда «слуга короля вызывает барона». Итак, он велел им надеть латы и шлемы, выбрать секундантов, исповедаться, затем громко приказал подвести лучших скакунов, и, когда они взошли уже на монтуары[342] и в щель забрала ничего не видели, кроме голов да неба, конюшие посадили их обоих на пышно разукрашенных овернских мулов; мулы же, как известно, сражаются, стоя друг к другу задом и лягаясь; таким вот образом наши славные рыцари исполнили свой долг, не посрамили своей чести и притом остались целы и невредимы.
Фенест. Ну, надеюсь, мне вы такого не присоветуете, хотя сама выдумка весьма остроумна.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
О пасторе из Глене
Фенест. Однако вернемся к вашему пастору.
Эне. То был пастор из Глене[343], по имени Лафлёр[344],– весьма почтенная личность; во всем поступал он, как положено и соблюдая должную меру. И вот сей достойный человек, возвращаясь с заседания Синода[345] из Ниора, заночевал в Лажоне[346]; не успел он расположиться на отдых, как явился в тот же самый дом монах-францисканец, у коего нос был еще краснее, чем у него самого. Ужаснувшись такому соседству, пастор вышел в сад, где и стал прогуливаться; вскоре туда пожаловал и францисканец; тогда господин де Лафлёр с презрительной миною повернулся к нему спиной, выказывая всяческое нерасположение. Но монах все же обратился к нему – весьма, впрочем, смиренно: «Монсеньор, я прекрасно вижу, что это жалкое одеяние и клобук вам глубоко омерзительны. Тому, кто их носит, они также давно опротивели, но, во имя Господа нашего и милосердия ради, умоляю вас как христианин не отвращать от меня лик ваш, ибо одежды эти, символ лицемерия, не по мне и я твердо решил сменить их на облачение, подобное вашему, вы же должны мне в том поспешествовать, дабы снизошла на меня благодать Господня. Так отбросьте же отвращение, которое препятствует сближению нашему!» Не успел францисканец вымолвить эти слова, как пастор заключил его в объятия и, осыпав всевозможными похвалами, обещал облегчить его судьбу, так что хозяйке, у которой была свободною только одна постель, не пришлось даже уговаривать их лечь спать вместе. А вот что случилось дальше: едва занялся день, наш пастор проснулся и обнаружил, что новый его приятель уже покинул их общее ложе; захотел встать и он, но, поискав, нашел в ногах кровати лишь клобук да серое одеяние и сперва счел, что оно ему снится, однако, поразмыслив, всплеснул руками и ахнул, ибо вспомнил, как хитрюга-монах ругмя ругал свой клобук, обещая сменить его на одежду порядочного человека. Как он ни сокрушался, а необходимость – эта мать всех принимаемых решений, о коих нынче уже шла речь, – вынудила Лафлёра смириться с жестоким обманом. Самое худшее ждало его по прибытии в Глене, где старый сеньор той местности, увидав его в окно сторожевой башни, воскликнул: «Господь милосердный, это что за образина!» – и приказал было побить своего пастора камнями, ибо счел, что вместе с одеянием тот сменил и веру. Но, как аппетит приходит во время еды, так и мне пришла охота рассказать вам еще об одном решении, которое, надеюсь, придется вам по вкусу.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
История с Потро и с дамою из Ноайе
Фенест. Нет, дозвольте-ка сперва мне! Однажды на Новом рынке у меня приключилась ссора и дуэль с господином Монру[347]; дело, правда, обошлось почти одними словами, если не считать того, что он разорвал мне шпагою воротник. Идем мы обратно по улице Сены[348], а кетэн Фриске[349] мне и говорит: «Барон, надо бы вам с Монру надраться». Я ответил, что предпочел бы обойтись, но он и слушать не захотел, а потащил меня за собою по улицам Марэ[350], которое мы меж собою называем Женевскою Лужицей[351]. Гляжу, заворачивает он на Пре-о-Клер[352], и спрашиваю: «В какую же это таверну ведете вы меня надраться?» – «Да в ту, где принято драться, сударь!» – отвечает Фриско. «Ну нет, – говорю я, – вы меня звали надраться, а вовсе не драться; нечего надо мною тешиться, я себя за нос водить не позволю!» – и повернул было назад. «А как же честь?» – кричит он мне вслед. «Ставлю сотню пистолей тому, – отвечаю я, – кто заставит меня драться с этим галантным господином, но только честным путем, а не обманом». И я удаляюсь, полный ужасной решимости, ибо должен вам сказать, что, когда Фриске пригласил меня в компанию с Монру, мне явственно послышалось «надраться» вместо «подраться»; черт бы подрал эту французскую тарабарщину!
Эне. Ладно, оставимте вашу «ужасную» решимость. Теперь мой черед рассказывать. В Пуату водится такой обычай: самые знатные люди снимают комнаты в Ниоре и Фонтенэ, чтобы останавливаться там во время ярмарок, которые устраивают в этих двух городах. Вот и некая госпожа де Ноайе[353] по ярмарочным дням снимала на постоялом дворе у Барбери[354] маленькую комнатку в верхнем этаже. Поскольку на первый день ярмарки она не приехала, в каморке этой хозяин поселил сьёра Сен-Желе де Потро[355]. На следующий день, в два часа пополудни, прибыла и означенная дама. Пока она обменивалась приветствиями с хозяином, ее горничная Изабо, весьма застенчивая девица... (тут я прервусь и объясню вам попутно, что когда один плотник, по прозвищу Стругач, передал через нее письмо для госпожи, то горничная ни за какие коврижки не соглашалась произнести вслух его прозвище, а когда ее стали к тому принуждать, объявила, что скорее даст перерезать себе горло ножом, нежели выговорит столь скверное слово; наконец хозяйка, которой невтерпеж было узнать, кто же ей написал, не добившись от служанки нужного слова ни лаской, ни таской, велит ей объясниться обиняками. «Вот это дело другое! – обрадовалась Изабо. – Он зовется так же, как звали бы любого, кто вас...» – тут-то она и вымолвила самое что ни на есть непристойное словцо). Итак, эта самая девица, поднявшись в комнату, находит на столе красный сундучок, который она, нимало не раздумывая, поддевает под веревки и вышвыривает в окно. Сундук падает на плечо Мартену, слуге Потро. Пока Мартен размышлял над тем, что больше пострадало – его собственное плечо или хозяйский сундук, – подоспел его господин и велел тащить сундук обратно наверх, в комнату, где и столкнулись они с дамою. Тут завязался у них спор, поначалу мирный; наконец понадобилось прийти все же к какому-нибудь решению – ибо, как вам хорошо известно, не все они приводят к дуэли.
Фенест. Да... верно... Все зависит от того, как взяться за дело.
Эне. Вот они и взялись за него, каждый по-своему. Она кричит: «Я не потерплю такого оскорбления!» А он: «Я не потерплю, чтобы мои сундуки выкидывали из окна!» Она: «У меня здесь, на ярмарке, пятьдесят дворян знакомых и родственников, уж они за меня постоят, да и оба зятя моих вам хорошо известны!» Эти слова до того разозлили Потро, что он заявил: «Мадам, ежели ваши зятья так же охотно примут от вас этакий подарочек – вызов на дуэль, – как вы его им предлагаете, то я сумею дать им хороший отпор, благо не могу обещать вам самой хороший напор, ввиду почтенного возраста вашего и всего, что из оного проистекает». Такое замечание донельзя уязвило нашу даму: впервые довелось ей услышать о почтении к своему возрасту, тогда как сама она отнюдь не чувствовала себя женщиною в летах и не собиралась «навешивать запор». Итак, ослепленная гневом, она продолжает препираться. «Вот моя кровать, – восклицает она, – в ней я привыкла спать и именно здесь проведу нынешнюю ночь!» На что Потро возражает следующее: «Вот кровать, в которой провел я минувшую ночь и именно здесь намерен провести нынешнюю!» – «А я говорю, что сама тут лягу!» – кричит дама. Потро: «И я тоже!» Дама: «А я и не говорю, что вы не будете в ней спать, я лишь утверждаю, что я в ней спать буду!»[356]Потро: «А я не говорю, что вам в ней не спать, зато уверен, что уж я-то непременно в нее лягу». Дама: «Ну так я докажу вам мою решимость и улягусь в постель тотчас же!» (Тут Фенест, испустив тяжкий вздох, прошептал: «О решимость, дорого же ты мне стоила!») Эне продолжал: Потро заявил, что поступит так же, как дама, которая уже призвала Изабо, приказав ей раздеть себя. Он кликнул Мартена, чтобы тот помог ему снять сапоги. Вот когда решимость определялась проворством каждого из спорящих. Дама выиграла, скинув платье первой, и Потро достался лишь самый краешек постели. Изабо, задрав нос, говорит Мартену: «Ага, болван, сказали же мы, что будем спать здесь!» – «А мы нешто не будем!» – откликается Мартен. Ну, короче сказать, эти двое последовали примеру своих господ, сперва на словах, только не так долго препираясь, а затем и на деле, то есть в постели; однако, поскольку Мартену пришлось запирать дверь (да он еще и этот пункт оспаривал!), ему досталось местечко на самом краешке. Легко можно догадаться, что было дальше: все четверо, коли уж выпал такой случай, не преминули воспользоваться обстоятельствами. Дама впоследствии оправдывалась перед теми, кто зубоскалил по этому поводу, что ею руководила вовсе не любовь, но желание доказать, что она еще в силах выдержать любой напор и, тем самым, заткнуть рот хулителям ее прелестей.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
О Бурроне. Загадка Филасса
Фенест. Ну, за такой рассказ не грех и выпить, и да здравствует решимость! Но я не хотел бы расстаться с вами, не показав сперва несколько занятных вещичек, которые бедняга Буррон[357] подарил мне за пару дней до смерти.
Эне. Да разве он умер?
Фенест. А как же! Раз-два и готово!
Эне. С новостями, видно, дело обстоит так же.
Фенест. На его смерть написано множество эпитафий; я вам сейчас прочту самую краткую из них:
Эне. Превосходно! Итак, сударь, стол уже убрали, теперь покажите же мне обещанные вами диковины.
Фенест. Только не вздумайте опять насмешничать, это вещь нешуточная – пророчество, найденное в развалинах Партене-ле-Вьё[358] вместе с посланием Богоматери маршалу д’Азэ[359]. Могу вас заверить, что пророчество сие поставило в тупик ученейших мудрецов Франции. Вот, извольте прочесть.
Эне. «Я вижу, как после прошедших бурь и избиений, после железных безжалостных лезвий, коим под силу снести за два месяца 40 миллионов голов, приуготовляется новый посев. Сии пагубные зерна обладают свойством возгораться сами по себе. Но да внедрятся они и прорастут, буде случится и потоп. Я вижу, как в первые же благодатные дни, едва лишь минет мартовское равноденствие, явятся служители и, покорно склонив выю, пустят в ход острые железа, особливо на 45 градусах западной Франции[360]. Я вижу, как суровые старцы лишают юных своих потомков досуга и забав, дабы послать их на стражу либо на истребление. И поднимется великий шум, и начнут молодые поносить равно и соседей, и домашних супостатов. Враги же многоязыки, уборы их разнообразны, а нрав изменчив. Одни из них принадлежат к черному воинству, воровскому и бесстыжему, другие доверчивы и незлобивы – эти ищут себе лишь мирной жизни; сие кроткое племя явилось некогда добрым вестником для того, кто послушался Господа и восславил церковь, к великому посрамлению язычников. Битва начнется из-за того, что люди с Запада встанут на защиту смертельного врага рода человеческого – смертельного, говорю я, ибо злая гибель настигнет всякого, кто врага сего не изничтожит; ждет его участь Амана, любимца Артаксерксова[361]. Все это сбудется в то время, когда самые боязливые попытаются спешно укрыть от чужих взоров королевский герб. Больше скажу вам: самые дерзкие из них, скорее, хитростью, нежели силой, посягнут на Солнце и Луну, под защитою, какую жалует им Сатурн, и с помощью оружия – драгоценного дара Марса. А та злосчастная, о коей веду я речь, столько же человеческих жизней унесла, сколько и спасла; столько же надежд держится на ней, сколь и гибнет из-за нее; это она натягивает или ослабляет узду, борясь с воздушными демонами или демонами Океана; это ею пленен был Самсон и ею же спасен апостол Павел; без нее нет ратных подвигов, в ее власти силы огня, и оттого, что не стало ее, все принцессы Карфагена принуждены были обрезать власы свои. От слов противники перейдут к делам: одни прибегнут к хитрости парфян, другие – к той, что сгубила филистимлян. О ужас! Я вижу, как для борьбы с беззащитными будут пущены в дело неодушевленные вещи, призраки, гневнолицые идолы, рубища бедняков и даже реликвии, и все они, словно в некромантии, ополчатся на живую природу, неся ей ужас и пагубу. Остается мне сказать вам лишь одно: силы воздуха также приведены будут в действие и, посредством сферического движения, духи принудят вещи бессловесные шуметь и стенать столь громогласно, что звуки сии отнимут сон даже у крепко спящих. Остерегись же, тьма, ночных орлов мудрости! Защитники уже примутся праздновать победу, но едва они возгласят сей стих:
как вновь нахлынут на них вражеские полчища, и лишь помощь детей Геракловых, которые поднимут дух у самых робких, избавит злочастную от гибели. Пройдет несколько месяцев – и вот встанет в небе зарево пожаров. О Марманд![363] О Тоннен![364] Сколь кратковременны будут праздничные костры твои! В них сгорят дотла останки мертвых, лишенных плоти и жил. А родится из всего этого та самая вещь, с коей так свычны англичане, но так опасаются спознаться испанцы[365]».
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Объяснение загадки
Фенест. Ну, не правда ли, прямо волосы дыбом встают!
Эне. Погодите, прошу вас, дайте мне время перечесть.
Фенест. Пока вы перечитываете, пойду-ка взгляну на лошадей. Эй, Шербоньер! Карманьоль! Эстрад... ах, дьявол, совсем забыл, что негодяй сбежал!.. Ну как, мсье, что вы тут надумали?
Эне. Загадка сия составлена остроумно; что же до пророчества, то тут его вовсе нет, одна видимость.
Фенест. Как так «видимость»?
Эне. Терпение, друг мой, сейчас я объясню вам все загадочные места в этой писанине; одно только слово помогло мне найти ключ ко всему остальному.
Фенест. Ну, ежели вы и в этом преуспеете, то весьма удивите меня и заставите презирать всех ученых ослов, которые толковали ее и так и эдак. Я весь обратился в слух, мсье.
Эне. «... после прошедших бурь и избиений...» – семена обычно попадают в землю из колосьев, либо будучи развеяны ветром, либо по окончании молотьбы. «... после железных безжалостных лезвий, коим под силу снести за два месяца сорок миллионов голов...» – это то, что и у нас, и у вас называется «жатвою», когда острыми серпами срезают колосья, а граблями делают валки. При этом, разумеется, невозможно счесть, сколько голов, то есть колосьев, срезали жнецы, вот тут и указана цифра в сорок миллионов – она достаточно точна для неисчислимого. «Сии пагубные зерна обладают свойством возгораться сами по себе...» – вот то самое слово, которое помогло мне разгадать все остальное, ибо семена конопли часто возгораются сами по себе, как и говорится в известной пословице. «Но да внедрятся они и прорастут, буде случится и потоп...» – имеются в виду влажные почвы, в коих обычно и сеют коноплю. «Я вижу, как в первые благодатные дни, едва только минет мартовское равноденствие, явятся служители и, покорно склонив выю, пустят в ход острые железа...» – это как раз то время года, когда крестьяне с мотыгами отправляются на конопляники окучивать и рыхлить и, ясное дело, голову к небу они при этом не задирают. «Особливо на сорок пятом градусе Франции...» – на этот градус приходится долина Гаронны, где я видел самые обширные конопляные посадки, да конопляники большей частью и расположены на сорок пятом градусе страны. «Я вижу, как суровые старцы лишают потомков своих досуга и забав...» – это означает, что отцы будят детей пораньше, на заре, дабы отправить их стеречь посевы от птиц. «И поднимется великий шум, оскорбления и крики...» – ну, кто видел эту «охрану», тому лишних объяснений не требуется. «И начнут молодые поносить соседей, а равно и домашних супостатов...» – дело в том, что домашние голуби так же охочи до конопли, как и дикие птицы. «Одни принадлежат к черному воинству, вороватому и бесстыжему...» – это дрозды, вороны и галки. «Другие доверчивы и незлобивы, эти ищут себе лишь мирной жизни...» – имеются в виду голуби; описывая их нрав, некоторые натуралисты утверждают, что голуби и голубки добры и кротки. «Сие кроткое племя явилось некогда добрым вестником для того, кто послушался Господа...» – именно голубка принесла в клюве оливковую ветвь, символ мира, Ною и тем самым известила предводителя людей, оставшихся в живых благодаря построенному им ковчегу, подобному Церкви, о том, что вода начала спадать[366]. «К великому посрамлению всех язычников...» – все бедствия мира не сравнимы с этим, вот почему те, кто не примкнул к церкви, стали считаться язычниками. «Битва начнется из-за того, что люди Запада встанут на защиту смертельного врага рода человеческого...» – жителями Запада считаются обитатели Бретани, Пуату, Сентонжа и Гиени, но особенно, мне кажется, ваш пророк метит в Гасконь, где охотнее всего выращивают то, что зовете вы гасконским салатом[367]; «салат» сей сыграл не одну злую шутку с тамошними жителями; недаром же дальше мы читаем: «Смертельного, говорю я, ибо злая гибель настигнет того, кто врага сего не изничтожит...» – конопля проклята в Священном писании. Кто сохранил ее в молодости, того она и задушит. «Ждет его участь Амана, любимца Артаксерксова...» – то есть ждет их петля. «Самые боязливые попытаются спешно укрыть от чужих взоров королевский герб...» – имеется в виду обычай карманных воров: они перекладывают кошельки из чужих карманов в своей собственный, а ведь на любой монете отчеканен королевский герб. «И еще больше скажу вам: самые дерзкие из них, скорее, хитростью, нежели силою, посягнут на Солнце и Луну, под защитою, какую жалует им Сатурн, и с помощью оружия – драгоценного дара Марса...» – здесь еще подробнее описывается обычай воров-карманников: алхимики называют Солнцем золото, а Луною серебро; таким образом, слова эти означают, что воры хотят похитить золото и серебро; так же следует толковать и дальнейшие слова, ибо свинец символизирует Сатурн, а оружие, дар Марса, – это нож. Защита, «какую жалует Сатурн» – это, без всякого сомнения, свинцовая пластинка, защищающая пальцы нашего ловкача от порезов, оружие же – острый ножичек, которым срезают с пояса кошелек. «А та злосчастная, что столько же человеческих жизней унесла, сколь и спасла...» – тот, кто бывал на море, знает, сколь необходимы и важны для спасения жизни веревки и канаты, сколько людей погибло в пучине за неимением веревки, а уж сколько повешено с ее помощью на твердой земле, о том и говорить не приходится. «Сколько же надежд держится на ней...» – надежды – это паруса, поднятые и натянутые с помощью фалов, сплетенных из пеньки. «Это она натягивает или ослабляет узду, борясь с воздушными демонами или с демонами Океана...» – надежность якорной стоянки зависит прежде всего от добротности каната. «Ею же пленен был Самсон...» – филистимляне связали Самсона новыми крепкими веревками и таким образом взяли в плен[368]. «Ею же спасен был апостол Павел...» – имеется в виду тот случай, когда его спустили на веревке с крепостной стены Дамаска[369]. «В ее власти силы огня...» – именно веревками чаще всего пользуются в сражении, дабы приводить в действие «огненные орудия»[370]. «Оттого что не стало ее, все принцессы Карфагена принуждены были обрезать власы свои...» – во времена Третьего пунического мира[371] один карфагенянин отвечал римлянину, который спросил его, остался ли в Карфагене хоть один храм, где побежденных можно было бы заставить принести клятву покорности: «Заставьте нас, – сказал он, – поклясться невозможностью изменить веру!» Тогда у них было отнято всякое оружие, вплоть до веревок и конопли, из которой выделывают пеньку. Но карфагеняне, объявляя новую войну, изготовили веревки из волос, срезанных у женщин всей страны; даже принцессы не избежали общей участи. «От слов противники перейдут к делам – одни прибегнут к хитрости парфян, другие – к той, что сгубила филистимлян...» – парфяне славились тем, что побеждали, убегая, и здесь подразумевается бегство одной из сторон, то есть птиц. Далее: Давид убил Голиафа из пращи[372], победив тем самым филистимлян, так и здесь: малые дети стреляют в птиц из рогаток. «И вижу, как на борьбу с беззащитными будут пущены в дело неодушевленные вещи... словно в некромантии...» – некромантия есть колдовство, связанное с мертвецами, а в загадке вашей говорится, что птиц прогоняют не только люди, но и неодушевленные вещи, то есть, попросту говоря, пугала. «Призраки, гневнолицые идолы...» – призрак – это то, что пугает своим видом; соломенные чучела как раз и изображают призраков, разве что сделаны они небрежно, на скорую руку. «Рубища бедняков и даже реликвии, и все они ополчатся на живую природу, неся ей ужас и пагубу...» – на чучела надевают самые ветхие лохмотья, принадлежащие последним нищим; что же касается до «реликвий», то слово это употреблено здесь в весьма своеобразном смысле; это то, что уже отслужило свой век и ни на что иное более не пригодно. Что же до ужаса, который обладает большим могуществом, нежели положено, то нет такой причины, по которой одушевленные существа должны бояться вещей неодушевленных. «Остается мне лишь сказать вам, что также и силы воздуха приведены будут в действие и посредством сферического движения духи принудят вещи бессловесные шуметь и стенать столь громогласно, что звуки сии отнимут сон и у крепко спящих...» – это ветры, приводящие в действие вертушки с трещотками, привязанные к веткам деревьев и отгоняющие птиц своим шумом; движение их, и впрямь, представляется сферическим, особливо когда они вращаются очень быстро, так что вблизи них, и верно, нелегко заснуть. «Остерегись же, тьма, ночных орлов мудрости!..» – ночью, когда в полях нет сторожей, там хозяйничают совы и филины, которые также вредят посевам; названы же они здесь так затем, что Юпитера всегда сопровождает орел, ночная же птица – это как бы орел Паллады[373], богини мудрости. «Защитники станут уже торжествовать победу; но едва возгласят они сей стих:
как вновь нахлынут на них вражеские полчища...» – имеется в виду тот урон, что наносят стаи птиц, невзирая на все ухищрения земледельцев. Двустишие это принадлежит перу одного христианского поэта[374], который, описывая войну римлян во главе со Стиликоном[375] против варваров, ликовал по поводу того, что ветер в день боя дул в лицо неприятеля; загадки же всегда строятся на том, что великие события цитируются при описаниях столь малых и незначительных дел, как это. «И лишь помощь детей Геракловых, которые поднимут дух у самых робких, избавит злосчастную от гибели...» – дети Геракла – это Близнецы, соответствующие месяцу маю вплоть до 22 числа; именно в это время зелень (а зеленый цвет – цвет надежды) всходит и украшает собою молодые стебли злосчастной конопли... Вам, разумеется, понятно, отчего ее называют «злосчастною». «Пройдет несколько месяцев – и встанет в небе зарево пожаров...» – вдоль всей долины Гаронны через некоторое время после жатвы и молотьбы крестьяне сжигают костру[376]. «О Марманд! О Тоннен! Сколь кратковременны будут праздничные костры твои, в коих сгорят дотла останки мертвых, лишенных и плоти, и жил!..» – в Марманде и Тоннене, как правило, и происходит все вышеописанное. Что же до «мертвых, лишенных и плоти, и жил», то это весьма своеобразное описание костры, то есть соломы, какою она выглядит, когда ее бросают в огонь. «А родится из всего этого та самая вещь, с коей так свычны англичане, но так опасаются спознаться испанцы...» – те, кому ведомы нравы этих двух наций, знают, насколько смерть от веревки привычна для англичанина и позорна для испанца.
Фенест. Ох, вы меня совсем огорошили, а впрочем, и порадовали: с одной стороны, обидно, что столь возвышенные слова означают сущую чепуху (а я-то блистал этим пророчеством в знатном обществе, и мною все восхищались!), а с другой – теперь я смогу блистать объяснением сей загадки и заработаю на нем столько же лестных похвал.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
О Сурди[377] и его жене. О принце-игроке. О Женевьере. О священнике и Бугуэне. О монахе из Майезе
Эне. Прошу извинить меня за то, что я выставил вашу Гасконь родиною конопли, а не родиною срезывателей кошельков; право же, в Париже их рождается больше, нежели в других местах. Итак, пророчество ваше я прочел, но вы, осмелюсь заметить, вытаскивали из карманов еще какие-то записочки; я желал бы взглянуть и на них.
Фенест. О, это просто всякие мелкие памфлеты, что надавал мне Буррон.
Эне. Он был весьма достойным человеком; некогда я принимал его здесь у себя с такой же радостью, как и дворянина, который оказывает мне честь своим посещением нынче.
Фенест. Ну так читайте, вот вам четыре из них.
Эне. Посмотрим этот.
Фенест. Он принадлежит перу одного сеньора, который завел в Шартре любовницу, но содержал ее скупо, ни деньгами, ни нарядами не баловал; супруга его, проезжая через Шартр, вздумала приодеть эту девицу во все новое. Тогда Монсеньор, узнав о такой прихоти своей половины, сочинил следующий стишок:
Эне. Прелестно! Ну а этот?
Фенест. В этом намеренно изменено родство[378], так как речь идет об одном из самых любезных принцев и самой очаровательной принцессе, какие жили когда-либо при дворе:
Эне. Остроумно сложено; но, кажется, вы припрятали еще три стишка?
Фенест. О, прячу-то я всего один: если его найдут у меня в Париже, не миновать мне петли; лучше уж покажу вам эти два. В первом изменено имя, впрочем, сложен он точно так же:
Эне. Теперь поглядим второй.
Фенест. Он посвящен Бугуэну[380]; я как раз собираюсь нынче у него заночевать. Это старинный анекдот о кюре Фраларе, который помер не то от скорбей, не то от забот. Читайте:
Эне. Поверьте, сударь, стишок отнюдь не глуп; коли вы опасаетесь везти в Париж все эти бумажки, что зажали в кулаке, оставьте-ка их лучше здесь, у меня; мы не так боимся виселицы, как те, кто живет по соседству с Телячьей площадью[381].
Фенест. Тут у меня нашлись еще стишки, они вполне безобидны; вот, держите все их скопом. Этот сложен о монахе из Майезе, который, будучи болен при смерти, спрятал меж ног мешочек с пистолями, обещая подарить их своему исповеднику; тот, сделав свое дело, ухватился и стал вытаскивать мошну, а вытащил-то – ха-ха! – всего лишь мошонку! Читайте:
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
О графе Делорме
Фенест. Что ж, коли вы так добиваетесь этих стишков, я вам все их оставлю, но только читайте, когда я буду далеко, – не дай Бог, ежели здесь, при мне, обнаружат ту шутку про господина маршала[382]; ведь он милостиво поручил мне преважное и конфиденциальное дело, для чего я должен буду вернуться сюда и присутствовать при отплытии.
Эне. Не смогу ли я быть вам полезным, коли уж вы оказались здесь?
Фенест. Как знать... Ну да ладно, расскажу вам, в чем дело, но только умоляю: храните все в секрете!
Эне. Того же и.вам хочу пожелать.
Фенест. Итак, перед отъездом из Парижа встретил я одного знакомого кавалера, который предложил королю огромные богатства, чтобы помочь ему расплатиться с большей частью долгов, выручить множество принцев и их приближенных, а самого короля сделать повелителем морей на горе англичанам, фламандцам и испанцам. Человек этот был послан генералом Стинксом[383] и восемью другими всем известными пиратами, которые сперва собирались вручить два миллиона золотом королю английскому, с тем чтобы он позволил им снарядить экспедицию на их собственные средства и под английском флагом завоевать Перу, но ихний король[384] (я говорю «ихний», поскольку большая часть этих людей – англичане) не пожелал войти с ними в сделку ни под каким видом; тогда они подняли якорь и отплыли с острова Уайт[385], возгласив, что пускай, мол, король английский остается повелителем своей страны, они же станут хозяевами морей. Затем они то же самое предлагали Голландским Штатам, испанскому королю, венецианцам и герцогу флорентийскому, но все эти чересчур щепетильные особы поопасались взять на душу грех прощения убийц и грабителей; в особенности же отвратило их то, что пираты продали неверным пятьдесят тысяч христиан. Все государственные советники этих стран открещивались от сей затеи, да и у нас, по правде сказать, старейшины Государственного совета поначалу выступили против. Но самые ловкие, к примеру Манго[386], Барбен[387], да еще господин Маршал с супругою, все же обстряпали это дельце, выхлопотали этому человеку охранную грамоту, прощение всех прошлых преступлений и надежные договора, так что и сам он, и все его товарищи теперь могут безбоязненно пребывать во Франции до самого отплытия из устьев рек Морбиан[388] или Маран[389].
Эне. Да нет же, из Эгийона[390].
Фенест. Как, мсье, вы уже прослышали об этом предприятии?!
Эне. Лишь то, что я сказал, не более. Продолжайте же, прошу вас, но только будемте судить о сильных мира сего более почтительно.
Фенест. Башка господня! Да я говорю лишь то, что весь свет давно уж знает: господин Маршал заключает договора всюду, где денежками пахнет.
Эне. Что же наобещала в Париже та важная особа?
Фенест. Он посулил королю подарок в два миллиона золотом при условии, что Его Величество соблаговолит заплатить девятьсот тысяч экю за снаряжение восемнадцати кораблей, которое во Франции обошлось бы не менее чем в два миллиона, а кроме того, миллион сто тысяч экю звонкой монетой. Господину Маршалу обещал он триста тысяч экю, а супруге его на сто тысяч бриллиантов; одному принцу и его приближенным офицерам – по сто тысяч экю каждому и на пятьсот тысяч подарков. Да что! – ему ведь выложить такие деньги – раз плюнуть; слышно, у этой компании накоплено тридцать шесть миллионов в золотых монетах и слитках, да еще поболее того – в алмазах, притом крупных; говорят, что камень меньше четырех каратов они и за драгоценность-то не считают. Далее, собрано у них на шестнадцать миллионов жемчужин, таких огромных, что даже для ожерелья не годятся – тяжело будет носить. Вот, стало быть, я и тороплюсь успеть туда, чтобы попасть к ним в экспедицию; ведь отплывут-то они за этими самыми богатствами из ваших мест.
Эне. А сами-то вы, сударь, знакомы с этим щедрым господином?
Фенест. Ну еще бы, я у него хожу в приятелях, он меня целых два раза приглашал вместе с собою на обеды к господину Маршалу. Этакий плюгавый человечишка, но ужасно какой занятный, «черт» у него с языка не сходит; он уверяет, будто ему нипочем задушить тысячу человек – задушу, мол, и не поморщусь! – а самому завалящему из нас сулит добычу не менее чем в двадцать тысяч экю... Вот уж кто умеет блистать! Он хвастал, что у него есть башня в Ванне[391], доверху набитая золотом и с замурованным входом; что он оставил четыреста тысяч пистолей у одного из своих друзей в Анже[392] и еще столько же во всяких других местах, а еще семнадцать тысяч экю хранятся у генеральши Шоу[393], и у нее же держит он единорога[394] невиданной в Европе красоты, затем пеликана с глазами из карбункулов ценою в полмиллиона экю и кинжал с рукояткою из цельного алмаза. Эх, и повезло же мне попасть в эту компанию!
Эне. Вы упомянули о договорах и грамотах; один из моих соседей мог бы кое-что разъяснить вам на сей счет, ибо ему попали в руки письма, из коих становится ясно, откуда сей головокружительный успех. Подозрительная история, да и герой ее крайне подозрителен. Скажите, он когда-нибудь дал вам хотя бы одно экю? Заплатил ли хоть раз за катание на лодке или за билет на комедию вместо вас? Приглашал ли к себе на обед? Неужто вам не пришло в голову проверить правдивость его слов?
Фенест. Ну, разумеется, нет, к чему это?!
Эне. Находясь в Фонтенэ-ле-Конт[395], он составил завещание, согласно которому жаловал четыреста тысяч экю нескольким придворным кавалерам и дамам. Нотариус Гриньон[396], один из опытнейших тамошних стряпчих, доставил себе удовольствие изложить сию дарственную в самых торжественных выражениях, будто имел дело с документом, почетнее коего ему в жизни составлять не приходилось; однако и черновик, и перебеленное завещание так и осталось у него в конторе, ибо ни один из указанных в нем наследников не пожелал отдать и двадцати су за копию. Даже завтрак, устроенный по этому случаю, пришлось оплатить, продав ливрею его слуги. А ведь он еще бранит пуатевинцев, называя их прижимистыми скрягами. Я же своими глазами видел в кабинете моего соседа восемнадцать или двадцать писем из тех, что он и по сей день продолжает получать от самых знатных придворных особ; в письмах этих они поручают ему защищать их права на случай большого дележа, для наблюдения за коим даже послан сюда специальный человек; вообще в деле этом множество несообразностей, однако не следует распространяться о них вслух, дабы не порочить властителей наших. Более я ничего не скажу, но, почитая за честь и удовольствие посещение ваше, чувствую себя обязанным отговорить вас от этого, несомненно, опасного путешествия, как отговаривал от него всех, кто хоть немного верит мне и следует моим советам.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Продолжение истории о Делорме
Фенест. Башка господня! Ну и огорошили же вы меня – никак не меньше, чем тогда, когда обратили мое пророчество в самую пошлую обыкновенность! Кой черт! Ведь удалось же ему обвести вокруг пальца стольких умных людей, да еще приближенных... к Солнцу!
Эне. Близость к Солнцу, скорее, ослепляет, нежели просветляет. Мы, деревенские жители, видим все куда яснее – издалека-то оно судить легче. Итак, этот кавалер, коего здесь величают то Адмиралом (ибо он намерен командовать флотом), то графом де Мараном (он как будто собирается купить этот замок), а то еще маркизом де Бель-Иль[397], или де Рэ[398], или графом Олеронским[399], или Королевским наместником в Бретани, беспардонно присваивает себе любой, какой ему только вздумается, титул. Совсем недавно он пригласил на местный праздник трех герцогов, назвав их своими кузенами; вдруг один каменщик, увидавши его за столом, хорошенько порылся в памяти и наконец припомнил его, а припомнив, выволок из залы за штаны с криком: «Эгей, кузен, а как насчет тех восьми ливров, что вы получили вместо меня, когда мы с вами батрачили в Бриссаке[400]?» Герцоги, коих Делорм[401] столь хитроумно «прикузенил», сочли излишним вмешиваться в потасовку, затеянную по случаю столь давнего «кузенства», но, расставшись с Делормом, принялись разузнавать подноготную этого молодчика, якобы желая посвятить его в рыцари Святого Духа[402], и разведали, что отец и брат его живы-живехоньки и благополучно работают каменщиками где-то близ Крана[403]. За сим прискорбным происшествием последовало другое: один неотесанный фламандец, попав в дом Марана, вместе с зуботычиною преподнес Делорму неопровержимое доказательство того, что все пираты, на коих тот ссылался, носят либо вымышленные имена, либо подлинные имена тех, кто давным-давным помер. Эти сомнительные истории, эти грубые стычки, пинки и затрещины – словом, все, что выпало на долю сего достопочтенного сеньора, побудили меня отговорить от совместного путешествия с ним нескольких молодых дворян, в коих принимаю я участие и чья гибель сильно опечалила бы меня; таковая забота не помешала, однако, некоторым участникам этого дела разорвать со мною дружбу: хитрец Делорм через двух-трех своих шпионов узнал о предпринятых мною шагах и в отместку употребил низкие наветы, причинив тем немалое зло и натравив на меня тех, кто злом и добром повелевает. О шпионах же могу лишь отозваться словами Тацита[404]: «Genus hominum semper satis odiosum, nunquam satis coercitum[405]». И больше я ни слова не скажу, разве только добавлю одно: специальный эмиссар, занявшийся этим делом, целых восемь месяцев донимал моего соседа, стараясь заполучить от него подлинники всех доставленных ему депеш, и, не добившись желаемого, сделал внушение, попахивающее угрозою, буквально в следующих выражениях: «Сударь, вы оскорбляете самый великий и почетный Совет[406], какой только существует на свете, противореча вынесенному им решению; вы имели случай убедиться, что законность сего предприятия подтверждена важнейшими подлинными документами, однако, надеясь выставить себя умнее прочих, хулите и порочите людей, написавших сии послания, в то время как вам надлежало бы следовать их примеру и подавать помощь в столь многообещающем деле, употребив на то все средства и влияние ваше; итак, я жду вашего ответа и объявляю, что помещу его в своем рапорте». На что сосед мой возразил: «Сударь, благоволите объяснить мне, отчего документы, которые почитаете вы столь важными, должны стать таковыми для всех нас? Что же касается до примера, коим я, по словам вашим, пренебрег, то заверяю вас, что следую действиям господ из Совета самым наипунктуальнейшим образом, – они не пожелали лишить Жана Делорма его титулов, равно как не сочли нужным потратиться на него; стало быть, и я согласен величать означенного Делорма господином Адмиралом, но денег моих ему не видать – ведь и Совет не дал ему ни полушки!»
Фенест. Ну, вы меня разбили по всем статьям! Правду сказать, мне сразу показались подозрительны две вещи: первое – то, что он не умеет ни читать, ни писать, а второе – он ни разу не показал ни клочка бумаги, написанной теми, чьим послом себя называл.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
О графе из Манля
Фенест. Что ж, придется ехать ко Двору, поглядеть, как там продвинулось это дело; ежели я и тут упустил, надо будет выбирать из двух одно – либо наниматься в «тысячеливровые прихлебаи»[407], либо в шпионы; мне известны среди них такие, что продают свое шпионство весьма недешево.
Эне. О, на многое не рассчитывайте, вступив на эту дорожку; могу смело предсказать вам, чем окончится первая же ваша экспедиция в наши края: боюсь, не оказалась бы она столь же смехотворною, как путешествие одного графа из Манля[408].
Фенест. Кто таков этот граф?
Эне. Регистратор тамошнего суда. По смерти отца унаследовал он десять тысяч ливров, из коих восемь тут же спустил, загуляв в компании мошенников, на оставшиеся же две тысячи нанял свиту из тех же мошенников, приятелей своих по кутежам. Старшим из них был господин Леметр, дворецкий; второй – сеньор Франческо, конюший, изъяснявшийся с итальянским акцентом; третий – секретарь; ну а четвертый – лакей графа. Секретарь затеял процесс от имени своего хозяина против графини де Мор[409] и семейства Комон[410] по поводу раздела наследства; он приехал в Париж, снял квартиру в одном доме на улице Тампль[411], а вслед за ним прибыл на почтовых и его господин. Секретарь встретил его и повел в дом, где были уже приготовлены зала и две комнаты, увешанные коврами; для свиты же его, еще не прибывшей, а также кухни и пажей снято было рядом, после переговоров с хозяйкою, особое помещение. Господин граф с печалью принял известие о смерти любовницы своей и вынужден был улечься в постель один, но на следующий же день, не теряя времени даром, стал изображать пылкую любовь к, мадемуазель Авуа, единственной дочери владельца дома, прослышав, что ее ждет наследство в сорок тысяч экю, не считая движимого имущества. Мать и дочь быстро свыклись со своим жильцом, которого и слуги его горячо расхваливали на все лады, особливо за то, что он так скромен для знатного сеньора. Секретарь частенько сиживал вместе с обеими дамами в комнате, где сквозь щели в перегородке слышно было все, что говорилось в спальне его господина. И вот однажды довелось им подслушать спор, что вели меж собою у постели графа дворецкий и конюший. «Как! – говорил сеньор Франческо. – Неужто вы осмелились бы представить монсеньорам де Люд[412], де Бурдей[413], де Рюффек[414] и де Кар[415] какую-то парижаночку как свою супругу, а этих купчишек да буржуа – как свойственников?!» – «Ну-ну, Франческо, – увещевал его дворецкий, – наш хозяин спалил все доводы разума в пламени своей любви, от коей ни тебе, ни мне его не исцелить. Так что придержи свои советы и давай-ка лучше служить нашему господину; он достаточно знатен, чтобы возвысить до себя женщину, чьи дети будут носить не ее, а его имя». Но конюший стоял на своем: «Это ты его настропалил; вот погоди, вернемся домой, тамошние сеньоры велят тебя повесить!» – «Молчи, болван! – отвечал тот. – Попробуй скажи им обо мне хоть слово, и я тебя заставлю шпагу проглотить!» Граф же унимал их, говоря с тяжким вздохом: «Ах, Франческо, сколь несправедливо судишь ты мои поступки!» А мать с дочерью тем временем шептали друг дружке на ухо: «Ох, Господи, от этих наглых итальяшек одни только напасти!» Коротко говоря, господин граф соблаговолил-таки жениться на мадемуазель Авуа, после чего первым делом прогнал от себя Франческо, наградив его сотнею экю и наобещав с три короба впридачу; секретарю досталось столько же, вместе с советом поскорее убраться домой, к своим секретарским делам, и больше сюда носа не казать. Тестя своего господин граф попросил не стесняться и располагать им вполне для устройства торговых дел в Германии, заявив, что почтет за удовольствие состоять при нем и услужать, чем возможно; нарочным же, мол, будет его дворецкий. И все бы хорошо, да только месяц спустя один крестьянин из Манля, сущий голодранец, проходил мимо дома Авуа как раз в тот миг, когда граф собирался туда войти; он кинулся за ним по улице, вопя на всю округу: «Ах, мэтр Гийом, надули вы меня, бедного-несчастного, как есть облапошили! Черт подери, до чего ж вы пышно расфуфырились-то; верно, неплохо живете-поживаете! А я видал намедни мэтра Франсуа Тибодеа (так звали дворецкого графа), которому вы задолжали восемьдесят франков, сами, небось, знаете за что!» Ясное дело, в доме поднялся переполох, мать с дочерью, услыхав такое, ударились в слезы. Отец же, который сперва был против этого брака, уняв их и взяв за руки, сказал: «Ну, довольно убиваться; рассчитывали мы заполучить в зятья знатного сеньора, а заполучили знатного ловкача, – делать нечего, надобно смириться; что же до меня, так я ловкость не меньше знатности уважаю!».
Фенест. Башка святого Арнольда! Ай да молодчина! Жаль, мне такой случай не подвернулся, не то и я удрал бы штуку... Но вернемся к моему делу; куда же мне теперь податься – в прихлебаи или в шпионы?
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
О тысячеливровых прихлебаях и шпионах
Эне. Кого это называете вы прихлебаями?
Фенест. Да людей из свиты господина Маршала, сорок или пятьдесят дворян (среди них есть даже знатные сеньоры, которым он жалует по тысяче ливров, не считая стола, и держит при своей особе; а когда они доказывают свою преданность на деле, то получают от него награду и сверх положенной).
Эне. Да кто ж это их так окрестил?
Фенест. А сам господин Маршал. Сперва хотели называть их попросту «сорок пять»[416], или «гвардия», но гвардию может держать один лишь король; потом предложили прозвище «маршальские головорезы», или «служители», но первое звучало больно уж грубо, а второе – слишком пренебрежительно;хам же монсеньор Маршал, сбираясь выезжать из дворца, всякий раз приказывал: «А ну, позвать сюда моих тысячеливровых прихлебаев!» – так оно с тех пор и повелось. Многие поговаривают, будто все принцы его ненавидят и даже будто бы ему грозит кара небесная, но при такой свите к нему никто и подступиться не смеет – прихлебаи зададут по первое число всем, кто есть в Лувре!
Эне. Ох, не скажите, наемники частенько оказываются изменниками, едва доходит до дела. Но каким же образом рассчитываете вы попасть в эту компанию?
Фенест. А видите ли, у госпожи маршальши есть конюший, которому я оказал помощь в получении пятнадцати тысяч ливров ренты; так вот, он велел мне показаться на обеде у монсеньора Маршала, пообещав меня ему представить.
Эне. Неслыханно! У какого-то конюшего – рента в пятнадцать тысяч ливров?!
Фенест. Хотите верьте, хотите нет, но это чистая правда. При дворе его зовут маленьким портняжкой, и он однажды признался по секрету нам, своим приятелям, что с тех пор, как возвеличился его господин, он накопил ни больше ни меньше как сто пятьдесят тысяч экю. Ведь господин Маршал никогда еще не пользовался такой властью, как нынче: все улицы Парижа уставлены виселицами, назначенными для тех, кто осмелится поднять голос против него самого или против его супруги.
Эне. Стало быть, виселицы эти для них и понаставили?
Фенест. Ну да я же вам и говорю, что для них!
Эне. Все может быть.
Фенест. Однако, если бы Монсеньор лишился дохода с «Полетты»[417], который, как я слыхал, собираются отменить, то он обеднел бы на целых три миллиона.
Эне. Вернемтесь-ка лучше к вашим прожектам; мое мнение таково, что коли вам повезет хоть на малое время пролезть в компанию этих самых прихле-баев, то вы на этом выгадаете несравненно больше, чем на ремесле шпиона.
Фенест. Напрасно вы так думаете; хороший пенсион и милость губернаторов тоже не пустяк!
Эне. Согласен, но занятие сие требует величайшего усердия, ловкости, хитрости, бесстыдства, да к тому же оно и небезопасно, ибо когда шпиону не о чем доносить, он должен торговать вместо истинных сведений вымышленными, и достаточно любой безделки, чтобы навек загубить карьеру и лишиться всех милостей вышестоящих и с той и с другой стороны. Я расскажу вам, как устроено общество таких людей здесь, у нас в провинции; его составляют несколько разорившихся католиков, готовых на любые мерзости, лишь бы поправить свои дела; далее, бывшие гугеноты-перевертыши и прочий сброд, что пляшет под их дудку. Главное их занятие – строчить доносы на порядочных людей, извращая каждое слово и толкуя превратно каждый шаг. Они способны отобедать у дворянина, который радушно угощает их, а после приписать ему поношение нынешнего правительства. Ежели дворянин этот занимает какой-нибудь пост, они начинают выпытывать у него, скольких прибылей лишился он за последние три года, рассказывают, в чей карман ушли эти деньги, и уверяют, что дальше дела его пойдут все хуже и хуже, сетуют на то, каким недостойным людям достаются новые пенсии, и так, слово за слово, наводят разговор на те времена, когда жив был покойный король[418] и господин Сюлли[419] всем платил щедро. Дальше – больше: бывает, им удается смутить какого-нибудь простодушного человека и сорвать с его уст жалобу на свое положение; вот этого-то они и добиваются – стало быть, не зря трудились. Если же, как это нередко случается, наткнутся они на человека осторожного, сдержанного либо хорошо знакомого с эдакими молодцами и он судит обо всем как добропорядочный француз и верный слуга короля, тогда вот что пишут они в своем доносе: «Виделся с таким-то, прощупал его; нахожу, что он не очень привержен трону, но я побеседовал с ним и наставил на путь истинный, так что в ближайшее время он не опасен». У них имеется контора в Ниоре; они величают ее Королевским советом или, иначе, Советом по сбору сведений.
Фенест. Ну как же, у меня и брат состоит в такой компании; он все заманивает меня к себе. Еще три месяца назад был голяк-голяком, а нынче – фу-ты ну-ты! – блистает вовсю. Они все ждут не дождутся, когда власти объявят конфискации.
Эне. Надеюсь, у королевских советников хватит ума не отдавать достойных людей на растерзание этим канальям.
Фенест. Ну да ведь зато они будут вознаграждены за свои труды; ведь в этой компании все больше водятся люди, которые обратились к истинной религии.
Эне. Что ж, пускай ваша Церковь их и вознаграждает.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Несколько катренов и начало истории Калопса
Фенест. Расскажу вам одну веселую историю об этом моем братце: привез он как-то в Париж восьмерых человек, которые якобы решили обратиться в католичество, да только среди них всего один и был гугенотом. Ну что, хороша проделка? Он еще и других набирает для такой же каверзы.
Эне. Все, кто любит эдакий товар, заслуживают того, чтобы быть обманутыми. Вы полагаете, истина питается эдакими мошенничествами?
Фенест. Отчего бы и нет, ведь не удивило же вас обращение четырнадцати военачальников и прочих особ такого же пошиба, которых лишилась ваша партия после смерти короля?
Эне. Нет, нимало не удивило, ибо ничего истинно ценного мы не потеряли, зато военачальники эти утратили и власть свою, и честь, и уважение собственных своих солдат с тех пор, как из полковников сделались лакеями.
Фенест. Надеюсь, вы простите мне, мсье, дерзость тех стишков, что я навязал вам.
Эне. Не беспокойтесь, сударь, мы квиты; позвольте же мне при вас взглянуть на те два последних, что вы мне оставляете.
Фенест. Сделайте одолжение: этот вот написан о даме[420], чье имя я не произнес бы вслух и за десять тысяч пистолей. Дама эта вдруг сделалась столь набожною, что причащалась каждый день; кто-то из добрых людей сложил о ней этот катрен[421]. Читайте!
Эне.
Катрен сей с большим вкусом сложен.
Фенест. Второй будет поопаснее. Читайте.
Эне.
Ну что ж, штука весьма меткая! Обещайте, сударь, что, коли вам в руки попадется что-нибудь столь же острое, вы мне пришлете.
Фенест. О, разумеется, можете на меня рассчитывать!
Эне. Я же за то обещаю вам книжицу, над которой трудится нынче один из моих соседей; с ее помощью вы сможете стать душою любой компании. Это трактат, коему пока еще не дано названия. Одни предлагают озаглавить его «Костоправ», другие – «Эскулап». Там повествуется об одном здешнем бароне, который, подобно Дон-Кихоту[423], пускается в странствия, с тем чтобы возродить рыцарство, с каковой целью объезжает страну, дабы защитить честь знатных сеньоров и призвать к повиновению мелкопоместное дворянство; в результате с ним приключается множество всяких историй, столь забавных, что, ручаюсь, над этой книгою вы не заснете.
Фенест. Мсье, на коленях умоляю вас, расскажите что-нибудь из этой книжки; пусть ваш рассказ будет мне прощальным подарком на дорогу.
Эне. Я прочел ее всего два раза, но, дабы поощрить вас к присылке новинок, пожалуй, расскажу вам начало и конец истории этого барона. Итак, одного барона по имени Калопс[424], родом из наших краев, принадлежавшего к богатому и знатному дому, господина весьма образованного и успевшего еще в молодые лета повоевать, в дни мира нежданно одолели раздумья, отчего он сделался ипохондриком (не подумайте только, что это было у них в роду). Вот однажды созвал он в гости друзей, наиболее согласных с его образом мыслей, большей частью богословов и врачей, и, усадив их отобедать, выложил все, что его заботило, а именно: он, мол, видит, что дела в государстве из рук вон плохи, что самые возвышенные добродетели не находят поощрения, и потому просит всю компанию незамедлительно высказать свое мнение о том, почему все в стране идет кувырком и нет ли средства поправить дело; все это высказал он столь горячо, как будто Франция была его личною вотчиной.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Мнения, высказанные членами совещания. Принятое решение
Кто-то из присутствующих повторил высказывание покойного Сегюра[425] о том, что в Турции на сумасшедших всегда смотрели как на пророков, отчего турецкая империя и процветала; таким образом, дела во Франции пошли бы намного лучше, коли бы пророчествам Брокара[426] давали больше веры. Засим помянули Ренардьера[427] и под конец сошлись на том, что знатному дворянину не уделяется должного почтения и что все несчастья Франции происходят от Бретонских анналов[428]. Вспомнили о той книжице, в коей предлагалось набрать сто двадцать тысяч надзирателей, дабы привести к повиновению офицеров, взявших слишком много вольности. Губернатор провинции, тут же присутствовавший, утверждал, что, будь он канцлером, страна не пришла бы в такой упадок. Один шут гороховый, по имени Фошри, которого даже не допустили сесть за общий стол, кричал из-за спин обедавших, что ему довелось прочесть у Бодена[429], будто государства приходили в упадок по причине небрежения танцами, и грозился отныне плясать только за деньги, добавляя, что в конце концов Франция его потеряет. Доводы его были решительно отвергнуты, ибо среди членов сего собрания не нашлось любителей выделывать антраша. Тут и сам барон де Калопс вступил в общую беседу, пожелав узнать мнение мадемуазель Севен[430], – пусть скажет, не гибнет ли мир по недостатку паломничеств[431]; в то же время Грандри[432], что из-под Мелля[433], кричал во все горло о том, что ежели мир и погибнет, так это, напротив, из-за того, что чересчур много развелось духовенства. Слова его были опровергнуты госпожою де Бонневаль[434], также принимавшей участие в совете; она, помянув о процветании Англии в царствовании королевы Елизаветы[435], заявила, что и во Франции следует установить женократию. Барона разгневали эти речи. «Боже ты мой! – вскричал он. – Да это все равно, что установить шлюхократию на манер Принца-Недотепы из Ларошели!»[436]. Столь же мудрым оказалось мнение некоего почтенного господина из Клиссона[437], утверждавшего, будто все гибнет из-за того, что ныне перестали употреблять синеголовник[438]. «Сюда же добавил бы я и буквицу[439], – сказал он, – ибо эти две травы отлично прочищают мозги, а подданными с прочищенными мозгами и управлять легче». Гариг, автор «Краткого альманаха»[440], напечатанного на тридцати четырех дестях бумаги, также вознамерился вставить слово, но был прерван Константеном[441], который объявил следующее: «Поверьте, господа, что все ваши речи скорее побудили бы меня согласиться с мнением мэтра Жерве, философа из Манье»[442].
Фенест. Мне рассказывали, что маршал де Бирон[443], человек весьма достойный, любил его и содержал на свои средства, хотя и поколачивал, когда тот ему противоречил; он признавался сыну маршала, что отец его приходит в ярость по десяти раз за вечер. Этот самый Жерве однажды получил от некоего дворянина пинок в зад, сопровожденный насмешкою: «Эй вы, философ дурацкий!» – каковую, не раздумывая, парировал так: «А вы, стало быть, дурацкий обидчик!»
Эне. Да, сударь, это он самый. Но не будемте отвлекаться в сторону и забывать о совете, мы ведь еще не выслушали все мнения до конца. Итак, сей мудрец выдвинул тезис о том, что мир гибнет от пренебрежения к грамматике, ибо само это слово «грамматика» происходит от «grandis mater»[444], а значит, наука сия способна даровать своим детям благополучие и процветание, когда бы они относились к ней с должным почтением. Ведь именно благодаря ей мы можем понимать друг друга. Небрежение же грамматикой ведет ко взаимному непониманию, а непонимание чревато раздорами, войнами, разорением целой страны, ergo[445], причина всему – недостаточное изучение оной науки. «Но притом я желал бы, – продолжал мэтр Жерве, – чтобы грамматика наша была избавлена от великого множества лишних наречий, как-то: «чувственно», «телесно», «реально», «сакраментально», «пресуществленчески»; а вкупе с ними еще и от следующих: «способненько», «удобненько», «фигурально», «спиритуально»; и еще от нескольких, особо любимых придворными кавалерами, именно: «крайне», «навечно», «ужасно». Так, например, ныне говорят: «Я вам крайне признателен, я вам обязан навечно, он ужасно как умен, ужасно как добр». Некоторые из помянутых наречий непрестанно звучали в университетах; одни заставили греметь пушки, другие не сходят с языка самых приближенных к трону и самых безмозглых куртизанов. Возьмите это словцо «удобненько» – им охотно пользуются всякие негодяи и вымогатели, «удобненько» ощипывающие свою жертву, либо палач, «удобненько» прилаживающий петлю на шею «пациенту». Так же не к месту употребляются при дворе и прочие наречия; возьмите хоть «Я вас «ужасно» люблю!» или «Он «сильно» маленького роста». При этих словах барон де Калопс изменился в лице, побагровел и, не в силах более сдерживаться, швырнул об пол свою скуфейку, крича Константену: «А я вам говорю, что ваши речи крайне наглы, неприличны и, как говорил Кутон[446], начисто лишены смысла!» И он Rem acu tangere[447]: «Все непорядки происходят от того, что разная мелкая сошка не почитает знатных сеньоров вроде меня. Мне тошно, когда я, будучи при дворе, слышу: «А, виконт! Эй, маркиз! Пойдем, что ли, перекинемся в картишки!» Вот где таится «sursum atque deorsum»[448] всего зла, а те, кто думает иначе, просто голодранцы, дурни неотесанные и жулье! И довольно нам копаться в сем предмете, словно лекарь в кишках у больного; прибегнем лучше к терапии, для чего я предлагаю почтенному собранию свершить путешествие, о коем и потомство наше будет помнить; я желал бы получить на то ваше согласие, item[449], чтобы вы сопроводили его молитвами и благословениями вашими; заботу же о подготовке к сему путешествию оставьте за мною одним». Ярость, недвусмысленно написанная на лице почтенного сеньора, понудила всех присутствующих одобрить проект, если не словами, то, по крайней мере, молчанием, и назавтра же все потребное для путешествия, равно как и сами путешественники, было готово.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Путешествие Калопса
Для начала следует описать дорожное облачение барона, которое составили: пара сапог на заячьем меху, бархатные пурпурные штаны, синий атласный камзол, а поверх него коричневая шерстяная душегрейка, шерстяной же плащ с лисьего меха опушкою, четырехугольная шапка фиолетового бархата, с каждого угла которой ниспадала кисть, а под шапкою – белая пикейная скуфья до плеч, закрывавшая чуть ли не все лицо: из квадратной ее прорези торчал лишь громадный нос да таращилась пара выпученных глаз владельца. Носилки барона, обитые изнутри красным английским сукном, везли две кобылы, одна рыжая, другая вороная. Сопровождал барона его личный аптекарь, некий Ри-кле; этот трусил на норовистом муле, и на луке седла у него привешен был с одной стороны клистир, с другой – ночной горшок; остальные его пожитки, уложенные в крошечном зеленом сундучишке, тащил за ним босоногий и пеший баронов садовник. Первую остановку путешественники сделали в Арсе[450], где местный сеньор[451], родственник Калопса, принял его со всеми возможными почестями, какие полагались к сему случаю; узнав о затеянной экспедиции и о том, что цель ее состоит в исправлении нравов мелкого дворянства, хозяин намекнул, что для столь великого дела она снаряжена чересчур скромно и мало имеет блеску сравнительно с высокими ее намерениями, «ибо, – прибавил он, – не блистая обличьем, вы не сможете утвердить, как должно, авторитет ваш».
Фенест. Ага, вот видите, и вы говорите «блистать»! Но продолжайте же, я весь обратился в слух.
Эне. Итак, я продолжаю. Сеньор д’Арс объявил, что не покинет родственника в столь благородном и возвышенном предприятии и будет сопровождать путников. Следующую ночь положили они провести в Сожоне[452], который Калопс пометил на своем маршруте, желая навестить тамошнего барона, по его мнению, слишком задиравшего нос. Барон де Сожон принял его с необычайным почтением. Но старый Калопс зорко следил за отдаваемыми поклонами, реверансами, приветствиями и прочими церемониями и, чуть что, покачивал головою и подмигивал своему кузену. Когда пригласили к ужину, он позвал д’Арса выйти помочиться вместе с ним на двор и там сказал ему: «Как только мы сядем за стол, незаметно уберите от меня подальше все ножи, ибо вам известно, как я вспыльчив и гневлив». Послушный кузен не замедлил собрать все ножи на свою тарелку, после чего приступили к ужину, где наш надзиратель за нравами учинил хозяину настоящую выволочку: он, мол, и хитрец, и жулик, и гордец, вслед за чем перечислил все упущения, примеченные им с первой же минуты: и за крепостную стену-то не выбежал его встретить, и кланялся-то недостаточно низко, и, здороваясь, едва поцеловал гостю кончик мизинца, а локоть свой задрал при этом чуть ли не до неба, да и все прочее у него не по-людски, а стало быть, ему, барону, в насмешку и поношение. Обругав хозяина последними словами, он закончил упреком, что слишком долго разводили огонь в очаге и замедлили с ужином. Сожон, которому Аре успел кое-что шепнуть, рассыпался в извинениях, особенно упирая на то, что оробел при виде столь знатного сеньора. Войдя в спальню, барон похвастался своему кузену тем, как быстро удалось ему поставить на место строптивого хозяина, который, в знак своего раскаяния, назавтра присоединился к экспедиции, дабы участвовать в исправлении себе подобных. Ну-с, далее в книге повествуется об этом прекрасном путешествии: как барон арестовал охотников, как наказали пажа, продырявившего его ночной горшок, что произошло у них при встрече с другою экспедицией, еще более нелепой, чем его собственная, как прошел Совет в Шервё[453], как барона чествовали в Шеф-Бутоне[454]. Не стану пересказывать вам всю книгу целиком, вспомню лишь последнюю главу – ведь вы желали узнать конец этой истории. Итак, долго ли коротко ли, пожаловали они к Риу[455], зятю нашего исправителя нравов, где барон уже ни к чему не смог придраться; однако, к несчастью, среди ночи один из хозяйских спаниелей начал скулить и выть, и барон, весьма любивший поспать, растолкал Арса, крича, как на пожаре: «Идите и прикажите немедленно прикончить этого пса, а здешнего псаря задушите!» – «Будет сделано», – отвечает Аре. Сойдя вниз, он поболтал немного с Риу, а затем, поднявшись в спальню, доложил, что пес мертв и что псарь принял смерть с величайшей радостью, во искупление вины своей, ибо оскорбил величие господина барона. «Поистине, – сказал Калопс, – мне даже жаль его; я сразу вспомнил, как умерщвляли людей по приказу Папы Сикста[456]. Он отвечал родственникам осужденных, моливших о помиловании: «Andate, confortatelo, accioche moia allegramente; io li mando la mia benedizione»[457]». К несчастью, едва барон вновь уснул, как завизжали и залаяли еще четыре собаки. Сеньор, довольный предыдущими успехами, так спешил покарать виновных, что схватил палку и в одной рубашке вбежал в спальню своего зятя, где, откинув полог, закричал: «Болван, предатель, жалкий мошенник!» Это была, так сказать, прелюдия, после которой барон пустил в ход палку, а Риу – кулаки; жена его, пробудившись с опозданием, ибо была туга на ухо, кинулась на подмогу мужу и вцепилась родственнику прямо в его заповедный стержень, он же, позабыв обо всем на свете, схватил ее за горло. Аре и Риу едва разняли дерущихся, вылив на них ведро холодной воды. Схватка закончилась, но ничто – ни мольбы, ни раскаяние хозяев – не смогло утолить жажду мести нашего реформатора. Он велел подать себе экипаж, помчался прямиком в Понс, прибыл в замок на заре; не дожидаясь, пока об его приезде доложат хозяйке, его кузине[458], ворвался к ней в спальню и, не глядя на то, что дама не одета, потащил ее отправлять правосудие. Прибыв с нею к судье, он водрузил на нос очки и повелел всем присутствующим также надеть свои, вслед за чем, схватив за руки стряпчего и даму, воззвал к ним: «Вы, прокурор и знатный дворянин, и вы, почтенная моя родственница, я соединяю ваши руки и требую, чтобы этими самыми руками вы обследовали, во имя справедливости, сей благородный орган, что носит ныне следы жестоких побоев, каковые побои вы обязаны засвидетельствовать, а равно и подтвердить, что злейшие враги мои намеревались с корнем вырвать помянутый орган из моего тела, ибо его посредством должен был плодиться и размножаться славный род Понсов, ведущий начало свое от самого Помпея!»[459]. Дама и стряпчий вырывали руки, не желая дотрагиваться до срамных мест; госпожа де Понс рыдала в голос, судья Колино[460] увещевал старика, и оба доказывали, что он сможет добиться справедливости и без сего освидетельствования, каковое лишь опорочит честь дамы и правосудия. Но барон, выхватив кинжал, висевший на поясе у Колина, приставил его к горлу сопротивлявшихся и вынудил их, невзирая на слезы и мольбы, совершить действия, по меньшей мере, странные, а именно: пришлось им обнажить и обследовать помянутый орган, который был, надо вам сказать, синюшно-белый и виду премерзкого; только тогда удалось отобрать у барона оружие. И лишь процесс по этому делу и принятое постановление о наказании виновных несколько утешили его боль и ярость.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
История Рикле и лекаря
Вот так слепая фортуна укорачивает прекрасную книгу о столь же прекрасном путешествии. Пришлось барону возвратиться домой и послать за лекарем, который, прибыв на место, употребил все свое искусство, дабы остановить выделения, наложить примочки на воспаленное место и успокоить нервы страждущего. На следующую ночь наш больной, маясь бессонницей, вдруг спохватился, что врач-то его ходит к мессе, ибо в бытность свою гугенотом растерял было всех своих пациентов. «Как же это? – подумал страдалец. – Я не жалею трудов для спасения знатных семейств, а пользует меня какой-то nequam renegat apostatque!»[461] (так величал он обращенных). От этой мысли он пришел в такое неистовство, что тут же и принял решение. У него за кроватью припрятан был коротенький кинжал, которым убивал он слизней в своем саду; он схватил его и ринулся было прикончить лекаря, но потом решил усовершенствовать свой замысел, а для того разбудил служанку – худую, как скелет, старуху, – приказал ей зажечь свечу и идти за ним в чем есть, именно в ночной рубашке и простоволосою, не дав времени даже надеть чепец; ей же вручил он и свою шпагу, ибо заодно решил сменить род орудия. Вот как он снарядился: на левое плечо взвалил громадную Библию Жана де Турна[462], открытую на двадцатой главе Исхода[463], в правой же руке нес обнаженную шпагу, и в таком виде приблизился к кровати, где спали вместе Рикле и врач. Лекарь, проснувшись, вскочил, как ошпаренный, и, испугавшись служанки более даже господина ее, возопил: «Если ты Господь, говори; если же тот, другой, изыди!»[464]. Но тут же признал пациента своего по голосу, который рек: «Предавший тело и душу свою, сейчас ты отдашь ее Богу» Врач, сложив руки, стал умолять сохранить ему жизнь, моля о прощении и Бога, и господина барона и уверяя, что согласен быть беднейшим из здешних лекарей и завтра же вернуться к истинной вере. Калопс в это время поочередно совал ему под нос то Библию, то шпагу, затрудняясь, какое же оружие применить ему сперва – духовное или материальное, но, поскольку Библия была для одной левой руки тяжеловата, он швырнул на постель шпагу и, взяв книгу в обе руки, принялся колотить ею по голове лекаря, с воплями: «Я вдолблю тебе в мозги сии святые письмена!» Тут услышал он хохот Рикле и обратил свою ярость на него. «Рикле, – взревел он, – гнусный еретик, знай, что настал твой смертный час!» Пока он нагибался за своею шпагою, Рикле, хорошо изучивший нрав хозяина, зажал в зубах подол рубахи, растопырил пальцы и с воем закатил глаза, так что господин барон от ужаса рухнул наземь, опрокинув и служанку; тут Рикле, а за ним и врач перескочили через них и кинулись прочь. Вот так беспорядки во Франции и остались безнаказанны.
Фенест. Ага, понимаю; вы хотите сказать, что у нас слишком много врачевателей государства, которые для сего дела так же пригодны, как распятие – для игры в мяч. Когда вы получите эту книгу, пришлите мне ее непременно; ей-богу, я за нее не пожалею своей доли наследства![465]
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
ИЗДАТЕЛЬ К ЧИТАТЕЛЮ[467]:
Читатель, ты искал и нашел много забавного в сем повествовании, далеком, впрочем, от шутовства; знай же теперь, что ежели книга эта и заслуживает похвалы, то, не в обиду будь сказано автору, обязана успехом своим скорее мне[468], нежели ее создателю, который, уступив меланхолии – то ли по причине почтенного своего возраста[469], то ли из-за каких-то других невзгод, – приговорил эту последнюю книгу к сожжению[470], да столь решительно, что тщетны были и мои мольбы и просьбы тех, кто поважней меня; что ж, пришлось мне выкрасть большую часть рукописи с помощью одного приближенного к автору дворянина, и лишь после того как я пригрозил ему, что отрывки, коими я завладел, увидят свет в разрозненном и несовершенном состоянии, он принужден был согласиться, подобно той доброй матери, что уступила свое дитя другой женщине[471], не позволив разрубить его надвое. Я собираюсь также наложить руку на некоторые другие книги[472] означенного автора, которые озаглавил он τα γελοτα[473]; они написаны с еще более изысканным вкусом, нежели даже эти; как скоро достигну я своей цели, то и их отдам на суд читателей. И пусть не уверяет меня ни сам автор, ни все прочие, что забавные истории не ко времени, когда государство терпит войну и бедствия. Я в ответ повторю лишь его собственные слова: в такие времена печаль столь же неуместна, сколько страх – в минуту опасности. Засим прощайте!
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Сьёр д’Эне и сьёр де Божё[474], которого Эне принимал у себя в доме, собирались приступить к обеду, когда появился барон де Фенест – один-одинешенек и в еще более плачевном виде, чем когда-либо. Он робко вошел в залу. Эне, увидя его в дверях, воскликнул:
Эне. Ага, вот и господин барон пожаловал!
Фенест. Ваш покорный слуга, мсье, ваш покорный слуга.
Эне. Эй, там, поставьте лошадей господина барона в конюшню, да поживей!
Фенест. Ах, не затрудняйтесь, мсье, у меня нет лошадей, все мое имущество на мне, распроклятая судьба опять сыграла со мною одну из своих злых шуток. Сейчас я вам все расскажу...
Эне. Умойтесь же сперва да садитесь к столу, а рассказ ваш оставьте на десерт.
Фенест. Вот это, я понимаю, радушная встреча! Клянусь, с самого сражения в Сен-Пьере[475] я не видывал такого роскошного стола, как ваш.
Эне. Так вы явились с этого злосчастного боя?
Фенест. Именно оттуда! Вот уж где я, можно сказать, лицом к лицу повидал войну. С той поры как мне выпала честь сидеть за вашим столом, я поучаствовал в трех войнах, одна другой несчастливее: в бою на мосту Сей[476], в битве при Траоне, что в Вальтелине[477], и в Валь-Сен-Пьере[478], на границе с Пьемонтом.
Эне. И эти-то стычки величаете вы войнами?
Фенест. Почему бы и нет, ведь там сражались королевские армии, палили пушки, вывешивались белые флаги.
Эне. Отчего же вы не наняли себе лошадь хотя бы на время?
Фенест. А к чему мне лошадь, коли я пошел в пехоту, – это ведь единственный род войск, где можно и блеснуть, и отличиться, и кой-чего достигнуть. Помилуйте, ведь в кавалерии честь моя зависела от какой-нибудь несчастной животины, теперь же она в моих собственных руках. К тому же в кавалерии можно до самой смерти просидеть в унтерах – разве там до чего путного дослужишься! А вот в пехоте и жалованье недурное, и чины идут один за другим: прапорщик, капитан, наконец, и полковник; возьмите, к примеру, Арно[479]– был жалким секретаришкой и вдруг – скок! – прямиком в полковники. Одно только мне досадно – пехотинцам не положены ботфорты и шпоры, а без них тебя и за дворянина-то, пожалуй, не сочтут; то ли дело лондонские прокуроры[480] во Дворце Правосудия. Конечно, врать не стану, – когда мне случалось удирать во все лопатки, чтоб остаться в живых, меня эти ботфорты не один раз подводили; к примеру, нужно перескочить через колючую изгородь, так проклятые шпоры непременно запутаются в ветках, вот и виси башкой вниз, что твоя груша, но делать нечего – мода есть мода!
Божё. Я еще не так уж стар, но, помнится мне, в наше время капитаны и полковники не смели появиться на поле боя в сапогах со шпорами, иначе солдаты тотчас бы смекнули, что у их командира в обозе припасена быстроногая лошадка, дабы в опасный момент бросить все и дать дёру от неприятеля. Нет, наши командиры носили только гетры.
Фенест. Что ж вы хотите, сударь, мало ли нынче делается глупостей, каких в старину не бывало!
Эне. Оставимте это; послушаем лучше о приключениях господина барона во время его трех войн. С какой из них вы желали бы начать?
Фенест. Ну, ежели рассказывать, так по порядку. Начну с войны на мосту Сей.
ГЛАВА ВТОРАЯ
О битве на мосту Сей и, попутно, о моде
Фенест. Да, побывал я на мосту Сей; и мне случилось пройти целых двадцать два лье за сутки. Уж так мне жаль было миновать ваш дом, не зайдя, да я знал, что вы в отсутствии, а потому остановился у вашего мельника, где отдохнул превосходнейшим образом.
Божё. Вот вам, сударь, и еще один веский довод в пользу пехоты: где захотели, там и остановились.
Фенест. Оно так, да околеть бы на месте тому, кто выдумал сапоги и туфли на каблуках! У меня прямо язык на плечо вывалился, пока я ковылял по берегу в своих растреклятых ботфортах, что на каждом шагу застревали в рас-треклятой пуатевинской осоке. Эх, кабы не честь! – только она и повелевала мне спасать свою жизнь!
Эне. Как, разве за господином бароном кто-то гнался? Отчего должны вы были бежать?
Фенест. Бежать, бежать... Ну, не то чтоб прямо так уж и бежать; скорее, мы, как бы это назвать... ретировались. Но, уверяю вас, сердце мое пылало гневом, и я до глубины души презирал негодяев, которые кричали нам вслед: «Стой, стой, канальи!» Я даже ни разу не обернулся назад и не удостоил их ни единым взглядом; только когда уж я миновал Бриссак[481], я им издали выложил все, что о них думал. Нечего сказать, уютное местечко это Нижнее Пуату – сплошь колючие изгороди; пока переберешься через них, все ноги поуродуешь! Вот где я честил и проклинал мои шпоры – из-за них я спотыкался на каждом шагу и охотно скинул бы их вовсе, но тогда как, скажите, я сошел бы за всадника?! Не сосчитать, сколько раз летел я вверх тормашками, но куда денешься – солдат должен стойко переносить все испытания. Зато ретировались мы по всем правилам – недаром сказано: наши любого стряпчего в хитрости переплюнут, а ведь удачное отступление – та же победа.
Божё. Кто же первым побежал с моста Сей?
Фенест. Первым-то? Да наш отважный герцог[482]; он, как завидел приближение неприятеля, вмиг принял дерзкое решение – вскинул руку и закричал: «Кто любит меня, за мной![483] Спасайся кто может!» И так он славно это выкрикнул, что все мы тотчас ему повиновались, исключая одного старого хрыча-полковника по имени Буагерен[484] да кучки гугенотов, вздумавших сражаться до конца.
Эне. Век живи – век учись; вот уж никогда не думал, что клич «Кто любит меня, за мной!» может послужить для чего-либо иного, как для призыва к сражению.
Божё. А я так одобряю решение этого молодого человека. Однако вы ничего не сказали о графе Сент-Эньяне[485] – он-то, кажется, храбро сражался?
Фенест. Хоть убей, не знаю, он ведь находился по ту сторону реки.
Божё. А вы где?
Фенест. А я – на другом конце моста. Нашлись там безумцы, что рвались в бой; видно, решили прослыть храбрецами, но при первом же залпе неприятеля – ох, и смеху было! – каждый кинулся спасать свою шкуру.
Эне. Это как раз похвально; вы предпочли «быть», нежели «слыть», отчего и сидите нынче здесь, с нами, живой и невредимый. Может, теперь вы наконец уразумеете, что «быть» иной раз куда выгоднее, чем «слыть»; возьмите, к примеру, хотя бы те несчастья, что причинили вам злосчастные ваши ботфорты.
Фенест. Клянусь кишками святого Фиакра! Вы кругом правы, сдаюсь!
Божё. Помню, как насмехались мы в свое время над англичанами, которые, силясь прослыть благородными дворянами, даже на кораблях щеголяли в сапогах со шпорами, а судейские не стеснялись в таком виде и во Дворец Правосудия заходить.
Эне. Да, парижане, не в пример англичанам, худо обходятся с пришпоренными дворянами; вот и господин барон имел случай в том убедиться, когда Фервак сыграл с ним злую шутку[486].
Фенест. Эдакими шутками он и его приятели тешатся до сих пор, да и не только они, – ведь нынче почти все гвардейцы носят сапоги и, прямо скажу вам, выглядят не в пример авантажнее – точь-в-точь отставные унтера.
Божё. Мы со дня на день ожидаем, что и дамы начнут так же щеголять в сапогах со шпорами, дабы угодить велению моды и изобретательному господину Сен-Мишелю[487]. Слава Богу, кое-где во Франции остались еще судьи, которые с подозрением относятся к подсудимым, отпустившим длинные волосы[488].
Фенест. Ну отчего же?! Может статься, это вполне порядочные люди! И судьи, не уважающие их, достойны всяческого порицания. Вот эдакие же негодяи учинили в Пуатье пренеприятнейший афронт одному храброму капитану из Лиона. Все эти мошенники и сутяги до смерти завидуют настоящим кавалерам.
Божё. Какой же афронт они ему учинили?
Фенест. Да приказали содрать с него все кружева, и украшения, и платье красного сукна, после чего провели по городу в чем мать родила.
Божё. Глупцы следуют моде повсюду, такие люди глядят на мир сквозь кружевную тряпицу.
Фенест. Я вижу, господа, вы осуждаете нас за то, что мы носим длинные волосы, завитые, как у дам. А ведь зря, ей-богу! Разве не было установлено, что выездные лакеи при дворе должны носить волосы, равно и парики, до плеч, манжеты до локтей, штаны до пят, повязывать на шею, на шляпу и под нее алые ленты; и не было ли установлено также, чтобы все мы брили подбородки[489] и соблюдали прочие нововведения, точно как педанты старых времен. Да, кстати о манжетах: случилось мне как-то раз обедать у господина видама[490], и вдруг сосед мой по столу, какой-то безмозглый капитанишка, приняв мои манжеты за салфетку, давай вытирать об них свои лапы; я бы, конечно, вздул его, но что возьмешь с невежды! А касательно длины волос, повторю хоть сто раз и вас приглашаю со мной согласиться: короткие волосы, не прикрывающие даже ушей, – чистый позор для кавалера!
Божё. А я вам повторю, что сия новая мода завезена к нам из Гаскони и что некоторые следуют ей не для того, чтобы прикрывать уши, но, напротив, желая скрыть отсутствие оных.
Фенест. Ах, сударь, я вам так скажу: надобно погрузиться в себя, отрешившись от таких мелочей, как глаза или уши, и все созерцать или слушать не иначе как с пренебрежением, ничем не отвлекаясь от внутренних раздумий.
Божё. Однажды Король, проезжая к морю через Гренобль, спросил у тамошнего епископа, как же он наставляет дам-прихожанок, ежели те украшают себя буклями, называемыми «финтишлюшками», и весьма крепко выразился по поводу сей развратной моды.
Фенест. Тут вы правы, наш король привержен одному только военному искусству, а моды с войнами не очень-то в ладу: каски не налезают на длинные волосы, букли мешают застегнуть кирасу, голова велика, точно пивной котел, да и весит не меньше; вот отчего один из королевских конюших[491] накропал весьма смелый стишок, осмеивающий эти самые «финтишлюшки»; послушайте его:
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О второй битве и поражении при Вальтелине
Фенест. Я спустил все свои денежки в игре и даже в долги залез; жить мне стало совсем не на что, вот я и пошел к монсеньору де Во[492], адъютанту, да и завербовался в армию, что шла сражаться в Вальтелину[493]. Таким-то манером и удрал я из Парижа. Сперва мы прошли по Швейцарии. Ах, кто видел эту страну, тот может смело похвастаться, что побывал в раю! Будничные обеды длятся не менее четырех часов, а уж праздничные ужины – целых двенадцать. Правда, не так давно швейцарские гугеноты произвели реформу и сократили время торжественных трапез до шести часов. В Солюре повстречался я с одним толстяком, королевским капелланом, – я хочу сказать, капелланом швейцарцев короля[494]; вот он-то как раз и внушил мне горячее желание записаться в пехоту; вы с ним, случайно, не знакомы?
Божё. Знаком, и даже коротко; могу, ежели хотите, рассказать вам о нем один анекдотец.
Фенест. Ах, мсье, какой же он ученый человек, даром что вот-вот лопнет от жира, и ведь всегда следует за двором только пешком! Я сам однажды видел, как он прошагал шесть часов кряду, споря на ходу по-латыни с одним гугенотом, господином Онюсом[495]; всю дорогу молол языком без остановки и даже ни чуточки не запыхался. Дважды он пристраивал меня на ночлег в Сен-Жермене[496], когда мне негде было голову приклонить, а заодно растолковал, как удобно обходиться без лошади. Но какой же анекдот собирались вы рассказать о нем?
Божё. Он придется кстати к вашим словам о пешем и конном передвижении. Рассказывали, что одна из знатнейших во Франции особ[497], носящая пурпур, отнюдь не питала отвращения к помянутому пешеходу et si dilletava della sua buona robba[498]. Однажды, когда я в компании друзей переплывал на пароме Сену, направляясь в Шату[499], вдруг увидели мы, что по берегу скачет галопом другой капеллан, который не мог к нам приблизиться, ибо паром наш уже достиг середины реки; вот почему он заорал во всю глотку, обращаясь к нашему швейцарцу, по привычке своей и здесь без умолку болтавшему на латыни: «Redi, redi, Dominus te vult conventum, et si ulterius progrediaris, acerrimas dabis poenas!»[500]. В ответ на это швейцарец закричал с парома: «Tomine, Tominatio, festra ticat Tominationi Tomini Praesoulis, quod non fiolo maehis inserfire illious praeposterae lipitini, quantoquitem ego fado petes»[501]. Тут всадник на берегу разразился проклятиями, не разобравши его онемеченную латынь, которой и на самом-то пароме никто не понял, и завопил еще пуще: «Что ты там бормочешь, балаболка косноязычная! Гляди, как бы тебе хлыста не отведать!» На каковую угрозу наш брат-толстяк отрапортовал: «Шорт фосьми! Тай тфой клыст тфой лошать, а на мой спина не поестишь!»
Эне. Опасные вы завели речи; глядите, как бы какая-нибудь важная придворная птица не отнесла их на свой счет, оставимте лучше эту тему. А что, господин барон, армия, с которой вы шли в Гризон[502], была хорошо снаряжена?
Фенест. Да куда уж лучше – все солдаты одеты по моде, в прекрасно скроенных камзолах.
Божё. Вы умалчиваете о том, что люди побогаче, может, и щеголяли в «королевских» штанах, зато пешим солдатам пришлось либо оставить их дома, либо укоротить, особливо если они носили сапоги, ибо шпоры тут же запутывались в лентах и кружевах, а владелец их то и дело летал кубарем.
Эне. Да я и не об одежде вас спрашивал, а о том, была ли армия достаточно сильна.
Фенест. Нас собралось четырнадцать тысяч пехотинцев и две тысячи кавалеристов.
Божё. Это правда, сударь, их там как раз столько и было; я сам объезжал войско вместе с господином де Волькуром[503].
Фенест. Так не правда ли, мсье де Божё, ряды наши блистали красотою?!
Божё. Блистать-то они блистали, да только разгром подпортил вам дело.
Эне. Что ж там случилось, Божё?
Божё. А то, что армия, растянувшая свой бивуак на целых четыре лье, была в один прекрасный день атакована полком Паппенгейма[504]; он решил передислоцировать лагерь, и тут его офицеры, почти все пьяные вдрызг, как, впрочем, и нижние чины, сказали друг другу: «А ну, поглядим, готова ли армия к обороне?» Недолго думая, они без команд и боевых построений спустились по реке к стоянке, расположенной в и, не встретив ни малейшего сопротивления, захватили штаб; весть об этом мгновенно передалась на другие бивуаки, и вся армия, охваченная паникой, ударилась в бегство; сии храбрые воины задали стрекача и бежали от озера Комо до самой Траонны, прихватив еще, на всякий случай, лишнее лье, – у страха ведь глаза велики.
Фенест. Прежде всего, скажу в оправдание, что все наши бедные солдатики ужасно как страдали от холодного горного ветра и в тот день расселись цепочкою на солнышке, собравшись залатать и починить свои камзолы; ей-бо-гу, когда началась паника, они даже не успели натянуть их на себя и, удирая, волочили за собою по земле. Наши командиры попытались было остановить бегство, но солдаты и их с собою прихватили.
Божё. А что вы скажете о пушках? Целых одиннадцать орудий было захвачено трехтысячным полком под носом у четырнадцатитысячной армии! Неужто вам не пришло в голову вернуться на свои позиции и отбить у врага сей залог победы?!
Фенест. Во-первых, скажу я вам, из этих одиннадцати пушек только две были королевские кулеврины, еще три – простые бастарды[505], а все прочие и вовсе обыкновенные камнеметы. Что же до возвращения, то некоторые из наших ухитрились пробежать четыре с половиною лье, а кому ж под силу одолеть в один день сразу девять?! Так что мы все воротились на позиции лишь к завтраму, когда эти пьянчуги убрались восвояси. Во-вторых, поверьте, слишком многое препятствовало нашему свободному продвижению по стране (правда, об этом не каждому расскажешь!) – там ведь есть земли, куда мы и ступить-то не осмеливались, ибо одни из них принадлежали королю Испании, другие – самому императору. Кроме того, нас сильно стесняло почтение к Его Святейшеству Папе.
Эне. Однако ж противник ваш сим почтением пренебрег.
Фенест. Увы, это так. Секретарь господина маркиза[506] недаром толковал мне о том, что государственные дела – не чета военным. Мы явились туда, чтобы вести переговоры, а ведь некоторым торопыгам сейчас вынь да положь то, за чем пришли, когда, напротив, следовало действовать потихоньку да полегоньку, – ведь в таких делах надобна оглядка.
Божё. Оглядка!.. Тому нужна оглядка, кто любит ездить гладко.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
О занятиях Фенеста. Кое-что о путешествии в Италию
Эне. Итак, господин барон, вы поведали нам о трех поражениях – на мосту Сей, при Вальтелине и в Сен-Пьере; однако между поражениями случались ведь и войны, на что же тогда употребляли вы вашу решимость?
Фенест. Я было пристроился к господину герцогу д’Агарану[507] и даже готов был сопровождать его в Италию, но он оставил меня в Дофинэ под тем предлогом, что не может взять с собою по причине одного моего недостатка – у меня, мол, ноги воняют. Но я-то сразу смекнул, что это просто отговорка, а жаль – придись я ему по сердцу, увидел бы Рим и Лоретто[508]. Не желаете ли, я покажу вам сатиру на такое путешествие?
Эне. Нет, благодарю, оставим эту тему, так оно лучше будет.
Фенест. Уж как я подмазывался к герцогу во все время этих двух войн[509], где мы хорошенько потрепали господ гугенотов! Там мы отыгрались за все их оскорбления, позабавились вволю, разоряя их виноградники, и знатные господа, замечу вам, не отставали в этих проделках от простых солдат, а то и пуще их усердствовали.
Божё. Вот видите, как переменились нравы! Я служил в старой армии, и, прикажи нам военачальники совершить эдакое, мы бы мигом взбунтовались и ответили им: «Ищите дураков в другом месте!»
Фенест. О, уверяю вам, среди наших также нашлись храбрецы, ответившие дерзким отказом, но им пригрозили виселицей, а пример других дворян живо сбил с них спесь.
Божё. Спесь?! Я бы сказал, что те, кто побрезговал марать руки такими делами, заслужили рыцарскую славу.
Фенест. А это что за слава такая?
Эне. Божё прав. Существует три вида славы – божественная, рыцарская и лакейская. О божественной славе мы здесь рассуждать не станем, не о ней наша беседа. Вторая – это та, что способна parcere subjectis, et debellare super-bos[510]; и, наконец, лакейскою называю я низкую спесь, жеманство продажной душонки, пристрастие к модным тряпкам и прочей подобной дряни.
Божё. Ха! Сударь, вы забыли упомянуть la glori Bernat[511].
Эне. А вам откуда она известна?
Божё. Да я о ней услыхал на том самом празднестве в Нераке[512], где сьёр де Лашез[513], купивший должность советника, женился на девице из самого состоятельного семейства в городе. Сам Лашез был сыном крестьянина, богатого, но старозаветного, не признававшего коротких шаровар по моде. Сын докучал ему целых два месяца, натравил на старика всех друзей своих и даже нескольких священников, с тем чтобы уговорить его нарядиться в модные штаны на один только день свадьбы, где тому предстояло быть посаженным отцом. Наконец старик, чуть не плача, уступил мольбам сына, хотя и предсказал, что от этого непременно стрясется какая-нибудь беда. Вот в назначенный день облачили его в черный камзол и такие же черные штаны, пристегнутые к камзолу четырьмя булавками сзади, да еще одною спереди. Пришлось вести его к столу под руки, сам он и шагу сделать не мог. Молодой де Лашез, распоряжавшийся за столом, усердно потчевал отца самыми лакомыми блюдами. Этот тощий скупой старикашка, всю свою жизнь просидевший на одной только чесночной похлебке, увидав перед собою столь роскошные яства, вовсю заработал руками и зубами, оставляя без внимания смешки всей честной компании. Когда еще до свадьбы его сын, которого звали Берна[514], уговаривал папашу надеть модные штаны, он слышал в ответ одно: «Эге, Берна, ты, видать, славы захотел! Да пропади она пропадом, твоя слава, Берна, ишь ты, вздумал отца ославить!» Теперь же, сидя за столом и уписывая один лакомый кусок за другим, он бормотал сквозь зубы: «Ай, славно, Берна, вот уж как славно!» Обжорство заставило его крепиться и терпеть до самого десерта, но едва подали фрукты, как он вдруг скривился и начал тереть себе живот, то краснея, то бледнея. Надо вам сказать, что рядом со стариком сидел бывший у него в услужении возчик, которому он уделял часть своей трапезы. Наконец, чувствуя, что его распирает совсем уж непомерно, он вскричал: «Выведи меня отсюда, Гийо, ох, невмоготу мне!» Слуга Гийо приподнял было своего хозяина, да и сын его подбежал к нему, но поздно – пока отстегнули все булавки, старик успел наложить полные штаны; тут-то он и завопил: «Ага! Вот она, твоя слава-то, Берна!»
Эне. Стало быть, это четвертая разновидность славы, не предусмотренная нашими философами.
Фенест. Но не кажется ли вам, что слава тогда лишь хороша, когда она помогает блистать при дворе и, вследствие того, преуспеть в жизни?
Эне. Слава, помогающая преуспевать, – это, конечно, не лакейская слава, но при том лишь условии, что она побуждает вершить подвиги и добрые дела; вот тогда я назову ее славою рыцарской и солдатской, и заключается она отнюдь не в спеси и кураже, не в самодовольстве и притворстве, не в тупоумном высокомерии. Людей с таковыми качествами мы когда-то величали «шишками на ровном месте».
ГЛАВА ПЯТАЯ
Продолжение беседы о славе
Божё. Чаще всего эдаких спесивых людишек встречаешь среди испанцев. Вот вам пример: один испанец и некий солдат-гасконец одновременно прибыли в Лареоль[515], в таверну «Мопитэ». Местность эта была дотла разорена войною, и хозяин с превеликим трудом раздобыл на ужин своим постояльцам каплуна. Вот пришли они в тесную комнатенку с низкими потолками; солдат по имени Перо вошел первым, испанец же явился вслед за ним и, всем своим видом выказывая непомерную спесь и презрение к присутствующим, равно как и к птице на вертеле, изрек на закуску к трапезе следующее: «Yo me espanto de vos otros Franceses, quienes comeis los capones sin naranjas!»[516]. На что гасконец отвечал: «А я смеюсь над вами, испанцами, за то, что вы едите апельсины без каплунов». Испанец, услыхав эти слова, хохочет так, что весь дом дрожит, и усаживается за стол последним, все еще продолжая насмехаться и куражиться, тогда как Перо уже принимается разделывать каплуна. Насмешник-испанец говорит: «Рог Dios, grandes palabras рог reir! De gracia, hermano, dezirme el tu nombre, por recitar este apophtegma!»[517] – «Башка господня! – отвечает гасконец, – вы сперва скажите ваше имя, а уж после я назову свое!» – и тут он приналег на еду. Кавалер объявляет: «Verdaderamente, es la razon que el que pide el nombre de los otros diga el suyo primero. Hermano, yo me llamo Don Juan Hernandez Rodrigo de Parmentiera, senor de las Arenas de la Sierra Morena, Cavallero de Alcantara»[518]. – «Батюшки мои, сколько народищу! – удивляется солдат. – Ну а меня кличут всего-навсего Перо». Тут испанец уткнулся лицом в ладони, восклицая с притворным ужасом: «Ах, ах, ах, Перо! Ах, ах, ах, Перо, Перо! О Dios, qual nombre! Nombre dado у inventado del tiempo de Noe! Entonces el mundo tenia falta de nombres!»[519]. И он снова залился смехом и хохотал так долго, что уже исчез и каплун, коего Перо уплел в одиночку. Заметив на столе обглоданный каплунов скелет, кавалер наш поперхнулся смехом и гневно вскричал: «Quien ha comido este capon?[520]» – «Перо, – отвечал его собеседник, – а пособили ему те, кого вы тут назвали: Федериго, Родриго и прочая мавританская компания». Нашему спесивцу даже и вздуть Перо нельзя было – ведь это означало бы уронить свое достоинство; пришлось ему поужинать своим смехом да заносчивыми речами.
Фенест. Ай, хороша сказка, да и к чести нашего брата – гасконца!
Божё. Сейчас услышите и другую – о том, как пустая гордыня толкает людей на глупости. Один дворянин по имени Лабос женился в Сентонже на вдове Сен-Фора, приходившейся сестрою господину Эстранкару, человеку весьма богатому. Зять с шурином затеяли в Бордо тяжбу по поводу раздела наследства. Эстранкар совал всем подряд взятки, Лабос же рассыпался в любезностях перед судьями и этим много выигрывал, ибо судьи, расположенные к нему за приветливость, оборачивали дело в его пользу. Так, например, знал он, что прокурор, старец суровый и желчный, вдобавок маялся четырехдневной перемежающейся лихорадкою, и вот какую штуку Лабос разыграл: подослал к прокурорской скамье специально нанятого им человека, в зале же были одни писцы. И вот посланец подошел к писцам и спрашивает: «Не возьмется ли кто из вас передать господину Эстранкару, что господин прокурор срочно требует его к себе, дабы сообщить крайне важные сведения, касающиеся до процесса?» Те, кому приходилось вести тяжбы, знают, какая это великая милость со стороны прокурора. Наш великий человек награждает прибежавшего за ним писца целым экю и, запыхавшись, вбегает в кабинет настоящего прокурора, который и приветствует его самыми отборными проклятиями. Я много еще мог бы порассказать о проделках Лабоса, но ограничусь самой остроумною. В бордоском парламенте был один советник, высокомерный и напыщенный до смешного; соответственно он и держал себя со всеми окружающими. Он участвовал в заседаниях, но к мнению его мало кто прислушивался, сам же он почитал себя великим государственным деятелем и утверждал, что не жалеет сил, трудясь на благо отечества. Вам, месье Эне, я показывал его в Мон-ферране[521], когда он играл с д’Ардийоном. Вот Лабос натянул верховые сапоги, перерядился курьером, приготовил пакет, запечатанный португальскими печатями с гербами, которые сам и оттиснул португальским же золотым дукатом[522] и, явившись в девять часов поутру к нашему советнику, со множеством учтивых поклонов сказал ему: «Монсеньор, вручаю вам от повелителя моего, короля Португалии, пакет, который мне приказано было срочно доставить вам; он содержит весьма важные для вас новости. Умоляю вас, когда будете у власти, не забыть о бедном капитане Ромарене, вашем покорном слуге!» Советник читает надпись на пакете: «Монсеньору... нашему дорогому и высокоуважаемому советнику королевства Португальского и заморских колоний». И далее: «Будучи осведомлены о достойнейшей репутации вашей, добропорядочной жизни, осмотрительности, уме и опытности, что проявили вы в важнейших государственных делах, а также зная о том, из какой знатной и благородной семьи ведете вы происхождение ваше, Мы остановили Наш выбор на вашей особе для назначения на должность канцлера и главного советника юстиции Нашей как в королевстве Португальском, так и в заморских колониях, письменные полномочия и грамоты к каковой должности будут вручены вам тотчас же по прибытии вашем в Португалию. Просим вас выехать елико возможно скорее. Мы повелеваем сьёру д’Эстранкару, казначею Нашему, выдать вам четыре тысячи дукатов на дорожные расходы. Поручаем сопровождать и оберегать вас в пути Нашему посланному, капитану Ромарену, который передаст вам на словах, сколь желанно Нам согласие ваше, скорейшее прибытие и проч.» Наш «канцлер» первым делом осведомился, где живет казначей, и, разодевшись в пух и прах, отправился к нему в сопровождении надежных слуг и самого «Ромарена», который, указав ему нужный дом, живо откланялся, сославшись на необходимость доставить еще и другие депеши, с тем чтобы не задержать отъезд господина советника. Наш «великий» человек, войдя в дом, спросил комнату господина д’Эстранкара, которого нашел за письменными занятиями. И вот два «великих» человека столкнулись лицом к лицу, словно львы на каком-нибудь гербе. «Ромарен» по дороге предуведомил советника, что д’Эстранкар хитер, беззастенчив, презирает все и вся, а главное, спесив и высокомерен. Советник начал так: «Господин казначей, я нынче получил письмо от повелителя нашего, короля; согласно его приказу я должен отбыть завтра же утром, дабы иметь честь получить из рук его государственные полномочия. Надеюсь, вам приятно будет узнать, что португальский трон обретет верного слугу в лице вашего соотечественника, который не позабудет и вас, изыскав средство быть вам полезным. Прошу вас нынче же выплатить мне четыре тысячи дукатов, согласно приказу короля, который принес я с собою». Ответ ему был дан на сентонжском наречии: «Погодите, погодите, господин хороший, что это вы тут мелете? Черт меня подери, если мне хоть что-нибудь известно о портингальцах и Портингалии вашей; у меня и без того дел по горло!» Советник возражает: «Да-да, меня уж остерегали, что вы любите выставлять себя простачком и деревенщиной. Выкладывайте, однако ж, денежки на стол, да поживее, не то я вам покажу, как умею расправляться с молодцами вроде вас!» Не стану пересказывать вам все их ругательства да препирательства; узнайте лишь, что привели они к затрещине, которую вкатил казначею советник. Противник его оказался не слабее и вернул ему оплеуху с лихвою; любо-дорого было глядеть, как сражались наши титаны; наконец головорезы, сопровождавшие советника, вступились за своего хозяина. На подмогу же казначею чуть погодя сбежались хозяин дома и соседи, а «капитан Ромарен», сочинивший сей фарс, спешно отбыл на сбор винограда в Гуа[523].
ГЛАВА ШЕСТАЯ
О войне Принца; о дружбе короля и Фенеста; о Шалю; о девизе «Regnante Jesu», о древности Ланжена
Эне. Господин барон, а нам и невдомек, что вы «блистали» еще и на войне Принца[524].
Фенест. О да, я ужасно как блистал отвагою на этой войне, но я никогда не выступал против короля, разве что в тот единственный раз. По правде говоря, мы неприятеля и в глаза-то не видели. Да и в остальном, скажу вам, в партии Принца мне жилось недурственно: ни к чему не принуждали, хочешь – сражайся, не хочешь – так живи. В те дни, когда нам угодно было сделать вылазку на неприятеля, мы оставляли знамя под охраною полковых девок; а еще, помнится мне, как-то раз полк Святого Павла не нашел в окрестных деревушках проводника, так пришлось нам воспользоваться какой-то бабою. Слышим, из авангарда орут: «Живей, живей!» – а нам все невдомек, с чего это они нас торопят; потом слышим, кричат: «Быстрей давайте сюда проводника!» Они ведь думали, это мужик, – что смеху-то было! По ночам дозоры не выставляли, а кому темно, иди да подпали ближайшую деревушку, вот тебе и факел. Наши командиры тоже их палили, только на свой манер; у них это называлось «опалить деревню» – содрать с общины сотню экю за то, чтобы освободить ее от постоя. Квартирьеры получали пятьдесят экю на всех вместе, а старшие по чину – по двадцать пять экю каждый.
Божё. Вот спасибо, объяснили нам, что такое «опалить деревню»; я-то, грешным делом, думал, что это значит сжечь дотла.
Фенест. Э, нет, такое мы устраивали лишь там, где жили гугеноты.
Эне. В мое время полковнику не миновать было распрощаться с головою, оставь он незанятой деревню в расположении своей армии.
Фенест. Когда мы встречались с гугенотами, они говорили то же самое и называли эти проделки «бесстыдным грабежом», а нам наплевать – грабеж так грабеж. Вот послушайте: однажды вечером вышли мы из Шене[525], где каждый из нас подзаработал пистоль, охраняя дом какого-нибудь дворянина, в то время как наши обшаривали соседние дома. Ночь застала нас в Туринье[526], а ведь мы-то направлялись к Монсеньору Принцу в Сель[527]. Проблуждали мы чуть не до рассвета, как вдруг наткнулись на пушку, четверть лье спустя – на вторую, в тысяче шагов от нее – на третью; они-то и послужили нам как бы вешками. С нами был один старый хрыч-кетэн, дурак-дураком; он вздумал было послать одного из нас доложить о брошенных пушках, а двое других должны были торчать на дороге, охраняя их; ну и потешались же мы над ним! Помню еще тоже, как Монсеньор встал на постой в Круа-Бланш, близ Люзиньяна[528], вместе с Рошфором[529] и многочисленной свитою, и позволил также остаться ночевать одному полковнику-гугеноту; на следующее утро этот самый гугенот, видя, что никто и не помышляет вознаградить хозяина дома, оказался настолько глуп, что сам заплатил ему... Эй, паж, еще вина!.. Ох, прошу извинить меня, я забылся на минуту; так и кажется, будто я пирую в своем родном Фенесте, где мой паж остался прислуживать матушке. Еще в мирные дни, до всех этих войн, когда мы сиживали в доброй компании, у меня частенько вырывалось, стоило мне только замечтаться: «О да, Сир!» или еще что-нибудь вроде этого, – все чудилось, будто король меня по-свойски о чем-то спросил.
Божё. Вам, верно, до сих пор чудится, будто король нет-нет да спросит: «Как вы сказали, барон?» – думая, что вы тут же, у него под боком.
Фенест. О да, конечно, особливо когда речь зайдет о войне.
Эне. А вы не опасаетесь, что война, в которой вы участвовали на противной стороне, повредит вашей блестящей карьере?
Фенест. О, Его Величество слишком благороден, чтобы не простить галантному кавалеру каприз, совершенный ради дамы сердца или друга!
Божё. Вы напомнили мне о беседе короля Генриха IV с Шалю[530] из Лимузена, который разграбил один дом, соблазнил и похитил девицу из этого же дома и убил четверых или пятерых ее родственников, чьей наследницей она была. Шалю арестовали; король решил побеседовать с ним, дабы разузнать обо всех заговорах и кознях, что плелись против него в Лимузене[531], для чего и приехал к заключенному в тюрьму. Тот действительно поведал посетителю несколько историй (отчего двое из его сообщников впоследствии лишились головы), а потом, воспользовавшись случаем, завел речь и о своем деле, сказавши так: «Сир, Ваше Величество слишком благородный и галантный кавалер, не однажды испытавший на собственном опыте, сколь могущественны стрелы юного божка с крылышками, дабы строго осудить те безумства, на которые толкает сын Венеры своих подданных!» – «Я-то, может, и благороден и галантен, – отвечал ему король, – да только, боюсь, мой Верховный суд не будет столь же благороден, а канцлер – столь же галантен, как я». И верно – ровно через неделю Шалю был колесован.
Фенест. Рассказ ваш отнюдь не ободряет; ведь я рассчитывал по возвращении сблизиться с Его Величеством так же тесно, как и прежде[532]. Уж ему-го хорошо известно, из какого знатного рода происходит господин барон и чего он стоит. Однажды король посетил дом моего кузена Поластрона[533] в сопровождении своих «записных» с целью изгнать дьявола, который завладел половиною жилища и громкими воплями наводил страх на каждого, кто хотел туда войти. Кузина моя пришла в изумление, когда в дом ворвались люди, каждый со шпагою в правой руке и пистолетом в левой, но дьявол был наконец изгнан. Случилось так, что двое других моих кузенов, едучи на карнавал тем же днем, завернули по дороге в замок и предстали перед всеми в масках, с копьем у бедра верхом на конях, с головы до ног окутанных, вместе со всадниками, в покрывала из синей тафты. Ух, какой тут крик поднялся: «Дьявол! Дьявол явился!» Они было кинулись наутек, но король, вскочив на коня, догнал их в одном лье от дома и, завернув обратно, пригласил отобедать. Он в ту пору был совсем молод и ребячлив, однако, когда младший Поластрон и я прибыли ко двору, сразу все вспомнил и взял Поластрона к себе в гвардейцы.
Божё. Я находился в ту пору при Наваррском дворе и помню историю о том, как один школяр из Тулузы, захотев переспать с девицею из того дома, где он жил, вот так же переоделся дьяволом.
Эне. Вечно вы, Божё, рассказываете скабрезные анекдоты!
Божё. А вот и еще один: король отправился на любовное свидение в сопровождении Фронтенака[534]; оба закутались в белые беарнские плащи и поскакали в Жеман[535]. По пути, проезжая через Артез[536], наткнулись они на местных жителей, которые, размахивая палками с железными наконечниками, погнались за «колдунами», ударили даже в набат, и сотни две людей, кто верхами, кто пеши, с кличем: «На дело! На дело!» – преследовали короля при свете луны до самых Жеманских садов, где графиня[537], уже поджидавшая гостей, выгнала ретивцев вон.
Фенест. Н-да, забавная историйка, но я продолжаю утверждать, что Его Величеству прекрасно известно, из какой я семьи; и пусть я ныне хожу в пехотинцах, все равно остаюсь бароном де Фенестом, столь же благородным дворянином, что и сам король. У нас в Гаскони есть такой девиз: «Regnante Jesu propheta»[538].
Божё. Мне довелось однажды сидеть за столом у одной герцогини, которая привела в пример тот же самый девиз; один из ученейших дворян Франции тут же заметил ей в ответ: «Во многих местах видел я подобные девизы; старинные и почтенные эти изречения насчитывают до пятисот лет и берут начало в великом расколе, который утвердил одного Папу в Риме, другого в Равенне, а третьего – в Авиньоне[539]. Все трое достигли тогда столь высокого положения, что прославили свой век; вошло даже в обычай писать или говорить: «В правление такого-то Папы», а сеньоры, не пожелавшие принять сторону какого-либо из Пап, на вопрос нотариуса о том, что писать после «Regnante», отвечали: «Пишите «Regnante Jesu»».
Фенест. И прекрасно; однако это не противоречит тому, что я – дворянин старинного рода и старинного семейства.
Эне. Отнюдь, отнюдь, господин барон; многие ли могут доказать, что их род насчитывает целых пять веков?!
Фенест. Наш приходский кюре говорил моему дяде, что видел имя «Фенест» даже в Библии и что люди находили старинные монеты с нашим гербом еще в те времена, когда замок в Фенесте только строился. А надобно вам сказать, что старинный замок в наших краях, пусть даже последнюю развалюху, я и на Лувр не променяю! Да-да, напрасно вы смеетесь надо мною, ведь и дурак раз в год умное слово скажет.
Божё. Боже упаси, я не над вами смеюсь, просто вспомнилось, как в бытность мою в Савойе жил я близ старого-престарого замка под названием Ланжен[540]; тамошний кюре мне и говорит: «Видите, монсеньор, этот замок? Так о нем еще в Библии сказано, что он разрушен около трехсот лет тому назад, – вот какой древний!»
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
О знатности Фенеста. О Ренардьере
Фенест. Вот видите! А ведь наш род не моложе Ланженова, стало быть, и про нас в Библии тоже упоминается.
Божё. Да, в ваших краях дворянство цену себе знает и любит пустить пыль в глаза. Малое время назад был я у золотых дел мастера на Мосту Менял[541]; вдруг какой-то расфуфыренный господин останавливает коня перед его лавкою и спрашивает: «Es bous favre?»[542]. Парижанин не понял вопроса, и я отвечал за него. Тогда он, обратясь уже ко мне, спрашивает, сможет ли мастер изготовить ему хорошую печатку. Получив утвердительный ответ, он спешивается, а я задерживаюсь в лавке, чтобы послужить ему толмачом, ибо вижу, что дворянин, можно сказать, только-только вылупился из Гаскони. Ювелир вынимает грифельную доску, и заказчик принимается диктовать свои требования: «Я хочу, чтобы на печатке изображен был мой герб».
Вопрос ювелира. Слушаю, сударь; а какое поле на вашем гербе?
Ответ. Ну... изобразите мне просяное поле.
Вопрос. Слушаю, сударь; а что мы поместим в поле?
Ответ. Да меня самого, кого же еще!
Вопрос. В каком виде, сударь?
Ответ. На этом вот коне, что обошелся мне в добрую сотню экю – бордоских, конечно. А на перчатке у меня чтоб сидел молодой сокол.
Вопрос. Больше ничего не прикажете, сударь?
Ответ. Ну как же! Рядом со мною изобразите еще четырех испанских гончих с черными и белыми пятнами, да не забудьте плюмаж и пурпурный плащ!
Вопрос. Слушаю, сударь; а какой будет ваш девиз?
Ответ. С одной стороны напишите: «Вперед и только этим путем!» А с другой: «Все отдам за славу!»
Ювелир, не удержавшись, прыснул со смеху, и дело окончилось бы потасовкой, если бы несколько покупателей, оказавшихся в лавке, не удержали дворянина и не отослали его искать себе другого ювелира, поучтивее.
Фенест. Башка святого Василия[543]! Будь я там, я бы уж пособил этому господину расправиться с наглецом; как он смел глумиться над столь благородными намерениями! Ну, мой герб не такой затейливый: просто окно на лазоревом поле и девиз: «Врываюсь, как ветер».
Эне. Краткие изречения – самые меткие.
Фенест. Ах, сударь, не будь у меня других доказательств моей знатности, я бы всем показывал приговоры Верховного суда парламента, по которым одному из моих дедов отрубили голову в Тулузе за то, что он изнасиловал монашенку, а моего дядю и его сына обезглавили за убийство священника. Заметьте: обезглавили, а не повесили[544], – это само за себя говорит!
Божё. Сударь, вы ведь знавали Ренардьера[545]; он утверждал, что, будучи сам знатным дворянином, может распознать себе подобных с первого взгляда и даже на нюх, ибо у знатной особы должно едко пахнуть под мышками и еще крепче от ног.
Фенест. А ну-ка, ну-ка, понюхайте меня, сейчас я расстегнусь!
Божё. Господи, ну и вонь!
Фенест. И ноги тоже понюхайте.
Божё. Господин барон, окажись вы в Германии, где всех без разбору зовут «ваше сиятельство» или «ваше святейшество», вас наверняка величали бы там «ваше потейшество» – из-за потливых подмышек, «ваше соплейшество» – из-за того, что висит у вас под носом, и «ваше вонючество» – из-за духовитых ног.
Фенест. Да уж, верно, сыщутся такие невежи, что заявят, будто от меня несет, как от козла, а на самом-то деле, это, оказывается, запах благородного дворянина. Но вернемся к вашему Ренардьеру.
Божё. Ренардьер уверял, что во время закладки их родового замка мимо как раз проходил Геракл, державший путь в Испанию; он-то и положил в основание первый камень, так что когда понадобилось сломать угол здания, чтобы пристроить башню с часами, то в фундаменте нашли испанский квадрупль[546] и несколько мараведи[547].
Фенест. Ха! Поверьте, сударь, наш род также процветал и будет процветать впредь, невзирая на происки завистников, Ах, где оно – то золотое время, когда я приходил к какой-нибудь ветреной принцессе и роскошь моего наряда, расшитого алмазами и рубинами, выделяла меня среди толпы, тем самым, увы, препятствуя любовной удаче! Вот когда проклинал я показной блеск! Да, высокие добродетели не скроешь, это давно известно; что же касается до моей репутации храбреца, то... ах, где то время, когда мы проходили по Босу[548], осаждая враждебные нам селения, и я, как лев, первым бросался на приступ с громовым кличем: «Вперед! Прогрызем эту чертову стену!» – за что товарищи мои так и прозвали меня «стеногрызом»! Ну, об уме я уж не говорю: разве не я придумал, как разместить двадцать лошадей в пяти стойлах, так чтобы в каждом из них оказалось нечетное число?! А любовные песни на нашем прекрасном гасконском наречии! – разве не сложены они во славу всех известных добродетелей?! Мой отец – вот кто был мастер по этой части. Вам, сударь, не случалось ли бывать в Турени?
Божё. Разумеется, случалось, и вскоре опять туда отправлюсь.
Фенест. Вот как прибудете туда, зайдите в рыцарский зал; там на каминной доске написана большими золотыми буквами сложенная моим отцом «Эпитафия на рождение Анри де Ла Тура»[549]. Но вы, помнится, сравнили меня с этим самым Ренардьером, что же он?
Божё. Да ни то ни се – полусолдат-полусудейский-полудворянин; он мечтал стать адъютантом и по этой причине выкладывал королю все, что в голову взбредет. Когда были оглашены принципы представительства в поддержку кардинала Бурбонского[550], который оспаривал право наследования короны у короля Наваррского и которого чуть ли не вся Франция, за исключением городов, приверженных королю Генриху, уже величала Карлом X (всюду ходили отчеканенные монеты с этим именем), Ренардьер вдруг заявился в Королевский совет, день и ночь бившийся над разрешением данного вопроса, и потребовал выслушать его по важнейшему государственному делу. Будучи допущен пред лицо членов совета, он раскрыл громадный фолиант, принесенный подмышкой, и заявил королю, что ни Его Величество, ни советники ровно ничего не смыслят в государственных делах, а вот он, мол, изучил все прецеденты и желает разъяснить сей затруднительный казус, основываясь на Бретонских анналах[551], и с этими словами выложил на стол свой неподъемный том. Его упросили отложить чтение документов до следующего заседания; он не замедлил явиться и туда, на сей раз с еще более объемистой книгою; то был труд Гарига[552], манускрипт на сорока двух дестях бумаги, под названием «Краткий альманах». А вот еще один анекдот о нем: однажды несколько военачальников, которым он здорово докучал, поручили некоему бретонцу задержать его в саду беседою, сами же в это время отобедали без него; разъяренный этой выходкой Ренардьер явился на обед к королю и на вопрос Его Величества, что он скажет хорошенького, отвечал: «Сир, о вас я говорю хорошенькое направо и налево». – «Что же именно вы говорите?» – осведомился король. Ответ был таков: «Да то, Сир, что вы – величайший монарх в мире, ибо делаете больше самого Господа Бога, который обещает своим детям, что они будут жить лишь плодами трудов своих; вы же даруете вашим военачальникам милости за работу, в которой они ни черта не разумеют».
Фенест. Не очень-то мне по душе сравнение с эдаким наглецом; а ведь я припоминаю, что как будто где-то видел его.
Божё. Наверное, видели, я и то хотел вам сказать. Давеча вы уверяли, будто всегда дрались только на стороне короля[553]; мне же помнится, что я встречал вас в армии Генриха Наваррского, когда он осаждал Маран[554]; вы еще расхаживали там в красном суконном казакине.
Фенест. Ах, я вам сейчас все объясню: отец мой служил в артиллерии, и я иногда, забавы или скуки ради, одалживал у кого-нибудь из его солдат красный казакин, но это только так, для шутки.
Божё. Да и были вы в ту пору как будто гугенотом.
Фенест. Ну, до некоторой степени. Однако, скажу вам, многие порядочные люди впоследствии покинули эту партию из-за притеснений, которые им приходилось терпеть.
Божё. Из-за притеснений или из-за смертельной опасности?
Фенест. Да как сказать... Когда король двинулся на Кутра[555], я познакомился в Тайбуре[556] с одним весьма почтенным дворянином по имени Спонд[557], только что возвратившимся из Кутра. Он повел меня ночевать к местному кюре, сьёру д’Эшиле, и от этого ловкача я узнал, каким хитроумным способом он соблюдал приказ, касавшийся до примирения религий. Вот послушайте-ка об этом.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Изобретение кюре из Эшиле[558]. О различии в проповедях
Фенест. Так вот, этот самый кюре из Эшиле сперва был монахом, потом дьяконом у гугенотов, затем стал отшельником, из отшельника сделался гугенотским пастором в Бретани (притом без рукоположения), после чего угодил еще и в аббатство, и, когда граф де Ларошфуко[559] проходил мимо со своими отрядами, он вышел ему навстречу и продекламировал десятистишие, в коем умолял его пощадить сие аббатство. Граф, хорошо знавший, что это за птица, осведомился, не сочиняет ли аббат вдобавок комедии и трагедии. Получив утвердительный ответ, граф спросил еще: «А смогли бы вы сыграть в них?» – «Разумеется, монсеньор», – отвечал монах. «Охотно верю! – усмехнулся граф. – Вы ведь в своей жизни исполнили столько ролей!» И с тем отправил просителя восвояси. Наконец получил этот монах приход в Эшиле и сделал одного протестанта – из смирных – тамошним сеньором. Когда кто-нибудь из прихожан приносил ему ребенка на крестины, он поступал так, как это пространно описано в «Исповеди сьёра де Санси»[560]. Я всегда восхищался ловкостью этого хитреца: папистов он крестил и венчал на католический манер, гугенотов – на протестантский лад; вот почему я и выбрал себе в наставники сперва нескольких отцов-капуцинов, а после – одного отца-варнавита[561].
Божё. Ежели он был варнавитом, значит, не был женат, а коли не был женат, стало быть, вы ему не сын, а байстрюк.
Фенест. Вы чересчур прямо меня поняли; я величал их всех отцами, желая выказать почтение, а еще их зовут и докторами.
Эне. Те, кто зовет их отцами, ослушались Евангелия, ибо в одной из его глав прямо запрещается христианам называть кого-либо отцом[562], ибо имеют единого Отца на небеси; равно и доктором, ибо единственный наш врачеватель – Дух Божий.
Фенест. И все же среди них находятся преловкие ораторы; я сам решил обратиться, услышав проповедь отца Анжа[563] в Париже, на Святой четверг. Он повествовал о Страстях Господних столь жалостно, что я не удержался от слез, – толи растрогался сверх меры, толи чересчур пристально глядел в благочестивые очи старухи Мерсек[564].
Божё. Что же такого мог рассказать вам отец Анж, который нигде и ничему не учился?
Фенест. Да нет, как же, – ведь у них с кардиналом де Сурди[565] был наставник, образованнейший человек, и оба заучивали проповеди с его голоса, наизусть, но по-разному: кардинал отличался прямо-таки лошадиной памятью (так, знаете ли, мы зовем цепкую память), и он затверживал свой урок слово в слово, а отец Анж запоминал только начало, остальное же вылетало у него из головы, и он начинал разводить турусы на колесах, врал с три короба, нес чепуху на постном масле, притом, однако, так складно, что заслушаешься. Хочу заметить, наши проповедники куда как далеко ушли от ваших пастеров – этим беднягам возбраняются и аллегории, и притчи, и побасенки, и вольности, и игривости, а ведь все это ужас как украшает проповедь и приходится весьма кстати, когда есть нужда разбудить задремавшую паству; так, например, поступил Цицерон[566], который, увидавши зятя своего с громадным, чуть ли не с него самого, мечом, воскликнул: «Quis tanto generum alligavit gladio?»[567].
Эне. Таковым же образом поступил и один грек[568] прямо среди своей речи: видя, что все слушатели его уснули, он рассказал притчу о проданном осле и о его тени, в которой и владельцу, и покупателю хотелось бы поспать; продавец утверждал, что тень осла останется при нем, – он, мол, и не думал ее продавать. Остроумно было также изобретение одного монаха-францисканца, который, схватив со своей кафедры камень, сделал вид, будто собирается пустить им в голову одного мужа-рогоносца, но в последний миг опустил руку, говоря: «Да нет, куда там, на всех рогоносцев и камней не хватит!» И паства его тотчас пробудилась от смеха. Нет-нет, нашим пасторам такое не дозволено, им запрещены даже аллегории, они обязаны строго блюсти дух и букву текста проповеди.
Фенест. И все же, сударь, не мешало бы им хоть начать проповедь как-нибудь поигривее, сплести смешную байку или анекдотец. Наши-то позволяют себе черт знает что такое: возьмите хоть брата Любена – он всегда начинал свою проповедь с тезиса, который, как бы не соврать, называл «крокодиловым»[569], хотя рассказывал при этом о своем осле и волке: «Если он придет, то не придет вовсе, а если не придет вовсе, значит, придет».
Эне. В ту же компанию включите и Панигароля[570] – тот начинал проповедь следующими словами: «Я умираю из-за вас, прекрасная моя...» – и вперял взор в какую-нибудь ветреную даму, о чьих любовных шашнях знал весь свет. Он и ранее грозился опозорить ее при всем честном народе. Прихожане раскрывали было глаза и уши, но достойнейший доктор, помолчав и повздыхав, заканчивал: «...говорит Господь наш своей Церкви».
Божё. Я никогда не осмелился бы судачить о проповедниках из страха оскорбить их, но, поскольку господин барон начал первым, так и быть, перескажу вам проповедь отца Анжа, о коем вы, сударь, здесь упомянули, да и пере-скажу-то вместе со вступлением, если только вы сами не захотите поразвлечь нас, – ведь я разумею как раз ту знаменитую проповедь, произнесенную им в Святой четверг.
Фенест. Нет-нет, уж лучше говорите вы, мсье Божё; я-то, правду сказать, слыхал только первую половину, а остальное мне уж после передавали.
Божё. Ну тогда вы сейчас услышите все, что позволят вам узнать моя память и ваше терпение. Итак, перекрестившись и поклонившись, потряся во все стороны капюшоном и козлиной бородкою, преклонив колени – нырком за перила кафедры, запустив свой фальцет на самый верх, весьма благочестиво пропевши «mi, la, ut» и, наконец, трижды сплюнув, наш проповедник громогласно начал.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Проповедь отца Анжа
«Новости! Новости! Новости! (Далее следует пауза.) А какие новости? (Еще одна пауза.) О раздорах, о войнах меж знатными сеньорами; ведь всем вам любо слушать сказки о сражениях и дуэлях, а особливо приятственны они вам, господа придворные. Вы ни о чем ином и не толкуете, протирая штаны на ларях в передних сильных мира сего. Знайте же, христиане, что Господь наш сошел на землю, дабы спасти сей грешный мир и тем самым пресечь козни Сатаны, почему Сатана и заклеймил его как смутьяна, ибо сам он обладал несметными богатствами и назывался «князем церкви» по праву трехтысячелетнего владычества, и привратником храма, и владельцем кафедры Моисеевой, и главою всех синагог иудейских; империя его была видимой, генеалогия свидетельствовала о древности рода; вдобавок, его избрали главою Сорбоннских богословов в Париже, то есть, тьфу! – президентом паствы Моисеевой; конечно, кафедра его была не подлинная, но он, ясное дело, заказал себе точную копию и поставил ее на то же место, где стояла некогда настоящая. Сей прелат, блиставший драгоценной тиарою и праздничными одеждами понтифика, распространил влияние и мощь Рима чуть ли не на весь мир, силою политической власти укрепив и обогатив Святую Церковь. И вот этот тиран – тиран как над духом, так и над жизнью, – узрел приход в мир бедного Господа нашего, сына простого плотника; этот и родился-то в хлеву, и колыбелью его были ясли, и ходили-то за ним всего-навсего пара нищих рыбарей да кучка захудалых учеников, голодных и забитых, – точь-в-точь те бедолаги из долины Ангронской[571], которые проповедуют так жалобно, словно милостыньку клянчат. Уже давно господин Сатана строил всяческие козни пророкам, натравливая на них первосвященников и особливо настаивая на том, что Мессия принесет не мир, но меч, как и подобает всякому уважаемому себя воину или властелину, взять хоть Магомета; он предсказывал, что Мессия наводнит землю армиями, заблистает ярче молнии, загремит сильнее грома – словом, нагонит страху и всем пустит пыль в глаза. Так вот, когда явился этот самый Мессия, то Сатана, безуспешно попытавшись искусить его, принялся затем вовсю проповедовать против него. А тот, со своей стороны, проповедовал не меньше, и оба они трудились, не покладая рук, что в синагогах, что в пустынях; Сатана ругал Иисуса «обновленцем», «совратителем», «возмутителем Израиля», глумился над его учением и клеймил его и всю компанию апостолов как бунтовщиков. А Иисус в это время творил чудеса, изгонял бесов из одержимых, переселяя их в свиней Сатаны, и уж совсем взбесил его тем, что выгнал торговцев из храма. В тот самый день, когда Господь наш прошелся бичом по спинам этих каналий и, вследствие этого, был настроен отнюдь не кротко и миролюбиво (каковая кротость столь красочно изображена одним испанским монахом[572], живописующим искушения), Сатана начал подзуживать его броситься вниз с вершины горы, на что Иисус отвечал ему como Cavallero bien criado: «Beso las manos, Senor Sathanas, por que yo tengo escalas para bajarme»[573]. И вот, когда он стоял там, еще не остыв от гнева после только что проделанной работы, Сатана, разъяренный его сопротивлением, подошел и весьма решительно заявил ему: «Я утверждаю, что ты не сын Божий!» – «Твои зловонные уста изрыгнули ложь, – отвечал Господь, – и я готов защищать честь свою любым оружием, какое тебе угодно будет избрать». Пасторы назвали бы такие речи богохульством, но мы, католики, называем хлеб хлебом и рассказываем обо всех этих событиях так, как оно и было на самом деле. Сатана, искушенный в хитростях такого рода, поймал Иисуса на слове и потребовал, чтобы ему и впрямь предоставили выбор оружия».
Фенест. Э-э-э, вот тут Сатана дал маху – ведь вызывает-то на поединок оскорбленная сторона, зато выбор оружия должен остаться за другою. По мне, так уж лучше быть противной стороною.
Эне. О, я понимаю, вы слишком воинственны, господин барон, и ваша отвага толкает вас на бой, но не будем прерывать речь проповедника. Продолжайте, месье де Божё, продолжайте, только поменьше отсебятины!
Божё. «Итак, Сатана кинулся в ад за советом и поддержкою к самым мудрым из своих сторонников – точно как один новоиспеченный маркиз[574], что испрашивал у короля дозволения на поединок; помощники обещали Сатане, что будут ему верными секундантами и, чуть что, спрячут его в складках своих плащей. Самые старые, а следовательно, и самые опытные из чертей, хорошенько поразмыслив, изобрели Святой крест, на котором Иисус должен был позволить распять себя для боя, и обратились с сим вопиющим предложением к Господу нашему. Нетрудно себе представить, каково поначалу было его изумление, однако же, выказав отвагу, свойственную дворянину знатного рода, он все условия принял. Местом битвы выбрана была Голгофа, судьею поединка назначен Пилат, а секундантом Иисуса – честный разбойник[575], распятый ошую от него».
Фенест. Ай-яй-яй, я-то думал, хоть секундант будет со шпагою! А кого же выбрали в секунданты к Дьяволу – случайно, не святого Лонгина[576]?
Эне. Что за чушь! Лонгин был простым солдатом. Сделайте милость, не перебивайте, все равно вам остроты не удаются.
Божё. «Невозможно описать, как оторопел вероломный Сатана, увидев, что все эти козни нимало не сломили решимости его противника; тогда задумал он прибегнуть к демагогии и, дождавшись, когда страдания Господа достигли предела, крикнул ему устами своих приспешников: «Если ты сын Божий, то сойди с Креста!» Это была весьма коварная и тонкая хитрость, ибо не сойти с Креста значило подвергнуть сомнению свою божественную сущность, сойти же означало проиграть поединок, чего Господь наш никак не мог допустить, а ведь он прекрасно расслышал этого труса Сатану, который все-таки лишился чести и позорно бежал с поля битвы, хотя впоследствии раздул эту стычку в затяжную войну, прибегнув к поддержке своего гарнизона, точно так же, как наши люди поступали в Париже при столкновениях с гугенотами, когда те шли на них врукопашную. Он примчался к вратам ада весь взмыленный и давай орать, как сумасшедший: «Все на баррикады!» – ну прямо вылитый граф де Бриссак[577] на площади Мобер[578]. Тотчас молоденькие чертенята разбежались во все стороны, ища бочки; старые же принялись строить из них укрепления. Вы, парижские винопийцы, накануне последнего Великого Поста уж потрудились опростать побольше бочек, дабы пособить Дьяволу разыграть Страсти Господни! Вот видите теперь, как опасно много пить?! Это вы, пьянчуги, снабжаете чертей оружием против ангелов! Итак, баррикады были возведены, но ни к чему не успели послужить, ибо Иисус продолжил начатое дело подобно тому, как поступал и наш покойный король[579]: он не удрал от врага, как бретонцы при Фонтенэ[580], но, напротив, собрал полк из ангелов понадежнее, отдал их под начало святого Георгия, обученного сражаться с чертями, и послал ему подкрепление в виде другого бравого отряда под командованием святого Михаила, также имевшего немалый военный опыт; сам же, взвалив крест на плечо, грохнул им, как тараном, в баррикаду и с первого же раза обратил ее в щепы, разметав обломки; тут уж чертово воинство, не в силах выдержать столь ужасный натиск, поспешно отступило к следующему укреплению, которое называлось Преддверием Рая».
Фенест. Ну точь-в-точь бой на мосту Сей[581] – так и чудится, будто я сейчас там!
Эне. Да помолчите же, Бога ради!
Божё. «В этом самом преддверии армия их пополнилась теми святыми отцами, которые по своей жизни в обителях досконально изучили все адские уловки и хитрости, вследствие чего могли немало поспособствовать разгрому неприятеля. Старые черти, посовещавшись, решили бросить клич по свету, дабы призвать на помощь всех тех, кто по известным причинам нередко предается дьяволу, однако времени уже и на это недостало. Третью свою надежду возлагали они на Чистилище, но там пасторы понаделали столько брешей и дыр, что Вельзевул, коему предстояло держать оборону с легионом чертенят, даже и пытаться не стал. Будучи оттеснен к последнему своему оплоту, а именно к Аду, Люцифер поневоле капитулировал и, в возмещение убытков, истребовал к себе всех развратников и шлюх древнейших времен; однако досталось ему не больше, чем Майе-Бенеару в Вандоме[582]. Наконец, он и все его присные смиренно сдались на честное слово полководцу ангельской армии святому Михаилу, который незамедлительно приказал трезвонить во все колокола, замес-то барабанного боя, в честь того, что противник сдался в плен Принцу-побе-дителю. Когда всеобщее ликование по случаю победы закончилось, Господь наш выбрал среди пленных самых знатных особ и повелел им склониться пред Королевой-Матерью и целовать край ее одеяния. Первым подошел Адам под ручку со своей милой женушкой Евой. Иисус хотел также представить своей матери самых главных чертей, но она поостереглась глядеть на них. Встал вопрос о праздничном фейерверке, но адский огонь не был сочтен для этого достаточно чистым, огонь Чистилища также долго оставался под сомнением; наконец знатоки, что разбирались в этих делах лучше иных прочих, все же воспользовались именно этим огнем, рассудив, что он, мол, гибелен не для всех и способен порадовать множество праведников, а также весело пылать в очаге». До сих пор проповедь звучала именно так комично, однако вслед за тем проповедник пустился доказывать, что это грехи наши довели до такого сражения; следовательно, мы и являемся причиною тех страданий, которые пришлось претерпеть Господу нашему. Высказав таковое мнение, сей великий оратор закатил глаза и долго простоял молча, как бы в оцепенении; затем, придя в себя, начал повествовать о мучениях и Страстях Господних, которые он сравнил со всеми пытками, какие только смог припомнить, не говоря уж о разных хворях и лихорадках, кои присовокупил он к первым вместе с легкими ранами и недомоганиями; тут он изменился в лице и, словно вне себя от ярости, выхватил из кармана веревку, завязанную петлею со скользящим узлом, набросил ее себе на шею, вывалил на всю длину язык изо рта и уж наверняка удавился бы, потяни он чуточку сильнее. Подручные святого отца, внимательно следившие за его действиями, бросились к нему и стащили веревку у него с шеи. Стены храма прямо-таки сотряслись, столь громко возопили прихожане, которые от смеха перешли к рыданиям, от комедии – к трагедии, завершившейся эдаким жертвоприношением, без всякого, впрочем, кровопролития.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Продолжение рассказа о фантазиях, дозволенных проповедникам
Фенест. Вот это так проповедь! Не чета унылой тягомотине пасторов, что осуждают представление Страстей Господних[583], называя его «балаганом».
Эне. Все рассказанное напомнило мне об одном почтенном человеке; он был трубачом и постоянно носил под плащом трубу; звали его господин де Граммон[584]. Во время войны он служил в конных аркебузирах и прошел с армией от Плесси-де-Кон до Крана[585], а после заключения мира сделался проповедником. Племянник мой видел его в Ниоре и рассказывал, какие представления устраивал он со своей кафедры. Вся округа на три лье от Ниора сбегалась послушать его; он тоже все время впадал в транс, валился якобы без сознания на перила своей кафедры, а затем, опять вставши, выхватывал из-под сутаны насаженный на палку череп и потрясал им в воздухе, выгоняя сон их прихожан, повергая в ужас честных прихожанок и доводя до родимчика младенцев. Он хвастал ниорцам, как в бытность свою в солдатах пек на угольях и поедал сердца своих пленников-гугенотов – всё из католического рвения; впоследствии он завлек и уговорил двух мальчиков из знатных семейств отправиться вместе с ним на юбилейные торжества в Рим; более того, когда они дошли до Тулузы, заставил детей дать обет невинности и бедности. А чтобы обет сей не пропал втуне, обворовал их на сто пятьдесят экю, да и был таков. На следующий день обоих мальчиков задержали и стали допытываться, запугивая геенной огненной, куда подевали они кюренаставника, их сопровождавшего. И в этаком святом неведении бедняги пребывали до тех пор, пока не было прислано из Ниора заверенное свидетельство невинности и глупости обоих юных пилигримов, а помимо него еще и секретное – дабы не порочить Святую Церковь – письмо о том, что почтенный проповедник перед отбытием из города успел вдобавок стибрить церковные деньги, собранные на бедняков.
Фенест. И правильно поступили, скрыв эдакое непотребство. Вот принц де Гимене[586] также не разгласил того, что знал об одном капуцине, весьма почтенном и святом человеке. Этот добрый сеньор завел у себя в Бержье[587] особые помещения для всяких нищих и бродячих монахов, заявив, что настроит столько обителей, сколько есть монашеских орденов на свете, будь их, мол, не меньше, чем дней в году. Так вот, капуцин этот просидел в замке целых три дня, не принимая от эконома никакой еды – только воду, так что все простирались пред ним ниц, как перед святым. Спустя три дня бедняга-эконом обнаружил пропажу серебряного шандала и решил отправиться к Жанне-гадалке в Дене[588], а поскольку монаху оказалось по дороге, тот охотно составил ему компанию, еще и утешая эконома советами: доверьтесь, мол, Богоматери-Покровительнице или же обратитесь к святой Отыскательнице[589] пропаж, близ Суассона[590]. Именно к этой последней ходила на поклон госпожа де Меркюр[591]; она шла в одной рубашке, пешком, одна по дороге, а свита ее ехала сзади, шагах в двухстах от госпожи, как вдруг на опушке леса дама повстречала отряд из тридцати всадников. Свита ее пустилась наутек, сама же она укрылась в чаще, да так основательно, что заплутала и не смогла выбраться на дорогу; люди искали бы ее до второго пришествия, кабы не святая Отыскательница, выведшая ее из зарослей на следующее утро. Так вот, монах с экономом, пройдя три лье, набрели на глубокий ров, через который пришлось им перепрыгнуть; при этом святой отец упал и вдруг у него из рукава, чудом или как-нибудь иначе, вывалился серебряный шандал. Эконом взял монаха в плен и приволок обратно в Бержье, но добрый его господин запретил всей своей прислуге разглашать происшествие.
Эне. Ну вот, пустили козла в огород! – на ваш рассказ о праведниках я могу ответить доброй дюжиной старинных историй подобного рода, например такою: один священник начинал свою проповедь как бы тройной божбою: «Терпением, смертью, плотью и кровью... – затем, после паузы, прибавлял, – ...Господа нашего... – и лишь после долгого молчания заканчивал, – мы спасены и избавлены от ада». Я мог бы также рассказать вам о кюре из Сент-Эсташ[592], о барабанщике Беззаботных ребят[593], да и множество прочих историй, столь же древних, сколь и недостоверных, но лучше послушайте ту, за правдивость которой могу поручиться, ибо мои собственные глаза и уши были ей свидетели; это рассказ о монахе-португальце[594], который, играя в приму[595] с покойным королем[596] и еще двумя партнерами, услыхал колокол церкви Сен-Жермен-л’Осерруа[597], где должен был читать проповедь. Тут он спешно набирает оставшиеся карты, и ему приходят разом два короля; заодно он припомнил, что нынче как раз их праздник[598]; махнув на все рукой, ставит на кон половину – все трое партнеров удержали, но вдруг подвернулся ему еще один король, он и его прихватил, бормоча себе под нос: «Сукин сын буду, коли не удержу!» И удержал-таки, да еще заполучил четвертого короля, после чего, выкинув всю четверку на стол, запихнул в карман выигранные восемьдесят экю и опрометью кинулся в церковь, а следом за ним другие игроки. Проповедь свою начал он с клича: «Да здравствуют короли! Да здравствуют короли!» – а после закатил длинную хвалебную речь во славу королевской власти, где упомянул, в доказательство пользы сей власти, и святого Петра, и святого Иуду, – запись об их деяниях и по сей час видна на стене в передней герцога де Сюлли[599] в Арсенале, внизу, под распятием.
Фенест. А для чего герцогу де Сюлли понадобилось выставлять напоказ эту запись?
Эне. А для того, что он и сам не прочь был попользоваться королевскими денежками. Но дайте же мне закончить. Восславив путешествие трех царей-волхвов, он пришел в совершеннейший экстаз и закончил так: «Но эти три короля[600] привели бы, однако, церковь нашу к погибели, и, не явись вовремя четвертый, игра была бы проиграна и остались бы мы на бобах. Это король Генрих IV, коего видите вы пред собою, спас трудами своими Францию и протянул руку помощи нашим далеким друзьям-португальцам. Именно этот четвертый король, объединившись с первыми тремя, даровал нам великую радость, великую прибыль и таковую же пользу». Здесь проповедник вынужден был прерваться, ибо король, граф де Суассон[601], Монтиньи[602] и Монгла[603], то есть участники карточной партии, а с ними и ее свидетели, разразились таким хохотом, что веселье охватило все это почтенное собрание.
Фенест. Башка святого Пиго[604]! Нечего сказать, хорошенькие же истории рассказываете вы о бедных наших проповедниках; небось, о своих-то пасторах помалкиваете, хотя у них рыльце в пушку не меньше, чем у наших.
Божё. Отчего же, извольте, расскажу и о них. Не стану скрывать, что некоторые из наших пасторов также взяли моду выклянчивать себе пенсион у короля; среди них один молодец, из-под Гиени родом, решил урвать себе кус от этого пирога. С таковой целью составил он длиннейший, пространнейший панегирик в честь покойного короля, о коем и вправду было что сказать. Написав и выучив затем свою речь наизусть, явился наш пастор на заседание Синода, и, как только, согласно заведенному порядку, спросили его мнение о некоем затеваемом разводе[605], он встал, одернул на себе платье, пригладил бородку, потупил скромно взор, высморкался, прочистил горло и ударился в свой quamquam[606]. Председатель на полуслове прервал его, заметив, что он вызван не для хвалебных песнопений, но для того, чтобы прямо высказаться по сути дела. Тут-то наш молокосос и раскричался: «Оказывается, здесь есть люди, коим не по вкусу восхваления моего короля!» После такого отпора воцарилась мертвая тишина, и собравшимся пришлось в течение часа покорно выслушивать торжественную речь вплоть до заключительного Dixi[607]. Изливаясь в дифирамбах королю, оратор заодно обругал всякие политические собрания и тех, кто ищет себе других покровителей и защитников, помимо Его Величества, хотя тому и пришлось пойти к мессе, – к кому же, мол, и обращаться за помощью и поддержкою, как не к королю, зная его божественную мудрость, несокрушимую отвагу и опытность в управлении государством; далее призвал он уничтожить все убежища для гугенотов, разогнать религиозные суды[608] и упразднить мирный договор меж двумя партиями. Все присутствующие, особливо высшие чиновники и судейские, начали было роптать, но он и тут не смутился и уж совсем рьяно заклеймил тех, кто пытался заткнуть ему рот. А теперь послушайте, как отомстил ему глава тамошних протестантов: один из местных прево подвел тогда под суд нескольких фальшивомонетчиков, у которых конфисковал двести экю в монетах по десяти солей[609]; деньги эти он держал у себя в замке, под охраною доверенного слуги, сбираясь продать для переплавки. Так вот, сей ловкий плут был спешно послан в городишко, где проживал наш пастор и где имелась почтовая станция; прибыв туда и остановившись поблизости от пасторского жилища, он явился к пастору и сказал: «Король, мой господин, узнав о вашей горячей преданности Его Величеству, выразившейся в пылкой хвалебной речи, которую произнесли вы в некоем собрании, жалует вам четыреста экю ежегодного пансиона, с уплатою в два срока равными частями; он повелел мне доставить вам деньги за первый семестр, но без письменного приказа, дабы секретари его не болтали лишнего и вам не пришлось иметь дело с Белиньяном[610], этим консисторским[611] гугенотом». Отделавшись от двухсот экю, курьер отклонил даже приглашение поужинать и, пожав напоследок руку пастору, сказал: «Король ожидает от вас дальнейших услуг и отныне будет считать вас своим тайным и преданным слугою». С этими словами вскочил он на коня и исчез, не показав даже как следует хозяину своего лица. По прошествии трех недель жена пастора, с которой он поделился своею радостью и деньгами, отправилась в столицу той провинции, где и растратила немалую толику полученных денег на наряды и обновы, не забыв при том и мужа. В те времена как раз началось строгое преследование местных знатных сеньоров за чеканку фальшивой монеты, в частности именно достоинством в десять солей. Торговец, повертев в руках деньги пасторши, тотчас признал в них фальшивые и потребовал суда и следствия. Пастора упрятали в тюрьму; вот где узнал он почем фунт лиха. Допрашивают его, от кого получил он фальшивые деньги, – он не осмеливается назвать эту особу, посланца же не знает, способ передачи денег кажется более чем странным, а причина и вовсе скверная. Не в силах пролить свет на это дело, он должен стать преступником. Наконец задают ему вопрос прямо и недвусмысленно, и тут вырвалось у него, что деньги присланы королем. Тогда решено было отправить пастора в Париж, где ему, уж конечно, пришлось бы совсем худо, не вмешайся тот, кто сам и нанес удар, – глава местных протестантов. Прево, судивший юного глупца, оказался его приверженцем и за сотню экю согласился замять дело.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
О преужасных деяниях священнослужителей
Фенест. Ну вот, теперь я доволен; должен признаться, я ужасно как зол на Анри Этьена[612] с его преподлыми россказнями про Дидье Удена[613], Клода Рено[614] и Клода Пикара[615] из Амбеллена[616], что в Бассиньи[617], – первый был повешен, второго приговорили к колесованию за то, что он обольстил одну женщину, убил на глазах у ней мужа и тут же, в неостывшей постели, переспал с нею, а третий, подговорив свою мать помочь ему склонить к сожительству ее же служанку, затем убил мать, чтобы та не проболталась о его делах; словом, каких только гадостей и злодеяний не приписывал он нашим священнослужителям; но я вам, кажется, уже рассказывал, как познакомился с двумя кюре-овернцами, когда этот негодяй Дефунктис[618] засадил меня в каталажку: одного из них обвиняли в том, что он брюхат, второго же – в том, что он обрюхатил первого. Мы глазели на них и только диву давались. А еще один арестант – его звали Малидор, и он, говорят, с тех пор, как его выпустили, занялся поджогом тюрем (я-то полагаю, это им Божья кара за то, что меня упекли за решетку!) – показал нам старинную хронику, где все расписано по годам вот эдакими готическими буквами, и там говорилось: «Года тысяча четыреста восемьдесят восьмого, на тридцать девятом году правления Фридерика, в месяце октябре случилось чудо в краю Овернском, в обители Святого Бенедикта...» – а заключалось оно в том, что один тамошний монах оказался в тягости, по каковой причине был схвачен и арестован, и находился под стражею все то время, что выносили по этому случаю решение[619].
Божё. Да, все верно, у меня имеется эта книга; там указано, что случай сей описан на тысяча пятьсот семнадцатой странице; видал я и другую книгу, где повествовалось о том же самом деле вот в каких словах: «И его держали в заключении до тех пор, пока суд не решил, как с ним поступить». Сей исторический факт послужил прецедентом на процессе ваших приятелей-священников, которых, как говорят, позже утопили в одну прекрасную ночь.
Эне. Вчера я получил письмо от одного советника из Руана, вот что он пишет: «Верховный суд вынес решение послать в Понто-де-Мер[620] за священником таким-то, против которого местный судья вел процесс в пользу отцов-иезуитов, из какового процесса Суд намерен извлечь достойный пример наказания виновного. Дело состояло в том, что священник преподнес яблоко одной молодой женщине, в которую был влюблен, а та, по совету тетки, бросила яблоко свинье; не успела свинья проглотить яблоко, как со всех ног кинулась к священнику и, найдя его, больше не отошла от него ни на шаг, лезла миловаться, а к вечеру забралась к нему в постель. Брат кюре, спавший в той же постели, увидав сие непотребство, сделал ему суровое внушение и покинул дом; тогда священник послал вслед ему слугу, наказав убить брата; слуга нанес несчастному четыре или пять ударов шпагою и бросил на дороге, сочтя мертвым, однако дело выплыло наружу и справедливость восторжествовала... Жду теперь окончания процесса, дабы затем описать его вам».
Фенест. К дьяволу все эти выдумки! Однажды какой-то прохвост всучил мне книгу о мессире Луи из Марселя[621], что с помощью колдовства лишил невинности сто двадцать или более девиц; там же описаны всяческие непристойные и гадостные подробности сожительства пресловутой Магдалины с дьяволом; эту книжонку, как пить дать, накропали гугеноты. Я чуть в обморок не упал, когда прочел все это развратство, но, узнав, что и наши люди, в том числе известные вам «Меркурии»[622], которые воздают Церкви то же, что Меркурий воздавал своему богу[623], пишут подобные мерзости, тут же пошвырял все свои книжки в огонь.
Божё. Некоторое время спустя после того процесса мне случилось проезжать через Марсель; люди рассказывали нам вещи, еще более ужасные, несравнимые даже с теми, что фигурировали там.
Фенест. Но вы, по крайней мере, не станете отрицать, что правосудие свершилось.
Божё. Да просто-напросто замять сие ужасное дело не удалось; там же, где жалобы не подаются, преступника стараются покрыть елико возможно. Папа Бонкомпаньи[624] утверждал, что публичные наказания священников только компрометируют Церковь и потому применять их следует с величайшей осмотрительностью. Судите сами: некая аббатиса из Неаполя добилась разрешения и милости поцеловать туфлю Его Святейшества; она припала к его ногам, моля о суде над кардиналом Каппо ди Ферро[625] и обвиняя его в том, что он в течение года изнасиловал восемь ее монашек, из коих пять забрюхатели di buona voglia. «Et per questo, che domandate, donna?» – disse Sua Sanctita[626]. И когда она отвечала: «Che piace alia Sua Sanctita Castigarlo!»[627] – Святой отец заключил: «Castigarlo? Diavolo! Donna, non andar tanto in fretta, lasciamo far il tempo, che pur lo castigara»[628].
Фенест. А вот с братом Жакобоном, любезнейшим из наших местных проповедников, обошлись за его неукротимый мужской нрав не столь мягко: ему присудили целых два года носить на голове ослиный вьюк, а в зубах – недоуздок.
Божё. История сия нам давно известна; господин Эне, что сидит перед вами, одарил вашего кюре таким катреном:
(Я весьма раздосадован тем, что стишок сей угодил сюда, в мою книгу, ибо после издания первых трех частей напечатан был сборник стихов, куда вошел и вышеприведенный; с другой стороны, это избавит читателя от лишних трудов.)[629]
Фенест. Что ж, поделом ослу и мука! Да коли бы вы, гугеноты, оскопляли только священников и не осмеивали самое Церковь, я был бы на вашей стороне.
Божё. А вам желательно, чтобы их оскопляли? Да еще, может быть, так же умышленно, как поступил некий хирург, который отхватил сразу все хозяйство у одного кюре из Онзена[630], а тот всего только и попросил его притвориться, будто он режет, дабы успокоить ревнивого мужа своей прихожанки, за которой этот поп приударял; или так же, как поступил мэтр Пьер[631], цирюльник короля: к нему обратился священник с просьбою проверить, не грозит ли его шанкр перейти в гангрену. Мэтр Пьер произвел осмотр под прикрытием плаща. Обследовав больной орган, он сперва собрался было удалить лишь пораженные места, хотя и нашел, что воспаление зашло слишком далеко, но, осведомившись, не священник ли его пациент и получив утвердительный ответ, взял да оттяпал ему все начисто, воскликнув: «Ну так он тебе вовсе ни к чему!».
Эне. Так же ловко обошелся и один врач с капелланом из Мармутье[632], которого лечил от грыжи: он столь умело и незаметно удалил ему тестикул с больной стороны, что больной ничегошеньки не заподозрил, пока монашек, принесший ему обед, не обнаружил сию реликвию завернутою в салфетку – точно так же, как заворачивают трюфели в Сентонже, – и, по недалекости своей, спросил капеллана, не его ли это добро.
Божё. Да, господин барон прав, – церковнослужителям сей орган вовсе ни к чему, и монахи из монастыря Сен-Мартен в Туре в прошлом году вынесли по этому поводу весьма мудрое решение; жаль только, что оно коснулось лишь росписи и пошло в ущерб одному дьяволу. В благочестивом этом аббатстве есть алтарь Святого Михаила, перед которым, по обыкновению, находилось изображение сражающегося Сатаны. У этого коварного дьявола висели меж ног два огромных длиннющих тестикула – проделки плута-художника. Озорство сие было сочтено непристойным, и собравшийся совет усмотрел в нем оскорбление женской стыдливости, а равно и повод к издевкам гугенотов. Долго и рьяно спорили священники, возможно ли посягнуть на освященную картину, ибо таковые, как свидетельствует о том Ринольдус[633], трогать не дозволено; самые почтенные из них требовали запросить по этому поводу Рим; наконец большинством голосов решено было все же оскопить дьявола, тем более что после эдакой операции он не сможет произвести потомство; вменили это в обязанность самому живописцу, а заодно было ему велено посильнее затемнить этот орган – слишком уж тот бросался в глаза.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
О монашках
Эне. Да, им было о чем поспорить, – ведь упомянутый вами Ринольдус выдвинул следующий канон: «Должно поклоняться изображению не потому, что на нем мы видим святого или святую, но затем, что сие есть изображение, освященное Церковью».
Божё. Таковой принцип послужил бы хорошим извинением одной благочестивой женщине, которая, поставив свечу святому Михаилу, тут же другую свечу поставила дьяволу, чтобы и его не обидеть.
Фенест. Да и разве смогла бы Церковь так блистать без всех этих изображений?! В Жуй[634] есть один скит, называемый скитом Святого Павла-Отшельника; там на стенах часовни столько прекрасных картин, что прямо глаза разбегаются – не знаешь, молиться или любоваться.
Божё. Нет ли там еще и галереи, ведущей из часовни к парковой калитке? Я знавал одного человека, который, попав ненароком в эту галерею, заглянул в часовню и увидал подле алтаря пару движущихся изображений, из коих одно как две капли воды походило на покойного короля, а другое – на аббатису с Монмартра[635]; неосторожность сия едва не сгубила его.
Фенест. О, вот об этом я знаю побольше вашего – мне ведь довелось прожить в Жуй целых восемь месяцев и, прямо вам скажу, погуляли мы там всласть. Пока осаждали Париж[636], набожные придворные усердно осаждали аббатства Мобюиссона[637], Лоншана, Монмартра[638], Лели[639] и Пуасси[640].
Божё. Я тоже хорошо помню, что в ту пору, когда королевские лейтенанты стояли в аббатстве Мобюиссона, почти всех нас разместили там весьма удобно, и только восемь монашек никого не смогли взять на постой, так как маялись сифилисом.
Эне. Тем, кто помещает своих дочерей в эдакие гарнизоны, желая уберечь их девственность, не мешало бы выслушать рассказ одной девицы из Сент-Орс[641]: «Однажды довелось мне остановиться в Мон-де-Марсане[642]; в соседней келье ночевали две женщины-монашки; нас разделяла лишь тонкая перегородка из еловых досок, столь небрежно сбитая, что через щели явственно слышно было каждое их слово. Старшая приехала навестить сына, служившего у короля в пажах; та, что помоложе, хотела повидаться с племянником. Старшая – гугенотка – упрекала свою товарку: «Скажите, сестра моя, зачем вы отдали в монастырь бедняжку Марьетту?» Та отвечала на смеси перигорского и гасконского наречий: «Клянусь Богом, сестра моя, я хотела оградить ее от того, что мужчины носят в штанах». – «Ах ты, Боже мой! – воскликнула первая, – ну и глупы же вы, мать моя, коли ради этого заперли ее в монастырь! Господь свидетель, уж коли девушка разохотится на такую приманку, она и через монастырскую стену перелетит, словно камень из пращи!»« На таковую же тему несколько озорников-художников нарисовали картину, где изобразили множество монахинь, взобравшихся на монастырскую стену: они ловят в подолы своих рубашек те самые, лакомые для них, фрукты, что швыряют им снизу монахи всех орденов.
Фенест: Да, могу подтвердить, что в святых обителях развратничают вовсю, однако ж невзирая на это непотребство и множество новых пакостных изобретений, остались там еще люди поистине святой жизни, которые не помышляют ни о чем, кроме молитв и поста.
Божё. Вы напомнили мне одну забавную историю: король Генрих III, прибыв в гости к дамам монастыря в Пуасси[643], весьма набожным католичкам, повстречал там некую госпожу де Вентенак, что как раз в ту пору вела любовные игры с младшим Орезоном[644]. Королоь побеседовал с нею милостиво, будто со своей родственницей, и осведомился, по какой причине она тут живет; на это хитрая дама ответила, что для пребывания здесь у ней имеется свой «резон», – мол, один местный священник каждодневно наставляет и «урезонивает» ее. Впоследствии король узнал, какой такой «резон» дама имела в виду, и за эту шутку отправил ее в замок Лош[645] пожить на казенный счет.
Эне. Давно известно, что все монастыри и обители близ Парижа служат эдаким «резонам»; вот хороший тому пример. История сия случилась в ту пору, когда французская знать вынуждала короля сменить веру[646], прибегая ко всему, вплоть до угрозы образовать третью партию. Король, спасаясь от этих докучавших ему дел, находил себе убежище в монастырских обителях; вы уже знаете, как он, покинув аббатство Лоншан и аббатису его – любезную и красивую, но чересчур уж пылкую, перенес свое пребывание в Монмартрскую обитель, отчего и произошло «видение в Жуй». Однажды ввечеру маршал Бирон[647], известный своею честностью, явился к королю в Шайо[648] и довольно холодно обратился к нему: «Сир, я весьма огорчен тем, что не имею возможности развлечь Ваше Величество более приятной беседою, но падение ваше увлекает за собою в пропасть всю Францию, а вместе с несчастным нашим отечеством и всех нас, ваших преданных слуг; вот потому-то отчаяние, отверзнув мне уста, повелевает жаловаться вам на вас самого. Уже давно все прелаты нашего королевства, все принцы и высшие офицеры на коленях умоляют Ваше Величество сдержать обещание перейти в истинную веру, данное вами покойному королю[649], дабы французский скипетр не сменил владельца. Еще вчера я со слезами умолял вас о том же, и вы наотрез отказали мне, заявив, что лучше смерть, нежели измена религии, и что вы не желаете быть проклятым навеки. И, однако, мне только что доложили, что сегодня вы повернули вспять, полностью отреклись от религии вашей и сделали в угоду недостойной особе то, в чем упорно отказывали достойнейшим из слуг ваших!» – «Я?! – воскликнул король, – я сменил веру? Какие негодяи и предатели разносят эти лживые слухи и тем губят меня и вас?» Маршал в ответ: «Но, Сир, вы не можете отрицать вещь, столь очевидную и произошедшую на глазах многих людей!» Король было разгневался, но тут маршал, взяв его за руку, сказал с улыбкой: «Сир, да ведь нынче вы отреклись от религии Лоншана, затем чтобы принять веру Монмартра!» Вот когда гнев и ярость короля потонули в его хохоте и смехе всех присутствующих.
Божё. Н-да, шутка недурна, она впоследствии пригодилась иезуиту Кутону[650], когда в Авиньоне его засадили в тюрьму за то, что он обрюхатил монашку; он оправдывался тем, что совершил сие деяние, желая сравнить, чья вера лучше. Злосчастному проповеднику пришлось покинуть Авиньон и, когда он шел по улицам, за ним следом бежал всякий сброд, крича во всю глотку: «Трах – и в кандалах!», намекая на известное наказание.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
«Гротеск» в Латерне
Фенест. Вы упомянули о картине, где была нарисована стена с монашками и развратники монахи, что закидывают вверх свои «фрукты».
Божё. Да, и я вам расскажу, где и для кого она была нарисована. Граф де Ларошфуко[651], человек блестящего и игривого ума, попросил у одного из друзей какой-нибудь «гротеск», иначе говоря, комическую или же непристойную картину для своей галереи в Латерне[652]; ему предоставили на выбор целых три, а именно: «Танец», «Армейский обоз на марше» и «Процессию». Я не в силах описать их во всех подробностях, перескажу лишь то, что сохранилось у меня в памяти. В картине «Танец» не было ничего особо примечательного, кроме самых разнообразных шутовских поз[653], лиц и фигур, – например кюре, который дирижирует пляскою, закинув подол сутаны себе на плечо; вместо носа лицо его украшает трефовый туз, а жирные щеки багровы, точно шея индейского петуха; он пляшет в паре с безобразной и тощей старой потаскухой. Второй танцор отличается громаднейшим носом[654], зато у его партнерши физиономия плоская, как у бульдога; словом, вся соль картины заключена лишь в разнообразии и несоответствии жестов и лиц, причесок и одежд. В «Обозе» наблюдалось гораздо больше живости: тут припоминаются мне четыре-пять подробностей – например маркитантка с котлом, нахлобученным на задницу, с вертелом, воздетым, точно шпага, и с ложкою на месте кинжала; голову ее венчает корзина, шею обвила гирлянда из луковиц, лицо скрыто под атласной маскою. Помню еще барабанщика верхом на осле; барабан его прорван, и изнутри высунулся гусь; за ним едет казначей на неоскопленном муле, он задремал и клюет носом, за который его и щиплет гусь барабанщика; за ним денщик в шляпе с пышным султаном из перьев каплуна, он катит тележку с зеленым сундуком; за ним верблюд, а на нем в одном седле устроились вместе девица, врач, сидящий впереди нее, а позади – монах-францисканец; за ним волы тащат повозку, набитую полковыми шлюхами, – повозка перевернулась и девки попадали с нее вверх тормашками; какой-то монашек сунул голову между ляжками самой жирной из потаскух. Припоминаю еще в арьергарде обоза аркебузира на кобыле, в наимоднейшем камзоле, выкроенном так же причудливо, как нарезают утку по-пуатевински; его лицо едва виднеется из-под взбитых, кудлатых волос; за ним на рослом жеребце едет аптекарь – у этого вместо шляпы на голове красуется цедилка для гипокраса[655]. Жеребец, упираясь передними ногами в плечи аркебузира, покрывает его кобылу; перья денщика и кудель аркебузира развеваются на ветру, а потаскухи и слуги, кружась в хороводе, распевают «Жеана Футакена»[656]. Гораздо лучше помнится мне «Процессия»[657]: во главе ее, неся колокольчики, шествует Бурдей[658] со своими седыми спутанными космами; далее следует носатый канцлер[659], он тащит штандарт с девизом: «Денег – ни хрена». За ним маршируют четыре дамы – голые, если не считать набедренных повязок, какие носят дикари; впрочем, на ногах у каждой из них ботфорты, на голове каска ландскнехта с лисьим хвостом вместо плюмажа, а в зад воткнуто по три петушиных пера; дамы эти несут свечи. Дабы не лишать сию развеселую компанию музыки и красоты, четверо церковных сторожей из Сорбонны похитили знаменитую своим голосом и безобразием певицу Болье[660], а виолонистка, усевшись на кафедре и просунув руку сквозь резные перила, противу всякого здравого смысла водит смычком не по струнам, а по горбу названной Болье. Далее с гордым видом выступает плюгавый кармелит с плешью во всю голову, прозванный Dominic de Jesu-Maria[661], а с ним десять или двенадцать наизнатнейших придворных дам, которые – кто спереди, кто сзади – на ходу укорачивают ему ножницами сутану, оставляя неровную бахрому; хорошо видно, как одна принцесса отчекрыжила ему при этом кусок ягодицы. В той же процессии несут в дырявом портшезе какого-то пузатого испанца; он через дырки испражняется прямо на дорогу. За ним выступает владелица Миланского замка[662] в сопровождении карлика с непокрытой головою – он потерял шляпу, отгоняя мух от госпожи; цирюльник кардинала д’Эсте[663] вставляет ему в желудок зонд, и таким образом видно, что шляпу свою уродец проглотил. Далее идет новобрачная об руку с епископом де Систероном[664]; у каждого из них рука и нога, обращенные к другому, обнажены, вторая же рука и нога прикрыты одеждою; голова новобрачной увенчана свиною кожей, шея и грудь украшены сосисками в виде лука Амура, у епископа же брюхо окаймлено свиными колбасами; в свободной руке он несет бутыль, а дама обмахивается, как веером, бараньей лопаткою. Но вот и смена музыки: явились слепцы с флейтою и тамбурином, и выступает процессия священнослужителей, проходившая в Париже такого-то числа...[665]. Да какая, собственно, нужда мне ее описывать – вы и сами видели ее на «потешных листах», что показывают во всех знатных домах. Большинство идущих несут в одной руке фитиль, в другой – мушкет; у многих епитрахиль служит перевязью для шпаги, вот отчего именно с этого парада пошла мода носить шпагу так низко, что рукоять упирается в гульфик. Там же увидите вы монаха, которому выбило глаз алебардою идущего впереди. Весьма забавен обращенный кармелит, который тащит свое пороховое снаряжение сзади, в штанах, да и все остальное на этой картине довольно занимательно, кроме, разве, одного монаха, стоящего спиной, который выстрелом из аркебузы убивает одного из зрителей. Вверху иезуит Жонандо играет в кости, поставив на кон «Pater noster»[666] против Ламуаньоновых[667] тестикул.
Фенест. Ах, сударь, не найдется ль у вас копий с этих картин, я бы послал их своей матушке, пускай развешает в галерее нашего замка, единственно только для пикантности. На худой конец, я бы купил их у вас – надеюсь, вы не откажетесь от пары тысяч пистолей?
Божё. Сударь, вы все время нас прерываете, возьмите же труд помолчать и терпеливо выслушать до конца. Итак, на заднем плане изображена прокурорша Леклерк[668], вооруженная алебардою, которую хозяйка купила для своего супруга; она командует отрядом волонтерок, которые также несут на плечах алебарды, а еще секиры, рогатины, двуручные мечи, вилы и вилки, щипцы и скребки, какими чистят очаг. Также эти дамы держат колокольцы – из тех, что носят перед покойником. Пижна[669], сержант отряда, покинув свое место в авангарде, подходит к ним, уверяя, что они только загубят все дело, но в ответ дамы осыпают его бранью и градом камней. Наконец главная часть процессии, следующей через Пресо-Клер, едва поровнялась с церковью Святого Сульпиция[670], тогда как голова колонны приблизилась уже к тому самому месту, куда святой Дионисий принес и положил свою голову[671]. Пирожница Дескарно[672] пожелала командовать отрядом амазонок. Беда только, что дамы все решали сами и потому у них не случилось под рукою приличных случаю знамен, однако догадливая служанка господина д’Энсестра[673], сорвав зеленый шарф, который госпожа де Белен[674] заказала после смерти короля, повязала его на кончик веретена; принцессы (а они все носили такие шарфы со дня Сен-Клу[675]) раздали также и свои – либо на перевязи капитанам, либо вместо знамени. Даже герцогини де Монпансье и де Гиз[676] приняли участие в процессии, но, затертые толпою, очутились сзади и покрикивают оттуда: «Стой! Стой! Стой!» – силясь пробиться вперед. А госпожа де Невер[677], которой удалось попасть в голову колонны, кричит им: «Да не надсаживайтесь вы так, идите, где шли! Пора бы вам знать, что хромым и горбатым самое место в хвосте!»
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
О греческом свидетельстве древности рода Фенестов. О пасторе и его загадке. О дьяволе, пренебрегшем вызовом в суд. О белом камне и белом гусаке
Фенест. Вы упомянули о моем красном казакине и тем самым перебили мою мысль, как говорят итальянцы, in teste – в голове, – а я непременно хочу, чтобы вы побольше узнали о моей знатности; я уж говорил вам, что наш кюре обещал показать мне имя Фенестов в Библии, и не как-нибудь, а по-гречески написанное, – где еще вы сыщете греческое имя, хоть всю Гасконь обойдите?! Я счел это доказательство столь замечательным, что приказал выписать его из Нового Завета на особую карточку и всегда ношу в ладанке вместе с камушком, который, как я полагаю, и есть тот самый белый камень из Апокалипсиса[678]; вот она, эта карточка, читайте!
Эне. Древнее имя «Фенест» встречается во многих главах Библии, особенно часто в «Послании к Филиппийцам», глава вторая, стих пятнадцатый: «εν οις φαινεσϑε ως φωσιηρες εν Κοσμω»[679].
Фенест. Как мне растолковал кюре, это означает: «Род Фенестов воссияет в мире, как светоч». А кюре наш, замечу вам, был человек ученейший, ведь это он оконфузил пастора из Мон-де-Марсана[680], спросив у него, как звали Товиева пса[681].
Божё. Эдаким манером он мог бы оконфузить всех подряд – ведь в Ветхом Завете пес вовсе не назван по имени, да и какая в том важность?! Уж и не знаю, откуда ваш кюре выкопал его. Я читал «Иудейские древности» Иосифа[682], там тоже об этом ни слова не сказано.
Фенест. Сударь, только по горячей дружбе, которую я к вам питаю, так и быть, открою этот секрет, хотя мне было строго запрещено его разглашать, – ведь наших людей больше уважают, когда они выискивают какую ни на есть заковыристую штуковину и тем доказывают, что Писание не всегда и не везде против нас.
Эне. Ну так откройте же нам ваш секрет.
Фенест. Пса-то звали Canis[683]; сказано же в Вульгате[684]: «Canis erat semper cum illis»[685].
Эне. Поистине, господин барон, это блестящая догадка; я позволю себе подкрепить ее примером такой же изощренности мысли. Один из ваших проповедников задался целью непреложно доказать на библейских текстах, что Папа Римский должен главенствовать над всеми патриархами Востока; для этого приводил он текст из первой главы Книги Бытия, где говорится обо всех творениях Господних и о шестикратном повторении слов «И был вечер, и было утро», – он заметил, что в эти первые дни творения вечер наступал прежде утра, следовательно, запад шел перед востоком, по каковой причине империя итальянская, называемая Гесперией[686], имеет преимущество перед восточными владычествами – Константинополем и Антиохией[687].
Фенест. Что ж, бывает; конь о четырех ногах – и тот спотыкается. Вот, кстати, расскажу вам одно недавнее происшествие в Тулузе. Случилось так, что один бедолага подал жалобу господам из Парламентского суда о том, что дьявол искушает его заложить ему душу и тело, о чем и заставил несчастного подписать с ним договор. Суд послал Сатане вызов на разбирательство дела и, за неявкою ответчика, заочно приговорил его к возврату договора. Один из моих кузенов, как раз собравшийся перейти в католичество по причине взятия Памьеса[688], шутил, что дьявол, видать, не пожелал судиться в смешанной палате[689]. И что бы, вы думали, этот дурак божевольный вывел из сего казуса? А то, что дьявол не может быть гугенотом, раз он не подчинился решению благоприятствующей гугенотам палаты, а значит, неверно то, что пообещал доказать варнавит[690], именно: будто гугеноты стакнулись с дьяволом. Выведя для себя столь глубокую истину, он раздумал обращаться в католичество.
Эне. Это еще не все, господин барон, вы ведь обещали по дружбе ничего от меня не скрывать, так извольте показать тот белый камешек, который считаете столь драгоценным залогом спасения души.
Фенест. Не могу вам отказать, только прошу вас, посмотрите из него издали, не трогая руками.
Эне. Это я вам обещаю.
Фенест. Ну так вот он.
Божё. А для чего же вы сняли шляпу и перекрестились?
Фенест. А как же! Принято ведь обнажать голову и перед реликвиями поскромнее этой. Вглядитесь-ка пристальней: на нем есть такие же пятна, как на Луне.
Божё. И дорого он вам обошелся?
Фенест. Признаюсь, весьма дорого.
Божё. Ежели вы отдали за него больше, чем кароль[691], то вас надули; должен вас предупредить, что камешек этот – всего-навсего средство от колик.
Фенест. Не может того быть!
Божё. Да разве вы не видите, что это камень из головы сциены[692], и ценится он в один кароль в Ларошели и в один соль здесь, у нас.
Фенест. Эх, и дурак же я, что показал его вам; надо было мне остеречься, памятуя о том, как мсье Эне обратил мое пророчество в дурачество!
Эне. Но, господин барон, мы с вами давно не виделись, и вы, верно, много в чем преуспели за это время; не умалчивайте же о ваших приключениях.
Фенест. Ладно, так и быть, расскажу. Надобно заметить, я провел пару лет в компании прекраснейших людей и, что называется, лил воду на их мельницу – иными словами, подманивал к ним простофиль, и вот тут-то меня постигло тяжкое несчастье. Королевский прокурор в Ларошели, а также Барбо и Жандро[693], тамошние мэры, вели несколько мелких тяжб в Париже и воспользовались ими как прикрытием одного весьма доходного дельца: они сложились по четыре тысячи франков каждый и занялись карточным плутовством и нечестною игрою в кости, каковые игры сами же и ввели в обычай в Ларошели. А меня они взяли в компаньоны и «адьюкарты» – вроде как в адъютанты, – за что полагалась мне кормежка и по одному экю из каждых выигранных двадцати. Не сказать, какие чудеса мы творили! И вот однажды, часов эдак в десять поутру, прибывает к нам в «Лебедь» какой-то нескладный верзила на кобыле, с сундучком за спиною; сундучок этот хозяйка еле-еле дотащила до дверей. Незнакомец, еще и не успев с лошади слезть, заявил, что он, мол, знатный господин, не гляди, что одет незавидно, – а была на нем войлочная шляпа, длинный черный камзол, шпага на красной перевязи, сапоги со шпорами, такими тяжелыми, что и на две пары хватило бы, и желтого сукна штаны. Пока слуги разнуздывали коня, этот спесивец завел беседу с шестью или семью бездельниками, что торчали у дверей, и я услыхал, как он им говорил: «Я хоть и неказист, а побывал в Риме». Один бретонец из той компании у него и спрашивает: «А по какой дороге вы ехали, господин хороший?» – «Вы что, за дурака меня считаете, – отвечает тот, – ясное дело, по большой дороге, через Кемперкорантен[694], Ламбаль[695], Гаагу – ту, что в Турени[696], Лафлеш, что в Анжу[697], и Морле[698]». Дальше стал он им рассказывать о тяжбе, которую якобы ведет нынче. Мои приятели как увидали его, так опрометью кинулись к хозяйке, предлагая потесниться, лишь бы ему нашлось место в «Лебеде». В первый вечер, когда наша братия уселась за игру, приезжий только поглядывал на стол, говоря, однако, что ежели бы, мол, играли[699] в «пас-десяткой», в «приговор» или в «тридцать одно», то у него, благодаренье Богу, нашлось бы что поставить на кон в такой славной компании. Мы подстроили так, что он сам попросил нас обучить его игре в «ландскнехт» или в «трюк»; после чего он садился с нами три дня кряду, то выигрывая, то проигрывая, и раззадорился до того, что в один из вечеров поставил на карту целых сто солей. У него был лакей, который все ворчал, зачем, мол, барин играет, да и стряпчий его упрекал за то же; куда там, все впустую, он отвечал им одной бранью. На третий день ему пришлось целое утро убить на дела, и у него до того ум за разум зашел, что он избегал вдоль и поперек всю улицу Ла Юшетт[700], спрашивая таверну «Белый гусак» вместо «Лебедя», где остановился. В конце концов, совсем ошалев от поисков «Белого гусака», он отыскал свое пристанище, где его тут же и нарекли «сеньором гусаком». Еще через пять-шесть дней он разошелся до того, что вознамерился сыграть с нами на целую сотню пистолей. Однажды вечерком он проиграл сорок четыре из них и, горя, как в лихорадке, заставил моих ларо-шельцев поклясться, что они принесут назавтра каждый по шестьсот пистолей против его шестисот, с тем чтобы сыграть в «флюс» и в «секанс»[701], которым у нас же и обучился. Но день спустя все эти игры ему приелись, и пришлось нам вместо карт играть с ним в кости. Обед уже давно стоит на столе; стряпчий, адвокат и еще один его знакомый дворянин, прибывший в карете, запряженной тройкою лошадей, тщетно уговаривают нашего нового друга бросить игру. Как вдруг он – нате вам! – в один момент выигрывает у ларошельцев все их денежки. Тогда один из наших незаметно подкинул фальшивую кость в игру; тут же вся наша компания кинулась на «сеньора гусака» и, схватив за горло, обвинила в мошенничестве. Однако – что бы вы думали?! – все эти приезжие, как оказалось, были членами шайки Бретонца Парижского[702]; они хорошенько вздули ларошельцев и прикарманили выигрыш. Мне тоже досталось бы на орехи, не улизни я наверх, в спальню. С тех пор наших простофиль так и зовут в Ларошели – «господа гусаки».
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Битва при Сен-Пьере
Эне. Господин барон, вам осталось поведать о последнем вашем злоключении – это битва при Сен-Пьере[703], не так ли?
Фенест. Ах, если я когда и надеялся блеснуть и отличиться, так именно в этом походе – я ведь был помощником знаменщика в полку Шаппа[704]!
Эне. Это еще что за чин?
Фенест. О, я и позабыл, что вам знакомы одни только старинные звания. Помощник знаменщика – это благородный кавалер, который время от времени помогает нести знамя.
Божё. Понятно. Это звание помощника завелось сперва в городах; я впервые услыхал о нем в Анже от судейских.
Фенест. Нет, я вовсе не то имел в виду; ведь говорят же «помощник главнокомандующего», «помощник командира полка», «помощник сержанта», а в последнее время появились и новые должности – помощник капрала, помощник барабанщика.
Божё. Что до меня, то я предпочел бы стать усердным помощником кравчего.
Эне. Видывал я, откуда пошла эта мерзкая мода: звания помощников раздаются друзьям и родичам, исключая разве адъютантский чин; не доведут нас все эти помощнички до добра.
Божё. Вы правы, они уже во все щели пролезли. В бытность мою в Польше там выдумали должность «помощника в постели»; теперь она и в Париже привилась, председатель Лесирье[705] первым ее опробовал. Помнится мне, сьёру д’Эйсету[706] служили «помощницами в постели» сразу три председательши. В награду за услуги и во исполнение их просьб он приказал изготовить для них три юбки с каймою и вышить на них жемчугом его инициалы размером с поларшина – точно такие же, какие носили на ливреях его слуги; каждая из дам посчитала себя единственной обладательницею такой юбки – вот была потеха, когда все три явились в них на бал!
Фенест. Ха-ха! Воображаю, какой фурор они произвели! Блеснули вовсю! Но вы отвлекли меня от моего рассказа. Итак, самая блестящая и могущественная армия, какой свет не видал со времени Кутра[707], была отдана под начало господина маркиза д’Юкселя[708]. Вот где была пышность-то! Его тесть[709] не пожалел на экипировку ни золота, ни серебра.
Эне. Ни своих кривляний и приторных любезностей, на которые он столь щедр.
Фенест. Ах, кабы вы могли это видеть!.. Восемнадцать или двадцать тысяч солдат, и каждый обряжен так, что мало не походил на капитана. Не стану сейчас вдаваться в историографию, скажу лишь, что мы довольно долго добирались до Сен-Пьера, и вот, когда отряд был уже в полутора тысячах шагов от укреплений, мы с нашим ротным каптенармусом из чистого любопытства взобрались на невысокий пригорок и вдруг видим справа от себя вражеский кавалерийский отряд, который скачет прямо на нас. Тут же наши люди откатились назад, за укрепления, откуда открыли огонь из мушкетов; по крайней мере, мы услыхали стрельбу, которая, впрочем, тут же стихла. Около пятидесяти всадников из тех, что мы углядели с пригорка, налетели на наши ряды, сея ужас и панику; солдаты кричали: «Держись!», а я громче всех, но отчего-то никто не двинулся вперед, на неприятеля, кроме одного армейского офицера по имени Мароль. Уж он честил нас на все корки, обзывая трусами и канальями, но что слушать наветы – сами знаете, собака лает, ветер носит... Мы-то с каптенармусом были полны решимости спуститься вниз и найти удобное место для боя.
Божё. Вот и во время Пражской баталии[710], едва началась перестрелка, несколько полковников и капитанов из того же самого «чистого любопытства» решили, так сказать, откланяться и всей компанией проехаться с поля боя в город – им, видите ли, срочно понадобилось осмотреть городские укрепления, и побудил их к тому, разумеется, лишь искренний интерес к фортификации.
Фенест. Итак, началось паническое бегство, но савойцы то ли из страха перед нами, то ли из учтивости не стали преследовать нас и осквернять землю Франции. Вот точно так же учтивость загубила нам все дело при Вальтелине[711]. Кстати, там я участвовал в самой остроумной военной стратегии, какую только возможно изобрести. Вы знаете, сколь узки тамошние дороги, – угадайте же, что мы придумали? Устроили неприступную изгородь из протазанов[712], пик и мушкетов, да и прочего военного и обозного хлама. На такой баррикаде сам черт ногу сломит, через нее разве что на крыльях можно перелететь.
Эне. Знатная выдумка, а главное, делает вам честь. Да и солдат вы таким образом потеряли намного меньше. Хитрость задумана удачно, и весьма неправы те, кто осудил за нее ваших военачальников.
Фенест. Мы отошли от нашего сооружения уже довольно далеко, как вдруг видим – скачет отряд наших, около полусотни всадников, все расфуфыренные да разряженные, что твои принцы; они с маху прямиком налетели на нашу баррикаду и едва не переломали себе шеи.
Божё. Помню, как-то в старые времена монсеньор дю Мэн[713] подошел к Понсу[714], и монсеньор д’Эльбёф[715], выбрав из придворных пятьдесят знатных дворян, двинулся ему навстречу, намереваясь сразиться. Особенно блистал ехавший во главе отряда граф Шампанский[716] в костюме пунцового бархату, сплошь расшитом серебром, не говоря уж о серебряных нарукавниках и серебряном же шлеме с пышными перьями; он сидел на белоснежном коне с красным султаном на лбу. Пятнадцать конников из города помчались в наступление, и их командир, малыш Брюэль[717], решил скрестить шпагу именно с графом, однако тот, видя его намерение, спешно покинул свое место в голове колонны и скромно укрылся в арьергарде.
Фенест. Ай, какой стыд! А я было собрался похвалить графа за то, что умеет пустить пыль в глаза! Итак, теперь вы знаете все о моих злоключениях. Расскажу напоследок, как я оказался в Дижоне, где опять чуть не затеял дуэль. Сидели мы за столом, как вдруг один человек из Флоньи[718] вытаскивает из кармана письмо, напечатанное в этой провинции по приказу городских чиновников Бриансона[719], которые, видно, решили свалить вину на господина маркиза[720] в следующем деле: мулы, которых они вовремя не доставили в армию, стали причиною нашего поражения. Там писалось о том, что из-за грабежей весь местный люд разбежался, что мы здесь слишком зажились, а ведь мы покинули Амбрен[721] всего-то двадцать седьмого июля и прибыли в Виллар[722] пятого августа. Я тут же возразил, что монсеньор, на манер древних галлов, просто не пожелал захватить неприятеля врасплох, а вот их проклятые мулы хорошенько-таки лягнули Францию. Мы полагаем, что отступление наше превзошло даже отход монсеньора де Меркюра под Канижой[723]. Подвоза не было никакого, а в этих треклятых горах черта с два сыщешь свинец – они тут и едят-то из деревянных мисок. Нет, этим бриансонским мулам гордиться нечем! Послушали бы вы, как нас проклинали; правда, все это не помешало одному достойному человеку сложить в нашу честь шестистрочник; я его ношу с собою – вот, читайте:
Эне. Вы, видно, желали уязвить этим стишком савойцев, но, как гласит гасконская пословица, «осел подставил правый бок – погонщик слева дал пинок». Ну-ка, перечтите повнимательнее сию эпиграмму, сударь, и вы обнаружите в ней подвох для себя.
Фенест. Вы меня совсем обескуражили: вот ведь какие подлые оказались стишки – ни к чему не придерешься; я-то вообразил, что это сравнение с Цезарем придумано нам в похвалу. Нет, пора, давно пора Церкви искоренить все эти умствования; в огонь всякие мерзопакостные книжонки, от них истинному благочестию один только вред! Оставить лишь церковные книги, часословы Жеана Лекока[724] да нынешний – оба они totum ad longum sine require[725]. Понадобились вам проповеди – читайте Барлетта и Менотуса[726], захотелось развлечься – берите «Золотую легенду»[727], только в старинном издании – теперешнее-то переписывали да исправляли отъявленные гугеноты; ну а кому понадобилось научиться читать, рекомендую превосходное сочинение Лашома Гинара[728], озаглавленное «Искусство науки читать».
Божё. Да это претолстая книга; автор ее, из пуатевинцев, исписал целых восемь дестей бумаги, дабы научить прочесть всего одно слово, а ведь как важно назвал свой труд – «Искусство науки читать»! В старые времена обучение чтению длилось семь лет, а вместо подписи ставили крест, во имя Господа, вот и все дела.
Эне. Мне-то понятно, к чему такое название: сочинитель хотел прослыть ученым мудрецом.
Фенест. А вы полагаете, ваши старозаветные штуки лучше нынешних? Вон отцы-иезуиты сложили стишок, отпечатанный на шесть тысяч ладов; он гласит: «Tot tibi sunt laudes, Virgo, quot sidera caelis»[729].
Один гугенот, из ваших, переиначил его вот как: «Tot tibi sunt fraudes, Gerro, quot gramina campis»[730].
Сыскался и еще один насмешник, этот заменил «gramina» на «stercora»[731]. К этим двум строчкам добавилась и третья, которую, так же как и первую, перевернули трижды: «Sic mala fraus tua fert laudes quae non bene cedunt»[732].
Божё. А вы не одобряете эдакие затеи? По правде говоря, весьма прискорбно, что умные люди верят во всякие жалкие ухищрения вашей религии, например в крещение колоколов, в освященные четки, в целебные рубашки из Шартра[733], в ношение Agnus Dei; ну, что до вас, то вы, я думаю, слишком бравый кавалер, чтобы ханжить до такой степени.
Фенест. Я однажды попался было на эту удочку и нацепил Agnus Dei, но на одном балете в Арсенале[734] какой-то гвардеец в толчее (он меня, видите ли, не заметил!) так наподдал мне, что вдолбил этот дурацкий Agnus Dei в самые печенки; с тех пор я и перестал увешивать себя всякой дребеденью.
Эне. Поистине, господин барон, вы поведали нам о таких чудных баталиях, что и старые времена не знают им подобных. Но, как бы то ни было, вам всегда удавалось торжествовать над злою судьбой и неизменно оставаться неунывающим весельчаком; вот эти ваши победы заслуживают величайшего триумфа. Однако, ежели кто-нибудь, прочитав до конца сию книгу, начнет бранить нас за то, что мы стали чересчур серьезны, мы оправдаемся тем, что и барон де Фенест со временем сделался старше и мудрее, что бы там ни говорили.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Триумфы
Божё. Мы посулили вам триумф, господин барон; теперь самое время исполнить обещанное и рассказать об остроумце Дюмонене[735], которого король прозвал «поэтом бойкого ума». Этот любезник ехал однажды в карете госпожи де Мейнар[736], и случилось так, что при выезде с Телячьей площади[737] столкнулись и застряли в давке разом экипажи госпожи де Бран[738], де Ла Шуази[739], ехавшей из Арсенала, чтобы подменить госпожу Келен[740], и госпожи Дювирк[741], ехавшей с Университетской улицы, от советника Леграна[742], к своей тетке де Гиз и кузине де Монпансье[743]; там же оказались встречные кареты госпожи де Бара[744] и еще двух дам – де ла Дютийе[745] и де ла Пуайан[746]; вдобавок припутался сюда портшез монсеньора де Буржа[747], и вся эта неразбериха задержала госпожу...[748], которая, сполна излив свой гнев на эту помеху, поклялась затем святым Филибером, что Монсеньору придется выбирать: либо расстаться с нею, либо ввести налог на кареты, а пока суд да дело, не сочинит ли Дюмонен для нее «Тэлегию» на сие досадное происшествие. Тот отвечал, что сюжет, разумеется, весьма трогателен, но, скорее, годится не для элегии, а для фарса. «Ну, на фарсы и мой супруг[749] мастер, – возразила дама, – вечно он фарсит разными шутками; слыхала я, как он отпускал их, лихуя над эпидрамами господина де Вандома![750]»... Слово за слово, Дюмонен объявил своей собеседнице, что намеревается тайком уехать в Лион, дабы перейти на сторону герцога Савойского и тем самым еще более ослабить Францию. «Раз уж вы едете в Лион, – отвечала она, – я попросила бы вас заказать там для меня кобелен – из тех, что помоднее. Да велите, чтобы все проблемы на нем были вышиты кладью». – «Сударыня, что вы под этим разумеете?» – спросил поэт. «Ну, это то, – объяснила она, – чем вышиты проблемы на ковре, который король отнял у госпожи Екатерины[751], чтобы подарить герцогине[752]; его еще оценили в сто пятьдесят тысяч экю; ей-богу, теперь, когда герцогиня умерла, король поступил бы достойнее, подарив его моему супругу, нежели самому наследовать покойной; но старых слуг вечно обходят, а награждают всяких засланцев». – «Сударыня, – воскликнул Дюмонен, – наконец-то я понял: под вышивкой «кладью» вы разумели вышивку гладью. Я слишком вам предан, а потому считаю своим долгом предостеречь: вы то и дело уснащаете свою речь самыми несуразными словами вместо общепринятых, к примеру, «проблемы» вместо «эмблем», «засланцы» вместо «посланцев» (а еще бы лучше «послов»), «кобелен» вместо «гобелена». Молукские острова[753] вы недавно окрестили «Моллюсками», «кавардак» у вас превратился в «кабардак», «стихотворение» – в «психотворение», «капитуляция» – в «капустиляцию», а ваш супруг, мастер на фарсы, по вашим словам, «фарсит и лихует над эпидрамами», что, верно, означает «форсит и ликует над эпиграммами». Умоляю вас, сударыня, выбирайте выражения! Что же до гобелена, то я рад буду услужить вам, только хотелось бы знать, где вы собираетесь его повесить». – «Да в большой зале замка Фарнаш[754], – сказала дама, – наш обойщик пришлет вам ее размеры. Монсеньор не скупится на убранство комнат, но особо наказал обить гобеленами кухню – виданное ли это дело! Увы, он у меня совсем не спесив; говорят, будто всякое жилище начинают строить с кухни, а не то и с погребов; вот и Монсеньор все твердит, что наш дом воздвигся на кухне»[755]. Дюмонен спешно отправляется в Фарнаш и видит залу, для которой требуется, самое малое, дюжина гобеленов: по три на каждую стену, между окнами, да еще один узкий над камином. Прибыв в Лион, он исполнил поручение, и с тех пор гобелены – плоды его стараний – украшают рыцарский зал Фарнаша. Они представляют четыре «триумфа», каждый в трех частях. Это отнюдь не триумф целомудрия и ничего общего не имеет с выдумками Петрарки[756]. На первом изображен Триумф Нечестивости, на втором – Триумф Невежества, на третьем – Триумф Трусости, четвертый – Триумф Нищеты, и он, на мой вкус, еще великолепнее трех первых. Краски ярки, их сочетания веселят глаз, а полутона отсутствуют – напротив, один цвет прямо переходит в другой. Края затканы причудливой каймою, составленной из письмен; их никто не мог разобрать, пока сам Дюмонен, которому уже ничто не грозило, ибо он перебрался за Мон-дю-Ша[757], не прислал объяснение, в виде пространного меморандума, юному шевалье[758], и тот весьма охотно читает его – гораздо охотнее, нежели свои заумные религиозные книжонки; одному лишь Богу известно, чего только не навыдумывают об этих глоссах наши насмешники, когда узнают об их существовании.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Триумф Нечестивости
Первый Триумф изображает колесницу, запряженную четырьмя дюжими, гнусного вида дьяволами, коими правит Вельзевул, сидя на месте кучера и размахивая кнутом, свитым из гадюк и прочих змей. Позади него, на высоком сиденье, специально устроенном для триумфатора, восседает чудовище в виде размалеванной старухи, лицом походящей на Перретту[759] в тот миг, когда она удостоилась благодати. Чудище это имеет вполне человеческий облик, разве только не может поднять голову к небу, а держит ее книзу, наподобие дикого зверя; уши его свисают, как у легавой, и так толсты, что, верно, мешают слышать. У него крошечные глазки – точно такие, как у госпожи де Мерсек[760], той самой, что кричала во время Варфоломеевской ночи: «Прикончить их всех!»
Фенест. Ну вот, видите, Нечестивость прячет свой лик, опасаясь выставить его напоказ; стало быть, желание покрасоваться во всем блеске не противоречит набожности. Ловко я подвел, разве не так?
Божё. Да, весьма остроумно замечено. Но я продолжаю. В той же колеснице, задом к кучеру, сидит Сластолюбие, прикрывающее наготу лишь спутанными волосами, которые ниспадают на лоб и щеки, образуя усы и бакенбарды, точно у ландскнехтов; короче сказать, Сластолюбие – вылитая Маркиза[761], которую все шлюхи того времени приняли за образец. На двух боковых сиденьях видны пленницы: справа – Совесть, имеющая облик полумертвой женщины в цепях, лежащей без чувств[762]; слева – Глупость, у которой все тело истерзано раскаленными щипцами и кожа свисает клочьями[763]. Колесницу сопровождают музыканты с барабанами, тимпанами и рогами; за ними шумным хороводом спешат вакханки. Если вы помните, на каждой стене залы должны были висеть три гобелена: первый – на античный сюжет, второй – на сюжеты раннего христианства и третий – о новых временах. Таковой порядок соблюден по всем стенам, если не считать третьей, с камином. Так, например, на уже описанном, ближайшем к двери, гобелене перед повозкою идет толпа пленников, составленная из первых патриархов и святых: здесь Авель, Енох[764], Ной, Авраам и его дети, Давид, пророки, и все они закованы в цепи ландскнехтами, чьи командиры победоносно воздымают концы этих цепей. Впереди мы видим Каина и Хама[765], Немврода[766]и гигантов, насмехавшихся над ковчегом; в середине того же отряда идут фараон и Ог[767], в хвосте – пятеро царей, повешенных Осией[768], Ахав[769] и Иезавель[770], одетая амазонкою. Все эти злополучные пленники едва тащатся по дороге; их унылые взоры устремлены на колеса повозки, попирающие скрижали с заповедями Закона и ковчег Завета и разбивающие их на куски.
Фенест. Башка господня! Вот чудно-то – фараона, Ога, Сигона[771] и прочих побежденных выставляют напоказ в числе триумфаторов!
Божё. Жизнь их была презренной – что ж им остается, как не выставлять себя напоказ. Так уж заведено от века: солдаты Нечестивости, как бы их ни побивали, все же торжествуют, зато отважнейшие из отважных свидетелей своего времени не единожды в своей жизни становятся почетной и богатой добычею поборников Нечестивости. Таким же точно образом построена композиция гобелена, посвященного раннему христианству: здесь апостолы, мученики и праведники, преследуемые жестоким Нероном[772], Домицианом[773], Адрианом[774], Севером[775] и им подобными, вплоть до Юлиана-Отступника[776]. Насмешники-художники сообщили этому последнему облик особы, которую назвать я не осмеливаюсь, а лицу Либания[777] придали черты «Господина охотника за душами»[778]; Папиниан[779], который предпочел смерть восхвалению злодейств Каракаллы[780], – вылитый покойный канцлер Лопиталь[781]. Путь колесницы устлан Евангелиями, листками из Эусебия[782] и других замечательных книг нашего времени; слуги подбирают их и передают Барониусу[783], а тот ими подтирается. Тут же и Либаний, весьма похожий на главу Римской церкви[784]; он продвигается вперед скачками, точно подгоняя процессию, и кричит: «Andate in fretta, perche Su Sanctita rinega Christo»[785]. Но самая многочисленная и живописная группа – третья; тут все сожженные, повешенные и утопленные мученики новых времен, нищие оборванцы и люди в санбенито[786], разрисованных рожами чертей. Ведущие их стражники, напротив, смотрят бодро и победоносно; здесь увидите вы графа де Буэндиа[787] со шпагою в руке, еще кого-то, кто несет большое пурпурное знамя, а также инквизиторов в их страшных одеяниях, с неумолимыми лицами, таких, какими их описывает «История Инквизиции»[788]. Не забыто и священное братство – Германдада[789]; члены его выстроены в строгом порядке, попарно; они едут на испанских лошадях, неумело управляя ими, держась одной рукою за луку седла, а другой – за круп коня; эти ведут на казнь не то шестьдесят, не то восемьдесят стариков, женщин и детей с завязанными глазами. И многие жестокие расправы, свершившиеся во Франции, Англии, Италии, Фландрии и прочих странах, оставили столько жертв, что им не хватило места на гобеленах, а потому они изображены лишь намеком.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Триумф Невежества
За первой процессией следует триумфальная колесница Невежества[790], запряженная четверкою ослов и окруженная музыкантами, дудящими в трубы и волынки. Дама, представляющая Невежество, едет нагою, не считая нужным скрывать самые постыдные части тела; у нее узкий лоб, такие же крошечные глазки, как у Нечестивости, и разинутый рот; она делает вид, будто читает Требник, который, впрочем, перевернут вверх ногами (как у покойного монсеньора де Вандома[791], который оправдывался тем, что был левшою), и при этом надрывается от хохота, словно находит в чтении много забавного; в чертах ее лица есть большое сходство с Бертолиною[792]. Напротив триумфаторши, иначе – на переднем сиденье, помещается Безумие, оно трясет погремушкой; справа от него – Упрямство с огромной тупой башкою, а слева – Суеверие, все увешанное «отченашами». Так же, как и в первом Триумфе, здесь воины ведут три группы пленников, именно: из древних времен вы увидите Ноя, который, изображая мудреца, якобы изобрел ковчег; Моисея, навязавшего людям закон, в коем они ничуть не нуждались; за ними идут пророки – недобрые провозвестники войны, враги благополучия и мира; а ежели вам покажется странным, что они изображены на всех гобеленах, то знайте, что такие люди живут во все времена и во всех местах Земли; их волокут гиганты, те глупцы, что строили Вавилонскую башню, не понимая друг друга, и здесь же строптивые иудеи из тех, что нахваливали вкус египетского репчатого лука[793] и призывали народ свой вернуться в рабство к египтянам. Шествие завершает Седекия[794], обличающий Михея и дающий ему пощечину. Во второй группе увидите вы ученых сынов Церкви, таких как Ириней[795], Тертуллиан[796], святой Иероним[797] и святой Августин[798], а также нескольких римлян, вплоть до Сильвестра[799]. С другой стороны изображен этот негодяй Либерий[800], который, будучи связан с Афанасием[801], нашел способ освободиться и бежать, после чего объединился с арианами-победителями[802] и поступил с Афанасием и Хризостомом[803] еще более жестоко, нежели те четверо; по его примеру действовал во время Орлеанской резни[804] небезызвестный Санси[805], убив своего хозяина с домочадцами и искромсав их мертвые тела, лишь бы спастись самому. В числе прочих надсмотрщиков видны Замврий[806] и его подручные. Затем следует группа нового времени; в ней множество ученых мужей Германии, которые осмелились обличать пьянство; несчастный Кальвин, высохший, как вяленая селедка[807], двенадцать пасторов из Пуасси[808], господа де Шандье[809] и снова злосчастный Плесси Морне[810]. Их гонят за колесницей так быстро, что они и слова вымолвить не могут. Триумфаторы же, напротив, идут с криками и гиканьем, подстрекая стражников и слуг измываться над пленными: «Ну и образина! Эй, ты, пожиратель лис! Он мочится в постель!» По этому поводу Дюмонен описывает в своей памятке, как надрываются волынки, дабы заглушить вопли избиваемых. Путь колесницы устлан множеством «еретических» книг; здесь и «Наставление»[811] – «Свод беззаконий»[812], который сперва распродавали в Сомюре, а после расшвыривали по улицам; в числе книг и «Неделя» Дю Бартаса[813], и сочинения Дюмулена[814], и «История» д’Обинье[815]. Солдаты, ведущие пленников, как две капли воды похожи на Каша[816], Лабастида[817], Линьерака[818] и канцлера Бирага[819], который вернулся к военным занятиям, когда увидел, что от его речей люди помирают со смеху[820]; заключает шествие целая толпа принцев-невежд: отец и дед герцога де Монпансье[821], Коннетабль[822], умевший лишь подписываться, но не читать, несколько государственных советников, которые, подобно священникам, осмелились бахвалиться тем, что ничего, кроме как произносить речи, делать не умеют. В задних рядах идет священник Мено[823], вздымающий кверху свои проповеди. Там же некто насадил на древко и несет, как хоругви, маленькие томики, что продаются в галереях Дворца[824], новые сочинения Кайе[825], «воспламененные молитвы» Кутона[826], еще кто-то тащит крест, утыканный гвоздями и терновыми колючками; прочие расхваливают на все лады, словно чепцы или пирожки на ярмарке, трактаты Бордоского общества – второпях нацарапанную писанину Буланже[827] и «Роман о торжестве Церкви»[828]; не забыт здесь и кюре из Сент-Эсташа[829] с тамбурином на голове; и, подобно тому как хромая с горбуньей тащились в процессии, описанной ранее[830], здесь также еле бредет отставший от передних Гонди-сын[831], который составил славу своему дому тем, что, маясь грыжею, вечно ходил с насупленной физиономией, с какою и представлял государю иностранных послов. Есть там еще и несколько сбитых с толку кавалеров, которые никак не могут решить, должно ли им присоединиться к этому Триумфу или же к следующему, ибо их зовут и туда и сюда; среди них легко узнать одного маршала Франции[832] и нескольких особ, которых назвать я не осмелюсь, ибо они носят голубую ленту[833].
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Триумф Трусости
«Берегись, берегись, спасайся, кто может!» – вот клич госпожи Трусости, чью колесницу влекут четыре лани и столько же лисиц; лицо ее бледно, глаза широко открыты, ушки торчком; похоже, будто она обделалась со страху. Эта особа не любит шума и гвалта, а потому ее выход сопровождает лишь маникордион[834], на котором наигрывает бурре[835] Довольство, расположившееся на переднем сиденье; на правой боковой скамеечке развалилась Лень[836]: эта подремывает, положив одну руку на грудь, а другую засунув в гульфик своего исповедника; на левой пристроилась Стыдливость, закрывшая лицо локтем, отчего мы и не можем его увидеть. Сей Триумф не походит на другие, ибо в старые времена ценилась лишь отвага, а Трусость никогда не торжествовала так, как в нынешнем веке. Здесь же мелькают неразличимые фигуры завистливых евнухов Нарсеса[837] и Велизария[838]. Пленниками сего Триумфа являются прославленные в наш век своею храбростью члены дома Бурбонов, равно как и герцогов Лотарингских[839], Шатийоны[840], маршалы Бироны, отец и сын[841], члены семьи де Ла Ну[842], Монтгомери[843], Монбрен[844], все, кто оказал сопротивление в Варфоломеевскую ночь, маршал д’Омон[845], Живри[846], герцоги Бульонский[847] и Туарский[848]... а следом за ними[849] – Монбаро[850], обвиненный в том, что он спас Бретань от взятия Ренна, и, сверх того, сам оказавшийся виноватым в своем тюремном заточении. Невозможно, однако, перечислить поименно все это множество людей; назову лишь идущего в хвосте процессии Пралена[851], скончавшегося от угрызений совести. Сии злосчастные мужи также идут в триумфальном шествии под конвоем множества победителей, среди коих узнаем мы покойного маршала де Реца[852], сьёра де Лансака[853], деда нынешних Лансаков, которых он воспитывал сам, ибо сын его сидел в тюрьме, лишившись пяти губернаторских постов по причине своей расточительности. И заключает шествие печально известный мэтр Рене[854], парфюмер. Но вот и следующая группа, которую составляют всадники на арабских скакунах во главе с Графом; за ним несут боевой штандарт с газовой тканью, скрывающей крест; люди эти отмахиваются от двух хромых гугенотов, которые вызывают их на бой[855]; сквозь газовое покрывало видна корзинка и девиз на ней: «Продаю эту корзиночку!» За ними следуют пятеро всадников с голубыми лентами через плечо, с открытыми лицами; эти, в противоположность передним, не скрывают имен: здесь Д’О[856], Ману[857], Шемеро[858], один из Клермонов[859] и Шатовьё[860] – все пятеро во время битвы при Иври[861] напали на одного бегущего солдата, собираясь приписать себе честь его убийства, но и на это оказались не способны: помог им проходивший мимо аркебузир, который одним ударом поверг их жертву, дав возможность нашим храбрецам вонзать шпаги в уже бездыханное тело. Нам придется еще раз прибегнуть к меморандуму поэта[862], рассматривая уголок, где изображен Панталоне[863] в кольчуге и с седою бородой, который оттаскивает назад капитана – вылитого Пралена[864]; тот уже наполовину выхватил шпагу из ножен, готовясь убить коварного Горацио со смазливым личиком миньона нашего времени, милующегося с Изабеллою[865]. Панталоне, заставший любовников на месте преступления, произносит, однако, сей знаменитый афоризм: «Не верю глазам своим!» – и препятствует кровожадному капитану выбросить в окно соперника – этого продажного католика[866]. По бокам гобелена весьма искусно выткано множество прекрасных замков и домов, коих порталы украшены каменными виньетками и гербами по новой моде, заменившими старые. Так, на одном фасаде красуется герб Базоши[867]; он ни в какое сравнение не идет с прежним – под вычурным его обрамлением стоят внизу три буквы D.D.D., которые нам позволено будет расшифровать так[868]: «Dispari Domino Dominaris».
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Триумф Нищеты
Осталось рассказать о святейшей и почтеннейшей Нищете[869], чья дребезжащая колымага, сплошь заплатанная и разбитая, влекома четырьмя тощими волчицами. Триумфаторша не знает, куда деваться от смущения, настолько сконфужена она пышными своими одеждами, но Бесстыдство[870], восседающее на запятках, через маленькое оконце ободряет ее, а порою даже подталкивает в спину, понуждая выпрямиться и принять величественный вид. У Нищеты такие же стыдливо-растерянные ужимки, что у супруги Коннетабля[871] в день свадьбы: как бы ни была она размалевана, на лице ее все же проступают морщины, оставленные прежней жалкой жизнью. И, хотя она знает, что нынче имеет власть одаривать других, она по-прежнему верна привычке всюду, где только можно, выпрашивать и клянчить; супротив нее, деля с нею триумф, сидит Наглость[872] – довольно видная, ежели взглянуть издали, особа, разубранная и разодетая в платье всех цветов радуги; слева – Распутство[873], дама, которой безжалостные мастера-ткачи придали черты госпожи де С. Дю[874]... наиглавнейшей сводницы Франции, κατεξοχην[875], а справа – Лесть[876], которая раздает четки и свечи всем желающим помолиться. На первом из этих трех гобеленов изображено множество королей и принцев, изгнанных из собственных стран; их ведут, щелкая бичами из воловьих жил, Багуас[877] и другие евнухи, над коими я даже и потешаться не стану – к слишком уж отдаленным временам они принадлежат. На втором гобелене увидите вы толпу римлян – либо известных богачей, либо тех, кто боролся за свободу; среди них великие Сенека[878], Гельвидий Приск[879], Тразея[880], светоч добродетели, несчастная Эпихарида[881] и множество людей, обладавших несметными богатствами, которые им поневоле пришлось завещать тиранам[882] и их прихлебателям, каковые завещания они и держат в руках. Эти люди, наполовину обнаженные, идут под конвоем безжалостных ликторов, у коих на шляпах написаны их имена, например Нарцисс[883], Паллас[884], Флёр д’Ази[885]; сзади плетется Велизарий[886], которому пришлось просить милостыню после того, как он покорил и обобрал стольких великих царей. Но самой блестящей выглядит последняя группа – современная, во главе которой шествует Коннетабль Монтегю[887], осыпанный золотым дождем; поскольку отец его был брадобреем, он идет в паре с цирюльником короля Людовика XI[888], воздевшим, на манер щита, золотой тазик с надписью черными буквами: «Fortunae tonsor quisque suae»[889]. Далее, взор наш обращается к другим пленникам; их отряд возглавляет злосчастный, достойный жалости Гонсальво[890], столь удачно прозванный капитаном; за ним граф де Росендольф[891], умерший с голоду в Париже, после того как он возглавил и привел четыре армии на помощь нашим королям; на плечи у него накинут плащ, который я на нем сам некогда видел, – из атласа, подбитый горностаями и скрепленный, вместо аграфа, дворянскою грамотой; следом идет Шартрский видам[892], окончивший свои дни на галерах, и еще множество сеньоров из знатнейших семей, все с унылыми лицами, кроме одного, что утешает своих товарищей по несчастью; если меня не обманывает сходство, это Оде де Ла Ну[893], ликующий оттого, что ему удалось сбыть покупателю один из своих домов за полцены. Вот показался бравый Муи[894], в отчаянии сказавший своему покровителю, когда тот отнял у него пенсион: «Я остаюсь богат почестями и друзьями». На что получил ответ, что пусть, мол, каждый из его друзей и кормит его в течение недели. В этой же группе есть множество дворян, которые пожертвовали войне все свое достояние и которых заключение мира застало врасплох; в награду им было сказано: «Королевство в течение тридцати лет подвергалось грабежам, зачем же вы сидели сложа руки?» Ведут эту колонну полководцы Раго[895] и Дю Альд[896]; у последнего в оруженосцах состоит Пиенский наследник[897]. За повозкою Нищеты шагает группа триумфаторов; в первом ряду бок о бок идут два кардинала, один из них[898] обряжен в алое сукно, сплошь усеянное вшами и клопами; надпись на одеянии гласит: «Il cardinale de la Simia»[899]. Некогда он явился нищим во дворец Папы[900], который приблизил его к себе за обезьяньи ужимки и за то, что он весь завшивел; видно, эти-то заслуги и сделали его кардиналом. Папа-благодетель приказал нарядить своего протеже в новое платье и в сем наряде счел его весьма желанным и соблазнительным; вот так он, благодаря одному только нижнему месту, и уселся на одно из самых высоких – впрочем, история расскажет об этом подробнее. Рядом с ним помещен Папа Сикст Пятый[901] верхом на борове – по моему разумению, на том самом, которого он потерял, когда пас свиней, из-за чего и удрал от хозяина и стал привратником во францисканском монастыре, а затем и Папою, как о том повествуется в исторических хрониках. Ах, что за блестящий отряд украшает далее сей триумф: герцоги, маркизы, графы, виконты, бароны! – их имена пребудут в грядущих веках – ведь они так новы и свежи; тут целое скопище карет, превосходящее числом своим корабли Ксеркса[902], если судить по праздничным приемам во дворце; я говорю «праздничным», ибо большинство сих знатных особ в остальные дни, несомненно, трудятся, дабы заработать себе на жизнь. На краю гобелена изображен огромный мешок, откуда вылезает шляпная картонка, а из той, в свою очередь, шкатулка; затем огромная старинная карета, из ее чрева лезут крошечные экипажики и, киша, как муравьи, ползут, присоединяясь к этой группе. На каждом из них своя надпись, начинающаяся так: «Госпожа» или «Госпожа де Жан», «Госпожа де Пьер», «Госпожа де Мартен» и так далее. В самом уголку картины видны две скрюченные старушонки; в них едва можно признать мадемуазель де Турнон[903] и мадемуазель де Брессюир[904]; возведя очи горе, они одной рукой вершат крестное знамение, другою же указывают на группу дам – я полагаю, из восхищения, ибо сами они так и не удосужились распрощаться со своим званием «дамуазель»[905], хотя у первой из них было восемьдесят, а у второй девяносто тысяч ливров ренты; приходилось им довольствоваться сим скромным званием – ведь их мужья так и не сделались кавалерами ордена Святого Михаила[906]. Однако группа эта проходит, а за нею и конвойный – маленький Ларош[907], некогда выданный за карлика герцогу Савойскому его камердинером по имени Бела[908]. Хозяин гобеленов[909] весьма ревностно пекся о чести своего дома, вот отчего поэт пишет в своей памятке, что не следует удивляться отсутствию в группе триумфаторов или среди пленников ни Порция Катона[910], бывшего свинопаса, ни Сервия[911], бывшего раба, так же как среди современных героев вы не найдете барона де Лагарда[912], некогда получившего прозвище «жеребячий капитан», ибо в юности он был бродячим шутом, а заодно и пас жеребят; нет здесь и Бюрлота[913], в младых летах деревенского цирюльника, – словом, в группу эту не попали те, кто возвысился, не прибегая к попрошайничеству. Ибо, пишет поэт, нельзя считать попрошайничеством добывание денег и почестей своею честностью и усердной службою со шпагою или пером в руке. Таким здесь не место, пусть уступят дорогу тем, кто сколотил себе состояние turpibus artibus[914]. Опишу слегка и углы гобелена: в одном из них видно дерево из тех, которые растут в Шотландии, с его ветвей падают плоды; те, что попали в воду, превращаются в уток и селезней, те же, что падают наземь, оборачиваются суконными колпаками, которые, съеживаясь, становятся бархатными шляпами[915]; вот одна из них катится, точно колесо, обрастая по пути драгоценными каменьями; именно таким манером многие торговки сукном преображаются в знатных особ, щеголяющих в бархате, и попадают в тот рай, где их величают «мадам», минуя звание «дамуазель»; и тем же чудесным способом жалкие клочки земли в нынешней Франции преображаются в баронские поместья, владельцы замков становятся виконтами, бароны – графами, виконты – маркизами, графы – герцогами, а герцоги – те охотно сделались бы королями, кабы их король был мягче нравом и не умел бы крепко держать шпагу в руке. Гобелен над камином следовало бы оставить для предыдущей главы, ибо в древних временах, которые дали нам столько сюжетов для трех других гобеленов, не сыщется примеров тому, как Трусость одержала верх над Отвагою. Это место, стало быть, остается свободным для пророчеств и изменений, коим подвержены нравы и моды. Много есть такого, что поэт не потрудился растолковать: вот бросается в глаза великое множество солдат среди Альпийских гор; они сидят под жгучим солнцем, торопливо зашивая дыры в модных камзолах и вычесывая снег из своих густых усов; а вот слуги в ботфортах; девица, подтянувшая пояс под самые груди, и все то, о чем мы уже поминали ранее, описывая сие изящное, искусно выполненное творение; да и многое другое тоже, например притчи о том, как усы спасают от ударов плетью, о «финтишлюшках», о дуэлянтах.
Фенест. Ага, вот оно как! Стало быть, усы нужны не только для того, чтобы прослыть модным кавалером, они еще и от побоев избавляют!
Божё. Дабы покончить с описанием, мне остается лишь сказать вам, что мостовая, по которой катятся колеса последней повозки, усыпана гербовыми щитами, голубыми лентами, горностаевыми мантиями, драгоценными каменьями и даже цветами лилий[916] с перевязью; триумфальная колесница Нищеты все это давит и разрывает в клочья, а остатки попадают под колеса следующих за нею повозок; зрелище этого разорения способно вызвать слезы радости или, напротив, печали у созерцающих его. И вся эта аллегория, изображенная на гобеленах, сулит предателям, убийцам, трусам и бездельникам троны, губернаторства, почести и богатства, тогда как людям достойным, мудрым, отважным и великодушным только и остается, что сгинуть навек из-за собственной своей порядочности.
Эне. Итак, господин барон, вот вам подробнейшее описание сих разнообразных гобеленов; среди кого вам желательно было бы показаться?
Фенест. Башка святого Арно! Само собой, я бы хотел идти в рядах триумфаторов и прослыть победителем!
Эне. Всего лишь прослыть? А я так желал бы и в самом деле быть им.
ЖИЗНЬ, РАССКАЗАННАЯ ЕГО ДЕТЯМ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Дети мои, из древней истории, богатой жизнеописаниями императоров и прочих великих людей, вам есть что почерпнуть, коли потребны будут примеры и сведения о том, как должно противостоять нападкам врагов и строптивых подданных; из истории этой узнаете вы, как отражали они натиск равных себе и возмущение низших; однако же она не научит вас сносить гнет вышестоящих; это третье умение требует куда большей хитрости, нежели первые два; вам же скорее представится нужда в подражании обычным людям, но не знатным господам, ибо в той борьбе, что ведете вы против себе подобных, следует остерегаться лишь их ловкости, каковою ловкостью обделены властители мира сего, отчего и гибнут под тяжестью собственного своего величия.
Генрих Великий[921] не любил, когда приближенные его слишком увлекались жизнеописанием Цезарей; сочтя, что Нёви[922] чрезмерно зачитывается Тацитом[923], и опасаясь, как бы отвага его от такого чтения не возросла сверх обычного, король строго наказал ему искать себе примеров в жизни равных себе.
Точно так же поступлю и я, удовлетворяя разумное ваше любопытство: вот вам рассказ о моей жизни, написанный любящим отцом, который не счел здесь нужным скрывать то, что во «Всеобщей истории»[924] явилось бы свидетельством дурного вкуса; итак, не желая краснеть перед вами ни за славу мою, ни за ошибки, я поведаю вам и о той, и о других столь бесхитростно, словно все еще держу вас маленькими у себя на коленях. Я бы желал, чтобы мои славные и благородные дела подвигли вас на благородное соперничество с отцом, разве что рассказ о моих ошибках, в коих признаюсь открыто и без ложного стыда, увлечет вас сильнее, ибо из него сможете вы извлечь наибольшую для себя пользу. Узнав же об оных, судите меня, но при этом помните, что счастье и удача не от нас зависят – они в руках Всевышнего. И еще приказываю вам снять с сей книги не более двух копий, кои завещаю свято хранить, отнюдь не вынося ни одной из них за пределы нашего дома. А ежели вы нарушите сей приказ, ослушание ваше будет наказано завистливыми вашими недругами, которые поднимут на смех божественные начала в моей исповеди и заставят вас горько раскаяться в вашем легкомысленном тщеславии.
[ТЕКСТ]
<1552> Теодор Агриппа д’Обинье, сын Жана д’Обинье[925], владельца замка Бри в Сентонже[926], и девицы Катерины, урожденной де л’Этан[927], родился в поместье Сен-Мори, близ Понса[928], в 1551 году[929], 8 февраля. Мать его умерла при родах, столь тяжелых, что врачи предложили выбрать между смертью матери и смертью ребенка. Назван он был Агриппой, от aegre partus[930], и воспитывался в детстве вне родительского дома[931], ибо Анна де Лимюр[932], мачеха его, была недовольна чрезмерными расходами, связанными с изысканным воспитанием, которое давал мальчику отец.
<1556> Как только сыну минуло четыре года, отец привез ему из Парижа наставника, Жана Коттена[933], человека бесчувственного и безжалостного, впоследствии преподававшего Агриппе одновременно грамоту латинскую, греческую и древнееврейскую. Этой системе следовал и Пережен[934], второй наставник его. Шести лет от роду ребенок читал на четырех языках. Затем к нему приставили Жана Мореля[935], парижанина, человека довольно известного; этот обходился с ним мягче.
<1558> Однажды, бодрствуя в своей постели в ожидании своего наставника, Обинье услышал, как кто-то вошел в его комнату и прокрался между стеной и постелью; чьи-то одежды коснулись полога, тотчас задернутого некоей смертельно бледной женщиной, которая, подарив мальчику ледяной поцелуй, тотчас исчезла. Войдя, Морель застал его потерявшим дар речи; и, вероятно, последствием этого видения явилась лихорадка, продолжавшаяся две недели.
<1559–1560> Семи с половиной лет, с некоторой помощью своих наставников, Обинье перевел Платонова «Критона»[936], взяв с отца обещание, что книга будет отпечатана с изображением ребенка-переводчика на титульном листе. Когда ему было восемь с половиной лет,отец повез его в Париж. Проезжая в ярмарочный день через Амбуаз, отец увидел головы своих амбуазских сотоварищей[937], которых еще можно было распознать на виселице, и так взволновался, что перед толпой в семь или восемь тысяч человек воскликнул: «Палачи! Они обезглавили Францию!» Увидя на лице отца необычайное волнение, сын подъехал к нему. Отец положил ему руку на голову и сказал: «Дитя мое, когда упадет и моя голова, не дорожи своею, чтобы отплатить за этих достойных вождей нашей партии. Если ты будешь щадить себя, да падет на тебя мое проклятие!» Хотя отряд Обинье состоял из двадцати всадников, они с трудом пробились сквозь толпу, возмущенную подобными речами.
<1562> В Париже школьника Обинье поручили заботам Матье Бероальда[938], племянника Ватабля[939], очень важного лица. В то время или немного позднее, после взятия Орлеана принцем Конде[940], в Париже усилились преследования, убийства и сожжения гугенотов, и Бероальду, подвергнувшемуся величайшим опасностям, пришлось бежать со всей своей семьей. Маленькому мальчику было очень досадно покидать кабинет с великолепно переплетенными книгами и прочими вещами, коих красота излечила его от тоски по родным местам; когда он проезжал Вильнев Сен-Жорж[941], мысль об этом исторгла из глаз его слезы. Тогда, взяв его за руку, Бероальд сказал: «Друг мой, разве не чувствуете вы счастья, выпавшего на вашу долю: в вашем возрасте иметь возможность потерять кое-что ради того, кто дал вам все?»
Маленький отряд из четырех мужчин, трех женщин и двух детей, раздобыв возок в Кудре[942] (в доме президента Л’Этуаля[943]), пустился в путь через местечко Куранс[944], где шевалье д’Ашон[945], командовавший там сотней легкой конницы, арестовал их и отдал в руки инквизитора по имени Демокарес[946]. Обинье не плакал в тюрьме, но не удержался от слез, когда у него отняли маленькую посеребренную шпагу и пояс с серебряными пряжками. Инквизитор допросил его отдельно, не раз впадая в гнев от его ответов, офицеры же, увидя на нем белый атласный костюм, отороченный серебряной вышивкой, и оценив его манеры, повели мальчика в покои д’Ашона, где заявили ему, что вся его шайка приговорена к сожжению и что ему будет уже поздно отречься в час казни. Он ответил, что месса для него страшнее сожжения. В той комнате играли скрипачи, и когда начались танцы, д’Ашон потребовал, чтобы арестованный проплясал гайярду. Обинье не отказался, и вся компания любовалась и восхищалась им, но инквизитор, обругав всех, приказал увести его в тюрьму. Узнав от Обинье, что они приговорены к казни, Бероальд пощупал у своих спутников пульс и уговорил их принять смерть с легкостью. К вечеру тюремщики принесли заключенным поесть и указали им на палача из Милли[947], который готовился к предстоящей на следующий день казни. Дверь заперли, заключенные начали молиться. Через два часа явился стороживший их дворянин из отряда д’Ашона, бывший монах. Он поцеловал Обинье в щеку и потом обратился к Бероальду со следующими словами: «Я либо умру, либо спасу вас всех ради этого ребенка; будьте готовы выйти, когда я вам скажу. Но дайте мне пятьдесят или шестьдесят экю, чтобы подкупить двух человек, без которых я ничего не смогу сделать». С ним не торговались и собрали шестьдесят экю из денег, спрятанных в обуви. В полночь дворянин вернулся в сопровождении двух человек и сказал Бероальду: «Вы говорили мне, что отец этого мальчика командует отрядом в Орлеане; обещайте, что меня там хорошо примут». Получив это обещание вместе с приличным вознаграждением, он велел всем людям из отряда взяться за руки, а сам, взяв за руку младшего, тайком провел их мимо караульного помещения, потом через амбар, где стоял их возок, затем провел через засеянное поле и вывел на большую дорогу, ведущую в Монтаржи[948], которого достигали они с величайшим трудом и большими опасностями.
Герцогиня Феррарская[949] приняла беглецов с обычным для нее радушием, в особенности маленького Обинье; три дня сряду она сажала его рядом с собой, чтобы слушать его юные речи о презрении к смерти. Затем она приказала повезти их со всеми удобствами в Гиень, где они прожили месяц у королевского прокурора Шазре[950]. Но Лафайет[951] осадил этот город. Им пришлось сесть на корабли и плыть к Орлеану, спасаясь под огнем аркебуз, который открыли по ним местные жители при проезде мимо Буте[952].
Прибыв в город, Бероальд, по милости господина д’Обинье, служившего в городе под начальством господина де Сен-Сира[953], получил удобное помещение сначала в доме президента Л’Этуаля; там Обинье первый захворал заразной болезнью, от которой умерло тридцать тысяч человек[954]. На глазах Обинье в его комнате умер его врач и еще четыре человека, среди них госпожа Бероальд. Его слуга по имени Эшалар, умерший впоследствии пастором в Бретани, был при нем безотлучно и, не заразившись, служил ему до выздоровления, с псалмом на устах вместо предохранительных средств.
Приехав в Гиень, дабы восстановить свои силы, господин д’Обинье нашел своего сына выздоровевшим, но слегка избаловавшимся, ибо трудно Paris artes colere, inter Maitis incendia[955].
Однажды через своего казначея он послал мальчишке одежду из грубой ткани с приказанием повести его по лавкам, чтобы он выбрал себе какое-нибудь ремесло, раз он отказывается от грамоты и от чести. Наш школьник принял так близко к сердцу этот суровый приговор, что заболел горячкой и едва не умер; выздоровев, он стал на колени перед отцом и произнес речь, пламенные слова которой исторгли у слушателей слезы; примирение было отмечено денежным вознаграждением, чрезмерно щедрым для его положения.
<1563> В конце года, когда город был осажден, и Бероальд проживал в Покоях королевы[956] в монастыре Святого Аньяна, солдаты отца развращали сына и даже водили его в притоны; случилось, что именно тогда был убит господин де Дюра[957]. Однажды отец повел его к господину д’Ашону, который, как и коннетабль[958], попал в руки господина д’Обинье, взявшего их в плен в сражении при Дрё[959]; д’Ашон, помещенный в новой башне с двумя кулевринами у входа в его комнату, был очень удивлен, когда его бывший маленький пленник упрекнул его в бесчеловечности, однако не оскорбляя его; тем, кто хотел принудить Обинье к ругательствам, мальчик ответил, что не может insultare afflicto[960].
В те дни четырнадцать военачальников поклялись отвоевать Турель[961], но только шестеро из них сдержали клятву и атаковали неприятельские укрепления. При этом господин д’Обинье-отец получил удар копьем под кирасу. Когда рана была почти залечена, ему поручили вести мирные переговоры; с этой целью он прибыл на корабле в Пуль-Бланш-дю-Портеро[962], где пребывала королева[963]; четвертым от своей партии он вошел в лиловую беседку Иль-о-Беф[964], где был заключен мир[965].
За эти переговоры и другие оказанные им услуги он был назначен докладчиком в королевском совете, исполняющим должность начальника управления по делам гугенотов. После смерти его преемником в этой должности назначен был господин де Кавань[966]. По заключении мира он удалился от дел, простился с сыном, напомнил ему слова, произнесенные в Амбуазе, завещал ему твердо держаться своей веры, любить науки, быть настоящим другом и, против своего обыкновения, поцеловал его. Заболев в Амбуазе от нагноения ран, он там и скончался, не сожалея ни о каких мирских делах, разве лишь о том, что возраст не позволяет сыну наследовать ему в его должности; он сказал об этом, держа в руке грамоту о своем назначении, которую потом отослал принцу Конде с просьбой не давать этой должности человеку, не способному умереть за Бога. Случилось так, что через шесть или семь дней после его смерти два человека из его свиты вернулись в Орлеан, чтобы произвести перепись оружия и других вещей, оставленных им в этом городе. У крыльца встретили они Обинье. При одном их появлении предчувствие смерти отца поразило сына в самое сердце. Он спрятался, чтобы посмотреть, как они будут себя держать, ведя своих лошадей в конюшню; он настолько утвердился в своем предчувствии, что в течение трех месяцев прятался, чтобы плакать, и, несмотря на уговоры окружающих, носил только траурные одежды.
<1565–1567> Опекуном его был назначен Обен д’Абвиль[967], который, принимая во внимание огромные долги отца, заставил его отказаться от наследства в четыре тысячи ливров ренты и содержал его на доходы с имущества матери, оставив его еще на год на попечении Бероальда. Потом тринадцатилетний Обйнье был отправлен в Женеву, где он слагал латинские стихи в большем количестве, чем прилежная рука могла бы записать. Он бегло читал труды раввинов[968], напечатанные без обозначения гласных, и переводил с одного языка на другой, не читая вслух подлинника. Он прошел курс философии и математических наук. Тем не менее, за незнание некоторых оборотов из Пиндара[969] его опять отправили в коллеж, после того как он два года уже слушал публичные лекции в Орлеане. Тогда он возненавидел словесность, стал тяготиться учением и досадовать на наказания; он предался шалостям, но даже и они вызывали в других восхищение. Господин де Без[970] хотел простить эти шалости, объясняющиеся, скорее, легкомыслием, нежели хитростью, но наставники были суровы, как Орбилий[971]. После двухлетнего пребывания в Женеве Обинье, без ведома родственников, отправился в Лион, где принялся за изучение математических наук и стал забавляться книгами о магии[972], заявляя, однако, что не производит никаких опытов. Когда однажды в Лионе у него не стало денег, а хозяйка требовала платы, он так огорчился своей нуждой, что, не смея вернуться на квартиру, не ел целый день и впал в крайнее уныние. Не зная, где провести ночь, он остановился на мосту через Сону; склонившись над водой, он проливал слезы и был охвачен сильным желанием броситься в реку; к этому его побуждали все невзгоды. Как вдруг, в силу своего воспитания, он вспомнил, что перед каждым поступком надо помолиться Богу. Последними словами его молитв были: «вечная жизнь»[973]; эти слова устрашили его и заставили воззвать к Господу о помощи в час гибели. Обернувшись, он заметил на мосту слугу, распознав его по красному сундучку, а потом увидел и господина; это был де Шийо[974], его двоюродный брат; посланный в Германию господином Адмиралом[975], де Шийо вез в Женеву отчаявшемуся юноше деньги.
Вскоре началась вторая война. Обинье вернулся в Сентонж к своему опекуну, который, видя, что его воспитанник забросил книги и бьет баклуши, намеренно держал его взаперти до начала третьей войны[976].
<1568> Услышав выстрел аркебузы, которым, по уговору, товарищи извещали его о своем выступлении в поход, затворник, одежды которого каждый вечер уносились к опекуну, спустился через окно на простынях в одной рубахе, босой, перескочил через две стены и у одной из них чуть не свалился в колодец; потом у дома Ривру[977] догнал товарищей, с удивлением глядевших, как человек в белом с криком и плачем бежит за ними; его ноги были окровавлены. Капитан Сен-Ло сначала пригрозил ему, чтобы заставить вернуться, но затем посадил в седло у себя за спиной, подложив грубый плащ, чтобы он не поцарапал себе зад пряжкою наспинного ремня.
В одном лье оттуда, на дороге в Рео[978], отряд увидел роту папистов, направлявшихся в Ангулем. Этот сброд рассеяли после короткого боя, в котором новый солдат, одетый в одну рубаху, получил аркебузу и кое-какое снаряжение, но не захотел взять никакой одежды, хотя товарищи советовали ему одеться. В таком виде прибыл он на смотр в Жонзак[979], где несколько военачальников вооружили и одели его. В конце своей расписки он прибавил: «Обязуюсь не упрекать войну за то, что она меня разорила, потому что не могу выйти из нее снаряженным хуже, чем в тот день, когда в нее вступил».
Место сбора всех войск было в Сенте[980], откуда господин де Миранбо[981], губернатор этой области, побуждаемый родственниками юноши, хотел его вернуть домой сначала увещаниями, а потом и насильно; но юный воин нарушил обязанности повиновения и, сославшись на то, что стоит в карауле, покинул вышеупомянутого господина и своего начальника Субрана[982], согласившегося на его задержание; он прорвался сквозь целую роту, бежал и, поднеся шпагу к горлу двоюродного брата, следовавшего за ним по пятам, достиг дома капитана Аньера[983], который, как он знал, был в ссоре с господином де Миранбо. На следующий день в стычке между Аньером и Миранбо Обинье был первым начавшим перестрелку и чуть не убил своего двоюродного брата, сторонника Миранбо.
В ту лютую зиму, однажды вечером, пикеты господина Аньера расположились в виду неприятеля у замерзшего болота, так что вдали от огня люди дрожали от холода, а у костра мокли в грязи; старый сержант Дофен дал Обинье зажечь фитиль и, заметив, что он также продрог, одолжил ему свой шарф, к радости замерзшего юноши. Еще большие невзгоды претерпел Обинье в Перигоре, находясь при полку Пиля[984], и потом при возобновившейся осаде Ангулема, где он участвовал в штурме парка[985] и добыл себе в городе снаряжение. При переходе к Понсу, на ночлеге, он в изнеможении перебегал от костра к костру и нашел свою роту только под утро, когда уже со всех сторон слышались сигналы к подъему. Все эти страдания не мешали ему отворачиваться при встрече со своими хорошо снаряженными двоюродными братьями, чьих упреков он желал избежать.
<1569> Будучи под Понсом, он опять участвовал в штурме. При взятии города он защитил свою тетку, которую хотел изнасиловать некий капитан Баншро[986]. Он участвовал также в стычках при Жазнёй[987], в битве при Жарнаке[988], в большом сражении при Рошабее[989], но упустил случай повоевать при Монконтуре[990], отступив вместе со своими земляками в местность, где подвергся опасностям не меньшим, чем в бою, ибо в то время сеньор де Савиньяк[991] предпринял известное дело, описанное в первом томе «Истории», в книге пятой, главе 16-й; Обинье не пожелал рассказать в ней о том, как он рисковал, притом столько раз, что вспомнил о своем неповиновении родителям и, молясь Богу, в смятении сказал, обвиняя самого себя: «Неукротимый человек будет укрощен страданиями», – и т.д.[992]
При переправе через Дронну[993] ему помог крестьянин, сначала хотевший убить его; вслед за Обинье, против всякого ожидания, переправился и его конь, которого он с трудом вытянул из тины; переправившись через Иль у Лобардемонта[994], его проводник довел его до местечка Кутра[995], но не посмел пойти дальше. Упомянем мимоходом, что в доме Савиньяка к Обинье привели этого крестьянина, по кличке Пейро из Фарга, и Обинье узнал его среди представленных ему шести человек – у страха хорошая память. Въехав в Кутра, Обинье направился по улице и спустился к броду, но, начав расспрашивать о дороге, увидел бегущих к нему от мельницы четырех аркебузиров; они целились в него, а другие следовали за ними. Тогда, недолго думая, он бросился в воду и поплыл; плывя, он держал над водой тот пистолет, которым не пользовался в бою; достигнув берега, он спасся, наперекор тем, кто стрелял в него, и тем, кто бежал наперерез. Опасности, угрожавшие ему в этом деле, повторялись и впоследствии, как вы еще увидите, но ничто не могло его образумить.
Дабы вы имели понятие о необузданном его нраве, упомяну о том, как однажды, проходя в числе пятисот аркебузиров перед принцем де Конде, он обозвал тех, кто снимал шапку, новобранцами. Заметив это и пожелав с ним познакомиться, принц велел предложить ему место у себя на службе. Господин де Ла Каз[996] сообщил ему об этом в таких выражениях, будто желал подарить Обинье принцу. На что сумасброд ответил: «Знайте свое дело – заботьтесь только о поставке принцу ваших псов и ваших коней». Таков второй пример его неукротимого своеволия.
<1570> До конца третьей войны он был в Сентонже; он присутствовал при поражении двух итальянских рот и двух рот Л’Эрбетта при Жонзаке[997], где ему поручили командование двадцатью аркебузирами,отчаянными молодцами; высокая и выгодно расположенная баррикада хорошо оборонялась, но была взята благодаря доблести Буарона[998].
Клермон д’Амбуаз[999], Ранти[1000] и другие укрепились в Аршиаке[1001]; Ларивьер Пюитайе[1002], стоявший в Понсе с пятью итальянскими и четырьмя французскими конными отрядами, много раз нападал на этих дворян, причем бывали жаркие дела, в которых гвардейцы д’Асье[1003] кое в чем оказались для сентонж-цев учителями. Там Обинье имел честь сразиться с одним всадником, вызвавшим его на бой, и выстрелил на столь близком расстоянии, что уложил его. С тех пор он отказывался от многих назначений, желая командовать только первой ротою, которую и получил.
Когда Аршиак был осажден, Обинье находился под Коньяком[1004], но нашел возможность войти в город и провести с собой солдат, нагруженных порохом; один из них, желая запалить фитиль, поджег свою ношу, вследствие чего лишился зрения.
Знаменосец Аньера, Бланшар, впоследствии прозванный Клюзо, и Обинье повели добровольцев на штурм Коньяка и там, на рынке, встретив решительный отпор со стороны стражников, еще решительнее бросились в сражение, в особенности Обинье. Одетый в один лишь камзол, он атаковал баррикаду у подъемного моста, опрокинув буфет и два сундука; так, зайдя с тылу, со стороны города, он взял ее, но потерял, однако, несколько своих славных солдат. За проявленную удаль Аньер оказал ему честь, поручив ему вести переговоры о сдаче. В этом деле один дворянин был поднят подъемным мостом и возвращен только вместе с крепостью. Последним из военных приключений Обинье в этой войне явилось взятие Понса[1005], каковое описано в конце 24-й главы в книге пятой.
Следует прибавить, что на обратном пути, когда еще тянулись мирные переговоры и полк Аньера с опаской проходил мимо Руаяна[1006], наш новый знаменосец получил разрешение ввести в бой тридцать конных аркебузиров, доблестно держал себя в деле с бароном де Лагардом[1007], угрожавшим разбить полк, принял на себя атаку и этим спас товарищей. Через два часа изнурительная лихорадка уложила его в постель. Он решил, что умирает, и заговорил так, что у посетивших его военачальников и солдат волосы встали дыбом: он мучился угрызениями совести, каясь в том, что под его предводительством солдаты совершали грабежи, и особенно в том, что не смог наказать солдата-овернца, который без всякой причины убил одного старика-крестьянина[1008]. Он обвинял себя в том, что осмелился начальствовать, когда возраст еще не дал ему на это права. Эта болезнь совершенно изменила его, и он опять стал самим собою.
По окончании третьей гражданской войны и заключении мира[1009] его опекун дал ему, вместо всех его ценностей, немного денег и купчую на землю в Ландах[1010]. Хотя Обинье и страдал от перемежающейся лихорадки, он отправился в Блуа. Там выяснилось, что управляющий герцога де Лонгвиля[1011] объявил себя наследником Обинье, воспользовался его имуществом и, встретив его как самозванца, вызвался доказать ему, что Обинье убит, прибавив, что он располагает верными свидетелями его смерти, такими как Савиньяк. Потрясенный этим известием и другими печалями, юноша обратился к родственникам со стороны матери, жившим поблизости в окрестностях Блуа, но они отвернулись от него из ненависти к его вероисповеданию. Болезнь ввергла его в такое состояние, что можно было ожидать только смерти. Терзаемый приступами лихорадки, он предсказал им, что когда-нибудь они воздадут ему должное. Его арендатор посетил больного и узнал его по знаку на лбу, оставшемуся после чумы, перенесенной им в Орлеане. Но, увидя его в столь тяжелом состоянии, без признаков жизни, этот злодей вступил в соглашение со лженаследниками, боясь необходимости уплатить аренду за три года сразу. Тогда несчастный, лишенный родных, лишенный денег, расположения и здоровья, приказал везти себя на корабле в Орлеан, а с корабля – в суд и там получил разрешение защищать свое дело, полулежа на скамье за низкой оградкою. Заключительная часть его речи была столь пламенна, а несчастье столь велико, что, когда судья с негодованием взглянул на его противников,те вскочили с мест и, воскликнув, что только сын Обинье может говорить подобным образом, попросили у него прощения.
<1571> Получив свое небольшое имущество, он влюбился в Диану де Сальвиати, старшую дочь владельца замка Тальси[1012]. Эта любовь внушила ему стихи на французском языке; он сочинил то, что мы называем его «Весной»[1013]; в этой книге многое не отделано, но жар ее придется многим по сердцу.
<1572> У Монса в Эно начались военные действия[1014], для которых Обинье набирал роту. Во время свадебных празднеств[1015] он находился в Париже, ожидая назначения; будучи секундантом одного своего друга в поединке близ площади Мобер[1016], он ранил полицейского сержанта, пытавшегося его арестовать; это происшествие заставило его покинуть Париж. Через три дня произошли события Варфоломеевской ночи.
Здесь я хочу привести пример того, как Бог управляет храбростью людей: получив известие о резне, Обинье, в сопровождении восьмидесяти человек, среди которых можно было отобрать дюжину отважнейших солдат Франции, пустился в путь, впрочем без цели и плана, когда при неожиданном беспричинном возгласе «Вот они!» все они обратились в бегство, подобно стаду баранов, так что им не хватило, скорее, дыхания, нежели страха. Потом, опомнясь, они взялись за руки по трое или по четверо, каждый будучи свидетелем храбрости соседа, взглянули друг на друга, краснея от стыда, и сознались, что Бог не дарит, но дает в долг и храбрость, и рассудок. На следующий день половина этих людей пошла навстречу шестистам убийцам, спускавшимся по реке из Орлеана в Божанси[1017]; они поджидали за насыпью, пока порядочный отряд не высадился на берег; когда их обнаружили, они бросились на врагов и преследовали их, убивая, вплоть до кораблей; этим они спасли Мер[1018] от разграбления[1019].
Удалившись в Тальси, Обинье послал сорок человек своей роты в Сансер[1020], сам же, предпочитая отправиться в Ларошель вместе с теми, кто питал те же намерения, укрылся на несколько месяцев в Тальси. Однажды, рассказывая о своих злоключениях отцу любимой им девушки, он упомянул, что недостаток средств мешает ему отправиться в Ларошель. Старик возразил: «Когда-то вы мне сказали, что подлинники бумаг, касающихся амбуазского дела, были отданы на хранение вашему отцу и что к тому же на одной из них стоит подпись канцлера де Лопиталя[1021]. В настоящее время Лопиталь поселился в своем доме близ Этампа[1022]; этот человек нынче никому не нужен; к тому же он выразил порицание вашей партии. Если хотите, я пошлю предупредить его, что вы располагаете этими документами. Я берусь заставить либо его, либо тех, кто воспользуется бумагами против него, уплатить вам десять тысяч экю». Выслушав его, Обинье принес мешочек из старого бархата, показал бумаги и, подумав, бросил их в огонь. При виде этого владелец Тальсийского замка стал его укорять. Обинье ответил: «Я сжег их из боязни, что они сожгут меня: я избег соблазна». На следующий день старик взял влюбленного за руку и сказал: «Хоть вы мне и не открыли своих намерений, но я достаточно зорок, чтобы заметить вашу любовь к моей дочери. Ее руки домогаются многие люди, превосходящие вас богатством». Когда Обинье сознался в своей любви, старик продолжал: «Вы сожгли бумаги из боязни, что они сожгут вас; это побудило меня сказать вам, что я хочу считать вас моим сыном». Обинье ответил: «Сударь, за то, что я презрел суетное и нечестным путем стяжаемое сокровище, вы даете мне другое, ценность коего измерить я не в состоянии».
Через несколько дней после этого разговора Обинье остановился в одной деревне в Босе[1023]. Какой-то человек, преследуя его верхом на арабском коне, чуть не убил его у дверей гостиницы[1024]. Тогда Обинье вырвал шпагу из рук помощника повара и в туфлях бросился на врага, поворотившего к нему коня; пеший Обинье наткнулся на лошадиную морду и был оглушен этим ударом. Придя в себя, он шпагою нанес удар всаднику, оказавшемуся в панцире; ударив опять, он всадил шпагу на полфута под кирасу; потом упал, бросившись в сторону, на лед. Всадник не преминул кинуться на него и нанести ему две раны, из них одну глубокую, в голову. Раненый Обинье опять бросился на противника и схватил его поперек тела, но конь, рванувшись, отбросил его на землю. Поняв по лицу врача, что рана опасна, Обинье не позволил снять с себя первую повязку и уехал до рассвета, чтобы умереть в объятиях любимой. Трудности проделанного им двадцатидвухмильного пути вызвали воспаление всей крови. Он заболел и молча лежал без чувств и без пульса. Два дня оставался он без перевязок и без еды. Наконец, благодаря подкрепляющим средствам, он ожил. По общему мнению, без этого обновления крови он не смог бы выжить и затем существовать при владевшей им врожденной необузданности.
Родственники его добились того, что епископ Орлеанский[1025] послал своего уполномоченного прокурора, с шестью судейскими чиновниками, дабы принудить сеньора де Тальси выдать им своего гостя. Но, не сумев вырвать ни одного настоящего признания, прокурор уехал, отказав в выдаче свидетельства обитателям замка и пригрозив разрушить дом. Тогда Обинье сел на коня, догнал всадников в двух милях от замка и, сунув прокурору пистолет в зубы, заставил его отречься от всех папистских уставов церкви. Этот палач избежал позорной смерти, тут же составив требуемое свидетельство.
Любовь и бедность помешали Обинье поспешить в Ларошель, но по причине различия вероисповеданий шевалье Сальвиати[1026] расторг предполагавшийся брак. Огорчение Обинье было так велико, что он тяжко занемог. Его посещали многие парижские врачи, а также де Постель[1027], который посоветовал больному исповедаться и остался оберегать его, чтоб его не зарезали.
<1573> Когда заключили Ларошельский мир[1028] и Месьё[1029] с королем Наваррским принялись за свои козни, управляющий королевским дворцом некий Эстуно напомнил своему господину[1030] об услугах, оказанных ему покойным д’Обинье-отцом, и посоветовал ему использовать д’Обинье-сына как человека, который ничего не боится. Соглашение между ними состоялось втайне перед самым началом Нормандской войны[1031]. Находясь сам под слишком тщательным надзором, пленный король пожелал отправить Обинье к месту военных действий с Ферваком[1032], в то время смертельным врагом гугенотов, как бы лично передав Обинье Ферваку. К тому же Ла Поплиньер[1033] и один нормандский священник надоумили Обинье попытаться спасти графа де Монтгомери[1034]. Обинье мог взяться за это дело, тем более что не был связан присягой. Вы прочтете о том, что именно он сделал для этого в качестве знаменосца при Ферваке и, вместе с тем, оруженосца короля Наваррского во второй книге II тома, глава 7-я[1035].
<1574> Уведомленный об этом накануне смерти короля Карла[1036], король Наваррский отозвал молодого человека. Желая видеть смерть короля, Обинье встретил при выходе из комнаты королеву-мать. Предупрежденная Матиньоном[1037], ненавидевшим Обинье за то, что тот приставил ему однажды пистолет ко лбу, и считая его к тому же преступным уже по одному имени, королева осыпала его упреками, сказав, что слышала о его делах в Нормандии[1038] и что он похож на своего отца. Смельчак ответил: «И слава Богу, если это так!» Увидя по выражению лица королевы, сопровождаемой одним Лансаком[1039], что ей не хватает только начальника караула, чтобы схватить его, он удалился, причем готов был отказаться от всех дел, если бы не заклинания со стороны его государя. К тому же Фервак, вернувшись, решительно заявил, что он поручится за дальнейшее пребывание своего младшего офицера при дворе; но на другой день отозвал его со всеми офицерами пленного короля Наваррского. По этой причине Обинье участвовал в Германии во взятии Аршикура[1040], куда он вошел первым, потом в стычке и сражении у Энского моста[1041], а на следующий день – в битве при Дормане[1042]. Однако из-за желания спасти графа де Монтгомери он так и не принес присяги[1043].
<1575> В этом сражении он шел на тридцать шагов впереди полка. Ему не попался в руки ни один начальник, кроме одного дворянина из Шампани, по имени де Верже, который надоедал ему, предлагая выкуп. Обинье отказался, хотя у него не было ни одного экю, ни коня: его конь был ранен в голову. Победитель сказал своему пленнику:
Это путешествие способствовало значительному сближению Обинье с господином де Гизом[1044], что отнюдь не помешало Обинье удержаться при дворе и еще больше сблизило его государя с герцогом. Эти два принца вместе спали, ели и устраивали маскарады, балеты, конные игры и парады, и все это придумывал один Обинье; уже в это время он составил план «Цирцеи»[1045] – балета, который королева-мать не захотела поставить во избежание крупных расходов; впоследствии король Генрих Третий поставил его на свадьбе герцога де Жуайеза[1046].
Вскоре Обинье приобрел своими остротами известность среди дам. Однажды, когда он сидел один на скамье, три фрейлины королевы – Бурдей[1047], Больё[1048] и Тени[1049], которым вместе было лет сто сорок, – почуяв в нем новичка, стали высмеивать недостатки его костюма. Одна из них, гнусавая, нагло спросила: «Что это вы созерцаете здесь, молодой человек?» Передразнивая ее, он ответил: «Древности двора, сударыня». Смутившись, дамы предложили ему дружбу, а также союз оборонительный и наступательный. Эти язвительные слова, а вслед за ними и другие, сблизили его с придворными дамами. К этому времени относятся различные стычки: сражение, которое он с тремя товарищами дал тридцати болванам-стражникам, большей частью алебардщикам; другое, в котором он спас маркиза де Тран[1050], преследуемого тридцатью людьми; еще стычка с телохранителями маршала де Монморанси[1051], осадившими Фервака в «Красной шапке»[1052]; еще другая, где Обинье и Фервак, сопровождаемые одним пажем и несколькими слугами, неожиданно подверглись нападению со стороны тринадцати грабителей в кольчугах и железных касках, причем оба были ранены; еще другие стычки с конной стражей, в которых ему помогал Бюсси[1053], сблизившийся с ним после того, как Обинье был секундантом Фервака на дуэли против этого молодца. Кроме того, в порыве безумства он повел нескольких молодых придворных, среди них графа де Гюрсона[1054], Сагонна[1055],Пекиньи[1056] и других, со шпагами наголо на штурм городского караульного помещения. Пробиваясь сквозь стражу, они вбегали в одни двери и выбегали в другие. В этой забаве молодчик был наконец схвачен у заставы Сен-Жак-де-Ла-Бушри[1057], вместе с несколькими людьми, которых они позвали на помощь; он был ранен, но когда его вели в тюрьму, нашел способ обнажить шпагу и, расчистив себе путь, бежал.
На турнире, где появились король Наваррский, двое Гизов и он сам, присутствовала Диана де Тальси, помолвленная с Лимё[1058] после того, как ее помолвка с Обинье была расторгнута по причине вероисповедания. По знакам уважения к Обинье со стороны двора эта девица увидела и узнала разницу между потерянным и приобретенным; после этого она впала в меланхолию, заболела и уже не оправилась до самой смерти.
Однажды королева-мать упрекнула зятя в том, что Фалеш, его мажордом, и его оруженосцы не ходят к мессе. Чтобы поправить дело, во вторник после Пасхи, когда принцы играли в лапту, король Наваррский спросил у Обинье, поднявшегося на галерею, причащался ли он перед Пасхою. Застигнутый врасплох Обинье сказал: «Еще бы, государь!» Но после того как король переспросил: «А в какой день?» – Обинье ответил: «В пятницу», не зная, что это единственный в году день, когда не бывает обедни. Тут господин де Гиз громко сказал, что Обинье нетвердо знает катехизис, а принцы засмеялись. Но королева-мать не шутила: она велела строго следить за Обинье. В то время у нее на службе состояло от двадцати до тридцати соглядатаев: почти все они были вероотступниками. Один из них, по имени Ле Бюиссон[1059], стал подбивать д’Анжо-старшего[1060] захватить герцога де Гиза. Обнаружив, как этот молодчик хочет погубить человека из хорошей семьи, Обинье рассказал об этом в Лионе Ферваку; Фервак посоветовал убить Ле Бюиссона в каком-нибудь из переулков, по которым тот обыкновенно водил д’Анжо в дом, где готовился заговор. Это и было бы исполнено, если бы, как раз когда Ле Бюиссону готовили засаду, в том же месте за почти такое же дело не был убит Намбю[1061].
После этого случилось, что Обинье с галльской откровенностью упрекнул госпожу Карнавале[1062] за ее кровосмесительную связь с Ферваком и за отравление ее матери, графини де Моревер[1063]. Тогда Фервак поклялся погубить его. Чтобы осуществить это намерение, хотя бы подвергнув опасности другого, он уведомил герцога де Гриза, что Ле Бюиссон, принадлежавший к его дому, хочет вместе с д’Анжо предать и захватить его и что Обинье знает это, но поддерживает Ле Бюиссона. И вот, втянутый в это дело, Обинье является к герцогу де Гизу, когда тот ложится спать, и требует, чтобы Фервак подтвердил свои слова; не угодно ли герцогу запереть его в помещении для игры в мяч вместе с этим предателем, чтобы тот сознался в заговоре. Герцог де Гиз был так осторожен, что послал Ле Бюиссона посмотреть, что делается в Лувре, и сказал Обинье: «Друг мой, это дело кинжалом да шпагою не решить. Нет, это означало бы бороться с королевой. Ведь Фервак прибегает к средствам, коими ты побрезгуешь; но никогда он не отведает моего хлеба». Как видно из этих слов, осторожность герцога соединялась с благоволением к Обинье.
Через несколько дней, как-то вечером, желая исполнить данное двоюродной сестре обещание убить ее обидчика, Фервак с видом отчаявшегося человека попросил Обинье пойти погулять с ним за Овражком Святой Екатерины[1064]. При этом он внушил Обинье некоторое подозрение своим слишком настойчивым желанием помешать взять кинжал, который нес слуга. Когда они очутились на маленьком, с тех пор перестроенном мосту, Фервак обратился к Обинье со следующими словами: «Друг мой, решившись покинуть этот мир, я жалею только о тебе; я пришел сюда покончить с собой; поцелуй меня, и я умру с радостью». Отойдя на один шаг, Обинье ответил: «Сударь, когда-то вы мне сказали, что перед смертью для вас было бы величайшим утешением отправить ударом кинжала за собою на тот свет лучшего вашего друга. Не советую вам умирать из-за дела, которое ровно ничего не стоит, как на него ни взгляни». Тут внезапно Фервак обнажает шпагу и кинжал и стремительно бросается на Обинье, отрекаясь от Бога и восклицая: «Раз ты мне не веришь, мы умрем оба!» – «Нет, – отвечает Обинье, – с вашего позволения, вы один». Отступив на три-четыре шага, он становится в оборонительную позицию. Фервак не нападает на него, а, бросив шпагу и кинжал, опускается на колени и, воскликнув, что потерял рассудок, просит противника убить его. Обинье отказывается, и они расходятся. Но через некоторое время, после того как Обинье по молодости лет помирился с Ферваком, этот враг отравил его супом. Обинье пришлось испражняться по восемьдесят раз в день, у него выпали волосы и стала шелушиться кожа.
Только много времени спустя он узнал, кто в этом виновен: лечивший его врач, по имени Стеллатус, рассказал, как Фервак, угрожая ему кинжалом, запретил ему говорить, что суп отравлен. Впоследствии, не получив поста Нормандского губернатора, Фервак пожелал поступить на службу к королю Наваррскому, причем не поскупился на лесть, чтобы помириться с Обинье, в то время имевшим большое влияние на своего государя, из чего родилось решение, описанное, как вы увидите, в томе II «Истории», книга вторая, глава 18-я[1065].
<1576> А вот особый случай, недостойный описания в «Истории». Король Наваррский[1066] как-то раз ненадолго остановился в деревушке под Монфор л’Аморе[1067], где ему случилось облегчиться, усевшись на квашню, в доме одной старухи. Застав его за этим делом, старуха собралась раскроить ему сзади череп ударом серпа, если б ее не удержал Обинье. Желая рассмешить своего господина, Обинье сказал: «Коли бы вас постиг столь печальный конец, я бы посвятил вам эпитафию в стиле святого Иннокентия[1068]. Такую вот:
В тот же день пришлось посмеяться еще раз: один дворянин, увидя, что отряд приближается к его деревне, поехал навстречу, дабы выпроводить незваных гостей, но оказался в затруднительном положении, не зная, кто начальник. Наконец он выбрал Роклора[1069], одетого нарядней всех. Просьба дворянина не трогать его деревню была удовлетворена, но ему приказали провести отряд до Шатонефа[1070]; это придумали только для того, чтобы он не смог сообщить об их бегстве. Он заговорил с королем о любовных похождениях придворных, в особенности принцесс, причем не пощадил королеву Наваррскую. Ночью у ворот Шатонефа случилось Фронтенаку[1071] сказать капитану Л’Эпину[1072], квартирмейстеру государя, переговариваясь с ним через стену: «Отворите вашему хозяину!» Дворянин, знавший, кому принадлежит Шатонеф, перепугался до смерти. Обинье указал ему окольную дорогу, советуя бежать и не показываться в своем имении в течение трех дней.
Пробравшись через Алансон в Сомюр[1073], король Наваррский жил, не соблюдая религиозных обрядов. На Пасху никто не причащался, кроме Ла Рока[1074] и Обинье. По приезде Лавердена[1075] Обинье отправился с ним воевать в Мэн[1076], откуда он доставил штандарт Сен-Фаля[1077] королю Наваррскому в Туар[1078], вслед за чем перессорился с тридцатью придворными кавалерами и ввязался в дуэли и прочие стычки, описанные, в главе 19-й вышеназванной второй книги.
Затем король Наваррский отправился в Гасконь[1079], где Фервак совершил несколько покушений на жизнь Обинье. Не имея возможности пребывать при этом государе, Фервак, после того как простился, задержался при нем еще на три месяца, дабы осуществить дело мести[1080]. В то время возникла любовная связь между королем и юной Тиньонвиль[1081], добродетельно сопротивлявшейся, пока она не вышла замуж. Для этих похождений король хотел использовать Обинье, будучи убежден, что для него нет ничего невозможного. Достаточно порочный в крупных делах, Обинье из прихоти, может быть, не отказал бы в подобной услуге какому-нибудь товарищу; но в данном случае, не желая получить звание и должность сводника, которое называл «пороком нищенской сумы», он встал на дыбы, и ни чрезмерные ласки его государя, ни бесконечные просьбы, ни коленопреклонение, ни умоляюще сложенные руки не смогли его тронуть. Тогда, забив отбой, государь воспользовался враждой Фервака к Обинье, чтобы Обинье почувствовал необходимость в своем короле. Итак, однажды в доброй компании он сказал Обинье: «Фервак говорит, что не совершил в отношении меня измены, о которой вы мне сообщили, и что он с вами еще будет драться». Обинье ответил: «Государь, он не мог передать мне эти благородные слова через человека, принадлежащего к столь прославленному дому; он почтил меня, назначив своим знаменосцем; принимая это во внимание, я возьмусь за шляпу, прежде чем взяться за шпагу». Потом, когда король долго не хотел мириться, Обинье напомнил ему клятву[1082], произнесенную ими в тот день, когда король поцеловал в щеку своих сторонников.
Проездом через Пуату некий игрок на лютне, по имени Тужира, служивший у отца Обинье, а потом у Ла Буле[1083], познакомил Обинье со своим господином и его двоюродным братом де Сен-Желе[1084], после чего эти два человека предложили другим владетельным сеньорам и дворянам, таким как Мондион[1085], Бертовиль[1086] и другие, ждать Обинье на сундуках и в гардеробной до часу ночи и сопровождать его мимо расставленных Ферваком засад, обнаруженных в Лекторе[1087]. Как-то вечером, возвращаясь один, выслеживаемый встретил Сакнэ, бургундского дворянина[1088], который подстерегал его на углу улицы, вооруженный пистолетами со взведенными курками. Обинье схватил его за горло так ловко, что отнял у него оба пистолета, но не захотел сделать ему больше ничего худого, ибо Сакнэ, когда-то служивший под началом Обинье, признался, что стоит здесь против воли, и открыл ему еще другие намерения Фервака. Потерпев в них неудачу, Фервак покинул этот двор, предварительно сказав Фекьер, фрейлине Мадам[1089], будто скорбит о зле, которое причинил своему бывшему другу, хочет проститься с ним и вымолить у него прощение. По молодости своей и неопытности Обинье побежал было к злодею, дабы предупредить это благое намерение. Но когда он поднимался по лестнице в комнату Фервака, выходивший оттуда Ла Рок посоветовал ему поскорей уйти, сказав: «Это ловушка: он только и ждет, чтобы убить вас и потом уехать».
С тех пор положение Обинье при дворе пошатнулось. Заметив это, друзья долго убеждали его приспособиться к желаниям своего государя. Однажды в числе других Фонлебон[1090] и еще один человек увещевали его в продолжение шестимильного пути, ссылаясь на то, что паписты не столь суровы, как гугеноты, и завоюют сердце нашего государя разными угождениями, а это нанесет ущерб его религии и протестантским церквам. Восхищаясь блистательным даром красноречия Обинье, его стихами и прозой[1091], а также его любезностью в обхождении с придворными, Ла Персонн[1092] в заключение объявил, что надо все это использовать, дабы заслужить милость своего государя. Тогда Обинье слез с коня и сказал первому из своих собеседников: «Итак, вы говорите, что надо стараться для блага церкви?» – и второму: «А вы – что Бог наградил меня великим дарованием и любезностью, чтобы сделать меня свободным?»
Утвердившись в своем намерении и полагая, что Обинье превосходит его в упорстве, король Наваррский воспользовался следующим случаем: однажды ночью ему чуть не пришлось обнажить шпагу против каких-то бродяг; Обинье бросился защищать своего государя и исполнил свой долг. За это король стал назначать его своим телохранителем в любовных похождениях, а потом рассказывал об этом пасторам и самым влиятельным вельможам своей партии. Из лукавства он делал ему всяческие неприятности, запрещал выдавать ему жалованье и даже портил его одежду, чтобы довести его до крайности и тем самым вынудить к смирению.
<1577> Обинье был послан подготовить к войне области и губернаторства Гиени, Перигора, Сентонжа, Ангумуа, Ониса, Пуату, Анжу, Турени, Мэна, Перша, Боса, Иль-де-Франс, Нормандии, Пикардии[1093], с поручением проникнуть в Артуа для некоторой опаснейшей разведки[1094]. Как только его послали, уведомленная об этом королева-мать за его спиной стала строить против него разные опасные козни, как это изложено в конце главы 4-й книги третьей тома II «Истории»[1095]. Добавим сюда только, что по дороге он составил торжественную речь, которую произнес барон Миранбо, и что к концу путешествия, встретив отряд дворян, направлявшихся в замок Сен-Желе[1096], он сдался им в плен, чтобы вернее найти своего друга Сен-Желе, к которому эти люди из Ванзе и повели его пленником. Когда господин д’Анвиль[1097] выступил в поход, Сен-Желе поручил своему пленнику командовать лазутчиками. В этом деле выстрел из аркебузы прожег на Обинье казакин.
По приезде в Гасконь он и Ла Ну[1098] совершили безрассудное по смелости нападение[1099], описанное в главе 6-й той же книги, где упомянуто имя лейтенанта Вашоньера[1100]. Вы должны также узнать еще о двух предметах его гордости, не заслуживших упоминая в «Истории»: во-первых, заметив, что только у него одного в отряде были налокотники на руках, он снял их перед сражением; во-вторых, среди опасностей он переложил шпагу в левую руку, дабы спасти надетый на эту руку браслет, сплетенный из волос его возлбленной[1101]. Этот браслет загорелся от выстрела из аркебузы. Капитан Бурже[1102], который был в этом деле с ним, сообщил ему, что видел это, а Обинье, чтобы объяснить подобное хладнокровие в сражении, показал ему изображение земного шара и креста на эфесе своей шпаги. Избежав этих опасностей, он не уклонился и от прочих при взятии Сен-Макэра[1103]; довольно подробное описание сего события можно прочесть в конце той же главы, под тем же заголовком.
Много раз при всяком удобном случае Обинье искал опасности и славы, что вызвало в его государе не только гнев, но и зависть. Однако в то время, когда король был в нерешительности относительно положения в Лангедоке, он послал туда именно Обинье, который и завершил переговоры так, как это описано в главе 7-й той же книги, а по возвращении подвергся многим опасностям и побывал в различных переделках[1104]. Он допустил тяжкую ошибку, чему виною его религиозный пыл; ибо не должен был сразу же называть поименно отступников никому, кроме господина де Ла Ну, внимательного его слушателя: ему следовало бы промолчать в присутствии названного начальника, и не только на сей раз, но и в прочих случаях, о коих можно прочесть в главе 12-й той же книги[1105].
Здесь мне хотелось бы упомянуть, что, узнав о том, что король не препятствовал намерениям заколоть его кинжалом и бросить в воду, Обинье однажды за ужином в большой компании обратился к своему государю со следующими словами: «Итак, государь, вы могли замыслить смерть того, кого Бог избрал орудием вашей жизни. Я укоряю вас не за услугу, оказанную мною вам, и не за мою плоть, простреленную во многих местах, а за то, что я служил вам честно, и вам не удалось сделать из меня ни льстеца, ни сводника. Да простит вас Бог за то, что вы искали моей смерти; по этим словам вы можете понять, как я хочу ее ускорить». Тут последовали такие колкости, что король встал из-за стола. Да послужит вам этот рассказ предостережением от подобных вольностей.
В «Истории» мы не упомянули о том, что Обинье, еще не оправившись как следует от лихорадки, промучившей его целую неделю, по причине своей слабости попросил, чтобы ему для поединка дали кинжал в одну руку и пистолет в другую; дуэль не состоялась, но друзья посоветовали ему убраться подобру-поздорову, что он и исполнил, направившись в Кастель-Жалу[1106], где у него была должность. Надо заметить, что многие придворные короля Наваррского, из которых Констан[1107], Сент-Мари[1108], Арамбюр[1109]служили примером другим, проводили его на прощальное свидание к государю, на которое Обинье отправился, возвращаясь с прогулки и не сходя с коня. Приехав в Кастель-Жалу, он написал Лавердену следующее: «Сударь, напоминаю вам, что, вопреки всем предупреждениям, я искренне доверился вашему слову: предоставить преимущество вызова мне; какой бы сомнительной ни оказалась, если не ваша честность, то, по крайней мере, ваша предусмотрительность, если господин Ла Мадлен[1110] хочет противопоставить свою шпагу моей, – между этими местами и Нераком[1111] есть хороший песчаный участок; я готов явиться в любой час и любое место, какое вы назначите; мне не нужно никакого поручительства, кроме вашего слова».
Вскоре после этого произошло сражение[1112], описанное все в той же главе 12-й. По окончании его, когда тяжело раненный Обинье лежал в постели и врачи уже опасались за его жизнь, он продиктовал местному судье первые отрывки из своих «Трагических поэм»[1113].
Не скрою от вас проявления зависти со стороны государей: приехав в Ажен[1114], молодой Баку[1115] на вопрос короля Наваррского, как произошел бой, не поскупился на похвалы Обинье, потому ли, что молодые люди не знают меры ни в восхвалении, ни в порицании, или потому, что считал своих товарищей и себя обязанными жизнью тому, кто, сражаясь, пострадал за них. Когда этот молодой человек сказал, что видел, как Обинье, прежде чем выстрелить, воткнул свой пистолет до середины дула между кирасой и буйволовым воротником капитана Мето[1116], король назвал его лжецом. После этого Баку попросил своих родных, живших в Кастель-Жалу, написать ему, что они знают об этом. Ответное письмо он передал Лавердену, который и отнес его королю, прибавив, что оба Межа[1117], Батаве[1118]и три других человека показывали раны на лице, полученные ими от Обинье, которого большинство из них хотели убить, когда он лежал на земле. Сказав это королю, Лаверден заметил, что это собственными глазами видел капитан Доменж[1119] и что Обинье был в полном сознании. Этот капитан поклялся не возвращаться ко двору, не способствовав поражению врага. Между тем Обинье выздоровел и повел своих на Байону, в бой, описанный им в главе 13-й.
Доменж, выполнив свой обет, отправился к своему государю в Ажен. Король бросил играть в лапту с Лаверденом, чтобы расспросить приехавшего. Доменж рассказал об этом деле, не так превознося своего начальника, как Баку, но хваля его более толково. Он тотчас потерял расположение своего государя и награду за тридцать восемь выстрелов из аркебузы, которые заслужил у короля. Заметьте, на что способны великие мира сего, даже лучшие из них.
После смерти Вашоньера жители Кастель-Жалу хотели попросить назначить им губернатором Обинье. Но Обинье воспрепятствовал этому, так как государь был озлоблен против него; после взятия приступом Кастельно-де-Мом[1120], по направлению к Бордо, владелица местного замка, проникнув в постель и в сердце Лавердена, легко заставила победителей отказаться от продолжения военных действий, хотя господа де Мерю[1121] и де Ла Ну от имени партии противились этому. Жители Кастель-Жалу упорно продолжали войну; госпожа де Кастельно поспешила в Бордо и заставила выступить адмирала де Вилара[1122] с четырнадцатью орудиями, после того как король Наваррский дал обещание, что для Обинье подкрепления не будет. Пока адмирал приближался, Обинье выехал с пятьюдесятью латниками и двумя сотнями конных аркебузиров. Его люди бросились на землю и дали увести обратно своих коней. Приняв этот отряд за подкрепление, присланное вопреки обещанию, адмирал дал сигнал к выступлению и отошел к Мансье[1123].
После этого Лаверден стал соблазнять солдат из гарнизона Кастель-Жалу, убеждая их, что, повинуясь приказу своего полковника, они не будут считаться изменниками. Этот приказ гласил: идти на помощь Ла Салю дю Сирону[1124] из враждебной партии, чтобы отвоевать крепость. Солдаты донесли об этих речах своему начальнику. Разъяснив им положение дел, он повел гарнизон в бой и, войдя ночью, сразился с папистами, причем был ранен и оставил на поле битвы сорок шесть нападавших. Король Наваррский был так разгневан этой дерзостью, что потребовал сдачи мятежного Кастельно, угрожая четырьмя пушками. Ему ответили, что не побоялись бы и четырнадцати.
Вскоре мир был заключен[1125]. Вернувшись, Обинье написал королю, своему государю, прощальное письмо в следующих выражениях:
«Государь, ваша память с упреком перечислит вам двенадцать лет моей службы и двенадцать моих ранений в живот; она напомнит вам, что вы были в плену, а также и то, что рука, которая вам это пишет, открыла засовы вашей тюрьмы[1126] и, служа вам, осталась свободной от ваших благодеяний, незапятнанной несмотря на попытки ваших врагов и ваши собственные подкупить меня. Этим письмом предаю вас Богу, которому я посвятил свою прежнюю службу и посвящаю будущую. Этой будущей службою я постараюсь доказать вам, что, потеряв меня, вы потеряли преданнейшего слугу, и т. д.».
Проезжая Ажен, он явился к госпоже де Рок[1127], которая по-матерински утешала его в печалях. Там увидел он большую собаку – испанскую ищейку по имени Ситрон, которая некогда привыкла лежать у ног короля, часто между Фронтенаком и Обинье. Подыхавшее от голода бедное животное подошло к нему приласкаться. Тронутый этим, Обинье поместил его у одной женщины и велел пришить ему к весьма изношенному ошейнику следующий сонет:
На следующий день эту собаку не преминули подвести к королю, проезжавшему через Ажен. Прочитав эти стихи, король изменился в лице. Еще больше был он взволнован, когда через некоторое время на съезде в Сент-Фуа депутаты Лангедока[1128] спросили, где Обинье, спасший их провинцию. По их единодушной просьбе к государю отправились господа д’Иоле[1129] и де Пажези[1130], дабы от имени церквей спросить, что сталось со столь преданным служителем Бога. Король ответил, что еще считает Обинье своим и прикажет вернуть его. Между тем Обинье намеревался проездом проститься со своими друзьями из Пуату, продать свое имущество и поступить на службу к герцогу Казимиру[1131]. Но случилось иначе: приехав в Сен-Желе, еще не слезая с коня, он увидел в окне Сюзанну де Лезе[1132], из семьи де Дивонн. Он так был пронзен любовью к ней, что свою Германию нашел у господ де Сен-Желе и де Ла Буле, ухватившихся за этот случай, чтобы доверить своему другу различные замыслы. С другой стороны, к этой новой любви примешивалась жажда отдыха. Кроме того, желая быть полезным, он не пренебрег ничем, чтобы внушить уважение к себе своим единомышленникам и вызвать сожаление о потере в своем неблагодарном государе.
Итак, он отправился на разведку в Нант[1133], где чуть было не попал в плен; с тех пор он решил действовать не там, а в Монтегю и Лиможе[1134], куда был вызван господами дю Пренсе[1135] и дю Буше[1136], которые, по их словам, ценили в нем не только ум и совесть, но еще и доверие к нему гугенотов. Впрочем, подробности об этом деле вы найдете в четвертой книге, главе 4-й «Истории»; прибавлю только следующее: Обинье предсказал двум негодяям, что им скоро отрубят головы, и даже определил, сколько ударов получит каждый.
Упреки со стороны церковных общин за Обинье и горечь утраты вызвали в короле сожаление, а обнаруженные измены врагов Обинье еще усилили это чувство. К этому примешалась ревность и страх, что покровительство над церквами перейдет к герцогу Казимиру. К тому же государь часто слышал или сам передавал множество рассказов о подвигах Обинье. Все это вынудило короля Наваррского снова призвать его четырьмя письмами; но Обинье бросил их в огонь. Между тем бунтарь узнал, что государь, прослышав о событиях в Лиможе и считая, что Обинье попал в плен, велел заложить кольца своей жены, чтобы выкупить его; но не это все тронуло Обинье, а известие, что король, считая его обезглавленным, чрезвычайно опечалился и отказался от нескольких обедов.
Ла Буле однажды обсуждал с Ла Мадленом ссору между ним и Обинье, и тот рассказал, как их задумали столкнуть без всякой на то причины; тогда Ла Буле с юной горячностью бросился на него со шпагою, затем пообещал ему призвать к себе на помощь друга. Обинье, которого Ла Буле известил о случившемся, решил, что дуэль должна произойти при Наваррском дворе. Он написал Ла Буле, веля ему устроить ужин и ночлег с Ла Мадленом, чтобы поутру им вместе выехать оттуда и сразиться на полпути меж Барбастом[1137] и Нераком, в одних рубашках, на шпагах и с кинжалами. С этой целью он доехал на перекладных от Мера, что близ Орлеана, до Кастель-Жалу, откуда послал слугу; тот доставил ему в Барбаст письма, которыми Ла Буле уведомлял его, что договор заключен и что Ла Мадлен переночует в одной с ним комнате, дабы не проспать поединок. Назавтра Обинье, помолившись и плотно позавтракав, поджидал в условленном месте, как вдруг завидел двух всадников, из коих скачущий впереди Ла Буле еще издалека закричал ему: «Чудо! Поединка не будет!» Ибо противника в полночь разбил паралич, лишив владения всеми членами. «Вот, – подумал Обинье, – как услышаны мои молитвы». Позднее, восемь лет спустя, Обинье повстречал Ла Мадлена в Монтобане[1138]; тот шел со шпагою, но одеревенелою походкой; Обинье послал к нему Фронтенака узнать, в достаточной ли мере вылечился его противник и в состоянии ли он будет сразиться с ним, к чему Обинье весьма стремился; ответ был «нет», и Фронтенак вернулся ни с чем к своему другу, ожидавшему его за городскими воротами, хотя Ренье[1139] и Фава[1140] горячо отговаривали его от дуэли; Обинье же непременно желал поединка, к чему побуждала его громкая слава недруга, который убил восьмерых дворян, не потеряв притом ни единой капли крови.
Придворная молодежь, называвшая себя демогоргонистами, а предводителя своих безумств Демогоргоном[1141], отправилась навстречу Обинье, примирившемуся с королем. Надо еще упомянуть, что камер-лакея по имени де Кур[1142], забавнейшего и храбрейшего человека, которого дал королю Обинье, не могли удержать просьбами ни государь, ни сам Обинье: он не оставил Обинье в его злоключениях. Но когда мир с королем был заключен, де Кур вернулся ко двору за неделю до прибытия Обинье. Король спросил де Кура, откуда он явился; тот ответил: «Да» – и на все дальнейшие вопросы кстати и некстати также отвечал «Да». «Ведь короли, – сказал он, – увольняют честных слуг за то, что те не всегда говорят «Да»».
<1580> Король принял Обинье ласково, с искупительными обещаниями. Королева приняла его по-родственному, надеясь получить от него то, чего не находила у других. Вскоре, желая решить вопрос о войне в связи со сдачей крепостей, король Наваррский призвал на совещание только виконта де Тюренна[1143], Фава, Констана и Обинье. Из этих пяти лиц[1144] четверо были влюблены. Выбрав в советчики любовь, они решили вопрос в пользу войны[1145], которая описана в главе 4-й книги четвертой в томе II.
Я уже говорил о том, что Лиможское дело явилось средством примирения короля с его слугою: вот почему приглашаю вас прочесть обо всем этом в начале указанной главы, где вы найдете важные подробности; в следующей главе можно узнать о начале военных действий, а в шестой – о взятии Монтегю[1146]; конец этой главы посвящен подвигам того, о ком идет речь, и опасностям, коим он подвергался, но особенно достоверно говорится обо всем этом в главе 10-й той же книги, посвященной осаде Блаи[1147], где Обинье допустил следующий промах: вернувшись в войско, решившее в его отсутствие ретироваться, он обязан был получше удостовериться в наличии осадных лестниц; тут же отметьте и чрезмерное его тщеславие и дерзкие слова, за которые Бог наказал его: слова эти дорого обошлись ему, когда Пардайан[1148] посоветовал королю Наваррскому остеречься и не давать губернаторства столь дерзкому хвастуну[1149].
Во время военных действий граф де Ларошфуко[1150] привез в Нерак понсского губернатора Юссона[1151]; друзья Обинье уведомили его, что Юссон рассказал о событиях под Блаи к невыгоде Обинье, предпринявшего это дело. Тогда Обинье взял с собой Лаллю[1152] и трех дворян, помогавших ему в этом предприятии; подвергаясь большим опасностям, он проехал восемьдесят миль от Монтегю до Нерака; по приезде он попросил короля призвать на очную ставку с ним Юссона; он рассказал все, как было, и Юссон подтвердил каждое его слово. Таким образом Обинье получил возможность опровергнуть тех, кто хотел бы исказить события; кое-кто из свиты Юссона получил выговор, после чего пришлось искать соглашения. Отсюда заявление короля Наваррского, которое вы найдете в бумагах вашего отца и сохраните как почетную грамоту[1153].
Благодаря этому путешествию Обинье присутствовал в Нераке при дерзком набеге маршала де Бирона[1154], описанном в главе 11-й. Обнаружив эпидемию страха среди гасконских гугенотов, он собрал старых знакомых из Кастель-Жалу и поддержал честь партии. Принцессам[1155] и людям, в то время враждебно настроенным, это событие показалось значительней, чем оно того заслуживало. Потом, возвращаясь в сопровождении пятнадцати конных аркебузиров из Кастель-Жалу, Обинье подвергся нападению со стороны шестидесяти легковооруженных всадников под командованием Лаэ[1156], близ Кура[1157]. Наш Обинье так искусно нашел выгоды в этом положении, что у нападавших было убито трое дворян, а у него было только двое раненых. Но он едва не покрыл себя позором, продвигаясь среди виноградников Сен-Прё[1158] к Жарнаку[1159]; в полночь, проходя по узкой тропинке всего с пятью сопровождавшими из Монтегю, Обинье первый увидел ехавших ему навстречу всадников, которые, недолго думая, схватились за шпаги; если бы люди Обинье, не желавшие ввязываться в эту стычку, могли удрать, они бы непременно так и поступили, очутившись с четырех сторон во вражеском окружении и не пользуясь никакой поддержкою в этой местности. Но это было бы явным позором: их противниками оказались два католических священника и двое пьяниц, которые оставили ножны в трактире, но поклялись нападать на всех встречных; за это они здорово поплатились.
Этот год прошел под Монтегю в славных военных упражнениях[1160]. Находившаяся там конница состояла из трех бригад; одна была отдана губернатору Ла Буле, другая – господину де Сент-Этьену[1161] и немного больше трети – Обинье. Этих всадников прозвали в тех местах «албанцами»[1162] за то, что они были всегда в седле. При одном набеге их нападению подвергся Пелиссоньер, знаменосец из отряда герцога дю Мэна[1163]; потеряв восемь человек, он спасся, но выстрелом из пистолета ему перебило руку. В другом набеге, под Анже[1164], Обинье рассеял роту из полка Брюйера[1165]. Тем не менее, Монтегю был осажден[1166].
Вы прочтете в главах 15-й и 16-й о героической подготовке к обороне. Добавлю только, что десять попыток проникнуть в Монтегю, когда в ход пускались то веревка, то кинжал, отбиты были только благодаря умению Обинье разбираться в лицах. Тридцатью вылазками, из которых в десяти пришлось вступить в рукопашный бой, руководил Обинье; всего одну вылазку совершил Сент-Этьен с людьми из Нижнего Пуату в подражание подвигам тех, кого они прозвали «албанцами», но это послужило только к славе Обинье. Знайте же, что Обинье и был тем самым капитаном, коему граф де Люд[1167] поручил объявить о мире[1168]; заслуга в этом деле, как и во многих других, принадлежит ему, хотя в «Истории» он и укрылся под вымышленным именем.
По заключении мира он нашел в Либурне множество вельмож[1169] и удобный случай совершить все то, что описано в главе 2-й книги пятой того же тома[1170]. Хочу лишь добавить к сему рассказ об одном галантном происшествии, которое я не осмелился включить в «Историю». Однажды, гуляя с Обинье по берегу реки Дронны, некий португальский коннетабль[1171] принялся испускать глубокие вздохи, сорвал с дерева кусок коры (в ту пору деревья были в цвету) и, рассказав на испанском языке о своем томлении по некоей даме, начертал на этой коре следующие строки:
Обливаясь слезами, он хотел стать на колени и бросить написанное в воду. Обинье схватил его за руку, быстро прочитал вслух эти стихи, тут же переложил это латинское шестистишие во французский лирический сонет и записал его на той же коре:
Своей живостью Обинье снискал дружбу коннетабля, и необычным образом они разговорились о религии.
<1581> Теперь упомяну об услуге, которую Обинье оказал королю в деле Лоро[1173], которое описано в главе 4-й той же книги. В это время король Наваррский был озабочен военными приготовлениями господина де Лансака[1174], с одной стороны, и виконта д’Обтера[1175] – с другой, собиравших войска якобы друг против друга под предлогом ссоры. Участвовавший в этом Люссан[1176], которому при дележе шкуры еще не убитого медведя показалось, что его обошли, явился совершенно один к охотившемуся королю Наваррскому и открыл ему, что на Ларошель готовится нападение через решетку, что у мельниц Святого Николая[1177]. Посланный по этому делу Обинье явился в ларошельское городское управление и потребовал, чтобы жители выбрали трех человек, которым он мог бы сообщить тайну. Жители Ларошели ответили, что все они, никого не выбирая, хотят узнать ее и все они верны королю Наваррскому. Обинье ответил, что Иисус Христос, значит, сделал неудачный выбор[1178], и если они не хотят поступить по-другому, то он, Обинье, целует им на прощанье руки. Вынужденные, таким образом, выбрать трех человек, они нашли решетки перепиленными полностью, не считая двух прутьев. Но Обинье так и не смог убедить их устроить засаду злоумышленникам.
Через месяц заговорщики вновь сели на коней. Обещав своему господину расстроить замыслы его врагов, наш Обинье взял несколько гвардейцев и других солдат – всего до десятка отборных молодцов – и, смешавшись со всадниками заговорщиков, направился к Ларошели. Ночью Обинье ехал вместе с ними, а днем держался в стороне, решив броситься ночью к воротам города, который подвергнется набегу, взять в подкрепление нескольких аркебузиров и сразиться с заговорщиками в четверти мили оттуда. Это было хорошим средством пресечь всякие попытки нападения.
Проезжая через Кадийяк[1179], король Наваррский попросил великого Франсуа де Кандаля[1180], достаточно известного под этим именем, показать ему свой великолепный кабинет. Кандаль согласился при условии, что туда не войдут невежды и насмешники. «Нет, дядюшка, – сказал король, – я приведу только тех, кто способен оценить это так же, как я». Он вошел с господином де Клер-во[1181], Дюплесси[1182], Сент-Альдегондом[1183], Констаном, Пеллиссоном[1184] и с Обинье; пока гости забавлялись, наблюдая, как при помощи машины шестилетний ребенок поднимает тяжелую пушку, Обинье, опередив их, остановился перед плитой из черного мрамора в семь квадратных футов, которая служила Кандалю доской для записей. Найдя все, что необходимо для писания, Обинье взял кисть и, услышав, что его спутники спорят о весе и тяжести, написал:
Потом он задернул занавес и присоединился к свите. Когда они подошли к мраморной плите, господин де Кандаль сказал королю: «Вот мои записи!» Вдруг, заметив и прочитав этот дистих, он дважды воскликнул: «Здесь есть человек!» – «Как! а остальных вы разве считаете зверями?» – возразил король и предложил своему «дядюшке» угадать по лицу, кто из присутствующих выкинул эту штуку. Предложение вызвало множество острот, которые немало меня позабавили.
<1582–1583> Придворные только что проводили королеву Наваррскую до Сен-Мексана[1186], ко двору. Со времени пребывания в Либурне королева всегда строила козни против Обинье. Заподозрив, что это он нанес sfrisata[1187] госпоже де Дюра[1188] или, по крайней мере, посоветовал оскорбить ее Клермон д’Амбуазу[1189], она заставила королеву-мать присоединиться к ее просьбе, бросилась на колени перед королем, своим супругом, умоляя его, ради любви к ней, никогда больше не видеться с Обинье. Король ей это обещал. Она не могла простить Обинье нескольких острых слов, сказанных, в частности, по следующему случаю: жена маршала де Реца[1190] подарила Антрагу[1191] алмаз в виде сердца; отбив Антрага у жены маршала, королева отобрала и это алмазное сердце, чтобы похвастать им; между тем Обинье поддерживал жену маршала в борьбе против королевы, а королева слишком часто говаривала: «Но у меня ведь алмазное сердце». «Да, – сказал однажды Обинье, – только кровь козлов может его разъесть»[1192].
Для видимости покинув двор, Обинье проводил ночи в комнате своего господина; благодаря этому притворному отсутствию он распознал своих лжедрузей. Он воспользовался этим временем, чтобы отправиться на любовное свидание, пока король будет писать к его любимой[1193]. Соперники и некоторые родственники сочли эти письма подложными. Тогда король явился сам; маскарадами, конными состязаниями, игрою в кольца он почтил выбор, сделанный его слугой. Эта любовь развеселила весь Пуату балетами, состязаниями у барьеров, конными парадами и турнирами, что устраивали влюбленные. На некоторых из них присутствовал принц де Конде[1194], граф де Ларошфуко и многие другие вельможи. Это лишь удвоило зависть и вызвало в стране ропот против придворного, который, вместо того чтобы угождать населению, только ослепляет его. Расскажу вам об одной из его многочисленных любовных хитростей.
По наущению Обинье его друг Тифардьер[1195] после разных ссор притворно помирился с Бугуэном[1196], опекуном девушки, и обратился к нему со следующими словами: «Многие принцы и вельможи докучают вам возражениями против брака Обинье. Я знаю, что у вас к нему не лежит сердце и что вы дали обещание в другом месте; если вы меня не выдадите, я сообщу вам средство отделаться от Обинье так, чтобы он не смог к вам придраться». После обещаний и объятий Тифардьер продолжал: «Вы должны внушить ему уверенность, что, женясь на вашей воспитаннице, он оказывает ей честь, будучи образцовым дворянином и человеком из хорошей семьи. Но, как это случается с приезжими, его соперники распускают слухи, будто это не так, не смея подтвердить их в его присутствии. Вы попросите его вспомнить, как на празднестве в одном доме, куда некоторые лица принесли письма господина де Фервака, направленные против Обинье, он, Обинье, сказал им в лицо, что если не сможет набить им сердце опровержениями, то набьет им щеки оплеухами. Он знает, что эти истории принудили его послать опровержение господину де Ферваку. А так как все это дошло до сведения госпожи д’Ампьер[1197], герцогини де Рец, госпожи д’Эстиссак[1198], графини де Ларошфуко[1199] и других столь же знатных дам из того же рода, он хочет показать, что действовал не опрометчиво. Надо было бы заключить соглашение, по которому родственники девушки обязались подписать брачный договор, получив свидетельства о благородном и старинном происхождении Обинье и, в случае отказа, обещали вернуть их. Я отлично знаю, – добавил Тифардьер, – что Обинье не сможет представить подобные грамоты».
Бугуэн расцеловал вестника, поблагодарил его и стал с нетерпением ждать выполнения их решения согласно этому совету. Обинье же, который раньше никогда не заботился ни об имуществе, ни о доме, ни о титулах, теперь получил вместе с частью мебели и родовые грамоты из Аршиакского замка[1200], куда они были положены на хранение. Узнав таким образом о своем происхождении, он прибег к надувательству и, чтобы удачно довести дело до конца, выбрал господина де Корню[1201], родственника своей возлюбленной, чтобы вручить ему свое сокровище, предупредив его: если кто из родственников, способных по возрасту носить оружие, в это вмешается, он будет иметь дело с Обинье. Итак, собравшись, господа де Маре[1202], де Бугуэн, Ла Тайе[1203] и Корню обнаружили любопытное исследование о ссоре и тяжбе между отцом Обинье и дворянином по имени Арден[1204], спорившими о почетном месте в одном шествии, причем Обинье-отец утверждал, что происходит из дома анжуйских Обинье. А так как вышеупомянутый Арден сослался на вольные ленные права и выставил против Обинье-отца королевских чиновников, причем тяжба стоила больше тысячи экю и продолжалась три года, надо было представить брачные договоры и документы о разделах имущества по шести линиям. Все восходило к некоему Савари д’Обинье[1205], уполномоченному короля английского в Шинонском замке. Пришлось также показать родственникам невесты часовню, им возведенную и украшенную родовым гербом, где был изображен в золотом поле стоящий на задних лапах вооруженный серебряный лев. Господа де Ла Жуслиньер[1206], происходившие от той же ветви, с тех пор покрыли своего льва горностаем. Эти вещи были таким образом найдены, и Обинье потребовал у старцев обещания составить и подписать свое решение, чтобы у него было на кого сослаться. После этого, по возвращении к Наваррскому двору, он, согласно условию, женился на любимой девушке[1207].
<1583>Через три недели, вернувшись в По[1208], он нашел своего государя в великом гневе после гнусных оскорблений, которым королева Наваррская подверглась в Париже[1209]. Об опасном путешествии, неохотно предпринятом Обинье в связи с этими событиями, вы прочтете в главе 3-й пятой книги, где он не захотел упомянуть о принятом им необычном решении убивать направо и налево кого попало в кабинете[1210], если ему будет угрожать кинжал. Он не упомянул о том, как проездом через Пуатье, дав переписать и засвидетельствовать свои бумаги, он послал подлинники в запечатанном ларце на хранение жене и запретил открывать его. Вопреки любопытству, свойственному ее полу, жена исполнила это приказание. Еще я должен сказать, что Сен-Желе, находившийся в По, впал в такое уныние после отъезда своего друга, что перестал стричь волосы и бороду. Увидя, что его посланец живой и невредимый входит в дворцовый сад в По, король тотчас сказал одному дворянину: «Передайте Сен-Желе, чтоб он остригся».
<1584> Несколько лет спустя герцог д’Эпернон[1211] по ходу своих дел приложил немало усилий, чтобы помирить обоих королей[1212]. Находившиеся при короле Наваррском паписты строили всяческие козни, чтобы внушить ему желание поехать ко двору. Председатель совета Сегюр[1213] решительно воспротивился этому благодаря вмешательству Обинье. Зная характер Сегюра, злонамеренные лица нашли способ отправить его ко двору. Там они приготовили ему столько услад, что овладели душой этого человека, склонного к крайностям, и тогда он обещал привезти своего господина, а по возвращении только и говорил, что король – ангел, а пасторы – дьяволы. Он примкнул к графине де Гиш[1214], которую незадолго до того поносил. Наваррский двор был очень удивлен предполагаемым путешествием государя. И вот к какому средству прибег Обинье, особенно хорошо знавший Сегюра: однажды, когда Сегюр проходил через зал, где молодые придворные бились на рапирах, разгоряченный этими упражнениями Обинье, взяв его за руку, подвел к окну, выходившему на Баизские скалы[1215], и, указав ему на пропасть, сказал: «Я уполномочен всеми честными людьми этого двора обратить ваше внимание на этот обрыв, куда вас заставят прыгнуть в тот день, когда наш государь уедет ко двору». Крайне удивленный, Сегюр спросил: «Кто посмел бы это сделать?» – «Если я не смогу это сделать один, – ответил Обинье, – вот мои товарищи, они на все готовы». Обернувшись, Сегюр тотчас увидал десяток храбрейших юношей, нахлобучивших шляпы, как подучил их Обинье, хотя они не знали, о чем идет речь. Испугавшись, Сегюр отправился к королю, но рассказал ему не о своем страхе, а о том, что будто бы Обинье открыто называл графиню де Гиш колдуньей, обвинял ее в том, что она помутила разум короля, сопоставляя ее уродливую рожу со страшной любовью, которой она воспылала, и советовался с врачом Оттоманом[1216] о питье, чтобы расколдовать государя. Сегюр прибавил, что у короля-гугенота надзирателей не меньше, чем слуг, что самые грязные плотские увлечения государя почитаются вельможами. Он еще рассказал, что господин де Бельевр[1217], живущий напротив дома графини, увидя, как она шла к мессе в сопровождении только сводника, шута, чародея, мавританки, слуги, обезьяны и пуделя, упомянул в беседе с Обинье о почестях, воздаваемых при дворе подругам королей, и спросил у него: неужели наваррские придворные потеряли честь и почему эта дама показывается со столь скверною свитой? «Дело в том, – ответил злоречивый человек, – что при дворе есть благороднейшая знать, но видите вы здесь только сводников, шутов, слуг, обезьян и пуделей».
После этого, совершив поездку в Пуату, Обинье был предупрежден Ла Буле и Констаном, чтобы он остерегался вернуться: графине и Сегюру обещана его смерть. Получив это письмо в Монлье[1218], он оставил там своих лошадей, пересел на почтовых и приехал. У дворца Мадам[1219] он увидал Ла Буле, который, в отчаянии ломая руки, стал умолять его уехать. Но Обинье, против обыкновения, привесил к поясу кинжал и, пройдя через потайные двери, застал врасплох короля и графиню, одних, в кабинете Мадам. Король колебался, не зная, как принять Обинье. Тот даже в лице не изменился; пользуясь близостью к своему господину, он не чинясь, спросил его: «Что случилось, мой повелитель? Почему столь храбрый государь дает себя увлечь столькими сомнениями? Я приехал узнать, виноват ли я и хотите ли вы заплатить мне за службу как добрый государь или как тиран». Смутившись, король ответил: «Вы ведь знаете, что я вас люблю, но прошу вас успокоить Сегюра». Отправившись тотчас же к Сегюру, Обинье так потряс его упреками в подлости и видом кинжала, что Сегюр явился к королю со словами: «Государь, этот молодой человек честнее нас с вами». В доказательство примирения он велел выплатить Обинье причитавшиеся ему за его поездки две тысячи пятьсот экю, получить которые Обинье уже не надеялся.
Вернувшись к мужу, королева Наваррская примирилась со всеми, кроме Обинье. Тем не менее приглашенный на совещание лиц, замышлявших убить королеву, он своими укорами расстроил эти замыслы; за это король его поблагодарил[1220].
Вступая в брак, Обинье обязался купить в Пуату имение Шайю[1221]. Между тем секретарь Паризьер[1222] предупредил короля[1223], что необходимо воспрепятствовать трем делам в этой области: браку принца де Конде, из-за Тайбура[1224], браку Обинье, из-за Марсе[1225], и браку Ла Персона, из-за Денана[1226]; тогда по этим трем делам были отправлены письма и распоряжения. Начались происки, но что касается Шайю – они не удались: Обинье же пристыдил прокурора и королевских чиновников из Пуату за то, что приближенные навязывают великим государям столь низкие и недостойные цели.
<1585> Вскоре началась война баррикад[1227], перед которой гугенотские принцы съехались на важное совещание в Гитр[1228]. То, что там произошло, подробнейшим образом описано в главе 6-й пятой книги тома II, там же рассказано о жестокой и кровавой битве при Сен-Мандене[1229]; мне нечего добавить к сему повествованию.
Что же до поездки герцога де Меркюра[1230] в Пуату, то скажу лишь, что Обинье, служивший там полковником, начал с того, что, против желания начальника своего, приказал выдать пики пехотинцам, хотя тот этих людей ненавидел. В «Истории» Обинье описал все это, скрыв себя под званием полковника.
Вскоре Сен-Желе и Обинье с десятком дворян и еще пятнадцатью солдатами взяли в плен три роты пехотинцев в Бриу[1231], заставив их подписать капитуляцию; здесь применено было известное положение договора, опровергающее ту самую гнусную статью Констанского Собора[1232].
Когда принц де Конде осадил Бруаж[1233], он сделал вылазку в Анже[1234], о чем вы можете прочесть в главе 12-й книги пятой; в этом деле Обинье подвергся величайшим опасностям, из коих самая удивительная состояла в следующем. В течение трех недель ходили слухи, будто Обинье убит в одном из уже упомянутых боев; слухи эти достигли и госпожи д’Обинье; в один прекрасный день на ее скотном дворе появилось пятнадцать коней и семь мулов мужа, которые среди других вещей привезли его шляпу и шпагу; при этом зрелище госпожа д’Обинье упала в обморок. Дело в том, что при выезде из пригорода Анже багаж Обинье, по его приказанию, последовал за полком, а сам Обинье оставил при себе лишь шапочку, надеваемую под каску, очень короткую шпагу и протазан; потом, вступив в родные места, он известил жену о своем прибытии двумя записками, из которых одну послал на расстоянии десяти миль, опасаясь, как бы от внезапной радости она не умерла.
<1586> По приезде он надеялся извлечь из своих неудач выгоду – возможность отдохнуть[1235]; но герцог де Роан[1236], жители Ларошели и в особенности пасторы в полном составе заклинали его опять привести свой полк в боевую готовность и снова поднять знамя Израиля[1237]; при этом они поднесли ему необходимые для этой цели дары. Он начал с четырех рот, имевшихся в его распоряжении при осаде, потом выбрал остров Рошфор[1238], чтобы обеспечить начало военных действий, собрал тысячу сто человек и двинулся в Пуату, где и совершил то, что описано в начале тома III, главе 2-й. Следует также добавить, что он намерен был укрепиться на островах Ва[1239] и Сен-Филибер[1240], не дожидаясь просьб господина де Лаваля[1241]. Оказавшись вследствие этого в опасности во время боев в Сентонже и Пуату, Обинье захватил Олерон[1242], где допустил важную ошибку: обнаружив некоторое сопротивление на острове, он настрого запретил своим офицерам пытаться высадиться на берег до него. Побуждаемый тщеславным чувством, он сел в лодку, взяв с собой Монтея де Лиля[1243] и капитана Пру[1244] в качестве гребца. Вдруг в трехстах шагах от своего судна, ошеломленный, он увидал, что приближавшаяся к нему рыбачья барка оказалась военным кораблем, на котором находился капитан Медлен[1245], искусный и прославленный воин. Располагая только шестьюдесятью мушкетами, но хорошо зная приемы плавания и прибрежные пески, капитан поднял паруса. И вот он плывет прямо на будущего олеронского губернатора. Пру кричит Обинье: «Вы погибли, единственное средство спасения для вас – пройти под бушпритом[1246] этого судна». Обинье соглашается. Пру поворачивает прямо на врагов; поняв его намерения, Медлен велит направить на него мушкеты и с двадцати шагов поливает лодку свинцом. Благодаря горячности неприятеля при стрельбе, у Монтея была пробита только одежда. Пру был легко ранен, а Обинье остался невредим. Когда они отошли на десять шагов от носа судна, Пру встал и крикнул: «Повесьтесь, палачи: это олеронский губернатор!» Тут с корабля не преминули дать по ним еще залп, но понапрасну: бруажцы налегли на весла, лодка врезалась в песок, они высадились, и в то же время на берег бросились солдаты Обинье; защитники острова бежали.
Добавлю к тому, что содержится в «Истории», следующее: в первый вечер, когда армия, прибывшая на пятидесяти судах, готовилась к высадке, два шлюпа с Олерона, на каждом из коих было по двадцать человек, ворвались в самую середину армады, захватили две сорокатонных барки и начали буксировать их к берегу под залпами с двух галер; один из шлюпов был перехвачен, второму удалось достичь Олерона.
Вот что я добавлю к тому, что описано в книге первой тома III. Знайте также, что в продолжение всего олеронского боя[1247] Обинье был только в рубашке кроме двух раз, когда надел каску, чтобы отправиться на разведку. Островитяне собрали четыре полные повозки припасов, среди которых были приготовлены три дюжины фазанов, с целью порадовать ими господина де Сен-Люка[1248]. Подъехав к местечку и увидя перемены в судьбе, они захотели вернуться. Этому воспротивился прокурор острова, большой весельчак и шутник; он привез эти припасы и сказал Обинье: «Сударь, не надо скрывать положение дел, мы приготовили этот подарок для того, кто останется хозяином».
Первым распоряжением после освобождения острова было снять с должности капитана Бурдо[1249] за то, что, будучи обязанным защищать лучшую часть окопов, он со своей ротою решил сдаться отдельно. Было принято решение перерезать этих людей. Но старый военачальник по имени Ла Берт[1250] заявил, что подобное кровопускание нецелесообразно. Тогда Обинье ввел в караулы двадцать дворян, что должно было обеспечить верность роты. В свое оправдание Бурдо ссылался на то, что его отряд по большей части состоял из папистов. Вскоре начали возводить укрепления; в две недели соорудили завалы и в три месяца – два рва, из которых один наполнили ключевой водой, а другой – морской, с рыбами, пресноводными и морскими.
Прибыв в Ларошель, король Наваррский посетил Олерон, но не пожелал увидеть солдат местного гарнизона на вечернем параде, ибо граф де Ларошфуко[1251] уведомил его, что они отняли у купцов, плывших мимо Олерона, двести пар пунцовых штанов с серебряными позументами. К тому же великолепные пиры, которые Обинье задавал всем придворным, вызвали зависть государя и его слуг.
Католики из Бруажа предприняли пять вылазок на остров, но каждый раз бывали отбиты, и скоро больше не осталось солдат, которые не были бы взяты в плен. Однако все они были отпущены на свободу за выкуп, кроме тех, кто был захвачен в большом сражении. Этим пришлось вызволять галеры капитана Буассо и его сподвижников[1252].
Веселое это положение завершилось взятием в плен самого губернатора[1253], каковое описано в конце главы 5-й. Затем последовало решение Обинье вернуться в тюрьму[1254], где он доказал свою верность.
В смертельной опасности он обратился к Богу с молитвой, которую на следующий день, освобожденный, переложил в латинскую эпиграмму[1255], впоследствии помещенную среди других его эпиграмм и начинающуюся словами: Non te caeca latent[1256].
Я уже говорил вам о завистливом характере короля Наваррского. Вот вам некоторые образчики. Один молодой человек из хорошей ларошельской семьи презирал бедного пехотинца, младшего офицера, под началом которого служил и дважды сидел на гауптвахте. Однажды он оскорбил его, крикнув: «Ты мне не командир!» Офицеры Олеронского гарнизона, собравшись, приговорили его к расстрелу. По просьбе товарищей юноши этот приговор был заменен разжалованием и исключением из списков. Тогда тетка этого молодого человека, при посредничестве двоюродной сестры, рассказала королю о суровом приговоре, на который жаловался ее племянник. Воспользовавшись этим случаем, чтобы оскорбить Обинье, король послал за ним пристава Совета.
Олеронский губернатор, считая, что король призывает его, чтобы узнать его мнение о приближении маршала де Бирона[1257], был поражен, увидя своего молодца разодетым в шелк стараниями его кузины и сопутствуемого мэром Гитоном[1258] и двадцатью другими родственниками, ждавшими у дверей Совета. Насмешливо отвесив несколько поклонов входившему Обинье, король сказал: «Да хранит вас Бог, о Серторий[1259], Манлий Торкват[1260], старый Катон[1261], и если в древности существовал военачальник еще суровей, да сохранит вам Бог и его!» На эту колкость Обинье немедленно ответил: «Если дело идет о правилах дисциплины, против которой вы являетесь обвинителем, позвольте заявить вам отвод». Тут он вышел в другую комнату. Не пожелав сесть, Обинье сослался только на отказ в повиновении и замолчал. После обмена мнениями председательствовавший господин де Вуа[1262] горячо поблагодарил Обинье, попросил его и впредь защищать дисциплину от дурных начальников, во власти которых она находится, и прибавил: «Мы должны исправить только одно: столь справедливо приговорив к смертной казни бунтовщика, стоявшего на часах, вы, однако, взяли на себя смелость смягчить этот приговор, между тем как это право принадлежит только генералу». Очень довольный, что его порицают именно за это, Обинье заявил Совету, что, будучи отрезан морем от материка, а также имея поручение отливать пушки и готовиться к сражению, он позволил себе простить солдата. С его объяснениями согласились, а короля долго открыто порицали за его вражду к поддержанию порядка и к справедливому правлению. Подобные колкости и в особенности продажа Олеронского округа врагам[1263], чего Обинье не мог вынести, так как приобрел его слишком дорогой ценой, вызвали в нем желание вернуться домой и внушили ему справедливую жажду мщения. Он пришел к несправедливой мысли, которую раньше не могли породить в нем ни огорчения, ни опасности: выйти в формальную отставку и потом умереть при выполнении какого-нибудь великого дела. Но, видя, что партия привержена к религии и он также, смирив по этому случаю дьявольские искушения, он решил презреть все, чему его наставляли с детства, взяться за изучение спорных пунктов обеих религий и жадно искать в римско-католиче-ской вере хотя бы крупицу спасения души. В гневе он обнаружил и огласил это намерение. Тогда господа де Сен-Люк, де Лансак[1264], д’Ала[1265] и другие враги-паписты послали ему отовсюду книги. Сначала Обинье принялся читать Панигаролу[1266], но бросил его за болтливость. Потом Кампиануса[1267] и был восхищен его красноречием. Но это было не то, чего он искал, и, отбросив эту книгу, он написал на титульном листе «10 Declamationes»[1268] вместо «Rationes»[1269]. Потом ему попалось под руку все, что в то время было издано Беллармином[1270]. Он проникся приемами и силой этой книги, ему полюбилось кажущееся простодушие автора, приводящего выдержки из враждебных ему текстов; он надеялся найти то, чего искал. Однако, принявшись за любознательное исследование с помощью Витакера[1271] и Сибранда Люберта[1272], он более, чем когда-либо, утвердился в своей вере, а тем, кто спрашивал у него о плодах его чтения и о его намерениях, отвечал, что победил соблазн усердием, ибо перед чтением становился на колени и молился.
Через шесть месяцев дела партии пришли в самое жалкое состояние. Король старался помириться с Обинье и в знак примирения отдать ему на воспитание своего новорожденного побочного сына[1273]. Обинье оставил это предложение без внимания. Тогда король предложил ему совершить разведку в сторону Тальмона[1274].
<1587> Как раз в то время, когда герцог де Жуайез собирался в свою первую поездку в Пуату[1275], албанцы послали вызов к сражению на копьях двадцати шотландским дворянам[1276], о чем рассказывается в главе 11-й книги первой последнего тома. Добавлю к сему, что Рузий[1277], секундант албанцев, сказал, что, если один из шотландцев погибнет, албанцы отнюдь не уменьшат численности своих бойцов, коих будет по-прежнему двадцать. На это Обинье заметил, что он в таком случае станет на сторону шотландцев, на что последовал ответ, что тот будет тогда албанцем; в заключение Обинье сказал: «Будем же шотландцами и албанцами, и пусть ни один не погибнет», каковые слова и были скреплены рукопожатием.
К чести армии, разведка эта способствовала поражению двух главных отрядов герцога де Жуайеза, как вы и увидите из главы 12-й следующей книги[1278]. После этих трудов и сражений Обинье проболел четыре месяца. Еще не выздоровев но узнав о готовящейся битве[1279], он направился в Тайбур[1280]. Не найдя там уже выступившей армии, он, за неимением лучшего прикрытия, набрал пятнадцать отставших аркебузиров, восемь всадников и много челяди; из них, опасаясь засад в Сенте[1281], он составил цепь как можно длинней, что было легко сделать, так как эти люди привыкли к беспорядку; это послужило ему на пользу, когда он наткнулся на три роты в трех засадах, ночью, в очень густых лесах, на узкой дороге. Благодаря длинной цепи все три засады были сняты и его солдаты не были окружены. Обинье два раза атаковал врага и несколькими ударами шпаги рассеял эту сволочь; люди из Сента унесли тела одного убитого лейтенанта и одного ротного знаменосца, а также несколько солдат, раненных шпагами в схватке; у Обинье ранен был только один человек. Удачно распутав это дело, Обинье присоединился к армии при ее выходе из Монгюйона[1282] и на следующий день служил королю оруженосцем в сражении, пока король ехал на своем куцехвостом коне[1283]. Потом в числе пяти членов военного совета Обинье участвовал в выработке плана сражения, и король не отверг его мнения. Особенно хорошо поступил Обинье, предохранив левый фланг[1284], как это описано в главе 14-й. Перед боем король переменил коня; тогда Обинье занял место среди полевых командиров. В стычке после первого натиска он вынужден был иметь дело с господином де Во[1285], лейтенантом господина де Бельгарда[1286], который, увидя, что у противника лицо открыто, так как тот был еще слаб, сильно ударил его мечом, но попал в подбородник шлема; сам же де Во, не имея шлема, получил удар в правый глаз. Обинье пронзил ему голову. Уже раньше три или четыре раза, в разных местах, Обинье имел дело с этим же противником. При преследовании к нему присоединилось десять знатных дворян, попросивших его начальствовать над ними, что он и сделал. На протяжении трех миль они гнали врагов с боем, помешав им собрать свои силы.
У короля Наваррского руки теперь были развязаны; он пожелал осуществить в Бретани некий замысел, который Обинье пятнадцать лет назад хотел поручить господину де Ла Ну[1287], а потом виконту де Тюренну[1288]. Этот последний преклонил колени перед королем, прося доверить ему выполнение поручения, но государь, не желая ничего прибавить к славе первого и могуществу второго, долго отказывался, а потом пожелал осуществить этот замысел при помощи более хрупкого орудия, которое можно будет разбить, когда оно слишком заблестит. Поэтому он поручил это дело Дюплесси-Морне и заставил Обинье, как автора плана и человека нужного, помогать ему в работе. Обинье согласился и на это как на почетное предложение, но указал королю, что дело не удастся, так как морские силы подчинены сухопутным, а должно быть наоборот; так и случилось.
<1588> Между тем государь осадил Бовуар-сюр-Мер[1289], где пожелал вырыть траншею, состязаясь с несколькими полковниками; но, увидя, что те его опережают, поручил свою работу Обинье. Чтобы опередить их, Обинье выбрал восемь капитанов, дал каждому по шесть солдат с наспех сделанными переносными подмостками и начал рыть свою траншею от края рва. Кое-что об этом деле рассказано в 7-й главе книги второй.
По возвращении оттуда между Сен-Жаном[1290] и Ларошелью король Наваррский, усадив рядом с собою господина де Тюренна и Обинье, поведал им свои сомнения: жениться ли ему на графине де Гиш, которой он дал безусловное обещание? Он попросил первого и приказал второму быть готовыми на следующий день высказать свое мнение: первого – как доброго друга, второму – как верному слуге. Ночью господин де Тюренн, опасаясь этого поручения, под надуманным предлогом уехал в Маран[1291], а Обинье, связанный своей должностью в качестве оруженосца, решил исполнить свой долг. Утром, едва выехав из города и запретив кому бы то ни было приближаться к нему, король взял с собой одного Обинье. Сказав несколько слов об отговорке виконта, он принялся говорить и в течение двух с половиною часов привел тридцать историй о древних и новых государях, которые оказались счастливыми, женившись ради своего удовольствия на женщинах более низкого происхождения. Потом коснулся такого же количества других браков, в которых стремление вступить в выгодное родство оказалось гибельным и для государя, и для государства. В заключение он упомянул о несправедливости тех, кто бесстрастно хочет распоряжаться страстной душой государя. Наконец король сказал Обинье: «На этот раз я особенно нуждаюсь в вашей прямоте». Обинье же, проведя ночь в мыслях о порученной ему задаче и получив приказание говорить откровенно, начал с того, что ненавидит дурных слуг, подыскивающих подобные истории для своих господ и непростительно виновных в том, что бесстрастно разжигают простительную страсть. «Государь, – сказал он, – все эти примеры прекрасны, но бесполезны для вас: ведь упомянутые вами государи пребывали в состоянии мира, их не преследовали, они не скитались, как вы. А вашей душе и вашему положению опорой служит только добрая слава. Государь, вы должны различать в себе четыре звания: Генриха, короля Наваррского, наследника французской короны и покровителя церквей. У каждой из этих особ есть свои слуги, которых вы должны оплачивать в различной монете, по их различным должностям. Тем, кто служит Генриху, вы должны поручить Генриха, то есть дела вашего дома; слугам короля Наваррского – все заботы вашей верховной власти; тем, кто следует за дофином[1292], вы должны платить надеждой, ибо их привлекает надежда, и манить их к этой прекрасной цели, проявляя щедрость. Но платить тем, кто служит покровителю церквей, – задача трудная для государя, ибо награда этих людей – усердие, честность, добрые дела; кто является в каком-нибудь отношении вашим слугой, в другом – ваш сотоварищ, но при условии, что он должен оставить вам наименьшую долю опасностей и наибольшие почести и выгоды войны. Зная, как вы ненавидите чтение, я не подозреваю вас в том, что вы нашли приводимые вами примеры в книгах. Этот неправедный труд должен быть последним для тех, кто взялся за него, чтобы угодить вам, причиняя вам вред. Все упомянутые вами государи не имели достойнейших слуг, которые являлись бы судьями и помощниками своих повелителей; их слуги должны были терпеливо выжидать, пока пройдет государев гнев и смолкнет брань. Итак, государь, поделите ваши мысли и отдайте, по крайней мере, половину их слугам, благодаря которым вы существуете. Я сам был слишком влюблен, чтобы надеяться или желать разбить ваше сердце своими доводами. Вы охвачены страстной любовью; не надо больше обсуждать, сумеем ли мы изгнать ее; но говорю вам: чтобы насладиться любовью, вы должны стать достойным вашей возлюбленной. По виду вашему я заключаю, что вы находите эти слова странными. Я хочу сказать, что ваша любовь должна пришпорить вас, чтобы вы добродетельно занялись делами. Возлюбите ваши советы, которых вы бежите, отдайте ваше время свершению нужных дел, преодолейте мелкие недостатки – они вам вредят – и потом, победив врагов и невзгоды, возьмите пример с упомянутых вами государей, когда по своему положению уподобитесь им. Месье[1293] умер, вам остается подняться только на одну ступеньку, чтобы достигнуть трона. Примите еще одно свидетельство моей верности: не совершайте только наполовину дела настоящего времени в тщеславной надежде на будущее; теперь вы меньше заботитесь о государстве, которое принадлежит тому, кто придет (с Божьей помощью). Но если вы занесли ногу, чтобы взойти на ступень до того, как эта ступень опустела, как это бывает при фехтовании, достаточно будет одного удара, чтобы повалить вас, если в это время ваша нога повиснет в воздухе».
Король Наваррский поблагодарил Обинье и клятвенно обещал отложить на два года свои планы относительно графини. По приезде в Сен-Жан Обинье помог государю сойти с коня, и, узнав, что господин де Тюренн, утомленный дорогой, лег в постель, пошел пересказать ему свою речь. Конец ее прервал явившийся король. Он пересказал виконту вышеприведенные слова в том же порядке, но так, как если бы они не исходили от другого лица, а были порождены его собственным воображением.
Вскоре начались приготовления к осаде Ниора[1294]. Уезжая последним и взяв с собою двух слуг, дабы отослать их к государю, Обинье получил известие о смерти господина де Гиза[1295] и повез эту новость за три мили от театра военных действий. При взятии Ниора ему выпало на долю сдержать натиск капитана Кристофа[1296] и зажечь первую петарду[1297]. Потом, взяв с господ Сен-Желе и Парабера[1298] обещание, что они последуют за ним, он повел первый отряд. Далее он вступил в неудачный бой с отрядом д’Арамбюра[1299]. С обеих сторон погибло три дворянина и два солдата; один его большой друг потерял глаз[1300]. Вы прочтете в главе 16-й книги второй о том, как в Майезе, взятом после Ниора, Обинье остался губернатором[1301], к большой досаде своего государя, намеренно давшего ему самый жалкий округ, чтобы заставить от него отказаться. Но Обинье слишком устал бросаться в разные стороны.
<1589> Надо было пойти на помощь в Ла-Гарнаш, куда, вопреки советам Обинье, выступил герцог де Шатийон[1302] и сам повел свои войска ночью; часть их погибла бы без подкрепления Обинье. Когда Обинье вернулся, оставшийся из-за болезни в Ла-Мотт[1303] король захотел, по выздоровлении, посмеяться: он приготовил приказ о предстоящем деле поблизости от Майезе. Но губернатор велел подделать другой, совершенно сходный, приказ для своих людей, чтобы отделаться от короля. Когда же сообщение об этом пришло, король сказал ему: «Мы думали поднять ложную тревогу, но пришло настоящее уведомление, что вы должны спешно вернуться в свою крепость». Обинье весело вернулся к себе. Это явилось первым отдыхом или, вернее, первой передышкой среди трудов, которые он выполнял приблизительно с пятнадцати до тридцати семи лет. По справедливости, Обинье мог сказать, что, кроме тех дней, когда он болел и страдал от ран, он не провел без тяжких трудов и четырех суток подряд.
После свидания королей и сражения при Туре[1304], куда прибыл Обинье, король осадил Жаржо[1305]; там Обинье вместе с Фронтенаком совершил то, что описано в главе 21-й той же книги, где он называет себя «еще один человек». Он повел добровольцев на осаду Этампа[1306], потом он стоял под Парижем, входя в состав одного из пяти конных пикетов, которые расставил сам король; после смены караула, желая вызвать на бой Сагонна[1307], Обинье, один, тайком отправился в Пре-о-Клер[1308]. Там он окликнул передового всадника по имени Леронньер, квартирмейстера при графе де Тоннере[1309]. Всадник ответил ему только бранью и отказом узнать его, вызывая его на бой, впрочем представлявшийся невозможным: их разделял огромный ров. Увидя на этом человеке посеребренное оружие, Обинье решил разглядеть его поближе, но так как там протекала речка Орж[1310], разделявшая их, не заметил рва и был очень удивлен, очутившись на самом краю его; тут волей-неволей он должен был пришпорить коня и решиться на все. Хорошо, что этот конь умел славно прыгать. Противник на другом краю рва встретил его пистолетным выстрелом; тотчас же к горлу его был приставлен пистолет Обинье. Он был вынужден просить пощады и безоговорочно сдаться, хотя восемь или десять всадников поскакали к нему на помощь. Он был живьем привезен к принцу де Конти[1311] и к господину де Шатийону, находившимся не ближе Вожирара[1312]. Только что раненный король[1313] был обрадован этим происшествием; он пожелал видеть пленника, но, вопреки приказанию своего государя, Обинье не захотел, как он выразился, шарлатанить.
Король Наваррский, который должен был теперь стать французским королем, повел ночью в покои умирающего короля восьмерых своих приближенных, надевших панцири под камзолы. Озабоченный до крайности множеством дел, он запер в одной комнате Лафорса и Обинье[1314], который произнес речь, приведенную в главе 23-й книги второй.
<1590> В первый же вечер, когда французская и испанская армии очутились одна против другой между Шелль и Ланьи[1315], король приказал Обинье снять стоявшие днем пикеты. Приняв Обинье за командира, испанские конные стрелки вовлекли его в стычку, в которой он чуть не погиб. На следующий день, находясь при ставке короля, Пишри[1316] и он тайком отлучились с целью разжечь перестрелку, казавшуюся им слишком вялой. Затем они воевали с Руле[1317], что описано в конце главы 7-й книги третьей; там же именно Обинье явился посредником между королем и маршалом Бироном[1318].
<1591–1593> В той же книге, в главе 10-й, рассказывается о его делах; там выведен он в звании полковника, а также и офицера, под чьим предводительством был взят Монтрёй[1319].
О нем же идет речь в главе 14-й, там, где описывается, как посол Эдмонд[1320] вмешался в бой, дабы спасти Обинье, равно как спас его, сброшенного с коня двумя ударами копья, Арамбюр.
При осаде Руана король почтил его званием боевого сержанта[1321], по предложению герцога Пармского[1322]. Здесь Обинье восхваляет своего господина, превзошедшего в храбрости Роджера Виленса[1323] и его самого; в главе 22-й приводится речь Обинье, опровергающая речи Д’О[1324], убеждавшего короля отречься от своей религии. К этому надо прибавить, что при перестрелке под Пуатье Обинье признал Плюзо и остерег его от аркебузной стрельбы[1325]; за это он был награжден здоровым выстрелом из мушкета, попавшим в правое плечо его коня, причем пуля вышла через бедро сзади; конь не испугался; это был тот же конь, по имени Паспорт, который перескочил через ров в Пре-о-Клер.
<1595> Обинье прибыл к осаде Ла-Фер в Шони[1326]. Он носил траур по жене[1327], умершей несколько месяцев назад; впоследствии в течение трех лет он не провел ни одной ночи, не оплакивая ее. Желая удержаться от слез, он сжимал руками селезенку, вследствие чего у него образовалось скопление застывшей крови; однажды он испражнился ею: она вышла в виде плотного сгустка. Принять участие в осаде его побудили следующие обстоятельства: на одном съезде[1328], когда он работал над делом, о котором вы прочтете дальше, его сотоварищи сказали, что его стойкость вызвана только отчаянием. По их словам, он никогда не пользовался милостью короля и не смеет появиться перед ним. А так как король за столом, при всех, поклялся его убить, Обинье, чтобы отменить это решение, совершил шесть путешествий, из которых одним и явился его приезд. Как только он прибыл в дом герцогини де Бофор[1329], где ждали короля, два знатных дворянина сердечно посоветовали ему уехать, потому что король гневается на него. И действительно, Обинье услышал, как несколько дворян спорили, передадут ли его в руки караульного начальника или дворцового коменданта. Тем не менее вечером Обинье стал между факелоносцами, ждавшими короля. Когда карета остановилась у крыльца, он услышал, как король сказал: «Вот монсеньор д’Обинье». Хотя это величание титулом монсеньора пришлось Обинье не по вкусу, он подошел к выходившему государю. Король приложил щеку к его щеке, приказал ему помочь герцогине выйти, а ей велел снять маску, чтобы поздороваться с Обинье. Тогда в толпе послышалось: «Вот вам и комендант!» Запретив другим следовать за собою, король ввел одного Обинье со своей возлюбленной и с ее сестрой Жюльеттой[1330]. Обинье гулял между герцогиней и королем больше двух часов. Тогда-то и были произнесены слова, впоследствии передававшиеся из уст в уста. Показав при свете факела свою пронзенную губу[1331], король выслушал и не истолковал в дурном смысле следующее предостережение Обинье: «Государь, пока вы отреклись от Бога только губами, он пронзил вам только губы, но когда вы отречетесь от него в сердце своем, он пронзит вам и сердце!» Герцогиня воскликнула: «О, какие прекрасные слова! Но к месту ли они сказаны?» – «Нет, сударыня, не к месту, – сказал Обинье, – ибо они ни к чему не послужат».
Восхищенная смелостью Обинье, эта дама пожелала снискать его дружбу. Король тоже этого хотел, замыслив поручить нашему Обинье воспитание маленького Цезаря[1332], нынешнего герцога Вандомского. Он велел принести ребенка и голого положить его на руки Обинье. Когда ребенку исполнится три года, предполагал король, Обинье повезет его в Сентонж, чтобы воспитать его и укрепить его положение среди гугенотов. Но так как это намерение было оставлено, бросим говорить о нем.
<1596> Нелишне будет сделать добавление к концу главы 12-й и упомянуть о том, что король, тяжко заболев[1333], послал за уезжавшим Обинье. Заперев его в своей комнате, дважды став на колени и помолившись, он приказал ему во имя всех горьких, но полезных истин, которые когда-то высказал Обинье, решить, согрешил ли он, король, против Святого Духа. Сначала Обинье попытался заменить себя пастором, потом заговорил о четырех проявлениях этого греха: во-первых, король сознательно сотворил зло; во-вторых, одну руку он протянул духу забвения, а другой оттолкнул истину; в-третьих, жил без покаяния, каковое действенно только при настоящей ненависти к греху и к самому себе за этот грех; в-четвертых, через все это он потерял веру в милосердие Божие. Для разрешения вопроса Обинье посоветовал королю познать самого себя. После четырехчасовой речи Обинье и шестикратно сотворенной королем молитвы диалог этот был прерван. На следующий день, чувствуя себя лучше, король больше не захотел слушать эти речи.
<1593> Вы слышали, что короля разгневали религиозные дела. Знайте же, что за несколько месяцев до этого в синоде в Сен-Мексане[1334] Обинье поднял вопрос о давно проигранных делах, начав говорить о них во время ужина за круглым столом; результаты этой беседы описаны в главах 10-й и 11-й помянутой книги.
<1595–1598> Потом, на большом съезде, продолжавшемся около двух лет в Вандоме, Сомюре, Лудене и Шательеро[1335], Обинье, всегда выбираемый в числе трех или четырех лиц, смело выступавших против уполномоченных короля, сделал несколько выпадов, озлобивших против него государя и еще больше весь двор. Председатель Кане, иначе говоря Ле Френ[1336], готовясь отречься от протестантства и обратиться в католичество, был принят в число высокопоставленных лиц герцогом Буйонским, некогда виконтом де Тюренном[1337], желавшим прославиться больше, чем великие государственные мужи, которые вели переговоры в Шательро. Кане внес важные предложения во славу верховной власти и в ущерб партии. Тогда Обинье, заметив, что шесть человек, высказавшихся до него, значительно понизили тон, повысил голос больше, чем когда-либо. Прервав его речь, Ле Френ-Кане встал и воскликнул: «Разве так ведут себя на королевской службе?» Обинье возразил: «Кто вы такой, чтоб учить нас, что такое королевская служба? Мы несли ее до того, как вы стали пешком под стол ходить. Не надеетесь ли вы столкнуть служение королю со служением Богу? Научитесь же не перебивать речи и молчать, когда надо!» Они дошли до колкостей. Наконец Ле Френ воскликнул: «Да где мы находимся?» Обинье ответил: «Ubi mures ferrum rodunt»[1338]. Это очень кстати подействовало на присутствующих: в то время разбирался вопрос о безопасности в крепостях.
Этот председатель, ни у кого не пользовавшийся уважением, выставил Обинье в плохом свете перед королем. Когда же герцог Буйонский захотел указать, что надо почитать председателя как весьма высокопоставленное должностное лицо, Обинье возразил: «Да, должностное лицо, которое готовится отречься». Через три месяца тот так и поступил. Кончилось тем, что во всех колкостях и резкостях на совещании обвинили Обинье; он был прозван «козлом отпущения»[1339], потому что все срывали злобу на нем.
Король также гневался. Однако когда был поднят вопрос, где поместить пленного кардинала Бурбонского, которого Лига провозгласила королем[1340] и который чеканил во Франции монету под именем Карла X, его решили перевезти из Шинона, где он находился под надзором господина де Шавиньи[1341], в Майезе, где губернатором был Обинье. А когда господин Дюплесси-Морне сослался на крупные неприятности с Обинье и на постоянные ссоры его со своим государем, ему ответили, что понятое как следует слово Обинье является достаточным средством против всех этих зол.
Когда король-кардинал попал в плен к Обинье, герцогиня де Рец послала одного итальянского дворянина, взявшего пропуск в двух милях от Майезе, со следующим письмом к губернатору:
«Кузен мой, прошу вас принять подателя сего и понять в хорошем смысле свидетельство совершенной дружбы и сердечной заботливости, которое мы, господин маршал и я, посылаем вам по поводу вашего возвышения и доброго здоровья наших кузенов, детей ваших. Покажите же, что вы чувствительны к оскорблениям, воспользовавшись случаем, благодаря которому я хочу доказать вам мою преданность» и т. д.
Итальянец изложил порученное ему дело, предлагая двести тысяч дукатов[1342] наличными или же округ Бель-Иль[1343] со ста пятьюдесятью тысячами экю, если Обинье закроет глаза, чтобы дать освободить пленника. Обинье устно ответил ему: «Второе предложение было бы мне удобней, чтобы в мире и безопасности есть хлеб моей неверности; но моя совесть следует за мной по пятам, она сядет вместе со мной на корабль, если я отправлюсь в Бель-Иль. Итак, возвращайтесь и будьте уверены, что, если бы не мое обещание, я отправил бы вас к королю».
<1592–1594> Некий капитан Дофен, из Пуатье, пиратствовал в болотах Пуату и Сентонжа. Обиженный графом де Бриссаком[1344], он пожелал ему отомстить. В то время члены Лиги многократно пытались взять Майезе, чтобы спасти своего короля; Дофен дал знать Обинье, что хочет поговорить с ним с глазу на глаз; Обинье получил два особых предупреждения – одно из Пуатье, другое из Ларошели, – что этот Дофен подослан де Бриссаком, чтобы убить его, Обинье. Тем не менее, не желая отказаться от своего намерения захватить в плен графа, он пожелал удостовериться в намерениях Дофена весьма необычным способом. Назначив ему свидание в одном покинутом доме на рассвете, губернатор вышел из крепости совершенно один, приказал поднять за собой мосты, и, встретив Дофена, сказал ему: «Мне хотели помешать говорить с тобой, так как ты будто бы подослан меня убить; и я не захотел расстроить наше дело, но хочу рассеять это подозрение честным поединком: вот я принес кинжал, ты можешь взять этот или мой, чтобы с помощью этого оружия исполнить свое обещание; если хочешь, можешь это сделать с честью. Вот лодка, которую я приказал привести, чтобы дать тебе выбраться из болота». Услышав это, Дофен бросил свою шпагу к ногам Обинье со всеми изъявлениями покорности, на какие только был способен этот грубый человек, и таким образом они доверились друг другу. Отметьте это происшествие как один из моих тяжелейших проступков.
<1600> Через некоторое время Дюплесси-Морне вступил в богословский спор с епископом Эврё[1345]. Две недели спустя в Париж прибыл Обинье. Король уполномочил его выступить в прениях с тем же епископом. Прения продолжались пять часов в присутствии четырехсот весьма значительных лиц. Епископ уклонился от доводов, произнося длинные речи. Обинье же составил доказательство, две посылки которого взял из вышеупомянутых речей епископа и в его же выражениях. Вынужденный распутывать этот узел, епископ так устал, что у него со лба на рукопись с текстом Златоуста[1346] скатилось столько пота, сколько могло бы влиться в яичную скорлупу. Конец этого спора определился следующим силлогизмом:
«Кто заблуждается в каком-нибудь вопросе, не может быть в нем судьей;
Отцы церкви заблуждаются в вопросах богословских споров, как это обнаруживается в том, что они противоречат самим себе;
Следовательно, отцы церкви не могут быть судьями в вопросах богословских споров».
Епископ одобрил форму и большую посылку, малую же надо было доказать. Обинье написал свой трактат[1347] «De dissidiis Patrum»[1348], на который епископ так и не ответил, хотя король и требовал от него этого.
<1601> В конце 13-й главы тома III вы можете прочесть пламенную речь, произнесенную неким губернатором, считающимся горячим приверженцем истинной веры. Губернатор этот – Обинье, доказавший своей речью, что нерушимая его приверженность делу гугенотов отнюдь не позволяла ему прибегать к незаконным средствам для защиты его дела[1349].
<1604–1605> Вскоре после этого умер ненавидимый королем герцог де Ла Тремуй[1350], и Обинье, не видя никого среди подкупленных людей, на кого можно было бы положиться, чтобы защищать свою жизнь в случае преследований, замыслил покинуть королевство и велел снарядить для отправки в Энанд[1351] небольшое судно, на которое уже раньше переправил четыре своих сундука. Он велел грузить еще два сундука, последние, когда прибыл королевский курьер с собственноручными письмами от короля, а потом от герцога Буйонского, в то время находившегося при его величестве[1352], и еще от господина де Ла Варен-на[1353]. Эти письма подтверждали, что Обинье будет принят при дворе хорошо. Больше всего придало уверенности Обинье письмо де Ла Варенна, человека наименее достойного, хотя король написал ему собственноручно с былой непринужденностью; у детей Обинье есть много подобных писем[1354], свидетельствующих о необычной близости между их отцом и королем. Призванный якобы, чтобы отдавать распоряжения Ла Бру и Бонуврие[1355](первому – по устройству конных боев на копьях и турниров, второму – по устройству состязаний в борьбе), он провел два месяца при дворе, и ни разу король не намекнул ему на прошлое, устроил так, что Первый оруженосец Лианкур[1356] предоставил свое место старшего оруженосца Обинье. Обинье принял его предложение. Войдя в лес, король обратился к нему со следующими словами: «Я еще не говорил с вами о заседаниях, где вы чуть не испортили все дело, потому что оставались честным, а я подкупил всех ваших главарей и одного из них сделал своим соглядатаем и вашим предателем за шестьсот экю. Сколько раз, видя, что вы не исполняете мою волю, я говорил:
И что же! Бедняги, среди них оказалось мало таких, которые занимались бы делом. Все остальные были заняты своим кошельком и старались заслужить мою милость в ущерб вам. Могу похвастать, что подкупить человека из лучшей французской семьи стоило мне всего лишь пятьсот экю».
Выслушав много речей в том же роде, Обинье ответил: «Государь, я подвергся избранию, которого избегал, тогда как другие его добивались. От меня потребовали присяги, которая полагается в подобных случаях и которую я не умел ни забыть, ни изменить; знаю только, что все наши на вид усерднейшие деятели, кроме господина де Ла Тремуя, продавали свой труд вашему величеству, притворяясь, будто пекутся о ваших делах. Я бы солгал, сказав то же самое о себе; я трудился во благо Божьих церквей, с тем большим рвением, чем больше они были унижены и ослаблены, потеряв в вас покровителя. Да пребудет милосердный Бог вашим Богом! Государь, я предпочитаю покинуть пределы вашего королевства и лишиться жизни, чем заслужить ваши милости, предавая моих братьев и сотоварищей». На это последовал странный ответ: «Знаете ли вы, – спросил король, – президента Жанена[1358]?» После отрицательного ответа Обинье король продолжал: «Это в его голове вызревали все замыслы Лиги; он привел мне те же доводы, что и вы. Я хочу, чтобы вы с ним познакомились: я, скорее, доверюсь вам и ему, нежели людям, которые вели двойную игру».
К этому разговору я хочу прибавить еще один: он произошел перед отъездом. На прощанье король несколько раз поцеловал Обинье и потом отпустил его, но Обинье опять подъехал к нему и сказал: «Государь, глядя вам в лицо, я, как когда-то, позволю себе вольность и осмелюсь спросить у моего государя то, что друг спрашивает у друга: будьте хоть на миг откровенны и скажите, за что вы меня возненавидели?» Побледнев, как всегда, когда он говорил чистосердечно, король ответил: «Вы слишком любили Ла Тремуя». – «Государь, эта дружба созрела на службе у вас», – ответил Обинье. «Да, но когда я его возненавидел, вы не перестали его любить», – возразил король. «Государь, я воспитывался у ног вашего величества, преследуемого столькими врагами и бедствиями, что вы нуждались в слугах, которые не только любили страдальцев и не оставили вашу службу, но еще и удвоили бы свою преданность, ибо над вами тяготела высшая власть; примите от нас урок добродетели». Вместо ответа, король поцеловал Обинье и простился с ним.
Заговорив о господине де Ла Тремуе, о честности которого вы прочтете[1359] в томе III, книге шестой, главе 10-й, я должен рассказать, как те, кто стойко боролся за партию, беспрестанно подвергались смертельным опасностям и поклялись умереть вместе; как король приказал двинуть войска, чтобы обложить герцога в Туаре[1360], а герцог написал Обинье: «Друг мой, прошу вас, согласно нашим клятвам, приехать умереть вместе с вашим преданнейшим слугой». Обинье ответил: «Сударь, ваша просьба будет исполнена, хотя я порицаю в вашем письме одно: вы сослались на наши обещания, которые нам слишком памятны, чтобы надо было о них напоминать». Однажды, объезжая область, чтобы собрать друзей, они пересекли один городишко, где накануне обезглавили и колесовали нескольких убийц. Заметив, как побледнел герцог при этом зрелище, Обинье взял его за руку со словами: «Созерцайте это без страха: делая то, что мы делаем, должно заранее привыкнуть к виду смерти».
Через два года состоялся съезд в Шательро[1361], куда король послал герцога де Сюлли[1362]. Господин де Ла Ну[1363] и Обинье, в его отсутствие, были выбраны уполномоченными от Сен-Мексана. Тогда Обинье прибыл в Шательро, чтобы отказаться от необычного избрания и указать, что ненависть к нему может повредить порученным ему делам; он вышел на время обсуждения этого вопроса. Однако вместо того, чтобы удовлетворить просьбу Обинье, несмотря на все его отговорки, ему поручили уведомить герцога де Сюлли (притязавшего на председательствование), чтобы он воздержался от участия в заседаниях, кроме тех случаев, когда пожелает он говорить от имени короля.
К концу этого совещания герцог де Сюлли именем короля приказал собравшимся разъехаться, но благодаря искусным мерам, принятым Обинье, излагать которые было бы слишком долго, герцог был вынужден уехать сам, оставив собранию охранную грамоту на крепости[1364], предоставленную протестантам, причем сначала он отрицал, что она у него имеется, а потом, показав, отказывался ее выдать. При этих обстоятельствах собранию пришлось три дня разбирать одно дело, касающееся Оранжа[1365], столь запутанное, что в нем сталкивались интересы короля, принца Оранского, церквей Дофинэ и Лангедока, маршала Лесдигьера[1366], города Оранжа в отдельности, господина де Моржа[1367], господина де Блакона[1368] и других именитых особ этой области. Собрание не находило способа разрешить эти противоречия. Тогда кто-то предложил поручить это только одному лицу, прибавив, что легче исправить письменное решение, нежели устное, ибо незаписанные слова –пустое сотрясение воздуха. Выбранный для этого дела Обинье испросил три дня сроку. Выйдя из собрания, он взял бумагу и по свежим воспоминаниям набросал план порученной ему работы. Потом, решив, что, как ни думай, а труд этот все равно не преминут проверить и исправить, он вернулся в собрание. Его стали укорять за то, что он не идет работать. Тогда он положил свой труд на стол. Через полчаса его позвали; после проверки оказалось, что у него исправили всего лишь одну букву. Впоследствии он всегда считал эту работу удачнейшим из всех своих произведений.
<1607–1608> За три месяца до смерти короля[1369], приехав в Париж, Обинье остановился у господина Дюмулена[1370], где нашел господ Шамье[1371], Дюрана[1372] и еще четырех пасторов, всего семь человек. Они сказали ему, что он явился в дни, когда приходится ломать голову над соглашением о религиях[1373], ведь больше, чем когда-либо, говорят, что оно свидетельствует о новых подкупах и нарушениях долга. После этого они согласились на включение нескольких пунктов, предложенных вновь прибывшим, чтобы расторгнуть эти мошеннические договоры. Потом он спросил, поддержат ли они его в обдуманном им предложении: свести все церковные споры к правилам, твердо установленным первоапостольской церковью[1374] до конца четвертого или начала пятого века.
Шамье первый дал обещание поддержать Обинье; за ним последовали все другие. Тогда Обинье пошел в кабинет к королю. Прежде всего король приказал ему немедленно отправиться к Дю Перрону. Обинье повиновался. Кардинал принял его ласково и, против обыкновения, несколько раз поцеловал его в щеку. Едва они присели, кардинал стал оплакивать несчастия христианского мира и спросил, нельзя ли кончить распрю добром. «Нет, ибо мы не добры», – ответил Обинье. «Сударь, – сказал кардинал, – обяжите христиан вступить в переговоры, чтобы объединиться после стольких гибельных споров, разделяющих души отдельных лиц, целые семьи, даже Королевство и Государство». Обинье ответил: «Сударь, переговоры бесполезны там, где последнее из перечисленного вами стремится главенствовать над сомнениями вельмож».
Выслушав несколько таких же речей, Обинье, наконец, выступил со следующим заявлением: «Раз вы хотите, чтобы я высказался в несоответствии с моими свойствами и моим положением, укажу вам, сударь, что изречение Гвиччардини[1375], как мне кажется, должно применяться к церкви так же, как и к государству; хорошо выработанные правила, приходя в упадок, восстановятся, если свести их к первоначальному установлению. Итак, я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться, ибо вы всегда полагаетесь на стародавние времена, как будто в этом состоит ваша выгода; и вы, и мы должны признать нерушимыми законами основоположения церкви, установленные и соблюдавшиеся до конца четвертого столетия. В делах церкви, которые каждый считает ныне пришедшими в упадок, вы, называющие себя старшими, должны начать с восстановления первой статьи, о чем мы вас и просим; мы так же должны поступить со второй, и в такой последовательности все будет восстановлено по образу и подобию этой самой старины». Кардинал воскликнул, что пасторы не одобрят этих предложений. На это Обинье возразил, что ручается головою и честью за успех. Кардинал задумчиво пожал ему руку и сказал: «Дайте нам еще сорок лет сверх тех четырехсот». – «Я вижу, вам не дает покоя Халкидонский Собор[1376], тогда просите уж больше пятидесяти, – ответил Обинье. – Что ж, давайте обсудим это на открытом диспуте и, договорившись о главном, мы предоставим вам то, чего вы требуете, – тогда, но не сейчас». «Сделайте милость, – спросил кардинал, – скажите, чего бы вы потребовали сначала? Ибо вы не осмелились бы удовлетворить наше первое требование о поклонении кресту, принятое без труда в предустановленный вами срок». Обинье ответил: «Для блага мира мы воздадим кресту почести, какими он удостаивался когда-то; но вы не посмеете, не говорю уж, разрешить в нашу пользу, но даже обсудить наш первый вопрос – восстановить власть папы в том виде, в каком она существовала те четыре века; для этого мы дали бы вам еще двести лет, так сказать, на мелкие расходы». Кардинал, когда-то отравленный в Риме и вернувшийся оттуда в гневе, воскликнул: «Это надо сделать в Париже[1377], если нельзя в Риме».
Этот разговор был отложен. Обинье вернулся в королевский кабинет, ненадолго остановившись по дороге, чтобы поговорить с президентом Ланглуа[1378]. По приезде король спросил его, видел ли он своего друга и что они обсуждали. Когда в кабинете, полном знатных господ, Обинье рассказал о своей беседе с кардиналом, у короля вырвалось: «Почему вы сказали господину кардиналу по поводу Халкидонского Собора, что уступите ему, когда вопрос будет обсуждаться, но не сейчас?» Обинье ответил: «Если по истечении предоставленных им четырехсот лет католические богословы потребуют еще пятьдесят – это будет молчаливым признанием, что четыре первых столетия были не в их пользу». При этих словах несколько кардиналов и иезуитов, находившихся в кабинете, стали громко возмущаться, и граф де Суассон[1379], которому они шепнули что-то на ухо, заявил во всеуслышание, что нельзя произносить столь вредные речи. Король понял, что оскорбил их, и, недовольный тем, что кардинал сообщил об этой частной беседе до приезда Обинье, повернулся к последнему спиной и прошел в покои королевы.
Через несколько дней государь, которому посоветовали арестовать или убить человека, помешавшего делу соглашения (потому что с тех пор оно больше не обсуждалось), сказал герцогу де Сюлли, что этого сварливого путаника надо посадить в Бастилию и что «найдется достаточно оснований, чтобы возбудить против него судебное дело». Однажды вечером госпожа де Шатийон[1380] послала за Обинье, желая сказать ему несколько слов. Заклиная его молчать и не губить ее, она просила его уехать этой же ночью, иначе он может не сомневаться в своей гибели. Обинье ответил, что помолится и поступит, как внушит ему Бог; так он и не принял ее совета. И вот рано утром он отправляется к королю, в небольшой речи напоминает ему о своих заслугах и просит определить ему пенсион, чего раньше никогда не делал. Король, очень довольный, что в этой душе обнаружилось кое-что от наемника, целует Обинье и удовлетворяет его просьбу[1381]. На следующий день, когда Обинье отправился в Арсенал[1382], герцог де Сюлли повез его посмотреть Бастилию, клянясь, что она более не опасна для Обинье, но только со вчерашнего дня. В следующее воскресение, после церковной службы, госпожа де Шатийон, изумленная столь неожиданным оборотом дела, дала обед господину Дюмулену, Обинье и госпоже де Рювиньи[1383], жене коменданта Бастилии. За столом в ходе беседы этой даме понравились какие-то слова Обинье; пристально глядя на него, госпожа де Рювиньи заплакала; когда ее стали расспрашивать о причине этих слез, она ответила, что два раза приготовляла для Обинье комнату в Бастилии и во второй раз до полуночи ждала осужденного.
<1609–1610> Вскоре король переменил свое мнение и опять так полюбил Обинье, что задумал отправить его в Германию в качестве чрезвычайного посланника, обязав особых агентов дважды в год докладывать Обинье о ходе всех своих переговоров. Потом это намерение было оставлено; у короля возник новый обширный план[1384]. Он в подробностях изложил его, вопреки предостережениям Обинье, указывавшего, что подобные сведения надо доверять только тем, кто будет нести за них ответственность. Будучи в то время вице-адмиралом[1385] Сентонжа и Пуату, он не пожелал оставаться праздным в столь великом деле; он настойчиво стал убеждать короля обратить часть своих замыслов против Испании и, со всех сторон тесня непрителя, пустить ему стрелу в самое сердце. Отвергнув это предложение, король привел старинную поговорку: «Кто отправляется в Испанию слабым, терпит поражение, а кто отправляется туда сильным, умирает с голоду». Тогда Обинье предложил ассигновать миллион золотом наличными, чтобы снарядить два флота: огибая Испанию, они бы доставляли на королевские склады припасы по цене, по какой они в то время продавались в Париже[1386]. К этому предложению он заставил присоединиться д’Эскюра[1387]; это дело было решено, но предварительно герцог де Сюл-ли чинил ему всяческие препятствия.
Когда Обинье уезжал работать в Сентонж, король на прощание сказал ему: «Обинье, не обольщайтесь более на мой счет, мою земную и вечную жизнь я вручаю Святому Отцу, истинному наместнику Бога». С того дня Обинье счел великое намерение короля начать войну напрасным, а самую жизнь этого бедного государя осужденной Богом. Так он и сказал своим приближенным, и действительно: через два месяца пришло ужасное известие о смерти короля. Обинье узнал об этом, лежа в постели. По первоначальным слухам, как ему сообщили, король смертельно ранен в горло, но Обинье в присутствии многих лиц, прибежавших в его комнату вместе с вестником, сказал: «Не в горло, а в сердце»[1388], будучи уверен, что это так.
Итак, королева[1389] была объявлена регентшей с согласия Собраний провинций. На съезде в Пуату никто этому не противился, кроме Обинье, утверждавшего, что право подобного избрания принадлежит не Парижскому парламенту, а Штатам[1390]. И, хотя он был взят на заметку за эти слова, его не преминули отправить представителем от его провинции, дабы принести присягу в верности новому королю[1391] и регентше.
Приехав в Париж, уполномоченные от различных местностей подождали, пока число представляемых ими областей достигнет девяти, и решили выбрать своим представителем господина де Вилларну[1392], который был в то время генеральным депутатом[1393]. У них возник большой спор о том, как войти и как говорить. Наконец все решили, что Обинье, как старший и опытнейший среди них, будет служить им образцом поведения. Королевский совет был возмущен тем, что никто из них не стал на колени ни в начале, ни в конце речи, которую Риве[1394] произнес из тщеславия, причем говорил дрожащим голосом и несвязно. При выходе господин де Вильруа[1395] стал укорять Обинье, спрашивая, почему он не стал на колени. Обинье ответил, что все его товарищи – дворяне или духовные лица и обязаны только отвешивать поклон, а не становиться на колени перед королем.
<1611> Через четыре месяца королеве вдруг пришло на ум поговорить наедине с Обинье[1396]. Получив от нее пригласительную записку, Обинье, вопреки советам друзей, отправился во дворец. Два часа он провел с королевой взаперти, причем дверь охранялась герцогиней де Меркюр[1397]; королева притворялась, что хочет получить у него указания по некоторым вопросам, но в действительности хотела выставить его изменником или подозрительным лицом для его партии.
И вот при открытии Самюрского съезда[1398] в ответ на все обещания господина де Буассиза[1399] Обинье сказал: «Я добьюсь от королевы, чего хочу: она будет считать меня хорошим христианином и хорошим французом». Потом к нему намеренно приставили Ла Варенна, который стал за ним усиленно ухаживать. Когда один из подкупленных придворных в присутствии герцога Буйонского[1400] спросил у Обинье: «Что делал у вас Ла Варенн, побывав у вас двенадцать раз со вчерашнего утра?» – Обинье ответил: «То, что он сделал у вас с первого раза и чего не мог сделать у меня за двенадцать раз».
Тут Обинье лишился дружбы герцога Буйонского, которой пользовался в течение тридцати лет; произошло это потому, что Обинье помешал ему председательствовать и возражал против всех его предложений, погубивших его доброе имя. В особенности когда вышеупомянутый герцог произнес длинную речь, чтобы заставить партию отказаться от всех гарантий и предать себя в руки королевы и королевского совета. После длинного и напыщенного восхваления религиозного мученичества герцог услышал другую речь, совершенно противоположную своей; она заканчивалась следующими словами: «Да, мученичество заслуживает всяческих похвал; неизмеримо блажен, кто претерпевает его за Христа; готовиться к мученичеству – долг каждого истинного христианина, но побуждать или обязывать к нему других – дело предателя и палача». К концу совещания Обинье, который, как известно, говорил «прощайте» только тем, кто хотел отречься или умереть, сказал при всех: «Прощайте, Феррье»[1401], – чем весьма оскорбил самого Феррье и многих присутствовавших, однако через два месяца Феррье действительно отрекся от своей религии.
Тут начались раздоры между гугенотами, и вся партия пришла в упадок, прежде всего по вине большинства вождей, а потом вследствие жадности пасторов; трое из них оказались отступниками: Феррье и Ресан[1402] были наказаны позором, а Риве, уличенный в Пуату в том, что получил пенсию под именем своего сына, вызвал к себе презрение со стороны кучки былых соратников. Молодые же принялись заискивать перед ним, за что Риве сравнили с барбосом, всунувшим голову в горшок с маслом и окруженным шавками, что лижут ему морду, притворяясь, будто поздравляют. Итак, на Соборе в Туаре[1403], высказавшемся за представление отчета в сомюрских делах, стойкие понесли кой-какой урон. Там перед двумястами собравшимися пастор Парабер[1404], прозванный Лафоркадом, восемь или десять раз вставал и перебивал речи восклицанием: «Господа, берегитесь оскорбить королеву!» Там решились побеспокоить губернаторов, клавших себе в карман жалованье, предназначенное для их гарнизонов, но некоторые молодые пасторы сказали: «Они предусмотрительны и миролюбивы». Наконец захотели добраться до тех, кто в ущерб партии получал пенсии; тогда один пастор сказал: Principibus placuisse viris non ultima laus est[1405].
При этой выходке Обинье простился с честной компанией, сославшись на свой возраст, и сказал, что с него довольно публичных собраний, уподобившихся публичным женщинам.
<1612> Герцог де Роан, ненавидимый и впавший в немилость за то, что хорошо действовал в Сомюре[1406], удалился в Сен-Жан и притворился, что укрепляется при помощи друзей. Между тем гарнизону Обинье, как и гарнизону Сен-Жана, больше не платили жалованья. Лишившись семи тысяч франков жалованья за отказ от прибавки в пять тысяч, Обинье был вынужден отправиться добывать деньги на реке Севр[1407]. Из-за угрозы осады он ознакомился с местоположением Доньона и, решив не быть la sorice d’un pertuso[1408], он купил островок и распорядился построить за две тысячи экю дом в Майе[1409]. Параберу было поручено осмотреть место работ; Обинье, оказавшийся как раз там, хорошо принял его.
<1613> На следующий год Парабер, уполномоченный также осмотреть помещения для коров, строившиеся в Доньоне, предложил строителю присутствовать при осмотре. Но Обинье ответил, что дело не стоит труда, и посоветовал комиссару найти человека, который дал бы ему пообедать. Это высокомерие внушило комиссару пренебрежение к предприятию и побудило его доложить двору, что дело выеденного яйца не стоит. Но однажды утром в крепость прибыли тридцать каменщиков, пятьдесят рабочих, полотняные палатки, три кулеврины[1410] и одно судно с припасами. Это вызвало в лагере тревогу, туда стали посылать людей и письма, но в ответ Обинье только ускорил строительные работы.
<1614> Герцога де Роана не преминули привлечь к первому передвижению войск принца де Конде[1411] и герцога Буйонского. Он собрал своих друзей в Сен-Жане, а Обинье, не имевшего возможности бросить свое дело, попросили дать через товарищей ответ принцу и его людям. Вместо всяких писем он послал им две строчки: «Мы готовы взвалить себе на плечи бремя вашей войны, но избавьте нас от бремени вашего мира».
<1615> Это первое восстание завершилось соглашением[1412] и прощением для всех, кроме Обинье, который, не прибегая ни к каким другим мерам, укрепил оба форта, приведя второй в боевую готовность. Этот год прошел в разных происках, и вот разразилась война принца де Конде. Назначив Обинье начальником своей ставки, принц послал ему грамоты, но Обинье пожелал получить их не из рук принца, а от собрания церквей в Ниме[1413].
Находясь в Пуатье, губернатор Пуату герцог де Сюлли вместе с двенадцатью наизнатнейшими дворянами этого края поручился перед королевой в том, что их область не выступит за принца де Конде. Он прибыл в Майезе, чтобы обещаниями и угрозами добиться согласия губернатора на это решение, заявляя, что все вельможи в Пуату сдержат свое слово. Ему ответили, что он забыл про одного великого человека из этого собрания, который выскажет свое мнение на следующий день; это значило: первого барабанщика при полку, обучаемом самим Обинье для сына; на следующее утро барбанщик забил в поход. В тот же день господин д’Ад[1414] с майезским гарнизоном взял Мурей[1415] внезапным налетом. Спустя две недели, когда герцог де Сюлли со своей стороны тоже вооружился, случилось так, что четыре роты этого полка, а также рота герцога с ротой легкой конницы пришли в одно время на позиции в Вуйе[1416]; но пехота прогнала конницу, как и следовало ожидать.
Господин де Субиз[1417] собрал своих людей и пошел навстречу принцу де Конде с семью полками, насчитывавшими больше пяти тысяч человек. Однажды утром, выступая на осаду Люзиньяна[1418], герцог Буйонский встретил Обинье, который ехал туда с той же целью в качестве бригадного генерала. Тут были забыты сомюрские разногласия[1419]. В этой войне не случилось ничего, заслуживающего упоминания; только к концу ее Обинье, вопреки воле принца де Конде, сделал так, что они осадили Тонне-Шарант[1420]. Там при одном несчастном случае ему обожгло полтела, но он приказал нести себя в окопы. Эти военные действия привели только к Луденским мирным переговорам[1421], этой ярмарке всеобщей подлости и невообразимых предательств.
<1616> На совещании принц де Конде называл Обинье своим отцом. Изменив же ему, как и чести вообще, принц крикнул ему в окно: «С Богом! В Доньон!» Обинье ответил: «С Богом! В Бастилию!»[1422]. Принц прибыл ко двору и в благодарность за оказанные ему услуги, за доставленную ему подмогу в пять тысяч человек, за истраченные шестнадцать тысяч экю, признанные как долг, подсчитанные и невыплаченные, за благие советы, впоминая которые он потом вздыхал в своей тюрьме, он заявил на тайном совещании, что Обинье – противник королевской власти и способен, пока будет жив, мешать королю править самодержавно. Тот же принц надоумил герцога д’Эпернона прочесть «Трагические поэмы»[1423]; он привел строки из второй книги как написанные о герцоге[1424], и тот поклялся погубить автора; и действительно, с тех пор на жизнь Обинье неоднократно различным образом покушались.
Между тем герцог этот появился под Ларошелью. Попросив Обинье вооружиться, жители Ларошели три раза заставляли его распускать и собирать войска в зависимости от ненадежных договоров с врагами, которые, наконец, выступили, когда в Майезе оставалось только сто пятьдесят человек. Вдруг стало известно, что войска из Сентонжа появились в Мозе[1425]. Узнав об этом и об уходе одного полка в Ла Ронд[1426], Обинье с болью в сердце вынужден был позволить разграбить один из своих десяти приходов, не подвергавшихся бедствиям войны. Вследствие засухи в тот год местность больше не была островом[1427]. Итак, обнаружив, что сто телег, выстроенных одна за другой, могут переехать болото, он не преминул явиться туда со всеми людьми, которыми располагал, а потом, делая вид, что ничего дурного не случилось, при появлении шести рот конницы, прибывших на квартиры в Курсон[1428], он выставил напоказ на холме местных вооруженных крестьян, а сам в два часа дня на виду у неприятеля двинулся со своими ста пятьюдесятью людьми к Морвену[1429], приказав им ехать сначала открыто, а достигнув деревни, скрыться за нею и обойти ее рысью, чтобы опять соединиться с арьергардом; после этого Рео, в качестве бригадного генерала командовавший войсками, продвигавшимися в эту местность, спешно уведомил герцога, что ему приходится иметь дело, по крайней мере, с восемью сотнями людей. При этом известии он получил подкрепление из четырех рот. Обнаружив жалкий страх врагов, Обинье заставил их покинуть квартиры, где они фуражировали, а обследовав береговые позиции, на вторую ночь пошел отбить их. В дороге он узнал от людей герцога о соглашении, заключенном жителями Ларошели[1430].
<1617> Принесли ему это известие два дворянина; бесстыдно напросившись прийти обедать к нему в Доньон, они заговорили о ненависти герцога к хозяину дома; рассказали, как герцог во всеуслышание, в присутствии пятисот дворян, заявил, что если не сможет погубить Обинье другим способом, то пригласит его взглянуть на месте поединка на одну из добрых французских шпаг. Обинье ответил: «Я не так дурно воспитан, чтобы не знать о преимуществе герцогов и пэров, а также о предоставленном им особом праве не драться вовсе. К тому же я знаю, что обязан почтением генерал-полковнику Франции[1431], под начальством которого я командую пехотинцами. Но если в порыве гнева или от избытка доблести господин д’Эпернон прикажет мне непременно явиться на поединок, взглянуть на эту добрую шпагу, я, конечно, не премину ему повиноваться. Когда-то он показал мне шпагу, на эфесе которой было на двадцать тысяч экю алмазов; если ему заблагорассудится показать мне именно ее, тем лучше»[1432]. Один из двух дворян возразил, что господин герцог облечен званиями, от которых не сможет отказаться, чтобы подвергнуть свою доблесть подобному испытанию. Обинье ответил: «Сударь, мы живем во Франции, где вельможи, рожденные в сорочке своего величия, весьма болезненно ее сбрасывают, но знайте, что можно отказаться от своих приобретений: у герцога д’Эпернона нет ничего, чем он не мог бы уподобитья мне». Тогда старший по возрасту дворянин прибавил: «Сударь, даже если по всем этим статьям будет достигнуто соглашение, господина герцога окружает столько вельмож и дворян, что они помешают ему решиться на поединок с вами». Вспылив, Обинье не смог удержаться и сказал, что сумеет избавить герцога от этой заботы и обеспечить себе в области, управляемой герцогом, место поединка, которое сам обезопасит от друзей своего врага. Законченный на этом разговор был передан герцогу д’Эпернону, и герцог, вне себя, опять поклялся отомстить Обинье.
<1601> Уже давно[1433] Обинье докучал предостережениями всем, кто вершил дела, и не было собрания, где бы он не возглашал о том, чему научил его долголетний опыт. Но, главное, он составил себе представление обо всех благах и отличиях, коих с тех пор удостоился Гаспар Бароний[1434], племянник кардинала, призванного к познанию Бога за осуждение на смертную казнь маленького капуцина в Риме; благодаря влиянию дяди и собственным богатым дарованиям Гаспар добился вступления в конгрегацию[1435], названную «Propagazione della Fede»[1436] и вошел в число трех лиц, ежегодно посылаемых этим советом в разные страны Европы с поручением составлять отчет о положении дел в христианском мире. По пути в Испанию он, имея при себе довольно золота и подлинных сопроводительных писем, бежал в Бриансон к господину Лесдигьеру[1437], который отправил его через местного консула в Париж и там представил собранию в доме герцога Буйонского. Выслушать Гаспара были уполномочены этим обществом Обинье и господин де Фегре[1438]. Прибывший представил им записи обо всем христианском мире, разделенном на области, показав о каждой две тетради, на одной из которых было написано: «Artes pads»[1439], на другой – «Artes belli»[1440]. Когда Обинье и Фегре пожелали ознакомиться с делами наиболее угрожаемой области, этот человек прежде всего показал им «Rhetorum Commentarios»[1441], упомянув, что преследования должны возникнуть и поднять стяг крестового похода именно здесь[1442]. Вот почему Обинье обнаружил искусство в предсказаниях и стал докучать ими, а не потому, что держал у себя в доме некоего немого, в чем впоследствии его упрекали. Дело достаточно необыкновенное и стоит познакомить вас с этим немым.
<1606> Это был человек[1443] (если можно назвать его человеком, ибо ученейшие люди считали его демоном во плоти) на вид лет девятнадцати или двадцати, глухонемой, с ужаснейшими глазами и рожею свинцового цвета. Он изобрел азбуку для жестов рук и движения пальцев, при помощи которой великолепно изъяснялся. Он провел лет пять в Пуату, удалившись в Ла-Шеврельер[1444], а потом в Уш[1445], где вызвал всеобщее восхищение, угадывая все, о чем его спрашивали, и указывая, где находятся потерянные в этой области вещи. К нему иногда приводили тридцать человек, которым он перечислял всех их предков, занятия их прапрадедов, прадедов и дедов, количество браков, количество детей у каждого и, наконец, все деньги, монета за монетой, в каждом кошельке. Но все это еще ничто по сравнению с проникновением в предстоящие события и сокровеннейшие мысли, за которые он заставлял всех краснеть и бледнеть. И пусть знают господа богословы (сомнений которых следует в этом случае опасаться), что познакомили Обинье с этим чудовищем наиболее уважаемые местные пасторы. Прибыв к себе домой, Обинье запретил своим детям и слугам под страхом наказания выведывать у немого будущее, но так как Nitimur in vetitum[1446], они расспрашивали именно об этом. Пришлось бы написать особую историю, чтобы рассказать вам, как этот человек показывал, что делают и что говорят все французские вельможи в ту минуту, когда его о них спрашивают. В течение месяца у него старались узнать о дворе: в какие часы король гулял и кто с ним в этот день говорил; хотя все это происходило на расстоянии ста миль, ответы немого никогда не оказывались ошибочными. Однажды женщины из дома Обинье спросили у немого, сколько лет проживет король и какой смертью умрет. Немой показал им знаками три с половиной года, карету, город, улицу и три удара ножом в сердце. Он изобразил все, что нынче делает король Людовик, морские сражения под Ларошелью, осаду этого города, срытие его укреплений, гибель партии и множество других событий, которые вы сможете найти в моих «Семейных письмах»[1447], готовящихся к печати. От многих людей, служивших в доме, где вы живете, вы узнаете, что все это правда.
Враги Обинье, стараясь обесценить его предсказания, заявили, что он узнал будущее от немого; подобным подозрением они лишили силы его благие советы. В действительности же он свято соблюдал решение никогда не спрашивать у этого орудия неких сил ни об одном предстоящем событии; только благодаря многолетнему опыту он предсказал то, что впоследствии совершилось.
<1616–1617> Итак, он подал заявление двум собраниям в Ларошели[1448], желая передать свои обязанности и подчиненные ему крепости в руки верных людей, а также отнять их у герцога д’Эпернона и епископа Майезского[1449], вступивших с ним в переговоры через посредников. Часть собрания охотно согласилась на это, но городское управление Ларошели выступило против Обинье. Народные синдики, которые были за него, выбрали поверенным Бардонена, чтобы поддержать требования Обинье. Но подкупленный адвокат предложил срыть Доньон и Майезе[1450], если это возможно. Через месяц господин де Вильруа[1451] написал Обинье в Майезе следующее: «Что скажете вы о ваших друзьях, ради которых вы потеряли восемь тысяч франков пенсии, отказались от прибавки в пять тысяч, лишились еще королевской милости и столько раз рисковали собственной жизнью? Они назойливо требуют уничтожения вашей крепости. Я ничего не меняю в выражениях ваших друзей; если бы вам предстояло ответить на подобный вопрос, что бы вы сказали? Запрашиваю вашего мнения».
Ответ гласил: «Сударь, если вам угодно узнать мой ответ на прошение жителей Ларошели, вот он: да будет так, как они требуют – за счет истцов». Когда господин де Вильруа сообщил совету эти две строки, председатель Жанен гневно сказал, что прекрасно понимает смысл этих слов. «Значит, – пояснил он, – Обинье не боится ни нас, ни их».
<1618–1619> Эти слова, а также меры, принятые Обинье для защиты крепостей, побудили его врагов поручить генералу королевской армии Виньолю[1452] узнать, на чем основана эта дерзость. Виньоль явился к Обинье как друг и как человек, воспитывавшийся под его руководством у короля. Он принес два известия: первое – о значении и мощи Доньона, упомянув по первому вопросу, что Ларошель можно будет осадить лишь в том случае, если река Севр, протекающая меж этими двумя крепостями и питающая две трети территории Испании[1453], будет свободная для перевозки провианта королевской армии. Провиант обойдется слишком дорого, ежели поставщики станут переправлять его, минуя Сюржер и Мозе[1454], платя пошлину этим крепостям, и к тому же им понадобится вооруженный эскорт, или же все пропадет. Он сообщил еще связанные с этим другие известия. Что касается военной силы, то, по его донесению, Майезе по-прежнему стоит основательной, королевской осады и что труднее осадить Доньон, чем взять Ларошель. После этого были отправлены чиновники вести переговоры по упомянутым вопросам. Первым уполномоченным был назначен господин де Монтелон[1455], а заместителем его – Ла Вашри[1456]. Надо было видеть все хитрости, благодаря которым эти переговоры затянулись почти на два года. Под конец герцог д’Эпернон через посредство маркиза де Брезе[1457] велел предложить до двухсот тысяч франков наличными с уплатой, основанной на доверии продавцу. Но Обинье передал свои крепости господину де Роану за сто тысяч[1458], наполовину наличными, наполовину в рассрочку. После этого он удалился в Сен-Жан-д’Анжели[1459], поселился там и закончил всецело за свой счет печатание своих «Историй»[1460]; он почел за великую честь, что эти книги были осуждены и сожжены в Парижском королевском коллеже.
В это время началась небольшая война королевы-матери[1461], для которой герцог де Роан вызвал губернатора Сен-Жана[1462], Обинье и еще восемь других своих друзей в Сен-Мексан как бы для того, чтобы узнать их мнение, должен ли он вступить в эту войну. В действительности же он задал им вопросы другого рода; он спросил, в частности у Обинье, что потребовалось бы для армии королевы, чтобы с шестьюдесятью тысячами людей осадить Париж. Обинье ответил, что уже имел честь быть дважды призванным для подготовки к этой осаде и вполне точно помнит, как тогда действовали, но, вместо того чтобы ответить на это неожиданное предложение, он просил герцога подумать о той смуте, которая разделит его партию, как только он, Обинье, в нее вступит; а чтобы дать понять, что у него есть в запасе еще крайние средства, и показаться еще несносней, он решительно заявил, что не поднимет оружия за партию и не обнажит своей скромной шпаги.
<1620> Итак, прощаясь с герцогом, он сказал обоим братьям[1463]: «Я уже заявил вам, что не принадлежу к сторонникам королевы, но, в случае смертельной для вас опасности, буду сторонником Роана, и в моем лице вы всегда найдете верного сподвижника». После этого он удалился в Сен-Жан, где городские бунтовщики, узнав, как осаждавшие Париж потерпели поражение в бою на мосту Сей[1464], восстали и прогнали представителей власти герцога, его наместника и военачальников.
Герцог написал своему другу, чтобы напомнить ему обещание помочь в случае смертельной опасности. Обинье нашел обоих братьев и Ла Ну[1465] с двумя полками, насчитывавшими пятнадцать или шестнадцать сотен пехотинцев и около сотни всадников. Так как все они могли отступить только в Сен-Мексан и направились к Нижнему Пуату, не подготовив себе позиций, где бы можно было сопротивляться дня два, Обинье взял на себя руководство этими людьми, сбившимися с дороги, и направил их по верному пути, который он сам уверенно проделал бы ночью, не приди накануне вечером известие о заключении мира с королевой-матерью[1466] и теми ее сторонниками, которые пожелают воспользоваться этим событием.
Между тем войска короля спешно заняли Пуату, и Обинье решил провести последние годы своей жизни и умереть в Женеве. Сторонники фаворита[1467] повсюду искали его и послали в главные города предписания арестовать Обинье, в особенности на речных переправах. Обинье отправился с двенадцатью[1468] хорошо вооруженными всадниками и, пользуясь тем, что хорошо знал дороги, провел первую ночь в расположении трех армейских полков, в трех караульных помещениях. В пути очень кстати ему несколько раз повезло: так, когда он наткнулся на полк, остановивший его в предместьях Шатору[1469], встреченный крестьянин переправил его через реку в необычном месте; потом, когда его отряд был разделен пополам при проезде через Бурж[1470], ему так же посчастливилось с другим проводником; многие дворяне и пасторы, к которым он обращался, чтобы попросить у них проводников, не зная его, но, побуждаемые добрыми чувствами, указывали ему путь сами.
Пастор из Сен-Леонара[1471], сопровождавший Обинье в Конфоржьен[1472], упросил его сделать крюк, чтобы повидать в одной деревне чудо: женщину семидесяти лет, дочь которой умерла в родах; женщина эта, прижав новорожденного внука к груди, вскричала: «О Господи, кто же накормит тебя?!» При этих словах младенец нашел губами сосок бабушки и вдруг обе груди ее наполнились молоком, которым она и прокормила его целых восемнадцать месяцев. История эта, до того как стать преданной огласке, заверена была официальным церковным актом.
В Конфоржьене местный барон[1473] поручил некоему Пти-Руа показать дорогу своему гостю; этот Пти-Руа собрал ночью нескольких дворян из той же области, чтобы завести Обинье к ним в засаду, но утром, поговорив с Обинье, Пти-Руа почувствовал себя дурно, отказался идти и дал ему проводника, который повел его по другой дороге. В этом сознался один молодой дворянин; умирая, он попросил прощения у своей матери, воспитавшей его в протестантской вере.
Когда люди Обинье, по его приказанию, попарно проходили через Макон[1474], какой-то старик остановил одного из них среди улицы и шепнул ему на ухо: «Хорошо делаете, что проходите попарно». Отсюда господин Фоссиа[1475] направил Обинье к господину Аньеру[1476] и проводил его до Женевы. Кроме того, в Жексе[1477] произошел бунт, и Обинье подвергся опасности быть арестованным за ношение оружия, запрещенного в этих местах. Гарнизонные солдаты схватили нескольких тайно сопровождавших его дворян и поступили бы так же и с Обинье, не окажи он сопротивления. Ему посчастливилось отбиться, не ранив ни одного из них, иначе он был бы схвачен и убит: преследовавший Обинье маркиз де Сипьер[1478], имея при себе его изображение, арестовал бы его по праву королевского уполномоченного.
Наконец в четверг, первого сентября 1620 года, Обинье прибыл в Женеву и был принят с большим радушием и почетом, чем он мог ожидать в качестве беглеца. Он удостоился не только обычных почестей, какие оказывались всем знатным иностранцам в этом городе, но и посещения первого синдика[1479], который повел его в храм, где предоставил ему место прошлогоднего первого синдика – кресло, предлагаемое в знак особого почтения только государям и королевским посланникам. В честь Обинье был устроен общественный обед, на который были приглашены все члены Синьории и несколько иностранцев. К этому обеду были поданы пребольшие марципаны, украшенные гербом гостя. После того как Обинье прожил некоторое время у господ Пелиссари[1480] и де Турн[1481], для него за счет города сняли дом господина Сарразена, впоследствии купленный португальскими принцессами[1482], пока, женившись, он не приобрел другого дома. Ему показали все склады оружия, открыли все государственные тайны, удовлетворили его желание произвести смотр всем шестнадцати полкам, чего не случалось в продолжение двадцати лет. Был создан военный совет только из семи лиц, где ему предоставили полную власть, и это положение дел продолжалось до тех пор, пока у этого собрания не потребовали присяги в верности и сохранении тайны. Узнав, что его сотоварищи обязаны сообщать о главных делах Малому совету[1483], Обинье согласился принести присягу в верности, но не присягу в сохранении тайны, если его сотоварищи не будут освобождены от обязанности сообщать о делах, заслуживающих, по их мнению, умолчания. Между тем савойские войска удалились[1484], и, ввиду вышеупомянутых затруднений, совет прекратил свои занятия. В то время, согласно распоряжению Обинье, весь город был занят работами по возведению укреплений как со стороны Сен-Виктора, так и со стороны Сен-Жана[1485].
<1620–1622> Обинье не пробыл еще и шести недель в Женеве, как собрание в Ларошели[1486] уже отправило ему важное свидетельство своего раскаяния в том, что с ним обошлись несправедливо, да притом двумя путями: сперва через Париж, потом через господина д’Авиа[1487], одного из своих представителей; участники собрания послали ему сначала общую доверенность, чтобы обязать протестантские церкви вообще, и жителей Ларошели в частности, сделать все возможное в целях, излагаемых нами ниже.
Потом – верительные грамоты к каждому из четырех протестантских кантонов[1488], городу Женеве, всем ганзейским городам, всем протестантским государям; двадцать из вышеупомянутых грамот с пробелом для вписывания имени, с висячей печатью, недавно пущенной в ход вышеупомянутым собранием, и еще особые письма к протестантским церквам и выдающимся пасторам; все это для того, чтобы предоставить права своему уполномоченному[1489].
Кроме того, Обинье получил указания просить швейцарцев о добровольном рекрутском наборе и о разрешении прохода для войск, которые вышеупомянутый уполномоченный может набрать другими способами. К этому было присоединено поручение начальствовать над армией. Всех этих бумаг было по четыре списка на пергаменте, по два в каждом отправлении, кроме депеш, которых был только один список.
Переодевшись крестьянином, господин д’Авиа приехал в Сен-Жюльен[1490] и послал своего человека, также переодетого, условиться о месте переговоров. Его уведомили, что из почтения к Франции жители Женевы вынуждены вести себя осторожно. Поэтому его поместили в одной из хижин, недавно построенных для работ по возведению укреплений; здесь и состоялось совещание. Обинье предложил Совету двадцати пяти[1491] выбрать двух лиц, которым он мог бы доверить некую тайну, но так как эти двое хотели рассказать обо всем, он вынужден был приставить к ним двух старших начальников.
Между тем господин Сарразен получил письма от графа фон Мансфельда[1492], который после неудач в Богемии просил у него командира. В ответ на его повторную просьбу Обинье вступил в переговоры с ним и с обоими герцогами Веймарскими[1493]. После неоднократных поездок с обеих сторон и крупных издержек за счет уполномоченного все трое обязались доставить к реке Соне[1494] двенадцать тысяч пехотинцев, шесть тысяч всадников, двенадцать артиллерийских орудий, полбатареи, с необходимыми мостами и повозками, и там присоединить к ним три полка, по две тысячи человек каждый, набираемых по усмотрению Обинье, который будет исполнять обязанности начальника генерального штаба, пока войска будут действовать сообща. Все должны положиться на слово собрания, пока в Форезе[1495] войска не получат двух третей жалованья, а в сущности только одной трети, потому что по договору они должны получить только половину до заключения мира, когда им выплатят остальную сумму, ассигнованную на солеварни в Эгморте[1496] и Пекке[1497], в то время еще якобы находившиеся во владении партии.
Все эти условия были приняты обеими сторонами; Мансфельд выступил в Эльзас[1498], а Обинье, ждавший двухсот тысяч ливров по векселю из Ларошели, получил известие, что какой-то умник из Ларошели изрек: «Сие крупное дело лучше передать в руки господина герцога Буйонского»; этому совету последовали с легким сердцем. Тогда граф повернул к Седану[1499], и из этого вышло то, о чем вы узнаете из «Истории»: наипервейший из купцов[1500] остался при своем интересе, израсходовав пятьсот пистолей. Его дети должны позаботиться о сохранении оправдательных документов по всем вышеизложенным делам.
Во время этих переговоров жители Берна послали в Женеву[1501] сына первого старшины кантона просить Обинье посетить их во время осады Франкенталя[1502]. Обинье согласился; везде его встречали с почестями, пушечными выстрелами, празднествами, чрезмерную пышность которых он порицает. Это первое путешествие обязало его совершить и второе, продолжавшееся от трех до четырех месяцев.
Осмотрев Берн, он затеял укрепить его, вопреки мнению всех крупных военачальников, видевших этот город, да и против желания вождей народного совета, и против их законов и присяги, ибо в том была необходимость. Герцог Буйонский написал об этом деле ему и некоторым главным советникам, ссылаясь на удаленность Берна от границ, ибо он расположен в самом сердце страны. В ответ Обинье доказал ему, что по местоположению своему город весьма уязвим и что от этого «сердца» рукой подать до боков.
Народ в городе так враждебно относился к самому слову «укрепления» и так проникся мыслью о сражении, что при первом появлении Обинье несколько пьяниц стали угрожать алебардами, крича, что французов, приехавших посягнуть на их обычаи, надобно утопить в Ааре[1503]. Против всех этих препятствий зачинатель, поддержанный Граффенридом, фон Эрлахом[1504] и кой-какими другими людьми, использовал авторитет пасторов. При первом проявлении недовольства в толпе старший пастор, сопровождавший Синьорию[1505] для осмотра плана, предложил немедленно возблагодарить Бога за благое и спасительное решение. С этими словами он преклонил колени; Синьория и вся толпа вынуждены были последовать его примеру. На следующий день почти весь город пришел в то же место. Пастор произнес проповедь; пропели псалом и общую молитву. Тут Обинье приказал принести колья и с низким поклоном подал один из них первому старшине кантона господину Мануэлю[1506]. Однако этот последний пожелал уступить честь почина в работе самому Обинье, подавшему мысль о ней; но, в свою очередь, Обинье отказался. После этого надо было обсудить вопрос об этих любезностях. Обинье был удостоин чести вбить первый колышек; приняв ее, он бросил шляпу оземь, опустился на одно колено и с первым ударом молотка громко воскликнул: «Да будет так, во славу Божию, ради сохранения его церкви, на страх врагам объединенных швейцарцев!» Засим первый старшина кантона и все члены Синьории также вбили колышки укреплений, и доныне не превзойденных по искусству возведения ни одной крепостью в Европе. Под предлогом выхода на эти работы жители Берна показали силы всех своих округов, насчитывавших до сорока восьми тысяч человек[1507].
Потом Обинье посетил все города кантона и обследовал лагеря, которых оказалось до семи и еще один особый. Дабы рассеять опасения, господин фон Граффенрид на заседании Совета вручил Обинье перо, предлагая подписать присягу в качестве главного военачальника. Обинье отказался, ссылаясь на незнание языка. Когда же его попросили назвать другое лицо, он предложил на выбор троих, а именно: видама Шартрского[1508], господина де Монбрена[1509] и графа де Ла Сюза[1510]. Выбран был этот последний.
Желая спросить совета у того же лица, базельская Синьория послала к нему господина фон Лютцельмана[1511]. Но из двадцати двух бастионов, начертанных господином де Ла Фоссом[1512], жители Базеля решили возвести только четыре, оставив свой город в том же несовершенном состоянии, в каком он находится и поныне.
<1622–1623> Во время этих поездок посланник Скварамелли[1513] от имени Светлейшей Синьории[1514] предложил Обинье принять начальство над французами, находящимися на службе у Венецианской республики. Все складывалось благоприятно, пока посланник короля французского в Швейцарии, Мирон[1515], не распорядился написать посланнику Венеции, что венецианцы навлекут на себя гнев короля[1516], если возьмут на службу человека, столь ненавистного его величеству. Как ни ссылались друзья Обинье на то, что причины ненависти со стороны королей должны быть для республики причиною милости, страх оказался сильнее желания принять на службу этого преданного человека.
Помешав этому делу, Мирон затеял выжить Обинье из Женевы четырьмя способами. Во-первых, он пожаловался, что в этом городе Обинье дурно отзывается о французском короле, причем для борьбы с этим злом потребовал тщательного расследования. Во-вторых, он предъявил письма короля, указывавшего на некое лицо, не называя его по имени[1517]. На этот раз, с ведома обвиняемого, Синьория написала о событиях в городе следующее:
«Что касается остальной части вашего письма, направленного против неких лиц, бежавших в наш город, уличенных и осужденных за злейшие преступления, за козни и заключение договоров, направленных против французского государства, а также за несоблюдение обязанностей почитания, подобающего королевскому величеству, уведомляем вас, – различая эти два пункта, – что никогда ни одно частное лицо не подавало жалобы в нашем городе (а, как нам известно, жаловались многие), не получив удовлетворения от правосудия, действующего столь же решительно и сурово, как и во всяком другом месте, где данное лицо могло бы остановиться. Если жалобщикам угодно будет послать в эти места человека, способного выступить обвинителем с необходимыми для этого документами, к тому же по повелению короля и с вашей рекомендацией, мы приложим все усилия, дабы поддержать славу правосудия, приобретенную нашими предшественниками. А что касается непосредственно короля, мы выполним наш долг со всей твердостью и строгостью, какая только потребуется, дабы показать, как высоко ценим мы столь великое имя. Мы доказали это в прошлом году, когда один дворянин, бежавший в наш город, подал нам жалобу на донесение, полученное вами по такому же делу; тогда в спешном порядке посланы были два синьора из Совета, бывшие синдики, дабы произвести тщательный обыск, долженствовавший послужить либо к оправданию, либо к осуждению обвиняемого. Следствие продолжалось шесть месяцев, в течение каковых дворянин вынужден был пребывать в стенах нашего города как в тюрьме»[1518].
Между тем Обинье купил себе землю в Крете[1519] и построил там дом. Это обошлось ему в одиннадцать тысяч экю. Следует упомянуть о том, как однажды он сорвался с высоты пятого этажа, проломив при падении леса. Чтобы не упасть, он ухватился одной рукой за положенный недавно камень величиной не больше чем с кулак; повиснув всей тяжестью тела на этой руке, хранившей следы двух ран, он успел еще увидеть два острейших кола, только и ждавших, чтобы проткнуть его. Он и упал бы на них, если б его люди не подоспели на помощь; так никогда и нигде Бог не давал ему жить в безопасности.
Постоянные преследования со стороны двора вызвали в нем желание уехать, чтобы не быть в тягость городу, которому он доверил жизнь. Но непрестанные угрозы и признаки предстоящей смерти удерживали его, поэтому он пользовался домом в Крете лишь во время коротких отлучек из города, когда это советовали ему друзья.
Решительней всех других оказалось третье нападение. Не выслушав обвиняемого, даже не вызвав его в суд, его заочно приговорили к отсечению головы за то, что он одел несколько бастионов камнями церкви, разрушившейся в 1562 году[1520]. Это был четвертый смертный приговор за подобные же преступления, доставивший ему славу и удовольствие. Этими происками хотели вызвать к нему ненависть в Женеве и, кроме того, помешать браку, о котором он вступил в переговоры.
Обинье задумал жениться на вдове господина Бальбани[1521], происходившей из Луккского рода Бурламаки[1522]. Возникновению этого плана способствовала людская молва, высоко превозносившая эту недавно овдовевшую даму, горячо любимую и почитаемую за благороднейшее происхождение, богатство и умение вести дом. Накануне заключения брачного договора преследуемый подумал: «Если я имею дело с заурядной душой и заурядной смелостью, с женщиной, не готовой подвергнуть опасности свою жизнь за дело, за которое меня приговорили к смерти, она от страха порвет со мной. Но если я нашел душу выше средней, способную ни перед чем не склоняться, ей предоставляется случай проявить себя и осчастливить меня». После этого решения он сам принес ей известие об этом смертном приговоре и получил следующий ответ: «Я очень счастлива участвовать вместе с вами в борьбе за Бога; что соединил Бог, не разъединит человек»[1523]. Так 24 апреля 1623 года был заключен брак, о котором господин Фуассиа[1524] сложил следующее четверостишие:
Незадолго до женитьбы Обинье отпустил со службы, щедро удовлетворив платою, четырех дворян, которых долгое время содержал при себе. Отказавшись от чести и удобств предоставленного ему членами Синьории жилища, он остался жить вдвоем с женою в ее доме[1526]. Он также не пожелал больше подвергаться нападкам за пользование почетными местами в храме, из-за которых германские графы[1527] роптали на него. Тогда Синьория отвела ему удобнейшее место, которое когда-то занимал один Пфальцский курфюрст, а за ним многие французские военачальники.
Пора сказать, что, увидя в укреплениях Сен-Виктора два кронверка, великолепно спланированных господином де Бетюном[1528], но сделанных наспех и на слишком скупо отпущенные средства, Обинье пожелал укрепить их камнями, которые можно видеть там еще и теперь. А так как фланк куртины[1529] находился слишком далеко от внутренних сторон кронверков, он наметил для них соединительную часть, но с тем, чтобы установить ее только в случае необходимости, оттого что эту работу можно выполнить на виду у неприятеля, а также для того, чтобы не тронуть частных владений и не вызвать недовольства, порождаемого подобными предприятиями. Но некий богатейший господин[1530], сын одного из виднейших синдиков, какие только были в Женеве, к тому же генеральный прокурор, заговорил о своих интересах слишком громко, по мнению членов Синьории, и они немедленно предписали строителю в двухчасовой срок обозначить соединительную часть, согласно имевшемуся приказу, под страхом отрешения от должности. Синьория сама явилась туда, чтобы поскорей поставить рабочих. Обинье же прибежал, чтоб отложить это дело. Но постановление Синьории взяло верх над его просьбами и доводами. После этого его врагами не преминули стать представители рода столь могущественного, что, когда один из них вступил в тяжбу, то в Совете Двухсот[1531] приходилось давать отвод, по крайней мере, шестидесяти из них, ибо то были родственники истца.
<1624> Неутомимые эти враги пользовались различными поводами для мщения: появлением в печати «Истории»[1532], ненависть автора которой (как говорили они) раздражает Францию, первым приездом в Женеву старого маркиза Баденского[1533], вызвавшим слух, что он явился по наущению Обинье, чтобы набрать армию и разжечь этим гнев императора[1534]. Однако оказалось, что он и Обинье никогда не знали друг друга лично и не сносились письменно. Это обвинение обнаружило злую волю многих людей; им стало стыдно, когда они увидели, что маркиз отлично принят в Женеве и живет здесь уже пять лет, не считая его поездки в Данию.
Против Обинье строили еще немало козней, убеждая жителей, что этот чужеземец советовал членам Синьории держать народ в черном теле и придумал новые подати. Все эти истории оказались ложными; было признано, что Обинье бежал из Франции оттого, что там его сочли и объявили республиканцем.
<1627–1629> Но последнее предприятие еще больше распалило его врагов и почти отпугнуло охладевших к нему друзей. В то время как потеря Ларошели[1535], события в Лангедоке[1536] и разорение Германии[1537] устрашали наименее стойких людей, Розе[1538], посланный вместе с господином Сарразеном ко французскому двору, умело обработал государственного секретаря Эрбо[1539] своими письмами и письмом, которое заставил написать самого представителя[1540]; итак, владелец замка провел в своем Крете три месяца не без тревог. Дело в том, что в это время кто-то – как подозревают, герцог д’Эпернон или архиепископ Бордоский[1541] или они оба – подкупил около десятка убийц, два года подряд дерзко бесчинствовавших в этих краях и поклявшихся спасением души (на него они не могли и рассчитывать) убить Обинье. Но тот, кого они подстерегали, выходил из дому только в сопровождении своих людей, сам искал этих убийц и написал господину де Кандалю[1542], прося его посоветовать своему отцу выбрать наемников получше. В конце концов Женева высказалась против отъезда Обинье; благороднейшие люди одержали верх, не остыла и горячая любовь к нему простого народа.
<1625>Незадолго до этого господин коннетабль[1543], участвуя в Генуэзской войне[1544], послал государственного советника Бюльона[1545] к Обинье, хотя при последнем свидании в Сомюре тот крупно с ним повздорил. Теперь дело шло о наступлении на Франш-Конте[1546], и с этой целью бедному desterrado[1547] предлагали три старых полка и один новый с приданной ему конной ротою, но война шла вяло и была, по видимости, уже на исходе.
<1628–1629> Вскоре, возвращаясь из Константинополя в Лондон, прибыли в Женеву чрезвычайный посол граф де Карлейль[1548] и кавалер [Томас Роу][1549]; они оказали Обинье почести сверх меры и горячо приглашали его приехать в Англию. Он охотно согласился и заранее получил место на корабле, который граф велел зафрахтовать в Страсбурге для возвращения. Этой поездке помешала та же причина, которая дважды уже заставила его отказаться от подобного намерения: появились верные признаки предстоящей осады[1550]; между тем в этом году Женева была лишена самых необходимых средств. Упомянув об Англии и о переговорах между графом де Карлейлем и Обинье, я должен рассказать и о том, что предпочел бы скрыть.
Бог не хочет, чтобы милость его переходила по наследству; Констану, старшему из своих детей, единственному своему сыну, Обинье дал самое тщательное воспитание, затрачивая на это суммы, каких не пожалел бы на сына иной государь, и приставил к нему превосходных наставников[1551], каких только можно найти во Франции, даже переманивал их из лучших домов и назначал им двойное жалованье. Между тем этот дрянной человек сначала развратился в Седане пьянством и игрою, а потом забросил занятия словесностью и окончательно погубил себя в Голландии[1552]. Вскоре, в отсутствие отца в Ларошели, он женился на несчастной женщине[1553], которую впоследствии убил[1554]. Желая отвлечь его от двора, отец набрал на свои средства и дал ему полк для участия в войне принца Конде[1555], но ничто не могло смирить дерзость этой погибшей души. Констан устремился ко двору, где потерял в игре в двадцать раз больше того, что имел; помочь этому он не нашел другого средства, как отречься от своей веры[1556]. Он был отлично принят при дворе и признан блистательнейшим умом нашего века. Узнав о частом общении сына с иезуитами, отец в письмах запретил ему водиться с подобной компанией; Констан ответил, что действительно беседует с отцом Арну[1557] и с Дю Май[1558]. Отец возразил, что эти два имени составляют αρνου μαι[1559]. Как бы то ни было, Констан получил от Папы разрешение посещать проповеди и участвовать в трапезах так называемой реформатской веры. Затем он явился в Пуату с целью захватить крепости своего отца, который, чтобы отвлечь его (от двора), назначил его своим наместником в Майезе, где предоставил ему полновластно управлять, а сам удалился в Доньон. Вскоре Майезе превратился в игорный дом, бордель, мастерскую фальшивомонетчиков, а наш кавалер стал похваляться при дворе, что его солдаты, все до одного, стоят за него горой против его отца. Уведомленный обо всех этих делах местными протестантскими церквами и, вдобавок, одной придворной дамою, отец сел на корабль, взяв петарды и несколько лестниц. Прибыв в окрестности Майезе, он пошел один, переодетый, к воротам цитадели. Часовой хотел преградить ему дорогу. Обинье бросился на него с кинжалом, одержал верх и прогнал тех, кого признал изменниками. Выдворенный оттуда злодей удалился в Ниор, под крылышко барона де Навай[1560], отрекшегося, как и он сам, от протестантской веры. Оттуда он совершал несколько раз набеги на Доньон, к тому времени уже проданный герцогу де Роану и управляемый господином де От-Фонтеном[1561], имевшим заместителя вполне преданного, но бесполезного для военного дела.
Однажды после обеда к лежавшему в лихорадке майезскому губернатору[1562] явился один военный. Хотя он отрекся от истинной веры и последовал за его сыном, но, чувствуя себя обязанным за благодеяния отцу, сообщил, что Констан направляется к нему с восьмьюдесятью людьми по воде и с другим отрядом – сухим путем, чтобы захватить в эту ночь либо Майезе, либо Доньон. Больной тотчас же велел подать себе штаны и, взяв с собой из гарнизона тридцать шесть человек, без лейтенанта, без сержанта, сел на коня, решив подстеречь сына на обеих дорогах сразу. Едва он проехал полмили, его лихорадка усилилась. Вдруг к нему галопом подоспел его зять, господин д’Ад[1563], с двумя людьми, преклонил перед ним колено и с большим трудом, приведя множество доводов, умолил его вернуться и лечь опять в постель. Получив указания от тестя, д’Ад через два часа встретил шурина, который шел на Доньон. И хотя Констан был вдвое сильнее, д’Ад напал на него, взял в плен шестнадцать человек и передал их герцогу де Роану, в ту пору бывшему губернатором провинции, однако герцог так и не смог добиться суда над ними[1564].
Когда-то король сказал Констану, что заменит ему потерянного отца. Но вскоре Констан внушил всем своим омерзение, а тем, кому стал служить, – ужас и презрение. Отвергнутый всеми, кроме известной сводницы Ла Бросс[1565] и шлюх, содержавших его, он вступил с отцом в переговоры о примирении. Обинье ответил, что земной отец заключит с ним мир после того, как сын примирится с Отцом Небесным. Тогда Констан явился в Женеву, представился пасторам[1566], дал в этом городе, в Пуату и в Париже все требуемые расписки, написал яростные стихи и прозу против папства и получил деньги и содержание, равное тому, которое отец мог бы выделить ему из своего имущества.
Констану посоветовали отправиться к шведскому королю[1567] с тем, чтобы наверняка немедленно по приезде получить у него должность. Но Швеция находилась слишком далеко от притязаний Констана. Он предпочел поехать в Англию[1568]. Заметьте, что этот злонамеренный человек внушал такие подозрения отцу, что не смог добиться от него сопроводительных писем ни к королю[1569], ни к герцогу Букингемскому[1570], а получил только письма к некоторым друзьям, и то с разными оговорками.
В Англии Констан представился ко двору, объяснив отсутствие у него сопроводительных писем опасностями дороги. Это было после событий в Ларошели[1571], когда английский король, желая решить вопрос о войне, призвал только герцога Букингемского, четырех лордов, господина де Сен-Бланкара[1572], уполномоченного герцога де Роана, и этого негодяя, назвавшегося представителем своего отца. Собрание решило объявить войну Франции и безотлагательно принять спешные меры. Поэтому постановили послать за Обинье. Сначала это было поручено шевалье Вернону[1573], но наш плут взял это на себя в качестве сына.
По приезде в Женеву он изложил отцу порученное ему дело. На многократные вопросы, не побывал ли он в Париже, Констан со всяческими клятвами отвечал отрицательно, потому что не ездить в Париж было важнейшим условием сохранения мира между отцом и сыном, условием, соблюдать которое сын под присягой поклялся отцу, знавшему, что этот негодяй теряет голову в борделе. Потом Констан вынужден был рассказать о своем путешествии. Тут в какой-то незначительной подробности описания отец заподозрил неправду, после чего решил не ехать в Англию и отослал вестника обратно, дав любезный ответ, составленный в общих выражениях, но не открыв истинных причин отказа. Констан это почувствовал, посетовал на отца, но ничего не добился.
По дороге в Женеву он побывал в Париже и виделся ночью с господином де Шомбергом[1574], а на обратном пути ночью же – с тем же лицом и с королем, рассказав им все об английских делах в благодарность за оказанную ему при дворе столь незаслуженную честь. И вот за это отец порвал с сыном[1575].
Стараясь оградить себя от гнусных поступков своего отпрыска, старик вознамерился сам отправиться в Англию и уже согласился было воспользоваться кораблем графа Карлейля; но в это время разразилась мантуанская война[1576]: границы Франции, Италии и Германии кишели войсками, а Женеве не хватало хлеба, соли и других необходимых для жизни припасов, чтобы выдержать даже месячную осаду, причем враги это знали. Тогда Обинье, ненавидимый за то, что уже пять лет докучал жителям предостережениями, отверг всякую мысль о капитуляции и отказался от всех других помыслов, дабы найти в Женеве почетную смерть.
ДОПОЛНЕНИЯ
ИЗ ЧЕРНОВЫХ РЕДАКЦИЙ «ПРИКЛЮЧЕНИЙ БАРОНА ДЕ ФЕНЕСТА»[1577]
ГЛАВА XVI
Хочу еще рассказать вам об остроумии Поршера[1578], которого король называл поэтом бойкого ума. Однажды, когда тот проезжал в карете госпожи Ла Варенн по Телячьей площади, случилось следующее: карета госпожи де Жон[1579] ехала со стороны университета, от советника Леграна[1580], карета же госпожи Бара, следовавшая от Парижских ворот, застряла между двумя другими; по сему случаю госпожа Ла Варенн попросила Поршера оказать ей две услуги: во-первых, написать элегию о происшедшем столкновении, а, во-вторых, поскольку он собрался ехать в Лион, заказать там для нее какой-нибудь новомодный гобелен. Поршер, который ехал в Лион, дабы присоединиться к герцогу Савойскому, и только о том и говорил, заказал ей просимый гобелен, который впоследствии украсил все четыре стены парадной залы [пробел]. Гобелен сей состоял из многих частей, но на каждой стене представлен был отдельный Триумф. Все эти Триумфы отнюдь не были Триумфами Петрарки. Первый назывался Триумфом Нечестивости, второй – Триумфом Невежества, третий – Триумфом Трусости, четвертый – Триумфом Нищеты. Итак, гобелен сей доставлен, его ждут в Париже, в галерее [пробел]. Надписи на нем сделаны в сокращенном виде. Цвета и оттенки весьма приятны для глаза, и его не пришлось бы скрывать от посторонних, кабы не Поршер, болтавший о нем направо и налево.
ГЛАВА XVII
Впереди видна была повозка, которую тащила четверка впряженных в оглобли демонов; в ней, на возвышении, отведенном для Триумфатора, восседало чудовище в облике Женщины в пурпурном одеянии. Оно во всем походило на человека, разве что не могло высоко держать голову, которая смотрела вниз, как у зверей, имея к тому же длинные свисающие уши и узкий лоб.
Впереди, спиною к оглоблям, на скамеечке пониже, с ликующим видом сидело Сластолюбие, прикрывшее нагое тело роскошными распущенными волосами.
По бокам, вместо дверец, находились: справа – полумертвая, обнаженная, истерзанная шипами Совесть, слева же, на железном сиденье, Глупость. Путь этой повозки устлан был листами из сводов законов; перед нею шли три группы людей; переднюю составляли закованные в цепи патриархи и святые первых лет Христианства; концы их цепей держали в руках Каин и Хам; вокруг бесновались сатиры; за ними, во втором ряду, под конвоем стражников и иных приспешников Нерона и Юлиана, шагали апостолы и мученики церкви раннего Христианства. В третьей большой группе вели сожженных на кострах в наше время, под охраною гвардейцев королей Филиппа[1581] и Генриха Второго[1582]. За повозкою поспешала ликующая толпа пап и кардиналов, некоторых королей и принцев, из коих наиглавнейшие оказались в самом хвосте процессии: Господин охотник за душами шел последним, по пятам за архиепископами Лионским и Буржским, ибо тот, кто отправляет большую мессу, должен шествовать позади всех.
ГЛАВА XVIII
Впереди ехала триумфальная колесница Невежества, влекомая четырьмя ослами под завывание волынки. Триумфаторша, с крошечными глазками и разинутым ртом, сидела на своем месте обнаженная, не пряча срамных мест, и с гоготом что-то вычитывала в требнике. Напротив сидело Безумие, тряся своей погремушкой; справа, пониже, Суеверие, сплошь обвешанное «патерностерами»[1583], а слева – Упрямство, со своей огромною, тупою башкой.
Перед этой повозкою также вели пленников в три ряда: в первом шли Моисей и Пророки, под охраною тех гигантов, что глумились над Потопом[1584]; особливо выделялся средь них косматый Навуходоносор[1585]. Во втором ряду шагали Доктора Церкви, такие как Ириней, Тертуллиан и даже святой Августин; далее – несколько римских епископов, вплоть до Сильвестра, – этих охраняли и осмеивали Ламзер[1586] и Либаний. За повозкою на красивых мулах ехало множество ликующих королей и принцев. Среди них можно было признать по сходству отцов и дедов герцога де Монпансье, коннетабля, были здесь и Сурди, и Мено, и кюре из церкви Сент-Эсташ[1587], и Сорбонна; в хвосте же процессии, как и положено среди таковых людей, шли герцог Неверский[1588] и младший Гонди, принимающий послов.
ГЛАВА XIX
А вот и колесница Трусости, влекомая четверкою оленей; на ней восседала сияющая Триумфаторша с вытаращенными глазами и сжатым ротиком. Она не могла переносить громких звуков, и потому ее выход сопровождала музыка маникордиона, на котором играло сидевшее на облучке Довольство. По бокам ее притулились Стыдливость и Лень. Триумф сей отличался от других тем, что здесь отсутствовали пленники древних времен, кроме нескольких смутных теней, ибо считалось, что в те века Трусость была не у дел; зато среди представителей нашего времени легко узнать Шатийонов, обоих де Ла Ну, отца и сына, покойных принцев Конде[1589], несчастного, умершего с голоду графа Рокандо[1590], герцогов Буйонских, Ла Тремуя, покойного графа Монтгомери, Монбрена, Жанлиса[1591], Пиля[1592] и Плювьо[1593], всех жертв Варфоломеевской ночи, всех незнатных генералов и полковников. Все эти люди шли под охраною маршала де Реца и мессира Рене-парфюмера[1594], маршалов Биронов, отца и сына, барона дез Адре[1595], Монбарро, преступника что на службе, что в тюрьме.
За повозкою на арабских конях ехали граф де Суассон[1596], сбросивший Фава[1597], монсеньор Ле Гран[1598], покоривший Бургундию, пятеро рыцарей Святого Духа, Ману, первый конюший Антраг[1599], Шатовьё и Шемеро, которые в битве при Иври вздумали все вместе заколоть одного неприятеля, дабы обагрить свои шпаги вражеской кровью, да и того не смогли одолеть, так что пришлось пробегавшему мимо солдату одним ударом покончить с несчастным и тем самым позволить этим господам возомнить себя героями.
ГЛАВА XX
А вот подоспела и Нищета, повозку которой тащат четыре тощие волчицы; на переднем сиденье красуется Наглость, слева Распутство, справа Лесть; позади сидит Бесстыдство, которое свысока поглядывает на всех в маленькое окошечко.
И так же, в три ряда, шагают перед повозкою побежденные. В первой группе, далеко ушедшей вперед, видны многие короли и принцы, изгнанные из своих стран, – их подгоняют палками Багуас и другие евнухи; во второй группе, более приближенной к зрителю, идут несколько богатых римлян, держа в руках завещания, по которым отказывают все свое имущество тиранам и их любимцам. Тем не менее эти несчастные, лишенные всего, подвергаются насмешкам и поношениям Нарцисса, Палласа и Флёр д’Ази. За ними идет злосчастный Велизарий, который вел войну, прося милостыню. Но лучше всего изображена третья группа, во главе которой шествует коннетабль Монтегю, сделавший себе перевязь из недоуздка. Рядом с ним шагает цирюльник короля Людовика XI, превративший свой тазик брадобрея в щит, на коем золотыми буквами по песочному полю выписан девиз: «Fortunae tonsor quisque suae»[1600]. Далее идут злополучный, бедный Дон Гонсальво, граф Росендольф, умерший с голоду в Париже, даром что сей доблестный полководец храбро сражался во славу наших королей, и видам Шартрский, погибший на галерах. Кроме них видны там господа де Ла Ну и большая толпа знатных вельмож и французских дворян, застигнутых врасплох миром. Все эти люди идут под охраною покойного Раго и Дю Альда, которые, едучи верхами, подгоняют идущее у их стремени семейство дома Пиен.
Следом за повозкою идет войско победителей, во главе коего блистает сколь знаменитая, столь же благочестивая группа старых бабуинов в сопровождении юных огородных пугал[1601], а среди них – сам шевалье Бабу, основатель сего славного рода, несущий вместо щита крючья, с помощью которых он таскал дрова в кухни и спальни. Конь его покрыт чепраком с вышивкою, где узор искусно составлен из поленьев и вязанок хвороста. Старый д’Эстре[1602], не пожелавший бросить как сию компанию, так и свой род, несет щит с тремя кучками грибов, каковые кучки впоследствии, на гербах его потомков, увеличились до трех полных возов.
В хвосте сего воинства шагают, беседуя на ходу, два кардинала, один итальянец, кардинал де ла Симия, названный так оттого, что ручная обезьяна одного из пап пылко возлюбила его за чрезвычайное количество вшей, которых носил он на себе. За эту любовь его взяли на службу, поручив ухаживать за этой обезьяною; дальше – больше: не успел он сменить наряд, как его хозяин счел, что ему очень идет ряса, и так прельстился им, что вскорости он и был избран папою. Он шествует, рассказывая о своем возвышении второму, кардиналу де Сурди[1603], который, в свой черед... [конец фразы неразборчив]. Папа Сикст следует за толпою кардиналов и, что самое занятное, верхом на борове. Это тот самый боров, которого потерял он, в бытность свою свинопасом, через каковую потерю и сделался папою, как о том повествуется в его «Истории».
Не могу и описать вам великое множество триумфаторов всех времен и народов, изображенных на этом гобелене. Вот только удивительно, что средь этих людей не видать барона, служившего в гвардии, некогда капитана Пулена[1604] (ибо он пас жеребят), и Бюрлота – цирюльника, ставшего полковником; также не найдете вы здесь, в числе испанцев, ни графа Букуа[1605], ни...
ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ АГРИППЫ Д’ОБИНЬЕ
ИЗ КНИГИ «ВЕСНА»
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ДИАНЕ[1606]
ИЗ КНИГИ «РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»[1619]
ПРИЛОЖЕНИЯ
ТЕОДОР АГРИППА Д’ОБИНЬЕ, ИЛИ ОСЕНЬ РЕНЕССАНСА
Если бы было можно в одном человеке олицетворить целое столетие, то д’Обинье, он один, стал бы живым воплощением, сконцентрированным отображением своего века. Занятия, пристрастия, добродетели, верования, предрассудки, образ мышления того времени – все это нашло в нем наивысшую форму проявления, и сегодня он предстает перед нами как одна из самых впечатляющих фигур того стародавнего поколения.
Ш.-О. Сент-Бёв
1
При смене значительных исторических и историко-культурных эпох неизбежно сгруппировываются годы и десятилетия, отмеченные яркими чертами перелома и перехода. Это ощущают уже современники, участники исторического процесса, тем более – ближайшие и отдаленные потомки. К подобным годам и десятилетиям, к их содержанию и смыслу, как правило, отношение двоякое. С одной стороны, они воспринимаются как неоправданно затянувшееся завершение блистательных открытий и свершений предшествующей эпохи, завершение непременно эпигонское, подражательное, мельчающее, когда на смену, скажем, проникновенному лиризму Ронсара, его необузданной поэтической смелости, его глубокому и полнокровному восприятию и осмыслению окружающего и себя самого приходит манерная легкость и поверхностная беглость каких-нибудь Оливье де Маньи или Филиппа Депорта, хорошо усвоивших чужие уроки, но не сказавших ничего действительно нового и свежего. С другой стороны, время это трактуется как докучливое топтание на месте в преддверии новых внушительных шагов вперед, которые почему-то медлят сделать, словно малодушная нерешительность берет верх над смелостью и устремленностью в будущее. Что же, tertium non datur? Напротив: изучение таких переходных эпох, таких «канунов и рубежей»[1632] обычно плодотворно и поучительно. Приведем суждение по этому поводу Ю. М. Лотмана: «Не случайно, – писал известный исследователь, – при характеристике этого периода в трудах литературоведов чаще всего встречаются выражения «разрушался», «распадался», «складывался», «еще не сформировался», а соответствующие историко-литературные термины образуются с приставкой «пред» или «пре» <...> Оценивая эпоху по ее итогам, мы выделяем в ней наиболее существенное – то, что стало ведущей тенденцией (или тенденциями) в последующие периоды. Однако при этом не следует забывать сложности исторических закономерностей: далеко не всегда реальностью в истории становится то, что было единственно возможным, – история закономерна, но не фатальна. Это приводит к тому, что в каждую эпоху имеются нереализованные возможности, тенденции, которые могли бы развиться, хотя этого и не произошло. Кроме того, не все исторические посевы прорастают с одинаковой скоростью – черты эпохи, которые представляются незначительными, если смотреть на нее с дистанции в два или три десятка лет, могут показаться историку определяющими через несколько столетий. Все это приводит к тому, что взгляд на ту или иную переходную эпоху с точки зрения ее непосредственных исторических итогов может не только существенно расходиться с представлением современников, но значительно обеднять ее значение с точки зрения более широких исторических перспектив»[1633].
Что же, соображения очень верные. Уточним и несколько разовьем их применительно к нашей теме.
Во-первых, это действительно подведение итогов. Не просто быстренькое повторение, в который уже раз, ранее открытого, сказанного, названного. Подведение итогов непременно вырабатывает новый язык, судит только что пережитое, обсуждает его и, чаще всего, осуждает на свой манер. Так было, видимо, всегда, в том числе и в интересующую нас эпоху перехода от XVI к XVII столетию во Франции. Нельзя не отметить, что наиболее глубокие, универсальные мыслители, мыслители, если позволено будет так сказать, самые «здравомыслящие» и трезвые – без всех этих прекраснодушных и ни к чему не обязывающих «телемских» придумок и вообще восторженного энтузиазма – творят и мыслят как раз в это время, т. е. на исходе Ренессанса. Назовем лишь самых крупных: Монтень, Воден, Шаррон, Франциск Сальский. Рядом с ними можно без каких бы то ни было натяжек поставить и Агриппу д’Обинье. Не для всех из них характерен все подвергающий сомнению и одновременно созидающий скепсис, но все эти мыслители смутно или осознанно и проницательно ощутили переходность эпохи, необходимость создания некоего синтеза, некоей «суммы» (как назвали бы это современники Фомы Аквинского), необходимость поисков – в политике, морали, вере, художественном творчестве – новых путей, этот синтез преодолевающих, подчас отказывающихся от обретенного, открытого, завоеванного.
Иначе и быть не могло: весь гигантский опыт XVI века, политический, мировоззренческий, художественный и даже чисто житейский, требовал осмысления и обобщения; слишком много было накоплено отдельных фактов, частных наблюдений, слишком многое было увидено и открыто в природе, в искусстве, в человеческих отношениях и в каждой отдельной человеческой душе, поэтому подведение итогов напрашивалось само собой. В этом смысле понятна многозначность названия великой книги Монтеня: это «опыты», «пробы», «проверки», «эксперименты», но и результат всех этих действий. Проверять и испытывать можно было лишь то, что к тому времени оказалось создано и накоплено. Монтень или Шаррон были гениальными мыслителями, но на голом месте они не смогли бы явиться. Переходная эпоха только тогда имеет право на существование, только тогда действительно наступает, когда ей предшествует достаточно длительный и насыщенный историко-культурный период. Так было на закате Средневековья, в пору его осени, точно так же – при завершении эпохи Возрождения.
Во-вторых, в период перехода непременно появляется не только осознание завершенности, исчерпанности определенного отрезка времени, но и предчувствие, предощущение чего-то нового, неизбежного и во многом еще неведомого, что смутно начинает вырисовываться. Мы можем поэтому говорить о непредсказуемых предпосылках, о возникновении нового взгляда на мир, новых мыслительных и художественных форм в недрах старого, подвижного, конечно, но такого устойчивого единства. Это ощущение резкой трансформации старого, прихода чего-то нового оборачивается возникновением атмосферы тревожности, что нередко приобретает трагическое звучание.
Вот почему некоторые исследователи эти переломные десятилетия в истории европейской культуры предлагают называть эпохой «трагического гуманизма». Наиболее четко высказался на этот счет замечательный отечественный литературовед профессор A. A. Смирнов; он писал: «Трагический гуманизм – это осознание трагедии человека в частнособственническом и притом рефеодализирующемся обществе, сознание всей тяжести борьбы, которую человек ведет с этим обществом, – борьбы, не всегда сулящей успех и порою почти безнадежной, но все же всегда и во всех случаях необходимой. А вместе с тем – это осознание того, что ренессансное мировоззрение с его идиллическим оптимизмом и упрощенностью недостаточно вооружает для такой борьбы, что для нее нужен более сложный арсенал идей, чем заготовленный ренессансным гуманизмом. Трагический гуманизм считал, что если даже победа при данньгх условиях и невозможна, то все же надо бороться хотя бы мыслью, стараясь вникнуть в сущность неразрешимых конфликтов, так как победа мысли есть залог будущей реальной победы над злом»[1634]. (Отметим в скобках, что A. A. Смирнов писал о Шекспире, отчасти о Монтене и Сервантесе, но процитированные нами слова вполне приложимы к Агриппе д’Обинье, ко всему его творческому наследию, к смыслу и форме его жизни.)
Развивавший и одобрявший идеи A. A. Смирнова академик Ю. Б. Виппер вместе с тем стремился сохранить «полноценность», «целостность», «монументальность» Возрождения, поэтому он отстаивал несколько иную точку зрения, на первый взгляд более уклончивую и гибкую, а в действительности более простую и даже прямолинейную. «В этой связи возникает следующий вопрос, – писал исследователь. – Не должны ли мы, принимая многие из конкретных историко-литературных наблюдений над творчеством Монтеня и Шекспира, сделанных A. A. Смирновым в его интересной статье, в то же самое время употреблять термин «трагический гуманизм» прежде всего в иной исторической перспективе, не выходя за рамки Ренессанса, как обозначение завершающего этапа в эволюции культуры Возрождения и присущих ей гуманистических и реалистических тенденций? Не зарождался ли «трагический гуманизм» в рамках позднего Возрождения как осознание и отражение жестокого разлада между ренессансными идеалами и враждебными антигуманными силами, начинавшими брать верх в окружающей общественной действительности, и не продолжал ли он (в свойственной ему форме) существовать до тех пор, пока почва, питавшая эти идеалы, не была окончательно перепахана историей»[1635]. Ответ на этот риторический вопрос очевиден: бесспорно, продолжал существовать, о чем красноречиво свидетельствует позднее творчество Шекспира или Сервантеса, в той или иной мере – все зрелое творчество Агриппы д’Обинье. Продолжал существовать, но уже в совсем новой политической и художественной обстановке.
Отказывание переходной эпохе в самодостаточности й самоценности нередко объясняется не только привычным тяготением к таким удобным круглым датам, но и желанием оградить от каких бы то ни было посягательств периоды «основные», отмеченные безоговорочным господством единого художественного метода, определяющего едва ли не все тенденции литературной эволюции. Тот же Ю. Б. Виппер эту охранительную позицию высказал достаточно однозначно; так, говоря о попытках дать более дробную периодизацию литературного процесса во Франции в конце XVI – начале XVII столетия, ученый замечает: «Итоги и последствия всех этих сдвигов в периодизации французской литературы XVI и XVII веков очевидны. Они заключаются в сужении историко-литературной территории Ренессанса и классицизма, в подчеркивании быстротечности процесса их созревания и кратковременности их расцвета и в стремлении, с другой стороны, по возможности растянуть и выдвинуть на первый план с точки зрения художественной значимости отмеченную печатью маньеризма и барокко переходную историческую полосу, которая разделяет эти два периода»[1636]. Не приходится удивляться, что отношение исследователя к переходным эпохам вообще по меньшей мере двойственное, если не просто отрицательное; Ю. Б. Виппер пишет: «Методологическая значимость проблемы «переходных» периодов очевидна. Не следует, конечно, эти периоды упрощать. Но не следует также чрезмерно их растягивать, раздувать и усложнять. Важнее, пожалуй, стремиться правильно выделить ведущее начало в содержании этих периодов (не затушевывая, естественно, присущих ему внутренних противоречий) и в свете этого уже пытаться решать вопрос о том, что в них перевешивает – связь с духовными традициями предшествующей эпохи или ростки нового времени. Что эта задача иногда бывает чрезвычайно нелегкой, также очевидно»[1637].
Видимо, все-таки не любой переход от одного столетия к другому или от одного историко-культурного периода к следующему связан с возникновением полноценной переходной эпохи. Смысл последней, ее raison d’etre, состоит как раз в том, что старое и новое достаточно продолжительное время сосуществуют, сосуществуют, если угодно, на равных правах, пребывая в состоянии борьбы, но и непременного взаимодействия. При этом подчас бывает трудно установить, какой собственно культурный феномен возник раньше соседствующего. Если ограничиваться обозначениями художественных методов или направлений, то ни одно из этих обозначений как ведущее, определяющее к такой переходной эпохе приложено быть не может. В самом деле, в конце XVI и начале XVII столетия во Франции сосуществуют, взаимодействуя и трансформируясь, очень сильные ренессансные традиции, маньеризм, барокко, классицистические тенденции. Их сосуществование растягивается на несколько десятилетий, что и позволяет говорить об этом периоде как самоценной переходной эпохе, и, утверждая это, мы не предполагаем хоть как-то сократить, урезать, унизить великое искусство Ренессанса.
К тому же «полноценная» переходная эпоха, впрочем как и любая другая, очень тесно и очень сложно связана с соседними. Нередко последующая эпоха раскрывает до конца смысл и строй своей предшественницы – ведь новые тенденции становятся очевидны только при ретроспективном подходе: так, скажем, ранние черты классицистической поэтики как и маньеристического стиля мы обнаружим, например, уже у Ронсара, но обнаружим только тогда, когда будем знать, «к чему это все привело».
Ощущение тревоги, ощущение сдвинутости ментальных и художественных стереотипов пронизывает все многообразное творческое наследие Агриппы д’Обинье; это во многом подспудный лейтмотив его книг, причем все нарастающий по мере развертывания его творческого пути, все ярче себя обнаруживающий даже внутри одного произведения, на его собственной «территории», будь то цикл поэм, мемуары или квазироман о кавалере Фенесте. Вполне очевидно, что такая эмоциональная и мыслительная окрашенность порождена эпохой, ее сложностью, ее, если угодно, серьезностью.
В-третьих – и, видимо, для нас это наиболее существенно – в переходные эпохи возникают художественные феномены, которых не просто не было раньше (что вполне закономерно), но которые вовсе или почти не будут иметь продолжения, став приметой как раз данного времени, и только его. И хотя с этим можно было бы спорить, для чего есть весомые основания, но нельзя не признать, что именно в такие эпохи обнаруживается смазанность, нечеткость жанровых параметров, что бывает связано с появлением произведений, в жанровом отношении трудноопределимых, как бы вбирающих в себя приметы нескольких жанров или жанровых вариаций. У таких жанровых экспериментов обычно не бывает продолжения, а если они и возникают, то уже вскоре не делают погоды.
Вполне закономерно (т. е. вполне в соответствии с этим нашим наблюдением), что д’Обинье не стал главою школы, не создал устойчивой традиции, а его книги не сделались предметом подражания, разве что самого эпигонского. К тому же большинство его произведений очень скоро оказалось забыто; в ближайшие следующие десятилетия они не переиздавались, что не было случайным. После прижизненных изданий наступала обычно длительная пауза. Вот некоторые красноречивые примеры.
«Приключения барона де Фенеста» вновь были напечатаны только в 1729 г., т. е. через сто лет после первого полного издания. «Всеобщая история» ждала переиздания более двухсот лет, «Трагические поэмы» и того больше – до 1857 г. Многие сочинения д’Обинье оказались как бы затерянными – их открыли исследователи второй половины XIX и начала XX в. (речь идет прежде всего о его памфлетах). А ряд важнейших созданий писателя – его поэтический цикл «Весна» и его мемуары – долгое время, почти никому неведомые, лежали в архивах (хотя ранняя лирика Агриппы и, возможно, фрагменты его «Трагических поэм» до их издания в 1616 г. были каким-то образом известны современникам, вероятно, в списках или же в устной передаче; по крайней мере, его упоминает Брантом рядом с Ронсаром, Баифом и Депортом[1638]). Такое отношение к творческому наследию д’Обинье объясняется как раз переходностью его эпохи, особостью, своеобразием его места в литературе, которое можно было бы воспринять как маргинальное. Наконец – неординарностью его произведений.
Между прочим, изучение переходных эпох вызывает нередко известное затруднение как раз потому, что в эти периоды, как уже говорилось, возникают такие художественные феномены, которым трудно найти точное (или хотя бы приблизительное) жанровое определение. Поэтому мимо них просто «проскакивают». Вина в этом не исследователей, совсем даже не ленивых и тем более не нелюбопытных. Необычность и неординарность, в какой-то мере «неправильность» изучаемого литературного материала и отодвигает последний со столбовой дороги литературной эволюции. Тем самым временность, преходя-щесть литературных явлений определяет как степень их изученности филологической наукой, так и сам ход их научного освоения.
Существует и чисто методологическая, даже эдиционно-техническая трудность: курсы истории литературы (если они подробны и «многотомны») делят обычно на «века»; лишь применительно к временам относительно недавним применяют членение более дробное. В таких курсах переходным эпохам, как правило, не везет.
Вот почему заслуживает внимания явно удачный опыт группы выдающихся французских литературоведов во главе с Клодом Пишуа, создавших шестнадцатитомную историю отечественной литературы, в которой переходным эпохам было уделено повышенное внимание. (Пишуа писал в кратком введении ко всему изданию: «Последние годы одного столетия и начальные следующего с очень большим трудом могут быть включены в уходящий или же наступающий век, и их смущенно помещают под вывеской «переходных». Мы решили покончить с этим чрезмерным уважением к круглым историческим датам. Нам показалась убедительной сама идея литературного поколения в окружении всего того, что с ним связано. Эта идея имеет еще и то преимущество, что не отдает предпочтения ни одной эпохе и одновременно воздает должное эпохе «переходной» и тем самым не нарушает ее целостности и ее самодостаточности. Этот принцип лег в основу каждого нашего тома»[1639]. В самом деле, в этом интересном издании (которое, однако, продолжений не вызвало), помимо томов, посвященных самозамкнутым литературным столетиям, мы находим тома «переходные», о чем красноречиво говорят их хронологические границы: т. 5 (1570–1624), т. 8 (1680-1720), т. 11 (1778–1820) и т. д. Причем выбранные исследователями рубежи тщательно и неоспоримо обоснованы как самим литературным материалом, так и сущностью, доминантой исторического процесса, падающего на эти десятилетия.
2
Здесь следует хотя бы кратко остановиться на эпохе, в которую жил, творил Агриппа д’Обинье, которую он многообразно изобразил, стараясь постичь и передать ее суть, на события которой он столь эмоционально откликался. Для нас важны не значимые и значительные вехи – не гибель на турнире Генриха II (1559), не Варфоломеевская ночь (1572), не убийство Генриха III (1589), переход Генриха Наваррского в католичество (1593) или подписание им Нантского эдикта (1598), наконец не убийство самого Генриха Равальяком (1610), хотя, бесспорно, все эти события отмечают, обозначают, отмеряют существенные кануны и рубежи. Нас должно интересовать содержание и смысл исторической эволюции, кризисными моментами и эмоциональными всплесками которой явились все эти – и еще многие другие – исторические события. Нас, таким образом, должно занимать движение истории, движение неуклонное и неостановимое, но подчас плохо различимое за частоколом сражений, убийств, замирений, теологических диспутов, коронований и снова сражений, убийств и т. д.
В истории Франции обычно выделяют период так называемых Религиозных войн (1562–1598) – по сути же дела войн гражданских, лишь рядившихся в конфессиональные одежды. Если учесть, что таких войн насчитывают восемь[1640] и между ними обычно наступали короткие или достаточно внушительные периоды умиротворений, когда устанавливалась хотя и ненадежная, но радостная полоса всеобщего согласия и благоволения, но и происходила почти обязательная перегруппировка сил, заключались тайные сговоры и открытые переходы из одного лагеря в другой, в то время как во дворцах, замках, на городских площадях танцевали, пировали, флиртовали, дрались на дуэлях, казнили преступников и чествовали иностранных послов; если также учесть, что в политическом и военном противостоянии принимали участие, рядом с основными противниками – католиками и гугенотами, почти неизменно некие третьи силы (скажем, партия герцога Алансонского, затем ставшего герцогом Анжуйским, Франциска, или Католическая лига, возглавляемая Гизами, не говоря уже о многократно вмешивающихся иноземцах, прежде всего испанцах), то политическая картина может быть определена как постоянное динамическое неравновесие. Не будем также забывать, что в гражданских войнах участвовали, естественно, широкие массы населения, но в основном как страдающая сторона, а заводилами были представители достаточно многолюдной и разнокалиберной, но все-таки узкой прослойки, состоящей из различных категорий дворянства, духовенства, части буржуазии и ремесленничества.
В обстановке гражданской войны серьезные преобразования в обществе, в том числе экономические, приобретали ярко выраженную политическую окраску: даже замысловатые и тонкие догматические споры в конце концов сводились к политике.
Как в любой гражданской войне, по разную сторону баррикад оказывались люди одного круга, одного воспитания, нередко – близкие друзья и родственники, тогда как заклятые враги могли попасть в один лагерь. Но в отличие от очень многих гражданских войн, Религиозные войны во Франции отличались, как уже говорилось, непрерывным перемешиванием, перераспределением борющихся сторон, в результате чего друзья и родственники, еще недавно бывшие непримиримыми врагами, вновь сражались локоть о локоть, а враг-союзник переходил в противоположный стан. И лишь только заключался очередной мир, вчерашние противники сразу вспоминали о былой дружбе, как будто не было других месяцев ожесточенной кровавой резни. Вместе с тем, личные пристрастия и интересы повсеместно вступали в противоречие с пристрастиями и интересами партийными, что придавало общественной ситуации дополнительную запутанность и сложность.
Гражданская война во Франции 1562–1598 гг., как уже стало ясно, была процессом прерывистым; вот почему об этих войнах говорят во множественном числе. Все эти переходы из лагеря в лагерь, сделки и измены были возможны прежде всего потому, что для большинства участников это были политические решения, в малой степени затрагивающие мировоззренческие и конфессиональные вопросы. Встречались, конечно – и нередко – несгибаемые борцы за «идею», за «дело», за «партию», избегавшие выгодных компромиссов. Повторяем, их было не так уж мало, но все-таки значительно меньше, нежели всех прочих участников событий тех бурных лет. Более стойкими и убежденными обычно представляются гугеноты, но не потому, что их мировоззрение было более неодолимым и «верным». Протестантское учение, во всех своих вариантах, было «новым» и поэтому требовало от своих сторонников большей осмысленности выбора, а тем самым и дисциплины, тогда как католицизм был «старым», т. е. привычным, обыденным, на что можно было не обращать внимания, не принимать споры вокруг него слишком близко к сердцу.
Таким убежденным и твердым человеком, который не мог «поступиться принципами», был и Агриппа д’Обинье. Но приверженность лишь одним политическим и мировоззренческим позициям не заслоняла от его взора ни непоследовательности и политиканства его соратников по вере, ни трагической неразрешимости изменчивого, но не способного прийти к умиротворению порядка вещей. Трагическое восприятие действительности, что нужно подчеркнуть еще раз, – основная доминанта по сути дела всего творчества д’Обинье.
Французское общество второй половины XVI столетия было подвижно и постепенно меняло свое лицо не только потому, что страна пребывала в состоянии непрерывных междоусобиц. В результате взаимодействия различнейших факторов структура общества постепенно менялась. Теряла прежний вес и безоговорочное влияние аристократия, что зорко подмечал заинтересованный свидетель этого процесса Агриппа д’Обинье. Набирало силу новое дворянство, еще недавно вырвавшееся из верхушечных слоев буржуазии (путем покупки имений или занятия важных постов в королевской администрации). Происходило определенное слияние этого нового дворянства и зажиточной буржуазии, образовывавших мощное сословие чиновничества.
Однако интереснее присмотреться к судьбам старого родовитого дворянства, интереснее хотя бы потому, что как раз к этим кругам принадлежал и сам д’Обинье, и многие его персонажи.
Родовитое дворянство было самым многочисленным, самым активным и самым заинтересованным участником Религиозных войн. Их тяжесть ложилась прежде всего на его плечи (простой народ – рядовое городское население и крестьянство – тоже, конечно, в войнах участвовал, он страдал, разорялся и отчасти уничтожался в ходе военных действий, но был более пассивен, чем дворянство). На протяжении последней трети XVI века и первой четверти века следующего как раз старинное дворянство (дворянство родовитое, но не аристократия!), его вес в обществе претерпели наибольшие изменения. В период гражданских войн религиозные разногласия в среде этого дворянства отходили на задний план перед сословными интересами, так как подспудно шел стремительный процесс перераспределения собственности, а следовательно и ролей в обществе. Нантский эдикт Генриха IV не только не упрочил пошатнувшееся положение родовитого дворянства, но в еще большей мере обозначил его кризис. Как отмечала видный советский историк А. Д. Люблинская, политика нового короля в основном «была направлена на удовлетворение коренных интересов другой части дворянства, дворянства буржуазного происхождения, в хозяйственной и политической деятельности которого были прогрессивные черты и интересы которого совпадали с централизаторской работой абсолютистского государства. Эта фракция дворян во времена Генриха IV уже играла первую роль по сравнению с родовитыми дворянами, которые бешено ненавидели своих удачливых соперников. В начале XVII в. борьба родовитого дворянства с «выскочками» была в полном разгаре. Старое дворянство не хотело сдаваться без боя и вновь и вновь готово было браться за оружие с целью принудить правительство к желательным для него реформам. Оно требовало их тем более настойчиво, что мирная политика Генриха IV сокращала военное поприще для дворян. Офицерские жалованья были очень скромными, а в гвардию попасть было чрезвычайно трудно. Как военные, так и придворные должности также стали продажными, хотя и другим способом, чем должности бюрократического аппарата, а именно: без официального оформления, путем только личной договоренности. Церковные должности, которые французское родовитое дворянство привыкло рассматривать как свое сословное достояние, также постепенно уплывали в руки нового дворянства»[1641]. Все это, между прочим, нашло отражение в поздних произведениях д’Обинье.
Вот почему с принятием Нантского эдикта междоусобицы, волнения, вооруженные мятежи во Франции не прекратились, а приобрели более локальный и спорадический характер. Часто (но уже не непременно) они бывали еще окрашены в тона конфессиональных столкновений, но религиозный пыл сохранялся лишь в сердцах немногих – твердых и убежденных, как Агриппа д’Обинье.
Научная литература, посвященная Религиозным войнам, что вполне естественно, очень велика, поэтому было бы бесполезно выбирать для ссылок какие-то отдельные труды и исследования. Кроме того, все события тех десятилетий, все их основные участники подробно и подчас неоднозначно описаны в многочисленнейших мемуарах и политических трактатах, появление которых – тоже впечатляющая примета времени. А сколько раз Религиозные войны были изображены в романах и новеллах, представлены на театральных подмостках и киноэкранах! Немногим скупее специальная историческая литература о первых трех десятилетиях XVII в., но и здесь постепенно набралось достаточное количество серьезных исследований и популярных повествований. Это и понятно: начинался Великий век – самое величественное, почитаемое, значительное столетие в истории французской культуры, столетие, которое как бы превысило отведенные ему хронологические рамки: завершился Великий век в 1715 г., когда скончался Король-Солнце, во многом и придавший, причем вполне сознательно и целеустремленно, возвышенный ореол своей эпохе.
Но мы пока находимся на пороге этого века, и события тех десятилетий широкому читателю известны несколько хуже, чем им предшествующие и за ними следующие. И вот такой красноречивый факт: неутомимый и изобретательный Александр Дюма-отец интересующую нас эпоху в своей беллетризированной хронике пропустил; он, рассказав о последних Валуа, сразу – в новой трилогии – перешел к Д’Артаньяну, который был почти одногодком барона де Фенеста (вспомним, что знаменитый роман о мушкетерах начинается в первый понедельник апреля 1625 г.). Д’Артаньян и его друзья стали участниками событий вокруг Ларошели, за чем так внимательно и взволнованно следил д’Обинье. Но события эти приходятся на самый конец первого тридцатилетия века.
Позволим себе кратко напомнить о некоторых исторических фактах, которые отразились в романе и о которых д’Обинье писал и во «Всеобщей истории», и в своих мемуарах.
Итак, 1598 год отмечен заключением мира с Испанией, капитуляцией последних разрозненных отрядов сторонников Лиги, подписанием Нантского эдикта. В стране, наконец, казалось, воцарился мир, но совсем не тот мир, о котором мечтал д’Обинье и некоторые его наиболее прозорливые и трезвомыслящие соратники. По их мнению, права и интересы протестантов были ущемлены и их тяготы и жертвы оказались напрасными. Новый король, который был «их» королем, ими взращенным, оберегаемым, ими постоянно прощаемым за непрерывные мелкие предательства, политиканство, склонность к компромиссам, надежд гугенотов в полной мере не оправдал. Так им казалось. Они не были ясновидящими пророками, но губительные, катастрофические последствия отмены Нантского эдикта (чего надо было ждать почти сто лет) предчувствовали.
Однако в стране больше не шли брат на брата, больше не убивали из соображений религиозных. На смену поединкам военным пришли поединки идеологические. В 1600 г. начинается череда ожесточенных религиозных диспутов, словно красноречием и логикой можно было переубедить в том, в чем не удалось переубедить пушечными залпами и ударами клинков. Эти диспуты протекают с переменным успехом; активную роль играет в них Агриппа, хотя не он выступает обычно основным «докладчиком» от гугенотов (им бывал главным образом видный публицист того времени Филипп Дюплесси-Морне). Эти религиозные диспуты подчас превращались в ожесточеннейшие словесные перепалки, мастером которых был изящный поэт и полемист-католик Жак Дю Перрон, но к согласию привести не могли.
Все в том же 1600 г. торжественно празднуется бракосочетание Генриха IV и Марии Медичи, опять-таки к большому неудовольствию Агриппы, который оставался верен старым привязанностям, в данном случае отвергнутой Генрихом «королеве Марго».
Несмотря на миротворческую политику Генриха IV, в стране все время возникали антиправительственные заговоры, во главе которых стояли знатные аристократы. Аристократы, которые помнили, как они или, на худой конец, их отцы или деды были в своих землях полноправными государями, не хотели ни с кем делиться властью; набирающий силу абсолютизм их не устраивал. Они охотно привлекали на свою сторону всех недовольных, в том числе обиженных протестантов, но такие восстания почти не носили религиозной окраски. Однако успеха заговорщики не могли добиться: слишком своекорыстны и узки были их интересы. Так, в 1602 г. был раскрыт заговор маршала Бирона, а его глава был казнен. В 1605 г. оформился заговор виконта Тюренна (который был замешан и в бироновском заговоре); и этот заговор был легко раскрыт, но король простил его вдохновителя.
Политическое напряжение в стране не снижалось: протестанты роптали, католики считали, что борьба с «ересью» не доведена до конца, представители аристократии стремились вернуть себе и былые привилегии, и утраченные владения. Таким образом, в стране противостояли друг другу, постоянно блокируясь между собой в самых разных комбинациях, по меньшей мере четыре «партии», никак организационно и идеологически не оформленные: широкие круги католиков (тут были и дворяне с духовенством, и буржуазия, и ремесленничество и т. д.), протестанты (более сплоченные и идеологизированные), аристократические кланы, нередко и боровшиеся друг с другом, но чаще объединявшиеся на основе сходных интересов, наконец, королевская власть, то заигрывающая с остальными «партиями», то резко выступавшая против какой-нибудь из них.
После убийства Генриха IV фанатиком-католиком Равальяком напряжение в стране продолжало нарастать. Годы регентства Марии Медичи были отмечены как непрерывными закулисными интригами при дворе, частой сменой министров и просто фаворитов королевы, так и разбродом, подчас близким к открытому расколу в партии гугенотов. Последние устраивали многодневные «ассамблеи», силясь выработать единую линию в политике. Антиправительственный характер таких сборищ ни для кого не был тайной; напротив, правительство само включалось в игру, стараясь влиять на участников. Заметно потесненные в своих амбициях, аристократы начали переходить от слов к делу; при этом в своей борьбе с королевской властью они нередко заключали недолговечные союзы с протестантами.
В начале 1614 г. Генрих II Бурбон, принц де Конде (1588–1646), один из вождей нового поколения гугенотов и одновременно принц крови, поднял неплохо организованный военный мятеж; королева-регентша поспешила заключить мирное соглашение и пошла на созыв Генеральных штатов, чего требовали восставшие. Впрочем, заседали Штаты недолго: королевским указом от 23 февраля 1615 г. делегаты были отправлены по домам, но все слои общества таким оборотом событий были недовольны, и в августе Конде начал собирать войска. На этом тревожном фоне произошло стремительное сближение Франции с Испанией и Габсбургами, т. е. главным оплотом католицизма, – Людовик XIII торжественно отпраздновал в Бордо свое бракосочетание с Анной Австрийской (молодоженам едва исполнилось по 14 лет).
В 1616 г. столкновения войск Конде с королевской армией происходили от случая к случаю, параллельно велись нескончаемые переговоры, выливавшиеся в открытый политический торг, в котором каждая сторона старалась урвать как можно больше, перехитрив противника. А завершилось все арестом Конде 1 августа 1616 г. Протестанты юго-западных провинций стали спешно готовиться к настоящим военным действиям, укрепляя Ларошель и другие крепости, еще находившиеся в их руках.
Тем временем и при дворе разворачивались бурные события: по указанию юного короля его гвардейцы убили всесильного фаворита Марии Медичи ловкого авантюриста-итальянца Кончино Кончини (24 апреля 1617 г.); его место во главе правительства занял любимец Людовика Шарль де Люин. На протяжении нескольких лет отношения между матерью и сыном оставались настолько враждебными, что Мария, опасаясь за свою жизнь, однажды была вынуждена бежать из дворца.
В апреле 1620-го группа аристократов, подстрекаемая вдовствующей королевой, подняла восстание. Разрозненные отряды протестантов примкнули к бунтовщикам. Начались самые настоящие военные действия. Королевским войскам удалось одержать ряд побед. Внезапное примирение Людовика XIII с матерью заметным образом поляризовало противоборствующие стороны: осенью 1620 г. началась по сути дела новая религиозная война. Она шла с переменным успехом; впрочем, правильнее было бы говорить о том, что иногда протестантам удавалось отразить или приостановить наступление католиков (т. е. королевских войск), но это бывали лишь временные достижения. Католическое (= королевское) давление постоянно усиливалось, в том числе и в других регионах Европы (так, испанцам удалось в январе 1622 г. захватить небольшую область Швейцарии Вальтеллину, что открыло свободный проход из Италии в Австрию).
19 октября 1622 г. в Монпелье был подписан мирный договор между Людовиком XIII и протестантами. Все стороны, участвовавшие в конфликте, условиями договора остались недовольны. Новая война назревала. И вот в ноябре 1627 г. началось решительное наступление на последний оплот протестантов на юго-западе Франции – на Ларошель. 28 октября 1628 г. город капитулировал. Правда, согласно подписанному мирному договору протестанты сохранили в своих руках ряд укрепленных городов и добились права свободного проведения богослужений в отдельных городах и селениях южнее Ниора и Ларошели.
Д’Обинье принимал участие во всех этих событиях и как военачальник, и как дипломат, и как полемист (в публичных диспутах с католиками), и как публицист, и как историк (так, в 1627 г. он написал дополнение к своей «Всеобщей истории», описывающее военные действия 1620–1622 гг.). И ни одно из значительных событий этих десятилетий не осталось без его неравнодушного внимания. В такой бурной обстановке создавались целиком или же завершались и печатались все его основные произведения. Можно с полным правом сказать, что они были рождены той эпохой, ее отразили и до сих пор помогают ее осмысливать. Д’Обинье являет собой все-таки редкий тип писателя (писателя крупного, даже великого), который настолько оказался вовлечен и в значительнейшие, и в самые микроскопические политические события своего времени. Настаиваем: именно рубежа веков и первой трети века; до этого было необходимое и исключительно важное ученичество, теперь – осмысление и творчество. Мы не хотим сказать, что обстановку Религиозных войн писатель изобразил как-то издалека, как посторонний наблюдатель и даже как пусть пристрастный, но историк. Совсем нет, опыт войн был его личным, глубоко пережитым опытом – политик и историк в д’Обинье нерасчленимы. Но вот это и важно: поэт был также политиком и историком, и такая его позиция позволяла ему видеть шире и дальше, видеть слабости и ошибки его единомышленников и создать произведения, как бы разрывающие хронологические рамки и стремящиеся к универсальным обобщениям.
Это стало возможным не только потому, что д’Обинье.был гений, а потому еще, что творчество его пришлось на рубеж, на стык эпох, т. е. самореализовалось в эпоху переходную.
Между тем в курсах истории французской литературы (кроме вышедшей под руководством Клода Пишуа) творчество д’Обинье безоговорочно отнесено к XVI в. Так, в классической пятитомной «Истории французской литературы XVII века» Антуана Адана д’Обинье мельком упомянут в первом томе в связи с упадком лирической поэзии начала века[1642], а в следующем – дважды, но уже вне каких бы то ни было литературных оценок и коннотаций. Для нас же важно, что поздние книги д’Обинье, включая и переработанные «Трагические поэмы», были живым и взволнованным откликом не только на давние события и переживания его молодости, но и на впечатления более зрелых лет. Даже описывая перипетии первых Религиозных войн – в «Трагических поэмах», «Всеобщей истории», мемуарах – он смотрел на них также как бы издалека, постоянно сверяя свои прошлые оценки и восприятия с опытом последующих десятилетий.
Здесь позволим себе маленькое отступление. Творчество поэта, прежде всего его поэмы, нередко иллюстрируют замечательными офортами его младшего современника Жака Калло, особенно из циклов «Бедствия войны», наивно полагая, что прославленный гравер и рисовальщик изобразил Религиозные войны. В действительности он их не видел, видел же – последний этап противостояния гугенотов и католиков, завершившийся падением Ларошели (Калло на одной из своих «больших» гравюр изобразил ее осаду). Калло рисовал то, что непосредственно видел, в том числе на просторах Европы, где уже постепенно разгоралась Тридцатилетняя война (1618–1648); он изображал и то, о чем знал понаслышке – гражданские войны прошлого века. Но главное, художник дал обобщенный, вероятно, гротескно заостренный (т. е. не веселящий, не развлекающий, а пугающий и отталкивающий) облик войны, как он ее понимал, чувствовал, внутренне пережил. С наибольшей силой это его «знание» воплотилось во втором «военном» цикле Калло, в так называемых «Больших бедствиях войны». Известный искусствовед A. C. Гликман справедливо полагал, что этот цикл из восемнадцати листов – «одно из самых значительных произведений Калло. Они превосходят предыдущую серию не только полнотой и яркостью освещения темы, но, что самое главное, глубиной осмысления проблемы войны. В попытке вскрыть ее причины, в трактовке войны как народной трагедии нашло свое выражение стремление большого художника к широким социальным обобщениям»[1643].
К таким же обобщениям, хотя бы в изображении войны, всех ее многосторонних аспектов, стремился и д’Обинье, и поэтому параллельное прочтение его творческого наследия и художественного наследия Жака Калло не только правомерно, но, бесспорно, и необычайно плодотворно. Насколько нам известно, в полном объеме это еще никогда не предпринималось.
Вся жизнь д’Обинье прошла в обстановке войны. Война была не привычным, обыденным фоном, а самым непосредственным условием его существования. Не только военная тематика, а военная лексика и символика пронизывают все его произведения, в том числе и цикл любовных стихотворений; в последнем случае это не дань условной образности, берущей начало в далекой античности (вспомним у Овидия: «Каждый любовник – солдат, и есть у Амура свой лагерь...»), а укорененность в своей эпохе, система мышления, самоощущение и восприятие окружающего.
Войну поэт описывал и как наблюдатель-осмысливатель, – и тут его позиция сближается с позицией Жака Калло, – и как непосредственный участник, взгляд которого не мог не быть субъективным, пристрастным, предвзятым, наконец, «партийным». Вырваться из ограничительных оков «партийности» д’Обинье не мог, да и вряд ли хотел. Но беремся предположить, что порой от невыносимых столкновений чувства и долга, эмоций и разума, жесткости «линии» и человечности поэт уставал, и тогда конкретный жизненный материал уводил его с полей сражений. В эти моменты идеологическое и политическое (= конфессиональное), а следовательно, и военное противостояние, не будучи совсем забытым, подменялось иными человеческими конфликтами, что так ярко отразилось в «Приключениях барона де Фенеста».
Агриппа д’Обинье хорошо сознавал всю бездну трагедии, в которую оказалась ввергнута его страна. Это сознание наполнило высоким пафосом его творчество и определило образный строй его книг. Думается, д’Обинье осознавал и свою личную трагедию, трагедию человека и художника, которому верность «идее» и «партии» не принесла ни морального удовлетворения, ни покоя, почти совсем не оставляя досуга для творчества.
А верность «вере»? Д’Обинье не был изощренным догматиком, но в вопросах веры почти не знал колебаний. Во-первых, это была вера отца и его старших соратников, которых он чтил и со взглядами которых считался. Во-вторых – и тут перед нами типичный человек Ренессанса (как Рабле, как Ронсар, как Монтень) – животворность и правота идей раннего христианства для него была неоспорима. Политика и этика вступали, конечно, в его сознании в противоречие, но поэт стремился его разрешить, разрешить не столь конструктивно и четко сформулированно, как его современник Жан Боден[1644], но в духе умеренной веротерпимости канцлера Мишеля де Лопиталя (1505–1573), который был для д’Обинье, пожалуй, самым высоким авторитетом. Как известно, Лопиталь отстаивал идею невмешательства государства в религиозные дела, отстаивал равные права конфессий, коль скоро они не посягали на права, на убеждения, на моральные принципы друг друга. В вопросах веры позиция д’Обинье была, если угодно, оборонительной: он защищал свою веру, но не звал к уничтожению, даже какому бы то ни было потеснению веры оппонентов. Но иногда лучшим и даже единственным средством защиты своих убеждений оказывалось нападение, и к нему д’Обинье подчас прибегал, как он не задумываясь обнажал шпагу или заряжал мушкет, сходясь с противником в открытом бою.
В этой сложнейшей политической ситуации у д’Обинье было мало времени для творчества, вот почему он брался за перо лишь от случая к случаю и в основном только в последние десятилетия своей жизни.
И тем не менее написал он достаточно много.
3
Впрочем, тогда вообще много писали. И не только много, но очень по-разному, вот почему картина литературной жизни Франции в эту переходную эпоху, в пору «осени Ренессанса», была столь красочной, пестрой, многоцветной, как это и бывает обычно осенью.
Действительно, французская литература рубежа веков поражает многостильем, разнонаправленностью, разнообразием жанров и форм.
Поэзия продолжала быть высокой литературой, даже просто литературой. Главенствующее положение Ронсара как обязательного и недосягаемого образца было незыблемым, да и не могло быть иначе: слишком глубок, изобретателен, тонок, жизнелюбив, интимен, восприимчив к красоте и сложности мира человеческой души – одним словом, слишком талантлив был этот поэт, чтобы уступить свое место кому-то другому. Поздний цикл «Сонеты к Елене» (1578) – бесспорная вершина его творчества (ну, пусть одна из двух-трех «вершин»). Это и, пожалуй, самое значительное произведение во всей французской поэзии второй половины века. Ясность стиля и просветленность чувства сочетаются здесь с трезвым ощущением преходящести красоты, молодости, самой жизни. Это оборачивается порой усилением трагических нот, что реализуется в повышенной антитетичности и контрастности, предвещая поэтику барокко. Но разрыва с гармоничной стройностью ренессансных традиций не происходит: сенсуалистическое, эпикурейское начало уравновешивается умиротворяющим скепсисом и мужественным стоицизмом.
Не приходится удивляться, что большинство поэтов конца века числят себя учениками Ронсара. Любовная тема в их творчестве доминирует. Это не обязательно любовь трагически неразделенная, но меланхолические ноты звучат достаточно часто. Тема кратковременности жизни переживается как традиционная, заданная (заданная еще античными лириками и Петраркой), но подчас получает несколько неожиданное решение; так, например, Филипп Депорт (1546–1606), любимый поэт Карла IX и особенно Генриха III, в изящном сонете воспевает краткую, как мгновение, жизнь и яркую смерть Икара, которому он готов завидовать. В любовных циклах многих поэтов постоянны прямые обращения к Ронсару как образцу и высшему судье. Таковы сонеты и самого д’Обинье (гордившегося своим знакомством с «принцем поэтов»), и знаменитого мемуариста Брантома.
В контексте ронсаровской традиции должно рассматриваться и творчество такого самобытного поэта, каким был Жан де Спонд (1557–1595), также участник Религиозных войн на стороне гугенотов. Его любовная лирика отмечена нарочитой зашифрованностью поэтического образа, резко выраженным ощущением непрочности и даже условности любовного чувства. В ряде стихов Спонда столкновение религиозного аскетизма и ренессансного гедонизма порой достигает высокого трагического звучания. Изданные лишь после смерти поэта, его стихи оказали известное влияние на поэзию начала XVII в., но не на магистральную линию ее развития. Поэзия Спонда кое в чем соприкасается с ранней лирикой д’Обинье. По крайней мере, поэзия того и другого может быть сближена ситуационно: это любовные стихи, созданные в моменты недолгих мирных передышек между битвами.
В начале XVII в. рядом с устойчивой ронсаровской традицией возникает барочная традиция придворных, так называемых «прециозных» поэтов. Удельный вес их лирической продукции год от года нарастает, складывается своеобразная галантная куртуазность, кое в чем ориентирующаяся на далекое прошлое (позднее Средневековье), понимаемое, конечно, упрощенно и условно. Это прошлое становится удобной метафорой (особенно в «прециозном» романе) для передачи чаяний и переживаний человека уже новой эпохи. Отметим также, что эта литература культивируется не только при дворах крупных феодалов (и королевского двора, конечно), но и в светских салонах, чего еще недавно не было и в помине. Но вот этот литературный пласт не заинтересовал д’Обинье, а салонные вкусы лишь слегка высмеяны им в его романе[1645].
Острота переживания, восприятие любовного чувства как неодолимой болезни, как начала не радостного и жизнеутверждающего, а мрачного и гибельного характерны для произведений достаточно многих поэтом, хорошо усвоивших правила этой поэтической игры. Французская исследовательница Жизель Матьё-Кастеллани назвала это направление «Барочным эросом»[1646]. Она относит к нему и лирику д’Обинье, но, как представляется, не всегда правомерно.
Трагическое восприятие действительности характерно и для новеллистики эпохи[1647]. У такого взгляда на жизнь, претворенного в литературе, было по меньшей мере три источника. Во-первых, источник чисто литературный; речь идет о получившей колоссальную популярность новеллистике итальянца Банделло, которого неутомимо переводили и которому не менее же неутомимо подражали. Особенно яркий пример такого подражания – не книги Бельфоре или Боэстюо, а сборник новелл Франсуа де Россе «Трагические истории» (1614). Второй импульс исходил от получавших все более широкое распространение идей стоицизма, что так заметно в философской мысли эпохи. Наконец, третий источник – сама действительность, о примечательных чертах которой уже много говорилось.
На исходе XVI в. жанр новеллы не только наполнялся трагическим содержанием, но и претерпевал существенные структурные изменения. С одной стороны, продолжали создаваться сборники новелл, задуманные и выполненные как единая, замкнутая книга. Таковы, например, «Лето» Бениня Пуассено (1583) или «Новые истории, как трагические, так и комические» Верите Абанка (1585), такова же и книга Россе. Однако многих писателей-прозаиков того времени следовало бы называть уже не новеллистами, а рассказчиками. Они сочиняли многочисленные новеллы-очерки и новеллы-анекдоты, рисовавшие картины повседневной жизни различных слоев тогдашнего общества. Но новеллы эти не складывались в сборники, да и не существовали автономно. Они обильно насыщали в качестве колоритнейших и веселых примеров книги довольно неопределенной жанровой принадлежности. В основном это бывали рассуждения и заметки о чем угодно: о любви, о ревности, о супружеских изменах, о вине, о женщинах, о браке и семейном согласии, о вражде и дружбе, о молодости и старости и т. п. Такова книга уроженца Пуату Гийома Буше «Утра» (1584), таковы «Девять утренних бесед» и «Послеполуденные беседы» (обе изданы в 1585 г.) Жана Дагоно, сеньора де Шольера. Отметим, что и в «Приключениях барона де Фенеста» легко можно найти сходные вставные новеллы-анекдоты. Самым значительным произведением такого смешанного жанра (то ли цикл моральных рассуждений, то ли сборник назидательных историй) была книга «Способ добиться успеха» (издана в 1610 г.) Франсуа Бероальда де Вервиля, не просто современника д’Обинье, а человека ему хорошо знакомого и даже близкого, о чем подробно рассказано в мемуарах Агриппы.
Начало века (точнее, уже 90-е годы XVI столетия) отмечено все нарастающим потоком квазиисторических «галантных» любовных романов. Лишь один из них, «Астрея» Оноре д’Юрфе, пять частей которой печатались между 1607 и 1627 гг., пережил свое время и, бесспорно, был хорошо известен д’Обинье (который в «Фенесте» иронизировал по его поводу). Для нас существеннее, что в 20-е годы начали появляться так называемые «комические» романы – произведения с ярко выраженным реалистическим подходом к изображению действительности, к тому же непременно сатирически окрашенные[1648]. Вполне очевидно, что роман д’Обинье в той или иной мере примыкает к этим «комическим историям», но создан он был вне каких бы то ни было контактов с «Комической историей Франсиона» Шарля Сореля (1623) и «Сатирическим романом» Жана де Ланнеля (1624). Оба эти автора принадлежали уже к иному, новому, поколению литераторов; они не прошли испытаний гражданских войн и образцом для них служил только что переведенный на французский язык «Дон Кихот»; у Сервантеса же учился Сорель, когда писал свой более поздний роман «Экстравагантный пастух» (издан в 1627–1628 гг.). Д’Обинье-романист – хронологически – был предшественником Сореля и Ланнеля, но, видимо, не осознавал, что за произведение, какого собственно жанра, выходило из-под его пера. Он наверняка не почувствовал возникновения нового жанра, новой формы романа. Книги Сореля и Ланнеля вышли при жизни д’Обинье; более того, последняя часть «Фенеста» писалась после их выхода, но Агриппа, скорее всего, этих книг не читал. Он знал произведения Рабле и Сервантеса, но если и использовал их опыт, их повествовательные приемы, то в очень небольшой мере. Рабле и Сервантес (особенно последний) были от прозы д’Обинье далеки, она же, эта проза, столь своеобразна обнаружившая себя в «Приключениях барона де Фенеста», задержалась где-то на перепутье между «повествованием» (вне точной жанровой привязанности) и памфлетом. Эта книга, конечно, близка к жанру «комического» или «реально-бытового» романа, но лишь слегка к нему примыкает, поэтому «Фенест» обычно не упоминается в ряду этих модификаций романа. Вот тому красноречивый пример. Два известных советских исследователя, Ю. Б. Виппер и P.M. Самарин, оба много занимавшиеся, в разных аспектах, творчеством д’Обинье, в своем совместном «Курсе лекций по истории зарубежных литератур XVII века» в соответствующем разделе об авторе «Фенеста» не пишут. В этом «Курсе лекций», например, говорится: «В литературе французского вольномыслия первой половины XVII века мы наблюдаем два периода подъема. Первый падает на начало 20-х годов. Усиливающееся в эти годы брожение захватывает не только низы общества, но и весьма далекие от вольномыслия круги буржуазии. Недовольство существующим порядком находит выражение, например, в появлении в Нормандии целой группы писателей-сатириков, выступающих с политически злободневными стихами. Эти сатирики бичуют господствующую коррупцию, разоблачают последствия торговли должностями, осуждают усиление налогового гнета, клеймят своекорыстие и жадность крупной буржуазии, призывают к осуществлению определенных реформ»[1649]. И несколько ниже: «В эти же годы мы наблюдаем бурный расцвет сатирического и бытового романа. В 1623 г. Шарль Сорель издает свой роман «Правдивое комическое жизнеописание Франсиона» – самое яркое и самобытное выражение идей французского вольномыслия того времени. В 1624 г. выходит в свет «Сатирический роман» Жана де Ланнеля, а в 1627 г. «Хризолита» Марешаля»[1650].
Как нам представляется, подобное небрежение легко объяснимо. Во-первых, убежденный, даже воинствующий гугенот д’Обинье никак не мог затесаться в ряды «вольнодумцев», хотя и писал порой вполне вольнодумные сочинения. Во-вторых, и это существеннее, он все-таки воспринимался как писатель конца предшествующего века, на худой конец, укладывающийся хронологически в годы активной деятельности, а потом и правления Генриха Наваррского. И, наконец, в-третьих, книги Сореля и Ланнеля были в нашем понимании «романами» (которые позже стали называться «плутовскими»). Они строились по определенной схеме, повествуя о всевозможных превратностях на поступательном жизненном пути главного персонажа, который почти непременно бывал выскочкой, «арривистом», пройдохой. У д’Обинье в романе также был своеобразный герой-плут, «пикаро», но его личная судьба (как жизненный путь), как увидим, не была прослежена в книге от начала и до конца. Это были лишь фрагменты такого пути, к тому же не получившие никакого завершения, что и определило место «Приключений барона де Фенеста», согласно литературоведческой традиции, вне комплекса «комических» романов эпохи.
Другим своим произведением д’Обинье в литературный контекст того времени вписался вполне. Речь идет о написанных им на склоне лет мемуарах. Для рубежа веков характерен повышенный интерес к этому виду прозы. Мемуары пишут чуть ли не все – и члены королевской фамилии (например, «королева Марго»), и военачальники, политические деятели, министры, чьи имена мелькают на страницах книг д’Обинье (Субиз, Вилльруа, Сюлли, Дюплесси-Морне), и простые парижские буржуа (Пьер де л’Этуаль, чей драгоценнейший дневник подробно отражает события 1574–1610 гг.). У мемуаров, видимо, есть свои жанровые особенности и законы, хотя никаких твердых канонов здесь нет. Мы можем говорить о доверительности, исповедальности, интимности, откровенности, лукавстве, нарочитом фантазировании, субъективности, предвзятости и т. д. У одних авторов мемуаров каких-то из этих свойств более чем достаточно, у других присутствуют лишь немногие, но почти наверняка кое-что из перечисленного непременно найдется у всех. Для интересующей нас эпохи, полной смут и противостояний, ожесточенной идеологической борьбы, одной из основных черт мемуаров стала субъективность, причем субъективность не просто идеологическая и политическая, а «партийная». Для них это было надежной опорой и в то же время – непреодолимой слабостью. Некоторые, возможно, это сознавали, но, как и д’Обинье, старались от этого отмахнуться. Но так или иначе очень многие мемуаристы были одновременно яркими полемистами и создателями острых памфлетов. Их мемуарные книги подчас памфлеты и напоминали, в то время как в их полемические сочинения неожиданно вплетался личный, «мемуарный» подтекст. Война памфлетов бывала в то время не менее ожесточенной и безжалостной, чем вооруженные схватки на полях сражений.
...Галантно-авантюрные романы имели долгое хождение, настолько долгое и бесперспективное, что к началу XVIII столетия все это каким-то образом сменилось потоком остроумных и язвительных пародий. Роман реалистический был более стоек, но он не был настолько популярен и массовиден, как роман галантный, и выдвинул всего несколько, но совершенно замечательных образцов (книги Скаррона и Фюретьера).
Итак, д’Обинье как художник весь вырос из своей эпохи, был ею сформирован, став ее характернейшей фигурой и даже олицетворением ее многих признаков и свойств. Но он плохо вписывался в ее культурный контекст. Для современников он был прежде всего отважным воителем, трезвым политиком, изощренным полемистом и лишь потом, и в очень малой степени, поэтом и прозаиком. Если его книги и привлекали чье-либо внимание, то только судебных властей: так было в Париже со «Всеобщей историей», а в Женеве – с последней частью «Фенеста». В сумбурном переплетении литературных направлений, вкусов, художественных форм, чем была отмечена эта эпоха перехода, д’Обинье не нашел надлежащего ему места как литератор. Еще в меньшей мере постарались найти ему место ближайшие и отдаленные потомки. Показательно, что на протяжении почти всего XVII столетия д’Обинье воспринимался, скажем так, культурным читателем лишь как гугенот. Даже Шарль Сорель, который не мог не оценить «Приключений барона де Фенеста», в своей знаменитой «Французской библиотеке» (подробном критическом обзоре литературы первых двух третей столетия), признав некоторые художественные достоинства романа д’Обинье, попрекнул автора излишней склонностью к идеям протестантизма[1651]. Женатый на внучке д’Обинье Поль Скаррон мог читать не только «Фенеста», но даже что-то из еще не опубликованного (получив рукописи от Франсуазы д’Обинье-Скаррон-Ментенон), но высказываний о своем предшественнике и родственнике не оставил.
Яркая жизнь и примечательная судьба, полные риска, смелых и благородных поступков, нескончаемых тягот и неожиданностей, авторитет военного, политика, полемиста, даже фортификатора и оружейника лишили д’Обинье заслуженной славы литератора, вообще вывели его за пределы литературы, отбросив в лучшем случае на далекую обочину.
Насколько неординарен был человеческий, духовный облик д’Обинье, настолько же своеобразной стала посмертная судьба его творческого наследия.
4
Эта судьба настолько хорошо изучена и представлена современным французским исследователем Жильбером Шренком[1652], что это освобождает нас от излишних подробностей.
Итак, XVII век д’Обинье как поэта и прозаика по сути дела не знал. Плохо знали его и в век Просвещения, и это понятно: убежденный гугенот, воитель за веру, полный в своих книгах возвышенного религиозного пафоса, в век скепсиса, в век галантной игривости вряд ли мог стать сколько-нибудь популярным. Если что и знали тогда, то только его повествовательные произведения (роман и мемуары), которые воспринимались как занимательные свидетельства о былой эпохе. Симптоматично, что Вольтер, повествуя в своем «Опыте о нравах» о гражданских войнах во Франции (главы 170–174), на «Всеобщую историю» д’Обинье не ссылается, хотя эта книга, в издании 1626 г., в его библиотеке была[1653].
Если для XVIII столетия, по определению Шренка[1654], это был всего лишь «свидетель и рассказчик», то в пору романтизма д’Обинье начал выдвигаться в ряд фигур первой величины. Правда, выдвигаться постепенно и неторопливо.
Пожалуй, первым всерьез о нем написал будущий знаменитый критик Ш.-О. Сент-Бев в своей ранней книге, наделавшей столько шуму, которая была посвящена поэзии и театру во Франции в XVI в.[1655] Но лирики д’Обинье Сент-Бев в то время еще не знал (впрочем, так и не узнал никогда). Проза д’Обинье его, видимо, не очень заинтересовала (здесь Агриппа продолжал какое-то время оставаться «свидетелем и рассказчиком»), а «Трагические поэмы» не столько восхитили, сколько потрясли и в чем-то смутили и озадачили; но их значительность, а сквозь их призму незаурядность их автора Сент-Бев почувствовал со свойственной ему проницательностью и художественным чутьем. Впрочем, на появление в 1855 г. нового издания «Фенеста» он откликнулся[1656].
Но на Сент-Беве все как бы остановилось. Живительно, но яркие и причудливые книги д’Обинье очень долго не привлекали внимания исследователей, книгочеев, любителей всяческих редкостей и «гротесков». Ни Шарль Нодье, ни Теофиль Готье не стали его приверженцами и популяризаторами. Лишь Виктор Гюго в целом ряде своих поэтических циклов ориентировался на автора «Трагических поэм». Можно с достоверностью утверждать, что книгами д’Обинье воспользовался Александр Дюма, когда писал свои знаменитые романы о второй половине XVI в. во Франции[1657]. Ведь Дюма специально интересовался эпохой, перемалывал горы книг, в том числе уже довольно редких. Почти наверняка он был знаком с амстердамским изданием 1729 г., куда вошли «Приключения барона де Фенеста» и мемуары; других изданий в пору работы Дюма над соответствующим романным циклом просто не было. Хорошо знал д’Обинье и Мериме[1658]; не случайно именно он осуществил первое научное издание романа д’Обинье (1855).
И тут за дело взялись историки, архивисты, текстологи. Они как бы хотели исправить несколько неловкое положение: ведь первую большую книгу о поэте написала англичанка Сара Скотт, и написала ее еще в последней трети XVIII столетия[1659], т. е. значительно обогнав своих французских коллег. Первые работы французских исследователей были невелики по объему и нередко печатались в провинции; это были биографические очерки, очерки литературные, но чаще – публикации ранее неизвестных текстов. Особенно велики были заслуги Людовика Лаланна, давшего первое научное издание мемуаров (1854) и «Трагических поэм» (1857) д’Обинье, и Эжена Реома, кропотливого собирателя, неутомимого публикатора, старательного комментатора, венцом деятельности которого стало шеститомное Полное собрание сочинений[1660] д’Обинье. И хотя это «полное собрание» в действительности не было полным (в него не вошла «Всеобщая история» и немалое число текстов, обнаруженных и опубликованных позднее), выпущенный Реомом шеститомник все еще нечем заменить, вот почему он был в 1967 г. переиздан репринтно. Прекрасное издание Анри Вебера в серии «Библиотека Плеяды»[1661] – это лишь «избранное» нашего поэта.
К началу XX столетия сложилась довольно парадоксальная ситуация: д’Обинье был хорошо изучен и издан, его место в истории литературы уже не оспаривалось, но академическая, точнее, университетская наука оставалась к поэту не то чтобы равнодушной, но судила о нем мимоходом и поверхностно. Отсюда – курьезная разноголосица мнений и оценок, которую удачно изобразил P. M. Самарин: «Взбалмошный, безвкусный поэт, не печатавшийся в XVI в., не читавшийся в XVII в., когда стали выходить его книги; лирик, взявшийся за эпос; более романист, чем поэт, более историк, чем романист; более оратор, чем историк, более солдат, чем оратор, и наконец, вообще более политик, чем писатель, – таким парадоксом выглядит д’Обинье в буржуазном лжетолковании, которое сделалось в буржуазной Франции традиционной точкой зрения на д’Обинье[1662].
Хотя в этой картине есть все-таки нарочитые преувеличения и гротескные натяжки, в целом оценка писателя передана здесь верно; но в этом поразительном разбросе мнений повинен сам д’Обинье: он был и солдатом, и историком, и оратором, и романистом, и поэтом, причем не «или», а «и» – всем одновременно, – и каждый специалист выбирал лишь ту или другую сторону его деятельности, отвергая другие. Дело было, конечно, не в пресловутой «буржуазности» французского литературоведения и не в «эстетствующем декадентстве» ряда ученых типа Эмиля Фаге (как характеризует его P. M. Самарин), а в сложности, многообразии и многоцветий той эпохи, как мы знаем, эпоих переходной, которая так трудно поддается однозначному непротиворечивому анализу. Да, это был и тонкий лирик, и острый памфлетист, и создатель грандиозного эпического цикла, пронизанного гражданскими мотивами, и язвительный сатирик, и трезвый политический писатель, и стремившийся к объективности историк, и оригинальный толкователь Священного писания, и откровенный мемуарист. Но прежде всего он был «замечательным человеком», и это его качество неизбежно выходило на первый план, когда принимались о нем писать. Яркая, неординарная биография оттесняла на задний план художника.
Вполне закономерно им много занимались историки. Лучшая из их работ – это уже достаточно давний увесистый трехтомник Армана Гарнье[1663], в котором есть «все» о жизни д’Обинье и о его эпохе. Эта книга содержит такое количество разнообразного фактического материала, так удачно построена и увлекательно написана, что вряд ли в скором времени сможет быть заменена чем-либо иным. Поэтому появившиеся позже биографии д’Обинье, например хорошие книги Эрика Дешо или Мадлены Лазар[1664], не добавляет новых сведений, а лишь содержат более компактный рассказ о жизни поэта-солдата.
Д’Обинье много написал; просто удивительно, где находил он время для творчества, для создания произведений столь разнообразных и столь глубоких. И столь талантливых, конечно. В нашу задачу не входит давать полный обзор его творчества; мы можем набросать лишь общую картину творческого пути д’Обинье, показать, как он шел от ранних книг к поздним, к последним, среди которых основное место занимают «Приключения барона де Фенеста» и мемуары. При всем своем разнообразии, все произведения д’Обинье отмечены стремлением каждый раз на разном материале и в разных художественных формах решать одну и ту же задачу – рассказать о своем времени правдиво и пристрастно (тут не было противоречия), попытаться его понять, объяснить, в какой-то мере оправдать. И главное – раскрыть трагизм эпохи, где мучениками оказываются не только жертвы, где снисхождения и поддержки заслуживает даже смешной (а по сути дела жалкий) фанфарон, едва скрывающий свою нищету барон де Фенест.
Итак, книга о нем, а также мемуары завершают творческий путь д’Обинье. Путь этот был прерывист и долог и растянулся почти на шестьдесят лет.
5
Начал он, конечно же, со стихов. Для нас они интересны с нескольких точек зрения: как первые произведения д’Обинье, как его творческое начало, как его заявка, затем как произведения, в которых отразился короткий, но яркий эпизод его жизни, о чем д’Обинье подробно рассказал и в мемуарах, наконец, как свидетельство рождения в творчестве поэта основной, ведущей темы – изображения бурной и трагической эпохи.
Как лирический поэт, вообще как поэт, Агриппа д’Обинье был, естественно, учеником Ронсара. Естественно – потому что тогда все были учениками автора знаменитых циклов любовных сонетов и песен, книг гимнов, од и т. д.[1665] Но были здесь и личные причины, точнее, неожиданное стечение обстоятельств. Какое-то время оба поэта – убеленный сединами и начинающий юнец – жили поблизости, могли общаться, и Ронсар благосклонно знакомился с первыми поэтическими опытами своего ученика. Тот факт, что д’Обинье воспевал племянницу знаменитой Кассандры (которой увлекался в 1551–1552 гг. Ронсар, а у нас на календаре – год 1571-й), конечно, случайность, но такая многозначительная, что нельзы было ее не обыграть.
Но вот насколько д’Обинье был учеником старательным и послушливым? Старательным – безусловно, послушливым – отнюдь. В его книге, которую он назвал «Весна», все было иначе, хотя многое шло от традиций позднего петраркизма с его непременными мотивами любовного плена, жестокости возлюбленной, неразделенности любви и т. д. В «Весне» появляется совсем новый аллегоризм, новая игра мифологическими коннотациями, совершенно новое восприятие действительности, причем действительности реальной, хотя она и вплетается в условную картину мира, продиктованную литературными традициями.
О лирическом цикле Агриппы писали много, но в основном как-то поверхностно и бегло. Например, в небольшой книге Ж. Платтара[1666] нет ничего, кроме беспомощных банальностей. В обеих книгах С. Рошблава[1667] о любовных сонетах д’Обинье говорится довольно много, но не сделана попытка связать их с пусть еще небольшим, но уже многообразным и насыщенным жизненным опытом поэта. Между тем именно этот опыт, которого не было ни у Ронсара, ни у большинства поэтов его школы, определяет самоценность «Весны», ее значительность и оригинальность (хотя д’Обинье и не решился эту книгу напечатать).
Мы должны выделить в стихотворениях молодого д’Обинье несколько стилистических и изобразительных пластов. Во-первых, это бытовой, если угодно, реалистический пласт, хотя совершенно не обязательно все было именно так, как описал поэт (мы имеем в виду такие рассказанные им эпизоды: он и его возлюбленная гуляют в лесочке, поэт вырезает на древесной коре ее инициалы, он ловит для нее какую-то лесную птичку, слушает, как Диана играет на флейте и т. д.). Другой пласт – этикетный: автору любовных стихов полагалось сетовать на непостоянство возлюбленной на ее холодность и жестокость и т. д. В известной мере литературным этикетом продиктован часто повторяющийся мотив поразительной белизны кожи Дианы, рядом с которой и снег, и белые лилии кажутся черными. Следующий пласт связан с использованием мифологических представлений. На это указала в своем превосходном исследовании Ж. Матье-Кастеллани[1668]. Д’Обинье воспевал реальную Диану Сальвиати, но имя ее тянуло за собой возможность мифологического переосмысления как самой любовной ситуации, так и характера, сущности Возлюбленной поэта. Как известно, Диана (Артемида) была, согласно античной мифологии, богиней дневного света, а также богиней-охотницей, защитницей девственности и чистоты (за посягательство на которую она обычно жестоко карала). Тем самым она оказывалась существом опасным, нередко холодным и безжалостным, и поэт постоянно об этом пишет. И вот тут происходит раздвоение образа героини: это и реальная девушка, и земное воплощение античной богини. Мотив холодности, даже «холодной влажности» девушки и одновременно ее мраморной безжизненности, как бы не-телесности, бездуховности проходит через весь сборник. Но в мифологических представлениях древности, получивших как бы новую жизнь в эпоху Возрождения, Диана являлась дневным воплощением совсем другой богини – Гекаты, покровительницы или даже властительницы ночи, мрака, смерти. Не приходится удивляться, что Геката бесчеловечна и хладнокровно жестока, облик ее непривлекателен, даже страшен. «Ужасная, с тремя лицами – коня, собаки и женщины, – с горящим факелом в руке, она бродит ночью среди могил, сопровождаемая ожесточенным лаем собак, которым одним дано чувствовать ее близость»[1669]. Первая часть «Весны» (сонетный цикл) называется «Жертвоприношение Диане». Здесь д’Обинье обыграл восходящий к дренегреческому и получивший распространение во французском синоним к слову «жертвоприношение» – «гекатомба», в состав которого, как видим, входит и имя Геката.
Таким образом, в лирическом цикле д’Обинье образ возлюбленной постоянно двоится и в ином плане: то перед поэтом холодная и безжалостная, но прекрасная и светлая Диана (то ли богиня, то ли реальная обитательница замка Тальси), то мрачная Геката, в которой тоже проглядывают то черты богини ночи, то облик жестокой и кровожадной женщины, потерявшей красоту и привлекательность. Эти личины (уже четыре) чередуются, замещают друг друга, сливаются, чтобы тут же разъединиться, что усиливает напряжение любовного переживания, укрепляет трагическое звучание книги, окрашивает в мрачные, темные тона восприятие поэтом и личной судьбой, и окружающей его действительности.
Причем это не неожиданные превращения, а закономерное соединение в едином облике противоречивых, даже противоположных черт характера Дианы Сальвиати, ее отношения к возлюбленному. Мы не знаем, каковы на самом деле были отношения Дианы и Агриппы и как далеко они зашли. Так или иначе, предложение д’Обинье сначала было вроде бы принято, потом отвергнуто (как полагалось, родителями девушки), но что послужило тому причиной – разница в вероисповедании, разница в знатности или материальном положении, просто разочарование Дианы в пахнущем порохом поклоннике, ее увлечение кем-то другим? Эта рана надолго осталась в сердце д’Обинье, о чем говорит, например, его сонет, адресованный первой жене поэта Сюзанне Лезе (написан в 1583 г. или чуть позже), где д’Обинье вспоминает о былой любви без петраркистских условностей и мифологических коннотаций.
Д’Обинье влюблялся и воспевал возлюбленную, выздоравливая после ранения, и ужасы войны, как и ее повседневность ярко отразились в книге. Лишь у очень немногих поэтов второй половины века можно обнаружить в любовных стихах военную лексику, военную образность, вообще военную тематику, которая становится выразительной составляющей образного строя «Весны» д’Обинье.
Это – еще один стилистический пласт «Весны». Мы можем говорить не просто о правдивых, а о реалистичных картинах бедствий войны, нарисованных д’Обинье, хотя картины эти входят в сложную систему антитез, почти обязательную для петраркистской любовной лирики. Конечно, условность и этикетность таких противопоставлений очевидна, но первый компонент сравнения – изображение ужасов гражданской войны – усиливает и актуализует второй компонент – интимную исповедь лирического героя, переживающего нечеловеческие страдания из-за своей роковой любви. Но картины войны столь зримы, точны и правдивы, что их эмоциональная окрашенность во много раз сильнее сетований влюбленного, чьи переживания кажутся на этом фоне не столь серьезными, тем более не столь трагическими.
Переход от «Весны» к «Трагическим поэмам» естественен и даже закономерен. Те гражданские мотивы, которые играли в лирическом сборнике служебную роль – как сопоставление и противопоставление внутренней жизни поэта, глубоко личных, интимных его переживаний и враждебной действительности, которая роковым образом сплетается с его печальной судьбой не очень привечаемого возлюбленного, становясь ее аналогом и мерилом, – в «Трагических поэмах» оказываются не просто лейтмотивом, а основной темой произведения.
Поэмы создавались опять-таки в момент временного затишья, но как бы наполнены грохотом недавних боев. Об этом произведении д’Обинье очень много писали[1670], отмечая, в частности, его тематическую и стилистическую многоплановость, сочетание высокого пафоса с сатирой, сложной образности, использующей мотивы как античной мифологии, так и библейские, с четкостью идеологических позиций, яркой памфлетности и неожиданно вторгающегося в политический дискурс лирического начала. «Трагические поэмы», бесспорно, самое ангажированное произведение поэта и одновременно в наибольшей степени поднимающееся над сиюминутными партийными интересами и задачами. Поэт хочет сам быть судьей своей эпохи; это он проклинает, высмеивает, морально уничтожает врагов, конечно же врагов «партии», но трактуемых в цикле как его личных врагов, право разделаться с которыми – уже не на полях сражений, что преходяще, а в книге, на ее пылающих страницах, что куда существеннее и долговечнее, – предоставляет он себе одному. Набросанные (по некоторым сведениям, продиктованные) в 1577–1578 гг. «Трагические поэмы» затем более десятилетия дорабатывались, а потом были поэтом отложены. Д’Обинье не спешил их публиковать, а возможно, он просто и не собирался этого делать (подобно тому, как он так и не напечатал «Весну»).
Переломным стал 1616 год, когда эпический цикл выходит из печати, затем начинается публикация «Всеобщей истории»[1671], задумываются и, возможно, создаются первые две книги «Приключений барона де Фенеста». Быть может, тут сыграли определенную роль житейские неудачи, личный, в том числе финансовый, крах – после рокового участия поэта в заговоре Конде. Так или иначе, отныне на смену воину приходит писатель. Он продолжает свою личную борьбу уже не мечом, а пером.
Написанные энергичным, но и неторопливым двенадцатисложным стихом «Трагические поэмы» далеки, конечно, от вскоре последовавшей за ними прозы, но они эту прозу во многом готовили: тут и прямота политических позиций, и причудливое переплетение хвалы и хулы, сарказма, ироний и мягкого юмора, и сопоставление реалистических картин гражданской войны со сложной профетической аллегорикой.
6
«Приключения барона де Фенеста» относятся к числу не просто значительных, но во многом ключевых произведений Агриппы д’Обинье. Это, бесспорно, произведение итоговое. Здесь взгляд автора на мир, его жизненная и попросту житейская философия выражены с наибольшей прямотой, но выражены не агрессивно или хотя бы наступательно, а в известной мере примиренно с действительностью. Это философия уже не сурового воителя, а умудренного годами и опытом пожилого человека, что не значит, конечно, будто теперь д’Обинье некого осуждать, не с кем бороться, не с кем спорить. Он и спорит, и борется, но совсем в иных формах и преследуя иные цели.
Между тем этой книге посвящено не так много специальных исследований. В трудах общего характера «Фенест» рассматривается обычно в ряду с другими «сатирическими» произведениями писателя (некоторыми памфлетами) и квалифицируется как «картина нравов» новой для д’Обинье эпохи. Быть может, блеск «Трагических поэм» слишком ярок, и «Приключения барона де Фенеста» оказываются в тени.
Смущает, видимо, и место произведения в общем литературном ряду. Мы уже говорили о том, что книга д’Обинье непосредственно предшествует, а потом и сопутствует первым опытам в жанре так называемого реально-бытового романа, но резко от них отличается. Вот почему «Приключения» не рассматривают как исток (один из истоков) этого жанра.
Лишь в самое последнее время, точнее говоря, в последие два-три десятилетия было напечатано несколько статей, совсем небольших по объему, посвященных «Фенесту»; среди них следовало бы назвать недавнюю статью С. Шизоня[1672], рассматривающего некоторые приемы организации поветствования в книге д’Обинье.
На фоне этого относительного невнимания (или недостаточного внимания) нельзя не отметить серию статей днепропетровской исследовательницы Н. Т. Пахсарьян[1673], со многими наблюдениями и выводами которой мы, бесспорно, согласны. Ниже нам так или иначе придется постоянно обращаться к высказанным в этих статьях положениям.
Прежде всего обратим внимание на внешнюю структуру книги. Ее форма открыта, открыта в том смысле, что за главами, ее составляющими, могли бы следовать новые, а в череду существующих могли бы легко быть вставлены еще и другие, чуть ли не в неограниченном количестве. Это во многом обусловлено избранной писателем повествовательной формой «Приключений барона де Фенеста». Здесь, в этом произведении, д’Обинье обратился – и это даже специально указано в подзаголовке первой книги романа – к жанру диалога, жанру очень распространенному в литературе эпохи и уходящему корнями в античность (диалоги Платона, Лукиана и т. д.). Причем обратился он именно к диалогу, а не «спору», столь типичному для литературы Средневековья. В отличие от «спора», в диалоге, как правило, нет обмена резкими и колкими репликами, главное, нет агрессивности участников по отношению друг к другу. В диалоге спор, столкновение мнений переведены в более спокойное русло.
Как справедливо полагает Пахсарьян[1674], здесь непосредственными предшественниками д’Обинье стали авторы, разрабатывавшие очень близкий к диалогу жанр – жанр «бесед». Наиболее ярким образцом этой жанровой разновидности были «Сельские беседы» Ноэля Дю Файля, и следует заметить, что эта книга, впервые изданная в 1547 г. и затем переиздававшаяся несколько раз (в 1548, 1549, 1573 гг.), наиболее близка к «Фенесту» д’Обинье: сельской обстановкой повествования, его неторопливым и спокойным тоном, если можно так сказать, простым народным юмором; некоторые второстепенные персонажи «Приключений» (в основном слуги, бродяги, крестьяне) как бы сошли со страниц книги Дю Файля.
Можно было бы полагать, вслед за Н. Т. Пахсарьян[1675], что известные предпосылки диалога как определенной жанровой разновидности обнаруживаются уже в «Гептамероне» Маргариты Наваррской, где в обрамлении происходит оживленное обсуждение рассказываемых историй. Однако представляется, что это не так: в «Гептамероне» участников таких обсуждений много, к тому же они соединены между собой сложной системой личных связей и отношений, поэтому для каждого из них, в той или иной степени, рассказанная история обладает еще и ассоциативным подтекстом, подтекстом исключительно важным для собеседников, причем не всех собеседников, как правило, а лишь нескольких из них. Поэтому выслушанная обществом «Гептамерона» новелла для большинства остается просто занимательной историей, примечательным и поучительным случаем из жизни, тогда как для немногих таит в себе скрытые намеки, скрытые вопросы и ответы, а потому исключительно существенна в личном плане. У д’Обинье в книге этого нет. Куда ближе к «Приключениям» д’Обинье «Диалоги» Жака Таюро[1676] (1527–1555), изданные лишь посмертно, в 1565 г., но ставшие во второй половине века исключительно популярными (между 1566 и 1602 гг. появилось не менее одиннадцати их изданий). Важность «Диалогов» Таюро для развития французской сатирической традиции и французского вольномыслия подчеркнул Ю. Б. Виппер[1677], верно отметив прямое воздействие «Диалогов» на «Приключения барона де Фенеста»[1678].
В «Диалогах» Таюро отчасти, а у д’Обинье – сознательно и целенаправленно – подчеркнут разный удельный вес участников разговоров, точнее, разная, функционально, их роль. Их ментальное неравенство для писателя не только очевидно, но и заранее задано. Но, как увидим, соотношение разговаривающих по ходу действия меняется, меняется и идеологическая нагрузка их высказываний. Эне задает вопросы, провоцирует Фенеста на все новые рассуждения и рассказы и сначала иронически комментирует услышанное. Даже вопросы его полны иронии. Для него важно не то, о чем рассказывает Фенест, а то, как он это рассказывает, насколько он искренен в своем повествовании, насколько он верит в ту абсолютную чепуху, которую вдохновенно и убежденно плетет.
Для Эне, живущего в провинциальной глуши и довольствующегося во многом представлениями прошлого, интересно, конечно, познакомиться с тем, как теперь живут при дворе, что за обычаи и нравы там царят. Нельзя не заметить, что трактовка придворной жизни, какой она вырисовывается из историй и рассказов Фенеста, нарочито не соответствует тем возвышенным, хотя и достаточно трезвым идеалам, что были сформулированы в знаменитой книге итальянского гуманиста Бальдассаре Кастильоне (1478–1529). Его «Книга о Придворном» недаром была весьма популярна во Франции, где неоднократно переводилась и издавалась: она не была, конечно, настольным справочником, но на ее положения, бесспорно, ориентировались и гуманисты, и просто «просвещенные» политики. Д’Обинье ее, наверняка, знал, хотя здесь и не упоминает Кастильоне. Но какая-то оглядка на эту книгу в «Приключениях барона де Фенеста» присутствует, присутствует как доказательство «от противного»: и сам двор, и его обитатели, а в еще большей мере те, кто хотел бы связать с ним свою судьбу, изображены у д’Обинье приземленно и иронически. Здесь, в «этом» дворе, все напоказ, все фальшиво, утрированно, чрезмерно – от манеры одеваться, причесываться, украшаться, от манеры вести себя в обществе и поддерживать светскую беседу до более глубинных компонентов, определяющих личность, т. е. побуждений и чувств, которые здесь неизбежно лживы и извращены.
Не приходится удивляться, что Эне, который, вероятно, читал книгу Кастильоне и других моралистов эпохи, все время сравнивает и сопоставляет век нынешний и век минувший. Эне – слушатель внимательный и вдумчивый, терпеливый и терпимый, но его все-таки в не меньшей мере, чем повадки придворных щеголей, манера поведения дуэлянтов, способы преуспеть и при дворе, и в сердцах прославленных кокеток, занимает тот новый тип дворянина, которого он невзначай повстречал на сельской дороге. Таким образом, ему интересны не столько сами рассказы Фенеста, столько он сам как, если угодно, социальный тип, представитель неведомой ему «генерации».
Но как только любопытство Эне удовлетворено, вернее, когда оно перестает быть праздным любопытством и начинает затрагивать действительно волнующие его вопросы, Эне из ленивого расспрашивателя становится активнейшим участником диалогов, он сам отвечает Фенесту, что-то ему разъясняет, приводит убедительные примеры «из жизни» и задает уже не формальные вопросы, без ответа на которые он легко мог бы обойтись, а вопросы по существу, и тогда беседы и диалоги начинают приобретать характер спора.
Перед тем как обратиться к рассказам и россказням Фенеста, отметим, что вся книга д’Обинье (и это характерно вообще для всех его произведений) густо насыщена упоминаниями, ссылками, намеками, так или иначе связанными с современными писателю событиями. Многие из подобных ссылок и намеков не только непонятны читателю и исследователю наших дней, но и попросту для них незаметны. Другие поддаются расшифровке, что мы и старались делать в наших комментариях.
Порожденность романа окружающей д’Обинье действительностью сказалась в первую очередь в образе главного персонажа, давшего книге ее название. Мы будем говорить о «приключениях» барона де Фенеста, а не о его «авантюрах», как предлагает делать, например, Н. Т. Пахсарьян. Дело в том, что в русском языке слово «авантюра» так или иначе указывает на активность участника той или иной авантюры и на его известную удачливость. В книге же д’Обинье перед читателем проходит череда именно» приключений», т. е. историй, ситуаций – смешных, жалких, постыдных, печальных, – которые с героем случаются, или приключаются.
О самых смешных и глупых рассказывает сам Фенест, рассказывает незатейливо, но хвастливо, откровенно, но все время привирая и не очень умело скрывая заведомую нелепость того, о чем он повествует, и не стесняясь казаться отъявленным лжецом. Впрочем, для него типично постоянное самоодергивание: так, объявив рассказ о своих небывалых подвигах в бою или на дуэли, он неизменно оговаривается, отмечая, что боя-то, собственно, и не было, а дуэль в самый последний момент сорвалась. Получается, что победа, успех для него не так уж важны, куда важнее – участие, участие в чем угодно и на любых ролях, но главное, чтобы об этом говорили, чтобы это было у всех на устах. Поэтому называние события для Фенеста важнее самого события, называние равносильно участию, даже важнее последнего.
Если бы не настойчивые собеседники, все повествование превратилось бы в один бесконечный монолог Фенеста, монолог без особого плана и цели, сбивчивый, многословный и хвастливый. Из-за наличия собеседников речь Фенеста все-таки выстраивается в некую логическую последовательность; причем надо различать короткие ответы на тот или иной вопрос и рассказ, чаще всего близкий к анекдоту. Речь героя, являющуюся блестящей языковой характеристикой (чего почти нет в речи Эне – она стилистически более нейтральна), было бы недопустимой модернизацией назвать «потоком сознания», но ассоциативная связь – это главная организующая установка большинства высказываний героя.
В своих рассказах Фенест не придерживается четкой хронологической канвы; как верно подметила Н. Т. Пахсарьян, «эпизоды из жизни Фенеста, рассказы Эне не вливаются в хронологию жизнеописания»[1679]. В самом деле, из этих разрозненных историй, нагромождения анекдотов и т. д. невозможно сконструировать связную биографию Фенеста, тем более Эне (и в еще большей мере – его дублера из последней книги «Приключений» г-на Божё). Но хаотичные истории и «контристории» (т. е. те, что рассказывают собеседники Фенеста) соединены воедино совсем не искусственно и даже искусно: их непринужденное чередование, с одной стороны, прекрасно передает атмосферу диалога, с другой стороны, из таких вот мелких кусочков и деталей постепенно складывается объемная и подробная картина эпохи.
Картина эта, если можно так выразиться, мягко поляризована. В книге нет резкого, непримиримого и враждебного столкновения представителей двух эпох, двух социальных слоев и даже двух менталитетов, что особенно бросается в глаза. По верному замечанию Пахсарьян, «резкий политический конфликт современного ему общества, рождение сложных внутрисословных связей в дворянстве, развитие в нем двух тенденций – исторически далеко не однозначных – д’Обинье воссоздает в драматической форме диалога не как прямо политический, но как морально-психологический спор»[1680]. Этот спор подкреплен системой бинарных оппозиций в характеристике персонажей. В самом деле, если Фенест молод, то Эне стар, если первый старается быть «столичной штучкой», то другой – убежденный и сознательный провинциал, кое в чем не чуждый и буржуазным идеалам[1681]. Если Фенест по сути пустозвон, то Эне – надежный человек дела, если первый на поверку оказывается достаточно невежественным, то второй обладает действительно широкими и, главное, основательными знаниями. Если Фенест по своим взглядам и пристрастиям «новатор», то Эне – бесспорный «архаист». Если первый готов при случае сплутовать, то другой кристально честен. Вот в одном пункте стройная бинарная система, казалось бы, дает сбой: на первых порах можно предположить, что наш молодой придворный, по меньшей мере, состоятелен, тогда как Эне обладает скромным достатком. В действительности все наоборот: как отмечал еще Эмиль Фаге, самое важное завоевание д’Обинье-писателя – это не только яркий очерк нравов, но в известной мере серьезное предупреждение. «Д’Обинье, – писал Э. Фаге, – жил в своих землях как разумный человек, и он видел, как через его Сентонж идут и идут гасконские кадеты[1682], направляясь кто к королевскому двору, кто ко дворам поменьше, дворам каких-нибудь местных сеньоров, дабы сделать карьеру, даже просто «показаться», как он это очень верно называет, и писатель буквально шокирован этим складывающимся новым обычаем. Кадеты эти – это деды дворян времен Людовика XIV, которые лишь из-за этой тяги к светскому блеску не могли жить нигде, кроме как при дворе, и тем самым ввергли в конце концов в нищету, лишили силы, влияния, жизнеспособности всю нашу аристократию»[1683]. Тут Фаге мог бы уточнить, что все эти «гасконские кадеты», волна за волной двигавшиеся на север, нередко гроша ломаного не имели за душой.
Столь же нищ и юный Фенест, хотя это тщательно, но неумело скрывает. Эта вот социальная незакрепленность и заставляла его казаться – казаться знатным, казаться богатым, казаться влиятельным, казаться смелым, казаться удачливым, казаться набожным, казаться образованным, казаться беспечным, казаться неотразимым и т. д. Вообще и просто «казаться», что программно закреплено в его имени (Faeneste – от греч. phainesthai, «казаться»). Он и в Париж отправился только лишь для того, чтобы там «показаться».
Отметим четко намеченное в романе противопоставление столицы (Парижа) и провинции, города и деревни, дворца и скромного сельского замка. В столице, в городе, во дворе «кажутся», там жизнь эфемерна, условна, подчас нереальна даже, и уж во всяком случае бессмысленна, абсурдна и нелепа. Подвижность носителей этого образа жизни, этих вкусов и идеалов тоже совершенно бесполезна, как их толкотня в дворцовых покоях, так и постоянные блуждания (в поисках чего?) по просторам Франции не дают реального результата; Фенест и ему подобные так и остаются ни с чем.
Таким образом, взгляд д’Обинье на окружающее в достаточной мере пессимистичен. Автор фиксирует не возвышение двора по сравнению с провинцией, чего, с его точки зрения, совершенно не было, но и не только его мельчание и упадок. Он не проходит мимо существенных изменений во всем обществе, его материальную и, особенно, моральную деградацию. Отправив своего героя по проселкам французской провинции, он сводит его с представителями самых разных слоев общества; в своих хвастливых рассказах Фенест также упоминает не только придворных, но и простых горожан или крестьян, упоминает ремесленников, священнослужителей, солдат, дорожных воришек, вообще всех, с кем сводит его судьба. Это позволяет писателю дать своеобразный социальный портрет эпохи, и не приходится удивляться, что портрет этот выдержан в сатирических тонах, что так верно было отмечено Арлет Жуанна[1684].
Нельзя сказать, что герой не претерпевает на страницах книги никакой эволюции. Но эволюция эта – только неизбежное саморазоблачение. Фенест не становится к концу ни отважнее, ни правдивее, ни мудрее. Просто набор хвастливых историй, которые он обрушивает на Эне, естественно, иссякает, и герой начинает больше слушать, чем бахвалиться несовершенными подвигами и несуществующими придворными успехами.
Разорванности сознания Фенеста, отсутствию у него твердых взглядов и надежных жизненных позиций противостоит устойчивый и цельный менталитет Эне. Для него главное – не казаться, а быть (что и подчеркнуто его именем: Enay – от греч. einai, «быть»). Не существовать, а обладать целым комплексом положительных качеств: быть честным, быть добрым, быть справедливым, быть набожным, быть бережливым, быть работящим и т. д. И если по мере развертывания сюжета (которого в романном смысле и нет) активность Эне в отстаивании своих жизненных принципов все нарастает, то Фенест все больше тушуется и сдает позиции.
После того как для Эне Фенест становится абсолютно ясен, разговоры постепенно переходят к иным темам. Эне интересуют уже не обычаи двора, а вопросы веры. Не приходится удивляться, что в этих вопросах, вопросах толкования Священного писания и церковной догматики, Эне более опытен, более осведомлен и, естественно, глубок. От книги к книге религиозные споры разворачиваются все шире (что вполне отражало обстановку в стране). Естественно, здесь Фенест спорит наивно, неумело и подчас вынужден сдаваться без боя. Отметим, что в вопросах веры Эне находит поддержку в житейском опыте и мудрости простолюдинов (Клошар и Матэ); на этом фоне в «Приключениях» вновь возникают антимонашеские мотивы (подчас трактуемые достаточно резко), присутствовавшие и в «Трагических поэмах», но в большей мере ориентированные на традиции раннего Возрождения (Рабле, Клеман Маро, новеллисты). Здесь д’Обинье дает полную волю своему сатирическому таланту; при этом он, убежденный гугенот, относится хотя и насмешливо, но даже отчасти снисходительно к проделкам и грязным делишкам служителей церкви (католической, конечно). Их разоблачение, тесно связанное с изображением жизни городского дна, а также ремесленничества и торговли, вводит в книгу мотивы «материально-телесного низа», столь зримо выявленные М. М. Бахтиным в творчестве Рабле.
От книги к книге «Приключений барона де Фенеста» тип повествования меняется в том плане, что от диалогов персонажи переходят к длинным рассказам, лишь кое-где прерываемым репликами слушателей. Обилие злободневного материала (и вылазки герцога д’Эпернона, и военные действия в Вальтеллине, и споры гугенотов с католиками и т. п.) требовало больше места для высказывания мнений. И тут на сцене появляется третий равноправный персонаж – г-н Божё, единомышленник и друг Эне, более искушенный в политике, религиозных спорах, хитросплетениях придворной жизни. Его появление функционально понятно: в спорах о религии, вообще в разговорах о ней, в обсуждении ее проблем (как и проблем политических, что было нередко связано) Эне был нужен уже иной собеседник. Фенест теперь больше слушает, изредка задает вопросы, еще реже сам что-то пытается рассказать.
Последние главы «Приключений барона де Фенеста» – это описание разных аллегорических картин (в том числе так называемых триумфов, т. е. триумфальных шествий с определенным набором участников), иносказательно изображающих современное писателю общество. Все это заставляет вспомнить соответствующие места «Трагических поэм», с которыми вдруг возникает прямая перекличка.
Остается попытаться ответить на два вопроса: к какому жанру должны мы отнести «Приключения барона де Фенеста» и завершена ли книга. Оба вопроса достаточно сложны. «Фенест», конечно, не роман в более раннем и более позднем смысле слова, хотя в нем на первом плане в конце концов личные судьбы героев. Прежде всего, это, бесспорно, не плутовской роман, хотя в книге немало пройдох и выскочек. Не плутовской – прежде всего потому, что герой не преодолевает сословных барьеров, не поднимается вверх по общественной лестнице, напротив, он полностью саморазоблачается и терпит крах. «Фенест» – роман в той же мере, как и «Гаргантюа и Пантагрюэль», где картины жизни заслоняют личные судьбы. Таким образом, «Фенест» Агриппы д’Обинье – это роман особый, это не тупиковая ветка развития жанра, но такая жанровая модификация, которая могла найти продолжение лишь много позже, например у Дидро. «Приключения барона де Фенеста» – роман с ключом, основным в нем является совсем не судьба юного гасконца, и поэтому книга д’Обинье завершена лишь с этой точки зрения: социальное и моральное положение героев прояснено до конца. Что касается аллегорического переосмысления действительности, то оно могло бы, конечно, быть развернуто дальше и шире. Просто писатель не успел это сделать. Или не захотел?
7
Мемуары д’Обинье[1685] – это один из первых в новой европейской литературе примеров соединения доверительной исповедальности с объективированным рассказом об увиденном и пережитом. Это автобиография, но не попытка самооправдания или компенсаторное стремление пережить все еще и еще раз. Эти мемуары было легко писать: рядом лежала гигантская «Всеобщая история» как надежный справочник, содержащий все о внешней стороне жизни Агриппы. На «Всеобщую историю» д’Обинье часто ссылается, но не для того, чтобы казаться более достоверным, а просто ради краткости. И это не пересказ «Истории»: здесь писатель более интимен, больше говорит о себе – и о своих сердечных делах, и о сложных взаимоотношениях с сильными мира сего, с кем ему приходилось постоянно иметь дело и кто далеко не всегда был к нему великодушен и справедлив. Но в еще большей мере – о семье, о матери, ценой жизни которой он появился на свет (это невольное убийство всегда мучило его и осложняло отношения с отцом), о сыне, принесшем ему одни тревоги и разочарования, о счастье в двух его браках.
Агриппа д’Обинье довел рассказ о своей жизни практически до самого конца. Он скончался у себя дома в Женеве на Ратушной улице 9 мая 1630 г. Стояла весна. Это была весна уже иной эпохи, которую французы называют Великим веком, а мы, за неимением лучшего термина, просто Семнадцатым столетием.
ВАЛЕНТИН ПАРНАХ – ПОЭТ И ПЕРЕВОДЧИК
Сочинением стихов и переводами, поэтическими и прозаическими, деятельность Валентина Парнаха не только не ограничивалась – это оставалось где-то на периферии, не так обращало на себя внимание, как другое, чем он был в давние времена известен и даже славен. Он может быть отнесен к фигурам «второго ряда» русской культуры, в которых, однако, основные тенденции эпохи воплотились достаточно полно и органично. Именно по ним, этим скромным и полузабытым фигурам, при более углубленном и детализированном подходе, мы составляем представление о давнопрошедших временах, но прошедших не настолкьо давно, чтобы черты той эпохи потускнели и стерлись. Фигуры «второго ряда» составляют, конечно, фон, но фон неожиданно яркий и, что главное, живой.
Валентин Парнах был, бесспорно, личностью творческой, одаренной и необычайно многосторонней. Вместе с тем случилось так, что именно стихи и переводы, и, пожалуй, только они, т. е. то, что было «написано пером», – остались реально, а не лишь в восторженных, а иногда и сбивчивых и не всегда точных воспоминаниях современников.
Из этих пестрых и отрывочных воспоминаний возникает весьма противоречивый, даже парадоксальный облик джазмена и танцора, кабинетного ученого и литературного критика, поэта-авангардиста и уравновешенного и точного переводчика стихов и прозы. Как известно, интерес к серебряному веку русской культуры и его непосредственным последствиям заметно вырос, стал более пристальным, поэтому фигура Парнаха начинает вызывать заслуженное внимание – ведь его участие в самых разных сферах культурной жизни было несомненно; это и шумные манифестации футуристов и дадаистов, и первые шаги на европейской почве американского негритянского джаза, и постановки Мейерхольда, и становление театра «мимики и жеста», и историко-филологические штудии 30-х годов, и графическое творчество Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой, и, наконец, эволюция русской школы поэтического перевода.
Но лучше все по порядку.
Валентин Яковлевич Парнах[1686] (Парнох) родился 15 июля (по старому стилю) 1891 г. в Таганроге в семье вполне преуспевающего провизора. Мать поэта, Александра Абрамовна Идельсон, получила высшее медицинское образование, но, кажется, не практиковала. Дети воспитывались, скорее всего, в космополитическом духе, по крайней мере, в доме всегда были гувернантки, учившие детей иностранным языкам, прежде всего французскому. В семье любили и читали книги, литературные интересы явно были на первом плане; так или иначе, все дети избрали литературу своей профессией: старшей сестрой В. Парнаха была известная поэтесса София Парнок (1885–1932), подруга Марины Цветаевой; его сестрой-близнецом – Елизавета Тараховская (1891–1968), переводчица и детская писательница.
Парнах учился в местной гимназии (той самой, где когда-то учился Чехов) и кончил ее с золотой медалью (1910), что дало ему возможность беспрепятственно поступить в петербургский университет, сначала на юридический, затем на историко-филологический факультет. Однако курса он не кончил. Возможно, он любил и умел учиться сам, учиться настойчиво и сосредоточенно, что дало впоследствии блестящие результаты.
Как поэт Парнах начал довольно поздно, уже вполне зрелым мужчиной. В 1913 г. он напечатал стихотворение в «Гиперборее» (№ 9–10), в 1914-м, по рекомендации А. Блока, его опубликовали в журнале Вс. Мейерхольда «Любовь к трем апельсинам» (№ 3); несмотря на хлопоты Мандельштама, «Аполлон» стихотворения Парнаха отверг. Парнах был принят в литературных кругах Петербурга и даже вступил в акмеистский «Цех поэтов», но не был там сколько-нибудь активен.
Очень важно приглядеться к тому, с чего поэт начал, что не вполне определяет его дальнейший путь, но приоткрывает движения души и взгляд на мир, которые, пусть подспудно и не всегда явно, будут сказываться в будущем. В ранних стихах Парнаха отразились впечатления и переживания детства и юности; в них отчетливо звучит романтическая тема моря, дальних странствий, морских путешествий, в них начинает проглядывать загадочный и манящий образ Востока, преимущественно Востока Ближнего, который был совсем близко, почти под боком: все-таки Таганрог был большим, типично южнорусским портовым городом, а Азовское море – все-таки морем. Так, в стихотворении, посвященном его другу художнику М. Ларионову, Парнах писал:
Здесь нет гумилевских неоромантических блесток и глянца, здесь все проще – это какая-то домашняя, провинциальная простота, даже простецкость, но при этом ощутима сила внушения, заставляющая верить поэту. В стихах этих лет и этого «цикла» все дышит молодым предчувствием увлекательного путешествия, романтикой, как например, в стихотворении «Перед отплытием»:
Вскоре Парнах действительно совершил длительное путешествие, побывав в Италии, Египте, Сирии, Палестине. В 1914–1915 гг. он провел немало времени во Франции, где слушал лекции в Сорбонне и занимался в университетской библиотеке. Возможно, он побывал и в Испании.
Расширение горизонтов, сначала географических, нашло отражение в стихах поэта. В них много внимания уделено культуре Востока, приметы которой он находит в Средиземноморских странах, причем для него очевидна ее интернациональность, переплетение в ней самых разных этнических импульсов и начал. Эта культура манит его своей яркой пестротой, открытостью, праздничностью, напряженной экспрессией. Так, мы находим эти мотивы в стихотворении «Палермо», посвященном городу, который, видимо, произвел на Парнаха особенно сильное впечатление, – недаром имя этого сицилийского города мелькает и в более поздних стихах поэта. А в 1913 г. он писал:
Следует отметить, что уже в ранних стихах Парнаха источником вдохновения и предметом изобретательных описаний становится музыка южных стран, которые он посетил, музыка пока еще мелодичная, даже неторпливо протяжная, соединяющая залихватскую удаль яркой динамичной пляски с меланхолическими напевами. В одном из стихотворений 1914–1915 гг. он писал:
…………………………………………….
Отсюда закономерно признание в одном из стихотворений все того же сборника «Самум»:
В начале июля 1916 г., сложным путем – через Стокгольм и Лондон, Валентин Парнах выехал во Францию. Он поселился сначала у своих друзей художников М. Ларионова и Н. Гончаровой, затем снимал комнатки где придется, наверняка бедствовал и вел жизнь не просто парижской богемы, но ее специфического «округа» – Монпарнаса. Он постоянно бывал в кафе «Ротонда» – этом месте встреч представителей международного авангарда. Он общался с выходцами из России, например Ильей Зданевичем и Сергеем Шаршуном, с грузинским художником Ладо Гудиашвили, несомненно хорошо знал дадаистов Тристана Тцара, Франсиса Пикабиа, Ганса Арпа, Луи Арагона, некоторых из которых переводил, знал такого незаурядного и многогранного поэта, художника, драматурга, кинематографиста, как Жан Кокто. Он участвовал в литературных диспутах, концертах, манифестациях и программных выступлениях деятелей авангарда. Прекрасно владея французским языком (а также немецким и испанским), он стал во многом тем человеком, который помогал и способствовал объединению и взаимопониманию разношерстной и разноязыкой авангардистской братии.
Парнах издает в Париже поэтические сборники «Набережная» (1919), «Самум» (1919), «Словодвиг» (1920), «Карабкается акробат» (1922); эти книги иллюстрируют М. Ларионов, Н. Гончарова, Л. Гудиашвили; портрет Парнаха рисует Пикассо.
В это время Париж захлестывает увлечение негритянским джазом, привезенным из Америки. Вызывающая необычность джазовых ритмов, их напряженный, построенный на контрастах рисунок, находит отклик в дадаистских кругах. Исполнение джазовой музыки, эксцентричные танцы под джаз начинают занимать все большее место во всевозможных манифестациях авангардистов. Синкопы и перебои джазовой музыки проникают в поэзию, что вполне понятно, и даже в живопись. Парнах становится вдохновенным адептом джаза и современных танцев.
Во-первых, это отражается в его поэзии: многие стихотворения Парнаха не только описывают джазовую музыку и соответствующие ей балетные движения и позы, но самим своим ритмом – ломким, издерганным, даже порой истерическим и вызывающим, а также подбором лексики и звукописью стремятся передать впечатление, зрительное и слуховое, от этого нового направления в искусстве.
В стихотворении «Веселый мим» (сб. «Самум») Парнах писал:
Поэтические образы его стихов приобретают подчас причудливость и требуют расшифровки (например, «Восторг ноги гнал в танец колесо!»), что перекликалось с пластическими решениями танцев Парнаха. Под влиянием джаза он раскрылся как незаурядный танцор-мим. Вот как историк дадаизма рассказывает о выступлении Парнаха в Париже 10 июня 1921 г.: «Он спустился с галерки, чтобы исполнить номер под названием «Чудесная домашняя птица». Парнах облачился в немудреный костюм: широкая рубаха, громадные манжеты, а на спине – изображавшие куриные крылышки теннисные бутсы. К правому предплечью приладили одну из тех огромных металлических ног, что украшают витрины салонов педикюра. Постукивая этой дополнительной конечностью, он принялся исполнять танец в модных ритмах под аккомпанемент пианистки. Мелодии сами собой заставляли пуститься в пляс, напоминавший торжественное гарцевание»[1687].
А вот как в терминах этой новой эстетики Парнах описывает окружающий вещный мир, в данном случае Эйфелеву башню:
Но вот что примечательно: рядом с постоянным и каким-то навязчиво провозглашаемым стремлением к новизне в сознании поэта неистребимо и настойчиво присутствует оглядка назад, уход в прошлое, поиски в нем душевного успокоения и даже моральной и эстетической опоры; так, в стихотворении, помеченном Севильей, он пишет:
Это, конечно же, не только результат ассоциативной связи: образы Таганрога как олицетворение детства, счастливого и, главное, полного иллюзий и надежд, никогда не покидают поэта. Как вот в этих строках:
Определить место Парнаха в русской лирике его времени трудно: он не примыкал ни к какой школе, ни к какому направлению. Брюсов в статье «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии», не без колебаний, отнес его к числу примыкающих к футуризму[1688], что, конечно, правомерно. Но следовало бы присмотреться к перекличке Парнаха, особенного раннего с акмеистами; недаром же он начинал в близком им журнале «Гиперборей» и долгие годы, до скандальной ссоры в связи с выходом «Египетской марки» (где он увидел пасквиль на себя), поэт поддерживал дружеские отношения с Мандельштамом, посвящая ему стихи. Показательно, что, как и многие «гиперборейцы» (Н. Гумилев, Г. Иванов, М. Зенкевич, М. Лозинский и др.), Парнах немало сил отдал переводам – в известной мере как и кое-кто из них в тяжелые для поэзии времена, «эмигрировал» из «Цеха поэтов» в цех переводчиков.
В августе 1922 г. Парнах вернулся на родину, на этот раз в Москву. Здесь он пробыл не очень долго, но достаточно «шумно»: стал пропагандистом, даже зачинателем отечественного джаза[1689]; писал о джазе статьи, устраивал концерты, охотно передавал другим свой опыт. О первом выступлении Парнаха красочно рассказал в своих мемуарах Е. Габрилович: «Зал дома (Дом печати. – A. M.), видавший многое на своем веку, был переполнен. Парнах прочел ученую лекцию о джаз-банде, потом с грехом пополам сыграли джазовые мелодии. Когда же сам Парнах исполнил страннейший танец «Жирафовидный истукан», восторг достиг ураганной силы. И среди тех кто яростно бил в ладоши и взывал «еще», был Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Он тут же предложил Парнаху организовать джаз-банд для спектакля, который тогда репетировался»[1690]. Так началось довольно длительное сотрудничество Парнаха с Мейерхольдом, студию которого он посещал еще в предвоенные годы. Парнах был приглашен в «ТИМ», где участвовал как балетмейстер и сценограф в ряде постановок, а несколько позже посылал в театр из-за границы всевозможные материалы о культурной жизни Запада.
В Москве Парнах попытался заниматься и литературными делами. Он выпустил сборник стихов «Вступление к танцам» (1925), куда вошли в основном вещи из предыдущих сборников. Но на этом его литературные предприятия и закончились. Издать сборник стихотворений «Саранча» ему не удалось, несмотря на весьма осторожное ходатайство A. B. Луначарского. Тогда же Парнах попытался напечатать в Госиздате в своем переводе книгу Жерара де Нерваля «Путешествие на Восток» (небольшой отрывок перевода был напечатан в журнале «Северные Записки» еще в 1913 г., № 8–9). На этот раз Луначарский горячо поддержал предложение переводчика. Он писал председателю редколлегии Госиздата Н. Л. Мещерякову (17 марта 1923 г.): «Парнах перевел блестящую книгу Жерара де Нерваля «Путешествие на Восток», не имеющуюся сейчас в русской литературе. Перевод, по его словам, признан специалистами блестящим. Госиздат же отказался принять его к изданию на том основании будто бы, что, во-первых, Жерар де Нерваль покупал себе невольниц в Египте, а во-вторых, что он был теософом. Что Жерар де Нерваль был теософом – это верно. Возможно, что он покупал себе невольниц, но вместе с тем это один из интереснейших, глубочайших и своеобразнейших классиков французской литературы, и все-таки представляется, что такого основания не должно было бы быть для отказа от издания готового уже и хорошо сделанного перевода <...> «Путешествие на Восток» Нерваля как-никак стилистически и по богатству переживаний – одна из жемчужин французской литературы»[1691]. Нерваль в переводе Парнаха напечатан не был. Но вполне понятно, почему переводчик обратился к этой книге: берясь за ее перевод, он готовился тогда к своему собственному путешествию на Восток; увидел ли он его и глазами французского писателя?
В 20-е годы Парнах обратился и к поэтическому переводу. Ряд своих работ он опубликовал в 1923 г. в журнале «Современный Запад»: в частности переводы из Жана Кокто и Блеза Сандрара; переводы других его парижских знакомцев (Ф. Пикабиа, Г. Арпа) тогда в печать, видимо, не попали. Несколько стихотворных переводов вошло и в книгу Парнаха «Вступление к танцам»; это были стихи древнегреческих поэтов Энния, Феокрита, Мимнерма, португальца Камоэнса и отрывки из «Трагических поэм» Агриппы д’Обинье (эти же отрывки были напечатаны в журнале «Молодая гвардия», 1923 г., № 6).
В октябре 1925 г. В. Парнах снова уехал во Францию. Он так писал об этом в неопубликованных автобиографических заметках: «Вдали от Франции всегда любимый мною французский язык зазвучал во мне особым, небывалым очарованием. Во мне накопились залежи французских слов и стремились прорваться наружу, разразиться музыкой. Охваченный жаждой освобождения и новой страстью к латинскому миру, я опять поехал в Париж»[1692].
Впрочем, мотивы этой новой поездки во Францию были не совсем те, что указал Парнах, а если и те, то были также еще и другие. Бесспорно присутствовало некоторое неудовлетворение своей работой, и еще в большей мере – своим местом в советской действительности: джаз был внедрен и мог развиваться и процветать и без Парнаха, что же касается литературных дел, то они были явно менее успешными, чем он предполагал вначале (большинство задуманных книг осуществить не удалось, переводы печатали лишь от случая к случаю), в качестве литературного критика он выступить еще не пробовал.
Но был и еще один мотив отъезда в Париж, вероятнее всего самый серьезный и даже решающий. Еще во время первых поездок во Францию Парнах начал разыскивать в парижских библиотеках материалы, связанные с преследованиями католической инквизицией испанских евреев – так называемых сефардов; Парнах полагал, что по отцовской линии он принадлежал к их потомкам.
Еврейская тема в поэтическом творчестве Парнаха приглушена, глубоко упрятана, по крайней мере не является ведущей. Но в некоторых случаях она прорывается наружу. Например, в стихотворении «Саббатеянцы»:
Вообще Парнах не был ни политическим, ни тем более гражданским поэтом, и трагические приметы времени в его стихах относительно редки. Поэтому его стихотворение «Мазурские болота» (из сб. «Самум») – о бессмысленной гибели русских солдат на германском фронте – может быть воспринято как неожиданное исключение. Еще более неожиданно – очень слабое стихотворение «Электрофикация всех предприятий...» (о плане ГОЭЛРО) из сборника «Карабкается акробат». Нет, это были не его темы, это было вычитано «из столбцов газет», а не лично пережито, понято и принято. Образы былой России, как ни странно, возникают в некоторых стихах, написанных во Франции и Испании (все они входят в книгу «Карабкается акробат»). Например:
Это помечено Севильей; а вот явно парижские строки:
Это мог быть взгляд со стороны на явления, не представлявшие для поэта социальной опасности. Когда же воспоминания о когда-то виденном, и тогда остро пережитом (хотя, возможно, это был все-таки чужой опыт) захватывали поэта, стихи Парнаха наполнялись подлинной болью, острым переживанием несправедливости мира и беззащитности перед ним, этим миром, личности в чем-то ущемленной и поэтому «неполноценной». Такого, например, взволнованное, яркое стихотворение Парнаха «Высланные» (из того же сборника):
Мы не знаем, случалось ли Парнаху пережить погром, но слышать и читать об этом безусловно случалось. Ему могло казаться, что все это уходит и уходит в прошлое, оставаясь мрачным воспоминанием. И тогда поэт решил обратиться к истокам, к корням, чтобы, быть может, осмыслить недавнее и даже провидеть будущее – т. е. попытаться выявить здесь некие исторические закономерности. Кровавый разгул погрома, бессмысленного и безнаказного, вызванного только идеологическими предвзятостями и предрассудками, как он полагал, а не чем-то объективным или жестокостью и темнотою, извечно свойственными роду людскому, Парнах нашел в далеком прошлом – в трагических судьбах сефардов – сведения о которых он тщательно собирал в тиши библиотек. Среди гонимых инквизицией сефардов было немало поэтов, и вполне естественно стихи их наполнены обидой, болью, страхом и, подчас, ненавистью к их преследователям. В достаточно большом количестве стихов этих поэтов, буквально раскопанных и вырванных из забвения Парнахом, есть произведения талантливые, яркие, потрясающие силой чувства и правдивостью, но есть и откровенно слабые, декларативные и полные риторики. Но даже в слабых стихах явственно звучит голос истребляемого народа. Даже слабые стихи могут потрясти своей искренностью. Лучшие из этих стихов Парнах перевел (между прочим, сначала на французский). Он разыскал деловитые протоколы инквизиционных судилищ и хладнокровные и заинтересованные описания аутодафэ. То, что предпринял Парнах, была, конечно, научная работа, работа, прежде всего, археографа и историка. Сведения, сообщаемые Парнахом, точны и лишены предвзятости, а его суждения и оценки намеренно объективны. Но уж слишком взрывоопасным был добытый поэтом материал. Поэтому книга получилась яркая и гневная, а помещенные в ней переводы были на высоком литературном уровне, как в их французском варианте, так затем и русском. Как переводчик Парнах старался быть точным и непременно сохранять стилистические и идеологические особенности оригиналов. Показал он себя и незаурядным исследователем.
Живя в Париже до конца 1931 г., Парнах возобновил свои былые литературные и художественные связи, много писал во французских журналах о литературной и музыкальной жизни в СССР; особый интерес вызывали у него новые поэтические книги (например Сельвинского). Он переводил на французский, в частности книгу Константина Федина «Трансвааль» (1927), написал на французском языке небольшую книгу по истории танца[1693]. Но главное, чем он занимался в это время, были всевозможные материалы, связанные с поэтами – жертвами инквизиции. Сначала работа о них была написана по-французски и сдана в парижское издательство левого направления «Rieder». Однако там с изданием рукописи не торопились, затем началась война и, побывав в руках Луи Арагона, рукопись книги пропала (правда, есть сведения, что она недавно нашлась в огромном арагоновском архиве[1694]).
По возвращении в Россию Парнах создал русский, более расширенный вариант этой книги. В 1934 г. книгу выпустило издательство «Academia» немалым по тем временам тиражом – 5300 экз. В заметке «От издательства» работа характеризовалась так: «...эта книга впервые знакомит русского читателя с рядом поэтов, ему до сих пор совершенно неизвестных и чья поэзия и биография отразили один из самых трагических моментов в борьбе средневекового варварства против освободительных попыток человеческого ума. Поэты-евреи, пользовавшиеся испанским и португальским языком для того, чтобы рассказать о мучениях, которым подвергала их христианнейшая инквизиция, или чтобы выразить протест против нее, не вошли в большую литературу, в ту литературу, о которой повествуется в учебниках словесности и в профессорских обзорах. Преследуемые инквизицией эмигранты, принужденные издавать свои книги в Голландии, Франции и Германии, они остались мало известными, и составителю книги принадлежит честь воскресить их память и едва ли не первому за целые столетия раскрыть пожелтевшие листы их книг, которые уцелели в единичных экземплярах только в отдельных европейских книгохранилищах»[1695].
Отметим, что в книге – в статье и примечаниях – Парнах процитировал большие отрывки из «Трагических поэм» Агриппы д’Обинье (около 250 строк, т. е. примерно треть того, что он когда-то перевел[1696]). Отбор переводившихся отрывков был обусловлен, пожалуй, тремя соображениями: во-первых, Парнах обращался к самым узловым, самым трагически напряженным моментам книги д’Обинье (недаром еще в 1915 г. в стихотворении, посвященном Вс. Мейерхольду, он писал: «О, пусть ход действия поруган, / Пусть тягостно веков наследие, – / Присуждено мне по заслугам / Великолепие Трагедии»). Затем переводчик перелагал Агриппу там, где его стихи подробно и гневно рассказывали о жестокости инквизиции. Наконец, Парнах нашел в переживаниях гонимых сефардов нечто общее с мыслями, чувствами, вообще с горестной судьбой гугенотов, которых тоже безжалостно преследовала католическая церковь. Вот что, однако, отличало последних от сефардов – это стойкость и непримиримость в борьбе, ее активность, а отсюда – и их отвага, и многочисленные (но все-таки не решающие) победы над католиками. Сефарды сохраняли душевную стойкость и верность своим убеждениям, но не отстаивали эти убеждения с оружием в руках. Гугеноты же отстаивали их всеми доступными им средствами и с орудием в руках – прежде всего. Сефарды были отмечены печатью жертвенности, чего гугеноты были лишены.
Изучение творческого наследия поэтов-сефардов, вольно или невольно, привело Парнаха к занятиям Агриппой д’Обинье. От поисков аналогий, сопоставлений, перекличек он пришел к переводу «Трагических поэм» как произведения самоценного и самодостаточного, в котором не было совсем чувства обреченности хотя и избранного Богом народа. Быть может, Валентин Парнах нашел у Агриппы то, чего не хватало нередко ему самому – неколебимой стойкости и смелости. Не будучи гражданским поэтом, Парнах переводил Агриппу как бы из компенсаторных потребностей, переводил как великого поэта, наполнившего гражданским пафосом французскую поэзию последующих веков. В Комментариях к «Испанским и португальским поэтам» Парнах писал: «Вся гражданская поэзия Франции обязана Агриппе д’Обинье. Им вдохновлялись Виктор Гюго, Огюст Барбье и Шарль Бодлер. Книга «Кары» Гюго носит такое же название, как одна глава из «Трагических поэм». Д’Обинье упоминается и в стихах Гюго»[1697]. И далеко не случайно такое замечание Парнаха в статье «Современная русская поэзия»: «Общественные потрясения, крушение феодального государства, кризис мистического духа, годы блокады, гражданской войны и Террора – вот что мы слышим в голосах русской поэзии наших дней, переходного времени, достойного Агриппы д’Обинье»[1698].
Заметим, что это написано во Франции, по-французски и во Франции же напечатано (в 1926 г.). Из этих слов Парнаха можно было бы сделать вывод, что «Трагические поэмы» Агриппы стали для него неким иносказанием, воспоминанием о былом, предостережением, идущим из прошлого и направленным в будущее. Так, например, полагала Руфь Рискина, автор очень ценной статьи о Парнахе – переводчике д’Обинье[1699]. Однако нам представляется, что думать так – это непомерно сужать значение переводческой работы поэта. Парнах, вероятно, познакомился с произведениями Агриппы еще в пору первой поездки в Париж, т. е. до революции и гражданской войны в России. Сефарды, страдающие и гибнущие, участниками гражданской войны не были. Гугеноты – напротив. И переводчик это очень верно почувствовал. Он показал в своем переводе (ни на шаг не отходя от оригинала), что в обстановке гражданской войны нередко случается, что все оказываются неправыми, а любые решения – ошибочными. Аналогии с русской, да и с любой другой, революцией здесь напрашивались, конечно, сами собой. Но произведение д’Обинье не просто рисовало ужасы гражданской войны (и в этом его универсальность); это было произведение о стойкости и верности, бескомпромиссности и принципиальности, чего в обычной гражданской войне не бывает, чего, конечно, не было во Франции XVI столетия. Носителем положительного начала, как бы абсолютно положительного, оказываются у д’Обинье очень немногие гугеноты, а по сути-то дела – только он сам.
Бдительные советские цензоры не увидели здесь никаких опасных аналогий. Просто то, о чем писал Агриппа, было не обобщенным изображением гражданской войны, а войны очень конкретной, и цели и устремления борющихся сторон не имели ничего общего с обстоятельствами XX века. К тому же нам кажется (в отличие от Р. Рискиной[1700]), что Парнах не использовал «эзопов язык переводчика» и не выдавал книгу д’Обинье за произведение хотя бы потенциально «антифашистское».
Однако цензоры, видимо, все-таки осторожничали; об этом говорит довольно большое число «внутренних» рецензий на книгу, написанных специалистами самого разного толка; книгу положительно оценили И. И. Анисимов, H. H. Вильям-Вильмонт, Б. И. Пуришев, М. А. Лифшиц, Л. Е. Пинский (все эти отзывы не опубликованы); Борис Пастернак нашел стихи перевода «очень удачными, а часть – превосходными; по силе, выразительности и точности»[1701].
Издание книги Агриппы д’Обинье стало последней большой работой Валентина Парнаха. Беремся предположить, что для существенного расширения перевода сил у него уже не было, и чтобы хоть немного «утяжелить» книжку, Парнах включил в нее перевод, несколько поспешный и с необоснованными пропусками, мемуаров Агриппы.
Парнах действительно в 30-е годы отошел от оригинального творчества, а если что-нибудь и сочинял, то очень немного и заведомо «в стол». Переводил он тоже не очень много, но было бы крайней несправедливостью называть его переводческую деятельность литературной поденщиной.
Во-первых, переводами он занимался и раньше. Так, видимо, он был первым, кто стал переводить на русский язык Марселя Пруста; правда, его перевод «Любви Свана» (вторая часть первого тома прустовской эпопеи) увидел свет лишь в 1928 г., но наверняка был выполнен раньше, до отъезда Парнаха в Париж в конце 1925 г. Отметим попутно, что обе сестры Парнаха также стали у нас первыми переводчиками Пруста: Елизавета Тараховская (вместе с Г. Орловской) выпустила в 1926 г. перевод ранней книги Пруста «Утехи и дни», а София Парнок (в соавторстве с Л. Я. Гуревич и Б. А. Грифцовым) напечатала в 1927 г. перевод «Под сенью девушек в цвету».
Во-вторых, Парнах переводил – как правило по собственному выбору, в стихах и прозе – произведения выдающиеся: «Морское кладбище» Валери (1932), «Италия в 1818 году» Стендаля (1933), роман Шарля Вильдрака «Пароход Тинэсити» (1936), поэтичнейший роман Анри де Монтерлана «Холостяки» (1936), «Растерзанный Париж» Жана Кассу (1938), «Вальми» Ромена Роллана (1939), новеллу «Граф Морен» Анатоля Франса (1940), рад стихотворений Артюра Рембо (1939, 1941) и т. д. Отнесем к работам заказным переводы «Огня» Барбюса (1940) и «Разгрома» Золя (1945), отнесем туда же переводы из Арагона, Бехера, чешских, сербохорватских и даже латышских поэтов (возможно, были и другие переводы, еще более экзотические), но Парнах переводил и Мопассана, и Бодлера, и Верлена, и А. Мюрже (далеко не все из этого разыскано и опубликовано). Он переводил также великих испанцев – Гонгору, Кальдерона и Гарсию Лорку, причем, эти последние переводы до сего дня остаются образцовыми.
Те, кто знал Парнаха в последние годы его жизни, обычно отмечают его житейскую неприспособленность, растерянность и пассивность перед трудностями бытия. Порой это приобретало трагикомический характер. Вот, например, как описала Парнаха театральный критик Ольга Дзюбинская, общавшаяся с ним в эвакуации в Чистополе в 1941–1943 гг.: «Мы уважали Валентина Яковлевича. И очень сочувствовали ему, когда долгое время, да еще зимой, ему пришлось (из-за возможности пообедать) работать швейцаром в столовой «Искра». Правда, слово «швейцар» ни он, ни мы не произносили. Сам В. Я. Парнах, будучи мастером в нахождении точного слова, назвал и свою должность: «Дежурный». «Я – дежурный!» – отвечал он любопытным, пробующим «прорваться» в закрытые двери. Он сидел на своем посту в серой летней шляпе с пришитыми байковыми «ушами», царственно говорил одну и ту же фразу с непередаваемой интонацией классического театра: «Товарищ! Обратно! Вам все равно не подадут! Это закрытая столовая! Здесь – для фабрики!» Фраза – жест, фраза – жест, взмах правой руки... А столовая «Искра» обслуживала, по счастливому совпадению, и писательские семьи и нашу галантерейную фабрику»[1702]. И в этих нечеловеческих условиях Парнах выстоял, выжил; ему помогла литература, которой он был бесконечно предан (он, например, читал молодым работницам фабрики стихи – даже Франсуа Вийона), наверняка помогла и переводческая работа (как раз в это время он переводил Лорку, большая подборка стихов которого вышла в 1944 г.).
Мы не знаем всех обстоятельств издания в 1949 г. томика Агриппы. Е. Р. Арензон рассказывает об этом так: «На протяжении многих лет, вне определенных издательских планов, Парнах упорно переводил французского поэта-гугенота Агриппу д’Обинье (1552–1630). Первые журнальные публикации этих переводов появились еще в 1923 году. Книга «Трагические поэмы и сонеты. Мемуары Агриппы д’Обинье» в переводе В. Парнаха вышла в 1949 году, в разгар «борьбы с космополитизмом». Без какого-либо согласования с переводчиком Гослитиздат заменил его эмоциональное вступление и комментаторские заметки на беспроблемно-проходную статью профессора-зарубежника P. M. Самарина»[1703]. Здесь далеко не все верно. В действительности Парнах работал над переводом «Трагических поэм» не «на протяжении многих лет», а на рубеже 10-х и 20-х годов; в действительности журнальная публикация этого перевода была только одна; в действительности комментарии переводчика в издании 1949 г. были сохранены (возможно, правда, подсокращены и «подсушены»). Преданный этой теме и этому поэту, Парнах тем не менее перевел из д’Обинье крайне мало – меньше 10% объема книги. Это несколько удивляет. Думается, в 20-е годы во Франции и в 30-е годы в России он был занят другим. Архивные разыскания, которые еще предстоят, смогли бы что-нибудь разъяснить, в частности объяснить появление такого количества «внутренних» рецензий.
Валентин Парнах был поэтом, если можно так выразиться, «второстепенным». Этого нельзя сказать о Парнахе-переводчике. Он обращался ко многим, очень разным стилистически и идейно, авторам, и нигде ему не изменяли ни вкус, ни чувство меры, ни уверенное и смелое владение словом. Валентин Парнах должен занять заметное место в истории русского поэтического перевода.
ПРИМЕЧАНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
В полном смысле слова научного, или, как у нас бы сказали, «академического», собрания сочинений Агриппы д’Обинье все еще не существует.
В известной мере на это могло бы претендовать шеститомное издание, вышедшее в 1873–1892 гг. под редакцией Э. Реома и Ф. де Коссада (Oeuvres completes de Theodore-Agrippa d’Aubigne. Publiees pour la premiere fois d’apres les manuscrits originaux par Eug. Reaume et F. de Caussade. Paris: Alphonse Lemerre). Издание Реома, однако, не было полным, его текстологические решения не всегда бывали безусловны, комментарии, к сожалению, не учитывали все возможные и необходимые источники. К тому же за прошедшие сто с лишним лет многое уточнено либо истолковано совсем иначе. Вот почему на это издание в настоящее время ссылаются лишь по необходимости.
Большего доверия заслуживает том «Библиотеки Плеяды», вышедшей в 1969 г. (Agrippa d’Aubigne. Oeuvres. Introduction, tableau chronologique et historique par H. Weber; texte etabli par H. Weber et annote par H. Weber, J. Bailbe et M. Soulie. Paris: Gallimard), хотя издание и не предполагалось как полное. В него вошли почти все важнейшие произведения поэта («Трагические поэмы», мемуары, «Католическая исповедь сьёра де Санси», «Приключения барона де Фенеста», «Размышления о псалмах», трактат «О взаимных обязанностях монархов и подданных», образцы лирической поэзии – любовной и религиозной), однако богатая и многообразная поэзия д’Обинье тут представлена лишь в отрывках и извлечениях; как и в шеститомнике прошлого века, здесь нет основного исторического труда д’Обинье – его «Всеобщей истории»; впрочем, она издавалась в 1886–1909 гг. в десяти томах, а в настоящее время женевским издательством «Droz» завершен выпуск нового, хорошо текстологически подготовленного и подробно прокомментированного издания «Всеобщей истории», тоже в десяти томах (к сожалению, полным комплектом этого издания мы не располагаем). В издании «Плеяды» наибольший упрек могут вызвать комментарии к разделу прозы: в них есть неточности, есть места, вовсе не прокомментированные; иногда комментарий подменяется аннотированным указателем имен, подчас противоречащим собственно комментариям. Тем не менее, это издание, которому уже тридцать лет, не заменено другим и является совершенно необходимым при любых научных занятиях творчеством поэта. Поэтому мы широко использовали это издание, подготовленное такими авторитетными специалистами, как профессор Анри Вебер и его коллеги.
В публикуемых нами романе и мемуарах д’Обинье упоминает десятки своих современников, причем эти упоминания никогда не бывают случайны; напротив, они намеренно «маркированы»: д’Обинье жил в самой гуще своей эпохи, участвовал в раздиравших ее конфликтах и как солдат, и как писатель-полемист; у него было много близких друзей, но и немало оппонентов в его же «партии» и, что вполне естественно, недругов и заклятых врагов как среди убежденных католиков, так и среди просто придворных карьеристов. Поэтому весь этот пестрый хоровод персонажей, населяющих книги д’Обинье, нам пришлось, по возможности, комментировать. Вот почему мы воспользовались, в частности, различными изданиями мемуаров эпохи, вышедших из-под пера современников поэта – Блеза де Монлюка, Маргариты Наваррской, Брантома, Пьера де Л’Этуаля, Тальмана де Рео и др. Ценнейшие сведения содержатся в работе: Garnier А. Agrippa d’Aubigne et le Parti Protestant: Contribution a l’Histoire de la Reforme en France. P., 1928. Vol. 1–3. Однако точные годы жизни целого ряда упоминаемых д’Обинье исторических лиц установить не удалось.
Следует также сказать, что д’Обинье был небезразличен к «именам местностей»: у него были любимые, дружественные, нейтральные, враждебные, ненавистные города и иные населенные пункты. Но главное, всю эту «географию» (особенно провинции Анжу, Пуату, Вандею, Шаранту, Гасконь, Беарн) он изучил вдоль и поперек. Это также вынуждало нас делать необходимые соответствующие пояснения.
И в романе, и в мемуарах нет четкой и последовательной системы написания личных имен: например, частицы «Де», «Дю», «Ла» и т. д. то пишутся слитно со следующей за ними частью фамилии, то отдельно от нее (Де Ту, но Лану и т. п.). Во времена Агриппы никаких норм на этот счет не существовало (их практически нет и сейчас). Мы оставляем написание д’Обинье, за исключением фамилий, относительно которых в русском языке уже сложилась устойчивая традиция (мы пишем «Ларошфуко», а не «Ла Рошфуко», «Лафайет», а не «Ла Файет», «Дюплесси-Морне», а не «Дю Плесси-Морне» и т. д.). Мы отказались от воспроизведения разнобоя в написании одних и тех же имен и фамилий, с чем у д’Обинье время от времени приходится сталкиваться; одно и то же лицо в нашей книге всегда называется одинаково. Это же относится и к географическим названиям. В обоих случаях мы отдавали предпочтение варианту, в той или иной мере принятому у нас (в энциклопедиях, справочниках, географических атласах и картах, специальных работах).
В книгах д’Обинье очень многое выделяется курсивом; это иноязычные цитаты, названия художественных произведений, тексты воспроизводимых документов, прямая речь, которая оформляется как цитата, некоторые собственные имена. Но в этом у писателя нет последовательности, что и позволило нам от таких выделений отказаться.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА ДЕ ФЕНЕСТА
Агриппа д’Обинье начал работу над романом в первые месяцы 1617 г. История этой работы в общих чертах известна. Библиография романа тщательно изучена Франсуа Пиком (Pic F. Essai de Bibliographie des Avantures du baron de Faeneste de Theodore-Agrippa d’Aubigne // Albineana 6: Cahiers d’Aubigne. Niort, 1995. P. 333–360). Мы опираемся на его разыскания.
В конце 1617 г. первые две части книги были завершены и изданы в одном томе и без указания имени автора. Печаталась она в Майе, небольшом городке в Вандее, в двух шагах от Майезе, где поэт владел землями. Выпустил роман, видимо, некий Жан Мусса, местный печатник; при выходе второго издания, все в том же 1617 г., он скрылся под инициалами Ж. М. Судя по развернутому названию («Les avantures du baron de Faeneste. Premiere partie, revue et corrigee et augmentee par l’autheur. Plus a este adjouste la seconde partie ou le Cadet de Gascogne»), можно предположить, что Книга первая вышла первоначально отдельно; однако это издание разыскано не было.
В 1617 г. Жан Мусса осуществил, по сути дела, пять изданий романа. По тексту эти пять изданий совершенно идентичны, но отличаются форматом и распределением текста на страницах. Лишь в одном случае мы можем говорить о допечатке тиража.
В 1619 г. все тот же Жан Мусса два раза напечатал, отдельно, Книгу третью, а также переиздал две первые книги, присовокупив к ним новую. В 1620 г. он выпустил отдельное издание Книги третьей и напечатал также все три книги в одном томе. В 1622 г. он снова напечатал одну Книгу третью.
Наконец, в 1630 г. появилось издание романа уже с Книгой четвертой. В основной текст автором были внесены незначительные поправки и введено последовательное деление на главы (Les Avantures du baron de Faeneste. Comprinse en quatre parties, les trois premieres reveues, augmentees et distinguees par Chapitres: Ensemble la qua-triesme partie nouvellement mise en lumiere. Le tout par le mesme autheur. Au Dezert. Imprime aux despens de l’Autheur. M.DC. XXX). На протяжении 1630 г. вышло еще два издания романа. Все публикации 1630 г. отличались друг от друга только типографской маркой на титульном листе.
В 1641 г. издание четырех книг было осуществлено еще раз, и снова – в 1642 г., на этот раз уже в Женеве, у издателя Пьера Обера. Затем наступил перерыв почти на девяносто лет.
В первой трети XVIII в. за издание произведений д’Обинье взялся Ж. Ле Дюша. О нем стоит сказать несколько слов. Жакоб Ле Дюша (1658–1735) получил юридическое образование и какое-то время занимался адвокатской практикой в Страсбуре (до 1685 г.), потом в ряде других городов, наконец, с 1700 г., – в Берлине. Но основным его увлечением, а затем и занятием стало издание значительнейших художественных произведений недавнего прошлого. Эти издания он неизменно снабжал собственным обстоятельным комментарием. В основном он работал для голландских издателей (хотя на титульных листах нередко бывали указаны Кёльн, Регенсбург или Брюссель). Ле Дюша начал с «Менипповой сатиры», яркого антикатолического памфлета, написанного группой талантливых литераторов и впервые изданного анонимно в 1593 или 1594 г. Издание Ле Дюша появилось в 1709 г. Это издание оказалось в своем роде классическим: комментарии из него переиздавались в 1726 г. и даже в 1824–1825 гг. (с дополнительными комментариями Шарля Нодье). В 1711 г. Ле Дюша выпустил шеститомное издание сочинений Рабле, переизданное в 1732 г. (его комментарии перепечатывались и позже, например в 1741 г., а также в 1823–1826 гг.). В 1720 г. Ле Дюша подготовил, по сути дела, первое полное издание знаменитого «Дневника» Пьера Тезана де Л’Этуаля (1546–1611), той его части, что относится к годам правления Генриха III (1574–1589). В 1726 г. Ле Дюша выпустил со своими комментариями известный полуновеллистический-полудидактический сборник начала XV в. «Пятнадцать радостей брака». Наконец, в 1729 г. он издал, в двух томах, роман д’Обинье. К тщательно прокомментированному тексту романа он присоединил мемуары писателя, дав им произвольное название «Тайная история» (это первое издание мемуаров). На титульном листе был указан Кёльн, в действительности же книга печаталась в Брюсселе. Здесь впервые было названо имя автора. В 1731 г. роман переиздается, также в двух томах, на этот раз в Амстердаме. В 1735 г. Ле Дюша напечатал со своими комментариями «Апологию Геродота» Анри Этьена.
Что касается романа Агриппы, то после публикаций Ле Дюша наступило более чем вековое молчание. Лишь в 1855 г. вышло новое издание «Фенеста». Его подготовил Проспер Мериме. Тут все закономерно: замечательный писатель широко использовал книги д’Обинье, уже когда писал «Хронику царствования Карла IX». Интерес к этому периоду французской истории Мериме сохранил на долгие годы. Вот почему он охотно принял предложение П. Жанне, выпускавшего знаменитую «Эльзевирову библиотеку» (красные томики с золотым тиснением). Через три года, в 1858 г., он снабдил своим предисловием первый том собрания сочинений Брантома.
Мериме очень тщательно подготовил текст «Фенеста» и сопроводил его подробными комментариями, часто цитируя или широко используя примечания Ле Дюша.
Затем роман вошел в соответствующий том шеститомного собрания сочинений д’Обинье (см. Предварительные замечания), которое выходило в 1873–1892 гг., и вскоре, в 1895 г., был издан в Париже (текст подготовил Гастон де Рэм; издательство «Фламмарион»). Наконец, «Фенест» был включен в том избранных произведений писателя в серии «Библиотека Плеяды» (1969; см. Предварительные замечания).
Наш перевод выполнен по изданию П. Мериме и проверен по шеститомному собранию сочинений и по тому «Библиотеки Плеяды».
В отличие от последнего издания, авторские предисловия к отдельным книгам романа мы оставили на их первоначальных местах, хотя в издании 1630 г., на которое ориентировался А. Вебер, и в ряде последующих некоторые из этих предисловий были сняты, а предисловие к Книге четвертой перенесено к началу произведения. Для нас совершенно очевидно, что это предисловие касается исключительно Книги четвертой романа; что же до остальных предисловий, то они заслуживают внимания и нет смысла отправлять их в раздел комментариев.
Точно так же мы изъяли из комментариев А. Вебера черновые варианты последних пяти глав Книги четвертой романа и переотнесли их в раздел «Дополнения».
ЖИЗНЬ, РАССКАЗАННАЯ ЕГО ДЕТЯМ
Агриппа д’Обинье работал над автобиографией, видимо, после завершения первой редакции «Всеобщей истории», т. е. начиная с 1620 г. Если книга была действительно задумана или даже начата в указанный год, на ее написание автор затратил около десятилетия – ведь, судя по упоминаемым в мемуарах событиям, она не могла быть закончена раньше середины 1629 г.
Некоторые трудности возникают с датировкой «Предисловия». Оно адресовано всем трем законным детям д’Обинье. Известно, что писатель редко начинает работу над книгой, особенно такой, с предисловия, его обычно составляют тогда, когда произведение совсем или хотя бы вчерне завершено. Поэтому мы можем полагать, что д’Обинье в самых общих чертах, кроме немного хаотического финала, закончил мемуары к 1625 г., так как это дата кончины его старшей дочери Марии. Вместе с тем мы можем понять, почему писатель пренебрег этим печальным событием, ничего в «Предисловии» не изменил и написал его именно так: ему было важно оставить две рукописные копии мемуаров дочерям (или их прямым потомкам) и тем самым лишить права на это произведение нелюбимого сына Констана.
Дошедшая до нас рукопись (фонд Троншенов, № 156, Городская и университетская библиотека Женевы) написана рукой неустановленного лица. В ней много описок, ошибок и несуразностей, в основном выправленных рукой автора (почерк д’Обинье идентифицируется безошибочно). Существует две точки зрения на происхождение этой рукописи. Согласно одной, она является авторизованным оригиналом, результатом диктовки и последующей правки; согласно другой, когда-то существовала в настоящее время утраченная авторская рукопись, пусть черновая, текст которой д’Обинье продиктовал (скорее всего) или дал переписать (менее вероятно) кому-то из своего окружения. Думается, какая-то исходная рукопись, возможно в виде набросков или подробного конспекта, все-та-ки имела место.
Так или иначе, с известной нам рукописи было снято несколько копий, по крайней мере две, которые после смерти д’Обинье (или даже еще до кончины писателя) были переданы его младшей дочери и, видимо, наследникам старшей. Судьба этой второй рукописи нам не известна. Первая рукопись,принадлежавшая Луизе де Виллетт, долго хранилась в семье; в 1675 г. она перешла в руки племянницы Луизы, Франсуазы, знаменитой маркизы де Ментенон. Та всячески противилась публикации мемуаров своего деда, вот почему «Жизнь, рассказанная его детям» смогла увидеть свет только в 1729 г., т. е. через десять лет после смерти маркизы. Между тем произведение уже имело хождение в рукописном виде; до настоящего времени сохранилось несколько таких пиратских копий, причем попали они в собрания известных эрудитов и коллекционеров эпохи. Насколько нам известно, эти списки изучены плохо, генеалогия их не выявлена, поэтому можно предположить, что среди них есть список, попавший первоначально в семью старшей дочери писателя. Есть свидетельства, что мемуары д’Обинье пытались напечатать еще при жизни его упрямой внучки, но каждый раз что-то мешало осуществлению этих планов.
В первом издании Ж. Ле Дюша (см. Предварительные замечания в Примечаниях), вышедшем в 1729 г., мемуарам д’Обинье было дано произвольное название «Секретная история». Книга была напечатана в Кёльне (так значилось на титульном листе, в действительности это был Брюссель), изобиловала ошибками и откровенными вторжениями в авторский текст, но была снабжена весьма ценными примечаниями, в ряде случаев, наверняка, добытыми устным путем.
В 1731 г. издание было повторено дважды (оба раза в Амстердаме). Во второй амстердамской публикации мемуарам д’Обинье было дано такое название: «Анекдотические воспоминания о жизни Теодора Агриппы д’Обинье, пращура Г-жи де Ментенон» (в том были также включены несколько второстепенных мемуаров эпохи). Не приходится говорить, что амстердамские издатели проделали текстологическую работу вполне в духе того времени: редакторы позволяли себе править текст, делать в нем купюры и даже кое-что в него вписывать. Эта далекая от аутентичности версия мемуаров поэта была переиздана в 1836 г.
В 1851 г. исследователь творчества д’Обинье Людовик Лаланн отыскал в архивах Лувра принадлежавшую г-же де Ментенон рукопись и в 1854 г. ее напечатал. У этой рукописи была печальная судьба: она погибла в 1871 г. во время пожара, вспыхнувшего в дни Парижской коммуны в Лувре и совсем уничтожившего примыкавший к Лувру дворец Тюильри.
В 1873 г. «Жизнь, рассказанная его детям», уже по женевской рукописи, была напечатана в первом томе шеститомного собрания сочинений д’Обинье и с тех пор много раз переиздавалась.
Публикуемый перевод, выполненный по изданию 1873 г. (или по какому-то иному, его повторяющему) В. Я. Парнахом, увидел свет в 1949 г. (Агриппа д Обинье. Трагические поэмы. Мемуары / Перевод В. Я. Парнаха. Редакция и вступительная статья P. M. Самарина. М., 1949). Этот перевод, с рядом неточностей, грубых ошибок и ничем не оправданных купюр, был проверен по изданию А. Вебера («Библиотека Плеяды») И. Я. Волевич (восстановившей пропуски и кое-где исправившей стиль) и издан в 1996 г. вместе с «Трагическими поэмами» в переводе A. M. Ревича. Но многие неточности остались неисправленными, к ним добавились и новые. Комментарий, по сравнению с изданием 1949 г., был сокращен приблизительно на треть.
Для настоящего издания перевод еще раз сверен с изданием А. Вебера, а также с очень ценной по богатству комментария и во многом образцовой публикацией Ж. Шренка: D’Aubigne A. Sa vie a ses enfants / Ed. critique preparee par G. Schrenck. P., 1986 (Societe des textes francais modernes).
В мемуарах д’Обинье нередко упоминаются те же исторические персонажи, что и в «Приключениях барона де Фенеста», поэтому, чтобы избежать неминуемых повторений, мы постоянно отсылаем читателя к нашим комментариям к роману. И в самих мемуарах многие современники д’Обинье достаточно часто упоминаются по нескольку раз, причем на довольно большом «расстоянии» один от другого. Если это касается лиц второстепенных (т. е. не Екатерины Медичи, Генриха Наваррского, герцога де Гиза, герцога д’Эпернона и т.п.), мы и в этом случае прибегаем к подобным же отсылкам. Как и применительно к роману, мы старались пояснять географические и топографические реалии, так как для писателя, весьма в этом отношении точного, они были, бесспорно, очень важны.
Как известно, мемуары д’Обинье как бы написаны на полях его «Всеобщей истории» или являются дополнением к ней. Переклички между этими двумя произведениями постоянны и легко объяснимы. Таких перекличек настолько много и они столь интересны, что мы вынуждены были совершенно отказаться от цитирования исторического труда писателя, иначе пришлось бы переписать его целиком.