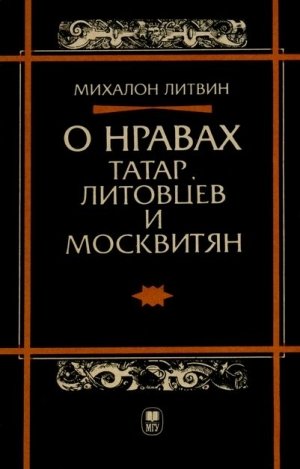
Предисловие
Трактат Михалона Литвина входит в серию иностранных записок о Руси и России, выпускаемой издательством Московского университета как продолжение другой, прерванной в 40-е годы серии «Народы СССР в записках иностранцев».
Сложился и остается неизменным тип издания — максимально комментированный текст с объяснением всех тех реалий, о которых идет речь в сочинениях иностранцев, что делает эти записки доступными для читателей любого уровня. Читателю, не имеющему специальной подготовки, сопровождающий записки «конвой» (вступительная статья, комментарий и научно-справочный аппарат) позволит правильно оценить степень информированности и объективности автора. Искушенному специалисту он может оказаться полезным для дальнейших научных изысканий. Студент обнаружит здесь применение теоретических принципов источниковедения на практике.
Трактат Михалона Литвина имеет некоторые особенности. Он не является путевыми записками или дипломатическим отчетом о миссии в Россию. Это полемическое сочинение, которое должно было прозвучать грозным предупреждением для соотечественников Литвина — политических и общественных деятелей Великого княжества Литовского. Поэтому естественны некоторые перекосы в оценке княжества и Российского царства, равно как и Крымского ханства. На долю двух последних достались панегирики, своему же отечеству Михалон Литвин, как истинный патриот, обращает массу упреков, частью и незаслуженных. Его труд — источник не столько по истории Российского царства или Крымского ханства, сколько по истории общественной мысли Литовского княжества за два десятилетия перед унией его с Короной Польской и образованием нового государства — Речи Посполитой.
Историей создания трактата и осмыслением его как источника занимались по преимуществу литовские ученые. Первое место среди них занимает М. Рочка. Авторы вступительной статьи максимально используют его наблюдения для ознакомления читающей на русском языке публики с выводами литовских коллег. Работу по переводу книги М. Рочки выполнила И. П. Старостина, благодаря которой была учтена также новейшая литература на литовском языке.
Авторы комментариев С. В. Думин, Ю. А. Мьщык, И. П. Старостина, М. А. Усманов, А. Л. Хорошкевич, обозначены в тексте соответственно инициалами С. Д., Ю. М., И. С., М. У., А. X. Библиография составлена А. Л. Хорошкевич. Иллюстрации подобраны И. П. Старостиной и А. Л. Хорошкевич.
Творческий коллектив, подготовивший это издание, выражает признательность литовским коллегам, в первую очередь А. Василяускене. Большую помощь оказал и Э. Баненис.
А. Л. Хорошкевич
Михалон Литвин и его трактат
В 1550 г. великому князю литовскому и королю польскому Сигизмунду II Августу был подан трактат «О нравах татар, литовцев и москвитян».
...Шел третий год его правления в качестве главы двух государств — Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Оба эти государства находились под угрозой потери части своих земель. Реальную опасность для Литовского княжества представляли притязания могущественного восточного соседа: Русское государство упорно претендовало на территории, входившие в состав Древней Руси, такие, как Киев, Полоцк Витебск. Отношения с Россией регулировались уже в течение полустолетия лишь силой оружия да периодически возобновляемыми временными соглашениями. В 1549 г. истекал срок предшествующего семилетнего перемирия. Однако ни одно из соглашении не решило территориальных споров, как не сделали этого и переговоры 1536-1537 гг., завершившие так называемую «стародубскую» войну. Вопрос о владении русскими городами по-прежнему оставался камнем преткновения. На переговорах бояре М. Ю. Захарьин и И. Ю. Щигона-Поджогин убеждали литовских послов: «Ведаете, из начала чья то отчина и куды прислухали Киев и иные городы; из начала то государя нашего отчина». Литовская сторона в свою очередь требовала «чтоб государь ваш поступился господарю нашему Великого Новагорода и Пскова», утверждая, что эти города «изначала отчина их господарей»[1].
Отношения между Литовским княжеством и Русским государством усугублялись еще и тем, что вплоть до времени написания трактата и даже позже глава Литовского государства и Польского королевства не признавал права Ивана IV на царский титул, который тот принял еще в 1547 г. А это грозило будущими осложнениями, как дипломатическими, так и военными, которые впоследствии подтолкнули к объединению Корону Польскую и Великое княжество Литовское в единое государство — Речь Посполитую, что произошло в 1569 г Страну раздирали и внутренние противоречия. Утверждение фольварочной системы привело к обострению отношений между магнатами и шляхтой. В руках первых фактически находилось все судопроизводство, что вызвало неудовольствие широкой массы шляхтичей. Не удовлетворяла их и система военной службы. На перепутье находилось развитие литовской культуры. С одной стороны, сюда, как и в Корону Польскую, доходили веяния Возрождения, с другой — по-прежнему прочны были традиции язычества. Гуманистически образованная верхушка феодалов и великокняжеской бюрократии тонула в массе сельских жителей, упорно сопротивлявшихся христианизации и ревниво оберегавших религию предков. Сам король Сигизмунд II Август был ренессансно образованным человеком. Зная о его любви к книгам, ему посвящали и посылали свои сочинения и З. Кальвин[2] и известные польские публицисты С. Ожеховский (1513-1566 гг.), и А. Фрич-Моджевский (ок. 1503-1572 гг.). С. Ожеховский, стремясь укрепить пропольские и прокатолические настроения короля и будучи недругом литовцев, посвятил королю в 1549 г. свой труд «Верноподданный или две книги о королевской власти Сигизмунду Августу»[3]. В нем он призывал короля опираться на шляхту, а не на магнатов, уважать католическую церковь, организовать защиту государства от татарских нападений и с этой целью направиться не в Литву, а в русские земли. Попытался он вмешаться и в личную жизнь молодого короля, которого отговаривал от брака с представительницей древнего аристократического литовского рода Барбарой Радзивилл. Еще ранее после смерти Сигизмунда I Старого он вместе с погребальной речью распространил памфлет против Барбары и Радзивиллов, чем доставил Сигизмунду II и Радзивиллам немало хлопот[4]. Король, приняв рукопись, похвалил Ожеховского, но надежды автора на публикацию его сочинения не сбылись. Король отнюдь не поощрял попытки разлучить его с Барбарой. Сигизмунд II поступил совершенно вопреки советам непрошеного наставника: он поехал не на Русь, но в Литву, к собственной супруге. Рукопись Ожеховского увидела свет лишь после смерти короля в 1584 г., хотя его стихи по случаю женитьбы Сигизмунда Августа в 1553 г. были приняты вполне благосклонно и напечатаны.
Антилитовские настроения польских публицистов не оставались незамеченными в Литовском княжестве. На Брестском сейме 1559 г. литовские представители во главе с Николаем Радзивиллом Черным требовали, чтобы король защитил Литву от несправедливых польских нападок, клеветы и претензий. Возмущение вызвала и содержавшая недоброжелательные по отношению к литовцам оценки хроника М. Кромера, второе издание которой было подготовлено в Базеле в 1558 г, Отпор нападкам поляков и самому Ожеховскому, в частности его сочинению 1564 г. («Quincunx»), в котором говорилось об инкорпорации Великого княжества Литовского в Польшу, давала полемическая брошюра «Разговор поляка с литвином». Таким образом, в общественной мысли Короны Польской и Великого княжества Литовского на протяжении нескольких последних перед их объединением в Речь Посполитую (1569 г.) десятилетий отмечалась борьба между литовцами и поляками.
В то же время противоречия, которые раздирали Великое княжество Литовское и определяли характер отношений страны с соседними государствами, не могли остаться без внимания его патриотично настроенных сограждан. В какой-то степени откликом на труд С. Ожеховского 1549 г. можно считать сочинение Михалона Литвина, адресованное королю. Литвин рассматривал недостатки Литовского государства, критиковал литовских панов, священников католической церкви, обвиняя их во всех внешнеполитических неудачах. Одновременно он ставил острейшие вопросы развития страны и ее грядущих судеб. Сопоставив положение, в котором оказалась его родина, с развитием соседних и южных государств, внутренняя ситуация в которых представлялась ему более благоприятной, он попытался извлечь из этого уроки для Великого княжества Литовского.
Впрочем, о содержании и направленности трактата можно судить лишь отчасти. Сочинение, написанное на латинском языке, дошло до нас не полностью — в выдержках, фрагментах. Судьба рукописи до сих пор не ясна.
Фрагменты трактата Михалона Литвина, объединенные в одной книге с сочинением Я. Ласицкого[5], были опубликованы в Швейцарии в городе Базеле в типографии К. Вальдкирха в 1615 г. Обе работы изданы по аутентичной рукописи, то есть оригиналу. Известный польский библиограф К. Эстрейхер считал, что трактат впервые увидел свет в Гданьске в 1609 г.[6] Однако его указание на 1609 г. ошибочно. К этому году относилось создание хроники польского историка Гербурта (Хербурта), изданной в Базеле Л. Кенигом в 1615 г. В ней-то и было указано, что к хронике приложены труды Михалона Литвина и Яна Ласицкого. Действительно, в библиотеке Краковского университета имеется экземпляр, в котором переплетены и хроника Хербурта, и труды Михалона Литвина и Яна Ласицкого. Такой же конволют есть в Британской библиотеке в Лондоне, Мюнхенской государственной библиотеке[7] (данные о таком конволюте привел Е. Залусский в 1832 г.[8]). По-видимому, отдельного издания Л. Кенига не было.
Попытка удревнить публикацию трактата Литвина и отнести его к XVI в. предпринял и А. Межиньский[9]. Свои выводы он основывал на тексте сочинения Я. Ласицкого «О богах Жемайтии» (1580 г.). В нем пересказывалась часть работы Литвина, в частности о прибытии в Литву предков литовского народа — римлян еще во времена Юлия Цезаря. Поэтому Межиньский предположил, что труд Михалона стал известен Ласицкому еще до 1580 г., и, более того, что сочинение Литвина к этому времени уже было опубликовано. Однако, как это доказал В. Манхардт, фрагмент, заимствованный из Михалона, принадлежит не Ласицкому, но Грассеру, издателю трудов Михалона и Ласицкого[10].
Не известно никакое раннее (XVI — начало XVII в.) издание «Трактата», хотя теоретически можно было бы предположить возможность первой публикации его и в типографии Краковского университета, и в Кенигсберге, и в типографии Радзивиллов в Бресте Литовском, действовавшей с 1553 г.[11]
В течение XVII в. фрагменты трактата Михалона Литвина (полностью или в усеченном виде) несколько раз переиздавались, преимущественно в первой половине XVII в. В сборнике Эльзевиров 1626, 1627, 1630 и 1642 гг. были воспроизведены те части сочинения, в которых были изложены представления Литвина о римском происхождении литовцев, суде и правосудии в Литве, об обычаях и образе жизни татар.
Первая из этих тем вошла и в историографию XVII в. В связи с отсутствием во второй половине XVII в. археологических данных филологические экскурсы историков и этнографов были единственными доказательствами тех или иных теорий этногенеза. Историки Пруссии В. X. Неттельхорст и К. Харткнох в 1674, 1679 и 1684 гг. либо приводили соответствующее место труда Литвина, либо пересказывали его[12]. Однако уже тогда прозвучали и первые критические замечания (M. Преториус) в адрес теории Литвина.
В опубликованных сочинениях других авторов римское происхождение литовцев сомнению не подвергалось (В. Коннор в 1769 г., Т. Нарбут в 1837 г., И. Бендерис в 1867 г.). Последний учел и сходство некоторых верований, в том числе культ Эскулапа в Риме и Литве. На протяжении всей второй половины XVII — первой половины XVIII в. труд Михалона Литвина оставался известным лишь по изданиям Эльзевиров и извлечениям Харткноха (последними воспользовался И. Лелевель). Возрождение трактата из более чем столетнего забвения произошло благодаря усилиям А. Яблоновского, С. Мальт-Брюна,, И. Бандтке в середине XVIII — первой половине XIX в. Внимание исследователей привлекали освещенные в сочинении вопросы измерения земли, состояние права и образования в Литве[13],. употребление здесь русского языка. Позднее, уже в первой половине XIX в. интерес исследователей сконцентрировался на проблемах происхождения рукописи, ее автора, путях проникновения сочинения в Швейцарию, направленности трактата и т.д.
Относительно мотивов написания трактата исследователи первоначально черпали сведения из вступления к конволюту его издателя И. Я. Грассера. Это было посвящение кн. Октавиану Александру Пронскому, который покинул родину за много лет до 1615 г. ради путешествий по Франции, Италии и Испании и занятий в немецких университетах, в том числе и в Базеле, но после 1615 г. должен был вернуться в Речь Посполитую[14]. И. Я. Грассер предполагал, что Пронскому, «без сомнения, придется по временам сражаться с татарами и москвитянами», в связи с чем ему полезно было бы знать «жизнь сих врагов».
Мнение Грассера о целях издания приняли первые русские исследователи и издатели фрагментов Михалона Н. Калачов и В. Антонович, познакомившие русского читателя с этим произведением в 1854, 1864 и 1890 гг. Первый переводчик трактата на русский язык С. Д. Шестаков пользовался экземпляром издания 1615 г., полученным Московским университетом благодаря содействию И. Даниловича[15].
Правда, В. Антонович к мнению Грассера добавил и свое толкование. «Автор, — писал он, — имел в виду не столько повествование о виденном и слышанном им, сколько цель дидактическую. Очевидно, весь рассказ направлен к тому, чтобы оказать влияние на молодого короля Сигизмунда-Августа и побудить его принять меры к исправлению нравов и подъему энергии в среде литовских земян. С этой целью Михаиле утрирует, с одной стороны, недостатки своих сограждан, с другой — добродетели соседей, причем нередко впадает в противоречие как с самим собою, так и с другими историческими свидетельствами»[16]. В 1914 г. В. Н. Бочкаревым была высказана другая точка зрения на цель произведения: Литвин «...хотел осветить вопрос... с той стороны, на которую обращали наибольшее внимание представители господствующей в Западной Европе церкви»[17].
Первые попытки открыть имя автора, сделанные в середине XIX в., были довольно поверхностными. Так Ю. Ярошевич полагал, что трактат мог написать один из комиссаров, посланных по постановлению Брестского сейма (после 1544 г.) для проверки замков Литвы и Украины[18]. Версия Ярошевича получила распространение как в польской, так и в литовской историографии[19]. С. Даукантас, основываясь на встречающихся в актовых документах замене имен Михайло — Мингайло («Minigailo alias Michal»), считал, что писателя звали Мингайлой[20]. Эту версию принял и А. Межинский[21].
Первый издатель трактата Михалона Литвина на русском языке Н. Калачов предположил, что Михалон как литовец имел два имени: литовское («туземное») и христианское (иностранное) (оно-то и было Михалон)[22].
Более подробно вопрос об авторстве трактата рассмотрели К. Мельник и известный историк Литвы В. Антонович, предпринявшие второе издание на русском языке труда Михалона[23] Исходя из посылки, что имя автора Михаил, они попытались найти общественного деятеля ВКЛ середины XVI в. с таким именем, который мог бы быть автором этого труда. Обратив внимание на сообщение о дипломатической миссии в Крым и найдя среди других послов Михаила Тышкевича, ездившего в Крым в 1538 г., издатели приписали авторство ему. Именно это посольство по хронологии наиболее близко подходило ко времени составления трактата. Эта версия укрепилась[24] и в дальнейшем получила распространение. Гипотеза об авторстве Тышкевича была подкреплена авторитетом М. К. Любавского, поддержавшего и развившего ее в 1929 г., хотя и без ссылки на своих предшественников[25]. В течение последующего полувека других гипотез не выдвигалось[26], несмотря на резкую критику версии об авторстве М. Тышкевича со стороны И. И. Лаппо. Последний отметил явное несовпадение с текстом отдельных характеристик личности автора и предполагаемого кандидата (литовец, воспринявший идеи реформации католик и православный славянин). Он, зная о гипотезе Калачова, указал на возможное соответствие латинского имени Михаила и литовского Миколас. Однако реального лица со сходной биографией, гордящегося высоким происхождением своей родины и обладавшего комплексом информации автора, Лаппо не нашел[27]. В 1929 г. к предположению о Литвине Тышкевиче пришел и И. Ионинас в процессе подготовки трактата к изданию на литовском языке. Публикация была осуществлена лишь в 1966 г.у после смерти Ионинаса. Задержка в публикации была вызвана сомнениями в правильности гипотезы, усилившимися после появления работы Лаппо[28]. Ионинас высказывал свою точку зрения и в частных разговорах, и на научной конференции, проходившей на историко-филологическом факультете Вильнюсского университета 27 мая 1948 г. Тем временем К. Яблонские предложил иную версию авторства, которая, не будучи опубликованной, тем не менее стала известна Ионинасу. Яблонские считал, что трактат мог написать основатель местечка Гринкишки Микифор Гринько Ловейкович по прозвищу Михайло[29]. Еще один литовский исследователь, Ю. М. Юргинис, первоначально принимал точку зрения Любавского[30]. Параллельно с литовскими исследователями вопрос об авторстве трактата рассматривали и белорусские ученые, отчасти повторявшие выводы М. К. Любавского, отчасти развивавшие их: Михалон Литвин — православный славянин, представитель гуманистической мысли Белоруссии[31].
Разгадка, на наш взгляд, вполне убедительная, вопроса об авторстве трактата была предложена польским историком Е. Охманьским[32]. На основании комплекса признаков, характеризующих автора (национальность, вероисповедание, социальное и имущественное положение, непосредственное знакомство с описанными в трактате народами, пребывание в Крыму во время татарского похода в направлении Венгрии), а также сведений других источников, в том числе русских посольских книг[33], он убедительно доказал, что автором мог быть только Венцеслав (Венцлав, Вацлав) Миколаевич, живший около 1490-1560 гг., литовец по национальности, католик по вероисповеданию, латинский секретарь великокняжеской канцелярии в 1534-1542, 1547-1555 гг., в 40-е годы — староста скирстомойнский и росиенский[34]. Он был единственным католиком среди послов в Крым, который в 1543 г. мог наблюдать сборы в поход на Венгрию. Член литовского посольства к младенцу Ивану IV в 1536 г. и к первому царю России в 1556 г., Венцеслав Миколаевич сохранил сильное впечатление от служб в Успенском соборе. По переговорам в Москве в 1536 г. он мог знать не только о сооружении русской стороной крепостей Себежа, Заволочья и Велижа на землях ВКЛ, но и об отказе своего посольства от притязаний на Велиж и ограничении требований лишь разрушением Себежа и Заволочья. Венцеслав Миколаевич — один из наиболее просвещенных людей своего времени, патриот, скрыл свое имя, опасаясь нападок затронутых его критикой магнатов и священников. Его же владения располагались в Гедетанах, из потверждения купли на которые в 1528 г. выяснились имена его отца и деда — Миколай и Ян. На конференции в Сухуми в 1975 г. выводы Охманьского были оспорены Ю. М. Юргинисом, полагавшим, что реформацией мог быть затронут и православный, носивший, впрочем, литуанизированное имя Микайла (по аналогии с Ягайлой, Скиргайлой и т. д.)[35]. Однако в последующей литературе точка зрения Е. Охманьского об авторе трактата получила признание[36]. Е. Охманьскому удалось исследовать и социальный и имущественный статус Михалона, объясняющий идейные позиции последнего.
Изучение вопроса об авторстве трактата продолжил М. Рочка, известный литовский филолог. Он исследовал этот вопрос в тесной связи с художественными особенностями, стилем произведения, а также в контексте современной литовской истории на фоне явлений культуры с широким привлечением польских, литовских, русских источников и литературы. Рочка указал, что художественный образ автора, созданный в этом произведении, может отличаться от подлинного. Много внимания исследователь уделил имени автора.
В историографии оно употреблялось в самых различных формах — Mykolas, Mykalojus, Mikaiunas — на литовском языке, Michal-Michalon — на польском, Михаиле, Михаиле — на русском, Michalo — на латыни. Разнобой в написании имени вносил известную путаницу в понимание вопроса об авторе трактата. Рочка вернулся к тем формам, которые представлены в самом издании 1615 г., и сопоставил их с современными — в литовском, польском, а также в латинском языках. В тексте трактата имя автора встречается в родительном падеже (в конце книги, в ее названии и в надписи над текстом) в форме Michalonis. В именительном падеже имя Michalo названо Грассером в конце первого фрагмента, во введении к труду Ласицкого «О богах Жемайтии» и во вступлении к конволюту, напечатанном Кенигом[37]. Казалось бы, такая форма должна была соответствовать распространенной в Литве форме этого имени в латинской транскрипции[38]. Однако в XVI в. в латинских памятниках Литвы такой формы не встречается. В XV же столетии в латинских рукописях написание Michalo употреблялось как неформализованная фамилия. На этом основании Рочка сделал вывод, что Michalo-Michalonis в трактате обозначает не имя, а фамилию.
Родительный падеж этого имени выдает распространение в Литве польского обычая склонять имя Михало по латинскому образцу. Европейская ренессансная мода латинизировать или грецизировать имена и фамилии проникла в середине XVI в. и в Литву (Mossuidius, Rapagelaniis, Culviensis). He чужд был ей и автор трактата, который охотно заменил Саковичей и Сунгайловичей латинизированными родовыми именами Sacones et Sungailones (от Saka, Sungaila), а короля именовал Wladfe-lavum... Jagelonem. В этом он ничем не отличался от своих современников. Так, у П. Роизия в его латиноязычном обращении к Николаю Радзивиллу встречаем: ad Nicolaum Radivilonem, а в литовской литературе на латинском языке: Lizdeico-Lizdeiconis, Vaidilo-Vaidilonis[39].
Окончание-о в имени Michalo не свойственно литовсому языку, в котором обычно окончание -а. Рочка объясняет появление окончания-о двумя обстоятельствами, с одной стороны влиянием польского языка, в котором короткое литовское -а. превращается в-о, с другой — диалектными особенностями: в окрестностях Вильнюса слова с окончанием -а в именительном падеже произносились с более или менее отчетливым оттенком «о». К Вильнюсскому региону, а именно к Майшягале ведет и другой факт: в XVI в. здесь были распространены отчества с окончанием -onis,-anis и соответствующие прозвища-фамилии. При этом, как и в трактате, латинскому родительному падежу соответствует литовский именительный. Автор трактата пренебрег падежными различиями и в списке литовских слов и соответствующих им латинских синонимов. Так, для именительного падежа литовского слова «ночь» (naktis) латинский синоним приведен не в именительном падеже (nox), а в родительном (noctis). То же и в случае со словом «внук» (nepotis вместо nepos). Весьма вероятно, что автор, желая носить модную латиноязычную фамилию, имел в виду литовское отчество-фамилию — Mikalonis. Аналогичные предположения уже высказывались в литературе, и имя Michalo производилось от литовских отчеств Mikaliunas, Mikalionis, Mikalonis[40]. Последнее наиболее близко по звучанию к латинскому Michalonis, тем более если учесть, что при написании корневой части этого имени в Литве XVI в. еще сохранялось ch[41]. По мнению Рочки, отчество-фамилия Mikalonis могла быть производным не только от Mykolas, но и от Mykalojas, от имени Nikolai, Nikolaus, также проникшем в Литву после крещения. Имена Michael-Nicolaus не только в разговорной речи, но и в рукописях смешивались. Автор трактата различает формы: Michalo-Michaloni от имени Михаил (Michael-Michaelis). Так, Михаила Львовича Глинского он именовал Michael-Michaelis.
Таким образом, лингвистические наблюдения Рочки привели его к выводу о том, что автор трактата — литовец, родом предположительно из Майшягалы, носил отчество-фамилию Michalonis, производную от имени Николай[42].
Эти наблюдения Рочки не дали ему возможности согласиться с теорией псевдонима, которой придерживались некоторые исследователи — Ионинас и Охманьский. Рочка же не видел оснований для того, чтобы автор, легко узнаваемый современниками по тем биографическим данным, которые он сам сообщает, вынужден был бы укрываться под псевдонимом. По его мнению, ни выраженная в трактате жесткая критика деятелей католической церкви, ни аналогичная позиция автора по отношению к королевской власти не вступали в противоречия как с решением Тридентского собора, запретившего печатать о «священных делах» с уклонениями от ортодоксальной точки зрения, так и с эдиктом Сигизмунда Старого 1547 г., предусматривавшего запрет на печатные издания, оскорбляющие королевскую власть. Имя автора полемического трактата осталось, считает Рочка, загадкой для нас лишь потому, что его творчество оказалось заслоненным деятельностью Николая Радзивилла Черного — видного государственного деятеля, сторонника независимости Литвы. Покровитель безвестных литераторов предпочитал, чтобы они таковыми и оставались. Сочинения этих авторов «Разговор поляка с литвином», «История Литвы» (1560 г.), заказанная Радзивиллом и ему посвященная, входят в серию, состоящую из вышеназванных сочинений, а также пасквиля против П. Роизия, поддерживавшего нападки Радзивилла на папского посланника А. Липомана и подписанного неразгаданным псевдонимом Р. К. Сармат, письма якобы самого Радзивилла против того же католического деятеля[43]. Рочка не довел своей мысли до логического конца, и роль Николая Радзивилла Черного в его построениях остается неясной.
Поэтому в послесловии к исследованию литовского филолога, скончавшегося в 1983 г., другой исследователь, Г. Забулис, увидел предположение о том, что «авторство исследуемого источника следует связать с Николаем Радзивиллом, под именем которого могут скрываться один или даже несколько неизвестных нам авторов «Трактата». Этот вывод, впрочем, противоречит всему ходу рассуждений Рочки.
Что же касается самого Г. Забулиса, то он сосредоточил свое внимание на имени автора[44]. Вслед за Рочкой он отметил несоответствие формы Michalonis имени Михаил или Mykolas, но не согласился с утверждением Любавского о бытовании на Украине и Руси народной формы Михало от Михайле, как противоречащим грамматическим нормам языка трактата. Его автор не вульгаризировал имена, но педантично указывал их латинские соответствия (Иван III — Johannes, Василий III — Basilius, Иван IV — Johannes Basilii) даже в фольклорных выражениях. Судя по орфографии (на которую, впрочем, мог повлиять и наборщик текста), автор трактата не различал k и х в словах Samarchah, Mecha вместо k стоит ch, в словах Moschorum, Moschovitae, Moscorum, Moscovitae наряду с с встречается и chi. Поэтому-то Забулис и выступил против идеи о литванизации имени Михало в Михаила. Латинское имя Michalonis или Micalonis Забулис выводит из родительного падежа Mikalojonis. (именительный Mikalojus), которое является литовским соответствием польскому имени Mikolaj, латинскому Nikolaus. Хотя в Литве в XVI в. не было устоявшихся фамилий, передаваемых из поколения в поколение, но привилегированные слои уже использовали фамилии-отчества или фамилии по месту владения. Возможно, и в данном случае имело значение желание употребить почетное отчество-фамилию, как бы подчеркивающее давность фамилии. Литовец, гордившийся итальянским происхождением предков, предпочел славянской форме отчества с суффиксом -евич (Миколаевич) суффикс -onis, распространенный в отчествах вильнюсского региона, тем более что этот суффикс ассоциируется с многими латинскими именами на-о в родительном падеже третьего склонения: Catonis, Ciceronis, Maronis, Nasonis, Varronis и т. д.
По мнению Забулиса, очевидно желание автора сблизить свое имя с латинскими с помощью литовского прозвища-фамилии.
После появления работ Е. Охманьского с его стройной и доказательной концепцией авторства Венцеслава Миколаевича у исследователей появился интерес к генеалогии потомков Михалона. Подробные сведения о роде Венцлава Миколаевича представлены в обстоятельных исследованиях Е. Римши[45]. Первым зафиксированным в источниках предком Венцлава Миколаевича был его дед Ян, упоминаемый в отчестве его сына Миколая, в документах его внука Венцлава. Можно говорить о предках Венцлава в Майшягале по крайней мере с конца XV в. Венцлав (около 1490-1560 гг.), вероятно, был старшим сыном в семье и имел несколько братьев и сестер. Его отец Миколай Янович держал в Майшягале небольшое хозяйство из двух служб[46]. Вероятно, Венцлав Миколаевич получил образование в Краковском[47] университете.
Венцлав впервые выступает в письменных источниках как писарь (вероятно, Вильнюсского воеводы, как свидетельствует ряд источников)[48] 9 — 12 апреля 1521 г.[49] Он был дважды женат. От первой жены Екатерины Станиславовны (умерла до 1537 г.) у него был сын Венцлав Агриппа, впоследствии известный деятель культуры Литвы второй половины XVI в. Неизвестно, кто были родственники жены Венцлава Миколаевича. Однако, судя по тому, что ее сын в 1554 г. продал за 300 коп грошей доставшуюся ему по наследству от матери часть Яшунского двора, социальное и имущественное положение Екатерины Станиславовны было довольно высоким[50]. Вероятно, при содействии вильнюсского воеводы А. Гоштальда Венцлав Миколаевич в 1529 г. временно был земским писарем в г. Бельске. Второй женой Венцлава стала Дорота, дочь майшягальского хоружего Мартина Белевича. Второй брак принес ему еще двух сыновей — Венцлава и Яна. Вероятно, при посредстве А. Гоштальда Венцлав Миколаевич стал в 1534 г. секретарем великокняжеской канцелярии, в которой остался служить до конца жизни. В 1536-1537 гг., а также в 1555-1556 гг. он участвовал в посольствах в Москву, в 1542-1543 гг. был с посольством в Крыму, в 1554 г. с Остафием Воловичем принимал в Люблине московских послов. Кроме службы в канцелярии он являлся медницким державцей (старостой), наместником в Скирстомони и в Россиенах[51]. Личное состояние Венцлава Миколаевича неуклонно возрастало. В 1528 г. он выставлял на военную службу одного коня, около 1529 г. ему принадлежало более четырнадцати служб, увеличивал он свои имения и в дальнейшем[52]. Как свидетельствует его договор с родственниками («кровными») Коневичами, вписанный 3 июня 1552 г. в книги вильнюсского наместника, Венцлав Миколаевич имел в Майшягальской вотчине вассальное боярство[53]. По-видимому, он умер в первой половине февраля 1560 г. или еще раньше[54].
Е. Римша установил, что семья Венцлава Миколаевича пользовалась гербом Дембно. В 1987 г. исследователь нашел печать с этим гербом и инициалами на нем VN (Venceslaus Nicolaus) в Отделе рукописей Научной библиотеки Вильнюсского университета[55]. Это весьма древний герб. Во время Городельской унии в 1413 г., когда литовская шляхта получила право пользоваться польскими гербами, герб Дембно принял Альберт (Войтех) Корейва, родом, вероятно, из нынешних Саугунишков (de Sowgodsko, Sowguttendorf) в окрестностях Майшягалы или Дукшты. Возможно, немногочисленные владельцы герба в далеком прошлом находились в родстве, в том числе и с упомянутым Кореивой. Согласно геральдической традиции ВКЛ XVI — первой половины XVII в., в первых двух полях объединенного герба помещались гербы родителей, а в третьем и четвертом — бабушек. Герб В. Агриппы и его племянника А. Агриппы позволяет предположить, что мать Агриппы имела герб Лелива, а бабушки — Ванагос и Долива (или Трестка)[56].
Анализ текста IX фрагмента, согласно Римше, содержит дополнительные сведения, позволяющие отождествить Михалона с Венцлавом Миколаевичем, которому в октябре 1553 г. было поручено переписать и обложить налогом принадлежащие Турции стада, пригоняемые в низовья Днепра[57]. Определенным подтверждением этого же вывода служит установленный Е. Римшей факт родства Венцлава Миколаевича и Агриппы. Последний обучался в Лейпцигском (1545 г.). Краковском (1548 г.), Виттенбергском протестантском университетах. В 50-е годы, подобно отцу, пользовался покровительством вильнюсского воеводы и канцлера Николая Радзивилла Черного, у которого в 1552 г. он был придворным (коморником). Наследник литературного таланта отца, он близок был к нему по своим взглядам. В первом сочинении на смерть родственника Николая Радзивилла Яна Радзивилла, изданном в Виттенберге в 1553 г., Венцлав Агриппа так же остро, как это делал отец, критиковал крупных магнатов, предающихся азартным играм[58]. Свои сочинения он, как, впрочем, и некоторые другие его современники, подписывал Lithuanus или Litwin[59].
Так же называли его и современники[60]. Имя Агриппа, римское по происхождению, соответствовало амбициям отца, причислявшего свой народ к итальянцам. Лютеранин Агриппа был женат на некоей Магдалене (в первом браке Пелгримовской), останки которой покоятся в лютеранской церкви в Гедетанах, основанной ее мужем около 1568 г. Пасынок Агриппы, сын Магдалены Пелгримовской, которому Агриппа завещал свою библиотеку латинских и немецких книг, проявил себя в литературе, служил в великокняжеской канцелярии, занимал административные посты. Мужем его сестры Эстер был известный поэт Градаускас, маршалок в 1588 г., связанный с великокняжеской канцелярией[61]. Таким образом, семья Венцлава Миколаевича на протяжении трех поколений в XVI в. являлась носителем духовной и литературной традиции.
Вторая жена Венцлава Агриппы Регина происходила из одного из влиятельнейших литовских родов. Она была дочерью Яна Монивида Дорогостайского, вероятно, брата полоцкого воеводы Миколая Дорогостайского. На Венцлаве Агриппе род Венцлава Миколаевича прерывается, но имя Агриппы, превратившись в фамилию, было унаследовано его боковыми родственниками и оказалось очень распространенным в Литве в XVII-XVIII вв[62].
Наряду с проблемами авторства трактата в сферу исследовательских интересов попали и вопросы языка, которым написано это сочинение. Михалон обнаружил хорошее знание не только литовского языка (о чем говорит список из 74 литовских слов, которым он привел латинские соответствия)» но и «русской мовы», ныне именуемой старобелорусским языком (так, о Перекопе он пишет: «по нашему называемый...»; при этом в написании славянских и других слов заметно польское влияние (peressud, litze, wisz, deczki). В трактате много заимствований из еврейского и греческого языков — слов религиозного содержания (missaliasacrificia — обедня, ieiunia — пост, eleemosyna — милостыня, biblia, scriptura sacra — священное писание), терминов, характеризующих общественный строй (feodalis, vasallus, laicus — мирянин, religiosus — монах, saecularis, — мирянин). В словаре Михалона наблюдаются отклонения от классической латыни: слово basilica он употребляет не в значении дворца, а большой церкви, термин ecclesia у него обозначает католическую церковь, а не народное собрание. Передачу топонимов Литвин осуществляет или по латинскому образцу — Kiovia, Lituania, Samagitia или в нелатинизированной форме (это касается слов, кончающихся на согласную: Perecop, Mancup, Pskow, Siewer, Mozir, Tur, Bobr). Сохраняет он устоявшиеся названия, как Orda Zawolska, и «русские» юридические термины (peressud, litze, deczki). В некоторых обозначениях, именах сохранен корень, но добавлено латинское окончание (Mindawgus, janiczarus, Sacones, Sungailones, Jaczvingus).
Таким образом, язык трактата Михалона, причудливо соединивший традиции четырех языков — латыни, литовского, «русской мовы», польского, без которых автор не смог бы передать жизненных реалий середины XVI в., отступил от жестких требований знатока классических языков, деятеля реформации Меланхтона[63]. Рочка показал, что автор трактата следовал образцам классической латыни в синтаксисе и стиле, испытавшем и воздействие средневековой риторики. Так, в соответствии с каноническими требованиями Литвин старается поместить подлежащее в начало, а глагол в конец предложения. Там же, где нужно подчеркнуть и выделить какую-то эмоциональную мысль, слово, имеющее патетическую окраску, употребляется автором трактата в начале предложения. Так, в IV фрагменте при описании судопроизводства Михалон выделяет глагол «брать», с которого начинается несколько предложений (capit...)[64]. Использование средств риторического синтаксиса, придающего художественной прозе торжественный декламативный характер, отмеченный у Михалона, напоминает и стиль летописей. Одним из стилистических приемов является перечисление. Подробное перечисление лесов, рек, озер, прудов и т. п., содержащееся в IV фрагменте, напоминает и стиль пожалований, оформляемых в великокняжеской канцелярии, и отдельные статьи литовских статутов. Можно было бы привести и другие примеры обращения Михалона к приемам риторического синтаксиса[65].
Античные образцы отразились не только на стиле трактата, но и на литературных приемах изображения современной Михалону действительности. Рочка и Забулис сопоставили трактат с произведениями Горация, Тацита, Вергилия, Ливия и других и обратили внимание на то, что при описании сходных сюжетов у Михалона заметны реминисценции античных авторов. Так, идеализированная картина жизни татар напоминает описание скифов у Горация (Ноr. III, 24, 9-24) (перевозка жилищ на повозках, изобилие хлеба, собираемого с необрабатываемой земли). Обращение Михалона к Горацию обусловлено в первую очередь общими программными установками: оба автора предлагали реформировать государство, вернувшись к старым обычаям, сохранившимся в неиспорченном виде у менее развитых соседей, ограничить роль женщин в общественной жизни и т. д. Аналогично поступает Михалон при изображении москвитян и татар, беря за образец описание германцев у Тацита. Если римлянам могли казаться привлекательными семейное устройство и положение женщин в Германии, простой образ жизни и уважение старых обычаев, то Михалону притягательным казалось общественное устройство восточных и южных соседей литовцев. Михалона и Тацита роднят и мировоззренческие позиции, оба автора обосновывали необходимость сильного правителя для блага государства. Оба автора огромное значение придавали старым обычаям. В отличие от своих современников, представителей гуманизма, Михалон не цитирует античных авторов, в том числе и единственного упомянутого им Флора. Его античные аллюзии имели не столько информативное, сколько композиционное значение, помогали ему создать структуру произведения.
Изучение стиля и литературных приемов автора трактата Рочкой и Забулисом ярко высветило талант Михалона, бесспорно, незаурядного, широко эрудированного писателя[66].
Рочке удалось реконструировать таинственную историю публикации трактата Михалона Литвина (через 65 лет после его создания) в Базеле, расположенном далеко от столицы Великого княжества Литовского. Этот город, сравнительно небольшой по числу жителей (он, подобно Аугсбургу, насчитывал в начале XVII в. 9-10 тыс. человек, но уступал таким городам, как Страсбург, Нюрнберг и Кельн — соответственно 20, 60 и 40 тыс. жителей), давно стал центром гуманистической культуры. Здесь долго жил и работал глава гуманистов Европы Эразм Роттердамский, действовали большие типографии, издавались работы, авторами которых были выходцы из различных стран, в том числе из Восточной и Центральной Европы. Большая часть выдающихся польских сочинений, из коих 66% было написано на латинском языке[67], увидела свет именно в Базеле[68]. Многие из них были посвящены известным политическим деятелям Польши и Литвы (Сигизмунду II Августу, Радзивиллам и др.). Ежегодно в Базеле печаталось по 50-75 книг, с 1610 г, издавалась еженедельная газета[69].
Базель привлекал к себе гуманистически настроенную и склонявшуюся к реформам молодежь, которая находила здесь благожелательных меценатов. Такими были ученый-гуманист, профессор греческого языка, известный издатель И. Опорин (1507-1568)[70], гуманист итальянского происхождения К. С. Курионе. Отношения, завязанные во время учебы в Базеле, молодые люди сохраняли и по возвращении на родину. Связи с Базелем еще более усилились после появления в Литве с середины XVI в. кальвинизма — «швейцарской веры», с одной стороны, и с другой — компромисса между католичеством и кальвинизмом в самой Швейцарии, установившимся с 1585 г. в результате деятельности епископа Як. Хр. Бларера[71]. В Базель приезжали в 1563 г. Я. Кишка, виленский каштелян и жемайтский староста, в 1590 г. — представители старинной знати Я. Скумин-Тышкевич, Лука и Юрий Масальские, в 1596 г. — новогрудский воевода Я. Радзивилл, виленский воевода И. Радзивилл и многие другие[72].
Судьба сочинения Литвина оказалась тесно связанной с деятельностью известного базельского издателя Петра Перны (ок. 1522-1582). Уроженец г. Лукки он вынужден был из-за своих реформаторских взглядов переселиться в Швейцарию, в 1542 г. поступил в Базельский университет, вскоре завел типографию и преуспел на этом поприще[73]. После смерти И. Опорина в 1568 г. именно типография Перны стала издательским центром литовских кальвинистов за рубежом[74]. Целью Перны, по его собственным словам, было издание нужных священных книг, насколько возможно, без ошибок. Одновременно он поддерживал тесные связи с кальвинистами в самой Литве. Так, он обращался к главе кальвинистов в Вильнюсе М. Чеховичу (1532-1613) с просьбой о приеме в столице княжества В. Охино, изгнанного из Швейцарии из-за арианских взглядов.
Перна получил труд Литвина, вероятно, в 1581-1582 гг., но не успел опубликовать его. После его смерти в 1582 г. типография перешла к его зятю К. Вальдкирху, не отличавшемуся оборотистостью тестя. Вскоре умерла и его жена Лаура, урожденная Перна. После вторичной женитьбы Вальдкирх около 1592 г. переехал в Шафгаузен, но вскоре вернулся в Базель. Из-за переездов типографии рукописи и могли оказаться у одного из друзей Перны, где их впоследствии и обнаружил И. Я. Грассер.
Рукопись трактата Михалона была доставлена Перне скорее всего при посредничестве Я. Ласицкого или иного литовского кальвиниста. Около 1578 г. новая вера — «конфессия гельветов» в редакции известного идеолога швейцарских кальвинистов Ф. Булингера (1504-1575) нашла многих сторонников в Литве. Вслед за Булингером литовские неофиты обрушились на культ святых. Около 1580 г. против учения иезуитов о святых выступил идеолог литовских кальвинистов А. Волан (1530-1610)[75]. Одновременно в Базель из Литвы был отправлен сборник «Пантеон», в состав которого входил и труд Ласицкого «О богах Жемайтии», содержавший критику католического учения и практики почитания святых.
В духе 80-х гг. звучали и упреки в адрес католической церкви в трактате Михалона Литвина[76]. Развивая критику А. Рапалениса и А. Кульветиса в адрес иерархов католической церкви и культа святых[77] (в особенности ясна преемственность идей Михалона от Кульветиса), Литвин бичует разгульную жизнь священников, якобы придерживавшихся целибата. «Как трутни поедают пчелиный мед, так они — труд народа, пируют и роскошно одеваются». Они стремятся к доходам и власти, а самые церкви «сдают мирянам, купцам, сводникам, продают», так что многие церкви никогда не видели своих «пастырей». Михалон выступает и против роскоши католических храмов. По сравнению со своим предшественником Кульветисом Михалон более эмпиричен, сочинения Кульветиса отличались большей юридической точностью. Оба они применяли похожую терминологию[78] и ссылались на одни и те же нормы римского права[79]. В сравнении же с Воланом Михалон не столь резок в своих оценках и характеристиках. Позиция Литвина с требованием равенства людей в церкви ближе скорее взглядам Мажвидаса, осуждающего несправедливость отстранения народа от святынь, которых не может быть лишен ни один человек[80]. Большую созвучность взглядов Михалона лютеранству, нежели кальвинизму, Рочка объяснял недостаточным распространением идей Кальвина в Литве этого времени[81]. Магнаты (Радзивиллы, Ходкевичи, Кезгайлы) тогда еще не порывали с католичеством и, склоняясь к лютеранству, не имели собственной отдельной церкви. Михалон, оставаясь послушным церкви и священникам, «которым мы должны подчиняться», был достаточно умерен в своей критике католичества и не испытал гонений, как С. Рапаленис, А. Кульветис и др.[82] В целом критика католической церкви в трактате Литвина, по мнению Забулиса, укладывается в рамки ранней литовской реформации весьма умеренного толка[83].
В критике Михалоном католицизма обращает на себя внимание одна особенность: в соответствии с риторической антитезой, положенной в основу композиции всего сочинения, для большей эффективности обличении христианского духовенства автор использует сравнение с религиозной жизнью татар. Он не жалеет похвал для мусульманских священников, которые «проповедуют свою религию с неутомимым рвением», «свято чтут правосудие», которые «не жадны, не тщеславны», но «кроткие, смирные, прилежные в своей службе». Татары у Литвина оказываются хранителями старых добрых обычаев. Именно мусульмане следуют канонам Библии, забыли же о них плохие христиане и высшее католическое духовенство.
Тем не менее близость сочинения Литвина реформационным настроениям 80-х гг. и могла привлечь внимание к трактату литовских кальвинистов, в том числе Я. Ласицкого. Последний дружил с А. Воланом, секретарем Радзивилла Рыжего. При посредничестве Волана Ласицкий мог получить рукопись из архива Радзивиллов. Во время путешествий по Европе — а Ласицкий был учителем в домах польских и литовских магнатов и много ездил со своими воспитанниками — он искал издателей для своих рукописей. Не порвались и его связи с новым владельцем типографии П. Перны — К. Вальдкирхом, который в 90-е гг. XVI в. и в начале XVII в. по-прежнему издавал книги литовских кальвинистов, иногда посвящая их Радзивиллам (1594, 1603 гг.)[84].
Переписка Ласицкого с его базельскими друзьями в 1580 г.[85] показывает, что Ласицкого волновали вопросы отношений Речи Посполитой с турками, татарами и русскими. Он посылал в Базель книги на эту тему, да и сам печатал подобные сочинения в заграничных типографиях, делая акцент на религиозных вопросах[86]. С точки зрения Ласицкого, западному читателю, проявлявшему стойкий интерес к странам Восточной Европы, мог быть полезен и взгляд Михалона на проблему взаимоотношений государств этого региона и их религиозную жизнь.
Таким образом, М. Рочка проследил один из вариантов возможного проникновения рукописи Михалона Литвина в Базель. Однако он не исключает другого — вероятного содействия в передаче рукописи П. Перне слуцкого князя Александра (умер. ок. 1591-1593). Его отец Юрий (умер в 1578) покровительствовал знаменитому историку Матвею Стрыйковскому. Традиции меценатства унаследовал и его сын, около 1580 г. путешествовавший и учившийся в Центральной Европе[87]. Т. Цвингер, с которым переписывался и которому посылал книги Я. Ласицкий, посвятил Александру свое издание «Этики» и «Политики» Аристотеля. Цвингер восхвалял самого слуцкого князя и всю его семью, тесно связанную с Радзивиллами[88]. Александру посвятил свое сочинение «О воспитании князя» и И. Штурм[89], Связи Пронских с Радзивиллами, возможными инициаторами создания трактата, дали Рочке основание предположить, что слуцкий князь Александр мог выступать посредником и в передаче рукописи в Базель Перне[90].
Однако трактат Михалона Литвина был опубликован лишь в 1615 г. И здесь на сцену запутанной истории рукописи выходят еще два человека — И. Я. Грассер и Октавиан Александр Пронский, которому было посвящено издание. Иоганн Якуб Грассер (1579-1627) оставил заметный след не только в культуре родной страны, но и соседних, в частности Франции. Швейцарский историк, поэт и кальвинистский теолог, он родился в. семье базельского проповедника. Ради изучения античности отправился во Францию, где провел несколько лет, из коих три был профессором в прованском городе Ниме. За заслуги в области культуры получил титул графа (comes palatinus), звание кавалера (eques auratus) и римского гражданина (cives romanus). Много путешествовал по Франции, посетил Англию. По возвращении на родину стал проповедником в Бернвиле, а потом в Базеле. Перу И. Я. Грассера принадлежит целая серия трудов, свидетельствующих о широте его интересов, простиравшихся на историю, филологию, астрономию, теологию. Он был автором ряда описаний путешествий, модного тогда жанра литературы[91]. Особое его внимание привлекали страны Северной Европы, а шведский король Густав II Адольф (1611-1632) даже поручил ему написать историю своего правления.
Как один из кальвинистских деятелей, Грассер заботился и о литовских единомышленниках, положение которых в начале XVII в. неожиданно ухудшилось, и беспокоился обо всех защитниках «швейцарской веры». В посвящении к книге Литвина и Ласицкого он ясно выразил желание работать во славу кальвинистской церкви. Здесь же он прославил род князей Пронских и Александра, отца Октавиана Александра. Александр Пронский, пан рады, тракайский каштелян (ум. в 1595), будучи в 1573 г. одним из послов к королю Генриху Валуа, всеми силами стремился добиться благосклонности будущего правителя, стараясь обеспечить максимум свободы кальвинистам. Он пытался объединить защитников реформации и православных Великого Княжества Литовского, обратившись с этой целью к Торуньскому собору кальвинистов, лютеран и др.[92] Октавиан Александр (ум. ок. 1638) также был кальвинистом, вся его семья наряду с под-канцлером княжества Литовского Е. Воловичем, воеводой Монивидом Дорогостайским, каштелянами М. Савицким и Ю. Глебовичем, князем Юрием Свирским и др. принадлежала к кругу влиятельных вильнюсских кальвинистов[93]. Продолжая меценатские традиции отца, Октавиан Александр Пронский хотел связать свое имя с литературой и материально содействовал изданию трудов Литвина и Ласицкого. Октавианом Александром Пронским и И. Я. Грассером замкнулся круг лиц, причастных к изданию трактата Михалона Литвина, выявленных и подробно охарактеризованных М. Рочкой.
Этот же исследователь предпринял и попытку реконструировать текст трактата, а также редакторские приемы Грассера. Еще К. Эстрейхер считал, что оригинал рукописи был разделен на 10 глав, из коих издатель первую и девятую дал полностью, а остальные в сокращении. Последующие исследователи пытались восстановить тип названия этих глав по аналогии с сочинением Ласицкого, где отдельные разделы текста именовались «фрагментами». Однако это определение не принадлежало Ласицкому, но было привнесено Грассером. Наряду с этим термином редактор употребляет и другие — том (лат.) и эпитом (греч.). В заголовке третьего раздела введено еще одно понятие — «книги», что, по Рочке, свидетельствует о том, что первоначально рукопись была разделена на книги, которых было по крайней мере три (как и в большинстве сочинений того времени)[94]. Рочка отметил объединяющее значение в композиции трактата принципов морали и нравственности (в 1-м разделе говорится о следовании татар древним обычаям, которых придерживались библейские патриархи, во 2-ом — о воздержанности и бережливости, в 3-м — об умеренности в еде и питье, в 4-м — о суде, в 5-м — о почетных предках и славном прошлом, в следующих — о любви к ближнему, прочной семье и т. д.).
Забулис, не согласившийся с гипотезой Рочки о делении трактата на три книги, однако, развил и углубил мысль своего предшественника о композиции сочинения. Забулис предположил, что трактат имел форму декалога, фрагменты которого соответствовали одной из десяти заповедей Моисея. Аргументация Забулиса в некоторых случаях кажется убедительной: так, в первом фрагменте пленник из Литовской земли обращается к заповеди о вере в единого бога («Да подвигнет тебя хотя бы любовь к вере истинного Бога»), в третьем — в соответствии с заповедью о святой субботе конкретизируется предписание отдыхать после шести дней труда в субботу, четвертый фрагмент соответствует заповеди, запрещающей лжесвидетельство. В пятом фрагменте Михалон использует заповедь о почитании отца и матери в рассказе о происхождении литовцев от римлян. Заповедь «не убий» отразилась в шестом фрагменте в осуждении приговоров, выносимых людям «по всем деревням и городам», а также в порицании рабства «не чужеземцев, но нашего рода и веры сирот, бедняков, состоящих в браке с невольницами». Заповеди «не прелюбодействуй» отвечает седьмой фрагмент, содержащий острую критику женщин. Десятый фрагмент напоминает об окончании 20-й главы книги «Исход», посвященной общим вопросам веры. Для второго и восьмого фрагментов соответствия с заповедями неубедительны, а для девятого они представляются натяжкой. Впрочем, по сохранившемуся тексту трудно уверенно судить о его первоначальном виде. Ясно лишь, в основу сочинения Михалона положена риторическая антитеза. Автор как бы следует совету Цицерона восхвалять знаменитое и порицать плохое. Критерием же для Михалона служит Библия, что было в духе начинающейся реформации: следование хорошим старым обычаям есть следование Библии, плохие новые — проистекают в результате отказа от нее. Мы уже видели это на примере критики Литвином духовенства и противопоставления католических священнослужителей мусульманским и обнаружим подобное противопоставление со ссылкой на Библию еще не раз (ср. также в комментариях данные о цитировании Библии Михалоном).
Но вернемся к судьбе рукописи трактата. Рочка полагал, что Грассер при редактировании труда лишил его общих мест (что, впрочем, не совсем точно), изъял и посвящение труда самого Литвина, из коего включил в собственное посвящение сведения о времени написания и предназначении трактата. В октябре 1614 г. он снабдил книгу новым посвящением князю Октавиану Августу Пронскому. Гравюра с портретом князя, принадлежащая художнику, подписавшемуся буквами L.T.C.S., открывает издание 1615 г.
Грассер, очевидно, сохранил те части текста, которые могли бы побудить читателя к активной деятельности, наставить его на путь истинный. Сам Грассер исходил из мнения Тита Ливия, как видно из его предисловия к изданию, о роли истории в исправлении нравов. По мнению последнего, высокие моральные качества предков, их патриотизм и любовь к свободе, мужество и самоотречение, набожный и скромный образ жизни составили основу роста Римского государства, а повреждение нравов стало причиной гражданских неурядиц и упадка Рима.
Возможно, труд Михалона в начале XVII в. подвергся редакционной обработке и с точке зрения кальвинизма. Ведь его сочинение было написано в тех условиях, когда господство католической церкви в Литве было почти безусловным, а критика в ее адрес грозила суровыми карами.
Несмотря на редактирование рукописи Грассером, можно полагать, что и в опубликованном тексте сохранилось главное — своеобразный ответ литовского мыслителя и политика на самые насущные вопросы развития Великого княжества Литовского, которые обсуждали и польские, и украинско-белорусские публицисты того времени. И среди них едва ли не основной — вопрос о дальнейших путях государственно-политического развития двух соседних стран — Литовского княжества и королевства Польского. Михалон писал свое сочинение почти за два десятилетия до Люблинской унии, тогда, когда перспектива окончательного объединения их в Речь Посполитую становилась все более актуальной. Отношение к ней среди привилегированных сословий Литовского княжества было далеко не однозначным: шляхта в целом поддерживала унионные программы, магнаты же старались сохранить обособленное Литовско-Русское государство[95]. Идеологи польской шляхты (в частности, Ст. Ожеховский), убежденные в превосходстве шляхетской демократии над любым общественно-политическим строем тогдашней Европы[96], рассматривали унию как некое благодеяние, приобщающее дворянство Литовского княжества («несвободных литвинов») к сословным привилегиям поляков («вольных поляков»). «Ты, литвин, — писал, правда, в 1564 г. Ст. Ожеховский, — ходишь в ярме от рождения или, как скованная уздой кляча, носишь на своем хребте своего господина, а я, поляк, парю, как орел без привязи, на моей прирожденной свободе под моим королем...»[97].
Однако в этом принципиальном пункте сочинение Михалона противостоит общей тенденции развития польской общественно-политической мысли. Мы не найдем у Михалона апологии шляхетских вольностей, осуждения тирании и одобрения дворянских привилегий, хотя не найдем и откровенных восхвалений сильной королевской власти, какие содержатся в другом литовском публицистическом сочинении середины XVI в — в «Разговорах поляка с литвином»[98], — написанном, вероятно, Августином Ротундусом. Так или иначе, сочинение Михалона Литвина не согласуется с характерным для шляхетской ментальности и идеологии культом свободы.
У него свой культ — «хороброй Литвы» времен Витовта, когда территория Литовского княжества была почти беспредельна и простиралась от Балтийского до Черного моря (фр. 3). Витовт, по мнению Литвина, — «наш герой», образ которого он сильно идеализирует, умалчивая о его поражениях, жестокости и суровости[99]. Это Витовт стоял у истоков ханской власти в Крыму, где своей «могучей десницей» «насадил род Гиреев». Примеру великого Витовта следует-де и современник Литвина эталон правителя Иван IV (фр. 3)[100]. Московиты заимствовали законы Витовта, которыми сами литовцы уже «пренебрегают» (фр. 4).
Прославление Витовта в трактате Михалона отвечает, с одной стороны, композиционному замыслу риторической антитезы, а с другой — вписывается в литературную и устную традиции, восходящие, вероятно, к концу XIV в. «Якож бы мощно кому испытати высота небесная и глубина морьская, то ж бы мощно исповедати силу и храбрость того славного господаря»[101], так гласила «Похвала Витовту» в благосклонных к нему литовских летописях. Польский хронист XV в. Ян Длугош, незаслуженно принижавший деятельность и личность двоюродного брата Витовта, польского короля Владислава Ягайлы, сравнивал Витовта с Александром Македонским; творивший почти полтора столетия спустя Н. Гусовский — с могучим зубром литовских лесов. В речи, произнесенной при возведении Александра Казимировича на великокняжеский престол и приписываемой Стрыйковским маршалку Литавору Хребтовичу, содержалась просьба следовать примеру Витовта, предпочитавшего «литовские обычаи итальянским, чешским и немецким»[102]. Наконец, в поэме Я. Радвана «Радивилиада» (1588 г.) дух Витовта побуждал Радзивилла черпать силы в славном прошлом[103].
Наряду с Витовтом Михалон прославляет и иных литовских князей-воителей. Он гордится легендарными походами предков «на стольный град Москов», с пафосом пишет о «победоноснейших знаменах отца вашего» (Сигизмунда I) (фр. 1), сокрушается о гибели в костеле св. Станислава трехсот старинных знамен, добытых в победах над роксоланами, москами и алеманами, в том числе и 12 знамен, добытых под Оршей в 1514 г.
Литвин приписывает литовцам главную роль в освобождении русского народа от власти баскаков. Высадившись якобы у Плотеле (местоположение которой он определил неверно), они-де покорили ятвягов, роксоланов (рутенов, уже зависимых от заволжских татар) (фр. 6). Тогда-то и распространили они свою власть от моря до моря, захватив Вязьму, Дорогобуж, Белу, Торопец, Луки, Псков, Новгород (фр. 5), а Миндовг получил корону и королевский титул.
Среди всех владений Литовского княжества Михалон выделяет Киев, краткое пребывание в котором настолько потрясло его, что и несколько лет спустя город представлялся ему райским местом. Литвин восхищается древними церковными памятниками, в частности Успенским монастырем, признанным центром православия, где стремились быть похороненными православные магнаты Литовского княжества и Русского государства.
В высшей степени интересные сообщения Михалона об иноземной торговле в Киеве, в том числе и караванной, о взимании торговой пошлины — осмничего, о штрафах в пользу города за его неуплату (что свидетельствует о сохранении городских вольностей в пределах княжества). Михалон отмечает зажиточность киевских жителей, обилие у них продуктов питания, шелка, перца, который в Киеве якобы дешевле соли, говорит о процветании представителей целого ряда профессий — откупщиков, менял, лодочников, извозчиков, трактирщиков, кабатчиков, не забывает он упомянуть о богатстве киевских наместников, взимавших пошлины с торговли и суда.
Интерес Михалона к торговой жизни Киева — типичная примета времени, когда дух меркантилизма проник и в Литву[104]. Открытие Америки, раздвинув горизонты государств, осваивающих новые земли, оживило и обмен со странами, поставляющими дерево, лен, пеньку. По Днепру, одному из участков старинного пути из варяг в греки, соединявшего Балтику с Черным морем, перевозили дерево, зерно, деготь, меха, воск, мед в обмен на железо, сукно, соль, металлы, предметы роскоши. Михалон предлагает для увеличения могущества государства, вернувшись к старым порядкам, сосредоточить прибыль от внешней торговли в руках великого князя, а не магнатов, эксплуатировавших все ее выгоды.
Литвин рассказывает о принятии христианства в Киеве, который, по его мнению, был «владением князей России и Московии». Это заявление очень любопытно. Хотя «Московии» еще не существовало в то время, когда возник Киев, но Литвин не сомневается в древности права московских князей на владение этой землей. В полном соответствии с «Сказанием о князьях владимирских» он со слов самих русских утверждает, что их великий князь — потомок Владимира, а потому и наследник владетеля Киева, «древней столицы царей» со «святынями их». Впрочем, Михалон одновременно с негодованием сообщает о намерении «князя москов» вернуть Киев. Ведь сохранение Киева — крупнейшего алмаза в короне великих литовских князей — одна из целей преобразований, предлагаемых им.
Михалон — сторонник реформ, которые укрепили бы Великое княжество Литовское. Его трактат — это попытка воздействовать на короля и общественное мнение своей страны с тем, чтобы повысить ее обороноспособность как со стороны Крымского ханства, так и со стороны Русского государства. По мнению Михалона, следует «постоянно обучать своих людей воинскому искусству», подобно тому, как это делает «страшный» для литовцев Иван IV.
Оборона государственной территории Литовского княжества во времена Михалона была насущной необходимостью. Многие окраины государства, становясь жертвой крымских набегов, теряли свое население. Проблема защиты южных и юго-восточных границ — это проблема сохранения не только рабочих рук, но и вообще населения Украины. Картина рынка рабов в Кафе, изображенная Литвином, написана кровью его сердца. К теме работорговли Михалон возвращается в своем трактате неоднократно. В первом фрагменте он особенно подробно сообщает, куда, следуя маршрутами работорговли, направляется поток рабов из Крыма, как используются они в Крымском ханстве и за его пределами. Вместе с тем Литвин не может не замечать, что поток беженцев из Великого княжества Литовского в Русское государство усилился. Чтобы поставить этому предел, он предлагает воспользоваться опытом соседнего Русского годарства, где бежавшим из плена, в первую очередь крымского, на родине обещана в зависимости от прежнего социального статуса: рабу — свобода, плебею — знатность. Если первое из этих утверждений полностью соответствовало исторической действительности (Судебник 1497 г.), то второе известно только из этого высказывания Литвина.
Вечно пустая казна Литовского княжества, заклады великокняжеских земель для покрытия дефицита — все эти проблемы были, вероятно, хорошо знакомы Михалону. И потому он призывает к экономии государственных средств, ставя в пример Русское государство, где посольства исполняются за собственный счет послов; где казна еще со времен Ивана III, отличавшегося бережливостью, занималась продажей мякины, сена и соломы. Его восхищение вызывает и устройство подорожной службы в Русском государстве. Сравнение ее с аналогичной литовской службой оказывается не в пользу последней: литовская канцелярия не скупится с выдачей подорожных, а в России они выдаются, по Михалону, только гонцам по государственным делам. Очень целесообразной представляется ему и военная система России, где каждый отправляется на военную службу по очереди. Михалон выступает с программой реорганизации военного дела в Литовском княжестве, но не видит иного выхода из сложившегося на родине положения, кроме укрепления феодальных отношений. Протестуя против привлечения наемного войска, он предлагает вернуться к раздаче земель воинам, в особенности в пограничных местностях, и посылать по очереди местных жителей на защиту границ, ссылаясь при этом, как всегда, на давние обычаи: «Предки Величества Вашего не гнушались подданными своими»[105]. В доказательство правильности своих идей о наемном и местном войске Михалон приводит трагическую судьбу Людовика Венгерского (Лайоша II), брошенного в битве при Мохаче (1526) наемниками и в результате погибшего, и спасение Казимира собственными воинами в битве при Хойнице в 1466 г. Аргументом против использования наемников для него является и пример «москов», которые не готовят в войско наемников, «не расточают на них деньги», «но стараются поощрять своих людей к усердной службе, заботясь не о плате за службу, но об увеличении их наследственного имущества» (фр. 8). «Наши же, — по словам Михалона, — презирают эту плату и предоставляют заниматься войной беглым московитам и татарам». Таким образом, он полагает возможным возвращение от товарно-денежных отношений к глухим временам феодализма.
Для упорядочения службы и обеспечения воинов землей Михалон предлагает провести «измерение всех земель и пашен, принадлежащих как дворянам, так и простым людям», и обложить всех одинаковой земельной податью, сделав так, чтобы «тот, у кого земли больше, больше и вносил бы». Это было покушение на одну из самых дорогих шляхте привилегий! Только однажды, в 30-е гг. XVI в., польская шляхта готова была согласиться на такой шаг. В другое время, даже в момент наивысшего подъема так называемого экзекуционистского движения, ратовавшего за восстановление королевского домена, укрепление казны и армии, реформу суда, польская шляхта, готовая поступиться некоторыми своими преимуществами, не допускала возможности возложить бремя оборонных расходов на шляхетские фольварки.
Михалон Литвин обращает особое внимание на новую военную силу — запорожское казачество, которое упорно рекомендует привлечь для охраны границ. При описании днепровских порогов он предлагает организовать здесь «защиту», использовав казаков, которые нападают на татар. Кроме того, он считает, что воинов можно набрать и в Киеве, «изобильном людьми». Насущной необходимостью представлялась Михалону и судебная реформа, поскольку система судопроизводства вызывала широкое недовольство в княжестве, как и в Короне Польской.
Михалон стоит на страже интересов малоимущего шляхтича, выступает против магната, имеющего другую подсудность, против которого невозможно найти низшего судебного исполнителя («аппаритора» — вижа). Он сетует на судебные порядки по уголовным делам, когда вор поступает в соответствии с феодальной юрисдикцией под суд своему же собственному господину, куда он нес краденое. Михалон высоко оценивает судопроизводство, принятое у татар, среди которых суду кадия повинуются «и знать, и вожди с народом равно и без различия.., а также все до единого живут по одному и тому же закону», Он приводит и другой, положительный, с его точки зрения, пример — суд Короны Польской. При этом Литвин противопоставляет судебные установления Короны Польской (Пиотрковский статут 1511 г.) и Великого княжества Литовского (статут 1529 г.), обнаруживая стремление уравнять положение польской и литовской шляхты. Критикуя законные и незаконные поборы в суде, передачу правосудия в руки частных лиц, недостатки существующих законов и процессуальных норм, Михалон Литвин выразил настроение широких — и не только шляхетских! — кругов общества Литвы. В этом его голос сливался с голосами решительных сторонников польского экзекуционистского движения. Еще одна сфера, нуждающаяся, по мнению. Михалона, в реформах, — это административная система. Монополизация власти в руках магнатов вызывает его филиппики о том, что «в Литвании один человек занимает десять должностей, тогда как остальные исключены от исполнения их» (фр. 9). Ему нравится система местной власти в Русском государстве, где срок управления одной крепостью ограничивается одним-двумя годами и осуществляется двумя наместниками и двумя дьяками, что якобы предохраняет от взяточничества.
В реорганизации, полагает Михалон, нуждается также и великокняжеская канцелярия. Он считает необходимым ввести книги для фиксации актов купли-продажи, упорядочить разбор тяжб и т. д.
Программе внутренних реформ и усовершенствований соответствует предлагаемая Литвином программа морально-этическая. Прежде всего, по Михалону, следует восстановить добрые нравы в ВКЛ, которое сгубили неумеренность и пьянство (фр. 3). Трудолюбие, любовь к порядку, храбрость и умеренность — вот те достоинства, которыми, по мнению Литвина, «упрочиваются королевства». Все эти качества не воспитывают «московитские письмена, не заключающие ничего из древности, не имеющие ничего, что бы побуждало к доблести» (фр. 5).
Однако не стоит преувеличивать реализм всех предложений Михалона Литвина и в особенности его критических замечаний обращенных к повседневной действительности, к обыденной жизни Великого княжества. Публицистическое произведение Михалона по временам приобретает черты памфлета[106]. Вряд ли в XVI в. всерьез воспринимались слова Михалона, что «нет в городах литовских более часто встречающегося дела, чем приготовление из пшеницы пива и водки», что «крестьяне, забросив сельские работы», идут в кабаки и пируют там дни и ночи, что день начинается питьем водки, что в суде царит беспредельное взяточничество, молодежь коснеет в праздности, женщины надменны и часто повелевают своими мужьями и пр. Далеко не такой неэффективной была система судопроизводства в Великом княжестве Литовском, далеко не такими изнеженными и расслабленными нравы, далеко не таким бессильным войско. Обвинения в невоздержанности, в беспробудном каждодневном пьянстве, в объядении, сладострастии, безмерном корыстолюбии, безграничной любви к роскоши и прочих пороках — не более чем публицистический прием, полемическая гиперболизация. Она, как легко заметить, сочетается с идеализацией государственного устройства, общественного и частного быта Крымского ханства и Русского государства. Татары наделены чуть не всеми возможными добродетелями. На первый взгляд, это тем более странно, что Михалон Литвин был близко, а не понаслышке знаком с жизнью и татар и русских. Например, Сигизмунд Герберштейн, чьи «Записки о Московии» появились в те же годы, когда Михалон Литвин создавал свой труд, совсем иначе, чем Михалон, трезво и реалистично писал о татарах, утверждая, что «правосудия у них нет никакого» (а Михалон считал, что «они свято чтут у себя мир и правосудие»), что «это люди весьма хищные и, конечно же, очень бедные, так как всегда зарятся на чужое, угоняют чужой скот, грабят и уводят в плен людей» и т. д. Сходным образом характеризует татар и Матвей Меховский[107]. Особенно примечательна зеркальная оппозиция слов Герберштейна о том, что татары «пресыщаются сверх меры», «спят по три-четыре дня подряд», а «литовцы и русские», «откинув всякий страх, повсюду поражают их»[108] и слов Михалона: «Враги наши татары смеются над нашей беспечностью, нападая на нас, погруженных после пиров в сон. “Иван, ты спишь, — говорят они, — а я тружусь, вяжу тебя"». Чем же были порождены безмерная идеализация татар и столь же преувеличенный критицизм в отношении литовцев в трактате Михалона? Ответ на этот вопрос — в самой исторической действительности. XVI век — время больших перемен в общественно-политической жизни и каждодневном быту всей Восточной Европы, в том числе и Польши и Великого княжества Литовского. Сдвиги, затронувшие все без исключения стороны жизни, породили богатейшую публицистику, проникнутую чувством тревоги за будущее и морализаторским обличительством мнимых и реальных пороков общественной и частной жизни. Трактат Михалона — свидетельство того, что в литовской общественной мысли вырабатывались новые идеалы и ценности, опирающиеся на античные образцы и порывающие со средневековьем. И чем возвышеннее и недостижимее был идеал, тем острее и непримиримее была критика современности. Критицизм Михалона, таким образом, становится полностью понятен только в свете противопоставления действительности и. идеала.
Правда, при характеристике идеала, положительной программы Михалона Литвина возникает очередная сложность. Она состоит в следующем. Середина XVI столетия — время, когда создавалось сочинение Михалона Литвина, — это и время расцвета Возрождения в Польше и Литве. Однако век его был короток. Начавшись позже, чем в странах Западной Европы, оно быстрее уступило место культуре барокко и в самом себе несло черты неполноты, незаконченности и преждевременных противоречий. Возрождение в Великом княжестве Литовском и Польше складывалось на неадекватной по сравнению с Западной Европой — основе. Его питательной средой были не столько города, сколько фольварки, не столько горожане, сколько шляхта. Поэтому и идеалы, образцы, ценностные ориентации польской и литовской культуры Возрождения отмечены печатью сословной ограниченности, шляхетско-феодальной идеологии. Самыми характерными выражениями этого был сарматский миф, сарматизм в Польше[109] и римская легенда в Литве.
Преклонение перед античностью характерно было для всего европейского мира эпохи Возрождения. Для образованных людей того времени их собственный мир был продолжением античного, а современные государства — преемниками и носителями римской власти, наследием Римской империи. Стоит вспомнить хотя бы Фр. Петрарку, стоявшего у истоков итальянского гуманизма: «Что же есть вся история, как не римская слава?»[110]. Согласно сарматской легенде, польская шляхта генетически восходит к сарматам (т. е. ираноязычному населению степей от Тобола до Дуная III в. до н. э. — IV в. н. э.). Сарматы участвовали в войнах понтийского царя Митридата против Рима в I в. н. э. В античной литературе этого времени территория Скифии стала именоваться Сарматией. В польской же литературе эпохи Возрождения, в которой античность становилась синонимом всего наидостойнейшего, наиславнейшего, героического, требующего восхищения и подражания, сарматы уже по соотнесению с античным Римом были отождествлены с римлянами. Согласно легенде, изложенной Яном Длугошем еще в XV в., сармат (римлянин) выступает прародителем шляхты[111].
Параллельно с польским «сарматским» мифом в Литве формировался «римский». Немецкий хронист Петр Дусбург в XIV в. сообщал о сражениях пруссов, родственных литовцам с воинами Цезаря. К Риму возводил он и название древнего святилища пруссов и литовцев Ромове[112]. Длугош в «Истории Польши» упомянул о происхождении литовцев от римлян[113]. Вплоть до XVI в. бытовали и другие предания, согласно которым древние литовцы-пруссы воевали не только с Цезарем, но и с Александром Македонским или же были потомками воинов этих полководцев. В качестве прародителей литовцев в легендах фигурировали иногда геты, аланы, готы[114].
Польская традиция XV в. сохранила несколько вариантов легенды о литовцах как потомках древних римлян. Вероятно, в этом нашел выражение интерес различных общественных кругов к новой правящей в Польше литовской династии Ягеллонов[115]. Ректор Краковского университета Ян из Людзишки в своем приветствии новому избранному в 1447 г. королю Казимиру Ягеллону высказал надежду, что король из династии, происходящей от римских консулов и преторов, сумеет ограничить произвол светских и духовных магнатов. Один из первых гуманистов Польши Ян Остророг в речи, обращенной к папе Павлу II, не только восхвалял природу Польши (включая в нее и Литву), но и прославлял победы древних жителей этой земли над Юлием Цезарем: они-де сумели отвоевать его город (город Юлия), то есть Вильнюс. Идеи Остророга — сторонника независимости от папства были отвергнуты в Италии. Впрочем, там не усомнились в возможности контактов гетов-литовцев с римлянами[116]. Распространялись в это время и легенды о битвах гетов с Александром Македонским. В них соединилась античная традиция с библейской (о гетах-даках как потомках Яфета). В целом все эти легенды[117] относились, по определению М. Рочки, к монархической модели теории о римском происхождении литовцев: основатели национальных династий возводились к Юлию Цезарю. Существовала и другая модель — республиканско-аристократическая, которая связывала литовцев с Помпеем, противником Цезаря.
Уже само обращение к имени Помпея придавало легенде в глазах современников иную, «республиканскую» направленленность, выражавшую интересы аристократических кругов. Именно эту версию изложил Ян Длугош в своей «Истории Польши»: развивая теорию Петра Дусбурга, он указал, что Ромове было основано бежавшими от преследований Цезаря сторонниками Помпея. Даже название «Литуаниа» (Litvania или Lituania) он возводил к искаженному «l'Italia». Но не только топонимы свидетельствовали, по Длугошу, о римском происхождении древних литовцев: он привел и факты сходства языка, обычаев и верований (почитание одинаковых богов, огня, грома, леса, культ Эскулапа)[118]. Хотя труд Длугоша остался ненапечатанным (по причине негативного отношения к правящей династии и самого хрониста и его могущественного покровителя Збигнева Олесницкого)[119], он оказал заметное воздействие на формирование римской легенды происхождения литовцев[120]. Так, по политической направленности к легенде, изложенной Длугошем, весьма близка версия литовских летописей: согласно ей, во времена Нерона от его жестокостей бежали 500 римских семей во главе с Палемоном. От них-то и произошла не только правящая династия, но и наиболее могущественные литовские фамилии XVI в.[121] Рочка показал, что в фантастическое повествование для придания ему некоторой правдоподобности внесены и реальные имена: Палемон был правителем Понта и Босфора. После войн Рима со скифами, опустошившими Крым, он покинул свои владения, превращенные в римскую провинцию[122].
Михалон сознательно избирает «цезаристский» вариант легенды. Он отвергает легенду о Палемоне, хотя версия ему известна[123], не приводит никаких фантастических генеалогий аристократических литовских родов, восходящих к римлянам. Литва у него — это завоеванная воинами императора провинция, подобная Дакии — Валахии — Румынии[124]. Переселение же этих воинов он приурочил к событию, действительно имевшему место, — к буре, разметавшей суда воинов Цезаря, направлявшихся в Британию. Вместе с тем в трактате не приводится полновесных доказательств происхождения литовцев от римлян:
Литвин пропустил сходство культа земли у этих народов, не сообщил о распространении в Литве близкого к культу Эскулапа бога Аушаутаса. Весьма своеобразна его позиция по отношению к язычеству. Его современники — защитники католичества (Гусовский — автор знаменитой «Поэмы о зубре»[125]) или протестантизма (Мажвидас)[126] — резко осуждали язычество. Михалон же исполнен гордости за литовский народ, сохранивший древнюю веру предков, что также, по его мнению, роднило. литовцев с римлянами. Сочетание христианской веры с гордостью за сохранение язычества — любопытная черта своеобразной ментальности образованного литовского дворянина середины XVI в., отнюдь не догматически воспринимавшего религиозные каноны и догмы. Такой взгляд на древние обычаи и мифологию является попыткой использовать культурный опыт народа в патриотических целях.
Михалон не привел новых сравнительно с предшественниками доказательств родства литовцев и римлян. Особое внимание, подобно Длугошу, он обратил на сходство латинского и литовского языков, однако его параллели с точки зрения современного языкознания некорректны: он сопоставляет слова в различных грамматических формах (в именительном на латинском языке и родительном на литовском).
С теорией о римском происхождении литовцев тесно связано и резко отрицательное отношение Михалона к чуждому «рутенскому» языку, московитской письменности, употреблявшихся и в делопроизводстве, и в законодательстве, и в суде. Наряду с «рутенским» бытовала и латынь, она была языком международных договоров с западными странами, языком важнейших общеземских привилеев, документации католической церкви. Все большее значение приобретал и польский язык. На середину XVI в. приходится образование литовского литературного языка и формирование литовской интеллигенции, говорившей на нем (впрочем, и до этого литовский язык звучал на заседаниях Рады панов и в судебных учреждениях)[127]. Большую роль в Этом отношении сыграло издание в 1547 г. первой книги на литовском языке — «Катехизиса» M. Мажвидаса[128]. Будущее, конечно, принадлежало национальному языку, но распространение латинского обогащало и его и всю литовскую культуру Копытом античности, активно включало Литву в круг европейских народов, применявших латынь[129].
Михалон был не одинок в прославлении языка предков — латыни[130]. О тождестве этих языков писал его сын Венцлав Агриппа. В обращении к Стефану Баторию в 1583 г. в предисловии к латинскому переводу Литовского статута (Epitome principum Lithuaniae), вероятно, написанном А. Ротундусом, также проводилась мысль о необходимости возвращения к латинскому языку и резкой критике были подвергнуты сторонники использования польской письменности. Во всех этих сочинениях отчетливо прослеживается идея литовского национального самосознания.
В целом легенда об итальянском происхождении литовцев, составляющая смысловую и аксиологическую ось всего трактата Михалона, важна не только сама по себе как причудливый поворот в становлении и развитии исторического сознания и самосознания литовской шляхты, но и как попытка обособить литовцев среди других народов Восточной Европы, найти для них отдельное место, на ее этнической карте отыскать как можно более древних предков, возвысить себя в собственных глазах по праву наследования древнеримских добродетелей и доблестей. Эта легенда, соположенная сарматскому мифу польской шляхетской культуры, противостояла теории римского происхождения русских великих князей и царя, согласно которой Рюрик причислялся к потомкам Августа кесаря. Русская монархическая легенда, как и один из вариантов литовской римской, была соединена с библейским мифом. Зафиксированная в 20-е гг. XVI в. в «Сказании о князьях владимирских», она с тех пор неизменно излагалась русскими дипломатами на всех переговорах с литовскими и польскими послами. Легенда об Августе кесаре в 80-е гг. XVI в. проникла и в польскую литературу[131]. Возводя всех литовцев к римлянам (подобно Стрыйковскому, который находил филологические доказательства древности народа и связи литовцев с сарматами: литуаны — это лит-аланы — племя, соседствующее с германцами, гетами, сарматами[132]), Михалон Литвин тем самым нейтрализовал доводы русской стороны о древности их государей. Ведь для Михалона, как и короля Сигизмунда-Авуста, царь Иван IV оставался лишь великим князем; Михалон называл его «верховным» — «sumus dux». В Литовском княжестве считали, что русские князья подвластны литовскому князю: здесь никак не могли забыть условий соглашения Василия I с Витовтом, согласно которому предусматривалась опека литовского князя над наследником московского великокняжеского престола. Михалон Литвин счастливо связал в единой мифологеме постулаты этнического самоопределения с ренессансно-гуманистическими по духу идеями. Для него существенно не только то, что «рутенский язык чужд нам, литвинам, то есть итальянцам, происшедшим от италийской крови», но и то, что «московские письмена», в отличие от латинского, «не побуждают к доблести», в то время как доблесть составляет едва ли не главное качество, унаследованное литовцами от римлян. Именно доблесть позволила «нашим предкам, воинам и гражданам римским», соратникам Юлия Цезаря, претерпеть все невзгоды и опасности, долгое время «жить в шатрах с очагами, по военному обычаю», а потом покорить ятвягов и рутенов, избавив последних от власти заволжских татар (фр. 6). Потом они распространили свое владычество «от моря Жемайтского, называемого Балтийским, до Понта Эвксинского», создав громадную державу[133]. Согласно этой легенде, уже Миндовг принял «святое крещение», корону и королевский титул, хотя «по смерти его как титул королевский, так и христианство погибли», пока не возродились в годы Кревской унии 1385 г.[134]
Миф об итальянском происхождении литовской шляхты и органически связанный с ним социально-этический идеал составляют ключ ко всему трактату Михалона Литвина. Идеализация татар и русских и столь же преувеличенная критика литовских порядков и могут быть поняты только в связи с названным мифом-идеалом. Нетрудно заметить, что на татар распространены те же черты, какие приписаны и легендарным предкам литовской шляхты: воинская доблесть, бескорыстие, воздержанность, бесстрашие, справедливость.
Подобно И. С. Пересветову, обратившемуся в поисках образца к Османскому султанату[135], внешнеполитические успехи которого были не только очевидны, но и поразительны, так что состояние этого государства представлялось почти идеальным, Михалон Литвин стал поклонником Крымского ханства. Сравним, как Михалон характеризует древних литовцев и как — крымских татар. «Предки наши избегали заморских яств и напитков. Трезвые и воздержанные, всю свою славу они мыслили в военном деле, удовольствие — в оружии, лошадях, многочисленных слугах, во всем сильном и храбром...». Теперь же татары превосходят литовцев всеми этими добродетелями: «трудолюбием, любовью к порядку, умеренностью, храбростью и прочими достоинствами, которыми упрочиваются королевства». Они не заботятся о приобретении имущества, живут в соответствии с суровыми заповедями Ветхого завета.
Почему стало возможным такое, казалось бы, очень неожиданное, перенесение черт античной доблести и римских добродетелей на степняков-кочевников? Причина этого кроется не столько в действительном превосходстве крымских порядков[136], сколько в остром недовольстве литовскими реалиями. Вся Европа от Франции (где с 1480 до 1609 г. появилось более 80 книг, посвященных туркам)[137] до Германии, Польши и Венгрии к середине XVI в. испытывала не только страх и ненависть перед Османской империей, но и любопытство, переросшее в острый интерес и во многих случаях в восхищение и своеобразное туркофильство. Ульрих фон Гуттен надеялся на турецкую реформацию, Т. Кампанелла и Ж. Боден советовали подражать турецким порядкам. Лютер отдавал предпочтение турецкому духовенству в противовес католическим священникам. Т. Спандужино восхищался высокоорганизованным и прекрасно управляемым Османским государством[138]. Даже в Польше, где очень сильны были антитурецкие настроения (их разделяли Ст. Ожеховский, М. Бельский, X. Варшевицкий, П. Грабовский и др.), слышались голоса восхищения турками. Одних, как гетмана Я. Тарновского, пленяли армейские порядки и вооружение турок, других, как М. Рея, — отсутствие наследственных сословий (стихотворение «Турчин»), третьих, как Э. Отвиновского, попавшего в 1557 г. в Стамбул, — возможность стать господином за заслуги и мужество («там господами не рождаются», — писал он).
В неудовлетворенности литовской действительностью лежат и причины восхищения Литвина русскими, их порядочностью и рассудительностью. Михалон прославляет умеренность в России, где якобы не едят пряностей, не пьют вина, но продают его в Литву. Неверно и его известие об отсутствии в России кабаков. Неумерен его восторг по поводу творений Василия Дмитриевича Ермолина в Московском Кремле, которые он сравнивает с Фидиевскими (он пишет о «кремле и дворце с камнями по образцу Фидия», фр. 3). И на этот раз он верен себе, обращаясь к античному образцу. Пожалуй, единственный раз он сообщил точно, что в великокняжеском дворце пьют из золотых чаш и ковшей. Действительно, 18 февраля 1537 г. по окончании столь неудачных для России переговоров великий князь Иван IV, семилетний венценосный «статист», старательно выполняя отведенную ему русским дипломатическим ритуалом роль, собственноручно поднес литовским послам напитки — «фрязские вина и вишневые и малиновые меды в ковшах и в чарах в золотых»[139]. В тот же день послы ходили в «Пречистую», то есть Успенский собор Московского Кремля. Известия о дипломатическом ритуале написаны по собственным, увы, не богатым на реалистические детали воспоминаниям Михалона Литвина.
Татаро-и отчасти русофильство Михалона, объясняющиеся общей тенденцией развития общественной мысли и указывающие на принадлежность его сочинения к гуманистическому направлению в литовской культуре XVI в. со свойственной эпохе Возрождения открытостью навстречу новому, неизвестному, готовностью использовать чужой опыт, уважением к другим культурам, не избавило автора от убеждения в превосходстве собственного народа над соседями. Это чувство «просвечивает» по всему тексту. Татары своими военными успехами обязаны «уловкам и... хитростью», «коварству», род москвитян «хитрый и лживый» (фр. 1), жители Северской земли, почти добровольно перешедшие под власть Ивана III в конце XV в., — «люди коварные и вероломные, всегда неискренние и ненадежные» (фр. 9). Столь же нелестных характеристик, по преимуществу с религиозной точки зрения, удостаиваются и евреи. Горечь военных поражений, чувство отчаяния от безысходности внутреннего положения своей родины толкали Михалона к критическим характеристикам иных народов[140]. Впрочем, это картина, знакомая по всем кризисным временам.
Неадекватные характеристики соседей и этносов дополняются у Литвина уверенностью в преимуществах собственного народа: «сколько бы ни встречались с ними (татарами. — Авт.) в этом столетии наши люди, выходило на поверку, что мы сильнее» (фр. 1); «москвитяне и татары намного уступают литвинам в силе» (фр. 1). В этом своеобразном патриотизме Михалон черпает уверенность в возможности преодоления кризиса в литовском обществе. И это до боли знакомо... В советской научной литературе Литвину до сих пор отводилась роль защитника угнетенных крестьян и горожан, выразителя «их протеста против феодального засилья и жестокой эксплуатации». Ему приписывался идеал равенства сословий, требование их равного участия в государственном управлении, взгляд на труд как на основу процветания общества и государства[141]. В сочинении Михалона Литвина усматривалась даже «идеализация общества, где нет частной собственности и социальной несправедливости»[142]. Социальные идеалы Михалона, как и его политические воззрения, не могут быть рассмотрены вне сконструированного им мифа и без учета риторических элементов его сочинения. Характеристика образа жизни татар как «патриархального, пастушеского, какой некогда, в золотой век, вели святые отцы, и из них также выбирались народные вожди, короли и пророки», следуя «совету Соломона», вполне соответствует общему пафосу его сочинения. И когда Михалон говорит об отсутствии у татар «недвижимого имущества... кроме колодцев», и об их воздержании и умеренности, об отсутствии среди них воров, клятвопреступников и т. д. — все это не более чем ностальгическая дань мифу о добрых старых временах, сохранившихся у соседей и обязательному для него риторическому красноречию. Аналогичные высказывания принадлежат тем идеологам польской шляхты, которых никак не заподозрить в симпатиях к сословному эгалитаризму и неприятии феодального строя[143]. Вряд ли Михалон и его читатели воспринимали подобные идеалы всерьез, вне их литературно-публицистической обработки. Такие идеи, оставаясь недостижимыми и утопическими мечтаниями о «золотом» невозвратном веке, не составляли программы, социальных преобразований. «Речь шла не о программе реформ, отвечающих новой ситуации и новым требованиям, не о трезвом анализе социальной действительности, но о мифологизировании ее при помощи риторики громких слов и пафоса, подражающего римской традиции, которую приспосабливали к положению Польши»[144]. Но даже в этих идиллических мечтаниях нет призыва к сословному равенству, а только несбыточная надежда на социальную гармонию различных сословий.
Есть, правда, в социальном обличительстве Михалона и вполне реалистические мотивы. В частности, речь идет об осуждении им с нравственно-христианских позиций института рабства и крепостного права. Михалон не предлагает уничтожить самого института холопства. Он ограничивается лишь указанием на пример крымцев, которые якобы справедливо обращаются с рабами и не держат их в рабстве более семи лет, и «Московии», где холопов якобы казнит столичный судья или судьи. «А мы держим в вечном рабстве [людей], не добытых в сражении или за деньги, не чужеземцев, но нашего рода и веры, сирот, бедняков, состоящих в браке с невольницами». Не вполне ясно, касались ли слова Михалона только рабов (а такие существовали в Литве и признавались Литовским статутом 1529 г.[145]) или они распространялись и на крепостное крестьянство. Во всяком случае, обличая крепостные или еще более тяжкие формы зависимости, Литвин выступал вместе с целой когортой польских публицистов (а в конце XVI в. к ним присоединились иезуиты), которые требовали ограничить крепостное право и Условное всевластие феодалов[146].
«Фрагменты» Михалона — памятник не только общественной мысли и дворянской идеологии, но и особой шляхетской ментальности. В нем отразились некоторые базовые, неотрефлексированные и не идеологизированные стереотипы сознания среднего литовского дворянина, прошедшего, правда, через горнило университетского образования и приобщившегося отчасти к гуманистической культуре.
Характерен в этом отношении идеал единообразия и некоторого уравнительного опрощения, выраженный Михалоном. Ему импонирует, что татары «обнаруживают равенство и однообразие одежды, и сходным образом жизни», просты у них также правосудие, и управление, и семейная жизнь, и религия, и патриархальные отношения между людьми, старшими и младшими. Правда, как можно приметить, этот эгалитаризм и униформизм предусмотрены только для простолюдинов. Эта «простота» входила в систему ценностей, исповедуемых польско-литовской шляхтой в XVI в. Наряду с ней ценностными ориентирами выступали мужество, воинственность, суровость, гражданская ответственность, справедливость, преданность, открытость, умеренность в потребностях, личное достоинство, сословная солидарность и пр.
Сочинение Михалона дает возможность познакомиться и с его представлениями о женщине, семье, любви и их месте в жизни общества и человека. Он весьма противоречиво, вопреки христианской морали и традиции (но со ссылкой на Библию), оправдывает институт многоженства, подходя к нему прагматически и поставив во главу угла потребность государства в воинах. Более того, если поверить Михалону, то многоженство делает татар счастливыми в супружестве, не вызывая у женщин ни протеста, ни ревности. Татары и московитяне удостаиваются похвалы за то, что «не дают женщинам никакой воли». Михалон считает постыдной власть женщины даже внутри дома. Один же из пороков литовской жизни он видит в том, что женщины надменны, стремятся быть богатыми и красивыми. Страшнее же всего власть и богатство, которыми иногда оказываются наделены женщины. Михалон критикует и порядок, при котором женщинам принадлежат многие крепости, в то время как их «следует вверять только сильным духом мужчинам».
Он поднимает голос и против установлении Первого литовского статута, который предусмотрел выделение женщинам в качестве приданого части наследства. Критика всевластия женщин в трактате Литвина была, вероятно, направлена и против вдовствующей королевы-матери Боны, от опеки которой Сигизмунд II Август мечтал избавиться.
Михалон, выразив формальное сочувствие к «бедным» женщинам, содержимым татарами взаперти, бесправным и принуждаемым к нелегким домашним работам, тем не менее не может не позавидовать постоянству, послушанию, согласию друг с другом, равнодушию к наложницам и целомудренности татарских жен, с одобрением отзываясь о смертной казни за прелюбодеяние. Такой откровенный антифеминизм — редкость для шляхетской культуры XVI-XVII вв.[147] Неожиданного единомышленника Михалон сыскал лишь в Анджее Фриче Моджевском, который одобрял ношение чадры и вообще зарекомендовал себя ригористом в вопросах семьи и брака[148]. В целом шляхетской культуре было свойственно либеральное и снисходительное отношение к вопросам пола и эротики, а женщины пользовались равноправием, большой свободой и «были окружены в шляхетском обществе почитанием и даже своеобразным культом»[149]. Антифеминизм Михалона Литвина выглядит на этом фоне анахронизмом, подчеркивающим лишний раз различия между литовской и польской шляхтой.
Можно ли говорить о религиозной и национальной терпимости Михалона? Навряд ли. Апологетическое, хвалебное отношение к мусульманству продиктовано жанром произведения и избранным публицистическим приемом. Оно не мешает Михалону назвать мусульманские представления о рае «скотским заблуждением» и в высшей степени враждебно отзываться о евреях. Утилитарное отношение к религии было, разумеется, чуждо религиозному фанатизму, но не более того. Принципы Михалона отвечали умонастроениям основной массы шляхты и не вполне вписывались в ту «модель мира», которая была создана лучшими представителями польского дворянства, отстаивавшими принципы веротерпимости. В отношении же к евреям, которые воспринимались прежде всего как иудеи, решающим был религиозный, а не этнический момент, и Михалон в данном случае отразил общую черту шляхетской ментальности в восприятии этой группы населения[150].
Мотивы и идеи, порожденные гуманистической культурой, использование античных образов, реминисценции античной философии и риторики (характерна в этом отношении стоическая по духу речь польского пленника, обращенного в раба) — все это присутствует в сочинении Михалона Литвина. Равным образом ему не чужды и реформационные настроения, хотя скорее эразмианского, чем лютеровского толка.
Михалон Литвин являет собою пример хорошо образованного, сформировавшегося под влиянием гуманизма и реформационных идей шляхтича-прагматика, политика, публициста. Ренессанс воспитал в нем гражданина, надеявшегося на применение в государственно-политической практике некоторых принципов гуманистической культуры[151]. Однако уже в сознании самого Михалона Литвина ценности и идеалы гуманизма вступали в противоречие со стереотипами шляхетской ментальности. В целом сочинение Михалона Литвина может быть прочитано как памятник складывающегося литовского самосознания, особой, шляхетской гражданственности, освобождающейся от сословного эгоизма, гуманистически-реформационного настроения,. стремящегося ответить на общественные потребности эпохи перехода от средних веков к Новому времени.
От переводчика
Текст фрагментов Михалона Литвина представляет немало трудностей для перевода. Главная из них вызвана именно фрагментарностью источника: отсутствие в отдельных случаях более широкого контекста делает невозможным проведение аналогий в употреблении тех или иных латинских слов, имеющем у Михалона (как, впрочем, у большинства авторов, писавших на вульгарной латыни) ряд особенностей, диктуемых своеобразием его родного языка. Известную трудность представляет и то, что памятник сохранился лишь в единственном печатном варианте, содержащем ряд синтаксических искажений, орфографических ошибок и, по-видимому, пропусков, возникших в результате сокращений. Установить их причину и восстановить первоначальное написание можно было бы только при наличии оригинального текста. Все это ведет к неоднозначности толкований ряда мест источника. Об этом свидетельствуют и переводы фрагментов Михалона на русский язык, выполненные в XIX в.
Переводчик старался быть максимально близким к первопечатному тексту, стремясь в то же время к адекватному, а не дословному переводу. В ряде случаев ему приходилось прибегать к помощи предшественников, так как некоторые трактовки прочно вошли в научный обиход, став традиционными.
Следует особо оговорить перевод имен собственных. Все топонимы, гидронимы, этнонимы и антропонимы текста переведены на русский язык или даны в русифицированной форме. Однако в силу лингвистических особенностей памятника часть названий пришлось транслитерировать. К ним относятся: искаженные топонимы, гидронимы и этнонимы: топонимы, географическое содержание которых спорно (например, под Алеманией можно понимать как Швабию, так и Германию в целом); названия, которые вошли в научную литературу (например, Танаис, Борисфен, роксоланы). Все спорные моменты, связанные с названиями, читатель найдет в комментарии к тексту.
Выражаю искреннюю благодарность кандидату филологических наук, доценту Н. А. Федорову (филологический факультет МГУ) за помощь, оказанную в работе над переводом, и научному сотруднику, кандидату исторических наук И. П. Старостиной (Институт российской истории РАН) за консультации по истории литовского права.
Его Сиятельству Октавиану Александру, князю Пронскому, владыке Берестечка и Рязани и т. д. всемилостивейшему господину моему
Сколько бы раз, сиятельнейший князь, я ни участвовал в твоих дружеских беседах, которыми ты меня милостиво удостаивал, обсуждая вопросы теологии и истории, столько раз я молчаливо внимал тебе и восхищался героической душой твоей, и не могу не вспомнить то божественное высказывание: «Великий принцип доблести [состоит в том], чтобы, постепенно закаляя душу, сначала изменять зримое и преходящее, дабы после этим можно было пренебречь. Сколь мягок тот, кому любезно отечество, стоек тот, кому весь мир — отечество, и совершенен тот, кому мир — чужбина». Ибо, покидая отечество, любовно лелеевшее тебя до юношеского возраста в светлейшие правители, с Юлием, братом твоим единственным, которого Господь вот уже два года тому, как призвал в небесное отечество, в Марселе, ты достиг не только отдаленнейших земель Польши, но и самых дальных пределов Германии, где, часто посещая лекции, диспуты и промоции многих прославленных докторов, коими некогда был весьма знаменит Базель, куда ты вот уже несколько лет подряд приезжаешь с таким желанием учиться славным делам, чтобы в тех церквах, которые Господь в обширнейших владениях твоих избрал почетнейшими для Себя, мы могли бы по праву возрадоваться, что у них будет благодетель, столь разносторонний в доблести и учености; с великой радостью обозрел ты и Францию, Италию и Испанию вплоть до Балеарских островов, чтобы по величию ума твоего из первых рук получить уникальное и восхитительное знание языков, а также нравов и законов этих стран.
А самым действенным стимулом для таких героических дел было благоговение перед памятью твоих предков. Ведь каков, Господи, был отец прадеда твоего Рюрик, могущественнейший князь всея Руси, оставивший двенадцати своим сыновьям семь величайших княжеств, а именно: Киевское, Владимирское, Галицкое, Черниговское, Переяславское, Рязанское и Пронское.
Прапрадед твой, владевший Рязанским и славнейшим Пронским княжеством, оставил потомкам светлейшее имя «Пронский».
Прадеду твоему, Георгию Пронскому, Казимир Великий, король польский, оказал ту честь, что, когда князя пленили татары, он освободил его, отправив авустейшее посольство, и со всяческими почестями препроводил в Литву, в Вильну, и послал его с войском на москвитян, а за одержанную победу и другие выдающиеся заслуги перед отечеством и помощь всему королевству даровал ему обширнейшие владения. Женат он был на светлейшей княгине Соломерской, прославленной героине.
Брат его, коему он великодушно возместил ущерб, причиненный при дележе наследства, был женат на сестре великого князя московского, от которой имел двоих сыновей. Потом в минувшем столетии один из них, на свои средства снарядив три тысячи всадников, повел их на помощь великому князю московскому против Стефана Батория.
Эти два брата, как и их предки, назывались великими князьями пронскими, как явствует из множества договоров и привилегий литовской канцелярии, ибо князья пронские заключали договоры и союзы с королями Польши.
Прапрадед твой Глеб взял в жены дочь тиуна виленского из рода Подбипентов. Он погиб близ Минска в жесточайшей битве с татарами.
Прадед твой, основатель города Белая Церковь, за оказание различных услуг государству Польскому был удостоен воеводства киевского и многих префектур в пределах российских.
Дед твой, Фридрих, воевода киевский, был женат на дочери Богуша Боговитиновича, казначея Великого княжества Литовского, великого человека, весьма чтимого иноземными государями. Сестра ее сначала была замужем за Тенчинским, воеводой краковским, а потом за виленским княжеским воеводой Радзивиллом. От него, по воле Божией, родила она Иоанна, который умер в Дании, и светлейших князей Слуцких, а именно: Георгия, Симона и Александра.
Зятем этого деда твоего был славнейший сенатор вашего королевства г. Иоанн Зборовский, кастелян гнезненский, силы которого сослужили добрую службу королю Стефану Баторию в Гданьской битве.
Отец же твой, Александр, князь Пронский, почти все свое отрочество и юность провел за пределами отечества, отдавшись естественной склонности к изучению языков, изящных искусств и нравов и разных доблестей, а потому он был всю жизнь меценатом и покровителем не только словесности и писателей., но и вообще любой полезной науки, чем вызывал всеобщее восхищение; когда же он достиг зрелого возраста, начала героических доблестей его, то при дворе Карла IX, короля франков, словно в величайшем театре мира, являл зрелища разным народам.
Вернувшись в Польшу, во время избрания нового короля, за любовь к отечеству и за божественное совершенство высших доблестей, которым дивились все герольды короля, он был введен в сенат, назначен кастеляном тракайским и по единодушному согласию Великого княжества Литовского избран легатом во Францию с воеводой виленским, чтобы просить короля Генриха стать правителем королевства Польского. Не было ни одного человека во всей Польше, который не знал бы, какую он стяжал у него милость.
Сколь ревностным был он к любым задачам отечества, тому свидетельством Полоцк, Псков и пр., ведь, на свои средства снарядив весьма многочисленное войско, он привел его к королю Стефану. Не было ни одного татарского нашествия, которому он не противостоял бы своим героическим фронтом, защищая благоденствие отечества не только советами, но и с мечом в руках. Свидетельством тому вся Волынь и Русь; свидетельством тому Олиско, где со своим небольшим отрядом воинов и придворных он напал на татарские когорты и, сражаясь два часа, между прочим, своими руками убил одного яростно оборонявшегося татарского Полифема и одержал победу.
Славит светлейшее имя этого Александра Редка, где он захватил великое множество врагов. Трофеи можно видеть в Берестечке. Известны и многие другие места, где татары не дремали, зная, что герой Пронский неподалеку.
Одним словом, благочестивейший отец твой сослужил добрую службу не только отечеству, но и всему миру христианскому и нередко усмирял варваров-язычников. Не останавливали его великие расходы, не щадил он своей головы. Все дела свои и людей своих посвящал он Господу и отечеству, а душа его была исполнена веры.
Достойны величайшей хвалы следы, оставленные предками твоими, чтобы ты следовал по ним к желанной твоей цели. Да придаст тебе мужества и приободрит тебя пример славного и великого героя г. Рафаэля Лещинского, графа лешненского и пр., воеводы брестского и куявского, кастеляна вислицкого и пр., который среди знати королевства вашего более всех выделялся доблестью, образованностью и упорным стремлением неустанно двигаться вперед во славу Божию, ради покоя церкви и процветания государства.
А поскольку, светлейший князь, ты до сих пор со всем вниманием наблюдал за обычаями и нравами немцев, французов,. итальянцев и испанцев, а по возвращении твоем на родину, о котором ныне помышляешь, тебе наверняка придется сражаться подчас с татарами и москвитянами, пожелал я сочиненьице это, в котором правдиво описывается жизнь этих врагов, заслуженно. адресовать и посвятить славному имени твоему. Первая книжечка вышла в 1550 г. для Сигизмунда-Августа, короля польского, другая была набрана в 1580 г. для князя слуцкого Александра. Обе рукописи оказались у одного приятеля среди известнейших сочинений, присланных некогда из Польши для издания нашему печатнику Петру Перне.
Прими же муз, некогда посвященных великому королю и князю, родственнику твоему, прими муз воскресших, некогда посланных из Польши в Базель, чтобы они увидели свет. Да пошлет Бог-хранитель благой и великий знамение, что я счастливо. предвидел, что гений этого творения лишь с тобой и осененный светлейшим именем твоим пожелает вернуться на Родину. Желаю здравствовать, светлейший князь!
Базель, окт.-кал., 1614 г.
Всецело преданный Вашему Сиятельству
Иоганн Иаков Грассер, пфальцграф
Михалона Литвина о нравах татар, литовцев и москвитян десять фрагментов, содержащих различные истории
Фрагмент первый
Хотя татары (tartari)[152] считаются у нас варварами и дикарями, они, однако, хвалятся умеренностью жизни и древностью своего скифского племени, утверждая, что оно происходит от семени Авраама[153], и они никогда ни у кого не были в рабстве, хотя иногда бывали побеждены Александром[154], Дарием[155], Киром[156], Ксерксом[157] и другими царями и более могущественными народами: а ныне оно разделено на разные орды (ordas)[158], то есть народы (nationes). Ведь за соседними с нами перекопскими (Precopenses)[159] [татарами] и тесно связанными с ними белгородскими (Belhorodenses) и добруджскими (Dobricenses), живущими на границе Молдавии (Moldaviae), к востоку находятся сильные орды, враждебные перекопским. Одни — ногаи (Nahai)[160], другие — астраханы (Chastorakani)[161], третьи — за рекой Танаисом (Tanaim), называемой Волгой (Volha)[162], заволжские (Zawolsca), [это] родина царя Батыя (caesaris Bati)[163], разорителя Венгрии (Ungariae), некогда господствовавшая над москвитянами (Moschorum) и всеми рутенами (Ruthenorum)[164], принадлежащая ныне нагайцам (Nahaiensibus), четвертые — казанские (Kozanii)[165], пятые — казахские (Kazaczka)[166], также Бухара (Buchar)[167], Самарканд (Samarchan)[168]и, говорят, многие другие, разделенные между 12 императорами (imperatoribus), как обещал господь предку их Исмаилу[169] в книге Бытия, 17, что он родит двенадцать вождей и превратится в великий народ. Из всех же народов татарских только более слабые, но ближайшие к нашим землям (regiones) перекопские, опасны нам, как из-за отсутствия у нас бдительности, так и из-за близости и благоприятного расположения места, куда они могут уйти (receptaculum). Ибо у перекопских [татар] есть место отступления, укрепленное самой природой. Ведь два болотистых озера, одно из которых называется Меотийским (Meotis)[170], простираются от моря в[нутрь] суши примерно на тридцать миль (milliaria)[171] в длину, а друг от друга они отстоят почти на столько же у истоков и на [всем] протяжении; концами же они сближаются друг с другом и разделяются узким перешейком; там, где они оканчиваются, они соединяются рвом и высоким валом, имеющим врата, которые являются единственным входом в эту землю (provincia) по. суше. Посему и небольшая крепость (castellum), находящаяся у этих врат, и весь заключенный в этом заливе полуостров мы называем Перекоп (Prekop)[172], он прежде носил название Таврики (Taurica)[173], ибо это место обитания и владения (imperium) трапезундских греков (Graecorum Trapezuntinorum)[174], так что до сих пор сохраняют греки там свой греческий язык и веру (religionem). А полуостров этот омывается Понтийским морем (mari Pontica), которое в этой части называется Понтом Эвксинским (Pontus Euxinus)[175], и хотя положение его укрепленное, все же не настолько, чтобы все это — и широкие озера,-и рвы, и высокий вал, и крепкая маленькая крепость — могли помешать продвижению мало-мальски обученного войска. И добираются до тех единственных врат Таврики от дальних крепостей Литвы (Litvaniae)[176], Черкасс (Czerkasi)[177] и Брацлава (Braczlaw)[178] за шесть дней, идя всегда поросшими травой и повсюду очень ровными полями[179], на которых нигде не встречаются ни горы, ни леса, ни болота, ни трудные для переправы реки, кроме Борисфена (Borysthenem)[180]. Так ведь и сама Таврика по эту сторону Альп (Alpes) и близ моря (maritima) повсюду покрыта горами и лесами, и ее ныне населяют коренные (aboriginibus) греки. В других же местах она, вся равнинная,. населена здесь татарами и повсюду удобна и легка для жизни смертных; она весьма обильна хлебом, вином, мясом и солью[181]. Ведь соль там в ямах, в некоторых реках родится наподобие крепкого льда от солнечного жара; во время летнего солнцестояния она сверкает в обилии своем, ничем не уступая хрусталю. И всякий злак и виноград родит там в изобилии земля,. быв однажды вспахана и кое-как взборонена. А скот, рабочий и мелкий, даже и зимой живет на пастбищах и всегда пасется на воле. Ведь после того, как их оставляют, они, освобожденные от поклажи, изможденные и тощие, там, в поле, снова тучнеют. Пучки травы, добытые копытами из-под снега, ничуть нехуже, чем у нас лучший корм и под крышей. Ведь и климат там помягче, а почвы, где болотистые, где соленые. А травы» растущие там, более вкусные; они всегда зелены и превосходны для откорма скота; называются они типеч (tipecz)[182]. Вот почему рассказывают, что некогда там было такое многочисленное население, что каждый греческий город имел по тысяче храмов,. и притом с таким горделивым духовенством (clero), что настоятели (antistites) и архимандриты (archimandritae) их. въезжали в святилища лишь верхом. Да и поныне, хотя некоторые города там разрушены, все же размерами очертаний их и развалин они являют былое величие, а особенно тот, который мы некогда называли Солхат (Solhoth)[183], москвитяне (Mosci) — Крым (Krym), греки — Феодосия (Theodosia)[184], и старый стольный град (metropolis) Корсунь (Korsunij), князь (princeps) которого крестил народ рутенский и нарек его христианским[185], после же он стал добычей нашего народа и был разорен им[186]. Вот почему Киев (Kiowia) наш в мозаиках и инкрустациях храмов своих до сей поры хранит точные свидетельства об этом разграблении; из добычи которого гнезненской базилике подарена дверь[187]. И с этим вот Корсунем мы обошлись так, что он вынужден был заплатить дань таврическим (Tauricensibus) христианам, погрязшим в роскоши и праздности, для того чтобы получить в помощь, поработив людей наших, отряд татар со стороны Заволжской Орды (orda Zawolsca) для заселения поместья (feudalem). А когда постепенно окрепла там сила татарская и разрослась поистине до размеров целого народа, то они выдвинули себе в князья (principem) Темиркутла (Temirkuthla)[188], одного из соплеменников своих, и был он назван царем (caesar). А предки Священного Величества Вашего[189], поработив этих царьков (caesarianis), враждебных вассалов (vassalis) греков, давали им в цари подвластных себе татар из Литвы. А последний царь из Литвы Ачкирей (Aczkirei)[190], родившийся здесь близ Трок (Troki) и отсюда посланный в те владения (ad imperium) блаженной памяти Витовтом[191] (Withowdo), правя в Таврике, родил там сына Менгли-Кирея (Mengli-kirei)[192]. Менгли-Кирей же [родил] нынешнего царя Сап-Кирея (Sapkirei)[193] и братьев его, родившихся и правивших прежде: Махмет-Кирея (Machmethkirei)[194], Садет-Кирея (Sadetkirei)[195] и Хас-Кирея (Chaskirei)[196]. Таким образом, знаменитое имя предка служит ныне всем потомкам, последовательно сменявшим его у власти. Ведь это тот род Киреев (Kireorum)[197], насажденный там могучей десницей предков Священного Величества Вашего, который ныне в благодарность за свое преуспеяние причиняет нам заботы. И вот уже славится Таврика и людьми и властью пришельцев; однако ее города Манкуп (Mancup)[198], Каффа (Caffa)[199], Керчь (Kercze)[200], Козлев (Kozlew)[201] и другие приморские [города] сохраняли свободу от них, пока, вот уже около семидесяти лет, не были взяты турецким (turcica) отрядом, с помощью военной силы Константинополя (Constantinopolitanis)[202]. И с тех пор потомки местных греков, попав под иго Турции, платят ей поголовную дань. Хотя еще и теперь они, занимаясь земледелием, виноградарством и скотоводством, не нищенствуют, но имеют даже серебряные украшения, так как они живут в мире и общей справедливости, под наиболее разумным языческим управлением, все же они ведут там жизнь не слишком радостную. Ведь их не уважают и ни во что не ставят их магометанские владыки. И они не только пренебрегают общением с ними, но и смотрят на них искоса и заставляют самих владельцев серебряных украшений работать, особенно по воскресным и пасхальным дням. Христианин не имеет там никакой власти ни над рабом, ни над слишком дерзким сыном, если он раз только представится правителю (magistratui). Даже сам глава семейства теряет свои права, если донесут, что он позволил себе неуважительное слово или хотя бы движение пальца в отношении к их религии.
Ведь тому, как переменчива судьба, сама Таврика служит достаточным свидетельством, ибо положение людей ее совершенно изменилось: [потомки] патрициев лишены чести и свободы, унижены, отданы в рабство, отвержены, потеряли свои права и платят поголовную подать магометанам; а эти настоятели, некогда надменно презирающие церкви божии, ныне презираемые сами и отверженные, пресмыкаются перед дикими татарами и турками. Города же ее, о великих богатствах, гордыни, веселии и всяческой роскоши которых разносилась молва, ныне пришли в упадок и многие опустели, прочих же, сровнявшихся с землей, позабыты уже и названия; и властвуют ныне над ними не благородные христиане, прирожденные их властители, но языческий пришелец, не так давно освободившийся из рабства, а также [получивший] и власть и свободу, даруемую здесь потомкам вассалов. Ведь настолько выросла численность татар в Таврике, что они выставляют на войну почти тридцатитысячное войско, но собранное принудительно, так как должны [идти] все как один, кто только способен сесть на коня, и [даже] пастухи и не владеющие оружием. Поскольку, когда я был там, и когда царь послал половину их и сына своего на помощь туркам[203], ходившим недавно на Венгрию, то их насчитывалось тогда пятнадцать тысяч. Хотя и ходили избранные, однако снаряженные по обычаю своему, а именно — многие безоружные, и едва ли у десятого или двадцатого из них был при себе колчан или дротик, а в панцирях было их еще меньше; но одни по крайней мере были вооружены костяными[204], другие — деревянными палками, третьи — с пустыми ножнами на поясе[205]. Щитов и копий и прочего подобного оружия они и вовсе не ведают[206]. Вот так они никогда не [были] обременены ни оружием, ни запасами пищи и никаким другим грузом из того, что составляет военные обозы, кроме небольшого количества поджаренного проса или измельченного сыра[207]. Однако никто из них не отправляется без множества свежих ремней, особенно когда им предстоит совершить набег на наши земли. Ибо тогда их более заботят путы, чтобы вязать конечности наши, чем доспехи для своей защиты. У них всегда в запасе множество коней для войны, так что большая часть их войска ведет с собой по пяти коней, к тому же неоседланных. Посему они очень быстро совершают набеги и любой путь благодаря такой быстрой смене коней и весьма легко бегут от настигающего врага; также и следы их устрашают обилием, а они не боятся в войске своем ни усталости, ни голода. Также в походе они весьма выносливы, легко переносят голод, жажду, усталость, бессонные ночи, жару, холод, всякую непогоду и любые трудности. Ведь военные набеги они всегда совершают без повозок и безо всякого обоза, за исключением упомянутого мною множества коней[208]. Безо всякого труда они преодолевают даже в зимнее время широкие-степные просторы, бездорожье, создаваемое глубоким снегом и настом, хотя затвердевший снег и лед обдирают ноги коней.. Быстрые полноводные реки, которые в суровое зимнее время на севере к тому же страшно трещат от лопающегося льда и трудны для переправы, они, однако, преодолевают без судов, но только на конях; сами они держатся за гривы, а к хвостам привязывают мешки, [положив их] на деревянные брусья или на связки камыша, чтобы переплыть без промедления, легко и быстро[209]. А в сражении они более стойкие, чем москвитяне (Moschovitae), хотя и хуже вооружены, и, всегда первыми вступая в битву, стремятся захватить левый фланг войска противника с тем, чтобы сподручнее было обстреливать. Также нередко, обратившись в бегство, повернув вспять, они останавливаются и, когда преследующий враг уже рассеян, нападают на него из засад, и так подчас они, побежденные, отнимают победу у победителей[210]. Когда же без уловок и военной хитрости, но честно, лицом к лицу, приходится вступить в сражение с ними, то. наши воины превосходят их, даже если тех намного больше. Так что весьма часто мы мерились силами под победоносными, знаменами блаженной памяти отца Священного Величества Вашего[211] Ведь и спустя пять месяцев после поражения христиан от магометан, последней битвы короля Людовика[212], двоюродного брата Св. Величества Вашего, в календы февраля, в год [от Рождества] Христова 1527 в тех ровных степях близ Черкасс (Czerkassi) при реке Ольшанице (Olssanicza), двадцать пять тысяч тех перекопских татар (Precopensium Tartarorum) пали от руки нашей, а было там нас не более трех с половиной тысяч[213]. И прежде у Клецка (Kleczko) погибло двадцать семь тысяч их, поверженных девятью тысячами наших[214]. Тогда как в других [местах] и у крепости Давида (Davidis Castellum)[215], и у Стрешина (Stressino), Чечерска (Czeczersko)[216], Лопушна (Lepussno)[217], а также в тех широких степях, в Лебедине (Lebedino), и у Белой Церкви (templum album)[218], и на реке Суле (Sula), и в прочих битвах, сколько бы ни сражались с ними в этом столетии наши люди, выходило на поверку, что мы сильнее. Ведь и при Сокале (Sokal)[219] они одолели нас не военной силой, но хитрость и сложность местности сослужили им; наше войско полегло, коварно завлеченное на место только что сожженного города, где повсюду зияли провалы погребов, то есть подземелий, ям и подземных ходов. И тут-то впервые возгордился против нас род Киреев, перенеся к себе в Таврику обагренные кровью доспехи воинства нашего. Также после, при Очакове (Oczakow)[220], хотя не менее доблестным было войско наше и также вышло победителем над ними, но все же по оплошности уступило победу побежденному Ослам Солтану (Oslam Soltano)[221], послав ему в крепость для переговоров вождей своих, не ведая, что сказано: кто во время войны обсуждает хитрость или доблесть врага? Так вот, всегда мы были бы сильнее перекопских [татар], если бы не их уловки, хитрость и коварство. А образ жизни татар, которым они кичатся, патриархальный, пастушеский, какой некогда, в золотой век, вели святые отцы, и из них также избирались народом вожди, короли и пророки[222], один из которых сказал: «Господь взял меня от овец»[223]. Вот так до сей поры живут татары, следуя за стадами и бродя с ними по степям туда и сюда. Нет у них ни дворов, ни домов, одни лишь переносные шатры, сделанные из лозы и тростника, крытые козьим войлоком, защищенные плетеными рогожками и циновками[224], они везут их с собой на повозках[225] вместе с женами и детьми. Землю они не возделывают, даже самую плодородную[226], довольствуясь тем, что она сама приносит, [то есть] травой для пастьбы скота. Вот почему по совету Соломона они питаются одним молоком[227], не зная хлеба и сикеры[228], в трезвости и умеренности, ибо по закону им также запрещено пить вино и есть свинину[229]. И хотя они едят мясо мелкого и крупного скота, а также конину, однако только тогда, когда [животные] уже пали или околевают, щадя, стало быть, здоровое стадо[230]. Ибо в стадах состоит все их достояние. Ведь они не владеют никаким недвижимым имуществом, кроме колодцев, а ими — совместно со своими единоплеменниками. О движимом же они не пекутся; настолько оно не в чести, что имеют они повседневную, да и то небогатую домашнюю утварь и простейшее снаряжение, необходимое для верховой езды и военного дела. Только к этому они относятся бережно, и, не ведая других дел, они считают, что человека благородного бесчестит какая-либо усердная работа, кроме этого [военного дела]; тем старательнее должны они следовать предписанию закона своего, который им предназначено распространять силою оружия. Также в этой дикости они не обладают ничем, кроме умеренности и воздержания, и все они живут без излишеств и в крайней нужде[231]. Ведь точно так же говорится в Священном Писании: «Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке»[232]. Также: «Кто собрал многое, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка»[233]. Так ныне и у варваров сих, ни один богач не задыхается от алчности, а бедняк не умирает от голода и не страждет от холода, и никто при такой бедности и нужде не побирается. Ведь у них не часто [встречается] кутила, равно как и страждущий от голода, и нищий, и обманщик, стяжатель чужого, и сутяга, и судья неправедный, и лжесвидетель, и клятвопреступник, а также вор и разбойник. Вот почему им нет дела, чтобы беспрестанно заботиться об охране имущества и обременять себя оружием дома, чтобы постоять за себя. Ведь путешествующему по земле их излишне и противозаконно иметь при себе оружие. Свято чтут они у себя мир и правосудие, возвращая каждому то, что принадлежит ему, неприкосновенным и не изъятым в пользу чиновников в качестве десятины или под каким-либо иным названием. Ибо не наживе, но справедливости служит занятие правосудием у этих безбожных язычников. Ведь оно у них не мирское, а священное, и отправляется оно священниками кадиями (Cadios)[234], которые посвящаются в это священное звание особою присягою, причем из многих избираются менее отягощенные нечестивыми делами, за которые будут судимы другие. А чтобы правосудие велось успешнее, судопроизводство свободно от проволочек крючкотворов и не зависит от наговоров клеветников. Если обвиненный старается укрыться от суда и, позванный обвинителем в суд прикосновением к краю его одежды, не является тотчас же, то с этого момента как изобличенный уже считается осужденным. Ведь его избивают палками, как это предписывается божественным законом. Также не место в суде обвинителю и свидетелю, не вполне твердо усвоившему из закона, что необходимо для защиты, или тому, которого уличили в том, что он однажды отведал вина или был замечен в каком-либо ином пороке. Также предстают они пред судом его, то есть судьи кадия (Cadij), и знать, и вожди с народом равно и без различия и, кроме верховного предводителя, чье Величие они также полагают выше человеческого, все воедино, а также все до единого живут по одному и тому же закону. Также они обнаруживают равенство и однообразием одежды и сходным образом жизни, считая беззаконием и достойным наказания, даже избиения палками, если кто-нибудь из людей их носит платье, шапку или длинные волосы не так, как в их земле и не по древнему обычаю, или если кто-нибудь имеет у себя особую пищу, не разделяя ее с присутствующими, или сам хозяин (patronus) возьмет что-либо, прежде чем выставлено всем, разделено на куски и тщательно смешано, так чтобы каждому из присутствующих досталось одинаковое. И в пути все дорожное у них общее, но все же они наперебой стараются услужить любому старшему по возрасту или немощному. Дома они также гостеприимны к каждому путнику и чужаку предоставляют задаром и пищу и кров, но на расстоянии от стойбищ (statiuarum) их[235]. Впрочем, в остальном они не так уж учтивы, ибо у них никоим образом не дозволено смотреть на их жен гостю, другу, а также сотрапезнику, в какой бы он ни был милости; и они держат их [жен.—В. М.] бедных взаперти в удаленных покоях, и, не говоря уже о пиршествах, но и от синагог (synagogarum)[236] и от всяких обычных принародных дел они совершенно отстранены и переложена на них вся портняжная и сапожная работа, впрочем не без их согласия. Но они [мужчины] между тем не довольствуются супругами своими, как издревле велит человеческий обычай: каждому — единственная, [но] кичатся числом их, тем более что и закон их призывает каждого иметь по четыре жены, а на каждую из них — по десять наложниц. И чем особенно отличаются мужчины—они ищут не приданого невест, не ради плотских их прелестей соединяются, но еще почти и в лицо не видя, выведывают, насколько возможно, об их душе и нравах, и они не гнушаются в браках и служанками своими, пленными и купленными. Вот почему они [жены.—В. М.] в браке верны, послушны, живут душа в душу, терпимы к наложницам, пользующимся милостями мужа, также стыдливы, так что у них совершенно не слыханным является грех прелюбодейства, смертный для каждого и грозящий казнью[237]. И кроме того, поскольку эти варвары знают, что нет ничего спасительное для народов, чем доблесть и военная дисциплина, и что мужество состоит в твердости, то, отвергая изнеженность и избалованность, ведут жизнь суровую, с детства занимаются верховой ездой и уже с колыбели они ездят верхом, равно как и в глубокой старости от этого не отучаются. От повозок же отказываются как старики, так и немощные, чтобы не изнежиться и поберечь лошадей. Ибо они так берегут коней, что даже барон (Baro)[238] их, которого за пределами его земли сопровождают сотни его собственных всадников, по своей стране ездит верхом один. У них даже знатная женщина, если ей необходимо прибыть ко двору царя, не смущается тем, что ее везет [в повозке] один вол, а если повозка тяжела,—то два, хотя и сидит дома взаперти, сверкая золотом и драгоценными каменьями. Впрягать же в повозку лошадь, даже самую никудышную, для любого из них считается тягчайшим грехом, хотя бы в конюшне его была тысяча коней. А жизнь людей сих сурова и мрачна, за исключением предводителей их. Ибо предводители скифов (scytharum)[239], при всеобщей умеренности народа их, сами между тем живут в роскоши. Как [например] нынешний перекопский царь[240], ныне переложивший военные дела на сыновей, [который] сам охотно предается удовольствиям в кущах жен своих. Особенно красив один [его] сад, который славится местоположением, постройками, ухоженностью, разнообразием трав и деревьев, и тем изяществом, с каким они рассажены. Когда он в раю своем[241] принимает гостей, во время роскошных пиров, то хотя и вкушает из деревянной и глиняной посуды, как бы из отвращения и презрения к богатству, все же восседает на расшитых золотом подушках, опираясь локтями и ногами на серебряный стол, который украшают фиалы из золота и драгоценных камней и разные роскошные яства, и услаждается при этом звуками кифар, цимбал, кастаньет, песнопений и прочими пустяками, полагая, что это ему позволительно при общем воздержании в народе[242].
Живут же народы татарские без излишеств, послушные Священному Писанию, в котором говорится: «Не пейте вина ни вы, ни дети ваши, вовеки; и домов не стройте, и семен не сейте, и виноградников не разводите и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками»[243]. Вот так и живут они на земле той многие дни, вольные, независимые и всегда уверенные в своей неистребимости. Поскольку они презирают роскошь и не владеют ничем недвижимым и подверженным захвату, то все свое добро, куда бы они ни передвигались, имеют при себе. Вот почему сии кочевники имеют единственно движимую [собственность] — идущих с ними скот и рабов[244].
И хотя владеют перекопские [татары] скотом, обильно плодящимся, все же они еще богаче чужеземными рабами-невольниками, почему и снабжают ими и другие земли. Ведь у них не столько скота, сколько невольников. Ибо они поставляют их и в другие земли (provinciis). Ведь к ним чередой пребывают корабли из-за Понта и из Азии, груженные оружием, одеждой, конями, а уходят от них всегда с невольниками. Ибо все их торги (emporia) и места сбора податей (telonea) полнятся только товаром этого рода, на который к тому же у них всегда спрос, [он годится] и для торговли, и для залога, и для подарка, и всякий из них, по крайней мере имеющий коня, даже если на деле раба у него нет, все же, полагая, что всегда может приобрести их множество, обещает по контракту (in contraetibus) с кредиторами (creditori) своими в назначенный срок заплатить им за одежду, оружие и резвых скакунов тоже живыми, но не конями, а людьми, притом нашими единокровными. И они спокойно дают такие обещания, как если бы в своих зверинцах и скотных дворах они всегда держали этих наших пленников. Вот почему один иудей там в Таврике у тех единственных врат ее, стоящий во главе таможни (teloneo), видя, что туда постоянно ввозится бесчисленное множество пленных людей наших, спрашивал у нас, все так же ли наши земли изобилуют людьми или нет и откуда здесь такое множество смертных. Так у этих разбойников всегда в наличии такая собственность не только для торговли с любыми странами, но и для удовлетворения у себя дома своей жестокости или прихоти.
Ведь очень часто [встречаются] среди этих несчастных людей весьма сильные, которых если не оскопили, то отрезали уши и [вырвали] ноздри, прижгли раскаленным железом щеки и лбы и принуждают закованных в путы и оковы днем трудиться, ночью [сидеть] в темницах, и поддерживает их скудная пища, [состоящая] из мяса околевших животных, гнилого, кишащего червями, какого даже собаки не едят. А женщин самых юных они держат для разврата, а некоторых из них, обученных искусствам, даже приглашают на пиршества для увеселения, чтобы играли они на арфах и кифарах и танцевали. Если же среди наших пленных сородичей оказываются женщины, чей благородный вид [выдает] их знатное происхождение, то их отвозят к Таласию (Thalasio) и в его райские кущи[245].
Следует сказать и о другом, что они делают там с такими людьми. А именно: когда происходит торг, этих несчастных ведут на многолюдную рыночную площадь, группами, построенными наподобие отлетающих журавлей и по десять вместе связанных за шеи, и продают их десятками сразу с аукциона, причем торговец, чтобы повысить цену, громогласно возвещает, [что это] новые невольники, простые, бесхитростные, только что пойманные, из королевского народа, не московского (Moscovitico). Ибо род москвитян (Moschorum), как хитрый и лживый, весьма дешево ценится там на невольничьем рынке. Итак, этот род товара тщательнейшим образом оценивается в Таврике и за большую цену покупается чужеземными купцами, чтобы продать [его] дороже более отдаленным и диким [народам]: сарацинам (Sarracenis)[246], персам (Persis), индусам (Indis), арабам (Arabibus), сирийцам (Syris) и ассирийцам (Assyriis). И ведь любой из них алчет [получить] невольниц отсюда в жены, однако без насилия и беззакония, но по правилу, предписанному свыше. Господом во Второзаконии, 21. Ибо и любимейшая жена нынешнего турецкого (Turcarum) императора[247]мать перворожденного [сына] его, который будет править после него[248], похищена была из земли нашей. Также и перекопский Сап-Кирей, рожденный от христианки[249], ныне имеет и жену-христианку. И все служители, евнухи, писцы и разные ремесленники этих тиранов (tyrannorum) и лучшие воины янычары (janiczari), которые там уже с детства обучаются воинскому искусству и дисциплине и из которых в конце концов выбирают вождей (Duces) и баронов (Barones), происходят от нашей христианской крови[250]. И поэтому, когда они там покупают невольников, то осматривают не только открытые взору органы и зубы, чтобы не были они ни редкими, ни темными, но обследуют также и самые сокровенные части тела. И если у кого обнаруживают родимое пятно, опухоль, шрам или иной скрытый порок или недостаток, то такого возвращают. Но даже и при таком осмотре покупаемого, тем не менее хитроумные барышники и нечестивые торговцы способны на обман, создавая приманки. Ведь тех более красивых мальчиков и девушек, которые попадают в толпу пленников, не сразу выводят [на продажу], но [сначала] хорошенько откармливают, одевают в шелк, белят и румянят, чтобы продать подороже. Иной раз самые красивые и целомудренные девушки нашей крови оцениваются здесь на вес золота. А случается, красивую невольницу, едва купив, тут же перепродают, тщательно приукрасив, чтобы поднять цену и получить барыш. Делают это и в прочих городах этого полуострова, а особенно в Каффе. И случилось там, что толпы этих несчастных невольников отправлялись с торга прямо на корабли. Ибо этот порт удобнейшим образом граничит с морем и по этому своему ненасытному и преступному местоположению он не город, а поглотитель крови нашей. И вот там эти скитальцы, столпившиеся на берегу перед тем, как взойти на корабли, увидели, что мы печалимся за них, [стоящих] перед нашими глазами. Тогда один из них, знакомый мне и земляк, как бы прочитав наши мысли по печальному выражению лиц, ответил за всех, не спуская с меня глаз: «Не надо вам, — сказал он, — любезный брат, печалиться о нас, изгнанниках, странствующих так; хотя, как это ни горько и печально, мы отправимся в путь, покинув милую землю отчизны, переправляясь туда, откуда никогда не вернемся, и чем дальше от границ отчизны увезут нас, тем сильнее день ото дня будет сжигать нас тоска по родной земле; однако нам суждено уже нести этот неминуемый жребий с невозмутимой душой, так как мы не единственные и много нас, товарищей по несчастью, и когда мы видим, что остальные остаются здесь, в Таврике, не в лучшем положении, которым выпал такой же жребий, заклейменные эти, помеченные тавром[251], даже с изуродованными лицами, мы знаем на опыте, что на родине их равно ожидал по обыкновению не более радостный исход: близким нашим, как мы видели, отрубали, отсекали и отрывали от тел их руки, ноги и головы, трепещущие сердца и вырезанные легкие бросали в огонь, а, выпотрошив животы их, из остывающих кишок выхватывал дикий враг внутренности для жертвенного гадания, желчные пузыри и желчь для мазей[252]. Впрочем[253], было бы много лучше и нам, если бы, претерпев все до одной эти да и другие жестокости, мы умерли бы близ отчих ларов и теней, исповедуя нашу веру, и рядом с могилами предков, а тела наши были бы гораздо счастливее, чем теперь, даже если бы они были обезображены и растерзаны и пожраны хищниками; но поскольку это нам заказано, сохраняет нас на продолжительное время для глумления им слепой рок, которому надо повиноваться, и эта горесть ваша и сожаление не помогут нам. Скорее нам должно опасаться, чтобы не постигла и вас та же участь, то есть, чтобы и вы когда-нибудь не сели на эти уносящие нас корабли и чтобы наконец все племя наше не погибло, потому что день ото дня все больше гибнет его питомцев. А этого поистине всячески следует страшиться, если вы, каковыми ныне являетесь, будете продолжать впредь упорствовать в ваших весьма пагубных нравах, неминуемо влекущих вас к гибели. Итак, если есть у тебя сколько-нибудь любви к родине или верности князю, или по крайней мере веры в Бога, то надлежит тебе о той неминуемой опасности поведать князю и тем, наконец, кто его окружает, так как ныне вы поняли, каковы обстоятельства, испытываемые здесь людьми. И если ничто другое не заставляет тебя этого сделать, то да подвигнет тебя хотя бы любовь к вере истинного Бога, именем которого мы, несчастные, теперь только чувствующие всю цену отечества и свободы, заклинаем тебя, дабы желанная отчизна по крайней мере получила от нас этот последний залог нашей любви»[254]. Высказав это и тяжко вздыхая, он был увлечен на корабль, поднимаясь в десятке своей, прочно скованной, и исчез на высоком судне, уведенный [вместе с ней], оставив нам такое завещание.
Несколько слов к читателю
В следующих за этой книгах Михалон жалуется главным образом на испорченность нравов своего народа, пагубнее которых ничего нет, и горячо просит, чтобы они были исправлены прежде всего ради отражения врагов и предлагает способы исправления. Однако мы опустили подобные жалобы, поскольку мы исследуем не что иное, как относящееся к учительнице жизни истории.
Извлечение из второго фрагмента
Москвитяне (Mosci) и татары намного уступают литвинам (Lituanis) в силах, но превосходят их трудолюбием, любовью к порядку, умеренностью, храбростью и прочими достоинствами, которыми упрочиваются королевства. Приносят татарам эти достоинства те выгоды, что они владеют множеством скота, отнятого у нас, и, так со временем возвысившись, они услаждаются ежегодными дарами от Священного Величества Вашего, [будучи], как известно, друзьями-союзниками, с которыми и прежде литвины всегда заключали договоры. Они привычны к верховой езде, ведут войны без обозов, у них обилие вольных коней и нет городов, которые бы они обороняли. Москвитяне (Mosci) каждую весну из татарской Ногайской орды (orda tartarica Nohaiensis) в обмен на одежду и другие дешевые вещи получают многие тысячи коней, наиболее подходящих для войны[255]. Турки фракийские (turcae Thraces) шлют нам по высокой цене коней самой дрянной породы, старых, загнанных, снедаемых таящимися в них болезнями: ибо продавать христианам здоровых коней или оружие считается у них грехом и преступлением. А предки наши довольствовались рожденными на родине лошадьми; они всегда были готовы к войне с копьями, щитами, доспехами и с мешками, полными муки. Героинь литовских, отправляющихся в храм или на пир, везут в парадных экипажах, то есть в висячих носилках, запряженных шестериком или восьмериком одного и того же цвета; а скиф (scytha) безнаказанно уходит, ведя столько же связанных ремнями людей. А у татар, особенно богатых конями, не принято впрягать коней даже в повозку предводителя. Турки и прочие сарацины (saraceni), сходящиеся пять раз в день в местах, предназначенных для молитвы, снимают обувь и моют холодной [водой] даже срамные свои места[256]. Они, а также татары, москвитяне (Moscovitae), ливонцы (Livones), пруссы (Pruteni), из бережливости непрерывно носят одну и ту же одежду, а у нас она и дорога и разнообразна.
У татар длинные туники без складок и сборок, удобные, легкие для верховой езды и сражения; их белые остроконечные войлочные шапки сделаны не для красоты; их высота и блеск придают толпам [татар] грозный вид и устрашают врагов, хотя почти никто из них не носит шлемов. Этому приему также подражают москвитяне (Mosci). А делаются эти шапки из овечьей шерсти, часто моются и купленные за один грош (grosso) долго им служат.
Хотя одни только москвитяне (Mosci) богаты соболями и другими подобными зверями, однако, запросто дорогих соболей не носят. Но, посылая их в Литву (Litvaniam), нежных изнеженным, получают за них золото[257], а по краям своих шапок из козьей шерсти укрепляют золотые бляшки и драгоценные каменья. И не портят их ни дождь, ни солнце, ни моль, как соболей.
Извлечение из фрагмента третьей книги
Они [москвитяне] до такой степени не признают пряностей, что и за пасхальными трапезами довольствуются такими приправами: серой солью, горчицей, чесноком, луком и плодами своей земли не только простолюдины, но даже и высшая знать (optimates), и верховный вождь (summus dux) их, захвативший наши крепости, коих уже кичливо насчитывает 73[258].
На пиршественном столе князя (principis) среди золотых сосудов и местных яств [бывает] все же немного перца, однако его подают сырым отдельно в чашах, но никто к нему не прикасается. А литвины питаются изысканными заморскими яствами, пьют разнообразные вина, отсюда и разные болезни. Впрочем, москвитяне (Mosci), татары и турки, хотя и владеют землями, родящими виноград, однако вина не пьют, но, продавая христианам, получают за него средства на ведение войны. Они убеждены, что исполняют волю божью, если каким-либо способом истребляют христианскую кровь.
Татары перекопские точно так же не признают пряностей и пьют молоко и колодезную воду, которая во всей равнинной Таврике редко встречается не горькая, а еще реже — чистая, разве только отыщется очень глубоко в недрах земли. Предки наши избегали заморских яств и напитков. Трезвые и воздержанные, всю свою славу они мыслили в военном деле, удовольствие — в оружии, конях, многочисленных слугах и во всем сильном и храбром, что служит Марсу; и когда они отражали чужеземцев, то расширили свои [пределы] от одного моря до другого, [и] называли их враги хоробра Литва (Chorobra Litwa)[259], то есть храбрая Литва. Нет в городах литовских более часто встречающегося дела, чем приготовление из пшеницы пива и водки[260]. Берут эти напитки [и] идущие на войну и стекающиеся на богослужения. Так как люди привыкли к ним дома то стоит им только отведать в походе непривычной для них воды, как они умирают от боли в животе и расстройства желудка. Крестьяне, забросив сельские работы, сходятся в кабаках. Там они кутят дни и ночи, заставляя ученых медведей увеселять своих товарищей по попойке плясками под звуки волынки. Вот почему случается, что, когда, прокутив имущество, люди начинают голодать, то вступают на путь грабежа и разбоя, так что в любой литовской земле за один месяц за это преступление платят головой больше [людей], чем за сто или двести лет во всех землях татар и москвитян (Moscovum), где пьянство запрещено. Воистину у татар тот, кто лишь попробует вина, получает восемьдесят ударов палками и платит штраф таким же количеством монет. В Московии (Moscovia) же нигде нет кабаков. Посему если у какого-либо главы семьи найдут лишь каплю вина, то весь его дом разоряют, имущество изымают, семью и его соседей по деревне избивают, а его самого обрекают на пожизненное заключение. С соседями обходятся так сурово, поскольку [считается, что] они заражены этим общением и [являются] сообщниками страшного преступления[261]. У нас же не столько власти (magistratus), сколько сама неумеренность или потасовка, возникшая во время пьянки, губят пьяниц. День [для них] начинается с питья огненной воды. «Вина, вина!» — кричат они еще в постели. Пьется потом эта вот отрава мужчинами, женщинами, юношами на улицах, площадях, по дорогам; а отравившись, они ничего после не могут делать, кроме как спать; а кто только пристрастился к этому злу, в том непрестанно растет желание пить. Ни иудеи (judaei), ни сарацины не допускают, чтобы кто-то из народа их погиб от бедности — такая любовь процветает среди них; ни один сарацин не смеет съесть ни кусочка пищи, прежде чем она не будет измельчена и смешана, чтобы каждому из присутствующих досталось равное ее количество.
А так как москвитяне (Mosci) воздерживаются от пьянства, то города их славятся разными искусными мастерами; они, посылая нам деревянные ковши и посохи, помогающие при ходьбе немощным, старым, пьяным, [а также] чепраки, мечи, фалеры и разное вооружение, отбирают у нас золото[262].
Прежде москвитяне (Moscovitae) были в таком рабстве у заволжских татар (tartarorum zavolhensium), что князь их [наряду с прочим раболепием] выходил навстречу любому послу императора и ежегодно приходящему в Московию (in Moscoviam) сборщику налогов (census exactori) за стены города и, взяв [его] коня под уздцы, пеший отводил всадника ко двору. И посол сидел на княжеском (ducali) троне, а он сам коленопреклоненно слушал послов[263]. Так что и сегодня заволжские и происшедшие от них перекопские [татары] называют князя москвитян (Moscovum) своим холопом (cholop), то есть мужиком (rusticum). Но без основания. Ведь себя и своих [людей] избавил от этого господства Иван (Johannes), дед того Ивана [сына] Василия, который ныне держит [в руках] кормило власти, обратив народ к трезвости и повсюду запретив кабаки[264]. Он расширил свои владения, подчинив себе Рязань (Rezani), Тверь (Twer), Суздаль (Susdal), Володов (Volodow) и другие соседние княжества (comitatibus)[265]. Он же, когда король Польши Казимир (Casimiro rege Poloniae) и князь Литвы (duсе Litvaniae)[266] сражался в Пруссии (Prussia) с крестоносцами (cruciferos) за границы королевства, а народ наш погрязал в распущенности, отнял и присоединил к своей вотчине литовские земли (Litvanicas provincias), Новгород (Novohrod), Псков (Pskow), Север (Siewier) и прочие[267]; он, спаситель и творец государства, был причислен своими [людьми] к лику святых. — Ведь и стольный град свой он украсил кирпичной крепостью[268], а дворец — каменными фигурами по образцу Фидия[269], позолотив купола некоторых его часовен (sacellorum). Также и рожденный им Василий (Basilius)[270], поддерживая ту же трезвость и ту же умеренность нравов, в год 1514 в последний [день] июля отнятую у нас хитростью Михаила Глинского (Michaelis Hlinscii)[271] крепость и землю со Смоленском (Smolensco) присоединил к своей вотчине[272]. Вот почему он расширил стольный град свой Москву (Moscwam), включив в нее деревню (vico) Наливки (Nalewki)[273], создание наших наемных воинов, дав ей название на позор нашего хмельного народа. Ведь «налей» соответствует латинскому «Infunde». Точно так же рожденный от него, правящий ныне[274], хотя и отдал нам одну крепость[275]. но между тем в наших пределах воздвиг три крепости: Себеж (Sebesz), Велиж (Velisz), Заволочье (Zawlocz)[276]. Он в такой трезвости держит своих людей, что ни в чем не уступает татарам, рабом которых некогда был; и он оберегает свободу немягким сукном, не сверкающим золотом, но железом; и он держит людей своих во всеоружии, укрепляет крепости постоянной охраной; он не выпрашивает мира, а отвечает на силу силой,, умеренность его народа равна умеренности, а трезвость — трезвости татарской (tartaricam); говорят, что образом жизни он подражает образу жизни нашего героя Витовта (Vitovdum).
Извлечение из четвертого фрагмента
Татары превосходят нас и в правосудии[277]. Ведь они возвращают немедленно каждому то, что ему принадлежит. У нас же забирает судья (iudex) десятину (decimam partem) [от стоимости] спорной вещи (rei iudicatae) у невиновного истца (ab actore), и эта плата судье называется пересуд (Реrеssud)[278]. Она подлежит уплате тут же, в суде. Когда же дело касается небольшого клочка земли, то дают не десятину, но сто грошей, каждый стоимостью двух круциат (cruciatos), немецких монет, да еще половины круциаты[279], хотя спорная вещь и не стоила того. От большего же всегда берет десятину,. от всего владения в целом, сколько бы ни оттягали по суду.
В делах же о личных обидах и оскорблениях, вменяющих в. вину насилие, он берет у ответчика (а rео) крупную сумму,. столько, сколько присуждает истцу[280]. А присуждает он истцу из такого своего корыстолюбия, даже открыто поддерживая клевещущего, за любое его оскорбление мужчине — по двадцати коп[281] грошей, женщине — по сорок, за убыток же, который клеветник нанес, принеся ложную клятву, по сто и тысяче, если даже оказывается, что все его имущество не стоит и одной копы. И за убийство выносится приговор не по божьему закону,. чтобы отмщалось кровью за кровь, но в виде денежного штрафа с судейской десятиной[282]. Поэтому здесь так часто совершаются убийства. И пусть даже прямодушный истец, выиграв дело, удовлетворится смиренными словами ответчика, но не судья. Ведь он [судья.—В. М.] всегда гребет деньги, из одного — штрафные, из другого — десятинные.
Он берет десятину и за утверждение сделок и договоров. В уголовных же делах берет не десятую часть, а все, что ни оказалось бы краденого или отнятого у разбойника, и этот его. доход называется лице (Litze)[283]. Когда же краденую вещь, [найденную] у вора или у отнявшего ее, нужно нести к другому судье, всю ее стоимость полностью берет первый судья. Так что у нас отыскивающему украденную вещь необходимо заплатить властям (magistratum) больше, чем стоит сама вещь; посему многие, видя это, не осмеливаются из-за этого вступать в тяжбу за свой воровски уведенный или силой отнятый скот. Вор же, пойманный с поличным, не подлежит суду того места, где совершил преступление или был пойман, но его долгими путями ведут на суд к его господину, подчас к тому, в чей дом он сносил краденое[284]. Вследствие чего кражи совершаются безнаказанно. А у соседних с нами татар и москвитян (Moscos) судебное разбирательство надо всеми подданными вельмож (baronum) и дворян (nobilium) как в гражданских, так и в уголовных делах передано не какому-то частному [лицу], но общественному и законному (ordinario) чиновнику, [причем] трезвому и живущему вместе с другими. Наши же делают это поодиночке и пьют, удалив свидетелей (arbitris et testibus), и могут делать, что им угодно. Получает также у нас председатель суда (praeses) кроме штрафа за преступление 12 грошей с лошади, которую кто-то украл и, объявив ее бродячею, отводит в конюшню суда[285]. Также и с человека, ни за что посаженного в тюрьму, он получает столько же грошей, полагая, что это вознаграждение законно, [так как] и тюрьмы и конюшни должны оплачиваться. Также и слуга судьи, исполнитель приговора, получает десятину от спорной вещи. Десятину даже без суда берет он с должника или с кредитора, или с вещи, оставленной под залог, даже если он не отказывается от уплаты долга. И писарь (notarius) получает десятину за составление решения, а за любую другую работу тоже кое-что: только за печать на вызове в суд по грошовому делу [берет] четыре. И чтобы все продавалось дороже, необходимо [сделать] повторный вызов в суд[286] и его скрепить печатью и подписью помощника писаря (protonotarii), поскольку писарь может быть занят другими [делами], и потому иногда, если этого не сделать, ответчик ускользает без вызова в суд, так как бежать свойственно его натуре. Также берет другой служитель (apparitor); виж (Wisz)[287], назначающий день суда, даже по самому мелкому делу, если он представляет воеводу (palatine) — пятьдесят грошей, если его наместника (vicarii) —30, если королевский или таким называет себя— 100. Берет столько же, то есть 100 или 50, или самое малое 30, еще один. А тот, кто вызывает ответчика и приводит по делу с вызовом, называется децкий (deczki)[288]. Берет столько же и член суда (satelles), который с началом тяжбы отряжается для вызова или опроса свидетелей, для осмотра поля или луга, вытоптанного или потравленного чужим скотом или иного менее серьезного ущерба. Если у бедняка не окажется таких денег, у него отбирают скот. Несправедливо и то, что если бедняку понадобится призвать (к суду) кого-то из магнатов (е magnatibus), то даже за огромное вознаграждение он не сыщет служителя. Не менее несправедливо и то, что мой более имущий сосед, хотя бы владеющий частью общего со мною села (pagi), имеет другую подсудность:[289] его не так легко вызвать в суд, как меня. И чтобы лишить нас права пользования апелляцией (appellationis), оно обложено огромным штрафом, как [об этом сказано] в Лит/овском/ стат/уте/ разд/ел/ 6, ст. 1[290]. Против имущих запрещены так же вадиумы (vadia)[291], которые служат для бедных оружием и словно оборонительным щитом. К тому же всякий назначается в свидетели в любых делах, кроме межевых[292], и [ему] вполне доверяют без присяги, и он делает лжесвидетельство жизненным поприщем. Общественной книги для занесения в нее купчих (venditiones) и прочего у нас нет, кроме частных листов (schedas)[293]. Ответчик, даже если доказано, что он похитил чужое имущество или совершил насилие, приводится в суд лишь по истечении месяца после вызова[294]. К тому же, если у меня похитят лошадь, стоющую 50 или 100 грошей, в самое горячее время полевых работ, то я не могу позвать похитителя в суд прежде, чем заплачу за позов (citaturo) члену суда полную стоимость похищенной лошади, хотя после не только не получу возмещения убытков, но и виновного привлекут к суду лишь месяц спустя. Итак, пострадавший (iniuria affectus) или все оставляет похитителю, или все равно отдает [под давлением] силы и хитрости.
Во время обнародования литовских законов[295] (legum litvanicorum) вол стоил 50 грошей, корова — 30[296]. Ныне эти цены намного выросли. А в других местах, находящихся под властью короля Польши, ответчику не предоставляются такие поблажки и не требуются такие расходы, чтобы вызвать в суд. Но служитель получает за вызов ответчика в суд полгроша. А королевская грамота, по которой вызывают в суд, имеет вес и без подписи помощника писаря. И [она] не так дорого стоит, даже по указу (edicto) короля Сигизмунда (Sigismundi) в польском Пиотрковском стат. (stat. polonicis Piotrcoviensibus) 1511 года [от Рождества] Христова [ее] повелевалось давать даром. И судья даже при самой крупной спорной вещи получает не десятую часть ее [стоимости], но довольствуется двумя или самое большее четырьмя малыми нашими грошами, которые оцениваются в 8 немецких круциат. У нас по причине [взимания] трижды двойных десятин [со] спорной вещи судья — сам себе судья: и словно насадив наживку на крючок, он всегда ведет к осуждению, даже затемняя часть законов. Даже законы язычников (ethnicorum) запрещают оплату правосудия. У нас этот обычай [платить.—В. М.] возник не так давно от пагубной привычки высшей знати (procerum primorum) приспосабливать законы к своим выгодам, в силу которых никто не может владеть ничем, что не зависело бы от судебной власти. Например: если кто-то или враждебный мне, или поддерживающий судью и ищущий выгоду похищает мои деньги или присваивает данное взаймы (depositum) или вверенное (creditum), или занимает мою землю, я ничего из этого не могу получить у него, прежде чем не дам судье и приближенным (familiaribus) его десятины и все прочие поборы, на что непременно быстро уйдут все мои деньги, если точно так же еще раз или дважды тот же самый честный друг этого судьи открыто со мной проделает. Если же подосланный (emissarius) судьею крадет или украдкой отнимает у меня золото, серебро и прочее, то все это переходит к председателю[297]. Вот как правосудие, светлейший князь, в вотчине (patrimonio) твоей, воздает каждому по делам его, вот оно святое право[298].
Хотя из числа знати (optimarum) два воеводы во всей Литве исполняют обязанность судьи, находясь поблизости друг от друга[299], но разве достаточно их, чтобы рассудить тяжбы столь многих людей и стольких земель? Особенно потому, что они же заняты государственными делами. Ибо они называются воеводы (voivodae), то есть предводители войска (belli duces). Понятно, что поэтому они, занятые множеством и общественных и частных дел, разбирают тяжбы в праздничные дни, когда они свободны. Но плохо еще и то, что у них нет постоянного места суда (tribunalia). Часто надо пройти более 50 миль, чтобы обратиться в суд за разбирательством о нанесенном ущербе. Несчастные люди идут от границ Жемайтии (Samagitiae) и Ливонии до пределов Мазовии (Masoviae) и Московии в поисках обычного судьи. До сих пор ежегодно 40 дней, посвященных у нас поминовению страстей Господних, посту и молитве, мы постоянно проводим в делах, разбирая тяжбы[300]. Эти воеводы имеют своих наместников, которые тоже, холя тело, сидят обыкновенно вместо суда среди шума пирушек, мало сведущие в юриспруденции (iurisprudentia), но исправно взимающие свой пересуд. А москвитяне (Moscovitae) хвалятся тем, что от нас переняли законы Витовта (leges Vitowdinas)[301], которыми мы уже пренебрегаем, а от татар — оружие, одежду и способ ведения войны без обозов, [без] редкостных яств и напитков.
Извлечение из пятого фрагмента
Рассердившись на кого-либо из своих, московитяне (Moscovitae) желают, чтобы он перешел в римскую или польскую веру (romanae sive polonicae religionis), настолько она им ненавистна. У нас, к сожалению, нет гимназий[302]. Мы изучаем московские письмена (literas Moscoviticas)[303], не несущие в себе ничего древнего, не имеющие ничего, что бы побуждало к доблести, поскольку рутенский язык (idioma Ruthenuva) чужд нам,. литвинам, то есть италианцам (Italianis), происшедшим от италийской крови.
То, что это [именно] так, явствует из нашего полулатинского языка и из древних римских обрядов, которые не так уж давно у нас исчезли, а именно сожжение человеческих трупов, гадания, прорицания и прочие суеверия, до сих пор бытующие в некоторых местах, особенно в культе Эскулапия (Aesculapii)[304], почитаемого в виде змеи, в каком он переселился некогда из Эпидавра (Epidauro) в Рим (Romam). Почитаются и священные пенаты, моря, лары, лемуры, горы, пещеры, озера, священные леса. Но едва лишь этот священный и постоянный [обряд] римский (Romanorum) и еврейский (Hebreorum) жертвосожжения превратился в обычай, как под волной крещения погас ugnis, то есть огонь. Ведь и огонь, и вода, воздух, солнце, месяц, день, ночь, роса, заря, бог, человек, devir, то есть деверь, внук, внучка, ты, твой, мой, свой, легкий, тонкий, живой, юный, ветхий, старый, око, ухо, нос, зубы, люди, стой, сиди, поверни, выверни, переверни, вспаханный, взбороненный, посеянный, семя, чечевица, лен, конопля, овес, скот, овца, змея, скобы, корзина, ось, колесо, ярмо, вес, куль, тропка, почему, ныне, протянутый, втянутый, затянутый, вытянутый, купленный, некупленный, сшитый, несшитый, повернутый, вывернутый, перевернутый, первый, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и многие другие [слова] звучат в литовском языке так же, как и в латинском[305]. Ведь пришли в эти края наши предки, воины и граждане римские, посланные некогда в колонии (in colonias), чтобы отогнать прочь от своих границ скифские народы (gentes Scythicas). Или в соответствии с более правильной точкой зрения, они были занесены бурями Океана при Г. Юлии Цезаре[306]. Действительно, когда этот Цезарь, как пишет Луц[ий] Флор (Luc. Florus)[307], победил и перебил германцев (Germanis) в Галлии, и, покорив ближайшую часть Германии, переправился через Рейн (Rhenum) и [поплыл] по Океану в Британию (in Britanniam), и его флот был разметан бурей, [и] плавание было не слишком удачно, и пристали корабли предков наших к побережью, то, как полагают, они вышли на сушу там, где ныне находится крепость Жемайтии Плотели (Ploteli)[308]. Ибо и в наше время приставали иные заморские корабли к этому самому побережью. Здесь наши предки, утомленные и морскими трудностями и опасностями, и владеющие огромным количеством пленных, как мужчин, так и женщин, начали жить в шатрах с очагами, по военному обычаю, до сих [пор] бытующему в Жемайтии. Пройдя оттуда дальше, они покорили соседний народ ятвягов (jaczvingos)[309], потом роксоланов (roxolanos), или рутенов (ruthenos)[310], над которыми тогда, как и над москвитянами (Moscis), господствовали заволжские татары; и во главе каждой рутенской крепости стояли так называемые баскаки (basskaki)[311]. Они были изгнаны оттуда родителями нашими италами (italis), которые после стали называться литалами (litali), потом — литвинами (Litvani). Тогда с присущей им отвагой, избавив рутенский народ (populis Ruthenicis), земли и крепости от татарского и баскакского рабства, они подчинили своей власти все от моря Жемайтского (a mari Samagitico), называемого Балтийским (Ваlteum), до Понта Эвксинского, где [находится] устье Борисфена, и до границ Валахии (Valachiae), другой римской колонии и земель Волыни (Voliniae), Подолии (Podoliae), Киевщины (Kijoviae), Северы (Siewer), а также степных областей вплоть до пределов Таврики и Товани (Towani), [места] переправы через Борисфен, а отсюда распространились на север к самой крайней и самой близкой к стольному граду Московии крепости [называемой] Можайском (Mozaisco), однако, исключая ее, но включая Вязьму (Wiazmam), Дорогобуж (Dorohobusz), Белую (Biela), Торопец (Toropetz), Луки (Luki), Псков (Pskov),. Новгород (Novihorod) и все ближайшие крепости и провинции[312]. Впоследствии воинской доблестью расширив так владения их, они добыли корону с королевским титулом князю (principi) своему Миндовгу (Mindawgo), принявшему святое крещение[313]. Но по смерти этого короля погибли как титул королевский, так и христианство, пока соседний христианский с нами народ польский (gens Polona), не вернул нас к святому крещению и высокому королевскому титулу, в год [от Рождества] Христа 1386. Он пригласил счастливо правящего здесь прадеда Священного Величества Вашего, блаженной памяти Владислава (Wladislavum), по-литовски (Litvanice), называемого Ягелло (Jagelonem)[314], чтобы объединенная доблесть двух граничащих друг с другом народов усилилась в отражении общего врага имени христианского. В эту землю стекся изо всех других земель самый скверный народ иудейский (judaica), уже распространившийся по всем городам Подолии, Волыни и других плодородных областей; [народ] коварный, ловкий, лживый, подделывающий у нас товары, деньги, расписки, печати, на всех рынках лишающий христиан пропитания, не знающий иных способов [поведения], кроме обмана и клеветы; как доносит Священное Писание, это злейший народ из рода халдеев (chaldaeorum), развратный, греховный, неверный, подлый, порочный.
Извлечение из шестого фрагмента
Татары превосходят нас не только воздержанием и благоразумием, но и любовью к ближнему. Ибо между собой они сохраняют дружеские и добрые отношения. С рабами, которых они имеют только из чужих стран, они обходятся справедливо. И хотя они или добыты в сражении, или [приобретены] за деньги, однако более семи лет их не держат [в неволе]. Так предначертано в Священном Писании, Исход, 21. А мы держим в вечном рабстве не добытых в сражении или за деньги, не чужеземцев, но нашего рода и веры, сирот, бедняков, состоящих в браке с[315] невольницами. И мы злоупотребляем нашей властью над ними, ибо мы истязаем, увечим, казним их без законного суда, по любому подозрению[316]. Напротив, у. татар и москвитян (Moscos) ни один чиновник не может казнить человека, пусть и уличенного в преступлении, кроме столичных судей; и то — в столице. А у нас по всем деревням и городам выносятся приговоры людям. До сих пор мы берем налоги на защиту государства от одних лишь подвластных нам бедных горожан и беднейших земледельцев, обходя владельцев земель[317], тогда как они многое получают от своих латифундий (latifundiis), пашен, лугов, пастбищ, садов, огородов, плодовых насаждений, лесов, рощ, пасек, ловов, кабаков, мастерских, торгов, таможен, морских поборов (naulis), пристаней (portoriis), озер, рек, прудов, рыбных ловов, мельниц, стад, труда рабов и рабынь. А гораздо лучше шли бы военные дела и собирались нужные для нас подати, которые взимались бы с каждого человека, если бы пришло к концу начатое измерение всех земель и пашен, [принадлежащих] как шляхте, так и простому люду (plebeiorum)[318]. Ибо тот, у кого земли больше, больше и вносил бы.
Извлечение из седьмого фрагмента
Татары всегда держат своих жен взаперти. Наши же ходят без дела в гости друг к другу, вмешиваясь в мужские компании, одеты чуть ли не по-мужски. Вот откуда рождается соблазн. Они же ставят себе целью заполнить людьми землю, о которой говорится, что она создана для обитания, и распространить род человеческий во славу Господа. Кроме того, поскольку не каждая женщина плодовита, и не во всякое время месяца доступна для мужчины, и не всегда способна зачать, а, однажды зачав потомство, в это время не должна быть познана, ибо жена берется ради потомства, а не похоти, а от одного соития иногда бывает зачат плод не единственный, как видно на примере Фамари и Ревекки[319]. Поэтому, говорю я, татары так заботятся о жизненной силе мужского семени и остерегаются, как бы оно не растратилось впустую. Они следуют указаниям природы и достойному похвалы обычаю древних, о которых [говорится] в Библии,— они все, как один, имеют многих жен[320]. От этих браков они обретают большие по сравнению с нами силы, приобретают великое множество детей и родственников, а жены их, чем их больше, тем более ими любимы, и они наслаждаются счастливыми браками. Они не ищут ни большого приданого за невестами, ни красоты, ни славного рода, вплоть до того, что верховные вожди берут себе жен из купленных ими невольниц.
Впрочем, у нас, вопреки обычаю древних и святых людей и [согласно] животной природе (да не оскорбим этим слух благочестивых), иногда приходят многие к одной женщине, не ожидая от этого ни потомства, ни родства, ни иного плода дружбы, не боясь Бога. Они ищут приданого, ценят красоту, которой женщины привязывают к себе и покоряют мужчин. Они [женщины.—В. М.] становятся надменными и стремятся к тому, чтобы быть не столько непорочными, сколько денежными и красивыми, даже если деньги порой мнимые, [а] лица крашенные. Вот что получило распространение в народе нашем после обнародования известного закона Лит/овский/ стат/ут/ разд/ел/ 4, ст. 7, по которому в приданое женщины назначается определенная часть наследства[321]. Вот почему, возгордившись, они нередко пренебрегают добродетелью, неуважительно относятся к опекунам, родителям, супругам и готовы даже покуситься на их жизнь. Этим множеством жен достигается то, что соседние с нами перекопские татары, столько раз наголову разбитые нами, снова плодятся. Не так давно в войске Ослам Солтана[322] были собраны сразу 40 сыновей некоего Омельдеша (Omeldesz)[323], сильные, рожденные случайно в один год, может быть, и месяц, женами и наложницами его. Эта когорта из 40 братьев была великолепна. И ныне у реки Ваки (Vaka) есть большая татарская деревня (villa), издревле называемая Сорок Татар, то есть братьев[324]. Известно, что обычай покупки невест, который существует у татар, был также у израильтян (israelitas). Бытие, 29 и 1 Царств, 18[325]. Точно так же некогда и у нашего народа родители [жениха] должны были давать за невесту выкуп, который у жемайтов (Samagitis) называется крено (Krieno)[326]. Но ныне нас покупают приданым жен, и мы, стремясь обрести знатную родню, превращаемся из-за них в рабов.
Ни татары, ни москвитяне (Mosci) не дают женщинам никакой воли. А в народе говорят так: «Кто даст волю женщине, тот у себя ее отнимет». Они не имеют у них прав. У нас же некоторые главенствуют надо многими мужчинами, владея селами, городами, землями, одни обладая правом пользования, другие — по закону наследования. Одолеваемые похотью, они живут разнузданные под видом девства или вдовства и докучают подданным, одних преследуя ненавистью, других возвышая и губя слепой любовью, поскольку «горче смерти женщина» и «всякая злость мала в сравнении с злостию жены». Экклезиаст, 7 и 25[327].
И хотя власть женская достаточно позорна, даже в собственном доме, однако у нас принадлежат им крепости [вблизи] земель москвитян (Moscorum), татар, турок, валахов (Valachorum), которые следует вверять лишь сильным духом мужам[328]. Следовательно, не зря предки Священного Величества Вашего не давали женщинам воли и этого права наследования. Но выдавали их замуж по своему, а не по их разумению[329]: мужам, знатным не по богатству, не по роду, а по достоинству заслужившим знатность, проливая в сражениях кровь и свою и вражескую. Итак, даже храбро сражавшимся конюхам отдавались здесь жены за геройство; а назывались они Саконы (Sakones) и Сунгайлоны (Sungailones)[330].
Извлечение из восьмого фрагмента
Иные, прельстившись этими дарами, нередко даже из народа, стали хорошими воинами, с помощью которых предки Священного Величества Вашего вдоль и вширь раздвинули свои владения, так что даже ныне посреди Таврики и Московии и в других землях (provinciis) видны следы предков Величества Вашего: ведь там названы в честь Гедимина[331] и Витовта (Gediminei ас Vitowdini) валы, холмы, колодези, мосты, дороги, рвы, лагеря и стены[332], разрушенные их метательными машинами, о других же помнят, что они были уничтожены палками (baculis)[333] литвинов. Но все же ни в косности и ни в безделии не увядало мужество юных, они постоянно упражнялись в военном деле по обычаю их римских предков, ведь они не ждали объявления войны или грубого вторжения врага, или благоприятного летнего времени, но или из-за частного или из-за не слишком грубого нарушения начинали войну, иногда они нападали на стольный град москвитян (Moscovum) Москву перед Пасхой и там с поверженными врагами заключали мир[334].А ныне князь их страшен нам, поскольку он постоянно обучает людей своих воинскому искусству. Не подобает никому из местных жителей вечно сидеть дома, но надлежит поочереди посылать их на защиту границ. Над этой нашей ленивой беспечностью враги наши татары обычно зло насмехаются, когда мы после пирушек погружены в сон, [а] они нападают со словами-«Иван, ты спишь, [а] я тружусь, связывая тебя»[335]. Ныне наших воинов погибает в безделье по кабакам и в драках друг с другом больше, чем врагов, которые нередко разоряли нашу отчизну. А между тем в ратном деле на полях сражений в Подолии и Киевщине с трезвым и ловким врагом они имели бы большую возможность достичь воинской славы и могли бы превратиться из новобранцев в опытных воинов и вождей, и не надо было бы для этого искать людей на стороне. Предки Величества Вашего не гнушались подданными своими, в интересах которых было храбро сражаться и умирать за свои обычаи и отчизну. И если бы двоюродный брат Священного Величества Вашего король Венгрии (Hungariae) Людовик (Ludovicus) не предпочел наемников своим собственным воинам, им бы не пренебрегли в походе, не бросили бы в сражении и не растоптали бы при бегстве[336]. Узнал цену их верности дед и его, и Величества Вашего блаженной памяти Казимир (Casimirus), сражаясь с крестоносцами при Хойнице (Choinicze) в Пруссии,там, когда войско его пришло в замешательство, а он, исполняя долг воина и вождя [и] изнемогая от усталости и тяжести доспехов, на раненном коне был тут же окружен воинами народа нашего [и], пересев на другого [коня], рассеяв вражеские полчища, спасся от неминуемой гибели[337]. Подражая этому, и москвитяне (Mosci) не готовят в войско воинов-наемников, [которые] когда-нибудь уйдут из их земли (е regiono), и не расточают на них деньги, но стараются поощрять своих людей к усердной службе, заботясь не о плате за службу, но о величине их наследства. Ныне же наши воины, охраняющие границы, хотя и пользуются многими пожалованиями и льготами и имеют преимущества по сравнению с другими воинами, однако. пренебрегают ими, позволяя заниматься военным делом и защищать отечество беглым москвитянам (moscovitis) и татарам. Мы ежегодно подносим дары царю перекопскому (caesari praecopensi), тогда как наша литовская и жемайтская (Litvana et Samagitana) молодежь была бы полезнее в войске, обладая как врожденной отвагой, так и физической силой, и будучи более твердой и несгибаемой при обороне. Но не разумеют наши начальники (summates), что и государство стареет в праздности, и тела юношей более укрепляются на воинской службе» чем дома.
Фрагмент девятый
В Литве один человек занимает десять должностей, тогда как остальные исключены от исполнения их. А москвитяне (Moscus) соблюдают равенство между собой, множество обязанностей не возлагается на одного. Управление одной крепостью осуществляется одновременно двумя наместниками (prefectis), двумя писарями (notarii) в течение года или самое большее двух лет[338]. Это ведет к тому, что придворные (aulici), надеясь получить власть (praefecturae), более ревностно служат своему князю; и подданные пользуются милостью властей (praesidibus), поскольку в этом они должны дать отчет или предстать за это перед судом. Ведь осужденному (damnato) за взятки (repetundarum), надлежит вступить в поединок с пострадавшей стороной, даже с плебеем (plebeio). И пусть даже будет разрешено обвиненному (incusato) выставить на поединок другого вместо себя, все равно, если он потерпит поражение, обвиняемый (accusatus) приговаривается к уплате штрафа. Так что при дворе весьма редко слышатся жалобы на притеснения.
Даже и в повседневных делах блещет хитроумие этого варвара. Ведь он настолько ничем не брезгует, что продает мякину, сено и солому. На пирах же его используются большие золотые и серебряные чаши, называемые соломенными, то есть отлитые на выручку от сена и мякины. Осмотрительное распределение должностей приносит еще и ту выгоду, что те, кого он посылает защищать границы земель, исполнять общественные дела, а также отправлять зарубежные посольства, выполняют все эти поручения не на полученные от князя средства, а на собственный счет[339]. И если только все будет выполнено по приказу и повелению его, то в качестве вознаграждения они получают от него не наличные деньги, но отдельные из уже упомянутых префектур. Подобное этому было уже у римлян (Romanes), как свидетельствует Лука в Деяниях, гл. 24. «По прошествии двух лет,— говорит он,— на место Феликса поступил Порций Фест»[340]. А у нас, напротив, те, кого куда-нибудь посылают, даже если они еще не заслужили, все же вдоволь получают денег из казны, хотя многие и возвращаются, ничего не сделав. При этом они в обузу тем, через чьи владения лежит их путь, [и только] загоняют находящихся в их распоряжении лошадей, которых мы называем подводами (podwodas). А в Московии использование таких лошадей позволено лишь гонцу (tabellario), отправляющемуся срочно по государственному делу; быстро скача на них и часто меняя усталых (ведь повсюду для этого есть быстрые и свежие [кони]), они скоро разносят вести[341]. В Литве же канцелярия (canceiiaria) Вашего Величества не скупится на раздачу грамот (diplomatum) для такого рода поездок. Кроме того, наносится ущерб подводам, [которыми пользуются] для перевозки личного имущества придворных. И вследствие нехватки подвод мы без оповещения подвергаемся нападению врагов, опережающих вести об их появлении, посланные от самых границ. Ведь были не так давно освобождены от этой обязанности (ministerio) те, которые, издавна получив ее вместе с землей, должны были выполнять ее по всем дорогам от земель москвитян (Moscorum), татар и турок до стольного града нашего Вильны (ad Vilnam). Эти их привилегии (privilegia) следовало бы упразднить как вредные для блага государства. Имеется уже великое множество московских (Moscorum) перебежчиков, нередко появляющихся среди нас, которые, разведав дела и разузнав о деньгах, состояниях и обычаях наших, беспрепятственно возвращаются восвояси; пребывая у нас, они тайно передают своим наши планы[342]. А у татар они ходят в невольниках, у ливонцев (Livoniensibus) же таких убивают, хотя москвитяне (Mosci) не занимали никаких их земель, но всегда связаны с ними вечным миром и договором о [добро] соседстве. Более того, убивший получает кроме имущества убитого определенную сумму денег от правительства. Ибо открылось молящемуся Иисусу, сыну Сирахову: «Не верь врагу твоему вовек», «не ставь его подле себя, чтоб он, низринув тебя, не стал на твое место»[343]; если бы и мы руководствовались этими советами, то не потеряли бы ни крепостей, ни земель Северских (provincias Severenses). С ними отпали от нас Можайск (Mozaiski) и Ошомачиц (Ossomacitz)[344]. Города эти были бедны, когда перешли к нам, а от нас отошли богатые и усиленные целыми землями, которые были вверены их управлению (administrationi). Ведь это род людей коварных и вероломных, всегда неискренних и ненадежных. Вернувшись на родину и став полководцами (duces), они дерзко опустошали наши земли (regiones). Среди перебежчиков москвитян (Moscos), которые глубокими ночами убивали жителей Вильны и освобождали из тюрьмы пленников своего рода, был один священник (presbyter), который, тайно проникнув в королевскую канцелярию (cancellariae regiae), доставлял своему князю (ducem) копии договоров (foederum), постановлений (decretorum), указов (consiliorum). Другой купил у одной девушки евхаристию, используемую при таинстве причастия, для чародейства и ворожбы. И когда в 1529 году вся Вильна сгорела дотла[345], то такие вот пронырливые и преступные люди немедленно донесли своему князю (principi). Здесь в соборной церкви блаженного Станислава (Stanislai)[346], крытой свинцом с золочеными верхами, украшенной также драгоценными каменьями, вместе со многими золотыми, серебряными сосудами, сгорело и около трехсот старинных знамен, добытых в победах над роксоланами, москвитянами, (Moscorum), алеманами (Alеmanorum) и другими народами. После победы над москвитянами (Moscus) при Орше (ad Orsam) в день Рождества Девы Марии, 8 сентября 1514 г., когда убитых и взятых в плен было восемьдесят тысяч[347], к этим знаменам были присовокуплены еще 12. Ведь этим хитрым человеком перебежчику, возвратившемуся даже ни с чем, установлено вознаграждение: рабу— свобода, плебею — знатность, должнику, опутанному долгами,— свободу от долгов, преступнику — прощение. Есть у нас славная крепость и град Киев (Kiovia). Она, однако, как и прочие, запущена: с холмов ее, как гласит народная поговорка роксоланов, можно видеть многие другие места. Главная среди прочих крепостей и земель, поставленная на реке, со всех сторон окруженная полями и лесами, она обладает настолько плодородными и легкими для обработки почвами, что всего раз вспаханные на двух волах они дают щедрые всходы. Родятся также дикие травы, с корнями и стеблями, пригодными для пищи человека, и деревья с разными изысканными плодами, а также виноград. Чем более ухожен виноград, тем крупнее грозди; кроме того, по берегам реки в обилии растет дикий виноград. В дуплистых от старости дубах и буках роятся пчелы, мед которых изумителен на цвет и вкус.
В лесах и полях обилие таких животных, как зубры, онагры, олени; их в таком количестве убивают ради шкур, что все мясо из-за чрезмерного изобилия выбрасывают, кроме филейных частей. На диких коз и кабанов они не обращают внимания. Антилоп, когда они переходят зимой из степей в леса, а летом — в степи, такое множество, что каждый крестьянин убивает тысячу. По берегам рек то и дело встречаются домишки бобров. Поразительное изобилие птиц, такое, что дети весной наполняют лодки яйцами уток, лесных гусей, журавлей, лебедей, потом птенцами их заполняют садки. Орлят держат в клетках ради перьев, чтобы потом делать оперение для стрел.
Собак кормят дичью и рыбой. Ведь реки кишат невероятным количеством мальков и разной крупной рыбой, поднимающейся из моря вверх, в пресные воды. Некоторые из них называются золотыми, прежде всего Припять (Pripiecz). В одном месте, у Мозыря (Mozir), у устья речушки Туры (Tur)[348], свежей струёй вытекая из источника, ежегодно в календы марта, она наполняется таким множеством рыбы, что копье, вставленное в гущу ее, застревает и не падает, как если бы его воткнули в землю. Так плотно идет рыба. Я и сам бы этому не поверил, если бы не видел часто, как оттуда беспрестанно вычерпывают рыбу и наполняют ею ежедневно около тысячи повозок чужеземных купцов, которые каждый год съезжаются туда в одно и то же время.
Из всех же имеющихся там рек самой большой и обильнейшей является Борисфен, снабжающий Киев не только огромным количеством рыбы, но также и многим другим. В него с востока выше Киева впадают реки Десна (Dessna), Сейм (Siem) и другие из земли Северской (provincia Sevieriensi) и Московии. С севера же, запада и юга вливаются в него Сож (Sos), Березина (Beresina), Припять (Prypiecz), Словечна (Slorzesnia), Уша (Ussa), Тетерев (Teterew), Рпев (Rpiew), образованные каждая реками Вехрой (Vechra), Пропастью (Propascz), Ипутью (Iputz), Друтью (Drutz), Бобром (Bobr), Титвой (Titwa), Птичью (Pczit), Случем (Slucz), Орессой (Oressa), Стырем (Stir), Горынью (Horinia), Пеной (Piena)[349]. Текут и многие другие из земель Литвы, Руссии, Волыни и Московии; вниз и вверх по всем ним в Киев доставляется рыба, мясо, меха, мед и соль из Таврических лиманов (ex lacunis Tauricensibus), называемых Качибичов (Kaczibiciow)[350]. Там наполнить целый корабль солью стоит десять стрел.
Полезен также Борисфен всем землям Величества Вашего для отражения набегов татар. Ведь и у плывущих по нему ниже Черкасс (Cerkassi) в одиннадцати местах встают на пути пороги (liminaj, имеющие свои названия[351]. Они представляют Крудности из-за крутых и лежащих поперек пути подводных камней. Их можно преодолеть, только разгрузив суда, а из-за высоких, крутых, скалистых берегов к ним нельзя пристать, а переправа возможна лишь в нескольких местах ниже Черкасс (Cirkassi). Они [переправы] называются Кременчуг (Кегmieczik), Упек (Upsk), Гербердейев Рог (Hierbedeiewrog), Maщурин (Massurin), Кочкош (Koczkosz), Товань (Towany), Бурхун (Burhun), Тягиня (Tyachinia), Очаков[352]. Если бы в этих местах стояли да.же небольшие морские отряды, то они могли бы преградить путь огромным татарским полчищам. Ведь, когда они переплывают, как обычно, без судов, привязавшись к коням и безоружные и нагие, то их разбивают те, которые устремляются на суденышках с островов, из камышовых зарослей и ивняка.
Но насколько наш Борисфен опасен для перекопских [татар] летом, настолько удобен зимой, ибо, когда прекращается судоходство, они спокойно пасут свои стада за рвом на островах и в ивняках этой реки. Поэтому они говорят, что он струится медом и[353]молоком. Ибо он, протекая в верховьях лесистыми и медоносными, в низовьях — степными и пригодными для пастьбы местами, дает местным жителям обилие молока и меда. Поэтому они убеждены, что им следует хранить мир и союз с великим князем Литвы, владыкой Борисфена. Вся эта река, от истока до устья, а именно и на востоке и на западе, протекает по землям, [находящимся] с древних времен под властью литовской, близ крепостей, перечисленных мною,— Вязьма (Viazma), Дорогобуж (Dorohobusz), Смоленск (Smolensko), Дубровна (Dubrowno), Орша (Orssa), Могилев (Mohilew), Рогачев (Rohaczow), Быхов (Bihow), Речица (Reczicza), Любеч (Lubecz), Чернобыль (Czornobil), Киев (Kiow), Канев (Kaniew), Черкассы (Czerkassi) и Дашов (Dassow), иначе— Очаков. Там он впадает в море, разделенный на двенадцать рукавов. Все вместе они называются Лиман (Linien), [а один из них] близ устья Днестра (Dnestri) имеет название Видово (Vidovo), по имени поэта Овидия, [так как] полагают, что он хил в изгнании в этой части Понта[354]. Так считается, что и Илион (Ilium), или Троя (Troiam), некогда находились на киевской территории (territorio Kioviensi), в плодороднейших степях и живописнейших[355] лесах. Здесь можно видеть памятники, от которых ныне сохранились развалины, подземелья, гроты, мраморные плиты и остатки мощных стен. Это давно покинутое, но весьма удобное для обитания место называется ныне Торговица[356] (Torgovitza).
Киев изобилует также и заморскими товарами. Ведь каких только каменьев, шелковых [одежд], вытканных золотом, шелков, курений, благовоний, шафрана, перца и прочих пряностей и доставляют из Азии, Персии (Perside), Индии, Аравии (Аrаbia), Сирии (Syria) на север (Septentrionem), в Московию, Псков (Plescoviam), Новгород (Novogardiam), Швецию (Sveciam), Данию (Daciam), не каким иным более надежным, более прямым и более проторенным путем, но именно этим, древним и весьма наезженным, ведущим от порта Понта Эвксинского, то есть от города Каффы, через ворота Таврики (per portam Taurice) и Тованский перевоз на Борисфене, а оттуда степью в Киев. Ведь имеют обыкновение ходить туда чужеземные купцы, большей частью в тысячу числом, собравшись в группы (cohortes), называемые караваны (korovani), со многими нагруженными повозками и навьюченными верблюдами. Они издревле платили за знак на таможне[357] предкам Священного Величества Вашего, при переправе через Борисфен у Товани. Там и ныне существует сводчатое помещение из цельного камня, которое и нами, и жителями Таврики (Tavricani), и греками называется Витординской баней (balneum Vitordinum)[358]. И говорят, что здесь останавливался сборщик налогов (publicanus) великого князя Литвы, собиравший пошлину. Так что, если кто-нибудь не уплатил пошлину или был уличен в беспошлинном провозе товаров, на того налагался штраф, а все его добро изымалось для Киева. Этот закон, называемый осменничество (Ossmicztwo)[359], поставленный с целью обуздать сарацинскую (Saracenicae) алчность, и служивший много веков, не так давно начал выходить из употребления.
Когда же купцы, чтобы избежать двойной переправы через Борисфен, не желая платить пошлину Величеству Вашему, отклонившись от древнего пути, ведущего через владения Величества Вашего, идут вниз от ворот Таврики, прямо устремляясь по нехоженным полям в Московию к Путивлю (Putivl), или возвращаются из него, то случается, что там их грабят, да и разбойники нападают.
Вот тогда сильно наживаются киевские жители (praesides): сборщики налогов, купцы, менялы (trapezitae), лодочники (naucleri), извозчики (vectores), трактирщики (lixae), кабатчики (caupones), и до сих пор на это не жаловались ни москвитяне (Moscus), ни турки, ни татары. Но и тогда получают они выгоду от этих караванов, когда иной раз те идут зимой по непроходимым полям и гибнут под снежными заносами.
Так случается, что киевские хаты, изобилуя плодами и фруктами, медом, мясом и рыбой, но грязные, полнятся драгоценными шелками, каменьями, соболями (zobolis) и другими мехами, пряностями, настолько, что я видел там шелк дешевле, чем в Вильне лен, а перец дешевле соли. А счастливая и обильная Киевщина богата и людьми, ибо на Борисфене и на других впадающих в него реках есть немало многолюдных городов, много деревень, жители которых уже с детства приучаются плавать, ходить на судах, ловить рыбу, охотиться; из них одни скрываются от власти отца, или от рабства, или от службы, или от [наказания за] преступления, или от долгов, или от чего иного; других же привлекают к ней, особенно весной, более богатая нажива и более обильные места. И испытав радости в ее крепостях, они оттуда уже никогда не возвращаются; а в короткое время становятся такими сильными, что могут кулаком валить медведей и зубров. Привыкнув к жизненным невзгодам, они становятся весьма отважными. Поэтому там очень легко набрать множество добрых воинов[360].
Она была владением князей Руссии и Московии; в ней они также приняли христианство; и ныне в ней есть величественные старинные церкви (basilicas), воздвигнутые из полированного мрамора и прочих заморских материалов, крытые свинцом, медью, а также и позолоченными пластинами. Есть и весьма богатые монастыри (monasteria), особенно тот, что посвящен Благой Деве Марии. Он хранит в своих подземельях и подземных ходах многие гробницы, в которых лежат нетленные и иссохшие останки: поскольку они считаются святыми, то с благоговением почитаются рутенами. Ибо они полагают, что души тех, чьи тела погребены здесь, обрели от этого вечное спасение. Поэтому вся самая высшая знать, даже из отдаленных мест, и деньгами и дарами стремится заслужить право быть погребенными здесь[361]. Князь москвитян (Moscorum) собирает ежегодно значительные доходы с тех владений этого монастыря, которые отошли к нему. Но он не спешит возвратить их, потому что сам всеми силами желает овладеть этим городом, который по сердцу ему, утверждая, что он — потомок Владимира (Volodimiri), киевского[362] князя. Немало печалятся и люди его, что не владеют столь древней столицей царей (cathedram stemmatum) и святынями ее.
При всех удобствах города, есть у него и свои неудобства. Ведь жители его не защищены от татар, нападающих на границы его из засад. Однако они не пытаются взять его силой. Грозят приезжим и лихорадки, происходящие от дневного сна, а также от переедания рыбы и плодов; коням же их—от травы, зараженной разливами богатого рыбой Борисфена. Посевы же очень часто портит саранча, налетающая из приморских мест. Родятся там у рек и в лесах рои как пчел, так и прочих насекомых, вредных для крови, таких, как бескрылая саранча, комары, мухи, особенно много их с июльских календ.
Извлечение из десятого фрагмента
Религия, или закон, общий у татар с турками, а также с прочими сарацинами, напоминает иудаизм (judaismum) и несторианскую ересь (haeresim Nestorianum)[363]. Они признают единого и цельного (simplicem) Бога. Ибо они верят в Христа, святого проповедника и конечного судию мира, рожденного от непорочной Девы. но не претерпевшего страстей. Они соблюдают обрезание. Но его производят в таком зрелом возрасте, в каком подвергся обрезанию Измаил (Ismahel), патриарх их. Рассказывают, что возникла эта секта (secta) в Мекке (Меcha)[364], городе Аравии, около 600 года от Рождества Христова при содействии иудеев (judaeis), переселившихся туда. после падения Иерусалима, по злому умыслу некоего монаха и злостного вероотступника Сергия (Sergii), на погибель христианства (Christianitatis). Она [была] создана одним неграмотным арабом (Arabem), наделенным весьма острым умом. Он, став из возницы мужем и господином богатой женщины, возжелал также возыметь власть над своими [людьми]. Когда эта попытка не удалась, он выдал себя за посланника (nuntium) и пророка божьего и убедил [в этом] арабских идолопоклонников[365]. Вера эта, которую они считают себя обязанными распространять оружием, настолько баснословна, что они высшее благо и наслаждение полагают в удовольствиях, которыми блаженные будут наслаждаться в будущей жизни посредством вкушания, осязания и всех внешних чувств. И все же варвары в таком скотском заблуждении бахвалятся, что они близки Богу, а любовью и деяниями, которыми умилостивляют Божественное Величие, превосходят нас. И они сулят, что по делам Бог благосклонен к ним и надеются, что положение их дел со временем улучшится; таково человеческое тщеславие.
Нас же, христиан, из-за большой небрежности к божественным делам и тому, какие один другому наносит вред, зло, они порицают, осмеивают, попрекают, [говоря], что [мы] варвары, безбожники, случайно носящие имя Христа, не принадлежащие к его вере, и почитают нас недостойными общения с ними. Они свято чтут правосудие. Они проповедуют свою религию с неутомимым рвением. Молитвой они начинают день и молитвами кончают. Ежедневно утром, вечером и днем они молятся; и ничто не может заставить их отказаться от этого. Это дело они возлагают не только на священнослужителей (sacerdotes), хотя и их они имеют для молитвы и толкования веры. Любой у них, как клирик (clericus), так и мирянин (laicus) и тайно, и пред людьми на всеобщих сходках исповедуют Бога, Землю, на которой они, всегда трезвые, с конечностями, омытыми очистительной водой, беседуют с Богом, подражая Священному Писанию, они почитают святой и простираются на ней. В святилищах у них нет никаких сидений. Они производят своеобразные жесты, предписанные и определенные законом, воздевают ладони к небу, преклоняют колени, наклоняясь до самой земли, припадают к ней лицом, всем сердцем, и всеми членами они предаются молитве, в которой они говорят не слишком много слов, но исключительно эти: «Единому и бессмертному Богу, Творцу неба и земли, кроме которого нет иного, честь и слава во веки веков».
К молитве они присовокупляют пост. Ведь они целыми днями умерщвляют души свои не только голодом и жаждой, но воздерживаются от всякого нечестивого слова и дела, не помышляя ни о чем, кроме божественного, до глубокой ночи, когда они принимают пищу не для пресыщения, но для восстановления сил. Им смешны наши посты, не включающие ни голода, ни жажды, ни пепла[366], ни размышлений о божественном, ни бдений, ни молитв.
Они щедры и раздавая милостыню. Ведь они не позволяют никому из своего народа нищенствовать или умирать от голода и холода. Однако с этими благодеяниями неразлучно связана справедливость. Ибо они дают не тем, кто превратит милостыню в алчность и роскошь, но беднякам, больным, паломникам, ученым (scholasticis), овладевающим знаниями писаний и обрядов их религии.
Выведывать божественные тайны у них считается грехом и невежеством, они проклинают нашу дерзость, поскольку иные из нас божественные суды и тайны, которые они называют великой бездной, обсуждают в застольях, всуе поминая имя Божие[367]. Татары высмеивают наших церковников или пророков (prophetas), порицают, что храмы полны украшений, сидений, алтарей, образов стареющего Бога и красивых женщин, возбуждающих похоть, [что] в них на сидениях почтеннейшие [люди] мирно восседают [и] спят, когда идет служба, а бедным людям не позволяют садиться; сами ходят в храмы, окруженные большой свитой (stipatores), позволяют им стоять возле себя, выставляя напоказ свою гордыню. А у татар нет ни одного хана (tyrannus), который окружал бы себя в синагоге служителями (apparitor) или телохранителями, дабы не выделяться среди народа. Он не претендует на то, чтобы восседать, его смирение соразмерно его величию.
Нас приглашают в храмы удары бронзы, их — громкие выкрики некиих слов хвалы Господу; они осуждают, что мы, вознося хвалу Господу, услаждаем слух наш трубами (buccinis), органами (organis), пением (harmoniis), невнятными словами молитв, а между тем природные наши органы безмолвствуют.
Те, кто являются у них священнослужителями, не жадны, не тщеславны, не преданы ни удовольствиям, ни наживе, менее всего связаны с мирскими делами, но они честные, кроткие, скромные, прилежные в своей службе, преданы вере; они только отправляют службу и толкуют закон. Ведь порицают наших священников не только язычники, но и соседние с нами рутены за то, что они пьют вино, а это — излишество, едят мясо и не женятся, подавляя в себе желание производить себе подобных. Ибо никто не может быть воздержанным, если Бог того не дал. От этого воздерживаются безбрачные греческие монахи. В то же время священники издревле имели своих жен, что явствует из многих мест Священного Писания: Левит 21. 3; Ездра 9; Даниил 14; Езекиил 44; Варух 6; Лука 1. 10; 18; у Тита 1. Если бы и наши поступали теперь так же, воздерживаясь за три дня до несения сосудов божиих, то жили бы непорочнее, нежели как изнеженные гурманы в этом поддельном безбрачии.
Они всегда сгорают от вожделения или содержат наложниц, то есть, как говорит Софония, «оскверняют святыню»[368]. И, однако, мы на этих наемников (mercenaries) возлагаем обязанность восхваления Бога, трудную для нас, тогда как они скорее гневают Бога своими дурными нравами, чем угождают ему. Обязанности, порученные им нами, возлагают они на нерадивых наместников; сами между тем предаются удовольствиям и праздности; как трутни поедают пчелиный мед, так они — труд народа, пируют и роскошно одеваются. К церковным обязанностям, многим одновременно, еще не достигнув зрелого возраста, не испытав себя, необдуманно стремятся, [а потом] погружаются в мирские и кощунственные дела.
И хотя некогда священникам нельзя было иметь часть владений с народом Божиим, кроме десятины, однако наши не удовлетворяются десятинами, приношениями за отпущение грехов и другими разными доходами (quaestibus), которые они получают от богатых, бедных, новорожденных, вступающих в брак, больных, умирающих, умерших; к тому же кроме богатых имений (opima praedia) они стремятся управлять многими церквами одновременно, во вред обществу, вопреки закону и разуму, так как они в большинстве случаев не живут при тех церквах, в которые вошли непризванные, по словам Господа нашего, не через двери, но как воры и разбойники. Они сдают их мирянам, купцам, сводникам, продают. Есть много [церквей], которые никогда не видели своих пастырей (pastores) или приходских священников (plebanos).
Если кто-нибудь от границ королевства (regni) по всей Литве и Жемайтии, а также Руссии стал бы искать пастырей в церквах, приносящих такие доходы, что одна церковь может прокормить многих [пастырей], то не нашлось бы ни одной, где бы пастырь пребывал постоянно или же часто ее посещал. Поэтому пошатнулась вера в пастве, охладела любовь к Богу, перестали возносить хвалы Господу. И против таких [пастырей] во многих местах гремят слова[369] Божий. Но я не хочу навлечь на себя гнев священников, которым мы должны повиноваться и перед которыми должны представать, после того как я задел столь много разных людей. Довольно было размышлений об этом. Если бы положение это было исправлено, мы жили бы счастливее, вознося хвалу Вашему Королевскому Величеству, но особенно — величию Божьему.
Библиография
Издания «Трактата» Михалона Литвина
Michalonis Lituani De moribus tartarorum, lituanorum et moschorum fragmina X, multiplici historia referta // Michalonis Lituani De moribus tartarorum, lituanorum et moschorum fragmina X, multiplici hictoria referta et Johannis Lasicii poloni De diis samagitarum, caeterorumque sarmatarum et falsorum christianorum. Item de religione armeniorum et de initio regiminis Stephani Batorii / Nunc primum per J. Jac. Grasserum, C. P. ex manuscripto authentico edita. Basileae, apud Conradum Waldkirchium, MDCXV. P. 1-41.
Quaedam ad Litvaniam pertinencia ex fragmentis Michalonis Lituani // Respublica sive status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc. diversorum autorum. Lugduni Batavorum, 1626; 1627. P. 265-274, 291-309.
Appendix ex Michalone Lituano de moribus tartarorum, lituanorum et Moscorum // 1) Respublica Moscoviae et urbes. Lugduni Batavorum, 1630. P. 557-565; 2) Russia seu Moscovia, Itemque Tartaria. Lugduni Batavorum. 1630. P. 192-206.
Quaedem ad Litvaniam pertinencia... // Laet J. de. Respublica sive status Regni Poloniae... Lugduni Batavorum. Ex officina Elzeviriana. 1624. P. 246-254.
Литвин М. Десять отрывков разнообразного исторического содержания (из сочинения) Михалона Литвина «О нравах татар, литовцев и москвитян» / Пер. С. Д. Шестакова // 1) Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. 1854. Кн. 2. Пол. 2. Отд. 5. С. I-VIII; 1-78; 2) Вестник Юго-Западной и Западной России. Т. III. Киев, 1864. Февраль. С. 23-38; март. С. 39-50.
Известия очевидцев, современников и иностранных писателей // Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. Издан Временною комиссией для разбора древних актов при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Киев, 1874. Отд. 2. № 6. С. 10-11.
Bevardis V. [Matulionis P.] Kas mus gaisino. Perzvelgimas veikalo «De moribus tartarorum, litvanorum et moscorum», rasyto jau po 1544 m. per «Lietuvi Mikoluna». Bazilejuskio isdavimo 1615» // Lietuviskasis balsas, 1888. P. 203-205, 211-212, 219-220, 228-231.
Литвин М. [О нравах татар, литовцев и москвитян]. Отрывки 1-10./ Пер. К. Мельник. Предисл. и ред. В. Б. Антоновича // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. I. Киев, 1890. С. 6-58.
Бочкарев В. Н. Московское государство XV-XVII вв. по сказаниям современников-иностранцев. Спб., 1914. С. 28.
Mykolas Lietuvi s. Apie totoria, lietuvia ir maskverw paprocius. Vilnius, 1966.
Исследования
Александрович Я. О творчестве Михаилы Цiшкевича // Полымя, 1968. № 4.
Антонович В. Б. Извлечения из сочинения Михайлы Литвина (1550 г.) // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. I. Киев, 1890. С. 1-6.
Батура Р. К., Пашуто В. Т. Культура Великого княжества Литовского // Вопросы истории, 1977, № 4.
Голенищев-Кутузов И. Н. Гуманизм у восточных славян (Украина и Белоруссия). М., 1963.
Лaппo И. И. Литовский статут 1588 г. Каунас, 1936.
Любавский М. К. Кто был Михаиле Литвин, написавший в половине XVI в. трактат «О нравах татар, литовцев и московитян» // Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук. Уч. зап. Ин-та истории. М., 1929. Т. 4.
Охманьский Е. Михалон Литвин и его трактат о нравах татар, литовцев и московитян середины XVI в. // Россия, Польша и Причерноморье в XV-XVIII вв. М. 1979. С. 97-117.
Сокол С. Ф. Социологическая и политическая мысль в Белоруссии во второй половине XVI в. Минск, 1974. С. 35-63.
Сокол С. Ф. Идеи гуманизма в мировоззрении Михаилы Тышкевича // Проблемы общественных наук. Минск, 1970.
Юргинис Ю. М. Посольство Михаила Литвина у крымского хана в 1538-1540 гг. // Россия, Польша и Причерноморье в XV-XVIII вв. С 87-96.
[Юхо Я.] Михайло Тишкевич. Полымя, 1968. № 4.
Avizоnis K. Lietuviu kilimo is romenu teorija XV ir XVI a. Kaunas,. 1939.
Bandtke J. S. Historia drukarn w Krolestwie Polskiem i Wielkim Xiestwie Litewskim. Krakow, 1826. Т. З.
Basanavicius J. Rinktiniai rastai. Vilnius, 1970.
Bender J. Zur altpreussischen Mythologie und Sittengeschichte // Altpreussische Monatsschrift. Koenigsberg, 1867. Bd 4.
Bentkowski F. Historja literatury polskiej. Warszawa, 1814. Т. 2.
Connor В. Descriptio Regni Poloniae et Magni Dukatus Lithuaniae // Mitzler de Kolof L. Historiarum Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae scriptorum quotquot ab initio reipublicae Polonae ad nostra usque temporar extant omnium collectio magna. Varsaviae, 1769. Т. 8.
Estreicher K. Bibliografia polska. Krakow, 1882. Т. 8.
Estreicher K. Ksiegarstwo // Encyklopedia Orgelbrada. Warszawa, 1864. Т. 16. S. 352-360.
Gaigalaite A. Kas buvo Mykolas Lietuvis // Komunistas, 1978. N 4. P. 67-71.
Gudavicius Е. Jerzy Ochmanski. Michalon Litwin i jego traktat о zwyczajach tatarow, litwinow i moskwicinow z polowy XVI wieku // Lietuvos istorijes metrastis 1977 metai. Vilnius, 1978. P. 158-162.
Hartknoch Ch. Selectae dissertationes historicae de variis rebus prussicis. Francofurti et Lipsiae. 1679.
Hartnoch Ch. Alt und Neues Preussen. Frankfurt und Leipzig. 1684.
Hierne T. Ehst-, Lyf-und Lettlaendische Geschichte. Riga, 1835.
Jablonowski J. A. Musaeum polonum. T. 1. Leopoli, 1752.
Jakubovskis J. Tautybiu santykiai Lietuvoje pries Liublino unija. Kaunas, 1921.
Jaroszewicz J. Obraz Litwy pod wzglgdem jej cywilizacji od czasow najdawniejszych do konca wieku XVIII. Warszawa, 1844. Cz. 2.
Jurginis J. Renesansas ir humanizmas Lietuvoje. Vilnius, 1965.
Jurginis J. Mykolo Lietuvio memuarai // Jurginis J. Istorija ir poezija. Vilnius, 1969.
Jurginis J., Luksaite J. Lietuvos kulturos istorijos bruozai: Feodalizmo epocha. Iki astuonioliktojo amziaus. Vilnius, 1981.
Kawecka-Gryczowa A. Z dziejow polskiej ksiazki w okresie renesansu. Wroclaw, 1975.
Krauze A. G. Litthauen. Koenigsberg, 1834.
Laukуs J. (Daukantas S.) Budas senoves lietuviu kalnena ir zemaiciu. Petersburg, 1845.
Lelewel J. Rzut oka na dawnosc litewskich narodow i zwiazki ich z herulami. Warszawa, 1808.
Lietuvitt literaturos istorija. T. I. Vilnius, 1957.
Maciunas V. Lituanistinis sajudis XIX amziaus pradzioje. Susidome-jimas lietuviu kalba, istorija ir tautotyra. Kaunas, 1939.
Mazoji Lietuviskoji Tarybine enciklopedija. T. II. Vilnius, 1968.
Narbutt T. Dzieje starozytne narodu litewskiego. Warszawa, 1837.
Nettelhorst V. Ch. Dissertatio historica de originibus Prussicis. Regiomont, 1674.
Ochmanski J. Michalon Litwin i jego traktat о zwyczajach tatarow, litwinow i moskwicinow z potowy XVI wieku // Kwartalnik historyczny, 1976. R. 83. Z. 4. S. 765-783.
Pоblосki L. von. Kritische Beitraege zur aeltesten Geschichte Litauens // Altpreussische Monatsschrift. Koenigsberg, 1880. Bd 17.
Purycki J. Die Glaubenspaltung in Litauen im XVI. Jh bis zur Ankunft der Jesuiten im Jahre 1569. Freiburg, 1919.
Rawita Gawronski F. Kijow: Legendy, podania, dzieje. Kijow, Warszawa, 1915.
Ruigу Р. Betrachtung der littauischen Sprache in ihrem Ursprung, Wesen und Eigenschaften. Koenigsberg, 1745.
Rimsa E. Venclovas Agripa ir jo gimine: Kilme ir pirmtakai // Lietuvos TSR MA darbai. Ser. О. T. I (94). 1986. P. 63-75.
Rimsa E. Agripu gimine // Lietuvos TSR MA darbai. T. II (95). 1987. P. 75-83.
Rocka M. Mykolas Lietuvis. Vilnius, 1988.
Rocka M. Apia XVI a. vidurio Vilniaus paskvilius // Literatura, 1969. T. 11. Sas 1. P. 39-46.
Siarcinski F. Obraz wieku panowania Zygmunta III. Cz. I. Lwow, 1828.
Wiszniewski M. Historja literatury polskiej. Krakow, 1845. T. 7.
Zajanckauskas V. Lietuviu literaturos vadovelis (1400-1904). Vilnius, 1924.
Zabulis Н. Mykolo Lietuvio problema ir M. Rockos «Mykolas Lietuvios» // Rocka M. Mykolas Lietuvis. Vilnius, 1988. P. 174-205.