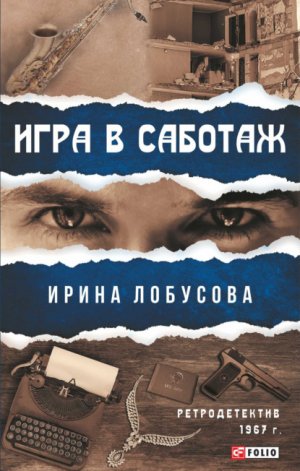
© И. И. Лобусова, 2020
© Е. А. Гугалова-Мешкова, художественное оформление, 2020
© Издательство «Фолио», марка серии, 2018
Глава 1
1 марта 1967 года, центр Одессы
Тень появилась со стороны стены. Сначала это была небольшая точка в пространстве, маленькое черное пятно, которое можно было и не разглядеть. Он бы и не разглядел, если б не обостренное чувство тревоги, возникающее всегда, когда он приближался к своему дому.
Стоило только ступить ногой в свой переулок, как острые иглы под кожей моментально впивались в позвоночник, мешая двигаться и дышать. Собственно, ничего вначале и не было – просто он приближался к своему дому, в котором прожил не один год, и в обычных обстоятельствах ему было бы так легко и приятно возвращаться домой… Раньше – до этого момента, как в глубине позвоночника появился нервный тик, и он словно превратился в обезумевшее от страха животное, боящееся своей собственной тени.
Когда же он начал бояться собственной тени? К его обиде и ужасу, он совсем не помнил этого момента. Возможно, просто очнулся однажды ночью от тревожного, яркого, необычайно цветного сна – а в последнее время ему постоянно снились именно такие, тревожа старые, забытые раны, – и схватился за грудь, потому что стало трудно дышать.
Да, пожалуй, именно так это все и началось – ему стало трудно дышать, воздуха не хватало настолько, что перед глазами отчетливо заплясали черные точки, а к горлу потянулись скрюченные, сведенные судорогой пальцы, пытавшиеся разодрать кожу и гортань, чтобы впустить в нее воздух. Настоящий поток свежего воздуха в кровоточащую, разверстую рану своего горла, клокотавшего черной, лишенной кислорода кровью. Да, именно так все началось – с ощущения того, что он не может дышать.
Он никогда до этого не думал, что одними из самых страшных на свете являются муки удушья. К твоему лицу словно подносят плотную резиновую подушку, и ты больше не можешь пошевелиться. Жесткий, царапающий, лишенный воздуха язык уничтожает горло, скребет кожу, как наждак, потому что воздух – это все равно что влага, без него все вокруг превращается в жесткую, страшную, выжженную пустоту.
Он отчетливо помнил, как задыхался, как умирал, как стремительно нарастала резь в глазах. И это было похоже на падение в бесконечную пропасть, в которой не существует ничего, кроме острых утесов и выступов, о которые бьется в полете и без того истерзанное тело.
Еще он помнил то ощущение ужаса, которое вдруг стало таким же мучительным, как и нехватка воздуха. И это, пожалуй, было самым жутким, что только могло с ним произойти.
Он понимал, что находится в квартире один, что никто не прийдет ему на помощь. Он задыхался в одиночестве, в сплошной пустоте, и это было так же страшно, как и физические муки.
А потом все прошло, отпустило – как по мановению волшебной палочки. Он сам не понимал, как, обессилев, рухнул на край своей кровати и так застыл, не понимая, на каком находится свете. И ему хотелось лежать так целую вечность, чтобы не возвратилась эта боль…
На следующее утро придя на работу в институт, он сказал своему коллеге и другу, с которым сошелся ближе, чем со всеми остальными:
– Я здесь задыхаюсь. Я не могу здесь дышать. – Сказал искренне, пытаясь выразить словами то, что его мучает, потому что это невозможно было уже держать в себе. Он ни на что не надеялся – сказал просто так.
Реакция коллеги его поразила. Тот дернулся, буквально отлетел в сторону и зашипел, как гадюка, вытащенная на солнце:
– Молчи! Молчи!! Не смей такое говорить!
– Ты о чем? – Он ничего не понял, наверное, потому что полностью утонул в своих мыслях.
– Не смей такое произносить вслух! Нас всех из-за тебя посадят! Ты чудовище!! Если думаешь о себе, тебе плевать на свою собственную жизнь, так подумай о других!
Тогда он понял всю двусмысленность своей фразы и иронически скривил губы, а потом повторил – назло, так, как делал всегда:
– Послушай – я не могу дышать здесь! Не могу дышать в этой стране! Мне не хватает воздуха. Да, ты прав. Тебя посадят со мной? Так оно и к лучшему – давно тебе пора узнать настоящую жизнь.
Надо было видеть, с какой скоростью отскочил от него его коллега, человек, которого он считал своим другом. С горечью он понимал, что теперь на одного друга у него стало меньше. А потом засомневался – другом ли был он?
Жалости, что сказал правду, не было, ну вот ни капли. Он всегда говорил правду в лицо, он знал, что это было самым страшным его недостатком, который всегда отвращал от него и друзей, и коллег, и женщин. Но бороться с ним он не собирался. Да и недостаток ли это – говорить то, что он думает, в глаза?
В первый раз, когда его пригласили в Управление КГБ на Бебеля для так называемой «беседы», его допрашивал очень умный и, похоже, образованный следователь, который весьма умело парировал каждый его довод. А в конце концов сказал так:
– Вы зря думаете, что окружающие не в порядке, по той причине, что они не воспринимают ваши идеи, которые вы бросаете им в лицо. На самом деле непорядок с вами. Если девять из десяти человек думают почти одинаково, а взгляды десятого идут в полный разрез со всеми остальными и даже их шокируют, то проблема именно в нем. Это с ним не все хорошо.
– Не все хорошо? – усмехнулся он, тогда еще пытаясь хорохориться. – И как же вы это можете объяснить? Почему его взгляды так отличаются от общепринятых?
– Психическая болезнь, – следователь пожал плечами, – вот самое простое объяснение, не так ли? Только мало кому оно приходит в голову – из-за своей простоты. Люди устроены так, что в своих бедах вечно винят окружающих, не себя. Они ни за что не подумают, что это с ними что-то не так. И если мозг одного человека работает не так, как у остальных, это означает, что его мозг работает с нарушениями. Психическое расстройство, – повторил он. – Болезнь.
Тогда, после профилактической беседы, его отпустили, посоветовав не внушать студентам вредные идеи и не хранить дома литературу на иностранных языках без понятного перевода. Но слова следователя глубоко запали ему в душу своей губительной правдой и убийственной простотой.
Он пытался о них не думать, пытался стереть из памяти, но у него ничего не вышло – следователь сказал то, чего он не мог игнорировать. И время от времени эти слова возникали в его голове, причем, в самые плохие, тяжелые моменты, оставляя кровоточащую, открытую рану в той прочной броне, которую он пытался возвести вокруг себя.
Это было еще до начала приступов ночного удушья. Потом они стали повторяться все чаще и чаще, и ночи стали его кошмаром. Во всяком случае он так думал. Поначалу не зная, что настоящий кошмар ждет его впереди.
Потом пришли голоса. Они стали звучать в его сознании отчетливо и четко. В первый раз он услышал их, когда стоял на пешеходном переходе на улице Ленина, намереваясь перейти на Дерибасовскую. Обычный человек с портфелем среди таких же обычных, ничем не выделяющихся людей, как и он сам.
И вдруг в его голове с такой неистовой, громкой силой, что у него буквально подкосились ноги, прозвучал голос, который просто требовал, чтобы он перебежал дорогу на красный свет…
Он едва не выронил портфель, стал оглядываться по сторонам, пытаясь вычислить, кто это говорит с ним, а потом прячется за его спиной. Но по недоумевающим лицам окружающих понял, что с ним никто не разговаривает, что этот голос звучит исключительно в его голове. Это состояние наполнило его таким ужасом, что он полностью перестал себя контролировать и бросился переходить дорогу на красный свет. В этот момент с угла заворачивал троллейбус, и он едва не угодил под колеса. Визг тормозов, крики людей… Подхватив портфель, он мчался по Дерибасовской как сумасшедший, и ему страшно хотелось кричать. Так, задыхаясь, он кое-как добежал до своего дома… А потом уже к привычному удушью прибавился новый кошмар.
На стене появились глаза. Была ночь, в комнате было темно. Он лежал и смотрел на противоположную стенку, и вдруг она принялась раздвигаться, увеличиваясь в размерах все больше и больше, являя миру и его взгляду страшную бездонную пропасть, в которой полыхали отголоски адского пламени… А потом появились глаза.
Красные, просто алые, огромные, похожие на большие блюдца… Они взглянули на него с такой ненавистью, что он задрожал. А в голове зазвучал голос, все настойчивее и настойчивее заставляя его смотреть.
Он схватился руками за голову, испытывая боль во всем теле, покатился по полу, пытаясь спрятаться от этого жуткого взгляда. Он был атеистом и не верил в сверхъестественные мистические выдумки, забивающие человеческое сознание. Но этот взгляд, этот ужас заставил его подумать об аде. Эти глаза словно явились из самой преисподней, и он вдруг понял, что должен загнать их обратно. К тому же голос настойчиво требовал сжечь их.
Он побежал на кухню, схватил коробок спичек, вернулся в спальню. Принялся лихорадочно зажигать спички и бросать их в стену одну за другой, одну за другой…
Он пришел в себя, когда загорелся край ковра, лежащего на полу. Глаза к тому времени исчезли. Сбив пламя ногами, он потушил ковер. Затем, несмотря на холод, распахнул окно, чтобы прогнать из комнаты запах гари. А потом лежал на полу и истерически рыдал, вспоминая кошмар, заложником которого он оказался. Выбившись наконец из сил, он тут же, на полу, заснул.
С тех пор и видения, и голоса стали появляться постоянно. Однажды он проснулся от непонятной резкой боли в спине. Болело в двух местах сразу, под лопатками. Он подошел к зеркалу, стащил с себя пижаму… А дальше произошло невероятное.
Он словно увидел свою спину со стороны. Кожа на спине под лопатками лопалась, оставляя длинные уродливые кровоточащие раны. И оттуда, прямо из его плоти, прорастали… огромные черные крылья, похожие на оперенье какой-то хищной птицы.
Последний всплеск мучительной боли – и крылья вырвались наружу, распахнулись во всю ширь! Он взлетел под потолок комнаты, не чувствуя своего тела, нелепо размахивая руками и ногами. И так барахтался, переворачиваясь в этом потоке воздуха, то оставляющего его на месте, то увлекающего за собой.
Он может летать! Это странное, непривычное ощущение наполнило его огромным счастьем! Грудь расправилась, распрямилась, исчезли мучающие его боли. Все тело наполнилось небывалой легкостью и стало невесомым, как перышко. А грудь просто распирало от необъятной, невероятной радости! Он готов был обнять весь мир! И что это был за мир – открытый, светлый, наполнявший его огромным счастьем! Мир, в котором он занял свое достойное место среди таких же прекрасных, летающих людей, от которых исходил сияющий свет!
И возникший в голове голос все твердил и твердил ему, что он может летать, и эта эйфория легкости была верхом блаженства! Ему хотелось только одного – вылететь и объять, вобрать в себя весь этот мир.
Полет был фантастической сферой, в которой он вдруг занял первое место. А голос все советовал ему лететь дальше. Сначала советовал, затем – потребовал. Он открыл настежь окно и стал на подоконник.
Он жил на последнем, пятом этаже добротной «сталинки», которых было достаточно много в центре города. В его сердце тут же вспыхнула лавина радости – он вылетит в самое небо, поднимется выше облаков! И весь мир, все на свете будет принадлежать ему!
Но было холодно – конец зимы. В раскрытое окно ворвался резкий порыв ледяного ветра. Расцарапал кожу множеством ледяных иголок, залетел в рот, вызвав приступ мучительного кашля.
Он пришел в себя и увидел, что стоит на подоконнике, держась за оконную раму. Под его ногами открывалась пугающая черная бездна. Он ужаснулся. Спрыгнул с подоконника на пол. Крылья исчезли. А может, их вообще не было? Он лег на пол и… потерял сознание. В таком состоянии он лежал так долго, что, очнувшись, опоздал на работу, в институт.
Тогда-то и мелькнула у него мысль, что с ним происходит какая-то страшная беда, и надо бы посоветоваться со специалистом. Но голос стал твердить, что врач просто запихнет его в сумасшедший дом, где он умрет. Ведь это сплошной заговор всех – уничтожить его неповторимость, его индивидуальность. Вокруг – лишь завистники, которые мечтают его извести. И если уж у него есть дар – а у него есть дар, потому что он не такой, как все, – нужно молчать, прятаться, таиться от всех, терпеть и следить, чтобы не выдать себя ни единым словом.
И он стал следить за собой. Поведение его изменилось. Он стал ходить более медленно, чем раньше, говорить, растягивая слова, и пристально смотреть каждому собеседнику в глаза, стараясь понять, не таятся ли коварные умыслы у тех, кто постоянно притворяется и лжет, общаясь с ним.
А самое главное – у него появился страх возвращаться домой, и этот страх подкашивал его ноги, едва он появлялся в начале своего переулка.
Видения же стали повторяться постоянно. И самыми мучительными среди них, как ни странно, были черные точки. Сначала появлялась одна маленькая, едва заметная точка – где угодно, на полу, на стене. Потом они разрастались, их становилось все больше и больше. И наконец они захватывали его в плен, окружая плотным коконом, словно чудовищными рыцарскими доспехами, а затем кружили, кружили с такой силой и скоростью, что он буквально валился на пол.
Несколько раз он снова терял сознание. Однажды это случилось прямо в аудитории, посреди лекции. Какая паника тогда началась! Вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи всего лишь с помощью нашатырного спирта привели его в себя. Затем сказали, что это спазм сосудов – сильно повысилось давление, в общем, всю ту ерунду, которую принято говорить. Он поддакивал и соглашался, и терпел мучительные уколы, хотя голос и говорил ему, что и здесь ложь – ему вкалывают простую воду.
Но от больничного он отказался и на следующий день пришел на работу, потому что гораздо страшнее ему было сидеть дома – там он погружался в вихрь этих видений все больше и больше и потом гораздо более тяжело, чем раньше, приходил в себя.
В этот день он пришел домой под вечер. Потянул на себя тяжелую дверь парадной. И сразу же увидел черную точку на стене.
Она приближалась. Он бросился к почтовым ящикам, прислонился к ним, надеясь, что прикосновение к холодному металлу защитит и спасет. На лестнице появилась спускающаяся вниз соседка.
Он не помнил ее имени – после голосов и повторяющихся видений у него начались провалы в памяти. Иногда он даже не мог вспомнить, как его зовут и какой сегодня день. Поэтому он и не пытался вспомнить имя соседки, точно зная, что из этого ничего не получится.
Женщина остановилась на середине лестницы. Ее глаза расширились.
– Товарищ Тимофеев… – взглянув на него, произнесла она с тревогой. На ее лице стал проступать отчетливый ужас. – Что с вами? Вам плохо?
Он все вжимался в ящики, пытаясь унять в теле нервную дрожь, и молчал. Соседка стала спускаться. Ноздри ее шевелились – она принюхивалась: очевидно, подумала, что он пьян, и пыталась учуять запах спиртного. Но он давно уже не употреблял алкоголь. Он и раньше ценил свежую голову и с трудом переносил спиртное, а теперь и подавно… Даже одна рюмка крепкого алкоголя могла настолько ухудшить его состояние и вызвать видения такие яркие, что после этого он мог и не вернуться в себя…
Лицо соседки стало хмурым. Запаха спиртного не было, и она явно не понимала, что с ним происходит. Он вдруг отчетливо понял, что она считает, что с ним что-то не то. Это откровение словно придало ему сил.
Придерживаясь сначала ящиков, а затем уже стены, он на ощупь добрался до лестницы и бегом помчался вверх. Он добежал до дверей своей квартиры с такой скоростью, которой раньше в себе не подозревал.
Двери его квартиры были открыты. Он остановился на пороге. Он не помнил, закрывал ли их, когда уходил. Проклятые провалы в памяти – они не давали ему жить спокойно. Он попытался вспомнить, оставлял ли раньше дверь своей квартиры открытой, и не смог.
Толкнул дверь ногой. В воздухе отчетливо чувствовался странный запах. Он сначала подумал, что это газ – уж очень сильно этот сладковатый, приторный аромат был похож на него. Но потом вдруг понял, что это сера.
Уверенностьего усилилась, когда точек стало еще больше, и на их фоне появились глаза. Огненно-алые, пламенеющие глаза из преисподней следили за ним. Он закричал, стал пятиться… Глаза не исчезли, они преследовали его…
Сжечь их! Отправить назад, в пламя ада, в огонь! Голос почему-то молчал. Но и сам, без голоса, он знал теперь, что нужно делать. Убрать их из своей жизни раз и навсегда! Убрать глаза демона, который явился за ним прямиком из преисподней!
Он бросился на кухню за спичками. Там этот странный запах был особенно невыносим. Он даже закашлялся, так много этой вони было в его маленькой кухне. Теперь запах больше не казался ему сладким и приторным – это был смрад, забивающий легкие и заставляющий слезиться глаза.
На краю сознания он подумал, что, как только покончит с демоном, то сразу вернется на кухню и откроет окно. А заодно и выяснит, откуда берется это противное, еле слышное шипение, которое слышнее всего было на кухне… Кое-как нашарив в ящике кухонного стола коробок спичек, он рванул в комнату. Алые блюдца неотступно следовали за ним…
Он ворвался в спальню и чиркнул спичкой, успев увидеть, как на конце крошечной головки затанцевал синий огонек пламени, который почему-то все больше и больше разрастается…
Старожилы центра давно не помнили такого взрыва. На мгновение всем показалось, что раскололась земля – такой силы был звук, заставивший людей в панике выбежать из окрестных домов.
– Что это, война? – раздавалось повсюду. Этот вопрос буквально висел в воздухе.
Глазам присутствующих открылось страшное зрелище: верх пятиэтажной «сталинки», стоящей в середине переулка, был объят пламенем. Оно охватило весь пятый этаж и перешло на крышу.
А потом раздался второй взрыв – чуть слабее первого, и от дома буквально оторвалось два каменных этажа – полыхающий пятый и почти целый четвертый, их подбросило в воздух. Это зрелище – взвившиеся в небо монументальные этажи, просто ставшие в миг похожими на картонные, потрясло всех видевших. Люди застыли от ужаса.
Затем все это рухнуло. Камень, пыль, разбитое стекло, останки мебели, какие-то тряпки осыпали собравшихся в переулке зевак. Стены разваливались на части, летели, рассыпаясь, на землю. К грохоту, стоявшему в переулке, добавился дикий механический вой – это подоспели пожарные машины и машины скорой помощи. А взорвавшийся дом кое-где еще продолжал гореть…
Глава 2
К уголовникам Анатолия Нуна перевели в конце декабря, перед самым Новым годом. До этого долгое время он был один – после того, как забрали его сокамерника. В камере он ужасно мерз – там было невыносимо холодно. В декабре Одесса оделась в белые одежды – в роскошный белый наряд, который всегда носила с аристократическим вкусом и грациозностью. Под снегом она была похожа на королеву в роскошных белых мехах. И для каждого одессита, знающего, какая роскошь – этот редкий снег в городе, появление белого пушистого вихря становилось настоящим праздником в душе.
В детстве, стоило выпасть первому снегу, вся детвора вываливала во двор – играть в снежки, лепить снеговиков, бросаться в сугробы да и просто беситься и орать, вываливаясь с головы до ног в белоснежной холодной пыли. Снежки летели со всех сторон, но, белые, попадая под воротник, превращались в растаявшие грязные струйки.
Так стало и с этой радостью во взрослой жизни – попав под воротник, она растаяла, растеклась и сползла по коже грязными струйками. Видимо, взрослые разучиваются испытывать радость. Никому из них и в голову не придет так сильно радоваться первому снегу, чтобы прыгнуть с головой в сугроб и вываляться в снегу полностью… Взрослые так не делают. Так и приходит взрослость. Похоже, взрослость – это насильственное лишение себя радости. К сожалению, Нун понял это слишком поздно.
Но те детские воспоминания о первом снеге остались в его душе крошечной цветной точкой, каким-то драгоценным сердечком, спрятанном в укромном уголке. И когда ему становилось совсем худо, а хуже тюрьмы в его жизни не было ничего, он мысленно доставал из укромного уголка этот разноцветный осколок счастья и пытался отогреть в застывших ладонях.
Здесь, в тюрьме, он тоже испытал радость от того, что пошел первый снег. Под потолком камеры было совсем крошечное окошко без стекла, забранное решеткой. Нун давно уже приладил уступы из нескольких кирпичей для того, чтобы подниматься наверх. Стоило приложить немного усилий, подтянуться на цепенеющих пальцах, и можно было схватиться за решетку и выглянуть в это крошечное окошко.
А там – о драгоценный дар! Там был кусочек настоящего неба. И на него можно было смотреть. Правда, всего несколько минут, потому что тяжело было висеть так, между каменным полом и окном, повторяя свою собственную судьбу – висеть между жизнью и смертью.
И когда пошел снег, Нун так и висел на стене, как жалкий, раздавленный паук – вернее жалкая копия паука. И вдруг в глаза ему попала острая снежная пыль – да так сильно, что он засмеялся, а потом запел… Впервые нарушив странный обет тюремного, застывшего молчания, своими каменными стенами подавляющий любые звуки.
Но радость от первого снега длилась не долго – слишком уж сильна была взрослость Анатолия, слишком долго он лишал себя радости. Вместе со снегом к ночи пришел холод, и тогда Нун стал цепенеть. И так, цепенея, все ходил и ходил по камере. Он больше не читал стихи. Пребывание в тюрьме научило его молчанию.
К Новому году возобновились допросы. Сначала они были абсолютно бессмысленные, похожие друг на друга как две капли воды – такие же, как были раньше.
Но потом вдруг все изменилось. Анатолий очень хорошо запомнил момент, когда допрос стал другим. И интуицией, каким-то мистическим шестым чувством понял, что и в жизни его произойдут серьезные изменения, что все будет по-другому. Интуиция узников развивается и крепнет сама собой.
В тот день его повели на допрос с утра, но не на второй этаж, где обычно допрашивали все эти месяцы, а перевели через двор в совершенно другой корпус. Это было странно: идти по двору, по выпавшему снегу, который уже стал подтаивать и чернеть – белая роскошь не сохраняется в Одессе долго. И он чуть не опьянел от свежего воздуха, ударившего в голову, как молодое вино. Он шел бы так и шел – часами, сутками, до конца жизни! Но все перемещение длилось меньше пяти минут.
Под надзором двух вооруженных конвоиров Нун быстро пересек двор. Его ввели в двухэтажное, по виду – административное здание, завели в какой-то коридор. И очень скоро он оказался в комнате, ничем не напоминающей прежние помещения для допросов. Скорей, это был рабочий кабинет, уставленный строгой рабочей мебелью.
В кабинете были двое. С удивлением Анатолий увидел того самого следователя, который был на обыске в его квартире, допрашивал в самый первый раз и даже кормил бутербродами с чаем. Этот следователь сидел за столом и что-то писал.
В кресле у окна сидел еще один – высокий мужчина в штатском. Этого человека Нун видел первый раз в своей жизни.
– Садитесь, Анатолий Львович, – любезно сказал следователь, указав на стул. – Рад сообщить вам, что документы по вашему делу скоро пойдут в суд. Следствие закончено.
– Это радость? – Нун опустился на стул, не в силах сдержать ухмылку.
– Понимаю вашу иронию, – вздохнул следователь. – Может быть, у вас есть какие-то вопросы?
– Есть. Один, – мгновенно насторожился Анатолий – тюрьма выбила из него все иллюзии и доверчивость, и он прекрасно теперь знал: когда следователь проявляет любезность, это всегда не к добру. – Почему мне не разрешают свидания? Почему меня не может навестить моя родная сестра, Роза Львовна Нун?
– Свидания вам запрещены, – следователь отвел глаза в сторону, – вы проходите по такой статье…
– По какой? Убийство, изнасилование? Я кого-то ограбил, убил? Может, задушил маленького ребенка? – Нун никогда не умел вовремя остановиться, не собирался и теперь. – Какая у меня статья? Умышленное убийство при отягощающих обстоятельствах?
– Хуже. Антисоветская деятельность, – резко ответил следователь, – вы и без меня это знаете. Скажите спасибо, что ваша сестра не находится в соседнем, женском отделении.
Это была уже прямая угроза, и Анатолий замолчал. Он понял: теперь следовало молчать, и так наговорил лишнего.
– Но я вас вызвал совсем по-другому поводу, – следователь сложил бумажки в папку и встал из-за стола. – Вот этот товарищ хочет задать вам несколько вопросов.
С этими словами он быстро вышел из кабинета. Анатолий уставился на мужчину в штатском.
– Да вы не волнуйтесь так, Анатолий Львович, – улыбнулся тот, – я хочу просто познакомиться с вами, по-дружески побеседовать.
– Кто вы? – Голос Нуна сел.
– Сотрудник госбезопасности. Моя фамилия Печерский. И я недавно видел вашу сестру. Хочу сообщить, что у нее все в полном порядке.
– Роза арестована? – Он подался вперед.
– Что вы, нет! Она на свободе. И вы тоже скоро будете. Если, конечно, поведете себя правильно.
– Правильно – это как? – Анатолий почувствовал подвох.
– Будете выполнять все мои указания.
– Хотите сделать из меня стукача? – мгновенно среагировал он.
– Зачем же так грубо? Просто хочу наладить с вами сотрудничество, чтобы вы рассказывали мне разные интересные вещи, которые с вами происходят.
– Нет, – Нун так занервничал, что даже подался вперед, – нет. Сделать из меня вашего сексота – ничего не получится.
– Зря вы так, – мужчина укоризненно покачал головой. – А я только хотел сообщить радостную новость, что могу хоть завтра освободить вас из тюрьмы. И даже помочь перебраться туда, куда вы так хотите добраться, то есть за границу.
– В обмен на что?
– В обмен на информацию. Вы будете знать очень много интересующей нас информации – в Израиле. Сможете помочь бывшей любимой родине.
– Нет, – Анатолий повернулся к окну, но оно было задернуто шторами, и ничего не было видно.
– Ну, как хотите. – Мужчина встал, демонстрируя отлично сшитый, дорогой костюм. – Тогда хочу вас предупредить: принято решение перевести вас в другую камеру. Вы больше не будете один.
– Так это же хорошо! – воскликнул Нун абсолютно искренне.
– Рано радуетесь. Вас переведут в камеру к уголовникам. Вы ведь еще не видели здесь уголовников, правда? Сразу скажу: у них есть своя собственная иерархия, и вы им не понравитесь.
Нун молчал. Теперь он понял все. Его пытались сломать другим образом. Липкая струя ледяного пота скатилась вдоль позвоночника. Было даже страшно представить, что его ждет…
– Хочу дать вам один совет, – кагэбист обернулся уже в дверях, – вы ведь писатель? Вы должны хорошо подбирать слова, так? Как вы думаете, с каким словом ассоциируется тюрьма? Что самое главное в тюрьме?
– Я не знаю, – Нун смело выдержал его взгляд, – это два разных вопроса. Я никогда об этом не думал.
– На самом деле слово одно. Молчание, – веско сказал кагэбист. – Тюрьма – это молчание. Запомните это, Анатолий Львович. Если хотите выжить.
На следующее утро, около 6 утра, еще даже не рассвело, в его камере появился конвойный.
– Нун, собирай манатки! – крикнул. – Да побыстрей. Тебя переводят.
У Анатолия почти не было вещей. Все они легко поместились в сетчатой авоське – то, что он успел собрать дома, во время ареста. Поэтому через десять минут он уже шагал по длинному коридору следом за конвойным, а сзади его сопровождал еще один, появившийся из ниоткуда, вооруженный конвоир, демонстративно держащий руку на кобуре и дышащий в затылок.
Нуна снова провели через двор, но в этот раз в сторону, противоположную от административного здания, к выходу. Он успел разглядеть кованые ворота и стоящий за ними микрофургон. Возле ворот ему сковали руки сзади наручниками.
– Такое правило, – даже как-то любезно сказал конвоир.
– Куда меня везут? – Анатолий не сильно рассчитывал на ответ, однако конвоир неожиданно ответил, возможно, потому что Нун вдруг пробудил в нем что-то человеческое:
– В тюрьму на Люстдорфскую дорогу.
Анатолий похолодел. Об этой тюрьме рассказывали настоящие ужасы – о невыносимых условиях содержания, о жестоких порядках… Да и близость кладбища играла на руку любителям распространять страшные слухи…
Пожалуй, это было самое мистическое место города – между кладбищем и тюрьмой, дорога ужасов… И вот теперь ему предстояло отправиться в этот ад, в самую страшную неизвестность, точно по этой дороге – между кладбищем и тюрьмой… Между смертью и жизнью…
Лестница была извилистой, стены – выщерблены, и пока Нуна вели наверх, он все время думал о тех, чьи ноги истерли эти шаткие ступеньки. Сколько уголовников ходило по этим узким проходам, сколько судеб навсегда оборвалось в этих ужасных стенах? И вот теперь он в самой страшной уголовной тюрьме – кошмар, который не мог привидеться и во сне, потому что не снились ему такие сны. Его сны всегда были счастливыми.
Наконец, где-то в районе третьего этажа, где совсем извилистый лестничный пролет оборвался, не сменяясь другим, его вывели в длинный коридор с рядами одинаковых металлических дверей. В каждой из них было окошечко, забранное густой железной решеткой. Остановились где-то посередине. Конвоир глухо скомандовал:
– Руки за спину, лицом к стене.
Про руки было излишне, так как едва заключенного привезли в тюрьму, руки ему опять сковали наручниками. Нун повернулся так, как ему приказали. Щелкнул замок двери. С него сняли наручники и втолкнули внутрь камеры.
Он остановился на пороге, не зная, как себя вести, присматриваясь к новой для него обстановке. Самым первым и самым ужасным, что поразило его здесь, был запах. На него мгновенно пахнýло каким-то смрадным гнильем, и эти гнилые миазмы моментально забили ему ноздри.
Анатолий был очень утонченным, чувствительным и брезгливым человеком. Сколько себя помнил, всегда остро реагировал на запах. Плохо пахнущую еду ни за что не стал бы есть. Но здесь казалось, что эта камера гниет изнутри. И он не знал, даже не мог определить, что смешалось в этом ужасающем запахе: вонючие носки, человеческие испражнения, пот, запах несвежей пищи, застоявшийся воздух никогда не проветриваемого помещения… Страшно было даже представить, что отныне вся его жизнь будет проходить в этом аду.
Потом в глаза бросились нары. Камера была достаточно узкой и тесной, поэтому нары были устроены в три этажа. И – люди. Со всех нар на него смотрели люди с внимательными волчьими глазами, как будто они ощетинились, словно им подали сигнал опасности… Эти глаза были здесь повсюду. На мгновение у него мелькнуло страшное видение – даже в стенах и потолке, везде – только глаза. Он не понимал, как себя вести. Поэтому молча застыл на пороге.
Только позже Анатолий узнал, почему в камере было так много глаз. Тюрьма была переполнена, и в камеру, рассчитанную на шесть человек, забивали человек тридцать. Страшная скученность, антисанитария – все это создавало чудовищные условия, выжить в которых было настоящим подвигом. И еще он узнал (потóм, потóм – все было потóм!), что в тот самый первый момент он повел себя исключительно правильно. В тюрьме не выносили паникеров и болтунов. Правильным поступком было молчать.
– Принимай новенького! – крикнул конвоир ему в спину, и дверь захлопнулась.
К Анатолию подошел какой-то невысокий лысый мужчина средних лет.
– Статья? – прищурившись, спросил он.
Анатолий ответил. Мужичок презрительно скривился. Ткнул рукой в левый угол камеры:
– Последние нары возле стены видишь? На третий этаж полезай, наверх.
Нун подошел к нарам. Третий этаж был очень высоко, почти под потолком. Он закинул наверх котомку с вещами. Сердце на мгновение кольнуло – как же он заберется туда? Он никогда не занимался спортом, да и по жизни был тучным. Как же теперь? Однако выхода не было. Он уже собирался карабкаться наверх, но какой-то парень вдруг схватил сверху его котомку, причем с самым нахальным видом. Не растерявшись, Анатолий вырвал свои вещи из его рук.
– Посмотреть дашь, что там у тебя? Вдруг мне чего надо? – нагло прищурился парень.
– Нет, – твердо сказал Нун, бросая вещи обратно наверх.
Он был уверен, что парень полезет в драку. Однако тот, к его огромному удивлению, отошел. Сзади он услышал:
– Подойти сюда.
Анатолий пошел на голос. По самому центру камеры, на первом этаже, скрестив ноги по-турецки, сидел мужчина явно восточной внешности. Было ему не меньше пятидесяти. Коротко стриженные волосы были совсем седыми. Глаза выделялись жесткостью. Одет он был в теплый, очень приличный спортивный костюм, да и сзади него виднелось довольно дорогое новое стеганое одеяло. Оно очень отличалось от тех ветхих тряпок, которые были наброшены на все остальные нары, в том числе и на место Анатолия.
– Садись, – мужчина небрежно хлопнул ладонью по койке. – Меня зовут Эльмир. Как тебя величать?
Нун назвался. Мужчина кивнул, затем спросил:
– Из-за чего в политику влез? Чем зарабатываешь на жизнь?
– Ничем, – Анатолий старался отвечать спокойно, не показывать дрожи в голосе. – Я писатель.
– Писатель, правда? – оживился Эльмир. – Что же ты написал?
– Роман, – Анатолий отвел глаза в сторону, – о Моисее.
– Значит, хорошо знаешь Библию?
– Нет. Меня интересовало другое.
– Писатель… Писателя у нас еще не было. А я вот стихи пишу. Плохие, конечно.
– Ну, это не вам судить. Тем, кто читать будет.
– Правильный ответ, – Эльмир кивнул. – Ты вот что, писатель. Слушай сюда внимательно. Я тут главный. Если вопросы какие – сразу ко мне. Сам держишься тише воды, ниже травы. На рожон не лезь, со своим уставом не пробуксовывай. Никого трогать не будешь – и тебя оставят в покое. Я сказал.
– Я понял, – кивнул Анатолий.
– Это верно, понимай, – Эльмир вперил в него тяжелый взгляд неподвижных темных глаз. – Ну, лезь наверх. Понадобишься, позову.
Нуну не надо было повторять дважды. Кое-как он вскарабкался под потолок. На удивление, продавленная сетка нар оказалась удобной, а матрас – мягким. Он закрыл глаза и не заметил, как заснул.
Проснулся он от странного шума, который раздавался сразу со всех сторон. Несмотря на то что было три часа ночи, в камере никто не спал. Люди переговаривались, группками ходили туда-сюда, зачем-то стягивали с кроватей одеяла. Анатолий догадался, что именно ночью начинается настоящая жизнь.
Говорили все на каком-то странном жаргоне, которого он абсолютно не понимал. А потом, плюнув про себя, перестал даже прислушиваться. Прикрыл глаза, стараясь снова уснуть. Но дальше произошло невообразимое.
Со второго этажа за ноги сдернули какого-то мужчину, бросили на пол. На мгновение в воздухе мелькнули черные взъерошенные волосы, Анатолий это увидел. Затем на него начали набрасывать одеяла. А потом…
Били его ногами со всех сторон сразу. Из-под одеял были слышны сдавленные хрипы и приглушенные вопли. Единственными понятными Анатолию словами были «меси суку». От ужаса ему захотелось завыть. Но он молчал. Избиение несчастного длилось долго. Наконец жертву просто оставили на полу. Было видно, как сквозь тонкие одеяла щедро проступает кровь.
Утром в камере появились охранники и вынесли труп. Нун прекрасно понимал, что это труп – только мертвое тело могло пролежать на холодном цементном полу без единого звука.
Где-то через час после этого начался шмон. Всех заключенных выгнали в коридор и вверх дном перерыли всю камеру. Появилось тюремное начальство.
Два человека в форме страшно орали матом, выясняя, что произошло ночью. Все заключенные как один отвечали, что человек упал со второго этажа, а больше никто ничего не видел. Подошли к Анатолию.
– Ты, новенький… – Начальник тюрьмы крепко выругался сквозь зубы, – говори правду, иначе пойдешь в яму.
Нун не знал, что такое яма, но, прямо глядя начальству в глаза, сказал:
– Я спал, мало что видел. Знаю, что он упал на пол с койки. Сверху. И все.
– С койки… – Начальник тюрьмы сжал кулаки и расхохотался: – Койки у него здесь, санаторий, бл… Интеллигент хренов, где ж ты взялся на мою голову!
Схватив Анатолия обеими руками за грудь, он швырнул его в стену. Спина моментально отозвалась резкой болью.
– Говори правду! Замочу, сука! – продолжал неистовствовать начальник.
– Он упал со второго этажа. Это правда… – повторил Нун.
Начальник со злостью отшвырнул его от себя в сторону. Всех заключенных загнали обратно в камеру. Постепенно они угомонились.
– Писатель, подойди, – скомандовал негромко Эльмир через время.
Анатолий подошел, молча сел на нары.
– Почему не сказал правду?
– Это не мое дело.
– Почему? Ты же писатель, гуманист. А здесь ночью на твоих глазах убили человека.
– Значит, было за что.
– Было, – губы Эльмира иронично скривились, – стукачом он был. Сукой. Двоих моих людей из-за него в яму спустили.
– В яму? – переспросил Нун.
– Это карцер. Наказание такое. А ты молодец. Вот что я тебе скажу… – Эльмир сделал паузу, потом произнес со всей серьезностью: – Мне тебя на воспитание дали. Временно. О чем я, ты понял? Вижу, понял. Но я тебя трогать не буду. И никто не тронет. Живи себе спокойно. Только не долго ты здесь проживешь.
– Что это значит? – против воли вздрогнул Анатолий.
– У мусоров на тебя свои планы. Заберут тебя скоро отсюда. Временный ты, понял? Не знаю, что они задумали, но то, что ты выйдешь отсюда, это точно.
– Хотелось бы, – грустно усмехнулся Нун.
– Не на волю, – покачал головой Эльмир, – но бояться не нужно. Не впадай в панику раньше времени. Время все покажет… писатель. Ну, иди.
Снова забираясь наверх, Анатолий обдумывал слова Эльмира. Что ждет его здесь? Что еще приготовила ему судьба? И временно – это сколько? Ему стало страшно. Неопределенность была страшней боли. Сейчас уже конец декабря. Сколько же еще он пробудет здесь?
Глава 3
4 марта 1967 года, Одесса, Треугольный переулок
Голова раскалывалась на части. Ощущение было таким, словно к ней привязали чугунную плиту, и этой плитой изо всех сил бьют по стене безостановочно, и бить будут до первой трещины… Разумеется, в чугунной плите…
Ко всему прочему – отвратительный привкус во рту. Он добавился почти сразу, как только головная боль стала невыносимой. Абсолютно жуткое ощущение – тошнотворный, гнилостный запах, который, казалось, пропитал своими мерзкими миазмами всю комнату.
Еще ни разу в жизни оперуполномоченный Емельянов не страдал так жутко от похмелья. Впрочем, и не пил он раньше столько ни разу.
Как все вчера началось? Кажется, они обмывали премию, которую выписали оперу из соседнего отдела, разумеется, не ему – он никогда не получал премий, а в последнее время вообще чувствовал себя как мозоль на пятке начальства, которая мешает, ее терпят, но срезать окончательно боятся, потому как это может вызвать опасную утечку «крови», то есть информации из их отдела, что было бы совсем уж опасным и совершенно неконструктивным решением.
Емельянов ненавидел такие слова – они вроде разумные, но на самом деле ничего не объясняют. Противные уж очень… Раньше, еще во время учебы в университете, ему и в голову не могло прийти, что тупой советский бюрократизм может существовать в таком месте, как уголовный розыск. Однако именно в уголовном розыске его было более чем достаточно. Взять хотя бы эту кучу бумажек по отчетности! Емельянов вынужден был писать эту самую отчетность каждый день до синевы в пальцах. И попробовал бы возразить! Хотя он не раз говорил на планерке, что бюрократическое заполнение бумажек по отчетности очень сильно мешает оперативно-розыскной деятельности, которой, собственно, и должен заниматься старший оперуполномоченный по особо важным делам. Но все, чего он добился, это только раздражение начальства, выразившееся в коронной одесской фразе: «Шая, замолчи свой рот!»
Впрочем, Емельянову было это понятно: начальству давали по шее «на ковре», а оно давало им. Поэтому в конце концов он перестал выступать с претензиями – себе дороже, а стал вести себя так, как все вокруг, когда демонстрировали бурную видимость работы, а на самом деле – действовали исключительно, как им выгодно.
Однако это касалось только заполнения бумажек. В оперативной же работе Емельянов был безупречно честен, и в первую очередь – перед самим собой.
Так вот… Обхватив голову прохладной ладонью, он попытался вспомнить вчерашний день.
Сначала пили в соседнем отделе. Ну, там немного, чисто для проформы. Кто-то притащил домашнее сухое вино, и все выпили по стаканчику. Потом виновник торжества предложил более тесной компанией переместиться в шашлычную, которая недавно открылась возле вокзала. Мол, грузин, который там поваром работает, всем в жизни ему обязан, так как вытащил он его из криминальной кавказской «халепы», что дорогого стоит. А значит, накормит до отвала – вкусно и дешево.
Емельянов поначалу не хотел ехать. Накопилась усталость, да и коты голодные сидели дома. Ему хотелось выспаться и отдохнуть. К тому же он уже четко осознал, что все чаще и чаще прикладывается к бутылке. Заливает все свои неприятности, свою разуверенность в жизни, да и не дешевым сухим вином, а водкой. И не только в компании друзей, но и сам, один.
Он прекрасно понимал, что скрытый алкоголизм может являться частью работы в уголовном розыске – когда человек видит столько гадости, цинизма и зла, род людской начинает вызывать настоящее омерзение. И единственный способ удержаться на плаву – это залить водкой глаза.
Емельянов все это знал. Знал, что нигде не пьют так, как в уголовном розыске. И это уже начало его серьезно беспокоить – жить спившейся, циничной сволочью ему не хотелось.
Поэтому он отказался ехать в шашлычную. Но в коллективе его любили и буквально заставили «не портить компанию». В конце концов Емельянов согласился.
Шашлычная выглядела вполне прилично, несмотря на близость вокзала. Поначалу Емельянов думал, что это будет какая-то дыра, притон, а оказалось – вполне приличный ресторан.
Повар встретил их как родных, накрыл шикарный стол. Шашлык действительно был отличным. И там тоже было вино – терпкое молодое вино, которое бьет в голову и царапает горло. Потом конечно же кто-то побежал в ближайший гастроном за водкой. Так обычно и заканчивались все их гулянки. Водки было много, текла рекой, и поначалу было хорошо и весело.
Емельянов помнил, что в шашлычной они сидели долго, дольше всех остальных посетителей. И когда где-то после двух ночи он вспомнил о голодных котах и засобирался уходить, многие, в том числе и виновник торжества, еще продолжали сидеть.
На самом деле за котов Емельянов не переживал – они были «люди» привычные. Часто он не возвращался домой ночевать, находясь на очередном серьезном задании, поэтому каждое утро перед уходом на службу оставлял им двойную порцию их еды. А коты уже научились эту еду растягивать на весь день.
Емельянов помнил, как где-то в половине третьего он с другом Николаем плелся по Ленина, горланя на ходу какие-то песни. Потом на пути им попался открытый всю ночь гастроном. Они взяли еще водки и закуски – черствую булку, какую-то колбасу, которой Емельянов так и не ел: была у него такая особенность – когда он пил много, то не любил закусывать.
Последнее, что Емельянов запомнил, как они оказались где-то в районе горсада. Сидели на скамейке, пили водку, говорили по душам – Емельянов уже и не помнил, о чем. Единственное, что он вспомнил – как долго не мог понять, почему сослуживец называет его Константином: он привык, что он просто Емельянов, отзывался и на Емелю, хотя терпеть не мог этого прозвища. А то, что он Константин, уже забыл. Надо же – Константин…
Было около половины пятого, когда они оказались на площади Мартыновского, в самом центре, возле остановки. Чуть поодаль, возле ресторана «Киев», была ночная стоянка такси.
Николай соображал лучше, поэтому именно он остановил такси, которое и отвезло их обоих домой. Емельянов жил на улице Льва Толстого, его выгрузили первым. Он еще помнил, как поднимался по железной лестнице парадной на свой третий этаж, как открыл дверь квартиры и прямо в одежде рухнул на кровать. Страшно было даже подумать, сколько он выпил – две бутылки, три? Поэтому получил весь комплект – мучительную головную боль, тошноту и ужасающий запах во рту…
Но кошмары на этом не закончились. На него мгновенно, едва он пошевелился, уставились две пары глаз, обладатели которых уселись на краю его нерасстеленной постели. И с каким же укором они смотрели на него!
Люди не могут так смотреть. В этих глазах было столько молчаливого презрения и возмущения слабостью пустого характера Емельянова, что он покраснел от стыда.
Страшно было даже представить, что сказали бы ему коты, если бы умели говорить! Емельянов почувствовал себя совсем конченой тварью. Пошевелил рукой, пытаясь их прогнать, но коты никак не отреагировали, даже не пошевелись. Они открыто презирали Емельянова! И делали это намного честней и откровенней, чем люди.
– Шо уставились, троглодиты? – прохрипел Емельянов.
Один из котов, более агрессивный и боевой, ответил возмущенным шипением. Второй фыркнул. Емельянов понял, что надо вставать. Если уж коты стали его презирать – это совсем дно.
Кое-как, шатаясь из стороны в сторону, он поплелся на кухню, где отвалил щедрую порцию корма котам. Затем сунул голову под кран с холодной водой и стоял так до тех пор, пока не свело скулы. Но после этого ему действительно полегчало.
На минуту Емельянов почувствовал настоящее счастье от того, что живет не в коммуне, а в отдельной квартире, пусть даже крошечной, однокомнатной и без особых удобств. Страшно было даже представить, что подумали бы соседи, видя его таким!
На этой патетической ноте возвращения к жизни опера Емельянова раздался стук в дверь. Энергичный, громкий, бесцеремонный… Стучать так могли только с его работы. Застонав, он открыл дверь. Ворвались двое – опер из их отдела и шофер служебной машины.
– Десять утра! Где тебя черт носит? Начальство рвет и мечет! – с порога заорал опер. Парень был молодой, неопытный, на вчерашнюю гульку его не пригласили, так как недолюбливали, поэтому состояния сослуживца он не понимал.
– Не ори, – поморщился Емельянов, – я только после пяти утра домой вернулся. Была важная операция.
– Хорошо гульнули? – подмигнул знающий шофер.
– Начальство велело за тобой ехать, когда ты и к 10 утра на работу не явился! – с энтузиазмом встрял парень, не дав Емельянову ответить, впрочем, он и не собирался.
– Да пошел ты… – в сердцах бросил Емельянов.
– Ты что! – Опер аж закипел. – Знаешь, что произошло ночью? Убийство!
– Да ты что! Тьфу на тебя! – Емельянову реально захотелось плюнуть. – Да этого добра у меня каждый день по 10 штук! Чего орать?
– Он велел погнать за тобой машину и отвезти прямо туда, – как-то растерянно сказал парень, еще не привыкший к профессиональному цинизму сослуживца.
– Кого хоть убили? – вздохнул Емельянов.
– Женщину какую-то. В Треугольном переулке. Труп соседи утром обнаружили. Вот и поедем прямо туда.
– А шо за цаца? – прищурился Емельянов. – Шо за сыр-бор разгорелся? Шухер, пыль из носу? За какой такой хипиш опергруппу гонять?
– Ну… я не знаю, – совсем растерялся парень. Он не был одесситом – жил здесь всего год, в угрозыск на работу его направили из Запорожья. В Одессе он не прижился, не захотел, не смог понять ни города, ни его обитателей. Одесский язык безумно его раздражал. И он все строчил и строчил бесконечные рапорты, заявления и докладные записки с просьбой перевести его в другое место. Но все эти писульки начальство пока оставляло без внимания. Емельянов прекрасно об этом знал, так как был опытным опером, с везде налаженными контактами, но помалкивал себе в тряпочку. Он сам был не прочь избавиться от этого парня, который его сильно раздражал.
Емельянов быстро переоделся, добавил корма котам, чмокнул обоих в мокрые мягкие носы и быстро вышел из квартиры, хлопнув старенькой дверью, машинально в который раз подумав о том, что надо бы поменять замок.
– Треугольный переулок – это близко, – сказал уже в машине.
– Он тебе еще просил передать про дом, – вздохнул парень.
– Про какой дом? – не понял Емельянов.
– Ну, про этот… взорванный. Чтобы ты на место сбегал, с кем-то из комиссии или с жильцами поговорил и докладную записку написал.
– Тьфу ты! – в сердцах сплюнул Емельянов, у которого история со взорвавшимся домом буквально вылетела из головы.
На самом деле это было страшное ЧП. От взрыва газа рухнул целый дом, причем крепкий, совсем еще новый, построенный при Сталине. Рвануло в одной из квартир на верхнем этаже. Судя по первичному заключению, в квартире произошла утечка газа – то есть кто-то открыл вентили, а закрутить забыл.
И почти сразу появилась информация о сумасшедшем соседе. Несколько соседок, живущих в доме, в один голос твердили о безумце из квартиры, где произошел взрыв.
Говорили они одно и то же: мол, совсем чокнулся в последнее время. И пожары в квартире устраивал, и из окна бросаться пытался, и все время разговаривал сам с собой – шел по улице, жестикулировал и разговаривал. Точно сумасшедший!
Соседи и в ЖЭК писали, и в психиатричку – никакого толка. Поэтому многие жильцы дома были уверены, что сумасшедший и устроил взрыв – либо вентили забыл закрыть, потому что с головой не дружил, либо намерено хотел покончить с собой.
Из всех работ, которые только существовали на свете, это была самая мерзкая. Разбирать взрыв бытового газа в доме! Хуже этого могло быть только явное самоубийство. Однако разбираться следовало, поэтому начальство и поручило это отвратительное дело Емельянову – как самому опытному. А это дело было таким поганым, что он намеренно о нем забыл.
Но выбора не было. Работа как беременность – сама не рассосется. Поэтому Емельянов тяжело вздохнул, твердо зная, что после убийства в Треугольном переулке поедет к месту взрыва.
– А жильцов всех из дома отселили? – спросил он.
– Ну да, в санаторий Чкалова на Пролетарском бульваре. Хотя там неповрежденные квартиры есть. Но во всем доме, пока будут разбираться, отключили воду, свет, газ.
Час от часу не легче! Теперь ему предстояло ехать еще и на Пролетарский бульвар! Емельянов постучал костяшками пальцев в спину шофера. Тот был в плотной кожаной куртке, так что стук получился громким.
– Слышь, отец, понял, куда мы с тобой поедем после убийства?
Шофер буркнул в ответ что-то неразборчивое – в отличие от Емельянова, который жил интересными делами и не выносил рутины, он совсем не любил работать. Ну вот просто совсем.
Треугольный переулок, расположенный в самом центре Одессы, был одним из самых очаровательных и живописных уголков старого города. Еще не Молдаванка, но почти центр, а близость к Привозу и железнодорожному вокзалу делала этот переулок достаточно комфортабельным местом для проживания, хотя дома в нем стояли ветхие.
Емельянов знал, что именно в этом переулке родился знаменитый одесский певец Леонид Утесов, кто-то когда-то ему об этом сказал. Но Емельянов не любил музыку, певцами не интересовался и знал об Утесове лишь понаслышке, самое известное – что артист родился в Одессе, а потом уехал в Москву. Да еще, может, слышал пару песен, которые совсем не отложились в памяти. И сейчас, по дороге, он вспомнил все это только потому, что Треугольный переулок ассоциировался у него с этим артистом.
– Там бригада уже на месте работает, они сразу выехали, как только их вызвали. Соседи в милицию позвонили, – пояснил опер.
– Кто следователь?
– Сергей Ильич.
– Ну конечно! – злобно буркнул Емельянов, сцепив зубы, уже четко понимая, что сегодня явно не его день. – Пирамидону ни у кого не найдется? – не выдержал он.
– Держи, гуляка! – порывшись одной рукой в бардачке, шофер протянул Емельянову таблетки, и он засунул в рот сразу три штуки, не запивая водой.
Машина въехала в переулок, прокатила некоторое расстояние и остановилась у живописного двухэтажного домика. Шофер заглушил мотор, встал у обочины.
– Во дворе флигель, – коротко бросил парень. Емельянов вышел первым, изо всей силы хлопнув дверцей.
Глава 4
Двухэтажный флигель, явно выстроенный из досок, которые потом покрыли штукатуркой, находился в глубине двора. Протиснувшись среди деревянных палок, подпирающих веревки, на которых сушилось белье, Емельянов сразу заметил открытую дверь парадной. Поднялся по дощатой скрипучей лестнице. Молодой опер едва поспевал за ним, тяжело дыша.
– Отдельная квартира или коммуна? – бросил Емельянов, не поворачивая головы.
– Коммуна. Там еще трое соседей. Соседки и обнаружили труп, когда увидели, что дверь в комнату открыта и, несмотря на утро, там горит свет. Одна соседка проходила по коридору и все это заметила. Позвала другую. Вместе они и вошли внутрь. А там на полу и лежала эта женщина. Как они поняли, давно уже мертвая. Соседки и позвонили в милицию с уличного телефона-автомата.
Дверь квартиры была открыта настежь, и Емельянов вместе с опером (оперком, как он уже окрестил его про себя) оказались в длинном полутемном коридоре коммунальной квартиры. Он сразу понял, что нужная им комната – последняя по коридору, потому что за ней слышались голоса, шла какая-то возня.
К удивлению Константина, комната оказалась очень уютной. Стены, выкрашенные в оливковый цвет, зеленые шторы на окнах, плюшевая в тон мебель создавали ощущение покоя. Мебель казалась дорогой – мягкий диван, два кресла. С потолка свешивался матерчатый тоже зеленый абажур…
Посередине стоял стол, накрытый белой кружевной скатертью, которая сразу бросалась в глаза. На столе была расставлена посуда, стояла пустая бутылка из-под шампанского, два пустых бокала, чайные чашки, тарелки, разрезанный торт… Было понятно, что здесь что-то праздновали.
Емельянов двинулся вокруг стола и сразу увидел темный брезентовый мешок, в который было запаковано тело. Его не убирали до прихода опергруппы.
В комнате толпилось довольно много людей, вовсю орудовали эксперты. У двери застыл парень в милицейской форме, старательно отгонявший зевак. К Емельянову сразу подошел следователь Сергей Ильич:
– Не прошло и полгода! – с ехидной улыбкой пожал он ему руку, а затем протянул паспорт: – Вот она, наша красотка!
Женщина на фото действительно была хороша. Конечно, красоткой назвать ее было нельзя, но миловидное, чувственное лицо сразу запоминалось. У нее были красиво изогнутые губы, четкие скулы, ровный нос и изящный разлет бровей, длинные темные волосы, темные глаза. Внешность была очень необычной. А в жизни часто такое ценится гораздо больше, чем красота.
Емельянов развернул паспорт, принялся читать вслух:
– Вайсман Кира Эдуардовна… уроженка Одессы… Родилась 3 апреля. Через месяц ей должно было исполниться 29 лет, не замужем. Детей нет. Есть информация, чем она занималась? – поднял он глаза.
– Есть, – ответил следователь. – Мы нашли ее профсоюзную книжку, удостоверение и рабочий пропуск. Она работала гримером на Одесской киностудии. Вот удостоверение – гримерно-костюмерный цех. А еще нашли диплом об окончании театрального училища в Одессе по двум специальностям – костюмер и гример.
– Интересно, – задумчиво произнес Емельянов, – дамочка-то наша не простая, из мира искусства! Кино, высокие материи… Артисты…
И, не спрашивая разрешения, он присел и принялся расстегивать брезентовый мешок. Женщина лежала на спине. Лицо ее было не повреждено, лишь косметика расплылась: черные пятна от туши под глазами, размазанная губная помада ярко-красного цвета, сбившаяся в комки пудра, отчетливо заметные на уже остывшей коже… Длинные черные волосы были свободно распущены по плечам.
На покойной был домашний халат из набивного шелка – на синем фоне горели яркие вульгарные желто-красные розы. Емельянов нахмурился: домашний халат никак не вязался с шампанским и празднично накрытым столом. Уместнее было бы вечернее платье. Но, может, она переоделась в халат после ухода гостя? Ему подумалось, что с такой внешностью, как у этой женщины, это должен быть именно гость – мужчина.
Он стал осматривать тело дальше. И сразу же на шее, почти под челюстью, обнаружил отчетливо видный синяк в форме отпечатка мужского пальца. По всей видимости, женщину с силой схватили за челюсть, поворачивая к себе и крепко держа.
– Есть еще синяки на теле, – сказал подошедший к Емельянову эксперт, – и синяк на предплечье – как след удара кулаком. И еще такой же на спине. Судя по всему, убийца с силой ударил ее два раза – в предплечье и в спину. Потом схватил за челюсть и, сжимая, держал. Все это насильственные действия. А значит, самоубийство исключается, несмотря на причину смерти.
– Самоубийство? Какое самоубийство? Какая причина смерти? – тут же насторожился Емельянов.
– Отравление нембуталом, – ответил эксперт.
Емельянов прекрасно знал этот препарат. И совершенно не удивился, услышав это название. Но профессиональная смекался взяла верх, поэтому, прищурясь, он в упор уставился на эксперта.
– Почему именно нембутал? Это ведь мог быть любой другой барбитурат. Или снотворное – люминал, веронал.
Вместо ответа эксперт подошел к ящику буфета, стоящего возле стены. Ящик был приоткрыт. Внутри валялась небольшая стеклянная баночка с кристаллическим белесоватым порошком. На ней была вручную, криво приклеена простая белая бумажка, на которой простым угольным карандашом было написано большими буквами «Нембутал». Баночка была заполнена порошком примерно на четверть.
– Так мы все это и нашли, когда приехали, – сказал эксперт, – ящик никто из нас не выдвигал. К тому же, похоже, что баночку швырнули назад в спешке.
И, пока Емельянов внимательно все осматривал, аккуратно положив баночку в пакет, чтобы не стереть отпечатки пальцев, эксперт добавил:
– Нембутал бывает как в таблетках, так и в таком виде. Как порошок он легче растворяется в любом напитке – воде, вине. И еще один интересный момент. Таблетки – аптечная форма продажи, только по рецепту. А вот порошок покупают незаконно, с рук. Это нелегальная форма продажи. Есть такие специальные каналы, которые снабжают этой гадостью всех желающих. Стоит дороже, чем в аптеке, но рецепта никто не требует.
– Почему же гадость? – усмехнулся Емельянов. – Очень даже приличное снотворное. И нервы, говорят, хорошо успокаивает.
– Вы его принимаете? – нахмурился эксперт.
– Ни за что! – отмахнулся Емельянов. – Я человек консервативный, предпочитаю нервы по старинке успокаивать – водкой. А вот новомодные дамочки, слышал, очень даже его обожают.
– Нембутал – это наркотик, – резко сказал эксперт. – Он вызывает привыкание и изменяет психику. Это страшная вещь. И смертельная – стоит только превысить дозу.
– Да уж… Что здесь и произошло. Если, конечно, дамочке не помогли эту дозу превысить, – вслух размышлял Емельянов. А размышлять было о чем.
Нембутал… Барбитурат, который действительно чаще всего использовался как снотворное средство, вызывал смерть от остановки дыхания. При этом смерть довольно мучительную – передозировка провоцировала рвоту, и человек просто захлебывался рвотными массами.
«Нембутал» – это было торговое название. Именно под этим названием препарат поступал в торговые сети. Настоящее название этого препарата – пентобарбитал. Но об этом мало кто знал.
Емельянову в своей практике несколько раз приходилось сталкиваться с этим жутким препаратом. Так как стоил он довольно дорого, то был популярным прежде всего в высших партийных кругах. Жены и дочери партийных бонз носили его в сумочке как карманное средство, ну, как, к примеру, аспирин. Еще он был достаточно распространен в среде деятелей искусства. Многие представители богемы не мыслили жизни без этого препарата, принимая его не только на ночь, но и днем – для стимуляции.
Однажды у Емельянова было дело, о котором он до сих пор не хотел вспоминать. Некий высокопоставленный чиновник, глава одного из райкомов партии, был найден в своей квартире мертвым. Домработница обнаружила его лежащим в спальне на ковре возле кровати. В квартире партийный деятель был один – все его семейство отправилось на отдых в Крым.
Шухер был страшный! Естественно, подключили и уголовный розыск. Когда эксперт сказал, что в горле покойного застряли рвотные массы, Емельянов сразу заподозрил неладное. Но едва он попытался заикнуться, что в смерти этой что-то нечисто, начальство подняло страшный шум, ведь с самого верха было велено писать, что заслуженный большевик умер от сердечного приступа, так как не щадил здоровья и сил на тяжелой ответственной работе, так сказать. Пожертвовал жизнью ради советского дела.
Емельянов помнил, как повыходили газеты с огромными, почти во всю полосу некрологами – и это еще до результатов вскрытия! Это уже потом эксперт провел вскрытие и сказал, что партиец умер от передозировки нембутала. И, судя по состоянию печени и прочих внутренних органов, он принимал этот препарат в огромных количествах и не один год.
Проведя полный обыск квартиры партийного покойника, Емельянов обнаружил в стене тайник, где хранился почти годовой запас этого препарата в порошкообразной форме…
Но едва он заикнулся о том, что ответственный и всеми уважаемый большевик был наркоманом со стажем и умер от передозировки барбитурата, как ему пригрозили самым серьезным образом: сказали, что вышвырнут с работы и отдадут под суд. В общем, рисковать было глупо. Поэтому так и осталось в деле, что председатель райкома партии умер от сердечного приступа. И с тех пор у Емельянова просто снимало крышу, когда в деле появлялись подобные препараты. И в этом случае неприятностей, похоже, тоже было не избежать.
Покойная работала на Одесской киностудии – значит, там, среди киношников, были открытые каналы по продаже наркотических средств! Вполне вероятно, что сидеть на какой-то гадости там было то ли делом привычки, то ли делом престижа. А значит, Емельянову предстояло разворошить осиное гнездо. Тем более, если выяснится, что препарат женщине дали насильно.
Когда он только подумал об этом, эксперт словно прочитал его мысли.
– Кстати, – произнес он задумчиво, – под правой лопаткой у покойной есть очень интересная точка… И, похоже, она одна такая на теле. Хотя подтвердить это может только вскрытие.
– Чем интересная? – вздохнул Емельянов, уже зная, что не услышит ничего хорошего.
– Да тут как будто след от инъекции. И этот укол ей, похоже, сделали насильно. Смотри, шприц вошел под углом, поэтому на ранке выступило несколько капелек крови. А это означает, что препарат ей могли ввести, когда она сопротивлялась. Если взяли большое количество порошка, развели водой и залили в шприц, а потом вкололи полный шприц под лопатку, то смерть могла наступить в течение 10 минут или даже раньше…
Константин снова вздохнул. Похоже, убийство. Впрочем, это было понятно с самого начала. Предсмертной записки не было. А зачем тянуться за снотворным после праздничного ужина с шампанским? Неужели она собиралась лечь спать, даже не убрав посуду со стола? Ответ Емельянову был ясен: передозировка, не самоубийство, а самое настоящее убийство! Господи, вздохнул он третий раз, ну и возни теперь будет!
Он приступил к осмотру квартиры. И уже почти сразу же в тумбочке возле кровати нашел кое-что интересное – пачку писем. Емельянов позвал одного из сотрудников и попросил их прочитать, а сам принялся осматривать комнату покойной.
Осмотр длился недолго, и когда закончился, опер нахмурился: ничего! Вот просто ничего. У покойной было мало вещей. Обычная одежда невысокого качества – не импорт, не от фарцовщиков, все то, что продают в советских магазинах. Не было и дорогой иностранной косметики, все только советского производства. Денег – сущие гроши, он насчитал 9 рублей 28 копеек. Никакой иностранной валюты. Много хороших книг, потрепанных – видно, что покойная любила читать. А вот драгоценностей почти не было. Только серебряные цепочка с кулоном, серьги с агатом и пара колец. Из золота – тоненькая золотая цепочка, сережки с жемчугом и одно тоненькое колечко с какой-то стекляшкой, явно не драгоценным камнем. А еще – Емельянов обратил на это внимание – в квартире не было найдено никаких мужских вещей. Если у покойницы и был любовник, то он не жил с ней вместе, в этой квартире. Думая об этом факте, опер поинтересовался у эксперта:
– Слушай, а она случайно не была девственницей?
– Нет, конечно, – ответил тот сразу. – Нет, но, судя по первичному беглому осмотру, полового контакта перед смертью у нее не было.
– То есть ее не изнасиловали?
– Нет, – уверенно ответил эксперт.
Емельянов нахмурился. Нищенское имущество мертвой женщины никак не вязалось с дорогим снотворным препаратом. Откуда она брала деньги, чтобы покупать нембутал? Ведь стоил он не пять копеек!
Может, ей покупал этот препарат тайный любовник, следов которого в квартире не было? Но тогда почему он не дарил ей дорогие подарки? Все в этой комнате свидетельствовало о том, что женщина жила не просто не богато – она испытывала материальную нужду. Откуда тут взяться таким дорогостоящим привычкам, как глушить свой мозг элитным снотворным?
Мысли Емельянова отвлек сотрудник, появившийся на пороге.
– Тут одна из соседок говорит, что знает, с кем пировала покойница. Вроде как последней ее перед смертью видела, – горячо произнес он. Видно было, что лейтенантик очень старается доказать, что он – настоящий опер.
Емельянов двинулся на унылую коммунальную кухню – в точности такую же, как и все коммунальные кухни. Он уже знал, что его тут ожидает: чад, гарь, закопченный потолок, множество стоящих один на другом столов и шкафов, почти на каждом – груда посуды, как чистой, так и грязной…. Только один стол был почти девственно чист. Емельянов сразу понял, что это стол покойной.
Посреди кухни его уже ждала соседка – толстая тетка лет шестидесяти, по внешнему виду похожая на торговку. И действительно, как он позже выяснил, она торговала на Привозе уже неизвестно сколько лет.
– Кирочка хорошая была девочка, вежливая… – начала она визгливо сразу же, без предисловий. – Никому плохого слова не сказала! Я ее с самого детства знала, тут она и выросла. И родители ее тут жили, пока были живы. А потом похоронила их обоих в один год, бедняжечка. И осталась одна-одинешенька на свете! – Соседка причитала, и Емельянов пока не прерывал этот поток – ему надо было послушать. – Только вот в жизни ей не повезло, – продолжала она на той же ноте. – Замуж так и не вышла, бедняжечка! Но никого из мужиков домой не водила, – тут ее тон изменился, став назидательно-строгим.
– Когда вы видели Киру Вайсман в последний раз? – поднял на нее глаза Емельянов.
– Так вчера с четырех дня она все по кухне бегала, готовила. Гостей ждала.
– Откуда вы узнали, что должны быть гости?
– Так она сама мне и сказала: мол, на ужин моя самая дорогая подружка придет! Возвращение отпраздновать.
– Какое возвращение? – не понял опер.
– Три дня назад Кирочка вернулась из Москвы. Она туда в командировку ездила, по работе.
– И долго отсутствовала?
– Больше недели, точно. Дней восемь или десять даже ее не видела.
– Куда именно она ездила, не знаете?
– Не знаю, голубчик! – искренне вздохнула соседка. – Стала бы она мне рассказывать такие подробности! Я ведь тетка простая, все на Привозе торгую. А Кирочка, она из мира кино! Общалась все со звездами. Не стала бы она со мной откровенничать.
– Значит, в гости к ней должна была прийти подруга?
– Да, и пришла. Я потом ее видела.
– Одна или с кем-то?
– Одна. Подружка вроде не замужем, как и сама Кира. И да – подруга ее курит, а Кира табачного дыма не выносит, поэтому подруга курила тут, на лестнице. Несколько раз я ее видела.
– Во сколько подруга ушла, знаете?
– Да часов около девяти вечера. – Соседка задумалась. – Точно в девять. Еще по радиоточке сказали. Кирочка провожать ее пошла, а потом вернулась одна.
– А в этот вечер, после девяти, к ней никто больше не приходил?
– Так откуда ж мне знать, голубчик? – снова искренне удивилась соседка. – Я в десять часов к себе пошла спать и заснула как убитая! Но вроде тихо у нее было. Думается мне, что не приходил к ней никто.
– Но точно вы этого не знаете?
– Конечно не знаю. Откуда, голубчик?
– А подругу вы часто у Киры видели?
– Да, она часто приходила.
– Имя знаете? Фамилию, где работает?
– Вроде Вероника… Или Валерия… Да, Валерия, точно, Лера. Так Кирочка мне ее и представила: это моя подруга Лера. А фамилию не знаю, и где работает тоже. Откуда?
– Кто еще кроме подруги приходил?
– Ну, пару раз видела ее коллег. Кира говорила, что это коллеги по цеху приходили, и мужчины, и женщины. Еще у нее какой-то дальний родственник был, но он из Одессы вроде уехал. Ну а подруга часто приходила.
– А мужчины, ухажеры? – настаивал Емельянов. – Встречалась она с кем-нибудь?
– Не знаю, голубчик, – вздохнула соседка. – Она такая скрытная была. Мужчины… да, пару раз приходили. Не больше… Так она никогда ничего не рассказывала. А если я спрашивала – говорила, мол, коллега в гости зашел. И все.
Как Емельянов ни старался, больше ничего интересного из соседки выудить не удалось. Он вернулся в комнату. Подошел к сотруднику, которому поручил разбирать письма.
– Кто ей писал? – спросил.
– Любовных посланий нет, – ответил тот. – В основном по работе, а еще от подруги.
– Имя подруги?
– Валерия Лушко. Живет вроде тут, поблизости, на улице Чкалова.
– Это хорошо, что близко, – хмыкнул Емельянов. – Ноги не бить. Вот что, смотайся на Чкалова и притащи мне сюда эту Валерию Лушко, если она дома. Если нет, выясни у домашних или у соседей, кто такая, где работает. И быстро.
Глава 5
Валерия Лушко оказалась парикмахершей. Работала она в салоне на улице Советской армии, по сменам. И в этот день была дома.
Высоченная крашеная блондинка несколько вульгарной внешности, несмотря на то что привел ее сотрудник уголовного розыска к месту убийства подруги, испугана не была, наоборот – в ее туповатых глазах засветилось плохо скрываемое любопытство. Прямо с порога она нагло поинтересовалась, можно ли тут курить, после чего Емельянов цыкнул на нее, требуя вести себя более прилично.
Тогда дамочка напустила на себя вид сплошной добродетели и показала для официального протокола, что вместе с Кирой Вайсман училась в театрально-художественном училище, однако потом пошла по парикмахерской линии, так как парикмахеры больше зарабатывают.
Жила эта Валерия Лушко одна в коммуне на улице Чкалова, родом была из Николаева. Тут же она сообщила, что родители Киры умерли 10 лет назад, отец – от язвенного кровотечения в больнице на Слободке, а мать – спустя полгода от сердечного приступа. И Кира в 19 лет осталась совсем одна.
– Это вы были вечером у нее в гостях? – Константин сам вел протокол.
К тому моменту, когда Валерию Лушко привезли, тело Киры уже убрали из квартиры. Поэтому Емельянов отправил восвояси большинство сотрудников. К тому же он отлично умел писать стенографически.
– Я конечно, – сев на стул, Валерия Лушко как-то очень быстро растеряла весь свой вульгарный вид, и было видно, что чувствует она себя неуверенно.
– В котором часу вы пришли?
– В пять часов вечера. Кира меня пригласила. Она вернулась из Москвы три дня назад, но звать меня в гости не спешила, так как не хотела говорить на неприятные темы. А тут решила все же поделиться.
– Какие неприятные темы? – насторожился опер.
– Так провалилась ведь ее поездка в Москву! – воскликнула Валерия. – Она ж хотела там устроиться на работу и больше не возвращаться в Одессу, но у нее ничего не вышло. Господи, ведь, как она мечтала уехать из Одессы, бросить эту нищенскую жизнь гримера на киностудии! Долго копила на эту поездку, взяла отпуск за свой счет… Но у нее ничего не получилось…
– Куда она хотела устроиться на работу? – продолжал Емельянов, почувствовав, что в этом деле может быть важна каждая деталь.
– Знаете, есть такой знаменитый артист в Москве, Леонид Утесов? – спросила Лушко. – Он ведь бывший одессит, кстати.
– Конечно знаю, – Емельянов вздрогнул – лишь недавно он сам вспоминал, что Утесов родился как раз в Треугольном переулке.
– Родители Киры очень хорошо знали этого Утесова, – продолжала пояснять подруга, – в молодости они с ним соседями были, здесь, в Треугольном переулке. А потом отец Киры стал завхозом, и там же где-то работал и этот Утесов. И вот Кира решила, что Утесов поможет ей, ну, по старой памяти. Она знала, что у него есть свой оркестр, это что-то вроде своего театра. И вот хотела устроиться у него работать. К тому же она слышала, что Утесов страшный бабник, как и все артисты. И хотела… в общем… – Валерия замялась.
– Произвести на него впечатление, – закончил за нее опер.
– Ну, в общем… да. Можно и так сказать… Кирочка, она же красивая была. За ней такие артисты упадали! Но она никогда не хотела быть просто очередным курортным романом. Ей нужен был такой серьезный человек, который помог бы ей устроиться в Москве. Она прямо бредила этим и очень не хотела жить в Одессе.
– И что произошло дальше?
– Ну что… Кира накопила денег на поездку. А до этого написала Утесову. И он, представьте, ответил: мол, приезжайте! И назначил ей встречу в каком-то театре. Кира носилась как на крыльях!
– Вы видели это письмо? – перебил Валерию Емельянов.
– Нет, – покачала она головой. – Не видела. Кира, как вернулась из Москвы, сразу его уничтожила.
– Почему? Все-таки письмо знаменитости, – искренне удивился опер.
– Вы знаете, там, в Москве, что-то пошло не так. В общем, подробностей я не знаю… Кира не рассказывала… Знаю только, что она встречалась с Утесовым и с его дочерью Дитой. Они очень любезно ее приняли. Но… и все. Похоже, на Утесова она не произвела впечатления. Я так думаю, что он ею не заинтересовался. Сказал, что все места в оркестре заняты, и технические должности тоже… Ну и он не может помочь ей с работой. В общем, отказал. Кира помыкалась – а Москва огромная, и никого она там не знала, да и кто стал бы ее слушать! На работу, вот так, с улицы – ну кто возьмет? Так что вернулась она в Одессу. Хорошо хоть с киностудии не уволилась, а просто отпуск взяла. На это мозгов хватило. А я ей говорила: глупостей не делай, не увольняйся! Кто там знает, как оно сложится в этой Москве! Там и без тебя знаешь сколько? Хорошо, что она меня послушала… – Валерия прижала платок к глазам.
– И вы праздновали ее возвращение в Одессу? – снова перебил ее Емельянов.
– Да, – встрепенулась Лушко. – Кира хотела поднять себе настроение шампанским. Когда она позвонила ко мне на работу, в парикмахерскую, голос у нее был совершенно убитым. Но вчера… Вчера я ее просто не узнала! Она светилась вся, и настроение у нее было просто отличным.
– А что случилось? Она объяснила?
– Нет. Я же говорю: Кира была очень скрытной. Сказала только, что, кажется, у нее появился шанс получить хорошие деньги. И если он выгорит, она все равно переберется в Москву.
– Хорошие деньги? У гримера с киностудии? Что это значит? – Емельянов сразу сделал пометку в блокноте. Похоже, здесь уже намечался след.
– Понятия не имею! – искренне вздохнула Валерия. – Она ничего не объяснила. А я ведь знала, что из нее клещами ничего не вытянешь. Бесполезно было и расспрашивать.
– А сами вы как думаете, что это значит?
– Думаю, встретила какого-нибудь богатого мужика. Захомутать кого-то и так выбиться в люди – это была одна из ее идей. Но раньше у нее ничего не получалось.
– Расскажите мне о ее романах, – попросил опер.
– Да я и не знаю всего, – задумалась Валерия. – Знаю, что в юности, лет в 18, она собиралась замуж за какого-то мальчика. Но родители ее были против их отношений. Кира даже собиралась сбежать из дома. Но родители выследили и все разбили, ну и закончилось все.
– Кто он, знаете?
– Нет, – покачала головой Лушко. – Не знаю. Она даже имени никогда не называла. Говорю же, скрытная была. Сказала только, что он потом женился, и у него уже трое детей. Потом у нее был роман с каким-то женатым. Но ей надоело прятаться, и они расстались. Позже тоже были какие-то романы, но я толком ничего не знаю о них.
– А в последние месяцы у нее был любовник?
– Постоянного – нет, не было. Были какие-то одноразовые встречи. Но Кира после них всегда сильно переживала, поэтому прекратила это.
– Ладно, – вздохнул опер. – Вернемся к вчерашнему вечеру. В котором часу вы вернулись домой?
– Было около девяти. Кира пошла меня проводить, я же здесь поблизости живу.
– Она собиралась куда-то зайти после этого?
– Нет. Сразу пошла домой.
– Может, после вас она кого-то ждала?
– Нет, – снова твердо сказала Валерия. – Нет, Кира собиралась помыть посуду и лечь спать. У нее от шампанского разболелась голова.
– Она собиралась принять от головной боли какие-то медикаменты? – наступал Емельянов.
– Что вы, нет конечно! – воскликнула девушка. – Кира никогда никаких таблеток не принимала. Она была противницей любых медикаментов.
– Так-таки и любых? А снотворное она принимала? – Емельянов даже прекратил писать, такую важную информацию говорила эта Лушко, даже не подозревая об этом.
– Какое снотворное? – удивилась Валерия. – Да она ни разу не пила его, никогда в жизни! Она была уверена, что это отрава, что таблетки придумали специально, чтобы людей травить!
– В ее доме не было снотворных препаратов? – Емельянов снова склонился над бумагой, записывая показания подруги.
– Нет, – мотнула головой Лушко. – У нее вообще не было лекарств в квартире. Насчет таблеток у нее были просто средневековые взгляды. Я еще смеялась над ней из-за этого.
– А если бы вам сказали, что в ее комнате нашли такой препарат, как нембутал, что бы вы подумали?
– Что это не ее! Что принес другой кто-то. А что это такое? – Вопрос Валерии прозвучал абсолютно искренне.
– Кира жаловалась когда-нибудь на то, что плохо спит? – Емельянов не ответил, а спросил сам.
– Нет. Со сном у нее было все в порядке. Она жаловалась только, что не высыпается, когда ночные съемки на киностудии, а она на гриме. А вообще она всегда так легко и быстро засыпала, что я даже завидовала ей. Могла прямо стоя заснуть, – улыбнулась непроизвольно Лушко.
– Откуда вы это знаете?
– Мы как-то ездили с ней отдыхать на Каролино-Бугаз, жили в одном номере, и я видела. У нее вообще все со здоровьем было в порядке.
– Она пила алкоголь?
– Очень мало, не злоупотребляла. Пила только шампанское, а крепкие напитки не переносила.
– Вы не знаете, у нее были с кем-нибудь конфликты – может, на работе, с соседями?
– Нет, что вы, – Валерия снова улыбнулась, теперь уже иронично. – Понимаете, Кира всегда была очень хитрой и держала все свои эмоции при себе. Никаких конфликтов у нее никогда не было.
Больше Емельянов, как ни старался, не услышал ничего интересного. Но подруга Киры и без того наговорила достаточно. Убийство, похоже, подтверждалось.
Не то чтобы Константин Емельянов не любил работать. Просто в первую очередь он любил заниматься интересными, запутанными делами. Убийство гримерши с киностудии – он теперь четко определял это дело как убийство и был уверен, что не ошибается, – показалось ему интересным, здесь была какая-то головоломка. И вот когда интересное дело разбавлялось рутинной мелочью, типа взрыва дома, это всегда выводило его из себя. Но делать было нечего, работать по этому делу все равно было нужно.
А трудиться Константин любил с комфортом. Поэтому он не поехал сразу на Пролетарский бульвар, а отправился на работу, в свой кабинет. Шофер был в восторге – как и Емельянов, он тоже не любил гонять машину по пустякам.
На работе пришлось выслушать истерику начальства по нескольким текущим делам, обсудить на летучке оперативные планы, переговорить с кем-то из коллег. И когда наконец Емельянов добрался до своего кабинета, голова его раскалывалась так, что он едва мог стоять на ногах.
Однако в кабинете его ждал приятный сюрприз: едва он открыл дверь, как на пороге, следом за ним, сразу возник эксперт – тот самый бывший врач, с которым у него сложились почти дружеские отношения.
– Видел, как ты проходил по коридору, – нахмурился эксперт, – и пошел следом за тобой. Ты видел себя в зеркале? Смотреть тебя страшно!
– Ясновидящий, – Емельянов вымученно улыбнулся. – Действительно, у меня болит голова. На погоду, наверное.
– На погоду, – фыркнул иронично бывший врач. Он подошел к столу, налил из графина стакан воды и высыпал туда какой-то порошок. – Вот, пей, – протянул. – На погоду…
Емельянов выпил. Порошок был невероятно кислый на вкус, но он мужественно допил до конца.
– Мне страшно смотреть, как ты себя убиваешь, – бывший врач не спускал с Емельянова глаз. – Жутко то, что ты с собой делаешь…
– Я не понимаю, ты о чем… – Константин отвел глаза в сторону.
– Все ты прекрасно понимаешь, – вздохнул эксперт. – Знаешь, что я скажу? Надоела жизнь – гуманнее пустить себе пулю в голову, чем травить себя такой гадостью, которой ты травишься каждый день. Убиваешь сосуды, убиваешь мозг. Самое страшное, что ты не умрешь сразу. А можешь слечь, например, с инсультом. Кто будет за тобой ухаживать? Подумай об этом, Емельянов.
– Я подумаю, – опер нахмурился. – Но и ты подумай, что не надо лезть со своими советами туда, где тебя ни о чем не спрашивают… За лекарство спасибо, а со своей жизнью я уж сам как-нибудь разберусь. Ты читал Бернарда Шоу?
– Что ты имеешь ввиду? – не понял эксперт.
– У него есть прекрасная фраза: алкоголь – это анестезия, позволяющая переносить реальность. Может, не дословно, но смысл тот же. А меня эта реальность оперирует, буквально режет на куски каждый день, и без анестезии никак нельзя. Так что за благие намерения спасибо. Но благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад.
Похоже, Емельянов ответил очень резко, во всяком случае эксперт пожал плечами и вышел. Константин расстроился, что обидел друга. Голова, между тем, прошла. Мучаясь чувством вины, опер поднял телефонную трубку:
– Санаторий Чкалова? Главврача позовите… Уголовный розыск. Добрый день. У вас живут погорельцы? В смысле люди, отселенные после взрыва дома? Да, отлично. Значит, так. Соберите их всех в каком-нибудь «красном уголке», всех вместе, чтоб я пятьсот раз к вам не ездил, я приеду ровно в четыре, и мы с ними побеседуем. Да, со всеми вместе. Вы меня поняли? Тогда до встречи.
– Вот так, – Емельянов с удовлетворением повесил телефонную трубку. Навязали ему опросить для галочки свидетелей, вот он и опросит для галочки. Никаких усилий. Все равно будут говорить сплошную ерунду. Что там они могли видеть?
Предупредив начальство, что едет на бывший Французский бульвар, Емельянов, уже весело насвистывая, пошел к служебной машине.
Ехали почему-то долго. Глядя в окно на пробегающие мимо автомобиля дома, он думал о том, как глупо было назвать бульвар с таким красивым названием, как Французский, Пролетарским. Что за фантазия такая была? Сколько Емельянов себя помнил, и его родители, да и бабушка с дедушкой всегда называли этот красивый бульвар, тянувшийся вдоль моря, Французским. Да и большинство коренных одесситов – тоже. Не прижилось новое название, не вошло в кровь. Пахло от него советскими лозунгами и той обязаловкой, которой каждый умеющий мыслить был сыт по горло. И Емельянов, мыслящий всегда нестандартно, не мог не думать об этом странном парадоксе: как в стране, в которой главным лозунгом было «Все лучшее – людям», умудрялись делать все для кого угодно, но только не для людей…
Какой долгой ни показалась ему дорога, приехали они ровно к 16 часам. Насмерть перепуганная главврач провела Емельянова в гостиную на первом этаже главного санаторного корпуса. Несмотря на то что было самое начало весны, да еще и очень холодной весны, санаторий работал, если и не в полную нагрузку, то хотя бы вполовину. Во всех корпусах топили, была горячая вода. Именно поэтому тех погорельцев, которые не смогли разместиться у друзей и родственников, и отправили сюда.
Как узнал Емельянов буквально за десять минут до выезда, дом разрушился не полностью. Нижняя часть его осталась нетронутой, можно сказать, в жилом состоянии. Были уничтожены только последние этажи. Дом планировали восстановить в течение нескольких месяцев и разрешить людям вернуться в свои собственные квартиры.
А пока его отрезали от всех коммуникаций – газа, света, воды. Жильцам тех квартир, которые были не повреждены, позволили подняться к себе и забрать ценные вещи. А потом входы опечатали, и стоял дом мертвый, ничем не напоминая, что когда-то здесь кипела жизнь.
К удивлению Емельянова, в уютной гостиной санаторного корпуса погорельцев собралось не много. Главврач провела его в комнату и мгновенно исчезла. Опер ее понимал – люди, которых не коснулась беда, предпочитали держаться подальше от таких неприятных вещей, как, к примеру, взрыв дома, даже если они вообще не имели к этому всему никакого отношения. Понимать-то он ее понимал, но раздражения сдержать не смог.
Поэтому, нахмурившись, он выступил на середину комнаты и заговорил коротко и сердито:
– Здорово, граждане! Я из милиции. Итак, кто что видел, кто что заметил, может, что подозрительного, в день взрыва, рассказываем…
И для проформы даже раскрыл планшет с блокнотом, на самом деле не собираясь ничего записывать. А люди загалдели – все одновременно, и казалось, что голоса их звучат сразу со всех сторон.
Больше всех старались, конечно, женщины, пытаясь донести до него уж совсем полную ерунду – о каких-то поломанных форточках, о плохой еде в санатории, прочую белиберду… Емельянов, слыша это, почти физически мучился от того, что нельзя на них прикрикнуть как следует.
Если бы эта стая баб сидела у него в кабинете, он моментально навел бы порядок. А тут… Галдят и галдят – ну чисто куры в курятнике! Невозможно выдержать! Да еще и в такой тяжелый для него день.
Послушав этот галдеж с минуту, Емельянов поднял предостерегающе руку и гаркнул:
– А ну тихо, граждане! Отвечаем в порядке очереди, по существу! Кто что видел подозрительное? Говорит один – остальные молчат!
Это произвело свое действие – курицы вмиг притихли. В наступившей тишине откуда-то сбоку раздался старческий голос:
– Да вы шутите, молодой человек? В этом взрыве все как есть подозрительное! А вы говорите…
Емельянов обернулся на голос. У одного из окон сидела пожилая супружеская пара – муж и жена лет шестидесяти, не меньше.
– Домá себя так не ведут, – мужчина смело выдержал взгляд Емельянова.
– А как ведут? – растерялся тот.
– Молодой человек, я инженером проработал всю свою жизнь. И я вам профессионально заявляю: это был очень нестандартный взрыв. Часть дома – крыша с карнизом, буквально поднялась на воздух, а потом была отброшена взрывной волной на такое расстояние, которое было бы просто невозможно, если б взорвался бытовой газ. К тому же эту часть дома словно аккуратно разрезали ножом, ну, будто прошелся мощный сварочный аппарат. И вы что, хотите меня уверить, что такой взрыв мог устроить бытовой газ, который накопился в результате утечки в обычной квартире? – Несмотря на странное изложение своей мысли, мужчина не отказал себе в одесской интонации.
– А что же это было, по-вашему? – удивился опер. К подобному он явно оказался не готов. Да и вообще, когда думал про этот дом, в голове возникало лишь одно: «Да гори оно все синим пламенем, красным знаменем!»
Конечно, такую дурацкую поговорку Емельянов ни за что бы не произнес вслух – он не был самоубийцей по натуре. Но вот избавиться от нее не мог. Потому и растерялся, слушая слова пожилого инженера, что случалось с ним довольно редко в его профессиональной жизни. А в важных, ответственных случаях – вообще никогда.
– Что это было? – Инженер пожал плечами. – Я бы предположил, что это была какая-то новая, неизвестная науке взрывчатка, которая находилась в одной из квартир.
– Взрывчатка? – Тут Емельянов уже мог парировать. – Вы, вообще, представляете себе количество взрывчатки, которое понадобилось бы для того, чтобы взорвать полдома? Так ею должна была быть забита вся квартира!
– А вот тут вы ошибаетесь! – Инженер был по-прежнему спокоен. – Есть очень много примеров взрывоопасных веществ, малое количество которых производит неимоверные разрушения. Например чистый глицерин. Или еще какие-то новые, синтезированные вещества, которые каждый день получают наши ученые. Вы поймите, что от взрыва бытового газа дом не мог повести себя так! Подобного характера разрушений я не видел никогда в жизни, а мне, уж поверьте, приходилось видеть немало разрушенных домов, в том числе и от взрывчатки! Я чинил поврежденные взрывами коммуникации. И я вам точно говорю: это был не газ!
– Хм… – Емельянов вдруг почувствовал, как под его ногами разверзлась пропасть: все его предположения разбивались в пух и прах. – Тогда для чего, по-вашему, это было? – уставился он на инженера. – Кто и с какой целью подложил взрывчатку?
– Думаю, это был теракт против советской власти, – пожилой человек смело встретил его взгляд. – Игра в саботаж, – произнес он четко.
Глава 6
– Так, – Емельянов облизал мгновенно пересохшие губы, – вы говорили кому-нибудь об этом, кроме меня?
– Говорил, – кивнул инженер, – говорил товарищам из органов госбезопасности. Они очень внимательно выслушали мои слова, кое-что записали, да и только. А это очень важный момент. Если в доме действительно жил такой человек, вам, как карательным органам, обязательно нужно установить его связи и личные данные. Все это может нести опасность.
– Да, согласен, – опер деланно кивнул. – А вы, может, подозреваете, кто это мог быть? Кто-то из ваших соседей?
– Да что тут гадать! – вдруг вмешалась одна из женщин, сидевших в первом ряду, похожая на торговку с базара. – Псих этот был, с пятого этажа! Тот, кто сгорел!
Читая оперативную разработку, Емельянов уже знал, что при взрыве погиб некто Тимофеев, преподаватель Политехнического института, 45 лет. Жил один, женат не был, коллеги по работе и соседи считали его странным. Он стал единственной жертвой взрыва, так как утечка газа, судя по всему, произошла именно в его квартире.
– Так, – опер тяжело вздохнул, чувствуя, что снова проваливается в какую-то бездонную яму и про себя кляня свое начальство чем попало. – Вы хорошо его знали?
– Я? Нет, видела всего пару раз. Но по нему сразу было видно, что он чокнутый.
– А ведь она правду говорит! – вмешалась еще одна женщина. – Я его вечером, когда взрыв произошел, в парадной встретила. Аккурат за час до взрыва. И перепугалась.
– Почему? В каком он был состоянии? – Емельянов все-таки сделал пометку в блокноте, хотя десять минут назад думал, что этого не придется делать, что вся история – сплошной пустяк.
– В страшном! – Женщина сделала трагическое лицо. – Глаза у него были совершенно безумные. Смотрел – и словно ничего не видел. Совсем стеклянный взгляд. Я сначала подумала, что он пьяный, так как он еще и шатался, и припадал к стене. Но потом принюхалась – запаха алкоголя не было. А еще он бормотал себе что-то под нос.
– Что именно? – насторожился Емельянов.
– Да я не разобрала! Что-то вроде «они повсюду, они в стене…» Ну бред какой-то. Я еще тогда подумала, что он совсем свихнулся.
– А за две недели до этого, – вступил в разговор молодой парень, – он из окна хотел выброситься, представляете?! Я с друзьями поздно домой возвращался и увидел, как он стоит на подоконнике, в полный рост. Так стоял, словно прогнуть вниз хотел. Я уж было думал бежать к телефону-автомату, звать милицию, скорую. А он с подоконника сошел, и все. Помню, я еще тогда подумал, что у нас в доме чокнутый завелся. Надо бы сообщить, куда следует, чтоб на лечение его отправили, что ли. А потом вдруг – бац, и взрыв…
Тут все снова заговорили одновременно, и Емельянов понял, что затронута тема, которая интересовала всех. Было очевидно, что люди, пострадавшие от взрыва, говорили и думали об этом не один раз. Он дал им всем выговориться, подождав минут пять, а потом снова поднял вверх руку.
– Так, тихо всем! Снова говорит кто-то один. Кто из соседей знает, с кем общался этот Тимофеев? Может, он дружил с кем-то в доме? Ходили в гости друг к другу чаю попить, например.
Все снова загалдели, а потом смолкли. И вдруг в тишине раздался голос женщины, которая испугалась Тимофеева в подъезде:
– Да я же знаю! Это Лариска! Лариса Клименко из 23 квартиры! Она к нему подкатывала!
– Здесь есть Лариса Клименко? – Емельянов обвел глазами собравшихся.
– Нет ее, – откликнулась молодая девушка. – Она с утра в город уехала. И до сих пор не вернулась.
Емельянов записал в блокноте имя и фамилию: «Лариса Клименко». Потом снова повторил, что если кто что вспомнит, пусть обратится с заявлением, и распустил людей. Через десять минут он уже стоял в кабинете главного врача.
– У вас есть список всех людей, кто здесь живет? Вы же переписали их данные по документам, так? Нужна вся информация по Ларисе Клименко.
– Да, сейчас, – главврач порылась в бумагах на столе, достала какой-то журнал. – Вот, здесь все записано. Клименко Лариса Андреевна, уроженка Одессы, 43 года. Вот ее паспортные данные, смотрите. Работает вроде портнихой в ателье на проспекте Мира. Как я поняла, в квартире в сгоревшем доме она проживала одна.
– Во взорванном доме, – машинально поправил Емельянов, затем уточнил, в какой комнате сейчас проживает Лариса Клименко, и пошел в жилой корпус.
Женщина жила в комнате номер 8, там было заперто. Пока опер дергал дверь, отворилась соседняя. Выглянула та самая девушка, которая и вспомнила про Ларису Клименко.
– А Лариса пока не возвращалась. Я бы вам сказала. А я Аня. – Девушка откровенно кокетничала с ним, но Емельянову она почему-то не понравилась – было в ней что-то ехидно-хитрое, а он не любил таких.
– Вы хорошо ее знали? – подошел он к ней.
– Ну как хорошо… Она маме наволочки и пододеяльники прострачивала. Она портнихой в ателье швейном работает. И весь дом судачил, что она была просто помешана на мужиках.
– В каком смысле? – насторожился Емельянов.
– А в прямом! – воскликнула Аня. – У нее ж мужик за мужиком в квартире сменялся, позор просто! А как она за эти Тимофеевым бегала – это ж было сплошное посмешище! Он, конечно, был дядька красивый, ничего не скажешь. И жил один, значит, жилплощадь есть. Но точно был не от мира сего, подвеенный какой-то, – пожала плечами она. – И разговоры какие-то странные вел. А один раз я подслушала… Ну, когда Лариса зашла к нам, маме заказ принесла. И вот она сказала… – Аня запнулась.
– Что именно? Не бойтесь, говорите! – подбодрил ее опер.
– Ну, сказала, вроде Тимофеева вызывали на допрос в КГБ. Она все боялась, что его арестуют. А он вдруг к вечеру вернулся домой.
– Значит, у них были отношения, он ей доверял? – сделал Емельянов простой вывод.
– Ну, да, – кивнула Аня. – Она все время шастала к нему в квартиру. Конечно были. Только вот вместе они никогда никуда не ходили. А в его квартире Лариса торчала постоянно. Влюблена в него была, ну как кошка. А он, я так понимаю, ее вообще не замечал. Знаете, было аж обидно за нее.
– Сколько времени длились эти отношения, не заметили?
– Ну, месяца три – четыре точно. Она в последнее время такая гордая ходила – значит, думала, что с ним все серьезно. А у него точно с головой что-то было!..
– Ясно. У меня к вам просьба, – доверительно заговорил Емельянов. – Вот вам мой служебный номер телефона. Когда Лариса вернется, попросите ее мне срочно позвонить. Хорошо?
– Хорошо! А мне можно звонить? – улыбнулась призывно Аня, явно кокетничая.
– Всем можно, – отрезал опер. Впрочем, он тут же смягчил свой тон, исключительно из хитрости. – А вы не знаете, куда она пошла? Может, она на работе?
– Нет, – мотнула головой Аня. – У нее сегодня выходной. Она не каждый день работает, у нее сменный график. Куда пошла, не знаю. Утром собралась, и ушла, часов около 11. Да, маме сказала, что едет в город.
По дороге на работу Емельянова мучило какое-то странное чувство, словно он нащупал зацепку. Дело, казавшееся совсем пустяковым, превращалось во что-то серьезное. Псих «террорист» и его сексуально озабоченная подруга как-то не укладывались в общие рамки. Тут уже могло наклюнуться что-то интересное. Конечно, это означало, что Емельянову придется заниматься еще и этим делом. Но хоть не бумажки заполнять!
– Пролетарский бульвар, 33, останови, – скомандовал он шоферу, и машина остановилась прямо напротив Одесской киностудии.
Не откладывая дела в долгий ящик, Емельянов решил пообщаться с коллегами Киры Вайсман, раз уж он оказался здесь поблизости.
На киностудии жизнь била ключом. Показав свое удостоверение на вахте, Константин попросил отвести его в нужный цех. И, пока в сопровождении вахтера он шел по киностудии, вовсю разглядывал каких-то людей в исторических костюмах. Дамы в кринолинах и мужчины в дивных одеждах курили, ели пирожки, болтали. Емельянову казалось, что он никогда не поймет этот причудливый мир кино. Он любил реальность, а здесь, в этом мире, жили исключительно фантазиями. А лучше, чем кто-либо другой, Емельянов знал, что именно к фантазерам и мечтателям жизнь бывает особенно несправедлива и жестока.
В цеху вовсю кипела работа. Вахтер подвел его к представительной даме лет пятидесяти. Как оказалось, какой-то начальнице. Вкратце сообщив, что Киру Вайсман обнаружили мертвой в ее квартире, Емельянов попросил рассказать о ней. Немного поохав для приличия, дама совершенно не изменилась в лице. Более того, глаза ее даже злобно сверкнули. И опер понял, что она недолюбливала покойницу.
– Ну что вам сказать, – дама нервно переступала с ноги на ногу, – Кира была не особенно дружелюбна, наш коллектив не ценила и не уважала. Она все считала, что судьба несправедлива к ней и она достойна большего. Очень хотела уехать в Москву, стремилась туда изо всех сил. Поэтому к нам относилась надменно и презрительно. Насколько я понимаю, она взяла отпуск, чтобы поехать в Москву и попробовать там устроиться. Но, кажется, у нее ничего не получилось, потому что она вернулась.
– Кира Вайсман была хорошим работником?
– Ну каким может быть работник, который тяготится своей работой и выполняет ее из-под палки? – пожала плечами дама. – Не скрою, у нее были определенные способности, да и дело свое она знала очень хорошо. Но ее отношение к работе все портило.
– С кем из коллег она дружила?
– Разве что с Наташей Игнатенко. Их столы стояли рядом. Сейчас я вам ее приведу.
Наташа Игнатенко оказалась миловидной пухленькой брюнеткой. Узнав о смерти Киры, она искренне расплакалась. Это были настоящие слезы, Емельянов умел это понять.
– Да, мы дружили, – немного успокоившись, сказала она. – Ну, насколько это было возможно с характером Киры. Она была очень скрытной.
– Вы знаете что-то о ее личной жизни? С кем она встречалась?
– Сама Кира мне ничего не рассказывала. Но кое о чем я догадывалась. Слухи ходили по всей киностудии, все об этом говорили.
– О чем именно? – Емельянов приготовился записывать.
– У нее был роман с актером Павлом Левицким. Он приехал из Харькова сниматься на Одесскую киностудию, потом ему предложили место в Русском драматическом театре, и он решил остаться в Одессе насовсем. И с Кирой у них был очень бурный роман. Она потеряла свою осторожность, и все стали о них сплетничать, судачить о том, что Кира таскается, бегает за актером. А потом они расстались.
– Из-за чего? – нахмурился Емельянов.
– Левицкий увлекся другой женщиной, актрисой театра. А Кира не смогла это перенести. И очень страдала. Актеры, знаете, вообще непостоянны. Потом Левицкий бросил и ту актрису, но Кира его так и не простила, хотя он хотел вернуться к ней.
– Вы не знаете, Кира принимала снотворное? – перевел разговор в другое русло опер.
– Кира? Уверена, что нет! Она вообще таблетки не выносила, говорила, что у нее на них аллергия.
– А многие актеры принимают снотворные препараты?
– Да почти все. Без этого в актерской профессии не выжить. Нужно какое-то успокоительное. Здесь на этом добре вся киностудия сидит. Да еще и на нескольких препаратах сразу!
Поблагодарив девушку и отпустив ее, Емельянов задумался. Подруга Киры Валерия ничего не сказала о ее романе с актером. Не знала или не хотела говорить? А роман, оказывается, был бурный. Левицкого придется допрашивать. Емельянов поморщился – ему все больше и больше приходилось погружаться в чуждую ему актерскую среду.
На следующее утро из своего кабинета он позвонил главврачу. В голосе той чувствовалась тревога:
– А Лариса Клименко не возвращалась, – сказала она. – Сегодня мне звонили с ее работы, спрашивали о ней. Она должна была выйти на смену и не вышла. Не знаю даже, что и думать.
Емельянова охватило самое плохое предчувствие. Чего-то подобного он ожидал. А потому не мешкая отправился получать все данные на Ларису Клименко в паспортный отдел.
Через час на столе Емельянова лежала вся полученная информация и несколько фотографий.
Лариса Клименко оказалась вдовой, муж ее умер десять лет назад. Детей не было. И, судя по документам, живых родственников тоже, так как она была из детдома.
Квартира, в которой проживала Клименко, принадлежала ее покойному мужу. На фотографии было отображено стандартное, даже несколько нагловатое лицо – так во всяком случае подумал Емельянов. Судя по данным, Лариса Клименко была крашеной блондинкой, рост 162 сантиметра, вес – 55 килограммов. Выглядела моложе своих лет. Обыкновенная, ничем не примечательная женщина, таких – легион. Глядя на фотографию, можно было подумать, что такие женщины не попадают в беду. Однако тяжелое предчувствие не покидало опера.
Емельянов позвал того самого парня, который привез его в Треугольный переулок, и дал задание:
– Обзвони-ка, мил друг, ты мне все больницы, позвони в морг, узнай, не поступала ли женщина с такими приметами.
Сам он уже узнал по базе, что в списке пропавших без вести Лариса Клименко не значится. Впрочем, как раз это было понятно – кто бы стал подавать заявление в милицию и разыскивать ее, особенно так, сразу?
Через час парень заглянул в кабинет Емельянова:
– Все узнал! Докладываю: есть такая в городском морге. Привезли вчера ночью, около трех. Подобрали на улице. Судя по описанию, все совпадает.
Константин буквально помчался в морг. Ему повезло – дежурил знакомый патологоанатом, Виктор Васильевич, с которым ему уже не раз приходилось иметь дело. Это был достаточно толковый специалист.
Виктор Васильевич показал тело. Сомнений никаких не оставалось – в морге действительно была Лариса Клименко.
– Ее доставили ночью, около трех, – прикуривая сигарету, заговорил патологоанатом. – Наряд милиции вызвал скорую. Обнаружили ее поздние гуляки. Она лежала на ступеньках Главпочтамта, на Садовой. Сначала решили, что она пьяная, но запаха алкоголя не было. Вызвали милицию. При ней не было никаких вещей, сумки тоже не было.
– Одежда?
– Вот, – Виктор Васильевич отрыл шкафчик, достал пакет. Емельянов принялся рассматривать вещи: коричневое пальто, розовое шерстяное платье, черные туфли на высоком каблуке, бежевая комбинация, розовые чулки, белое нижнее белье… В карманах пальто ничего не было. Не было также ни украшений, ни часов.
Емельянов внимательно смотрел на тело и вдруг вздрогнул. Под подбородком, слева, у покойной Ларисы Клименко виднелся точно такой же синяк, как на лице Киры Вайсман! Это был отпечаток большого мужского пальца.
– Какая причина смерти? – дрогнувшим голосом спросил он.
– Отравление нембуталом, – ответил врач. – Ей укол сделали под лопатку. Я нашел точку с застывшими каплями крови. Значит, дамочка не покончила с собой.
И тут Емельянов потерял дар речи! Перед ним на столе в морге лежало тело женщины, имевшей точно такие же признаки смерти, как и Кира Вайсман, гримерша из Треугольного переулка!
Однако эти женщины даже не были знакомы! Но, выходит, их смерти были связаны?
Емельянов растерялся. К такому сюрпризу он был не готов.
– Хочешь, удивлю? – спросил врач.
– Ну попробуй, – убитым тоном произнес Емельянов, все еще не пришедший в себя.
– У меня лежит труп еще одной дамочки, который имеет точно такие же признаки смерти – отравление нембуталом, след от инъекции с кровью и синяк на лице. Труп без документов, не опознан и тоже доставлен с улицы. Лежала на скамейке рядом с жилым домом. Но в этом доме она не жила.
– Показывай! – вскинулся опер.
Они перешли в соседнее отделение, и врач выкатил из шкафа каталку. Под простыней оказалось тело миловидной молодой девушки с коротко стриженными каштановыми волосами.
– Возраст – до 35 лет, рост 175 сантиметров, вес – около 50 килограммов. Худощава, с плохо развитой грудью. Имеется шрам от аппендицита. И, что самое интересное, она была в одной ночной рубашке, даже без нижнего белья и без обуви! И это в феврале! Поэтому нашедшие ее и вызвали милицию.
У Емельянова была фотографическая память, и он сразу отметил, что по базе данных женщина с такими приметами в розыске не значится. Ее не искали. Дело разрасталось на глазах как снежный ком.
Глава 7
1 марта 1967 года, Люстдорфская дорога
Дождь пошел около девяти вечера, но Анатолий едва расслышал его из-за множества громких голосов. Было совсем темно. Лампочка горела вполнакала, и по грязным, поросшим грибком стенам как призраки плясали рваные тени. И на этом фоне – голоса, голоса…
В камере всегда было шумно, но особенно по вечерам. Казалось, с наступлением ночи жизнь возобновлялась. Эта непонятная активность ночной жизни в тюрьме в первое время была для него китайской азбукой, абсолютно непонятным явлением. Но потом он понял.
И дело было не только в том, что по ночам охрана была менее бдительна. И не в том, что именно ночью можно было общаться с другими камерами, передавая записки по веревке. А в том, что ночью почти у всех, заключенных за густой решеткой, отрезанных напрочь от мира, появлялась новая, другая энергия, словно в них вливалась свежая кровь. Если бы Нун был религиозен, то сказал бы, что здесь не обошлось без нечистой силы. Но он был писателем, человеком, призванным тонко чувствовать человеческую душу. Поэтому говорил себе, что дело здесь в самой разрушительной и страшной силе из всех – в надежде. Именно надежда на то, что ночь принесет новый день, и этот день будет совсем другим, заставляла кровь заключенных закипать в их жилах в преддверии утра.
Конечно, никто из его сокамерников не понял бы этой мысли, выскажи он ее, ни за что не осознал бы и не высказал вслух. Но Анатолий был твердо уверен, что дело именно в этом: надежда – самый лживый и страшный разрушитель из всего существующего, убивший не одно будущее.
И если бы он составлял свои молитвы, то добавил бы кое-что лично от себя: убейте надежду. Пусть вам повезет вовремя убить в себе надежду. Ту отчаянную веру, которая заставляет цепляться за прошлое. Лишь только когда нет никакой надежды, можно встать на ноги и очень осторожно попытаться двигаться вперед. Маленькими шагами. Чтобы выйти. Чтобы выжить. Для этого нужно только придушить в своей душе ее – лживую, тщетную надежду. И это самое простое, но и самое сложное дело из всего.
По ночам Нун никогда не принимал участия в общем веселье. Он ни с кем не разговаривал, не сидел за общим столом. Лежа на своих верхних нарах, на третьем этаже, отстраненно наблюдал за происходящим внизу, рисуя собственные картины и образы. Анатолий был сторонним наблюдателем этого не похожего ни на что мира. И постепенно его оставили в покое.
Там, наверху, было не так уж и плохо. Чувство страха постепенно исчезло, он научился взбираться наверх, и со временем такая отстраненность – высотой – стала его внутренней свободой. Той самой свободой, которую никто не может отнять – кроме него самого.
Было около девяти вечера. Нун давно уже забрался наверх и закрыл глаза. Снизу галдеж не утихал. Сокамерники обсуждали какие-то записки – в тюрьме их называли малявами, что-то варили на керосинке и ели. Кто-то умудрился достать спиртное – крепкий домашний самогон – и угощал всех. В тюрьме доставали за деньги все что угодно, и даже алкоголь – от дешевого самогона до дорогого вина. Несколько раз Анатолия пытались угостить, но он полностью потерял интерес к спиртному. Он вообще не понимал, как раньше литрами мог пить коньяк. А главное – зачем.
Только здесь, в тюрьме, Нун по-настоящему оценил хорошее самочувствие и свежую, ясную голову. Но, как и многое другое, это понимание пришло к нему слишком поздно.
Закрыв глаза и вытянувшись на спине, он слушал шум дождя. Нары, на которых он лежал, были ближе к окну – ближе всех остальных. И только теперь он оценил этот дар судьбы.
Ему было доступно то, что не было доступно всем остальным: слушать шум дождя, вой ветра, шелест веток деревьев, росших поблизости, перекличку часовых в тюремном дворе, шаги…
Оказалось, что это было просто огромное богатство! Оно делало его самым богатым человеком на свете. И не важно, что это было крошечное, забранное густой решеткой, узкое окошко под самым потолком, и выглянуть в него было нельзя. Это богатство, которым обладал он один, делало его невероятно счастливым. И каждую ночь он наслаждался этим сполна.
Нун закрыл глаза и постепенно стал погружаться в сонное забытье. Голоса внизу совершенно не мешали этому. Появились какие-то смутные, давно забытые образы. Капли дождя барабанили в такт маминой песни, той самой, которую в детстве она так часто ему пела! Как жаль, что теперь он не мог вспомнить слов…
Еще он слышал вой сирены в порту, под который так любил писать свои книги. В такую дождливую погоду, как сегодня, он обязательно открыл бы окно, и вся комната наполнилась бы этим тоскливым призывом – жить, несмотря на туман, жить, несмотря ни на что. Он бы писал и слушал, а дождь за окном выбивал бы по камням какую-то свою тайную истину. А он писал бы строку за строкой, чтобы ее разгадать.
Тело стало легким, словно погружалось в какую-то непонятную невесомость. И вдруг неизвестно откуда послышался резкий, тревожный голос мамы: «Толик, выходи!.. Выходи!..»
Голос зазвучал так ясно, так отчетливо, что Анатолий моментально открыл глаза. Откуда здесь, в тюрьме, мама? Откуда выходить – отсюда? Как? Проломить стены, выбить потолок и, как раненая птица, взлететь вверх? Это был просто сон. Обычный сон, не имеющий ничего общего с реальностью.
Именно в этот момент резко, со скрипом, загрохотал железный замок камеры. Охрана открывала дверь.
Все внутри камеры смолкли. Охранники не появлялись здесь в такой час. И это странное нарушение уже привычного режима у всех вызвало тревогу. В тюрьме любое изменение – не к добру.
Дверь камеры распахнулась, на пороге возникли трое – двое караульных в форме и какой-то офицер высокого ранга.
Офицер выступил вперед.
– Анатолий Нун – кто?
В камере была такая тишина, что если б сейчас, в марте, пролетела муха, ее было бы слышно.
– Я, – отозвался он со своего третьего этажа.
– Встать! – рявкнуло начальство.
Анатолий поспешно слез, стараясь двигаться аккуратно, чтобы не упасть.
– Лицом к нарам!
Он повернулся. Его обыскали. Развернули лицом к камере – к морю странных, разных, человеческих глаз.
– Собирайся на выход.
– С вещами? – уточнил он.
– Можешь собрать свое барахло, – начальник жестко ухмыльнулся, – хотя тебе оно не понадобится.
Нун его не понял, хотя почувствовал в этих словах что-то очень плохое. Аккуратно сложил свои вещи в сетчатую авоську, собственно, их-то почти и не было, и пошел на выход. Его вывели в коридор. Дверь камеры захлопнулась. В коридоре было темно, пусто и холодно.
Нуна удивило то, что ему сковали руки. Обычно так делали при перевозке в другое место. Это его насторожило. Все было не так. Он ожидал, что его поведут в какой-то кабинет или в другую камеру, но его вывели в тюремный двор.
Дождь давно закончился, но плиты двора были мокрыми, кое-где даже собрались большие лужи. Было невероятно холодно. Анатолий в своей легкой одежде – осеннем плаще, в котором его и привезли в тюрьму, мгновенно попал в эпицентр этой мартовской стужи, тут же пронизавшей все его тело тысячей отравленных кинжалов. Он задрожал, ему свело судорогой ногу, а его все вели и вели через двор.
Нуну казалось, что шествие это длится бесконечно. Но через время его подвели к воротам. Справа он увидел приоткрытую дверь, его толкнули в нее. Он вошел. Это было маленькое помещение без окон, ярко освещенное, нечто вроде караульной будки. Внутри стоял стол и два стула. За столом сидел какой-то человек. Анатолий мгновенно узнал того кагэбиста, который допрашивал его и перевел к уголовникам. Его фамилия была Печерский. Он отчетливо запомнил лицо этого человека. И вот теперь видел его перед собой.
– Доброй ночи, Анатолий Львович. Вы, конечно, помните наш разговор, – начал Печерский сразу.
– Помню. – Губы Нуна еле шевелились от холода.
– И вы не изменили свое решение?
– Нет, – более громко сказал он.
– Отлично! – Печерский почему-то довольно потер руки. – Тогда нам с вами предстоит небольшое путешествие. Вещи свои оставьте здесь. Да, положите к стене, прямо на пол. И переоденьтесь. На улице холодно, а на вас плащ почти летний. Плащ тоже оставьте здесь.
Анатолий, с которого сняли наручники, положил авоську с вещами и плащ, затем натянул на себя какое-то старое пальто с меховым воротником, которое ему протянули. Оно было тяжелым и теплым. От воротника отвратительно пахло псиной. Пальто оказалось на него мало, и пуговицы он не мог застегнуть, но сразу почувствовал себя намного лучше.
В помещении появился еще один мужчина. Как и Печерский, он был в штатском.
– Это твой жмурик? – хмыкнул.
– Он самый, – в тон ему ответил Печерский.
– Руки ему сковать? – Мужчина достал из кармана своего пальто наручники.
– А зачем? – Печерский пожал плечами. – У него и так поджилки трясутся. А потом еще хуже будет.
На протяжении всего этого разговора у Анатолия буквально холодела кровь. Он вдруг понял, что сейчас его поведут убивать, но не на расстрел, так как официального приговора не было, а подло, тайно, под покровом ночи, чтобы потом оформить бумаги о естественной смерти в больнице. Для этого у него и отняли вещи, а потом переодели в чужую одежду.
Вещи будут целые, без дыр, их выдадут Розе после его смерти как доказательство того, что ее брат умер от естественных причин. Все это так ясно, отчетливо встало перед его глазами… Теперь он понимал и слова начальника в камере, и шутливое «твой жмурик». Этим жмуриком, то есть покойником, был он. Значит, речь шла о его смерти…
– Что ж, на выход, – Печерский поднялся из-за стола. Второй тут же схватил Анатолия под локоть и с силой потащил, буквально выволок из помещения.
Его вывели за ворота тюрьмы. Он увидел, что в отдалении стоит черный автомобиль. Нуна повели к нему. Второй мужчина сел за руль, а Печерский толкнул Анатолия на заднее сиденье и сам сел рядом. При этом спокойно произнес:
– Нам недолго ехать, не беспокойтесь.
Как будто он о чем-то спрашивал! Взревел двигатель, и машина покатила направо от тюрьмы. Завернула за угол, к кладбищу.
Ехали действительно недолго. Очень скоро автомобиль пересек дорогу и остановился совсем рядом с кладбищенской стеной. Двигатель заглушили.
Печерский открыл дверь и вышел. Второй мужчина вытащил Анатолия. Впереди мелькнула открытая калитка кладбища.
– Здесь, – небрежно бросил Печерский, и мужчина, еще сильнее вцепившись в Нуна, буквально потащил его через калитку.
Наконец они оказались на кладбище. Вокруг был лес из темных крестов. Под ногами чавкала разбухшая от дождя грязь. И в воздухе стоял жуткий запах прелой, гнилой листвы, какой ни с чем не спутаешь.
Нун всегда боялся кладбищ и не любил их. Они вызывали у него какой-то глубинный ужас – просто на подсознательном уровне. И никогда, ни разу за свою бурную и пеструю жизнь он не был на кладбище ночью…
Весь суеверный, панический ужас, подпитываемый темными, страшными легендами вдруг поднялся к его горлу, сжал, перекрыл воздух… Анатолию на миг показалось – еще мгновение, и он завоет. Не закричит, а именно завоет – как обезумевший зверь, завоет от этой первобытной тоски, которая вырывает сердце видом крестов, чернеющих в темном небе… Ноги его стали ватными. Он почти не мог идти, и человек, взявший его под локоть, уже буквально волочил его на себе.
– Где? – выругавшись, обернулся он к Печерскому.
– А чего далеко ходить? Да здесь!
Анатолия толкнули к одной из могил. Он увидел какой-то покосившийся крест и могильную плиту из черного мрамора. В этот момент луна вышла из-за облаков и осветила все вокруг призрачным светом. В этом свете могилы и лесá крестов выглядели еще ужаснее.
– На колени, сука! – Мужчина ударил Нуна ногой под колено. От боли, от неожиданности он не сумел сдержать равновесия и плюхнулся прямо в жидкую грязь. Чтобы не упасть ничком, уцепился рукой за могильную плиту, пытаясь выпрямиться. Но новый удар в спину, снова ногой, заставил его замереть в этой позе – прислоненным к плите, полусогнутым, на дрожащих коленях.
Разум обострился до такой степени, что, несмотря на темноту, Нун видел мельчайшие детали, и самое главное – он видел, как Печерский засунул руку в карман пальто, а затем вытащил ее. В свете луны блеснула темная сталь пистолета. Щелкнул предохранитель.
И тут Анатолий впал в какой-то странный ступор. Время вдруг растянулось, ужас исчез, словно растворился в темной дыре непонимания. Мозг словно отказывался принимать все то, что происходит, одновременно фиксируя каждую мелочь.
Печерский приставил пистолет к голове Нуна. Он почувствовал его леденящий холод, и ступор ушел, на его место пришла дрожь, от которой стало содрогаться все его тело. Он дрожал и дрожал, воздуха не хватало по-прежнему. С губ его вырвался вой – звериный вой в темноту, на луну. Вой приговоренного к смерти.
– Страшно? – Губы мучителя растянулись в едкой ухмылке, напомнив Анатолию чудовищную улыбку Гуимплена. Печерский словно стал его двойником, выйдя из тени.
Ответить Нун не мог. Время застыло бесконечным ужасом этой последней минуты и всем, что он видит в ней: жидкую грязь, серебристый свет луны, вереницу крестов, черные могильные камни…
Печерский прижал пистолет сильней. Анатолий закрыл глаза. Раздался щелчок. Затем – хохот. Все так же хохоча, Печерский убрал руку. Выстрел был холостым. Нун упал лицом вниз.
В тот же самый момент на его голову обрушился страшный удар. От этого заплясали настоящие огненные искры, завертевшие пространство, закружившие все вокруг. Анатолий потянулся к ним и рухнул в темноту, в которой все исчезло. Могил и крестов в этой темноте тоже не было…
Он пришел в себя на заднем сиденье автомобиля, который мчался сквозь ночь. Голова болела невыносимо, однако, к своему удивлению, Нун мог соображать достаточно ясно. Застонав, он попытался сесть. Это ему удалось. И даже получилось открыть пошире глаза.
Он увидел, что машина едет посреди бесконечных полей. Местность была Анатолию совершенно не знакомой. За рулем был мужчина, который его ударил. Он бесконечно насвистывал себе под нос какую-то мелодию. Они были вдвоем – Печерского в машине не было.
Нун понял, что теперь совершенно не кажется для них опасным: после экзекуции, по их мнению, он должен был полностью превратиться в развалину.
Куда же его везут? И что будет с ним дальше? Этот вопрос волновал Анатолия больше всего. И совершенно неожиданно для себя самого он почувствовал охватившую его ярость.
Да, он не был бойцом. Он всегда считал себя человеком исключительно мирным, ненавидящим оружие и насилие. Именно поэтому пытка с фальшивым расстрелом показалась ему особенно отвратительной и ужасной.
Но невероятно: в нем внезапно появились некие силы от противного. Ярость, бушующая, клокочущая ярость вдруг закипела изнутри, поднялась из самых глубин и раскаленной лавой растеклась по всему его телу.
Как эти твари могли так поступить с ним? За что? Кто вообще дал им право вот так безнаказанно распоряжаться людскими судьбами? И дело даже не в том, что Нун хотел жить, – он всегда любил жизнь. Дело в том, что после этого униженного стояния на коленях в жидкой грязи и пистолета, поднесенного к голове, он уже никогда не сможет жить так, как прежде. Он никогда больше не будет прежним. Эти твари, не стреляя, застрелили его душу.