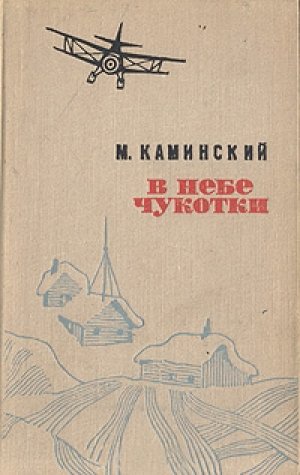
О КНИГЕ «В НЕБЕ ЧУКОТКИ» И ЕЕ АВТОРЕ
Книга «В небе Чукотки» освещает очень важный и трудный этап истории освоения Великого Северного морского пути. Север нашей Родины занимает около 40 процентов ее территории. Огромные пространства Сибири всегда тяготели к Ледовитому океану. В него несли свои воды самые большие реки страны, являясь естественными транспортными артериями. Единственная нитка Транссибирской железной дороги не могла обеспечить развитие богатейших районов сибирского Севера.
В эпоху 20–х и 30–х годов задачи развития культуры и экономики народов, населяющих Крайний Север, привлечения богатств сибирского Севера для ускорения индустриализации нашей страны, надежную морскую связь центральных районов страны с Дальним Востоком в условиях капиталистического окружения мог обеспечить только Северный морской путь.
В декабре 1932 года Центральный Комитет партии вынес решение о создании при Совете Народных Комиссаров СССР Главного управления Северного морского пути–Этой организации было поручено: превращение Северного морского пути в надежно действующую транспортную магистраль, развитие культуры и экономики народов, населяющих Крайний Север, промышленное освоение этих районов.
Это была уникальная организация с огромными полномочиями–Она действовала почти тридцать лет и блистательно решила многовековую проблему освоения морского пути на Советский Дальний Восток.
В 1933 году О. Ю. Шмидт, назначенный начальником Главсевморпути, возглавляет новый сквозной поход на пароходе «Семен Челюскин». Это был не ледокол, а обычное судно, на котором шли грузы и пассажиры, в частности, смена зимовщикам острова Врангеля. Ледовые условия в Чукотском море оказались очень трудными, однако «Челюскин» вышел в Берингов пролив, до чистой воды Тихого океана оставалось несколько километров. Но в те годы у нас на Дальнем Востоке не было мощных ледоколов. Нечем было выколоть «Челюскин» из ледяного поля, в которое он вмерз. Изменившимися ветрами корабль вынесло в Чукотское море.
В феврале 1934 года «Челюскин» был раздавлен льдами, экипаж и члены экспедиции создали лагерь на дрейфующем льду. «Челюскинская эпопея», кратко описанная в этой книге, показала, что Северный морской путь проходим для обычных грузовых пароходов, что решающее значение в освоении Севера имеет успешная работа авиации и что особое внимание должно быть уделено освоению Чукотки.
Возникла необходимость поселить авиаторов на самой Чукотке и всерьез заняться ее авиационным освоением.
Книга М. Каминского «В небе Чукотки» рассказывает о работе целого поколения полярных летчиков, которое . пришло в Арктику, когда историческими решениями ЦК ВКП(б) 1932 и 1934 годов были определены направления широкого развертывания работ по освоению этого отдаленного края страны,
Эта книга не плод писательского воображения. Так все было в действительности. И так рассказать мог только тот, кто сам это видел и пережил.
Автор записок более тридцати лет служил отечественной авиации. Из них двадцать пять в Арктике, в эпоху ее освоения. Краткий перечень послужного списка говорит сам за себя. С 1935 года по 1939 год — авиационное освоение Чукотки, начало которого описано в этой книге. В 1940 году — изыскания воздушной трассы на Чукотку по северному побережью. В марте — апреле 1941 года он — второй пилот и парторг в блестящей воздушной экспедиции И. И. Черевичного в район Полюса недоступности. В начале войны М. Н. Каминский в западном секторе Арктики несет сторожевую службу и проводит корабли в условиях блокады Карского моря немецкими подводными лодками. С начала 1943 года и до конца войны он в составе авиации дальнего действия командир большого четырехмоторного ночного бомбардировщика ПЕ–8. В 1947—1950 годах летом исследует «белые пятна» на карте Заполярья с помощью аэросъемки, а зимой участвует в первых высокоширотных экспедициях в приполюсном районе.
В 1950 году испытывает в условиях Арктики первый самолет О. К. Антонова — АН–2, еще не испытанный в производственной работе на материке. С этим полюбившимся ему самолетом М. Н. Каминский не раз побывал на полюсе.
Осенью 1955 года сложилась драматическая обстановка для дрейфующей станции СП–5. Ее ледовый аэродром оторвало от лагеря станции. Только АН–2 мог делать посадки на крохотной полоске в расположении станции. Только этот самолет мог преодолеть в ненастную погоду поздней арктической осени тысячекилометровый путь от Северной Земли, через льды океана. М. Н. Каминский выполнил этот перелет на АН–2 в условиях полярных сумерек. За последующий месяц, полярной ночью, он перебросил с дальнего аэродрома, на котором садились тяжелые самолеты с материка, девяносто тонн грузов на льдину станции. Выполнив эту главную задачу, всю полярную ночь впервые в условиях высоких широт он летал на зондирование атмосферы и ежемесячно «открывал» основной аэродром СП–5 для приема самолетов с материка.
Вернувшись с дрейфующей станции, той же осенью 1956 года Каминский уходит в морскую антарктическую экспедицию. В 1957 году идет в Антарктику вторично. За два сезона на своем АН–2 он снимает для карты более пяти тысяч километров наименее исследованного побережья этого материка.
В предельном для летчика возрасте, он выходит на пенсию, и перед ним встает вопрос; что делать дальше? Деятельная натура коммуниста побуждает его не складывать руки. Он начинает осваивать новое для себя оружие — перо писателя. Книга, им написанная, правдиво и достоверно отображает борьбу советских людей за освоение Арктики. Но не только это. Живо описанными примерами эти записки показывают отвагу и неуступчивость перед препятствиями людей, воспитанных в условиях советского строя, их гуманизм, интернационализм и, главное, партийность.
Думаю, что эту книгу прочтет с большим интересом молодежь 70–х годов, прочтет и сделает выводы, как отнеся к трудностям встающим на пути у каждого поколения, как побеждать.
М. И. ШЕВЕЛЕВ,
Герои Советского Союза, генерал–лейтенант авиации в отставке, бывший начальник Управления полярной авиации
ОТ АВТОРА
Довелось мне испытать всяческое лихо.
На летающей лодке приземлялся и взлетал с земли. На горящем самолете садился в тумане. Пробивался сквозь ураган зенитного огня и возвращался с десятками пробоин. Голодал, замерзал, тонул, горел. Не однажды мне казалось: «Ну все — это конец!»
Даже не верится, что все это было. Говорили, что мне дико везло. Соблазняло вслед за Суворовым ответить: «Раз — везение, два—везение, но, помилуй бог, надобно ж и умение'» Но, по–честному, так ответить я не мог. Все дело а том, что наибольшие испытания выпали мне, когда умения–то и не было. Его не было, когда я, не имея понятия об элементарном, попал в Арктику, не было и на войне, где каждый начинает свой личный опыт с нуля.
Опасные ситуации, как правило, внезапны. Даже большой опыт не всегда подскажет, как лучше поступить, когда нет времени для размышлений.
Спрашивается, что же спасает человека?
Везение? Да, конечно! Что ни говори, а фактор личной удачливости со счетов не сбросишь. Однако везение сопутствует людям определенного склада характера. Я бы сказал так: каков характер — таково и везение!
Богиня Удачи презирает тех, кто «чешет в затылке», когда необходим поступок. Ей по душе смелость, находчивость, решительность. В молодые годы мне посчастливилось пройти школу, формировавшую у людей такие качества; во главе ее стоял человек, личным примером обучавший действовать так, чтобы победить и уцелеть. Поэтому свое повествование о пережитом на Чукотке я начинаю с рассказа об этом человеке — человеке мужества и верности долгу.
Но есть другие причины, объясняющие начало моего рассказа.
Мне довелось стать свидетелем и участником развития дела крупного исторического значения. О том, как оно начиналось, известно немногим, и с каждым годом очевидцев становится меньше. В изумительной быстроте развития этого дела решающую роль сыграл комсомол. Он шефствовал над ним с первых робких шагов, помогал расти и одолевать трудности.
По совокупности мотивов я и счел своим долгом рассказать о деле, которое в 30–е годы на Западе назвали русским чудом. Но пусть читатель судит сам…
М. Каминский
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. В «ЦИРКЕ» ГРОХОВСКОГО
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЧЕЛОВЕКА ВОЗВЫШАЕТ ЕГО ДЕЛО
ГЛАВНЫЙ АЭРОДРОМ СТРАНЫ
Огромный пустырь на окраине Москвы до революции назывался Ходынским полем, а в народе просто Ходынкой. С западной стороны поля издавна располагались воинские казармы, само же поле служило учебным плацем для многих поколений русских солдат. К северу от казарм белела березовая роща, за ней раскинулось пригородное село Всехсвятское. Окраины Ходынки были изрыты ямами, откуда бралась глина для городского строительства. В день коронации царя Николая II в 1896 году эти ямы и окопы стали местом ужасной катастрофы, стоившей жизни многим сотням людей.
С возникновением авиации Ходынское поле стало пилотной площадкой для первых летательных аппаратов, а к 30–м годам здесь утвердился Центральный аэродром столицы. Сегодняшнего читателя это сообщение, вероятно, удивит. Он знает Домодедово, Внуково, Шереметьево, Быково… Все верно, теперь так. А в 30–х годах был один, Центральный для Москвы и главный для всей страны аэродром.
Аэродром… Место встреч и разлук. Начало и конец срочных командировок или романтических путешествий… А для меня Московский аэродром — это школа и начало пути через четыре полюса {1}, через белые поля Арктики и Антарктиды.
Теперь здесь вертолетная площадка городского аэровокзала. На месте приземистых построек, когда–то необходимых главному аэродрому, ныне возведены высотные здания из стекла и бетона. В одном из них — Министерство воздушного флота. Далеко в стороне остались ворота, через которые въезжали когда–то автомашины и проходили на работу сотни людей, обслуживающих самолеты. Сейчас тут мало кто ходит, и угол этот кажется заброшенным. Справа, поблизости от ворот, стоит небольшое, квадратное, оштукатуренное и побеленное, неприглядное на вид здание, а слева — длинное, несколько мрачноватое, из старинного красного кирпича. Эти здания — ветераны Центрального аэродрома, они достойны мемориальных плит: здесь работал талантливый коллектив Особого конструкторского бюро во главе с комдивом Павлом Игнатьевичем Гроховским, о котором и пойдет мой рассказ.
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР
В летный отряд при этом КБ я получил назначение в начале 1933 года, после трех лет службы в строевых частях.
Я еще не видел Главного, но имя его звучало для меня как легенда. Всего три–четыре года назад он был таким же командиром звена, как и я, с четырьмя «кубарями» в петлице, а сейчас носит два ромба. В мирное время столь стремительно шагнуть может не всякий. Это доказывало, что Гроховский — личность незаурядная. Ореол необыкновенности в глазах моих сверстников ему создало и то, что Главный был участником революции, а гражданскую войну прошел от первого до последнего выстрела.
Личная отвага этого человека поражала воображение. Начать с того, что летчиком он стал в те пионерские времена, когда летали на отслуживших свое иноземных самолетах. С парашютом он прыгнул еще в 1929 году, когда на парашютистов смотрели как на безумцев. В 1931 году он организовал и возглавил группу смельчаков, совершивших коллективный прыжок из подвешенных под крылом ТБ–1 «гробиков». А в 1932 году решился на еще более рискованный эксперимент: Гроховского и его помощника Титова летчик Анисимов сбросил в «авиабусе» — коляске, подвешенной под самолетом и отделенной от него на лету, над землей. По идее, после приземления «авиабус» должен был покатиться по земле, не опрокинувшись и не рассыпавшись. Но в последующих испытаниях без людей коляска разбивалась вдребезги.
Главный конструктор лично знакомился с каждым летчиком, и я не без трепета ждал этой встречи. И вот настал день, когда командир летного отряда Сафронов привел меня в кабинет Гроховского.
Когда мы вошли, Павел Игнатьевич сидел за столом и что–то писал. Он молча указал на стулья, но старый служака Сафронов чтил субординацию, как верующий закон божий, и несколько минут мы простояли не шелохнувшись.
Я огляделся. Канцелярский стол и несколько стульев. Стены сплошь увешаны листами ватмана с рисунками, мастерски исполненными в карандаше и красках. Вот Р–5 буксирует огромный планер. В его крыле лежат шестнадцать красноармейцев. Далеко внизу земля, и летчик высматривает для себя площадку на лесных полянах. На соседнем рисунке изображен ТБ–1, только что сбросивший танкетку. В лучах заходящего солнца распускается гигантский парашют. На третьем — четырехмоторный ТБ–3 делает заход перед сбрасыванием десанта. На крыле, вдоль фюзеляжа, с обеих сторон — шеренги парашютистов; одна рука — на поручне, другая — на вытяжном кольце парашюта. А вот что–то непонятное. Вроде бы самолет, но без крыльев и колес. За кабиной пассажиров — мотор с авиационным винтом, как на аэросанях. Машина несется над бетонной полосой, оставляя за собой пыльный хвост. Позднее , я выяснил, что странный аппарат был проектом амфибии на воздушной подушке.
Комдив кончил писать и встал из–за стола. Я разглядывал Главного. Несмотря на легендарную биографию, это был еще вполне молодой человек спортивного склада. На гимнастерке у него я увидел только орден Ленина и значок парашютного инструктора.
Гроховский слушал Сафронова, как мне казалось, не отрешившись от того, что занимало его мысли до нашего появления. Он даже переждал немного, когда умолк Сафронов, перевел взгляд на меня. Я внутренне съежился, почувствовав оценивающую цепкость его глаз.
— Так, говоришь, Каминский?.. Не брат ли Василия Каминского?
Уж не впервые задавали мне этот вопрос, и я не испытывал радости, попадая в тень знаменитого в те годы летчика–однофамильца, грозы басмачей. Гроховский, видимо, почувствовал мое смущение. Выходя из–за стола, он ободряюще произнес:
— Ну–ну, не расстраивайся! Василий на излете, а у тебя все впереди!
С этими словами он одной рукой повернул меня на пол–оборота и внимательно осмотрел.
— Коммунист?.. В комсомоле был?.. Хорошо!.. Наш коллектив и по возрасту, и по характеру комсомольский. Я тебе скажу больше; в нашем деле главное — новые идеи, а новое требует молодости и бесстрашия. Еще не прыгал?.. Ничего, это не так страшно, как кажется, Начинай прыгать сам и учи других, у тебя это пойдет. Вопросы есть?.. Нет? Желаю удачи! Если будет туго, приходи прямо ко мне!
Крепкое рукопожатие завершило обряд знакомства.
Секрет обаяния личности Гроховского открылся мне позднее. Как известно, непререкаемость дисциплины и субординации в армии—факторы первейшего значения. Но бывает, что эти установления некоторым командирам представляются самоцелью, а требования их исполнения становятся вопросом личного престижа. Комдив Гроховский менее всего дорожил своей начальственной недоступностью. К подчиненным, совсем молодым людям, он относился с покоряющим доверием. Дар располагать к себе, увлекать перспективой неудержимо манил к Павлу Игнатьевичу талантливую молодежь. В КБ не только отдавали все свои силы, но и рисковали жизнью, когда требовалось.
ДЕЛОМ СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК
Часто говорят, что талант — это от бога. Либо он есть, либо его нет!
На мой взгляд, бездарных людей нет, талант есть каждом человеке, он проявляется и растет в деле, которому человек посвящает себя. Если, конечно, любит его и отдает себя этому делу целиком. Творческий взлет военного летчика Павла Гроховского — наглядный тому пример.
Как–то Гроховский вместе с нами, летчиками, прямо с аэродрома зашел в летную комнату. Продолжался начатый после полетов разговор о неудачных попытках прокладки телефонного кабеля с помощью самолета: катушка, прикрепленная к самолету, не успевала раскручиваться, и провод обрывался. Летчик Крапивин пришел в отряд недавно, для него эти испытания оказались первой работой для КБ. Он выполнил уже немало полетов, но вносимые усовершенствования не давали результата. Высокий, худой, нервный по натуре, Крапивин был явно расстроен.
— Ерундовая затея, ничего из нее не выйдет! — запальчиво, с вызовом сказал Крапивин, и все умолкли, глядя на Гроховского. Вот так, «с порога», после первых неудач отвергать его идеи — этого в КБ никто не смел. И не только потому, что он — Главный. Просто все убедились, что его предложения, вначале казавшиеся сумасбродными, как правило, удавалось осуществить, после чего всем становилась ясной их полезность.
До этой реплики державшийся по–товарищески, на равных, наш Главный нахмурился.
— Почему вы так думаете? — спросил Гроховский. Летчик смутился, но ответил с той же раздраженностью;
— А мне думать не положено, мое дело летать, а они, — он кивнул в сторону конструкторов, — пусть думают!
Гроховский заметно побледнел, напрягся, и я подумал — сейчас разнесет. Но нет, сдержался. Обращаясь к конструктору Огневу, Главный сказал;
— Вероятно, идея применения катушки действительно порочна, и тут товарищ Крапивин прав. Для решения проблемы надо искать другую идею. — Он сделал паузу и продолжал, обращаясь к Крапивину: — А вот, что летчик–испытатель не желает утруждать свою голову думой, — это отвратительно. И опасно! Опасно прежде всего для него самого…
— Товарищ начальник! Вы меня неверно поняли…
— Вы выразились по–русски, и понять вас иначе нельзя… Позвольте спросить: вы в гражданской участвовали?
— Молод был. В двадцать пятом попал в летную школу, вот и служу.
— А! Помню вашу анкету. Кажется, вы были слесарем депо Вологда?
— Так точно, товарищ начальник!
— Оказывается, мы с вами из одного племени. Я тоже из семьи железнодорожника, но с восемнадцати лет в армии. А то, что вам не пришлось воевать, так это ваше счастье! Счастье человека, не видевшего крови и горя людского. Но, как видно, и несчастье… Потому что вы привыкли к готовому и требуете его от других. Вы не видели английских танков, от которых отстреливались наши герои–пулеметчики на тачанках. Не видели французских самолетов, против которых наши летчики вроде Ширинкина вылетали на «гробах». Вы не испытали ни обиды, ни зависти к такому неравенству в оружии.
Внешне Гроховский казался сдержанным, говорил четко и убежденно. Помолчав немного, он вновь поднял взгляд на Крапивина:
— Если не ошибаюсь, вы член партии? Да! Ну, так вы должны помнить, какое сложное и трудное время мы пережили в двадцать седьмом. Нэпманы еще пируют, в деревне кулаки режут и стреляют наших, басмачи вовсю орудуют, то тут, то там открываются заговоры… Немало коммунистов, как говорят на флоте, в то время потеряло остойчивость. А за кордоном ножи точат! Помните, Чемберлен предъявил нам ультиматум как своей колонии? По самому краю тогда прошли. Но пережили! Справились и с кулаками и с басмачами. Теперь вот, глядишь, вторую пятилетку начнем, а все же закрывать глаза не надо — мы слабее!.. Чем же осилим врага, если нападет? Только по Суворову; «Не числом, а умением!» Вот чем! А как постичь это умение, если не думать? Всем и каждому. Особенно в армии. Особенно коммунистам. Все мы почувствовали себя маленькими перед лицом того, о чем говорил Гроховский. Но и он уже не был спокоен, в его голосе ощущался ток высокого напряжения.
— Фактор времени сейчас решает все! Мы должны не только догнать, но и перегнать наших недругов в главном — в технике! Победит тот, кто окажется ловчее, изобретательнее, кто не побоится лишний раз подумать, чтобы не оказаться в дураках. Не для похвальбы и не только для вас, товарищ Крапивин, приведу пример из своей жизни. Когда вы кончали школу, я уже был командиром звена. Надо было учить молодых стрельбе и бомбометанию. А как учить, если цементные бомбы, и те на строгом учете? Сейчас мы начинаем многое забывать, забыли, какой острейшей проблемой для страны был цемент. Своего не хватало, прикупали за валюту. Ну и берегли, конечно! Дадут летчику два–три вылета в месяц на бомбометание — и все! А как научить его сработанности со штурманом, меткому поражению цели? По схемам, чертежам, одними словами? Так это все равно, что обучать плаванию на песке в пустыне. Не правда ли?.. И вот я подумал, заметьте, подумал, и не только за себя, как вы сегодня: хорошо, цемента мало, и он в цене с золотом. Но ведь много глины — она–то ничего не стоит? Подумал я так, а у самого мыслишка корявая шевелится и царапает: что, ты один такой умный? Наверное, пробовали, наверное, ничего не вышло!..
А служил я тогда в Новочеркасске. В этом городе оказался и старик гончар. Хорошие горшки, кувшины да разные там макитры делал. Поговорил я с ним, пришлось, конечно, пайком своим заинтересовать, время было не сытое, он и отвечает: «Давай, мил человек, попробуем. Никогда я таких штук не выделывал, а почему не попробовать? Тебе польза и мне интерес. Только ты, мил человек, глину мне добывай, где укажу, да массу приготовляй по моему рецепту. Бог даст, и выйдут твои штуки!»
Вот так начала работать наша «фирма». Добывал я глину, подвозил ее на ручной тележке к дому старика, делал массу, а старый мастер на своем станке выделывал глиняные бомбы так же, как делал кувшины и горшки. Не сразу у нас дело наладилось, пришлось помудрить с обжигом, но не зря говорится, что «терпение и труд — все перетрут».
В общем, получились у нас силикатные бомбы. Понимаете? Получились! А я думаю дальше: почему бы каждому летчику звена не дать бомбы со своим цветом разрыва? Вы же знаете, как это удобно — не ждать, пока с полигона сообщат результаты, да еще, глядишь, и напутают, а сразу: отбомбился, и сам видишь, куда попал — в мишень или в «белый свет».
В зарядную камеру я закладывал окрашенный мел. У каждого летчика свой цвет; у одного — красный, у другого — синий или желтый. Конечно, не так, чтобы очень хорошо видно, но разобрать можно… Перестали мы зависеть от лимита, старика зачислили в штат, и вся наша эскадрилья стала пользоваться такими бомбами.
Конечно, такие хитрости от бедности. Пришло время, стало больше цемента, и прекратили мы эту кустарщину. Но важно было найти выход тогда, когда трудно, а для этого обязательно надо думать, товарищ Крапивин.
Я слушал, не сводя с Гроховского глаз, и мне было стыдно, будто это я так оплошал, а не мой сосед Крапивин.
— Вы представьте, товарищи, как прокладывают полевую связь пехотинцы, — продолжал Гроховский, обращаясь ко всем. — Через буераки, ручьи, кустарник и другие препятствия они тянут провод вручную. Адский труд, а под огнем противника — долгий и опасный. Пехотные связисты в ноги поклонятся, если мы, хотя бы частично, решим эту задачу. А мы ее решим обязательно. Но опять–таки думать надо! Не вышел один способ — найдется другой. Один недодумал—другой подскажет, как и делается у добрых людей… А теперь последнее, что я должен сказать вам, товарищ Крапивин. Сейчас вам уж придется подумать — интересно ли для вас то, чем мы занимаемся? У нас и неудачи бывают, и рисковать порой приходится. А главное, что требует наше дело, — это желания и умения думать! Вот я и прошу вас над этим поразмыслить.
На следующий день Крапивин подал Сафронову рапорт о переводе! Его не удерживали, и больше я о нем не слышал. Но в связи с происшедшим я спросил Сафронова:
— Товарищ командир! А правда, что рассказал Павел Игнатьевич про глиняную бомбу?
— Он еще не всю правду рассказал. До этого он в воздушную стрельбу ввел некоторую рационализацию. Придумал складные конуса и способ, как одновременно выпускать не один, а три конуса. Вот и приметил его в 1928 году Ионыч {2}. В округе Гроховского представили на командира отряда, а начвоздуха решил, что больше пользы он принесет в Москве летчиком–испытателем НИИ. Да вы лучше с Малыничем поговорите. Он с Гроховским — с первого дня нашей организации.
Владимир Малынич оказался моим ровесником, ему шел двадцать восьмой. Мне представился крепыш среднего роста, круглолицый, крупноглазый, полногубый, с густой, очень красивой шевелюрой. Несмотря на молодость, доверчивостью не страдал. Долго прощупывал, кто я, зачем это мне нужно.
А потом рассказал, что Гроховский появился в НИИ ВВС в 1929 году, Малынич в то время работал техником–конструктором при инженерном отделе. От других летчиков–испытателей Гроховского отличал больше всего рационализаторский «зуд». Он видел недостатки не данного самолета, как другие, а самолетов вообще. Скажем, бывший тогда на вооружении самолет Р–1 мог поддержать пехоту только стрельбой и бомбометанием. В нем помещались летчик и летнаб, и это считалось нормальным. А если сконструировать подвесную кабину и перевозить в ней раненых? Или подвесить специальные кассеты и ставить дымовые завесы? Или сбрасывать листовки на позиции противника? Или катушку с телефонным кабелем и прокладывать линии полевой связи? Подобные вопросы никому и в голову не приходили, а у Гроховского они возникали каждый день, и он не давал покоя другим.
В то время в наших ВВС уже назревал вопрос о парашютах для летчиков, в первую очередь для испытателей. А Гроховский и эту идею переварил по–своему. «Почему только для летчиков? — задался он вопросом. Почему бы не сбрасывать на парашютах ящики с боеприпасами для пехоты, кавалерии и артиллерии? Или, скажем, медикаменты, продукты и вообще любое снаряжение?»
На все эти случаи он предлагал различные варианты коробов, мягких мешков, соображал, как их закрепить на бомбодержателях и как сбрасывать. Ему говорили, что шелка в стране нет, что он дорог, что парашюты покупаем за золото. «Но почему парашют обязательно должен делаться из шелка? — ставил Гроховский встречный вопрос. — Почему нельзя применить менее дефицитный материал? Например, наш знаменитый льняной перкаль? И не тратить на парашюты золото, а производить их у себя?»
Лозунг «Догнать и перегнать развитые в техническом отношении страны» партия воплощала в дела. В числе тех, кто много сделал для этого в авиации, особое место принадлежит П. И. Гроховскому. Во всех его высказываниях и поступках выражалось критическое отношение к установившимся нормам и взглядам, смелость в опытах, утверждавших неиспытанное.
Коренным свойством его натуры была потребность все подвергать критическому осмыслению. Но полезность такого свойства для дела признали не сразу.
Надо отдать должное тогдашнему начальнику института комкору В. С. Горшкову. Старый большевик, прошедший школу революции и гражданской войны, человек широкого кругозора, он заметил и оценил эту одаренность Гроховского и официально разрешил ему заниматься конструктивными разработками.
И что замечательно: в таком действительно неизведанном деле, как парашютизм, Гроховский не был единственным начинателем. Одновременно с ним идею отечественного парашютостроения отстаивали инженеры М. А. Савицкий, Н. А. Лобанов, И. Л. Глушков, Ф. П. Ткачев. Основателем парашютного спорта и пропагандистом идеи парашютных десантов стал другой летчик— Л. Г. Минов. Он быстро вырастил целый отряд энтузиастов.
До 1929 года во всем мире парашют считался средством индивидуального спасения летчиков. В 1930 году Минов осуществил первые групповые прыжки с ясно осознанной целью создавать десантные подразделения для нападения на объекты в тылу противника. Инициатива Минова была реализована уже в 1931 году созданием опытного воздушно–десантного отряда под Ленинградом. Это дает право считать Минова первым, сделавшим практические шаги.
Но П. И. Гроховский шел тем же путем одновременно и независимо. Он высказывал те же мысли и для их реализации к 1930 году создал парашютные короба и мешки для сбрасывания будущим десантникам оружия и снаряжения. Минов использовал их в своих опытах.
Подход Гроховского к решению проблемы десанта отличался не только самостоятельностью, но и оригинальностью во всех деталях. В 1929 году он предложил подвешивать под крыло Р–1 две санитарные кабинки. В 1930 году он думает уже о многих кабинках, устанавливаемых под крыло ТБ–1, а назначение их—парашютное десантирование бойцов.
— Нереально! — говорили ему. — Ни прецедента, ни опыта! Да и что вы можете сделать в ваших кустарных мастерских?
— Парашюты из перкаля? Да вы с ума сошли! Лучшие фирмы мира не пытались это делать, а там поумней нас с вами!
— Вы хотите сбрасывать людей из этих «гробиков»? Ну, извините, это циркачество, а не серьезное дело!
На упреки в риске задуманного эксперимента Гроховский отвечал:
— Постановка вопроса неверна. Рискует карточный игрок, надеясь на счастье. А мы ставим опыты после всесторонних расчетов. Нас может постигнуть неудача? Возможно! Но это фактор временный. Неудачи—это ступени к ожидаемому успеху. Важно знать, что делать, и не бояться действовать!
Я сам слышал из его уст, видимо, любимую присказку:
— Упущенное время — упущенные возможности!
Наш век не терпит медлительности. В скорости—острие технического прогресса.
Следует подчеркнуть, что сомневающихся оказалось много, их голоса имели вес в решающих инстанциях. Все возражения можно было опровергнуть единственным способом — практикой!
И через год после новаторского группового прыжка, осуществленного Миновым, Гроховский испытал свой метод десантирования. Вместо французского самолета «фарман» — отечественный ТБ–1. Вместо шести десантников — двенадцать. Парашюты не «Ирвинга», а пошитые в своих мастерских, не из шелка, а из перкаля. И способ десантирования, никем еще не применявшийся: все двенадцать парашютистов одновременно выпадали из перевертывающихся кабинок (люлек), подвешенных под крылом. Парашюты открывались автоматически— стропой, прикрепленной одним концом к кабине, а другим — к замку ранца парашюта. Одно это явилось изобретением, которым пользуются с тех пор повсеместно.
Роль десантников исполняли те, кто конструировал парашюты и кабинки, кто воплощал в математических формулах и чертежах идею подвески и сбрасывания. Они никогда раньше не прыгали. Одержимость идеей и бесстрашие молодости позволили пионерам совершить этот подвиг. Так врачи, изобретшие полезную вакцину, первыми испытывают ее на себе.
Я долго искал следы этих людей. И лишь случайно по старой фотографии я опознал семерых из двенадцати. Ими оказались: сам инициатор Гроховский П. И., его жена и помощница во всех начинаниях — Л. А. Гроховская, чертежница КБ Л. С. Кулешова, заместитель Павла Игнатьевича И. В. Титов, конструктор КБ И. А. Рыбников, техники М. А. Стуров и Ф. И. Саломатин. Из этого перечня видно, что в прыжке участвовали первые в мире женщины–парашютистки.
Ценность и значение проведенного эксперимента заключались в том, что он давал верное направление мысли, ибо техническое ее воплощение было неудовлетворительным. Двенадцать кабинок под крылом создавали слишком большое лобовое сопротивление, самолет становился трудноуправляемым.
Но отрицательный результат, как известно, указывает иное направление поиска и тем полезен.
Еще до этого события направление ума и деятельности летчика–испытателя НИИ ВВС Гроховского стало известно М. Н. Тухачевскому. Напомню, что это был один из знаменитых полководцев гражданской войны и теоретик по складу ума. В то время он был командармом первого ранга, а в 1935 году, с установлением звания Маршала Советского Союза, ему было присвоено это высшее воинское звание.
Анализируя опыт империалистической войны, Тухачевский пришел к выводу, что классическая военная доктрина «укрепленных рубежей» устарела. Ее опрокинул опыт гражданской войны, а конкретно — рейды конницы Буденного и Примакова по тылам противника. Вызревала новая военная доктрина, сердцевину которой составляла идея маневренной войны. В работе Тухачевского «Новые вопросы войны» в общих чертах впервые была сформулирована идея десанта. Она великолепно совпадала с предложениями практика авиации, военного летчика Гроховского. Если удастся осуществить то, что предлагает этот летчик, то «крылатая пехота» сможет напасть на врага с тыла. Мечта Тухачевского обретала черты реальности, а «фантазеру» Гроховскому открылась «зеленая улица» для его экспериментов.
Советского человека наших дней трудно удивить каким–либо техническим новшеством, Послевоенное поколение с детства воспитано в уверенности, что «Мы все можем!». В этом убеждении зримый итог гигантской работы партии по превращению нашей страны в передовую индустриальную державу. Совсем другой «климат» был в начале 30–х годов. Каждое доказательство того, что мы можем в чем–то превзойти заграницу, нам самим казалось откровением. Поэтому новаторство Гроховского наносило удар не только техническому консерватизму. Оно доказывало правоту партии в борьбе с неверящими в творческие возможности народа при диктатуре пролетариата. Итак, к указанному времени (1932 г.) были изобретены, выполнены в натуре, испытаны и поставлены на вооружение армии полужесткие мешки и короба для парашютного десантирования с самолета Р–5 всевозможного снаряжения, необходимого десанту в тылу противника. К слову напомню, что в подкрыльных коробах Гроховского в 1934 году летчики Каманин, Молоков и Водопьянов вывозили челюскинцев из ледового лагеря Шмидта на Чукотке. В годы Отечественной войны в подвесных мешках, изобретенных еще в 1931 году, наши летчики поставляли снабжение партизанам.
Для десантирования людей вместо не оправдавших себя индивидуальных люлек под крылом была изобретена одна подвесная кабина под фюзеляж. В таких кабинах ТБ–1 стал поднимать шестнадцать парашютистов. Под этот же самолет для сбрасывания десанту минометов, винтовок и боеприпасов КБ сделало парашютный контейнер грузоподъемностью в тысячу килограммов.
Самым важным результатом работы КБ за указанный период явился психологический сдвиг в умах значительной части высшего командного состава армии, То, что два года назад большинству представлялось беспочвенной фантазией, а первые удачные опыты лишь цирковыми номерами, предстало убедительной явью, дало новое и небывалое оружие нашей армии!
На итоговой демонстрации парашютного десантирования бойцов вместе с оружием Тухачевский сказал Гроховскому:
— То, что ваше КБ сделало, вдохновляет на большее. Самое важное в десанте — способность к автономным действиям. Работайте над тем, чтобы десант имел тяжелое оружие и средства передвижения по тылам противника. Вы получите все, что нужно. И надо спешить, пока «там» не пронюхали!
Под словом «там» он имел в виду заграницу. К описанию завершающего этапа испытаний я вернусь позднее, а сейчас расскажу о летчиках–испытателях.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ЛЕТЧИКИ
КОМАНДИР
Особое конструкторское бюро работало на авиацию. Часть его сотрудников воплощала идеи в чертежи, другая часть создавала по ним объекты. Летный отряд был придан бюро Гроховского для испытательных работ. Задачей отряда было выяснить, насколько эти объекты подчиняются законам аэродинамики и какова их ценность на практике. В этой работе не было пыльных шаблонов, в ней начисто отсутствовал догматизм воинских уставов. Зато риска и романтики новизны было предостаточно.
Я расскажу здесь о тех, кого знал лично и чей труд оставил след в деле создания воздушного десанта.
В 1933 году в отряде было пять летчиков, включая командира Сафронова.
Это был неторопливый, уравновешенный человек лет сорока, строевик, вобравший в себя все премудрости армейских уставов, веривший в их святость, а также в незыблемость субординации. Но это не была ограниченность чинопочитания. Это была самодисциплина, в основе которой лежало высокоразвитое чувство долга. Поэтому слово «строевик» применительно к Сафронову я произношу с уважением, без всякого подтекста.
Ничего необыкновенного он не говорил и не делал.
Но свое обыкновенное дело он совершал с серьезностью и справедливостью, внушавшими уважение.
Это был опытный и хороший летчик. Начальник ВВС Я. И. Алкснис доверял ему ответственные полеты за границу с особыми поручениями. Наш командир летал на самолете Р–5 в Афганистан и Персию (так тогда называли Иран). В то время такие полеты были редкостью.
В учреждении, где риском и дерзаниями была пронизана вся атмосфера бытия, нужна была организующая сила, способная поддерживать воинский порядок. Напоминаю, что не случайно тогда бытовала поговорка: «Там, где начинается авиация, кончается порядок». Свидетельствую, что у Сафронова порядок был.
Сафронов был принципиален и честен. В те годы на Центральном аэродроме в Москве было несколько опытных бюро и учреждений, в том числе остатки подразделений НИИ ВВС, уже переведенного за город. Среди людей, работавших в этих учреждениях, были недоброжелатели Гроховского. Как мне кажется, ими руководила зависть и к яркости опытов, и к тому вниманию, которое оказывало нашему бюро армейское командование. Не имея что сказать по существу «авантюр» Гроховского, эти недоброжелатели летчиков нашего отряда именовали циркачами.
— Ну что с него взять! Он же служит в «цирке» Гроховского! — говаривали они в адрес кого–либо из нас. Не скрою, на некоторых это действовало. Они подлаживались:
— А что я могу сделать, раз мне досталась такая служба.
Сафронов сердился всерьез и таким «острякам» отвечал:
— Мне вас жаль. Как видно, ни в цирке, ни в серьезном деле вы не соображаете. Поумнеете—приходите, поговорим!
Таким был командир нашего отряда.
АФАНАСЬЕВ
К таким, как Сережа Афанасьев, часто приклеивается ярлык «рубаха–парень». Двадцатипятилетний холостяк с хорошим заработком, он, как правило, к концу месяца оставался без копейки. Все, кому требовалось «подлататься» до получки, шли к нему. Отказывать он не мог. Если у самого в кармане пусто — занимал, чтобы выручить товарища. Материальное благополучие не занимало его мыслей, и о должниках он просто не помнил.
Не только в имени, но и во внешнем облике Сережи было много общего с Есениным. Такой же волнистый, пшеничного цвета чуб, такое же по–девичьи нежное лицо.
Его психику не обременяло ожидание подвоха от летной профессии, и он жил, как птица, не признающая земного тяготения. «Солнечным человеком» называл я его про себя.
В сентябре 1932 года Афанасьев стал первым в Союзe рекордсменом затяжного прыжка. Он научился стабилизировать падение лицом вниз, прекращая штопор и кувыркание с помощью раздвинутых ног или вытянутой руки. Этим маленьким открытием потом стали пользоваться все.
Сделав пятнадцать прыжков и получив звание инструктора, я испытал свой метод стабилизации свободного падения. Держа в руке маленький вытяжной парашютик, мне удалось почти пятьсот метров падать «солдатиком», то есть ногами вниз. Но как только я сдвинул руку со своим стабилизатором–парашютиком, меня закрутило штопором вокруг вертикальной оси. Надо было еще искать.
Стабилизированное падение в затяжном прыжке очень важно для ориентировки десантника. За это время он успевает определить многое: есть ли в воздухе истребители, стреляют ли с земли, какая местность, что выгоднее — затянуть свободное падение или открыть парашют немедленно…
Никто нам с Сергеем не давал задания искать методику стабилизированного падения, даже не подсказывал, что это нужно. Просто по своему разумению мы работали на идею десанта. Таковой была моральная атмосфера, окружавшая нас.
Соревнуясь в отработке разных методов, Сергей ничем не показывал своего превосходства в искусстве прыжка, хотя был мастером, а я — начинающим инструктором. Наоборот, он даже подчеркнул мой приоритет в использовании вытяжного парашютика, когда первым совершил падение с парашютиками в обеих руках. В общем, это был парень, которого безоговорочно любили все.
Из мемуаров Марка Галлая я узнал, что в 1940 году Афанасьев разбился при испытании опытной машины. Уверен, что его подвело чрезмерное доверие к жизни. Он жил так, будто смерти для него и не существовало.
САЛИХ БАТАЛОВ
Испытатели в любом деле подобны пчелам: каждый понемногу добавляет в улей технического прогресса свой взяток. И не всегда он добывается с риском для жизни. Скорее, наоборот, — лишь немногие действительно рискуют, а остальные капля по капле извлекают доказательства новой истины простой работой. Но и тут необходимы преданность делу, готовность к неожиданному. Ярким примером такой «пчелы» был летчик Салих Баталов. Про таких говорят; «Нескладно скроен, да крепко сшит!» Плотный, кряжистый, как молодой дуб. Широкое, малоподвижное лицо, тяжеловатый взгляд, неторопливая походка, скупые жесты. Улыбнуться не спешил, казался замкнутым, даже несколько хмурым. К общим разговорам не пристраивался, когда спрашивали, отвечал как бы нехотя. Некоторые видели в этом высокомерие, но я вскоре убедился, что он просто не сразу подыскивал точное слово на русском языке. Вскоре выяснил, что «застегнутый на все пуговицы» Баталов начитан и вообще развит выше уровня той среды, в которой мы жили. Говорили, что он пописывает рассказы и стихи, но сам Баталов этим не хвалился.
Летал охотно и грамотно; сделал 15 прыжков, но парашютизмом не увлекался. У меня было тогда впечатление, что авиация для него не призвание, а дань юношеской романтике.
Помню свое изумление, когда в довольно свободном мужском разговоре о женщинах он на память процитировал из книги Энгельса «Происхождение семьи…» отрывок, где говорилось о том, как женщина завоевывала право на одного мужа. Не все его поняли, но разговор сразу изменил направление, и больше на эту тему при Баталове не говорили.
Баталов был хорошим товарищем; охотно соглашался подежурить за кого–либо из семейных сослуживцев в воскресенье; по каждому вопросу и о каждом человеке у него было свое мнение, которое он никому не пытался навязать.
В испытательской работе Баталов, как принято говорить в армии, ни от чего не отказывался и ни на что не напрашивался. А так как все остальные, что называется, «рвали» интересную работу из рук командира, то ему обычно доставались дела, требовавшие терпения и систематичности, Больше всех ему пришлось летать на доводку объектов, сбрасываемых с самолета Р–5. Это были, главным образом, всякого рода десантные мешки и короба. Летал он вторым пилотом и на тяжелых машинах, а также вывозил на У–2 парашютистов на повторные прыжки.
В 1935 году Баталов женился на Ольге Яковлевой, конструкторе нашего бюро. За участие в установлении высотного группового рекорда она в числе других женщин–парашютисток получила орден Красной Звезды.
Баталов принес немало пользы и оставил заметный след в нашем общем деле.
КОРИФЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АЭРОДРОМА
В сущности, никто из нас троих не был еще испытателем. Мы ими числились, кое–что делали, но самое сложное и ответственное доставалось Саше Анисимову. Было ему лет тридцать шесть, может, на год–два больше. Крупного телосложения, широкий в кости, уже чуть погрузневший, он, однако, обладал темпераментом и подвижностью летчика–истребителя. Летать он учился вскоре после гражданской войны вместе со своим другом Валерием Чкаловым.
Как выдающийся мастер пилотажа, Анисимов был известен Алкснису, который, будучи сам истребителем, выделял Анисимова из ряда других превосходных летчиков Центрального аэродрома.
В течение нескольких лет Анисимов возглавлял красную пятерку истребителей, открывавших воздушный парад над Красной площадью.
Это была честь по таланту. Анисимов летал отлично на всех типах самолетов, но особо любил истребитель. У него был свой излюбленный способ взлета; после отрыва от земли, набрав нужную скорость, он переводил машину в «мертвую петлю» и в верхней точке делал переворот, продолжая набор высоты в обратном направлении. Иногда он разнообразил этот номер; не возвращая машину в нормальное положение, продолжал уходить в высоту «вниз головой». Этот цирковой номер, выполняемый у самой земли, всегда производил впечатление мастерства и удали. Когда его красный И–5 выруливал на взлет–вся аэродромная обслуга оставляла работу, чтобы еще раз видеть мастерское выполнение этого трюка.
Летная психология Анисимова, как я понимаю, была производным того переходного периода, когда авиация из предмета удивления превращалась в вещь практического применения. От летчиков времен первой империалистической войны он унаследовал их воззрения, сущность которых заключалась в том, что полет — это искусство, которое служит рыцарскому воздушному бою, а летчик—артист высшего класса и не должен унижать свое искусство ничем, кроме работы в воздухе. Этими воззрениями я объясняю то, что Анисимов категорически отказывался от любого командирского поста. «Я летчик, а не командир», — говорил он.
Жизнь начала 30–х годов не давала простора для такого аристократизма, но когда Анисимову, как старшему в отряде, приходилось замещать Сафронова, он держал себя в роли командира необычно.
У Сафронова было заведено рабочий день начинать с построения, знакомства с приказами и получения заданий на день. К этому все привыкли. Однажды, когда Анисимов замещал Сафронова, я построил личный состав и доложил Анисимову:
— Товарищ командир! Личный состав отряда построен для получения указаний.
— Становись в строй, и без тебя вижу—построен, — отмахнулся он до доклада и, обращаясь ко всем, сказал: — Тут пришел один приказ по Центральному аэродрому, сейчас прочитаю.
Читал Анисимов, что называется, «вслух про себя», и мы только слышали невнятную скороговорку: бу–бу–бу. Огласив параграф, он тут же его комментировал;
— В общем, тут говорится, чтобы в столовую ходили строем. Но мы не дети, будем ходить так… А еще говорится, чтобы по утрам все делали зарядку. Ну, я человек здоровый, мне это не нужно, а вы как хотите…
Однажды наш парторг штурман Филимонов проводил общее собрание личного состава. Помнится, обсуждались обязательства по соцсоревнованию. Первый пункт гласил: «Не опаздывать на службу». Анисимов подал реплику: «А мы и без соревнования не должны опаздывать!»
Филимонов, не смущаясь, зачитал остальные пункты, я которых шла речь о бережном отношении к технике, об экономии горючего и т. п. По всем пунктам Анисимов делал язвительные замечания. Когда обескураженный Филимонов предложил высказаться по проекту, Анисимов поднялся и, направляясь к двери, пробурчал:
«Ну, я уже высказался!»
Впоследствии мне приходилось встречать людей с куцым интеллектом вроде Филимонова и в более сложной жизненной обстановке. В основном это были честные люди, но свое неумение рассуждать они компенсировали истовой старательностью и послушанием и почему частенько становились оружием в руках ловких карьеристов. Не догадываясь, что совершают подлость, они убеждены, что служат делу партии. Всякий раз, когда судьба сталкивала меня с такими людьми, в моей памяти возникал Филимонов.
На следующий день состоялось собрание, которое оказалось самым коротким в нашей жизни.
По приказанию Анисимова я собрал летный состав, и мы ждали его появления.
Филимонов, видимо, сообщил свои соображения не мне одному, и все с нескрываемым любопытством ждали, когда начнет «раскалываться» Анисимов. Он быстро прошел от двери к столу и без предупреждений произнес следующую «речь»:
— Тут некоторые, — он скосил глаза на Филимонова, — говорят, что Анисимов против соревнования. Так вот, — он приложил указательный палец к виску и повернул его характерным жестом, — я таких называю «вантями»!
Повернулся и ушел, не добавив ни слова… Анисимов вышел из рабочей среды. Он был вспыльчив, самолюбив, агрессивен в споре, мог даже ругаться, как боцман. Но это было лишь способом выражения эмоций и не носило оскорбительного характера. Чтобы выразить неудовольствие в чей–либо адрес, он пользовался единственным словом «вантя». В зависимости от интонации оно могло обозначать огорчение, раздражение, осуждение, презрение…
Но в данном случае по той интонации, с которой было сказано это «вантя», мы поняли, что Анисимов ушел от нас обиженным. И как–то почувствовали себя виноватыми. Филимонов сидел не поднимая глаз, и около него образовалась пустота; у каждого из нас нашлось дело.
Анисимова любили за то, что он ни перед кем из нас не заносился, хотя незримая дистанция между нами, без всяких усилий с его стороны, существовала; он был всегда расположен к шутке и розыгрышу. Не обижался, когда разыгрывали и его.
Я пришел в отряд, когда Анисимов чем–то долго болел. Надо пояснить, что в любой строевой части после возвращения летчика из месячного отпуска командир звена возит его по кругу и в зону и выпускает в самостоятельные полеты только через шесть, а то и больше подобных вывозок. Потом под наблюдением командира летчик совершает серию самостоятельных тренировочных полетов. Иногда для всей процедуры «ввода в строй» не хватало летного дня. И меня, конечно, интересовало, сколько же провозных полетов потребуется Анисимову, появившемуся на аэродроме после одиннадцатимесячного перерыва. К моему удивлению, его никто не вывозил. Он занял пилотское место в Р–5, усадил с собой техника и взлетел. После двух кругов над аэродромом сделал отличную посадку, «притерев» самолет к посадочному знаку.
Вылезая из самолета, он сказал технику: «Хватит жечь горючее — не забыл!..» На этом закончилась вся тренировка.
Из песни слова не выкинешь, и придется мне рассказать еще один эпизод, характеризующий личность Анисимова. Он дошел до меня в серии легенд об отчаянной лихости этого летчика, но вскоре я убедился, что это— истина, хотя и похожая на легенду. Этот эпизод мне рассказал очевидец и участник событий, техник Миша Куперштейн.
В 1932 году на вооружение стали поступать четырехмоторные корабли ТБ–3. Один занарядили нашему отряду, и Сафронов поручил перегонку Анисимову. Заводской аэродром находился тогда на окраине города, и, как положено, к началу рабочего дня Куперштейн был у проходной. Анисимова что–то задержало, он явился позднее. Военпред посмотрел наряд и сказал, что для получения машины нужна еще справка заводского летчика Моисеева о вывозке. Моисеев был известнейшим летчиком в стране. За бои с басмачами, за выдающиеся перелеты он был награжден четырьмя орденами боевого Красного Знамени. Других тогда не было, а обладатели такого количества орденов насчитывались единицами. Нашли Моисеева.
Между летчиками состоялся такой разговор
Анисимов: Здравствуй, Яша, рад тебя видеть, как живется?
Моисеев: Здорово, орел! Живу — хлеб жую. Вижу, ты в нашу веру переходишь? Правильно. Истребитель — это, конечно, эффектно, но не очень серьезно. Вот попробуешь нашу машину, почувствуешь мощу — во! — большой палец крепкой руки Моисеева оттопырился торчком от кулака. Дружеские рукопожатия, улыбки, похлопывания, по плечу — все показывало, что встретились два старых товарища, а их разговор — это извечный незавершенный спор истребителя и бомбардировщика; Анисимов не был склонен сдаться.
Анисимов: Ну, это ты брось! Всякая машина хороша в своем деле, а хороший летун — на любой машине орел!
Моисеев: Ладно–ладно! Тебя не переделаешь, чем могу служить?
Анисимов: Понимаешь, какое дело, военпред у вас бюрократ. Мало ему наряда, давай, видишь ли, справку… Я не возражаю, слетай со мной разочек, покажи, как она летает…
Зная вспыльчивость своего друга, Моисеев на секунду задержался с ответом и очень миролюбиво сказал, как думал:
— Знаешь, Саша, хорошему летчику я меньше двенадцати провозных не даю. Ну, а тебе хотя бы пять–шесть надо, чтобы прочувствовать машину? Только извини, сейчас начнется обед, а мне в перерыв обязательно надо попасть в город. Давай после обеда, а еще лучше, не торопясь, — завтра? С утра?..
Анисимов покраснел так, что все конопатинки выступили на его лице, вобрал в себя воздух, облизал губы и «взорвался»:
— Ах ты, такой–сякой!.. А тебя кто выпускал? Значит, ты летчик, а я дерьмо?! Ты машины бил? Бил! Громов бил? Бил! Чкалов бил? Тоже бил! А я еще ни одной не «приложил», а ты мне шесть провозных.
Зная, что Анисимова ничем не успокоить, Моисеев посмотрел на него укоризненно и, пожав плечами, не вступая в перебранку, ушел. Анисимов еще долго «выпускал пар», ругая бюрократов, примазавшихся к авиации, но, поостыв и что–то надумав, спросил Куперштейна;
— Двигатели запустить сумеешь?
— Материальную часть изучал, — ответил осторожный Миша, — Думаю, что смогу.
— Тогда сходи к заводским механикам и спроси, сколько оборотов штурвала дают перед взлетом. И пригони стартер.
В то время моторы запускали от двигателя автомобиля через систему передачи и длинный «хобот», сцеплявшийся с храповиком на конце вала мотора. На аэродроме машин и людей всегда бывало много, шофер стартера весь день кочевал от самолета к самолету, запускал моторы. Он охотно откликнулся на просьбу Куперштейна. Да и откуда ему было знать, что чужие люди готовятся угнать машину? Куперштейн выспросил у механиков, что надо, и приехал на стартере.
Моторы запустили. Анисимов посидел в кабине, присмотрелся, поработал рулями и штурвалом стабилизатора. Наступил обеденный перерыв, аэродромный люд потянулся к столовой.
— Убирай колодки, садись, взлетать будем! — скомандовал Анисимов Куперштейну. И прямо со стоянки на полном газу поперек аэродрома пошел на излет! На высоте пятнадцати метров, вычертив крылом эллипс, боевым разворотом взял курс на свой аэродром.
На Центральном сели честь по чести, как будто действительно Анисимов получил свои шесть провозных. Но он не счел себя удовлетворенным. На следующее утро Куперштейну было дано приказание подготовить машину к полету. «Да собери желающих покататься!»— бросил Анисимов. Когда ТБ–5 стал выделывать над заводским аэродромом боевые развороты, горки и виражи, там прекратили работу. На старте выложили крест, летающие по кругу самолеты набрали высоту, а аэродромные механики разбежались по дальним углам.
Натешившись вдоволь, Анисимов вернулся на свой аэродром и, вылезая из самолета, удовлетворенно буркнул:
— Пусть знают, сколько провозных надо Анисимову!
Понимал ли Анисимов, что этот воздушный разбой даром ему не пройдет, неизвестно. Однако держался он так, как будто ничего не случилось. На первый взгляд казалось, что все обошлось. Суду трибунала, Анисимова не предали, но самолюбие его было наказано самым чувствительным образом: с того случая Алкснис не назначал его ведущим парадной пятерки, не допускал ни к каким демонстрациям, где бы он мог показать свое мастерство. Анисимов не мог с этим примириться; он стал много пить, по нескольку дней не являлся на службу… И в августе 1934 года трагически погиб… но об этом — чуть позже.
Несмотря на некоторую резкость, Анисимов имел непререкаемый авторитет как у командования, так и у нас, молодых. Никто из нас не пытался подражать его манере поведения, мы были людьми другого поколения…
На склоне лет, вспоминая товарищей, размышляя о сущности их жизни, я не хочу, чтобы они представлялись с нимбами святых. У каждого из них были свои слабости и недостатки, но не они определяют то, чем измеряется значимость и в чем состоит красота человеческого бытия на земле. Их заслуга в том, что в меру своих сил они помогали рождаться новым знаниям людей в их борьбе за достойную жизнь.
Испытатели всегда на острие технического прогресса. Когда это острие пробивает стенку, за которой неведомое, гибнут многие, В авиации такая участь ближе всего летчикам. Потому наиболее подробно я рассказал о тех из них, с кем судьба свела меня в КБ Гроховского.
Я рассказал о тех летчиках, с которыми бок о бок работал длительное время. Незадолго до моего ухода из отряда в него поступил летчик Алексей Ширинкин. Тот самый Ширинкин, который вошел в историю гражданской войны как один из ее героев. Позднее пришел талантливый летчик Терентий Маламуж. Он сделал многое. Но о работе этих двух летчиков я знаю понаслышке, и пусть достоверно о них расскажут другие.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
КАК СОВЕРШАЮТСЯ ОТКРЫТИЯ
«МЕТОД СРЫВА»
Тухачевский поставил перед КБ задачу дать десанту тяжелое оружие. Сбросить на парашюте пушку, автомобиль, танкетку…
Дело невиданное и неслыханное. С какого бока к нему подступиться? В первую очередь такой «предмет» надо суметь подвесить под самолетом, потом придумать приспособления для одновременного и безотказного открывания всех замков. Если, например, танкетка зависнет на каком–либо замке — катастрофа. Но подвесить и сбросить груз — тоже полдела. Надо рассчитать и сшить, а вернее — построить парашют, соответствующий весу груза. Парашют для танкетки должен иметь диаметр в сорок метров, а площадь — более 1200 квадратных метров. Если иметь в виду, что парашют летчика требует пятьдесят квадратных метров купола, легко представить, какая это махина — грузовой парашют для тяжеловеса. Такой парашют и сложить–то можно не во всяком ангаре, а каково его сшить?
Но уже работал парашютный завод, созданный энтузиастом нового дела инженером–изобретателем М. А. Савицким. На заводе стали осваивать крупногабаритные парашюты. Правда, при первом же сбрасывании перкалевый купол парашюта лопнул. Конструкторы подумали: случайность! Проверили расчет площади купола, повторили сброс. Парашют снова разорвался, а пушка зарылась в мерзлый грунт. Испытания прекратили, стали думать, в чем ошибка?
Конструкторы как будто шли правильным путем. Увеличивая груз, соответственно добавляли площадь парашютному куполу. И вот осечка за осечкой…
— Здесь какая–то закономерность. Стена! За ней то, чего мы не знаем, а знать вот как нужно! — говорил Гроховский своему коллеге, инженеру и парторгу КБ Александру Блюму.
На зеленой бумаге, которой был покрыт письменный стол, Блюм нарисовал схемы куполов — большого и маленького. Около них — стрелки разложения сил, расчетные формулы. Потом вновь два купола, один над другим. И вдруг конструкторы обнаружили то, мимо чего проходили раньше: с увеличением размера купола его кривизна уменьшалась! Но по законам механики, с уменьшением кривизны купола любого сооружения, скажем, церкви, минарета, цирка, в том числе и парашюта, прочность его уменьшается, особенно опасно уменьшается она при ударных нагрузках.
Это означало, что нельзя механически копировать большие купола с маленьких. Для такого солидного веса, который имели танкетка или пушка, следовало делать парашюты из более прочного материала. А это невыполнимо из–за непомерно возрастающих весов и объемов парашютов. Сорокаметровый перкалевый парашют весил шестьсот килограммов.
На следующий день в кабинет Гроховского явились семь человек — бригада Зуева. Поздоровались, расселись.
— Вот что, хлопцы, наше положение, что называется, труба! — начал Павел Игнатьевич. — Покаюсь перед вами в большой глупости, которую сейчас увидите сами. Анатолий Сергеевич, — обратился он к Зуеву, — сколько парашютов уже поступило?
— Пятнадцать двадцатиметровых и пять сорокаметровых.
— А сколько заказано?
— Одних двадцатиметровых — шестьдесят.
— А ну–ка, прикиньте метраж!
— Я уже считал, Павел Игнатьевич, более семидесяти пяти тысяч квадратных метров.
— Ай–яй–яй! Такое количество дефицитного перкаля — коту под хвост. — Гроховский даже сморщился от досады. — А почему? Да потому, что мыслили по шаблону, малые купола держат, значит, будут держать и большие. Не сверившись с законами механики, полагаясь на старый опыт, заказали большую серию для своих и войсковых испытаний. Если не найдем выхода, меня надо судить как растратчика народного достояния. Но это полбеды. Главное, зашла в тупик идея десанта!
Ломая спички, Гроховский раскурил папиросу и вышел из–за стола, начал расхаживать от стены до стены. Четыре шага туда, четыре обратно. Помолчав и видя, что все собравшиеся тоже молчат, Гроховский стал рассуждать вслух:
— Мы бросали пушку на двадцатиметровом куполе. Но есть уже сорокаметровые для автомобилей, заправщиков и танкеток. Веса увеличиваются, возрастают размеры купола. — Подойдя к доске, он нарисовал схему куполов, как накануне сделал на его письменном столе Блюм. — Смотрите, купол увеличился, а его кривизна уменьшилась, и получилась ерунда. Грузоподъемность квадратного метра у большого меньше, чем у малого. И от динамического удара купол рвется, как бумажный…
— Что делать? Ставить другой материал? — Гроховский остановился, обвел лица сидящих вопросительным взглядом. — Легче и прочнее перкаля только шелк. Но сегодня страна дать его не может. За перкалем идут брезенты. Самый легкий из них, и тот чрезмерно тяжел, да и вообще не пригоден для нашей цели. Становится очевидным, что на испытанном пути решения нет. Нужна новая идея! Только для этого сообщения я вас и собрал. Идите и думайте до завтра. Дело срочное.
Я распорядился прекратить изготовление больших куполов, а остановка производства — это убытки.
Слова Главного никого не удивили. Его авторитет держался не на ромбах, которые он носил, а на смелых идеях, какие выдвигал и до сих пор успешно осуществлял. Давно замечено, что ничто так не способствует успеху, как успех! Энтузиазм Гроховского заражал, его удачливость убеждала, а необходимость защищать его идеи от нападок делала из служащих соратников.
По совету Блюма Гроховский поручил доработку парашюта бригаде А. С. Зуева.
На следующем совещании выяснилось, что бригада Зуева может предложить лишь некоторые способы упрочнения купола. Гроховский принял это сообщение без упреков.
— Давайте еще раз на слух осмыслим то, что знаем. Считаем установленным, что большой купол из–за уменьшения кривизны не выдерживает динамического рывка. Так, товарищ Зуев?
— К сожалению, Павел Игнатьевич!
— А если бы динамического рывка не было, держал бы купол расчетный груз? • — Конечно!
— Итак, задача сводится к тому, чтобы исключить рывок?
Зуев пожал плечами, показывая, что это невозможно.
— А может, мы просто не решаемся свернуть с накатанной дороги? Прибежала тут мне шальная мыслишка, простая до глупости… прямо–таки не верится… Вот, смотрите! — на чертежной доске Гроховский начал набрасывать схему. — Предположим, мы можем сбросить подвеску и парашют раздельно. Сначала сбрасываем парашют. Вот он отделяется, падает свертком, потом вытягивается колбасой, струя воздуха развертывает и заполняет купол… — Он вгляделся в чертеж, как бы проверяя себя. — Вот в этот момент мы и сбрасываем подвеску. Секунды, которые тратились на раскрытие парашюта, — а подвеска в это время набирала скорость для динамического удара, — отпали, они выиграны. Подвеска падает и поворачивает за собой уже раскрытый купол плавно, без рывка…
Гроховский остановился, ожидая вопросов, но вместо них в комнате поднялся шум.
— Вот это идея!
— Идея — это да, но как ее к делу приложить?
— Оригинально, черт возьми!
— Абсурд! Это невозможно!
Зуев оказался единственным вне этого шквала эмоций. Он вглядывался в чертеж и морщился от криков, мешавших ему сосредоточиться. Наконец он поднял руку, прекращая гомон, и сказал;
— А что, Павел Игнатьевич, пожалуй, это выйдет! Надо лишь придумать механизм синхронизации, вероятно, часовой, который открывал бы замки в заданный момент времени.
— Позвольте мне! — нетерпеливо попросил слова Ильинский. — Я присоединяюсь к Анатолию Сергеевичу. Идея реальна! Но, мне кажется, часовой механизм недостаточно надежен и вообще не нужен. Эту работу автоматически и очень точно выполнит одна укороченная стропа. Заполняющийся купол выберет ее слабину раньше других, а она в самый нужный момент откроет замки.
В комнате воцарилась тишина. Неожиданно для всех совершилось чудо открытия. Одна мысль родила вторую, та третью, и в темноте вспыхнул свет. Его отблеск лег на лица, просветлил их. То, что утром, да какое там — утром, всего несколько минут назад, казалось немыслимым, сейчас приобретало простые и реальные очертания.
— Догадка Ильинского гениальна! Но я хотел бы высказать такое соображение: одна стропа, приняв на себя всю нагрузку, может оборваться. А что, если в укороченную стропу заделать тонкий стальной трос?..
— Правильно, Миша! А защелки замков выполнить из материала менее прочного, чем трос!
— Если какая перекосится, трос выдернет защелку к чертовой бабушке «с мясом»!
Гроховский обрадованно переводил взгляд с одного лица на другое.
— Ах, какие же вы молодцы! Уж вы простите, что запамятовал я ваши фамилии!
— Михаил Кавардаев!
— Техник Соснин! — один за другим вскакивали и представлялись авторы предложений.
Это были красноармейцы–одногодичники, до службы в армии получившие высшее образование. Воинская форма и молодость делали их похожими друг на друга.
— Да вы садитесь, ребята, садитесь, пожалуйста! На лице Гроховского заиграл румянец, разошлись морщины, заблестели глаза.
— Вы даже не представляете, какой важности задачу мы сейчас решили! У меня просто нет слов для благодарности… Вот кто–то давеча сказал; «Абсурд! Невозможно!» А оказалось возможно! Понимаете, возможно! Надо только иметь смелость отказаться от привычного. Особо я благодарен тем, кто верил и не побоялся это высказать. Кресало только тогда высекает искру, когда встретит кремень! От всей души поздравляю вас, дорогие мои товарищи! Огромное спасибо вам всем!
Гроховский по очереди всем пожал руку. Каждый вставал и уже не садился, пока Главный не обошел всех. А он в заключение сказал:
— Пусть наше сегодняшнее собрание запомнится вам как подтверждение мудрости народной поговорки: «Ум хорошо — два лучше!» Рано или поздно каждому из вас придется стать маленьким или большим начальником. Когда будет трудно — советуйтесь с подчиненными. Вы всегда выиграете, как сегодня крупно выиграл я от вашей помощи.
А теперь, Анатолий Сергеевич, будем ковать железо, пока горячо. Высказанные мысли переведите в чертежи и расчеты, а завтра опять прошу ко мне. Все, товарищи! Идите!
О МУЖЕСТВЕ И ОТВАГЕ
Говорят, что это одно и то же.
Эксперименты Гроховского убедили меня, что это не так. Каждый рискованный опыт, где бы он ни проводился, как лакмусовая бумажка, выявляет в людях одно из двух: либо отвагу, либо осторожность.
В человеческой деятельности для многого достаточно простой осмотрительности. Ничего не выдумывая, действуй по инструкции, и дело будет процветать. А если нет инструкций, и многое, а иной раз все — неизвестно? Тут приходится идти ощупью, как в разведке.
Важнейшие проблемы воздушного десанта решались опытным путем. Приходилось рисковать. Для этого требовалась отвага, и мысли, и действия.
Не мужество, а именно отвага! Чем же все–таки они отличаются друг от друга? Мне кажется, мужество олицетворяет стойкость, неуступчивость перед лицом трудностей и опасностей. Эти качества крайне необходимы в обороне. Они помогают выстоять, не сломиться, накопить силы.
Отвага не обороняется, не выжидает. Наоборот, она сама атакует трудности, идет навстречу опасностям.
Прислушаемся к русскому языку. Смотрите, как точно отвечает смыслу такое словосочетание; «Он переносил свое горе (болезнь, потерю, несчастье) МУЖЕСТВЕННО!» Попробуйте заменить на «отважно» — не звучит! Теперь применим другой глагол и скажем так: «Он действовал (дрался, нападал, поступал) ОТВАЖНО!» И в этой фразе слово «мужественно» не звучит.
Могу согласиться, что смысловой оттенок между этими словами не очень заметен. Однако при обозначении высшей, а главное, действенной степени мужества обычно употребляется слово «отвага». Например, говорят: мужественные полярники и отважные летчики. Полярники переносят трудности своей профессии, а профессия летчиков требует их преодоления немедленным действием.
В народе существует поговорка; «Смелый, как умелый!»
И действительно, в опасных положениях отвага нередко возмещает недостаток знания или умения. Мне известны примеры, когда гибли летчики, бывшие на лучшем счету, а героями событий становились те, кого считали середняками. Почему? Да потому, что летчики аттестуются без должного учета их психических качеств. Пилотирует хорошо, скромен, послушен — значит, отличный летчик. А как он поведет себя в особых обстоятельствах — редко какой командир решается прогнозировать.
В жизни человеческой всему свое время и место. Восхищаясь отвагой, неразумно порицать осторожность, иногда она равнозначна смелости. Но бесспорно, что дорогу к новому знанию прокладывает не осторожность, а отвага. И если имена первопроходцев в неведомое не будут забываться, то национальный характер нашего народа никогда не оскудеет отвагой.
В подтверждение сказанного я приведу пример, для которого слово «мужество» не подходит. Но судите сами…
«ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО!»
Найденное решение сброса тяжеловесов изобретатели назвали «методом срыва». Вместе с расчетами и красочно выполненными схемами Я. И. Алкснису была представлена и программа летных испытаний «метода срыва» с различными объектами. Материал казался настолько убедительным, а сброс тяжеловесов столь необходимым, что Гроховский не сомневался в одобрении начальника ВВС.
Однако после консультаций со специалистами штаба Алкснис сказал:
— Заманчиво, но опасно! В таком деле надо опереться на науку. Если экипаж погибнет — нам с вами несдобровать. Направьте это в ЦАГИ на заключение.
Пока в ЦАГИ готовили ответ Алкснису, в личных беседах ученые–аэродинамики убеждали Главного:
— Вы же летчик, Гроховский! Не вам рассказывать, что произойдет, если купол заполнится на полсекунды раньше, чем откроются замки. А где гарантии, что они откроются? А если при открывшемся парашюте груз зависнет? Летчиков похоронят как героев, а нас с вами засудят как вредителей. Нет, на такой эксперимент согласия дать нельзя.
Стало ясно, что не сегодня–завтра на стол Алксниса ляжет отрицательное заключение. Как быть?
Алкснис всегда помогал КБ и многое брал на себя вопреки советам маловеров в своем штабе. Но сейчас возражают не лица, а крупнейший научный институт. Слишком авторитетны подписи!
В жизни человека бывают окрики, каких он не заслуживает, и удары, на которые он не смеет ответить. Вероятно, каждый может вспомнить запрет на выстраданное им, и трудный поиск ответа на вопрос: как быть?
Одни смиряются сразу, утешаясь: выше себя на прыгнешь!
Другие негодуют, спорят, но подчиняются. И очень немногие борются, не отступая и перед риском, необходимым, чтобы доказать истину делом. Мы можем только предположить, что переживал Гроховский, когда сказал:
— В непроверенном деле всегда есть опасность неудачи. Пока нет приказа Алксниса, я могу взять ответственность на себя. Но сделать это надо сегодня, завтра будет поздно!
Упреждая запрещение, Гроховский посылает на этот эксперимент своего лучшего летчика Александра Фроловича Анисимова.
Вот как представилось мне то далекое утро августа 1932 года по рассказу Урлапова {4}, оказавшегося свидетелем испытания.
Приняв решение, сосредоточенный и молчаливый, Павел Игнатьевич на предельной скорости гнал машину к Тушинскому аэродрому. Раннее утро. Шоссе свободно. Появляются, еще пустыми, первые трамваи. На линейке, кроме охраны, никого из аэродромной обслуги нет. В начале взлетной полосы — ТБ–1 с подвешенной под его брюхом пушкой.
Анисимов доложил, что машина и экипаж готовы к выполнению задания. Гроховский выслушал рапорт с хмурым выражением лица и только спросил: «У всех ли есть личные парашюты?» Сопровождаемый Анисимовым и штурманом Бобковым, в глубокой задумчивости он обошел самолет кругом.
— Ну, что ж! Двум смертям не бывать, не так ли, Александр Фролович. Рискнем?! — сказал, как бы советуясь. А потом решительно: — Выполняйте задание, товарищи. Высота восемьсот, сброс над центром поля!
Бобков ответил; «Есть!» — и тут же отошел.
Анисимов с ответом задержался. Казалось, у него на языке вертелся вопрос; получено ли разрешение Алксниса? Он даже облизал губы по привычке, прежде чем спросить, но… вопроса не задал. Чуть помедлив и козырнув Гроховскому, летчик направился к входному люку.
Было тихо и тепло. Над головой — ясная голубизна. На востоке стена облаков, и солнце еще не поднялось над ней. По ту сторону аэродрома, над рекой, приподымался ночной туман. На высоком берегу Москвы–реки, в деревне Строгино, над избами вились печные дымки. Все в природе дышало миром и покоем, и только гул моторов самолета, тяжело разбегавшегося для взлета, вносил тревожную ноту в утреннюю тишину…
Что произойдет в ближайшие двадцать минут?
Быть может, правыми окажутся скептики? Может, для тех, кто сейчас взлетает, эти минуты — последние. Тогда вместе с ними погибнет и идея «срыва», а Гроховский уедет отсюда подследственным военного трибунала?!
Плавными кругами самолет набирал высоту. С земли от него не отрывали глаз. Вот он вышел на последнюю прямую — сейчас все решится! Гроховский побледнел, снял фуражку и прислонился к кузову автомашины. Все ближе и ближе к центру поля подходит гудящий самолет, а сброса нет. («На лбу Гроховского выступил пот, и я, кажется, перестал дышать», — вспоминал Урлапов.)
И, как нередко бывает, когда чего–то долго и напряженно ждут, ожидаемое свершается обыденно. Из–под хвоста самолета выскользнул сверток парашюта. Нехотя разворачиваясь, он вытянулся колбасой и молниеносно превратился в золотисто–белый купол. Самолет вздрогнул, и в этот почти неуловимый глазом момент от него отделилась пушка. Она пошла вниз, поворачивая за собою купол в горизонтальное положение. Освободившись от груза, самолет подпрыгнул и тут же лег на крыло нисходящим виражом. То была спираль победы.
Пушка приземлилась на колеса, послышался хлопок пиропатрона, парашют отцепился и неторопливо распластался рядом.
Урлапов смотрел на это действо как зачарованный. Почувствовав на своем плече горячую руку Гроховского, он услышал:
— Теперь это будет жить, Боря! Это переживет нас с тобой!
Я спросил Урлапова:
— Как ты думаешь, почему Анисимов не задал такого важного для него вопроса: разрешено ли испытание?
— По–видимому, здесь сработало то, что ныне именуется производственной этикой, — ответил Борис после недолгого раздумья. Анисимову было известно мнение ученых, он знал, чем рискует. Но он безгранично верил в удачливость нашего Главного. По отсутствию обычно большого числа лиц, готовящих объект к помету, по очень раннему времени он догадывался, что разрешения еще нет или, что еще хуже, испытание запрещено. Александр Фролович понимал и чувствовал, что в данном случае рисковать надо! Вот он и внес свою долю. Это отлично понял и оценил Гроховский. Когда Анисимов, выключив моторы, подошел с рапортом, Павел Игнатьевич не дал сказать ему и слова. Обнял его и с чувством произнес:
— Спасибо, Саша! Я этого не забуду!
Пожав руки и поздравив всех участников полета, Гроховский сел в машину — и в КБ. Там его встретил Э. И. Клеман и молча вручил полученную телефонограмму:
— Испытание объекта Х–43 запрещаю. Алкснис.
— У меня, — продолжал Урлапов, — кажется, сердце остановилось. В деле–то все позади, но человеческие отношения в армии вещь деликатная. Характер у начальника ВВС крутой, никогда наперед не знаешь, как он поступит. С его точки зрения, сделанное Гроховским — грубейшее нарушение дисциплины. Алкснис этого не терпел,
Понимая, какой разговор ему предстоит, Гроховский побледнел, немного поколебался, но подошел к телефону. Была у Павла Игнатьевича такая неприятная для его начальников черта, как самоуверенная резкость, когда он чувствовал свою правоту. Урлапов опасался, что и сейчас Главный «сорвется». Но этого не произошло. Со скромной интонацией он проговорил в трубку:
— Товарищ командующий! — докладывает Гроховский. — Сегодня в пять тридцать сброс объекта Х–43 произведен успешно. Выполнил экипаж летчика Анисимова!
Можно представить, что говорил Алкснис в ответ. Я слушал Урлапова затаив дыхание. Его рассказ открывал драматическую страницу борьбы за идею. В этой борьбе столкнулись две личности, два кремневых характера. Начвоздуха кротостью не отличался и с ослушниками был беспощаден. Воображая себя на месте Гроховского, я считал себя правым. Но Алкснис, требуя порядка, тоже прав! Как убедить его в выстраданной правде? Убедить, что установленный порядок нарушен для пользы дела?
Положив трубку, Павел Игнатьевич какое–то время сидел неподвижно, закрыв глаза. Потом встряхнулся, сказал Урлапову: «Не уходи!» — и стал писать рапорт. Его содержание было примерно таким: «Командующему ВВС тов. Алкснису Я. И. По заданию заместителя наркома обороны М. Н. Тухачевского руководимое мною ОКБ разработало способ десантирования тяжеловесов «методом срыва». Предложенный способ оказался единственным решением проблемы тяжелого вооружения десанта. Проведенное сегодня летчиком Анисимовым испытание подтвердило наши расчеты и опровергло заключение сотрудников ЦАГИ. К моменту полета Анисимова вашего приказания не имел и в его нарушении не виновен. Прошу утвердить план испытаний с другими объектами, а виновных в перестраховке привлечь к ответственности. Комдив Гроховский».
Урлапову показалось слишком смелым идти в наступление вместо обороны, но, поразмыслив, он согласился, что все правильно. И то, что Гроховский сослался на Тухачевского, и то, что потребовал наказания перестраховщиков. Дело сделано! Теперь оно само стало блиндажом, который не разрушит даже прямое попадание.
Начальник ВВС встретил Павла Игнатьевича стоя, грозно нахмурившись. Рапорт принял молча. Алкснис еще не израсходовал свой гневный порыв и, бросая бумагу на стол, сказал недобрым голосом:
— Вы понимаете, Гроховский, что станет с той армией, в которой каждый будет делать, что ему вздумается?
— Товарищ командующий! Я понимаю дисциплину армии как средство воспитания ответственности за победу. Личной ответственности каждого командира за свой участок боя!
Алкснис суровыми мерами отучал «свободолюбивых» авиаторов от возражений ему. Но, надо отдать ему должное, он уважал людей, уверенных в своей правоте и умеющих защищаться.
— У вас, товарищ комдив, мощные моторы, но слабые тормоза. Излишняя свобода порождает у вас своевольство, что вы и доказали своим поступком.
— Излишек принуждения притупляет ум и парализует волю к борьбе, товарищ командующий. Только карьерист мог оставить дело на чужой ответственности.
— А вы сознаете, что было бы в случае неудачи?
— Именно поэтому я и взял на себя ответственность. Неудача может случиться и в сто раз проверенном деле.
— Садитесь, комдив!
Алкснис сказал это уже примирительно и сам опустился в кресло. Он вновь взял рапорт, достал из папки заключение экспертов и стал внимательно читать.
— Да, конечно, заключение столпов науки дерзостью мысли не отличается, но и мне, Гроховский, с вами тоже нелегко. Я никогда не знаю, какой сюрприз вы мне преподнесете. И Зильберт (начальник НИИ) жалуется, что все у вас делается через его голову.
— Товарищ командующий! Этот вопрос действительно назрел. Для НИИ мы «чужие дети». У них совсем другой профиль. Помочь не могут, а спрашивать обязаны. Ко мне то и дело приезжают порученцы командарма Тухачевского. Ну, как я могу послать их к Зильберту за разрешением на выполнение того или иного поручения командарма? Прошу вас выделить мое КБ в самостоятельную единицу.
— Тогда совсем зарветесь?!
Алкснис уже вернулся к дружелюбному тону и не ждал словесных уверений в противном.
— Вот что, оставьте мне ваш план испытаний, я сам доложу его командарму Тухачевскому. Вас благодарить не считаю возможным, а экипаж Анисимова и конструкторов поощрите своей властью. О выделении из НИИ подумаю. Если у вас ко мне все — идите!
— Вот так закончился этот драматический эпизод, — закончил свои воспоминания Борис Дмитриевич Урлапов. — Мы почувствовали, что вышли на финишную прямую, миновав нелегкий рубеж…
Из рассказа Урлапова я сделал вывод, что дело не только возвышает, но и защищает того, кто служит ему самоотверженно, бескомпромиссно, не боясь риска принять удар на себя.
Как и всякому летчику, мне не раз приходилось на практике сталкиваться с проблемой риска. Убедился: как правило, смелые решения оказывались правильными.
ПЯТНАДЦАТЬ СЕКУНД
«Метод срыва» был испытан еще несколько раз с тем же результатом, но скептики не успокоились. То ли оправдывая себя, то ли вновь нападая, они говорили:
— Допустим, сто раз все пройдет благополучно. Но в сто первый раз может возникнуть то, что мы предвидели. Какое у вас право игнорировать такую возможность?
Недоброжелатели рангом пониже продолжали называть КБ цирком. В цирке, мол, это сходит, но в практике боевых частей цирк ни к чему!
Такие настроения нет–нет, да и давали знать о себе на том или ином деловом совещании, разрешавшем очередные проблемы КБ. Они вносили нервозность, мешали Гроховскому…
В конце апреля 1933 года я готовился к испытательному полету. «Контакт!» — крикнул бортмеханик Островенко, отбегая от винта. Я должен был включить магнето и пустить в мотор сжатый воздух для запуска мотора, но увидел Тухачевского. Он размашисто шагал рядом с Гроховским впереди самолетной линейки. В некотором отдалении за ними поспешала свита из офицеров высоких рангов; четыре незнакомых мне командира и двое помощников Гроховского — Б. В. Бицкий и И. В. Титов. Они направлялись к ангару с секретными объектами,
Я показал Островенко, кто идет, и мотора запускать не стал.
День занимался погожим. В прозрачном воздухе все виделось по–весеннему, рельефно. Термометр на самолетной стойке показывал уже плюс двенадцать, снег с летного поля сошел, исчезали вчерашние лужицы, и земля дышала парной влажностью.
Тухачевский, меняя направление, обходил мягкие, не совсем просохшие места. На нем были хромовые сапоги, синие галифе и защитная гимнастерка. На левой полусогнутой руке — зеленый армейский плащ, а в правой — фуражка с малиновым околышем. Кожаный пояс с крохотной кобурой туго перепоясывал полнеющую талию. Запечатлелся профиль смуглого, знакомого по портретам лица. Четыре ромба в петлицах и присутствие столь внушительной свиты исключали возможность ошибки.
Я смотрел во все глаза.
Мое внимание привлек необычный вид нашего Главного. Всегда бодрый, подтянутый, на этот раз он был сумрачен и сгорблен. Могло остаться впечатление, что не Гроховский сопровождает высокого гостя, а, наоборот, он его. Таким я видел своего начальника впервые. Тухачевский, касаясь локтя Гроховского, стараясь поймать его взгляд, не то в чем–то убеждал, не то ободрял.
Когда все скрылись за дверями ангара, я выскочил из кабины своего Р–5, чтобы перемолвиться с Митей Островенко. Не каждый день так близко приходится видеть знаменитого героя гражданской войны. Но к нам уже подходил командир отряда Сафронов.
— Товарищ командир! Видели?
— Еще бы, конечно!
— Что–то сегодня не узнать нашего Главного, Чем–то так расстроен…
— Вот что, командир звена! — спохватился Сафронов. — Не по чину вы приметливы! Вылетайте–ка на твое задание, да не задерживайтесь. К двенадцати ноль–ноль быть в летной комнате, там кое–что для вас прояснится.
— Есть, товарищ командир!
К двенадцати ноль–ноль я заполнял отчет о первом полете с собаками–парашютистами. Их тренировали на специальные задания. Наблюдения были полны новизны, я даже забыл о предупреждении командира и не сразу осознал, почему в летной комнате оказались руководители КБ — Гроховский, его заместитель по летным делам Б. В. Бицкий, а с ними Э. И. Клеман и конструктор А. С. Зуев. Последними входили Сафронов и Афанасьев.
Я вытянулся, как положено, и взглядом спросил командира: уйти или оставаться? Тот дал знать, чтобы я оставался на месте. Когда все расселись, Сафронов спросил:
— Разрешите начать, Павел Игнатьевич?
— Да, пожалуйста! — Гроховский уже всматривался в какие–то схемы, разложенные перед ним Зуевым.
— Товарищ Афанасьев!.. Да сидите, сидите, разговор не короткий! — обычно строго придерживающийся уставов, наш командир поспешно усадил вскочившего Сергея. — По приказанию начальника Осконбюро поручаю вам испытание «метода срыва» с задержкой сброса. Полетите один, без летнаба или техника. Управление сбросом выведено в пилотскую кабину. Над Павшинским полем, имея высоту тысяча пятьсот метров, рукояткой на левом борту освободите парашют. Он раскроется и приведет машину в неуправляемое положение…
Сафронов оглянулся на Гроховского, и я понял, что наш командир волнуется. Почувствовав заминку, Павел Игнатьевич поднял взгляд от бумаг и одобрительно кивнул. От утренней хмурости в нем ничего не осталось. Видимо, разговор с Тухачевским рассеял тревоги, о которых я в тот момент не знал. Сафронов продолжал:
— Как поведет себя машина в подобных условиях, нам неизвестно. — Он задержал свой взгляд на Афанасьеве и спросил: — Сколько времени, по вашему опыту, нужно, чтобы выброситься с парашютом из аварийного положения?
— Десять секунд! — выпалил Сергей.
— Отлично! Так вот, желательно, чтобы вы продержались десять–двенадцать секунд. От вас требуется установить характер поведения самолета при задержке «срыва» и возможности для спасения экипажа с помощью личных парашютов. Если вашей безопасности не возникнет прямой угрозы и вы сможете продержаться указанное время, то… рукояткой на правом борту сбросите подвеску… Должен предупредить, что она может не оторваться. Действие замков проверено только в горизонтальном полете. Итак, если подвеска оторвется, а вы сможете справиться с машиной — задание будет выполнено полностью и на «отлично»…
Заканчивая, командир настоятельно подчеркнул, что, если подвеска зависнет, Афанасьев должен не думать о машине и спасаться.
Впервые я видел Сережу Афанасьева перед серьезным испытанием. Слова Сафронова, сказанные ему, превращались в зримые картины. Представилось, как штопорит самолет с парашютом за хвостом. Огромные силы инерции прижимают летчика и не дают выброситься за борт. Земля вертится, как граммофонная пластинка, от этого кружится голова и подступает тошнота. Все же он одолел вращение, прыгнул, но распущенный купол накрыл, спеленал его и он летит в бездну, бессильный изменить свою судьбу…
Воображая такое, я смотрел Сергею в лицо. Оно было убийственно спокойно. Он сидел, чуть наклонившись, положив руки на стол.
За время работы на Центральном аэродроме для меня уже стали привычными испытания опытных самолетов, которые на наших глазах проводили Чкалов, Степанченок, Анисимов и другие летчики НИИ. Все знали, что новый самолет обязан полететь, что он не рассыплется на составные части, летчику надо лишь справиться с норовом впервые летящего самолета, если этот норов обнаружится.
Афанасьеву предложили более трудное дело и заранее говорили, что его исход предусмотреть невозможно. Когда он встал, стройный, красивый той красотой, которая видится в отваге идущего на опасное задание, я ожидал от него каких–то особенных слов. «Благодарю, мол, за честь и доверие, жизнь положу, а боевое задание выполню». Или что–то вроде этого. Его слова: «Вас понял! За меня не беспокойтесь, все будет в ажуре» — прозвучали буднично, а последнее снизило значимость предстоящего до уровня повседневного.
Среди присутствующих Афанасьев был самым молодым и, образно выражаясь, не утомлен излишками жизненного опыта. Но весь его облик, его чудесная, чуть смущенная улыбка как по волшебству разрядили наше напряжение. Я гордился своим другом, чуточку завидовал, что в испытательной работе он уже выходит на первые роли, и, не скрою, — завидовал тому, как любовно смотрел на него наш Главный.
А он, поднявшись, сказал:
— Я тоже думаю, что не так страшен черт, каким иногда кажется. Сейчас нам просто необходимо пойти на некоторый риск. Только сегодня Михаил Николаевич (Тухачевский) лично разрешил это испытание, чтобы устранить последние сомнения в «методе срыва». Мы не можем предвидеть, как поведет себя самолет, и в этом кроется для нас опасность. Подтверждаю слова командира — не увлекайтесь! Как ни важен для нас положительный ответ — ваша жизнь дороже!
Тут Гроховский перенес свой взгляд на меня:
— Вообще–то мы это испытание пока держим в секрете, а вас, Каминский, пригласили не случайно. Этот опыт может вам пригодиться. — И, обращаясь к Сафронову, закончил; — Ну что ж, командир! Не будем, как говорится, смотреть в долгий ящик и поедем сразу. А Афанасьев, — он взглянул на часы, — пусть вылетает через сорок минут.
В своей авиационной жизни не раз я ощущал то, от чего сильнее бьется сердце, а кожа покрывается мурашками. Я пристально всматривался в тех, кто совершал отважные поступки: что они испытывают в минуту опасности? Пришел к успокоившему меня выводу: бесстрашных нет! Есть лишь разная реакция на опасность. Одни «теряют» голову, другие сохраняют спасительное самообладание. Столь важное качество характера воспитывается самим человеком. И убедил меня в этом Афанасьев. Мы выходили последними, и я успел задать вопрос:
— Неужели ты в самом деле не волнуешься?
— А ты в цирке бывал? Видел артистов, которые под самым куполом летают с одной перекладины на другую? Страшно! А ведь они делают это каждый день и не боятся. Думаешь, из другого теста? Да просто они уверены в точности глазомера и цепкости рук! Упражнялись тысячи раз — шли от малого к большому и вот перестали бояться… Неужели ты отказался бы от такого задания?
— Но ведь купол же!..
— Что из того? Еще неизвестно, дойдет ли дело до штопора, а если и дойдет, то необязательно я попаду в купол. В общем, дело покажет, а расстраиваться раньше времени нечего. Была бы высота!
Вот черт! Бывают же такие парни!
Восхищался я Афанасьевым в тот час. А позднее примеры отваги Гроховского, Титова, Анисимова возвращали мне самообладание перед лицом опасности. Так постепенно стал вызревать во мне принцип, который я выразил в самодельном афоризме: что могут другие — смогу и я!..
Солнечный апрельский денек разгулялся на славу. Высоко в небе парили прозрачные перистые облака. Солнышко заметно припекало. Пахло набухающими почками тополей и пресной влагой тающего снега. Пробуждение природы от зимней спячки должно бы радовать, а мы ехали к месту испытания молча, с неизжитым беспокойством. Так мне казалось. У меня сжималось сердце, будто самому надо делать то, что предстоит Афанасьеву. За нашей легковушкой следовали «санитарка» и грузовик с командой веселых красноармейцев. Они радовались весне и беззаботно пели «По морям — по волнам!».
В довольно пустынной в те годы местности в районе подмосковного села Павшина наконец показался афанасьевский Р–5.
Этому сооружению из тонкой фанеры, с расчалками между полотняными крыльями сейчас достанется — выдержит ли?
Самолет выполнил неторопливый круг и вышел на прямую в сторону Москвы–реки. Время в ожидании решающей минуты будто остановилось. Но вот началось. Из–под брюха Р–5 выпал сверток и тут же вытянулся колбасой параллельно линии полета. В неуловимое глазом мгновение за хвостом самолета появился лежащий боком зонт огромного размера. Машина вздрогнула, затормозилась, качнулась с крыла на крыло и, завалившись на правый бок, стремительно клюнула на нос. Скользя под крутым углом, самолет как бы висел на парашюте. Потеряв в таком положении, быть может, метров триста–четыреста, Р–5 повернулся так, что мы увидели проекцию верхней плоскости. У меня осталось впечатление, что вот–вот начнется вращение штопором. Но тут одновременно купол лопнул, смялся, а подвеска отделилась. На остатках парашюта она пошла вниз, обгоняя самолет, а он, уменьшая угол и выравнивая крыло по горизонту, спланировал еще метров двести, набирая потерянную скорость. Вот вновь заработал мотор, и Р–5 стал разворачиваться в сторону Москвы. От сердца отлегло, и я стал слышать.
— Пятнадцать секунд! Молодец, Сережа! — ликовал Гроховский.
— Открылись, гады! — совсем по–мальчишески, грозя кулаком в небо, кричал степенный Зуев по адресу замков, сработавших в неуправляемом положении самолета. Сафронов провожал самолет сосредоточенным взглядом, обмахивая лицо фуражкой. Только помощник Гроховского Клеман с невозмутимо красивым лицом что–то записывал в свой планшет.
Я обернулся к стоящей позади нас группе приехавших на «санитарке» и грузовике: поняли ли они, что произошло за эти пятнадцать секунд? Увидел, что поняли и оценили. Красноармейцы, оцепенев, с серьезными лицами еще смотрели в небо. Общее впечатление, пожалуй, полнее всего отражали широко раскрытые глаза нашего доктора Анны Степановны, Они блестели влагой и сияли восторгом перед человеческой отвагой.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
«РЕБЯТА! ЭТО НУЖНО! РАБОТАЙТЕ СМЕЛО!»
Мечта Тухачевского о десантной армии облекалась в плоть и кровь. В 1934 году индустриализация страны стала давать ощутимые плоды. Появилось много такого, о чем было можно лишь мечтать три года назад. Армия оснащалась моторами, а авиация — новой техникой. Шлифовались и доводились до совершенства средства обеспечения большого воздушного десанта боевой техникой. Одновременно решалась проблема подготовки кадров парашютистов–десантников. Исключительную роль в развитии парашютного спорта сыграл комсомол. Как известно, в январе 1932 года IX съезд ВЛКСМ принял постановление о шефстве над воздушным флотом, а на первом после съезда пленуме ЦК постановил, чтобы каждый член ЦК ВЛКСМ совершил прыжки с парашютом.
Сегодняшней молодежи, вероятно, трудно предста–нить, как «заболевали» парашютизмом юноши и девушки 30–х годов. Не было в стране комсомольской ячейки, где бы ребята и девушки не мечтали прыгнуть хотя бы с парашютной вышки; кстати говоря, идею вышки предложил Гроховский, а его помощник И. В. Титов сконструировал и построил в 1932 году первую вышку под Ленинградом. По чертежам Титова их стали строить везде. Секретари ЦК ВЛКСМ Горшенин, Харченко и особенно первый секретарь Александр Косарев были убежденными сторонниками Гроховского и активно поддерживали его КБ.
Итак, парашютный спорт приобрел широкое признание. Как из рога изобилия посыпались всевозможные рекорды: затяжных, высотных, ночных, групповых и тому подобных прыжков. Главная заслуга в развитии парашютного спорта принадлежит центральному аэроклубу в Тушине. Там развернули свою кипучую и самоотверженную деятельность талантливые парашютисты Минов, Машковский и Забелин. Они же воспитали большую часть рекордсменов. Но об этой школе и этих людях написано достаточно. Я лишь замечу, что среди рекордсменов страны заметную долю составляли сотрудники Гроховского или люди, подготовленные его сотрудниками.
В 1934 году работа по созданию всего, что нужно для массового боевого десанта, вступила в заключительную фазу. Уже закончились испытания сброса тяжеловесов: танков, автомобилей, пушек, контейнеров для оружия и горючего. «Мозговой центр» конструкторского бюро разработал инструкции и учебные пособия, вплоть до кинофильмов. Бывшие объекты наших испытаний пошли на вооружение армии. Но осталась еще одна, сверхпрограммная задача, которую легче и быстрее всего могли решить только в нашем отряде: отработать методику размещения в самолете и сброса в районе десантирования «живой силы».
В то время для такой цели больше всего подходил четырехмоторный ТБ–3, поднимавший до шести тонн бомбовой загрузки. Но он не был приспособлен для сбрасывания парашютистов. Маленький люк в днище фюзеляжа для входа членов экипажа не заменял двери, более крупное отверстие располагалось в кормовой части в виде турельного люка. Но если бойцы по очереди станут выбираться через этот люк, то сбрасывание затянется надолго, и десант окажется рассеянным на большой площади. И то и другое смерти подобно. Десант становится боевой силой, если парашютисты–воины вступают в бой «все вдруг», организованно, как только приземлятся.
Короче говоря, к моменту отделения от самолета бойцам надо находиться в исходном положении для одновременного прыжка. Коллективная мысль подсказала нам такой вариант: сосредоточить максимальное число парашютистов на крыле по обеим сторонам фюзеляжа. Для этого надо было вылезать через турельный люк на спину фюзеляжа, потом, преодолевая сопротивление ураганной струи воздуха, проползти, держась за специально приклепанные поручни, метров восемь вперед. Достигнув места, где ногами можно встать на крыло, перехватиться за бортовой поручень и проделать обратный путь уже по крылу до его задней кромки. Задача для человека с объемистыми ранцами на груди и спине нелегкая, но, как выяснилось, разрешимая. Отобрав самых надежных своих учеников и проведя ряд тренировок на земле, мы успешно провели десантирование 25 человек. Но внутренняя емкость и грузоподъемность ТБ–3 имели резервы, и, постепенно увеличивая число десантников, мы довели их до 50. Это уже кое–что значило! С двух заходов ТБ–3 сбрасывал два боеспособных подразделения бойцов.
Должен заметить, что эта внепрограммная для КБ работа — целиком заслуга нашего отряда. Конструкторам здесь делать было нечего. Наш поиск вдохновляло исключительное, подлинно шефское внимание ЦК комсомола, Во–первых, на смену комбригу Фомину, о роли которого я расскажу позднее, комиссаром КБ Косарев лично рекомендовал человека штатского, бывшего секретаря Рязанского губкомола Александра Власова. Если выразить его позицию, — а это была и позиция секретаря ЦК, — то она сводилась к таким словам:
— Ребята! Это нужно! Не бойтесь риска и ошибок, работайте смело!
Во–вторых, в КБ появился комсомольский штаб во главе с инструктором ЦК Сергеем Айропетьянцем. Невысокий рост компенсировался в нем пробивной энергией и темпераментом истинного южанина. В специфике нашего дела он соображал немного, но хорошо понимал главное: КБ должно работать как часы. За это он и отвечал перед ЦК. Периодически Секретариат ЦК слушал планы и обсуждал дела Гроховского. По информации Айропетьянца секретари и другие работники ЦК посещали наиболее интересные испытания.
И наконец, не менее важное: назначение нового командира нашего отряда. Сафронов был отличным командиром, и у меня осталась самая уважительная память о нем. Но он уже мало летал и, конечно, не прыгал. Видимо, Алкснис перевел его на более спокойный участок работы. На небольшой срок появился мой однокурсник Аркадий Дубровский, но не задержался. Я думаю, что ему не импонировала обстановка ежедневного риска и атмосфера недоброжелательства в среде, окружающей КБ. Дубровского сменил Константин Николаевич Холобаев.
Бывают в армии люди, как будто родившиеся для строевой службы. Они несут ее легко, артистично, олицетворяя гармонию между инициативой человека и требованиями воинских уставов.
Армейская форма сидела на нем, как собственная кожа. Небольшого роста, быстрый в движениях и во всех реакциях, находчивый и решительный, Холобаев представлялся нам туго скрученной пружиной, готовой к молниеносному действию. Он мог погорячиться, повысить голос, несправедливо наказать, но, поняв это, тут же исправить допущенную ошибку. А это великое искусство командира — устранить нанесенную обиду и не уронить свое достоинство. И гнев, и раскаяние, как и все другие чувства, красноречиво передавали его голубые глаза. Удивительные глаза были у Холобаева. Когда острые, как кинжалы, когда добрые и доверчивые, как у ребенка. Они оставались искренними во всех состояниях души Холобаева.
К моменту назначения в наш отряд Холобаев уже десять лет прослужил в армии и служил легко. Стал одним из первых мастеров парашютного спорта и, не задерживаясь, продвигался в званиях. Однако его организаторские дарования не случайно столь ярко проявились в КБ Гроховского.
Холобаев быстро освоил наши тяжелые корабли и после гибели Анисимова стал лидером в испытательных полетах. Особенно памятны его полеты с пушками. Для поддержки десанта в момент высадки Гроховский предложил вооружить тяжелые корабли пушками. Специальные пушки для самолетов появятся позднее, а пока пришлось пользоваться полевыми трехдюймовками, которыми располагала армия.
В КБ закипела напряженная работа конструкторов и рабочих групп. Надо закрепить стволы под самолетом и придумать дистанционное управление стрельбой. Ко многому мы привыкли, но в день вылета Холобаева на стрельбу волновались все. Как и всегда, «доброжелатели» предсказывали, что эта затея кончится крахом. Либо крылья отвалятся, либо пламя выстрела подожжет самолет. На аварийный случай экипаж сократили до трех человек. Командир корабля К. Н. Холобаев, бортинженер Д. Ф. Островенко и штурман В. Л. Бобков.
Опыт прошел успешно.
Вместе с Георгием Шмидтом, начальником нашей ПДС (парашютно–десантная служба), Холобаев оказался творцом и испытателем методики сбрасывания большого десанта с ТБ–3. Уже одним этим он внес весомый вклад в дело Гроховского.
В самые тяжелые дни Великой Отечественной войны К. Н. Холобаев летал сам и командовал полком штурмовиков. Со многими наградами в свой срок он вышел на заслуженный отдых. Но его деятельная натура не смирилась с покоем, на «гражданке» он работает и до сего дня. В моей памяти К. Н. Холобаев остался тем офицером, с какими наша армия одержала свою всемирно–историческую победу в сражениях против гитлеризма.
ПАРАШЮТИСТЫ
Обычно мы приходили на службу к 8.00, строились, получали задания, выполняли их, отчитывались и после 17.00 могли ехать по домам. Но для инструкторов–парашютистов начинался второй рабочий день до темноты. Из молодых ребят, комсомольцев, мы готовили «прыгунов» для десанта из 50 человек.
Айропетьянц связался с Краснопресненским райкомом комсомола (секретарь Семен Рубинчик, заведующий военным отделом Николай Оськин). По путевкам райкома мы пошли с докладами о парашютизме по заводским и фабричным ячейкам, призывая молодежь записываться в кружки. По предложению Оськина бюро райкома постановило всем райкомовцам показать пример рядовым комсомольцам и прыгать с парашютом. И это постановление было выполнено. Короче говоря, результат нашего призыва превзошел все ожидания, сразу возник дефицит в инструкторах. Лично мне пришлось работать с кружками на кондитерской фабрике «Большевик», на табачной «Дукат» и на «Трехгорке». Холобаев, Шмидт, Афанасьев, Островенко вели кружки на авиазаводе, фабрике «Ява», в МАИ и других предприятиях Краснопресненского района. Для ускорения подготовки Холобаев организовал лагерный сбор. Мы, инструкторы, и наши ученики жили в палатках возле основного корпуса КБ. Тренироваться начинали с рассвета, кончали с темнотой. На основную работу отпускали ребят по «увольнительным», как в отпуск.
Инструкторская работа требовала большого напряжения, но случались и юмористические казусы. Иногда они развлекали, а иной раз открывали глаза на недоработки, опасные по своим последствиям.
Помнится случай с нашим конструктором Борей Чепелевым. Это был боевой и развитый парень, типичный заводила–комсомолец. Он успешно выполнил учебные прыжки и переходил на инструкторскую программу с затяжными. Но что–то в нем надломилось: когда ему предстояло выполнить первый для него затяжной прыжок, он отказался покинуть самолет. Я спокойно сказал ему: «Не волнуйся! Это бывает и проходит». Через несколько дней он попросился снова в небо и снова не решился прыгнуть. Товарищи стали смотреть на него косо. Борис не выдержал и стал настоятельно просить третью попытку. Начальник парашютной службы нашего КБ Шмидт предложил мне самому решить вопрос о допуске Чепелева к прыжку. Я сказал Борису:
— Подумай, Боря, еще раз. Если и сейчас не прыгнешь — задразнят. Может, не стоит рисковать твоей комсомольской репутацией?
Борис смотрел на меня как на человека, решающего его судьбу, и чуть ли не со слезами на глазах клялся, что прыгнет обязательно. Я понял его состояние, как мог ободрил и, не откладывая, чтобы не иссяк этот порыв, повез на прыжок.
Для первых затяжных прыжков как норму мы установили 500 метров свободного падения до раскрытия парашюта. Опытным путем установили, сколько секунд на это требуется. Ориентируясь на глаз по приближению земли и делая про себя счет секундам (21, 22, 23 и т. д.), парашютист должен был открыть парашют на высоте 300 метров. Из этого следует, что высота сбрасывания 800 метров.
В данном случае, как на грех, пока я набирал эти 800 метров, наш Центральный аэродром закрыла туча с кратковременным, но проливным дождем. В ожидании, пока он пройдет, я делал круги в районе Тушинского аэродрома. Зная, какое напряжение испытывал Борис, я старался отвлечь его: показывал ему аэродром с заруливающими на стоянку самолетами, Москву–реку с плывущим пароходом, шоссе с бегущими жучками–автомобилями, разговаривал, требовал ответов… Мне искренне хотелось помочь этому славному пареньку–конструктору одолеть свою слабость.
Когда ливень с нашего аэродрома сместился, я вывел самолет для прыжка Бориса. Нижняя кромка облаков оказалась на высоте 600 метров, Не придав этому обстоятельству особого значения, я все же напомнил:
— Боря! Открывать на трехстах, не перетягивай!
На этот раз он прыгнул действительно без колебаний. «Молодец, Боря!» — подумал я и, как обычно, снижаясь крутой спиралью, стал следить за его падением… Он минует высоту триста, двести… О, ужас! Сто! Сейчас неминуема катастрофа! Сердце замерло, остановилось дыхание… и в этот момент белым пламенем вспыхнул купол парашюта. Он открылся так низко, что Борис, не успев распрямиться, шмякнулся в огромную лужу. Спешно сажусь; мой подопечный отделался грязным костюмом и, вероятно, испугом, хотя и отрицал это, ликуя оттого, что реабилитировал себя в глазах товарищей.
С трудом мы дознались, что по совету «опытных» он падал, зажмурив глаза, и парашют открывал только по счету. Узнав это, я испугался по–настоящему. Страшно было представить себя виновником гибели здорового, молодого, красивого человека, которому жить да жить! Но происшедшее указало нам на погрешности в методике обучения.
Второй случай был несколько иного рода. Мы готовили первый сброс десанта из 50 человек. В него включались парашютисты, имеющие не менее восьми прыжков. Но таких недоставало, и мы стали брать с шестью прыжками. Но и при этом одного не хватало. На свою ответственность я включил семнадцатилетнюю ткачиху «Трехгорки» Надю Филиппову. На ее счету было всего лишь четыре прыжка, но она была умна и смела. Однако для уверенности я поставил ее в расчете сразу за собой. За ней должен был прыгать Митя Островенко, парень сообразительный и прыгун отчаянный. Говорю Мите: «Подстрахуй Надю, если понадобится».
Взлетели с Центрального и взяли курс на Тушинский аэродром. ТБ–3 набит парашютистами, как коробка шпротами. Фюзеляж центроплана, бомбовые отсеки и даже крылья внутри—все заполнено. Остался узенький проход, через который я должен был увидеть в «моссельпроме», как тогда называлась штурманская рубка, Шмидта, и принять его команду: «На выход».
Вот моторы стали работать тише. Это Шмидт, сделав расчеты сноса и скорости, вывел корабль на последнюю прямую. Сейчас последует команда. Вот и она! Дублирую ее парашютистам и через задний турельный люк вылезаю на спину самолета. Перехватываюсь по поручням и ползу вперед, навстречу струе. Знаю, что Костя Холобаев сейчас держит скорость не больше 140 километров, но все равно — струя ураганной силы. Надо держаться крепко и прижиматься телом к самолету плотно. В голове одна забота: как–то справятся ребята! Добрался до места, где можно ногами достать крыло, стал поджидать Надю. Смотрю — дело идет отлично, ребята ползут, как муравьи, не мешая друг другу и не мешкая. Помог Наде опуститься на крыло и стал передвигаться по нему вниз, держась за поручень. Спиной чувствую Надин парашют. Занял крайнее место у обреза крыла. Внизу вижу ленту Москвы–реки. Опасаюсь, успеют ли все занять свои места до точки сбрасывания, Перехватываюсь и оборачиваюсь лицом к «моссельпрому», чтобы увидеть Шмидта и его команду. Шмидт стоит с поднятой рукой. Жду, пока последние займут свои места, и поднимаю руку в знак готовности десанта к сбросу. С обеих сторон фюзеляжа двадцать четыре пары глаз смотрят на меня. Только я один вижу штурмана, и лишь по моей команде ребята отпустят поручень. Чувствую, как в унисон с моим бьются их сердца, вижу, как напряжены глаза, Шмидт дал знак — пора!
Ободряюще взглянул в Надины глаза и опустил руку. Это приказ покинуть самолет. Отпускаю поручень, поворачиваюсь и шагаю за крыло.
Парашют открылся. Первым делом считаю — 24 купола в воздухе. Где же 25–й? Да это же я сам! Ну, все в порядке. Вижу два парашюта ниже себя. Недоумеваю — в чем дело? Эта загадка разъяснилась после приземления, когда ко мне, бросив свой парашют, в слезах примчалась Надя.
— В чем дело, Надя? Кто тебя обидел?
Оказалось, что Митя Островенко «перестраховался». После команды «Покинуть самолет!» он схватил Надю в охапку и столкнул ее вместе с собой. Падая затяжным, нащупал кольцо ее парашюта, выдернул и оттолкнул Надю от себя. Сам подзатянул еще, первым приземлился, не упав, на ноги, отстегнул свой парашют и еще успел подбежать и принять Надю на руки.
Это уже не страховка, а озорство, оскорбительное для самолюбивой девушки. Надя рыдала взахлеб, по–девчоночьи размазывая слезы грязным кулачком, горькая обида душила ее.
Я обнял ее за плечи, дал ей свой носовой платок и сказал:
— Ты молодчина, Надя! Ты все сделала бы отлично и сама. Ты еще покажешь себя, а сейчас не плачь, ты же комсомолка и рабочий класс! А Мите я задам!
Сделал «страшные» глаза и погрозил ему кулаком.
Этот эпизод говорит об отваге заводских ребят и девчат — все они были еще допризывниками и соревновались в деле, еще не утратившем риска. Вообще, должен сказать, что фабричная молодежь проявила не только энтузиазм, но и дисциплину прямо завидную. Ведь почти каждый вечер после работы, иногда не успев перекусить, забыв обо всем, ребята ехали на аэродром. Здесь они попадали в настоящую армейскую атмосферу. Строевая подготовка, укладка парашютов, наземная «дрессировка» у самолетов, прыжки с парашютной вышки. И так не одну неделю, пока не наступит день вылета на первый прыжок. А потом еще недели не менее напряженного труда, чтобы получить восемь прыжков.
И хотя бы один ушел или пропустил самое неинтересное занятие! Если это и случалось, то по уважительным причинам, а пропустивший больше всего боялся, что ему не поверят и отчислят из группы.
Вот так готовился «человеческий материал» для десанта.
С любовью я вспоминаю комсомольцев 30–х годов и горжусь ими.
«РИСКОВАТЬ НАДО ДЛЯ ДЕЛА, А НЕ ИЗ–ЗА САМОЛЮБИЯ!»
Однажды в воскресный летний день трое инструкторов: Шмидт, Холобаев и я — вывозили двумя У–2 ребят на прыжки. Неожиданно на аэродром приехали Гроховский и Косарев. Холобаев построил парашютистов и подошел с рапортом к Гроховскому. Тот отстранился и сказал;
— Доложите секретарю Центрального Комитета ВЛКСМ товарищу Косареву.
Холобаев отрапортовал, что группы комсомольцев с фабрики «Большевик», часового завода и Московского авиационного института совершают учебные прыжки. Инструкторы — такие–то…
Косарев поздоровался с парашютистами, попросил их сесть на траву и с полчаса беседовал с ребятами, интересуясь тем, как они совмещают работу и учебу с занятиями парашютным спортом. Потом сказал немногое и потому памятное:
— Вы — дети рабочего класса, наследники тех, кто совершил революцию. Сегодня вы комсомольцы, а завтра будете коммунистами, как ваши инструкторы. Вашими руками будет построен социализм, вам его и защищать. То, что вы делаете сегодня, пригодится Родине завтра. Комсомол гордится вами.
Затем он обратился к инструкторам;
— Мне известно, что вы старые комсомольцы, а Каминского я знаю с 1927 года, когда он еще не был летчиком, а был членом Московского комитета. Я вижу, что в вас горит комсомольский огонек, хотя вы и не носите уже комсомольского билета. Вы делаете большое дело, товарищи инструкторы. Спасибо вам от Ленинского комсомола!
Молодежь отзывчива на доброе слово и на высокие призывы. Косарева любили. Встреча с ним, думаю, запомнилась всем, кто тогда был, на всю жизнь, как и мне. Закончился этот визит тем, что Гроховский предложил Косареву посмотреть затяжные прыжки инструкторов. Дал задание прыгать с 1000 метров, но о высоте открытия парашютов не помянул. Когда Шмидт закончил «затяжку» на высоте 400 метров, я решил показать «класс» и раскрыл свой парашют перед самой землей, примерно на высоте 70 метров. Ученики были в восторге и сразу начали меня качать. Но Гроховский и Косарев уехали, как только я стал на ноги. Ребята сказали, что Косарев аж зажмурился, видя, что я падаю чуть ли не до земли.
На другой день Гроховский вызвал меня к себе и сообщил слова Косарева: «Передайте Каминскому, что это ухарство. Мне было страшно и неприятно смотреть, как он падал. Пусть побережет себя, его жизнь нужна не ему одному».
От себя Гроховский добавил;
— Я вполне согласен с Косаревым. Рисковать надо для дела, а не из–за самолюбия.
Неприятные эти слова стали для меня уроком, дали повод поразмыслить о самолюбии, как о свойстве человеческого характера.
Когда мы говорим о ком–либо «самолюбивый», то чаще всего оттеняем в этом человеке нечто отрицательное, хотя понимаем, что нет людей, которые не любят сами себя. Само–любие! Вроде бы ясно, что это естественное право человека на любовь и уважение к себе со стороны других. Однако это право проявляет себя и в честолюбии, и в тщеславии, и в эгоизме.
Эгоизм — качество явно антиобщественное; это стремление благоденствовать за счет других или не считаясь с интересами других людей.
Честолюбие — я понимаю как желание быть первым в своем деле. Это качество является стимулом для соревнования в умении, смелости, благородстве, и оно необходимо каждому.
Но нередко самолюбие облекается в форму тщеславия, то есть в желание блеснуть, покрасоваться, показать себя лучше других, что ведет к нескромности, а порой и к опасным поступкам.
Из тщеславных побуждений «перетянуть» мастера парашютного дела Георгия Шмидта я задержался с открытием парашюта, пока не почувствовал всей кожей:
«Вот она, земля, — сейчас убьюсь!» Когда ученики подхватили меня на руки и стали качать, как храбреца, было приятно. Но не зря говорится, что тщеславие «губило и не таких»!
Не стану утверждать, что никогда больше я не допускал тщеславных поступков. Но я научился распознавать их в самом себе, и это пошло мне на пользу.
Существует поговорка: искусство (наука) требует жертв. Я не могу умолчать о потере, которая травмировала нас в том же 1934 году. Вначале было торжество: чертежница нашего КБ комсомолка Зоя Бушева установила первый в стране рекорд затяжного прыжка для женщин.
А через три дня разбилась при следующих обстоятельствах.
Исторически сложилось, что Краснопресненский район Москвы располагал большинством предприятий и учреждений, имеющих отношение к авиации. На его обширной территории размещались конструкторское бюро, МАИ, Центральный аэроклуб, два аэродрома — Центральный и Тушинский. Районное руководство гордилось действительно крупными достижениями этих организаций и решило устроить им свой районный смотр. Он был задуман как репетиция к Всесоюзному Дню авиации. Этот праздник пришелся на воскресный день 15 августа. В разнообразной программе запланировали показательный затяжной прыжок пары парашютистов. Естественно, что в состав этой пары включили и нашу Зою, которую москвичи уже знали по газетам как рекордсменку. У меня насчитывалось 70 прыжков, потому я оказался старшим этой пары. Прыгали с высоты 1500 метров с затяжкой до 500. На самолетах Р–5 меня вывозил Баталов, а Зою — Сережа Афанасьев.
Когда подошло время для нашего прыжка, я вылез на крыло, поднял руку и стал ждать подтверждения готовности Зои. Вот и она подняла руку. Рассчитываю место и прыгаю. Сразу попадаю в правый штопор. Выхожу из него методом Афанасьева. Оглянулся через плечо и увидел фигурку Зои. Это движение бросило меня в левый штопор. Вновь выхожу из него, глазомерно определяю высоту и точно на высоте 500 метров открываю парашют. Ищу парашют Зои и не вижу его. Недоумевая, приземляюсь. Ко мне подлетела «санитарка» и подвезла к Алкснису. Тот не дал мне отрапортовать, быстро бросил: «Бушева разбилась. Идите к публике и расскажите о прыжке. Постарайтесь отвлечь ее от катастрофы».
Оказалось, что Зоя и не пыталась открыть свой парашют. Попала в положение «сальто» и кувыркалась до земли. То ли головокружение, то ли шок, как объясняли врачи, были тому причиной — сказать трудно. Я лично объяснил это нервным переутомлением после серии все усложнявшихся прыжков, окончившихся мировым рекордом. Зоя не посмела отказаться от показательного прыжка и расплатилась жизнью. Это был ее семнадцатый прыжок. В памяти осталась милая и скромная труженица нашего КБ, единственная, кто кровью заплатил за его успехи.
«ЗНАТЬ, ТЫ, ПАРЕНЬ, РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ!»
…В лето 1934 года и мне пришлось пережить опасные минуты. Я был назначен для буксировки планера Урлапова. Дело не раз испытанное, новизны в нем не было, и никто не предполагал неожиданностей. В тот раз Гроховский хотел провести какой–то новый эксперимент, поэтому сам сел на планер в качестве отцепщика, а Урлапова посадил ко мне на самолет. Вместо Степанченка, который обычно пилотировал планер, был назначен молодой летчик–испытатель Н., мой ровесник и однокурсник по летному училищу (сейчас он заслуженный летчик–испытатель и Герой Советского Союза).
Взлет происходил на Центральном аэродроме в сторону Октябрьского поля. Степанчёнок ранее установил, что планер уходит в воздух на скорости 65 километров значительно раньше самолета–буксировщика. Взлетая, планерист освобождает трос и помогает буксировщику оторвать самолет почти на нормальной дистанции.
На этот раз все было наоборот. Мой самолет на форсаже пробежал весь аэродром, и в опасной близости передо мной возникла шеренга самолетов заграничных линий. Они стояли на краю летного поля, сразу за ними была стена березовых стволов. Смотрю на приборную доску: скорость 85—90 километров. Самолет у самой границы отрыва, но большей, нужной для отрыва от земли скорости не набирает. Смотрю в зеркало заднего вида: планер, задрав хвост, еще бежит по земле. Кричу Урлапову: «Отцепляй, сейчас убьемся!» Но он и не подумал отцепляться.
Остались считанные секунды перед тем, как я неотвратимо должен был врезаться в стоящие впереди самолеты. И в этот критический момент самолет мой взвился свечой; так на скорости не более 100 километров, очень опасной (второй режим), пройдя колесами над крыльями стоящего на линейке трехмоторного «Девуатина», я взлетел, А когда развернулся, то увидел столб еще не осевшей пыли над разрушенным бараком, в который одним крылом воткнулся планер.
После посадки выяснилось, что нас с Урлаповым спас Гроховский. У него хватило хладнокровия для того, чтобы буквально в решающую секунду отцепить трос со стороны планера. Оказалось, что летчик Н. по неопытности искусственно не давал планеру отрываться. Когда я приземлился, Анисимов и Чкалов первыми поздравили меня. Чкалов сказал при этом: «Знать, ты, парень, родился в рубашке. Теперь проживешь долго».
Гроховский меня не вызывал, но, увидев на следующий день, пожал руку и сказал:
— Молодец, что не убрал газ, держал до конца! А сдрейфил бы, побил бы себя и нас, да еще и был бы виноватым. Отремонтируем планер — полетим снова!
ГЛАВА ПЯТАЯ
ВО ИМЯ ЧЕГО РАБОТАЛ «ЦИРК»
ЧЕЛОВЕКА ЗАЩИЩАЕТ ЕГО ДЕЛО
В 1934 году определилось, что масштаб и тематика работы нашего КБ вышли за пределы компетенции и материальных возможностей Военно–Воздушных Сил. По представлению маршала Тухачевского нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе принял от Алксниса Особое конструкторское бюро Гроховского. На его базе был создан экспериментальный институт, которому предстояло работать над новыми важными проблемами.
Перед этим мы продемонстрировали Серго и высшему комсоставу наркомата все, чего достигло наше КБ за четыре года.
Демонстрация шла как часы. Уже сброшен десант из сорока человек, и к нему автомобили, танкетка, пушка, контейнеры и даже буфет с горячей пищей. Произвел впечатление сброс с помощью подвесок таких хрупких предметов, как сырые яйца и электрические лампочки. Ничего не разбилось и не смялось. Но, как нередко бывает, порой самое яркое впечатление оставляет какая–нибудь деталь. Такая деталь была и в нашем показе. Гроховский—к слову, как о деле второстепенном, — доложил наркому об отработке метода прокладки телефонного провода при помощи самолета.
— О, это интересно! А ну, дорогой, покажи! На сколько же километров?
— Пока только на шестьдесят. На РБ–5 больший барабан не помещается.
Принесли карту, на ней вычертили окружность, и Серго, не глядя, поставил карандаш на одну из точек окружности. Рассмотрели название ближайшей деревни, и через пять минут Баталов вылетел с предписанием найти эту деревню и выбросить над ней парашютиста–телефониста. От самолетного барабана начальный конец провода подвели к столику возле наркома.
Следом за Баталовым на другом самолете вылетел офицер связи для контроля. Запустили секундомер. Через 22 минуты на столике запищал зуммер полевого телефона. Серго с живостью схватил трубку и засмеялся, как ребенок, получивший игрушку. Он услышал следующее; «Докладывает телефонист Терещенко. Нахожусь в населенном пункте Матвейково Истринского района. С вами будет говорить председатель сельсовета Коновалов. Передаю трубку».
У нас осталось впечатление, что Серго захотел убедиться в надежности слов своего нового подчиненного. Сужу об этом по такой его фразе: «Теперь вижу, что у вас слово не расходится с делом. Молодцы! Верю!» — после чего распорядился прекратить показ.
Демонстрация произвела сильное впечатление даже на нас. До этого мы имели только частичное представление о том, что делалось в нашем бюро, а тут увидели все сразу. Мы поняли, как близка к материальному воплощению идея десантной армии. В сущности, все необходимое для этого сделано. Оставалось то, что называется «принять на вооружение», то есть размножить испытанные нами образцы, научить ими пользоваться в армии и оформить боевую организацию подразделений и частей в особый род войск.
Первые месяцы службы в отряде и при КБ Гроховского мне казалось, что Главного окружают лишь энтузиасты, что он, как Саваоф в окружении ангелов и архангелов, творит доселе невиданное. Но вскоре рассмотрел людей, которые, отдавая должное успехам, критиковали на партийных собраниях промахи Гроховского и тех, кто «прилип» к его делу для собственной корысти. Еще позднее увидел и таких, которые на недостатки смотрели в микроскоп.
А недостатки действительно были, да и сам Гроховский не был человеком без недостатков и личных пристрастий. Жития святых из его биографии не сделаешь.
НИИ ВВС специализировалось на испытании новых самолетов, моторов и приборов для них. Само НИИ ничего не изобретало и не создавало, являясь государственным ОТК для оценки качества продукции, предъявляемой заводами–изготовителями. В этом смысле отдел, руководимый Гроховским, оказывался чуждым основному профилю НИИ, — он сам изобретал, создавал новую технику, сам ее испытывал.
Первые опыты Гроховского (санитарные кабинки, подвесные кассеты и др.) в какой–то мере совпадали с деятельностью НИИ по увеличению полезной отдачи самолетов. Потому первый начальник института комкор В. С. Горшков и поощрял изобретательность своего летчика–испытателя. Но за два года дело, начатое Гроховским, приобрело самостоятельное значение и вышло за рамки компетенции испытательной организации.
Личные качества начальника этого отдела–пасынка не способствовали доброму к нему отношению. Гроховский был одержимым во всем, что он делал. А одержимые ничего не хотят знать, кроме своего дела. Форме своих отношений с начальством должного значения не придают, при малейших препятствиях горячатся, совершают бестактные поступки и дают множество поводов как для справедливых замечаний, так и для придирок.
Следует напомнить, что в конце 20–х годов сложилось своеобразное положение в кадрах — авиацию заполнили кавалеристы. Авиация бурно росла, в округах и в центре формировались соединения, штабы, а летчиков для заполнения штабных и командных вакансий не хватало. К руководству авиацией стали привлекать командиров и комиссаров из других родов войск и особенно много из кавалерии. У «варягов» имелся большой организаторский опыт, боевые заслуги и высокие воинские звания, но, естественно, не хватало знания специфики нового для них дела. А это иногда приводило к антагонизму с коренными авиаторами, такими, как Гроховский.
В начале любого дела не всегда видно, к чему оно приведет. В 1932 году очень немногие смогли усмотреть будущее за тем, чем занят был Гроховский. А непонимание, если даже оно пассивное, всегда создает трудности. Руководители НИИ Зильберт и Шимановский — заслуженные герои гражданской войны, крупные командиры (в петлицах по четыре ромба) — не оказались в числе прозорливых. Не очень–то веря, что «затеи» Гроховского принесут пользу армии, они смотрели на него прежде всего как на подчиненного. В то время, когда они командовали дивизиями, Гроховский имел под началом роту. Теперь, «выскочив» в один ряд с ними, он забыл о дистанции — ни уважительности, ни послушания не проявляет. А отсюда личная к нему неприязнь, желание поставить гордеца на место. Короче говоря, положение Гроховского в НИИ стало шатким. Он почувствовал это, когда комиссаром к нему назначили кавалерийского комдива Фомина, а тот, не таясь, стал подбирать материал для отстранения начальника своего отдела от должности. В такой критический момент на помощь Гроховскому пришел Тухачевский. Он показал руководителям партии и государства значимость работ, проводимых КБ.
В начале лета 1932 года для ознакомления с десантной техникой в расположение КБ приехали члены Политбюро Сталин, Молотов, Ворошилов и Орджоникидзе с группой высших военачальников.
Зильберт, встретив высоких посетителей подчиненного ему отдела, сам взялся давать пояснения. Они носили весьма общий, поверхностный характер и потому принижали сущность и потенциальные возможности идей, которыми жило КБ. Оттесненный в самый хвост влиятельной процессии, Гроховский в некомпетентных пояснениях усматривал умысел и, не видя возможности вмешаться, только скрежетал зубами.
Нынешнему молодому поколению, быть может, уже трудно представить, чем была тогда для нас личность И. В. Сталина. Выше авторитета не существовало, и он еще не был омрачен злоупотреблениями эпохи культа. Его любили, уважали, но еще больше трепетали перед его властной натурой. Отчаянную смелость надо было иметь, чтобы в сложившихся обстоятельствах вмешаться в ход событий.
Но вот Сталин, указывая пальцем на авиабус, спросил:
— А это что такое?
Зильберт лишь на мгновение задержался, и этим воспользовался Гроховский. Вырвавшись вперед, вытянувшись в струнку, он отрапортовал;
— Авиабус, товарищ Сталин!
— Авиобус! — с ударением на «о» переспросил Сталин. — А для чего он нужен?
— Для беспарашютного десантирования людей и грузов, товарищ Сталин!
— Кто–нибудь пробовал десантироваться на этом авиобусе?
— Так точно, товарищ Сталин! Я и мой заместитель Титов.
— Молодцы! — заметил Сталин, вглядываясь в Гроховского. — Ну–с, продолжайте дальше…
И. В. Титов, рассказавший мне этот эпизод, слышал, как, узнав историю испытания новинки, Ворошилов сказал Молотову:
— Придется наградить, Вячеслав Михайлович! Через пять дней Гроховский стал обладателем личной «эмки», а Титов — мотоцикла с коляской, что в те времена было большой редкостью.
Когда страсти улеглись, Титов, не скрывая своего изумления, спросил Гроховского:
— Как ты решился, Павел Игнатьевич?
— А что было делать? Похвальный лист за примерное поведение от Зильберта я все равно бы не получил, а считаются не с послушными, а сильными. Вот я и решил, что «лучше быть здоровым и богатым, нежели бедным и больным!».
Комиссар Фомин все–таки создал «дело Гроховского». Оно рассматривалось в ЦКК под председательством Емельяна Ярославского, одного из соратников Ленина. Нашему Главному было указано на действительные упущения, а Фомин был понижен в звании и переведен с политической на тыловую работу — заведовать армейскими складами.
Вот так дело еще раз защитило Гроховского.
О ТАЛАНТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
Гроховский — автор более 70 новых технических идей, из коих 38 оказались защищенными авторскими свидетельствами. Многие идеи Гроховского опередили возможности своего времени. Они реализованы значительно позднее другими людьми, не знавшими автора.
На мой взгляд, и сегодня важны принципы, которыми руководствовался этот одаренный человек. Дело, созданное им, не мог поднять он один, У Гроховского были единомышленники и соратники. Не за страх, а за совесть, не щадя сил, они работали над воплощением в жизнь его идей. Как же заинтересовать своим делом десятки и сотни людей, чтобы они боролись за его успех, как за собственного ребенка? Такой вопрос стоял перед Гроховским, он и сейчас стоит перед многими руководителями.
Наша периодическая печать пестрит заголовками: «Наука управления», «Каким быть руководителю?» и т. п. Появляются памятки, наставления и даже вырабатываются кодексы морального облика руководителя. Говорят, что новое — это хорошо забытое старое! Да, во все времена были талантливые организаторы и руководители. Только их опыт не анализировался и забывался.
Одним из ближайших соратников Гроховского оказался Иван Васильевич Титов. Двадцати шести лет от роду, рядовым авиатехником с тремя «кубарями» в петлицах, он приехал из Ленинграда в НИИ ВВС защищать свои рационализаторские предложения. Гроховский увидел в нем парня «с головой» и пригласил сотрудничать в новом деле. Согласился! Поставил задачу — организовать мастерские и наладить их работу. Выполнил, самостоятельно преодолев ряд трудностей. Поручил изыскать возможности и начать производство грузовых парашютов. Опять выполнил безотказно. Предложил рискнуть на испытании авиабуса. Не отказался! И вот через два года Титов — заместитель начальника КБ, комбриг (ромб в петлицах), а позднее — начальник филиала КБ.
В этом примере я вижу первый и важный принцип Гроховского: нового сотрудника проверять ответственным поручением с ограниченным сроком исполнения, а испытав — смело выдвигать.
Позднее И. В. Титов закончил институт, разработал ряд ценных изобретений, защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
Восемнадцатилетний выпускник саратовской средней школы, Борис Урлапов в 1930 году приехал поступать в МВТУ. Экзамены сдал, но не прошел по конкурсу.
Потерпев неудачу в МВТУ, Борис в поисках работы по газетному объявлению направился в молодое КБ Гроховского. Вот что он рассказывал сам:
— Прихожу по адресу и попадаю к Малыничу. Спрашивает — вы кто?
Отвечаю — авиационный конструктор. А документов никаких, и годов восемнадцать с небольшим. Но в тот момент КБ нуждалось в умелых работниках, а не в дипломах. Выдержал я пробу, и направили меня в группу инженера Запанованного. Одновременно со мной поступил к нему мой ровесник Игорь Рыбников, с которым мы подружились, а потом вместе строили планер, о котором пойдет речь.
Алексей Кондратьевич принял ласково, ободрил, учил, как родного сына. Говорил он в нос, с гундосинкой, довольно писклявым голосом. Подойдет, бывало, к столу и гундосит: «Ничего, получается! Думать ты умеешь, только не додумываешь. Вот так бы надо сделать эту деталь!» — и покажет как. Очень я ему благодарен. Прошел год, и наступил срок очередного приема в МВТУ, а я решил еще годок подождать, подучиться на интересной работе. А тут Павла Игнатьевича осенила идея построить мощный десантный планер. В составе КБ я оказался единственным планеристом.
Вызывают меня к Гроховскому, я еще не знаю зачем, стою перед ним и боюсь глаза поднять: чем, думаю, провинился? Но это прошло сразу. Было мне девятнадцать, а он заговорил, как с равным, по–товарищески, советуясь, как с «большим». Знаете, как это здорово! Через десять минут такого разговора я готов был сделать все, что он скажет.
Так вот, говорит мне Гроховский, малая грузоподъемность — самое слабое место боевых самолетов. Мощность мотора большая, а габаритов для груза нет. И ставит задачу — рассчитать, какую «баржу» потянет на буксире Р–5. Через некоторое время докладываю, что Р–5 потянет десятиместный планер, а про себя думаю; не перехватил ли я, не ошибся ли? И тут он меня вовсе ошарашил: «Мало!» — говорит.
Как же так? И десять–то ни один планер в мире не поднимал, а он говорит — мало! Осмелел я, начал спорить, говорю, что люди не иголки, их посадить надо. Кабина будет с большим миделем, если ее еще увеличить — лобовое сопротивление возрастет, и не потянет Р–5. Он посмотрел мой эскиз и говорит:
— А зачем вы их сажаете? Почему бы не положить? В крыло, например!
Черт возьми! Неожиданно, но практично! Хорошо, говорю, посчитаю. В результате пересчета выяснилось, что в крыле лежа можно поместить шестнадцать человек. Фюзеляж будет тонким, останется лишь балкой, несущей хвостовое оперение, и силовым элементом для. крепления крыла. Когда я доложил Гроховскому свой расчет, он так это запросто, как о деле обыкновенном, сказал:
— Теперь подходяще! Рассчитывайте и стройте ваш планер!
Представьте себя на моем месте: среднее образование, девятнадцать лет, никогда еще ни за что серьезное не отвечал, сам себе кажусь мальчишкой, а тут такое предложение!
Стал я отнекиваться, а Павел Игнатьевич положил руку на плечо, смотрит в глаза и говорит таким тоном, будто я отказываюсь ехать с ним по грибы:
— Что же вы в кусты прячетесь? В ваши годы я ротой командовал, да еще на войне. И ничего — справился! А тут что: сумел подсчитать — сумеешь и построить! — И, конечно, повторил старую поговорку, что «не боги горшки обжигают».
Не стану пересказывать всего, что узнал от Урлапова, отмечу только, что ровно через год после первого разговора сам Гроховский поднял этот планер в воздух, буксируемый Б. В. Бицким. К великому разочарованию скептиков, планер выдержал государственные испытания, которые провел знаменитый в те годы планерист В. А. Степанчёнок. Планер получился необыкновенным не только по своей небывалой величине и весу (1300 кг), но и с великолепным качеством, равным 28,6 {5}. Его грузоподъемность (1800 кг) — 135 процентов от веса конструкции, до сих пор не достигнута ни одним летательным аппаратом. Буксировщик Р–5 при посредстве этого планера стал поднимать в воздух груз по весу в 3,5, а по объему в 5 раз больше того, что мог поднять самолет со всякого рода подвесками.
Что позволило Гроховскому пойти на эту «авантюру», как думали скептики? По каким соображениям он доверил столь серьезную работу, а вместе с ней и свою репутацию во всех отношениях «зеленому» юноше? Изучив вопрос, зная все главное о Гроховском, я полагаю, что рассуждал он в этом случае примерно так: а) парнишка имеет опыт постройки планеров (заметим, что в те годы все планеры рассчитывались и строились руками любителей); б) он не испорчен преклонением перед традициями, шаблонами и авторитетами и будет пытаться найти свое, оригинальное решение, поскольку и прецедента нет; в) он прошел «школу» смелых решений, у него есть отвага взяться за задачу, которую еще никто не решал.
От себя я бы добавил, что теперь–то мы знаем «школу» О. К. Антонова, у которого учился технической смелости юный Борис; Гроховский, не имея понятия об Антонове, интуитивно почувствовал его школу и доверился ей.
Полагаю, учитывал Гроховский и недостаток глубоких и специальных знаний у юного строителя. Но это его не смущало. В Москве найдутся любые специалисты — помогут, И действительно, к работе в качестве консультантов привлекались крупнейшие специалисты: теперешний академик Б. Н. Юрьев, профессор С. Г. Козлов, доктор технических наук А. К. Мартынов, профессор Г, А. Ростовцев, известный прочнист Беляев и другие — по мере надобности. Надо отдать им должное, это были в высшей степени добросовестные и беспристрастные консультанты.
Итак, в истории Бориса Урлапова и его планера прослеживается не только талантливость исполнителя, но и мудрость руководителя, умевшего и заметить одаренность, и помочь ей вырасти. Не искать авторитеты на стороне, а раскрывать таланты тех, кто рядом!
Мы часто говорим: «Не повезло!» — и редко утруждаем себя анализом — почему? Некоторые считают себя неудачниками и смиряются с этим как с объективным фактором. Другие рассчитывают на «счастливый случай» как на манну небесную.
Философия видит в случайности одно из проявлений закономерности. Исходя из своего жизненного опыта, эту формулу я понимаю так, что благоприятные случайности выпадают людям более или менее равномерно, но не каждый способен обратить их себе на пользу. И это в очень большой мере зависит от характера.
Если ты тугодум, боязлив и нерешителен, то «случай» тебе не помощник. Уклоняясь от действия, ты, может быть, и не проиграешь, но наверняка не выиграешь.
Инициативный и смелый не упустит случая схватить за хвост удачу, и ты с завистью скажешь, что ему повезло. Не лучше ли, однако, развивать свою наблюдательность и предусмотрительность? Не ждать, а искать желанную возможность?
Эти рассуждения имеют прямое отношение к вопросу о таланте руководителя. Точнее — к его умению опираться на способных к тому или иному делу людей. В этом заключалась сила Гроховского как организатора. В те годы все решительно было дефицитным. Добыть хромансилевую трубу, нужную марку полотна для парашютов и множество других вещей — все равно, что совершить маленький подвиг. Надо было знать, ГДЕ взять, и надо УМЕТЬ взять. Предусмотрительность, отличное знание специфики работы своей «фирмы», способность авторитетно представлять ее интересы и даже личное обаяние — непременные составляющие этого умения. Без этого снабженец в своем деле не артист. Крупные организаторы придавали большое значение подбору людей на эту роль. Наполеон говаривал: «Прежде чем воевать, надо научиться снабжать!»
Одним из таких незаменимых помощников у Гроховского был Аркадий Викторович Подрайский.
Он был подвижен, как челнок ткацкой машины, и оптимистичен, как ребенок, не рисовался, не важничал своей незаменимостью. Работал весело, споро и безотказно. В КБ никогда не было затяжных простоев из–за отсутствия нужных материалов.
Другим лицом, столь же важным, как барабан в оркестре, оказался Эммануил Иосифович Клеман. Как и в случае с Урлаповым, Гроховский разглядел в новом сотруднике его истинное призвание и дал ему ход.
Воздушный десант многим в те годы представлялся авантюрой, цирком. Сильная сторона Гроховского–руководителя была в понимании того, что нельзя полагаться только на поддержку единомышленников (тогда малочисленных). Интересы дела требуют убеждать и тех, кто не верит или сомневается. А таких лиц и инстанций было немало.
Не помню уже, как именовалась должность Клемана, но он стал правой рукой Павла Игнатьевича, умело показывая сущность проводимой работы. Организация отчетных фотовыставок, киносъемок, демонстрации объектов, составление документов — все это лежало на плечах Клемана. Как и в примере со снабженцем Подрайским, должен подчеркнуть, что такого рода работа — не техническая функция. Она требовала масштабного представления об общем направлении дела, самостоятельности мысли и немалого организаторского дfрования.
Э. И. Клеман оказался человеком неутомимым, с выдумкой и энергией. Наиболее важным в выполняемой им работе было то, что каждое готовое изделие КБ сопровождалось инструкцией, переложенной на ясный и лаконичный язык воинского устава.
К чему эти примеры? Можно бы сказать проще: мол, Гроховский умел подбирать себе помощников. В примитивном виде это правильно. Но не это ли объясняет, что ожидает дело — удача или провал? Не там ли создается почва для «произрастания» удачи, где руководитель вовремя усмотрит необходимость и не поленится сделать все нужное для ее удовлетворения? Организаторские способности — это талант, и одним из проявлений такого таланта является способность доверять, вовремя поощрять интерес и усердие.
И у Гроховского случались срывы… Мог накричать во гневе, не разобравшись, наказать. Но резок и нетерпим он был к критикам со стороны, и с их рангами не считался. К своим работникам, тем, кто старался, но у кого не получалось, относился иначе, выговаривал им так:
«Как же ты не смог? Ай–яй–яй! Что же, характера у тебя не хватило? А вот так пробовал?.. А так?.. Ну, иди, еще раз помозгуй, посоветуйся с такими–то и сделай как нужно. Не вешай голову, у тебя получится!»
Это желание «не сбивать с ног» при неудаче, не унизить в человеке личность, ободрить, внушить веру в себя — действовало благотворно.
Все основные сотрудники Гроховского эпохи 30–х годов, не погибшие на войне, выросли и стали видными деятелями науки и техники. Как он и предсказывал, они превратились в маленьких или больших начальников для других людей.
Встречаясь с ними, я заметил, что пережитые некогда по вине Гроховского мелкие обиды не вспоминаются, потому что причинялись они во имя дела, которое вместе с ним мы делали.
ГИБЕЛЬ АНИСИМОВА
Как и все на Центральном аэродроме, я знал, что Анисимов и Чкалов — давнишние и искренние друзья. Однокашники по летному училищу, они вместе служили в частях, судьба не разлучала их и дальше, предоставив обоим поприще испытательной работы; каждому из них выпали дела большой, можно сказать, исторической значимости. Имя Чкалова сохранилось в народной памяти. Анисимов остался в тени лишь потому, что не успел сделать того, что мог бы.
Равные мастера своего дела, они соревновались в нем, гордились друг другом, и в то же время между ними шел непрерывный жаркий спор.
Предметом спора являлись взгляды Анисимова на полеты как на чистое и благородное искусство рыцарского воздушного боя, о чем я упомянул ранее. Эти суждения, как я теперь понимаю, были ни чем иным, как своего рода бравадой, ибо Анисимов, в сущности, занимался такой же «черной» работой, как и Чкалов. И выполнял эту работу великолепно — и как мастер, и как патриот.
Напомню, что все, кто называл КБ Гроховского «цирком», пребывали в уверенности, что рано или поздно его эксперименты закончатся катастрофой. Ее не произошло потому, что самые опасные задания выполнял в воздухе Анисимов.
В спорах Чкалов горячился, но, как правило, сохранял большее хладнокровие и, случалось, «заводил» своего друга, что называется, с пол–оборота. Анисимов распалялся, краснел до корней волос, переходя вместо доказательств на фольклорную лексику. Понимая, что в споре фольклор не заменяет аргументов, он предпочитал вести словесные поединки с Чкаловым без свидетелей.
После описанного мной «угона» ТБ–3 Гроховский выполнил свое: «Саша! Я этого не забуду!», и стеной стал на защиту Анисимова перед Алкснисом.
Тот и сам высоко ценил Анисимова — одного из лучших летчиков страны. Поступок его остался без видимых последствий. Однако ведущую пятерку истребителей на первомайских парадах, как я уже сказал, стал возглавлять другой летчик.
Описанные ранее его взлеты с переворотом вверх колесами, отвага при опасных испытаниях объектов Гроховского, помимо всего прочего, служили и стремлению Анисимова удовлетворить свое честолюбие. По крайней мере, я думал об этом так.
Однажды в знойный августовский день 1934 года я забежал в прохладу аэродромной парикмахерской и почувствовал, будто влетел в грозовое облако. Между единственными клиентами, которых я застал, — Чкаловым и Анисимовым, фигурально выражаясь, пролетали молнии разрядов.
Анисимов со свекольно–красным лицом сидел в кресле, а Чкалов расхаживал за его спиной.
Оба видели друг друга в зеркало.
Чкалов был в белой майке с короткими рукавами и черных брюках, Анисимов — в военной гимнастерке с двумя «шпалами» в петлицах. Он ерзал в кресле, как будто сидел на гвоздях, уклонялся от бритвы парикмахера, выкрикивая свое, пронзал оппонента «бешеными» глазами.
Разговор шел о чем–то серьезном для обоих. Мне показалось, что на этот раз Валерий не заводил, не разыгрывал своего друга. В его словах с характерным нажимом на «о», в низком басовитом гудении голоса слышались огорчение и досада.
Из немногих фраз, какие я успел услышать, запомнились такие:
Чкалов: Ну, парень, ты заврался! Какая же это, к черту, смелость? Пустое и вреднейшее тщеславие, вот что это такое! Боишься, что не успеешь доказать, какой ты ас…
Анисимов возмущенно перебивал его тирадой, из которой я могу воспроизвести лишь следующее: «Сашку Анисимова знают, ему доказывать нечего!..»
Чкалов: Откалывать такие номера большого ума не надо. А что докажешь? Убьешься по–дурному, никто доброго слова не скажет' Для чего форму носишь — думал?
Анисимов; Не радуйся, не убьюсь! Буду летать до пятидесяти, а там посмотрю — жить или застрелиться!
Ему было только тридцать восемь. Пятьдесят казались далекой старостью, а жизнь без «воздуха» немыслимой. Он летал, как птица, и не верил, что «воздух» когда–либо подведет его.
Далее разгорелась такая словесная перепалка, при которой третий, если не дурак, должен был понять, что он лишний, и я предпочел удалиться.
В один из ближайших дней, возвращаясь из полета, я увидел истребитель Анисимова в воздухе. Заруливая на стоянку, я вдруг почувствовал резкие толчки ручки управления. Обернувшись в сторону сопровождавшего мой самолет Островенко, я увидел, что он с искаженным в крике лицом одной рукой трясет элерон, а другой показывает на старт. На летном поле в клубе пыли из хаоса обломков торчал хвост красного, до боли знакомого И–5. К нему со всех сторон бежали люди и мчались машины. Митя побежал тоже, а следом, выключив мотор, и я. То, что увидел, трудно и не нужно описывать. Сознание не могло смириться с тем, что разбился человек, каждая клеточка которого жила для полета…
Вот какую версию я тогда услышал.
Французская кинофирма «Ша–Нуар» («Черная кошка») снимала не то учебный, не то трюковый фильм.
Анисимов напросился на съемки и получил на это разрешение «свыше» — не от Гроховского.
После выполнения каскада фигур на низкой высоте то ли по уговору, то ли по своей инициативе Анисимов, заходя на посадку, ввел машину в «мертвую петлю» и завершил ее на высоте бреющего полета. Без перерыва он выписал петлю второй и третий раз. Как бы три воздушных обруча были поставлены на землю возле посадочного знака. Это эффектное зрелище закончилось бы благополучно, если бы не та самая случайность, которая постоянно подстерегает нас на дороге жизни. К моменту выхода из третьей петли произвел посадку самолет Р–5 с курсантами Воздушной академии и не торопясь развернулся в сторону нейтральной полосы. Траектория выхода истребителя Анисимова из петли пересекала линию руления этого самолета. В последней четверти петли, находясь под крутым углом к земле, Анисимов, видимо, увидел, что столкновение неотвратимо. Он «дал ногу», чтобы обойти возникшее препятствие, но резерва высоты не было…
Мне выпал печальный жребий быть распорядителем на похоронах своего учителя.
На долгие годы запах кумача стал непереносим для меня, как запах смерти и тлена. Запомнился Чкалов в белой вышитой косоворотке под синим пиджаком. Горестно понурясь, он стоял в почетном карауле, ничего не видя.
В глазах этого отважного человека стояли слезы…
ВДВ — НОВЫЙ РОД ВОЙСК
Отвага не существует сама по себе. Ее рождает борьба. За жизнь, за правду и справедливость, за новые знания.
Вся история советского народа за истекшие 50 лет — это история наивысшего напряжения человеческой отваги в борьбе за умную и справедливую жизнь для всех.
Мой рассказ приоткрывает малоизвестную, начальную страницу одного отважного дела нашей эпохи, связанную с созданием в нашей стране воздушно–десантных войск.
Вот что случилось однажды…
Была темная ночь и тревожная тишина. Лишь изредка в небо поднимались ракеты, да кое–где возникала скоро утихавшая стрельба.
С наступлением утра начнется «сражение», в котором примут участие многие тысячи людей. Сейчас они спят или бодрствуют, смотрят сны или штабные карты, пишут последние перед «боем» письма или приказы.
Глубоко в тылу одной из армий, где люди жили, не слыша гула орудий, и сейчас крепко спали, предрассветные сумерки наполнились шумом моторов. На лесные поляны, на луга, на окраины спящих поселков опустились воины на парашютах.
Как капли дождя, сливаясь, образуют ручейки и, повинуясь законам тяготения, бегут в реки, так и люди, «упавшие» с неба, сливались в группы, подразделения и части. У них были свои законы тяготения — воинская организация. Вместе с воинами с неба «упала» техника: оружие и орудия, закованные в броню самодвижущиеся колесницы — танки, мощные тягачи и автомобили.
Это был первый в истории воздушный десант. Десантники, бесшумно сняв охрану, захватывали аэродромы «противника» и принимали на них свои самолеты с подкреплением, блокировали шоссейные и железные дороги, громили тыловые штабы, базы снабжения и узлы связи.
В течение нескольких часов фронт «противника» был оторван от своего тыла, ослеплен и деморализован. Исход дневного «сражения» был предрешен.
Все это произошло на маневрах Красной Армии осенью 1935 года.
Таким был результат длительных и умных усилий множества людей, думавших о победе на войне, которая стояла у порога.
Для наблюдателей со стороны это было как гром среди ясного неба. Наблюдателей было много. Их пригласили на маневры из ряда стран капиталистического мира. Чтобы видели, чтобы знали: у нас есть сила, которой нет у них. Что привычные понятия «фронт», «позиция», «тыл» уже утратили монополию незыблемости. Что появилась могучая, мобильная сила для войны на территории противника.
Вылощенные, надменные военные атташе капиталистических стран были ошеломлены. Они увидели армию, которая смогла в один день высадить в тылу «противника» пять тысяч бойцов, вооруженных современной подвижной боевой техникой.
Это событие произвело эффект необычайный. Было понятно главное — с такой армией надо считаться всерьез!
До маневров все работы конструкторского бюро Гроховского были строго засекречены. На маневрах было показано почти все. Чем это было вызвано?
Война стояла у порога Европы. Хорошо известно, что Гитлер, не жалея красок, рекламировал ее как войну на Востоке. Его собственная программа, выраженная в книге «Майн кампф» («Моя борьба»), годами воспитывала немецкий народ в этом направлении.
Конечно, Советское правительство, наша дипломатия делали все, чтобы, насколько возможно, оттянуть неизбежную войну с гитлеровской Германией. Как известно, эта цель была достигнута.
Не следует ли, кстати, поставить в причинную связь и эти два события — эффект Киевских маневров и этот поворот острия войны? И не следует ли вспомнить известный афоризм Наполеона, что «бог всегда на стороне сильных батальонов»? Не создалось ли после этих маневров у гитлеровских советников впечатления, что у России слишком сильные батальоны для того, чтобы с нее начинать борьбу за мировое господство?
Вот как подытожил достигнутое бывший в те годы наркомом обороны К. Е. Ворошилов. В своей речи на совещании стахановцев он сказал, а газета «Правда» 20 ноября 1935 года напечатала:
«Парашютизм — это область авиации, в которой монополия принадлежит Советскому Союзу. Нет страны в мире, которая могла бы сказать, что она в этой области хотя бы приблизительно равняется с Советским Союзом. Героических людей, людей, способных на подвиги, на свете много. Они имеются и в буржуазных странах — и за океаном, и на Европейском континенте. Но не найдется в этих странах десятков и сотен тысяч людей, которые парашютизм полюбили бы как свое родное, необходимое дело.
В этом году на Киевских маневрах мы были свидетелями, как одновременно были сброшены 1200 парашютистов, как в течение сорока минут, кроме того, был высажен десант из 2500 бойцов на самолетах. При этом присутствовали представители Франции, Германии, Чехословакии и Италии.
В это же время в одном из соседних округов было сброшено одновременно не 1200, а 1800 человек, а высажено не 2500, а 5700 человек.
Должен сказать вам, товарищи, что парашютное дело — это одно из наиболее тонких и технически сложных искусств — освоено Красной Армией, освоено не только как спорт, закаляющий мужество, а как важная отрасль нашей боевой мощи…
18 сентября 1935 года на второй странице «Правды» под заголовком «Руководители иностранных военных делегаций о маневрах» было напечатано: «Зам. нач. Французского генштаба генерал Луазо: Парашютный десант большой воинской части, виденный мною под Киевом, я считаю фактом, не имеющим прецедента в мире. Это не просто массовый смотр парашютистов, являющихся квалифицированными и организованными бойцами, они ведут бой уже через несколько минут после высадки на землю. Удивительный, новый род войск!»
Глава итальянской военной делегации генерал Монти сказал:
«Кроме того, я буквально в восторге от применения воздушного десанта, допускающего в условиях широких пространств перенос боевых действий в глубокий тыл противника. На меня произвели впечатление ловкость и искусство, с которыми парашютисты выполнили такую ответственную и трудную операцию».
Очевидец этих маневров британский генерал Уэйвел (позднее фельдмаршал) на следующий год после аналогичных маневров, в ходе которых были десантированы 1800 парашютистов и 3000 пехотинцев, докладывал британскому правительству:
«Если бы я сам не был свидетелем этого, я бы никогда не поверил, что подобная операция вообще возможна!» (А. Гове, «Внимание, парашютисты!», 1954.)
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ…
СТО СТРОЧЕК ПУБЛИЦИСТИКИ
Тысячелетиями развивались такие рода войск, как пехота, артиллерия и конница. XX век дал армиям мира авиацию, танки и воздушный десант. Родиной, давшей миру авиацию, признается Франция, Америка заслуженно чтит имена братьев Райт — они первыми поднялись на моторном аппарате тяжелее воздуха. Англичане гордятся созданием танков, и никто не посягает на их приоритет.
Советская Россия первой создала воздушный десант, но об этом знают немногие посвященные.
На развитие и превращение самолетов и танков в самостоятельные рода войск потребовались десятилетия. Достойно изумления, что воздушно–десантные войска из идеи в материальную силу превратились всего за пять лет. Это было конкретным воплощением лозунга коммунистов «Догнать и перегнать!», точно определившим задачу партии в технически отсталой стране. Что касается воздушно–десантных войск, этот лозунг был осуществлен очень ко времени. Быть может, именно это и дало нашей стране еще несколько мирных лет.
В силу многих обстоятельств наши ВДВ в начале войны не сыграли той роли, какую от них ожидали в 1935 году. ВДВ фашистской Германии, переняв наш опыт, провели более эффектные операции, в том числе и на нашей территории.
Почему это произошло?
Прошло достаточно времени, чтобы высказать беспристрастные оценки. Трудно понять, почему до сих пор в академиях не нашлось адъюнкта, пожелавшего разработать эту тему. Сотни трудов посвящены полководцам древности, а вот при каких условиях, кто впервые указал на возможность применения «крылатой пехоты», когда и кем разработаны основные технические средства переброски по воздуху «живой силы» и тяжелой боевой техники — об этом впервые сказано лишь в 1968 году в книге И. И. Лисова «Десантники».
Для меня история Советской Армии — это опыт жизни моего поколения, в том числе и мой личный опыт, С позиций этого опыта я и пытаюсь осмысливать ее. Сегодняшние ВДВ Советской Армии стали тем, о чем мы мечтали в 30–х годах, во имя чего работали, а многие и многие отдали жизнь. Имена Тухачевского и Гроховского должны звучать для советских людей так же, как имена братьев Райт — для американцев.
Развитие цивилизации показало, что идеи, созревающие для практического применения, носятся в воздухе, Если они погибают в одном месте, то обязательно возникают в другом. Между народами, как и между людьми, идет творческое соревнование в «производстве» идей. Успех в таком соревновании социалистических стран со странами капитализма укрепляет материальную базу социалистической идеологии. Восприимчивость к новым идеям — один из показателей общей культуры народа.
Писатель Лев Гумилевский выполнил огромную и полезную работу, собрав в своей книге все об изобретениях и изобретателях прошлого. Настало время появиться другому писателю–инженеру для подсчета потери идей в наше время. Ведь это тоже «утечка умов»! Это накладные расходы на консерватизм, неповоротливость, бескультурье — еще не совсем изжитое наследство «проклятого прошлого». Такая книга должна стать настольной для всех людей техники и особенно тех, кто отвечает за технический прогресс в стране. Эта книга должна стать предупреждением о бдительности. Изобретательская мысль соотечественников не должна рассеиваться в мировом пространстве так же, как исчезает в нем тепло Земли.
Гроховский посвятил свою жизнь армии и неустанно думал о ее боеготовности. И придумал то, что совпало с исторической необходимостью. И вновь я возвращаюсь к тому, с чего начал, — к характеру человека.
В своем окружении я видел немало одаренных, на мой взгляд, даже талантливых людей, чья жизнь прошла тускло. Она затрачена на борьбу за такие цели, которые лишь к старости ощутились как ничтожные. Почему же не расцвели и не дали плодов таланты? Больше всего потому, что не хватило характера для борьбы со своими слабостями и для преодоления внешних препятствий.
Я знал и других, менее талантливых, но воспитавших в себе сильный, целеустремленный характер. Гроховский — один из них. Сила его характера — в идейной убежденности, в настойчивости и отваге в борьбе за новое знание. На этой базе развивалась и его творческая одаренность. Поддержка виднейших деятелей нашей армии явилась закономерным результатом. А ему было всего лишь тридцать лет! Не дает ли это надежду молодым людям нашего времени, что признание — это вопрос времени?! Было бы что признавать! Правда, часто в борьбе, но все общественно полезное рано или поздно находит признание.
Обычно лишь на склоне лет мы приходим к пониманию коренных ошибок своей жизни. Хотелось бы, чтобы это признание стало предостережением тем, кто только начинает жизнь. Хочется воскликнуть: «Люди! Смолоду выбирайте достойную цель и дорогу к ней! Не преувеличивайте препятствий! Главное из них — в нас самих. Воспитывайте свой характер! Никто другой из вас этого не сделает.
Поступая так, вы проживете долгую и красивую творческую жизнь. А если долголетие вам не суждено — вашу жизнь продолжат ваши дела».
КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Пришло и для меня неизбежное: свертывать паруса и опускать пенсионный якорь. Нелегко отрешаться от мысли, что мог бы сделать больше, и не скрою, на некоторое время мною овладело уныние. Чем же я буду жить? Неужели только оглядываться на прошлое? Неужели участь потребителя для меня единственно возможная и неизбежная? Да нет же! Не дело сдаваться на милость атаке лет!
И я намеревался искать другую работу по силам и по сердцу. Но произошло событие, опечалившее меня и направившее мою мысль в неожиданную сторону. Полярная авиация, в которой прошла большая часть моей летной жизни, перестала существовать как самостоятельная организация профессионалов Арктики, Не стану спорить, быть может, это и оправдано ходом жизни, но опечалило то, что вместе с организацией могут исчезнуть и ее традиции. Обидно, что может исчезнуть и память о коллективном подвиге покорения Арктики, совершенном в первой половине XX века. Много поистине талантливых людей участвовало в этом подвиге, но почему же никто из них не оставляет хотя бы скромных записок о сделанном? Как все это начиналось, как выглядела освоенная теперь Арктика, какие люди участвовали в этом освоении? Хотя вначале казалось нам, что жизни нашего поколения на это не хватит.
— А не можешь ли это сделать ты? — Задал вопрос сам себе. И ответил: — Попробую, раз никто не берется. Кому–то надо начинать!
И вот перед вами результат этой пробы.
Каждый из нас, действуя в Арктике, брал пример с кого–то. Так уж заведено у людей, что один учится у другого, более мудрого или более отважного. В моей судьбе, теперь уже можно сказать — счастливой судьбе, большое значение имело то, что отваге, твердости характера и многому другому я учился в коллективе Гроховского.
Где он? Что с ним сталось?
ЕГО ДОБРОЕ ИМЯ
Более двадцати лет имя Гроховского нигде не упоминалось. Когда эта повесть была написана для первого издания, люди нового поколения оказались вынужденными проверять истинность моего рассказа. Мало ли что придумает какой–то летчик! Запросили командование ВВС, и по его поручению широко известный деятель науки, современник Гроховского и лично его знавший, объективно подтвердил все главное в моем рассказе. А тут обнаружилось еще одно авторитетное свидетельство. В книге генерал–лейтенанта А. И. Тодорского о маршале Тухачевском на странице 87 оказался такой абзац:
«Советская Армия была первой из всех армий мира, применившей десант на практике. Тухачевский упорно занимался авиадесантным делом и оказывал большое содействие инженеру–энтузиасту Гроховскому».
Моим изысканиям повезло в том смысле, что в прошедшую бурную эпоху уцелели самые первые, самые близкие соратники Гроховского. Мы вспоминали, каким он был. Соглашались друг с другом, что у него имелись простые человеческие слабости. Кого–то не оценил, к кому–то был невнимателен, в чем–то поступал не так, как надо безупречному герою. И все мы удивлялись, что у нас стерлось индивидуальное отношение к нему. В свете того дела, которое выросло благодаря его трудам, на которое он поднял и нас, кажутся недостойными его памяти отдельные недостатки его личности.
По крохам я собирал то, что находил в документах, что знал сам, что вспомнили товарищи. Но я рассказал лишь малую часть, назвал слишком мало людей, причастных к делу ВДВ. Деятельность нашего КБ и его начальника была плодотворной не только для возникновения ВДВ.
В КБ Гроховского впервые стали разрабатывать идею К. Э, Циолковского о движении на воздушной подушке и на подводных крыльях.
Я уже сказал, что 38 из 72 изобретений Гроховского защищены авторскими свидетельствами, что авторитетно доказывает его личную одаренность. Сейчас хочу отметить еще одну чрезвычайно важную черту его личности: в его КБ находили «посадочную площадку» изобретатели, которых нигде больше не признавали.
Я просто не в состоянии перечислить все идеи и всех изобретателей, которые находили приют и помощь в нашем КБ. Оставлю эту тему для другого автора. В заключение отмечу еще одну важную идею, предложенную самим Гроховским, — идею бомбометания с пикирования. В 1935 году летчик Алексей Ширинкин испытал этот метод на практике. С самолета Р–5 он неоднократно клал в цель бомбы по 250 кг.
В начале 1935 года вместе со своим другом бортмехаником Островенко я ушел в полярную авиацию. Как выяснилось, это было призвание. Мы с Митей прошли по белым полям Арктики и Антарктиды, и там остался след нашей жизни. Пришлось испытать немало всякого, и я с благодарностью вспоминаю человека, который, сам того не подозревая, помогал мне выстоять в трудных обстоятельствах. Часто мне вспоминались слова, сказанные когда–то Гроховским: «Это нужно нашей Родине. Помни об этом, и тебе не будет страшно в минуту опасности!»
Так мог сказать только патриот и настоящий коммунист. Только теперь я в состоянии по–настоящему оценить силу горения этого человека, заставившего гореть и нас. Только теперь с достаточной ясностью вижу, что он сделал для Родины.
* * *
Прошло тридцать лет. Это были грозовые годы, и мы горды тем, что были в общем строю в дни тягчайших испытаний. Мы теряли друзей–товарищей, и время серебрило наши головы. И мы, и те, кого уж нет, — каждый делал что мог. Каждый мог немного, а все вместе мы сотворили чудо. Новому поколению мы передаем то, чем гордимся по праву.
Мы делали ошибки потому, что шли неизведанным путем. Но мы же накопили опыт, который позволит избежать наших ошибок грядущим поколениям. И хочется сказать тем, кто нас сменил: придет и ваше время подводить итоги жизни. Помните об этом! Помните, что творимое вами стоит на фундаменте, созданном предыдущим поколением, как и то, что создадите вы, будет фундаментом для ваших детей. Уважайте прошлое—оно ВАШЕ!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЦЕНА ОПЫТА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
ПОДВИГ ОТТО КАЛЬВИЦЫ
Я держу в руках роскошно изданное Аэрофлотом расписание движения самолетов на воздушных линиях Магаданской области. Воздушные линии пронизывают Магаданскую область, как кровеносные сосуды живое тело. Они доходили даже до таких ранее глухих углов, как Еропол, Чуванское, Ламутское, Омолон. Мне выпало счастье быть одним из тех, кто прокладывал первые тропы ко многим из пунктов, куда сейчас регулярно летают летчики нового поколения. В виде наставлений и всех форм обеспечения безопасности они имеют готовый опыт, за который нередко платили жизнью разведчики–одиночки.
Тех, кто первым идет по неизведанному пути, называют пионерами. Я и мои товарищи сделали немало пионерских полетов в чукотском небе. Но не мы были первыми. Поэтому на мне лежит долг рассказать о труде тех, кто сам о себе рассказать не может. Очень долго, по крупицам я собирал сведения о наших предшественниках.
Первым летчиком, поднявшим в небо Чукотки аппарат тяжелее воздуха, был Отто Артурович Кальвица. Финн по национальности, стойкий коммунист, он нашел вторую родину в Советской России и самоотверженно служил ей всю свою короткую и яркую жизнь. Он прожил в России всего десять лет и все эти годы сражался на переднем крае. Ему выпала честь выполнять особое задание Советского правительства по установлению Советской власти на острове Врангеля. Со своим маленьким Ю–13, доставленным в 1926 году на пароходе «Ставрополь», он оказался участником исторической полярной экспедиции, которой руководил Г. А. Ушаков.
Самолет был снят с парохода и на понтоне из двух корабельных шлюпок благополучно доставлен в бухту Роджерса. Матросы помогли механику Леонгарду навесить крылья и «отгонять» мотор. На следующий день Кальвица сделал пробный полет. На высоте десяти метров мотор неожиданно стал. Пришлось тут же садиться. В конце пробега левый поплавок задел за подводную часть «стамухи» {6}, самолет развернулся на нее, и с треском разлетелся конец винта. Пробитый поплавок набрал воды и затонул, машина легла крылом на воду.
Кальвица, Леонгард и десять моряков, по пояс в воде, спинами приподнимали крыло, чтобы поставить его на понтон. Наконец им удалось вывести самолет на ближайшую отмель. Кальвица отправил моряков на корабль отогреваться от ледяной ванны. Сам же развел из плавника костер на берегу, разделся догола, растерся спиртом. То же проделал Леонгард. Они выжали мокрую одежду, чуть прогрели ее над костром, оделись и стали немедленно выяснять причину происшествия. Разобрали половину мотора и увидели прогоревший клапан, согнутый шатун и разбитую крышку клапанного механизма. Уже одно это — много дней работы. Но главное — отсутствовал запасной винт. Кажется, все! Экспедиция кончилась, не начинаясь. Холодный липкий туман навалился с моря на бухту и на души авиаторов…
Прошло семь дней каторжного труда. Мотор полностью разобрали, заменили поврежденные части, заклепали поплавок, машину развернули на воду, запустили мотор и прирулили к будущей зимовке. Все эти дни Леонгард, Кальвица и двое механиков с корабля работали не покладая рук. Кальвица температурил, Леонгард еле перемогался, но они не могли поступить иначе — Чукотское море не место для прогулок. Выгрузка и сборка дома для зимовщиков закончились. Капитан не стремился провести лишние сутки у этих берегов. Летчик, превозмогая себя, работал до изнеможения. Этим он вдохновлял помощников. Но как же быть с винтом?
Мне неизвестно, был ли подобный случай в истории авиации, но Кальвица нашел выход. Он своими руками обрезал обе лопасти винта, выровнял здоровую по больной. Выровнял, отшлифовал, отбалансировал и сказал: «Двум смертям не бывать, одной не миновать!» Он понимал, что если завтра не сделает полета для Ушакова, то бездарное участие в столь трудном походе будет мучить его всю жизнь.
Пробный полет был совершен благополучно в день окончания ремонта. Винт тряс, но тянул, и машина взлетела. «Завтра кровь из носу, а будем летать! Спасибо, друг, что не подвел», — сказал Кальвица Леонгарду, думая то же о моторе и винте. На следующий, последний день стоянки корабля, когда третий помощник капитана «зачищал» коносаменты {7}, в построенном домике первый раз затопили печь. Кальвица сказал Ушакову:
«Если веришь мне и Леонгарду, если не боишься, то можешь посмотреть на свой остров!» На это Ушаков ответил; «Если бы мне совсем не надо было смотреть на него, то я бы все равно полетел с тобой, Отто, только из уважения к тому, что вы с Леонгардом сделали!»
Помолчав, он добавил; «Но мне чертовски интересно посмотреть, каков остров с высоты птичьего полета!»
По острову бродили волны тумана, порой они закрывали бухту и корабль на рейде, мелкая изморось оседала на крыльях и стекала струйками по ложбинам гофра. Кальвице было душно, во рту пересохло, бил озноб. Но он улыбался, боясь, что заметят. В первый же просвет самолет поднялся в воздух, он дрожал мелкой дрожью от больного винта, как его хозяин от температуры. Но оба упрямо и героически работали сверх сил. «Вот это жизнь! Люблю такую, от которой не заржавеешь! Давай крути, негодяй, крути! Довольно ты нас помучил!» — ликовал Кальвица.
«Так вот он каков, край света!» — думал Ушаков, жадно вглядываясь в открывающиеся дали.
Впервые глазам человека открывалось экзотическое великолепие недоступной горной страны в кружевном поясе вечно дрейфующих льдов. Поднималась завеса таинственности, созданная воображением исследователей прошлых времен. Земля, которую он видел с самолета Кальвицы первым всю, лежала перед ним такая же, как любая другая, — без романтического ореола.
Случилось это 11 августа 1926 года.
Туман среди дня рассеялся, показалось солнце. Два раза садился Кальвица заправляться. Он облетел весь остров. Когда самолет сделал последнюю посадку, солнце уже было за горами на севере, и дымчатая мгла затянула ущелья. У Отто хватило сил явиться к прощальному ужину в кают–компанию корабля, где собрался командный состав экспедиции. При его появлении старый капитан, а вслед за ним и все командиры встали…
ХРОНИКА ЭКСПЕДИЦИИ НА ЧУКОТКУ
В 1927 году была организована воздушная экспедиция для изучения условий полетов от устья Лены до Иркутска. Она следовала из Владивостока Чукотским морем на пароходе «Колыма». На палубах было два гидросамолета — Ю–13 и «Савойя». 15—17 июля оба самолета сделали перелет от мыса Северного до острова Врангеля. Благополучно возвратившись, они были вновь погружены на «Колыму» и отбыли по назначению. Эти полеты сделали летчики Э. М. Лухт и Е. М. Кошелев с бортмеханиками Ф. М. Егером и Г. Т. Побежимовым.
В 1928 году Г. Д. Красинский организует широко задуманную воздушную экспедицию на самолете «дорнье–валь». Из Владивостока планировалось пролететь до Берингова пролива, далее по всему северному побережью до Архангельска, оттуда на Ленинград. Кроме Красинского, в экипаж входили пилоты А. А. Волынский, Е. М. Кошелев, штурман Н. Н. Родзевич и бортмеханик Борисенко. Впервые был преодолен неизученный и трудный путь над Беринговым морем до берегов Чукотки. Но в Колючинской губе при вынужденной посадке из–за плохой погоды «Советский Север» (так назывался самолет) потерпел аварию, его экипаж с большими трудностями добрался до жилья.
Красинский организует новую воздушную экспедицию в 1929 году. Самолет должен был пройти северным побережьем от Берингова пролива до устья Лены. Капитан Кондратьев на пароходе «Лозовский» доставил в бухту Святого Лаврентия четырехместный пассажирский самолет В–33. В его экипаж, кроме Красинского, входили летчик Кальвица и бортмеханик Леонгард. С 26 июля по 7 августа Кальвица великолепно прошел чукотский отрезок маршрута, приземлившись в устье Колымы. 18 августа Кальвица закончил экспедицию в Булуне (низовья Лены). Этот перелет занял чуть меньше месяца. По тем временам это было выдающееся достижение.
Через три года Кальвица и его бортмеханик Леонгард разбились на Лене. Можно сказать, что наряду с Б. Г. Чухновским Кальвица был основателем племени крылатых землепроходцев XX века.
Чукотское море — суровое море. В нем не раз разыгрывались трагические для моряков события. Так, в 1929 году около мыса Северный были затерты льдами советский пароход «Ставрополь» и американская шхуна «Нанук» промышленника Свенсона. Чтобы спасти пушнину, Свенсон вызвал американских летчиков, а для вывоза зазимовавших пассажиров «Ставрополя» Советское правительство направило два самолета в бухту Провидения. 10 ноября знаменитый американский летчик Бен Эйльсон на подходе к мысу Северный попал в пургу и потерялся. 15 ноября ледорез «Литке» выгрузил на пустынном берегу бухты Провидения звено самолетов. Эти события разворачивались параллельно и независимо друг от друга. Но вскоре им было суждено переплестись. На советских самолетах были летчики «Добролета» М. Т. Слепнев и В. Л. Галышев, бортмеханики Ф. Б. Фарих и И. М. Эренпрейс.
Из–за большого количества неполадок со старыми изношенными самолетами вылететь к месту событий оказалось возможным лишь в конце января 1930 года. Радио не было, и до них случайно дошла весть о катастрофе Эйльсона только 28 января. Но уже на следующий день оба самолета долетели до мыса Северный. Сюда же прилетели и американские летчики, посланные на розыски пропавшего товарища. Слепневу пришлось переключиться на поиски погибшего американца, а на вывозке пассажиров «Ставрополя» остался самолет Галышева. Пока Слепнев искал Эйльсона, Галышев вывез больных пассажиров «Ставрополя» в бухту Св. Лаврентия. Это был первый полет через Чукотку.
Место катастрофы самолета Эйльсона было обнаружено в устье реки Амгуэмы, в ста километрах восточнее мыса Северный.
В 1931 году, насколько я мог выяснить, полетов в небе Чукотки не было. Зато следующий год ознаменовался несколькими полетами выдающегося значения.
Следует напомнить, что в ту пору заканчивалась первая пятилетка, страна делала большие закупки за рубежом, оплачивая их золотом. А тут геологи определили, что Колыма имеет богатые месторождения этого драгоценного металла. Нужно было доставить тяжелое оборудование для открытых уже золотых рудников Чукотским морем.
Возглавить экспедицию к устью Колымы поручили известному исследователю Арктики Н. И. Евгенову. Заместителем у него стал А. П. Бочек, а капитаном головного судна — ледокола «Литке» — опытнейший мореплаватель Н. М. Николаев.
Семь пароходов приняли во Владивостокском порту 12 тысяч тонн груза и около тысячи рабочих с семьями. В июле караван благополучно достиг кромки льдов, не доходя мыса Сердце–Камень, Чукотское море в том году было необычайно ледовитым. Почти не переставая, дул штормовой норд–вест, не позволяя льдам разойтись. «Литке» в течение месяца сжег весь бункер угля, безуспешно пытаясь найти хоть какую–нибудь щель для ввода каравана в лед. Кончался август. Моряки приуныли.
В эту пору на лагуну возле чукотского поселка Уэлен сел маленький гидросамолет типа «Савойя». Он был прислан для установления связи с островом Врангеля. Начальником этого перелета был Г. Д. Красинский, а летчиками Е. М. Кошелев и В. Н. Задков. Кошелев и Красинский сделали разведывательный полет вдоль побережья и обнаружили за мысом Сердце–Камень узкую береговую полынью, идущую в сторону Ванкарема.
Взрывчаткой, героическими усилиями людей и боками «Литке» была пробита ледовая перемычка, и караван вошел в эту щель. К концу августа караван оказался у мыса Северного, но дороги дальше опять не было.
И вот здесь произошло то событие, ради которого и веду рассказ об этом походе. Выпал ясный и тихий день. Корабли с притушенными топками сгрудились у кромки полыньи, окружавшей мыс Северный. На воду был спущен поплавковый самолет–разведчик Р–5, которым командовал морской летчик Александр Федорович Бердник. Ему предстояло решить судьбу полутора тысяч людей, с последней надеждой глядящих на его самолет.
Полынья была усеяна большими и мелкими обломками. Бердник знал, что достаточно поплавку его самолета на взлете или посадке повстречаться с одной льдинкой и неминуема авария, а может, и гибель. Но так же, как и Кальвица, он понимал, если сейчас побоится риска, то никогда не простит себе малодушия. Обращаясь к своему механику Н. П. Камирному, он сказал:
— Ну, Петрович, была не была, а лететь надо.
— Ну что ж, Николай Федорович! Я готов, а за мотор ручаюсь головой.
— Не обижайся, друг, но полетит Бочек. Взлет тяжелый, а его глаза в разведке нужнее твоих. Сделай милость, возьми матросов и на шлюпке осмотри акваторию вот в этом, западном, направлении. На замеченных льдинках ставь флажки, а в конце полыньи остановись — взлетать буду на тебя.
— А запуск?
— Вася Задков (другой летчик экспедиции) провернет винт, запустим! Сейчас мне важнее всего акватория, а тебе я верю как себе!
Бердник вместе с Бочеком произвели первую на востоке четырехчасовую ледовую разведку. К счастью для всех, проход для кораблей был найден, и они достигли заветной Колымы.
В 1933 году впервые для ледовой разведки Чукотского моря прилетел двухмоторный гидросамолет «дорнье–валь». Его командиром был Сигизмунд Леваневский. Для продолжения начатых работ в Анадырь приехала экспедиция Обручева — Салищева. Пароходом до Анадыря в распоряжение экспедиции прибыл трехмоторный поплавковый самолет ЮГ–1. Экипаж возглавлял морской летчик Ф. К. Куканов.
В этом же году через Чукотку совершал скоростной кругосветный перелет известный американский летчик Маттерн. Не долетев 150 километров до Анадыря, Маттерн потерпел аварию. Он летел один, без радио, и неизвестно, чем бы кончилась для него аварийная посадка в безлюдной местности. На его счастье, в этом районе работала экспедиция Обручева. Куканов заметил самолет, сделал невдалеке посадку и доставил Маттерна в Анадырь. На память тот оставил Куканову свое фото у разбитого «Века прогресса» (так назывался его самолет) с надписью: «Моему спасителю советскому летчику Куканову благодарный Маттерн».
По просьбе правительства США Леваневскому было поручено вывезти Маттерна в Ном на Аляске.
После возвращения из Нома Леваневский сделал лишь несколько полетов. Наступавшая зима вынуждала его вернуться на материк в то время, как на Чукотке назревали тяжелые события.
Из восьми кораблей, доставивших грузы Дальстроя в устье Колымы в 1932 году после вынужденной зимовки в Чаунской губе, только пять пробились в Берингов пролив и возвратились во Владивосток. Пароходы «Север», «Хабаровск» и «Анадырь» вторично зазимовали в припае у мыса Биллингса. На этих кораблях возвращались на материк 168 пассажиров, и для них не было ни зимней одежды, ни продовольствия. Пассажиров требовалось эвакуировать и рассредоточить по населенным пунктам Чукотки. Надо было вывезти и часть зимовщиков с острова Врангеля, где кончались жизненные запасы. Единственным самолетом, способным выполнить эти задачи, оказывался ЮГ–1 летчика Куканова.
Исходным пунктом полетов Куканова стал мыс Северный (см. карту). Двумя рейсами вначале Куканов завез на остров Врангеля продовольствие, медикаменты и боеприпасы, а с острова забрал зимовщиков. Вместе с эскимосами на пятую, вынужденную, зимовку остался лишь преемник основателя колонии Г. А. Ушакова — Ареф Иванович Минеев с женой, врачом Власовой.
Наступил октябрь. День — короче воробьиного носа, погода ненастная. Самолет, с самого начала имевший много дефектов, сильно подносился, и все же Куканов выполнил тринадцать рейсов с мыса Северного к зимующим кораблям. Он вывез 93 человека. Возвращаясь из тринадцатого полета, Куканов попал в снежный заряд и разбил свой самолет. Обидная авария накануне событий, которые сделали бы этого летчика главным их героем.
ЧЕЛЮСКИНСКАЯ ЭПОПЕЯ
Пароход «Челюскин» под руководством начальника Главсевморпути академика О. Ю. Шмидта при капитане В. И. Воронине совершал сквозной поход от Мурманска до Владивостока. Он должен был подойти к острову Врангеля, сменить зимовщиков и оставить снабжение. Но, благополучно пройдя большую часть пути, «Челюскин» не смог одолеть льдов Чукотского моря. Он не только не достиг острова, но и, поломав ходовые винты, дрейфовал в беспомощном состоянии.
13 февраля 1934 года «Челюскин» не выдержал очередного сжатия льдов и затонул. Это произошло примерно в ста километрах к северу от маленького чукотского поселка Ванкарем. Потерпевшие крушение моряки и пассажиры корабля в количестве 104 человек образовали лагерь. В течение двух месяцев к нему было приковано внимание всего цивилизованного мира. Многие полярные авторитеты зарубежных стран предрекали этим людям верную гибель. Ведь не единожды полярный лед хоронил не только одиночек, но и целые экспедиции.
Чукотка отрезана от материка огромными, малоосвоенными пространствами. От Владивостока до лагеря более семи тысяч километров. Но корабли в это время года могли пройти чуть больше половины этого расстояния, дальше путь преграждали льды. Авиационного пути на Чукотку не существовало. Отдельные летчики посещали ее лишь в летнее время. Опытных полярных летчиков считали по пальцам. Короче говоря, трудности были огромны, и все же люди не погибли. Советская Родина не оставила своих граждан в беде.
Следует заметить, что большую роль сыграла сплоченность самих челюскинцев. В кошмарных условиях двухмесячного дрейфа они не поддались отчаянию. Решающее значение в создании организованности и сознательной дисциплины, в воспитании выдержки, в сохранении веры в спасение имели личность и характер начальника экспедиции О. Ю. Шмидта. Наравне со всеми академик участвовал в авральных работах, в самые трудные часы сохранял спокойствие и ободрял приунывших. Действовала партийная организация, выпускалась стенгазета «Не сдадимся!», сам Шмидт читал разнообразные лекции. Благодаря искусству и опыту радиста Э. Т. Кренкеля лагерь имел бесперебойную связь с Москвой. За Кренкелем следили десятки штатных и сотни добровольных радистов–любителей, и любое его сообщение по цепочке немедленно доходило куда требовалось.
Советское правительство образовало комиссию по спасению челюскинцев во главе с видным деятелем Советского государства Валерианом Куйбышевым. Комиссия имела полномочия использовать все ресурсы страны, какие могут понадобиться.
И вот из Владивостока на пароходе «Смоленск» выехал отряд военных летчиков во главе с командиром звена Н. П. Каманиным. Добравшись до севера Камчатки, отряд, собрав свои самолеты (Р–5), полетел в Анадырь и дальше к месту событий. Самые опытные в то время летчики, знакомые с Севером, — Галышев, Водопьянов, Молоков, Доронин — вылетели из Якутска и Хабаровска в далекий путь. Слепнев и Леваневский на закупленных в Америке самолетах вылетели к лагерю со стороны Аляски.
Волнующие дни переживали советские люди, следя за продвижением летчиков и жизнью лагеря Шмидта. Первым достиг лагеря молодой летчик, впервые попавший в Арктику, А. В. Ляпидевский.
Это было 5 марта. Ликованию челюскинцев да всего советского народа не было предела.
Первым полетом Ляпидевский вывез десять женщин и двоих детей, освободив лагерь от самых слабых его членов. Во втором полете надо льдами против Колючинской губы сломался коленчатый вал одного из моторов, и самолет разбился в торосах.
Но вскоре подоспели другие летчики, и в начале апреля лагерь благополучно прекратил свое существование. Семь летчиков, принявших участие в спасении челюскинцев, получили звание Героя Советского Союза, положив начало награде, которой страна отмечает наиболее выдающиеся подвиги.
Челюскинская эпопея привлекла внимание советского народа к проблеме Арктики и значительно ускорила ее освоение.
ОСНОВАТЕЛИ
В 1934 году Чукотка представлялась далеким материком непознанного. Как молния в ночи, на единый миг ее лицо осветила челюскинская эпопея. Встретив своих первых героев, страна вернулась к очередным делам. И только в Главсевморпути помнили «крепкий орешек», о который моряки не раз ломали зубы. Управлению воздушной службы было поручено основать на берегу Чукотского моря «оседлую» авиацию, создать там надежную базу, где бы летчики могли жить и работать круглый год.
Но одно дело принять такое решение, а другое — его выполнить. Полярных авиаторов в ту пору было мало, а нужны они были везде. В Арктике шла большая разведка, начинались крупные стройки, и авиаторы ценились на вес золота.
Пришлось вербовать новичков. Только к сентябрю, когда северная навигация шла к концу, удалось наконец собрать группу охотников зимовать на «краю света». Это была молодежь — самому старшему едва исполнилось 29 лет. Кроме энтузиазма и молодости, у авиаторов не было ничего из необходимого для завоевания Чукотки. Никто из них не приближался к Полярному кругу ближе чем на тысячу километров. У них даже не было приличного летного стажа. Для компенсации этого недостатка к ним приставили «дядьку» из отставных военных летчиков И. Л. Павленко. На него возложили обязанности командира. А отставной механик А. П. Татаренко был назначен инженером. Житейский опыт этих «стариков» сыграл немалую роль на земле, но, как показало дальнейшее, в воздухе каждый летчик был, что называется, «сам себе агроном».
Вот они, первые смельчаки, основатели чукотской авиации: летчики Масленников В. И., Сургучев В. Л., Катюхов Г. И., Прокопов Л. К., штурманы Падалко В. П., Рубинштейн Л. М., бортмеханики Соколов Г. Г., Панков С. В., Гриченко А. А. и Феденко Д. А.
В конце ноября 1934 года пароход «Хабаровск», изрядно потрепанный штормами, бросил якорь в бухте Провидения.
Взорам молодых полярников предстал кусочек моря в плену у крутых сопок. Их вершины скрывались в низких облаках. В дождливой мгле еле просматривались противоположные берега. Норд–ост кудрявил бухту мелкими барашками. У ближнего берега сутулились два неприглядных домика. Горка сучанского антрацита, омываемая дождем и прибоем, блестела тускло и сиротливо. Ни единого яркого пятнышка в окружающей природе!..
Но отступать поздно! На каменистые откосы берега пароходные стрелы вынесли ящики с упакованными в них самолетами, хриплый звук сирены возвестил окончание разгрузки. Загремела в клюзах якорная цепь, и пароход растаял в сумеречной мгле.
На Чукотке была зима. Морозы сменялись метелями, а метели — туманами и затяжными моросящими оттепелями. На узкой подошве крутой сопки на полкилометра среди камней были разбросаны грузы отряда: бочки, мешки, всевозможных размеров ящики. Их надо было собрать, рассортировать, укрыть от заносов и от коррозии. Ничего нельзя было терять!..
По соседству с базой находились домики полярной станции. Они были малы, но на первое время там можно было обогреться, приготовить пищу и даже переночевать на полу. Но авиаторы были слишком гордыми, чтобы стать обузой зимовщикам. Они вывели самолеты из ящиков и приспособили эти ящики для жизни. Это была очень неприхотливая жизнь, полная трудностей. Надо было привыкать к темноте и тесноте, спать, не раздеваясь, забыв о кроватях, регулярной смене белья, надо было привыкать к угнетающему однообразию консервов и ежедневной, с непривычки изнурительной работе, невзирая на погоду.
Молодежь той эпохи вообще не была избалована радостями жизни, поэтому ребята безропотно исполняли распоряжение умудренного «дядьки» Павленко и во главе с ним постигли первую заповедь зимовки: «Если сам не сделаешь всего, что нужно для жизни, пропадешь!»
Ребята по очереди готовили на примусах пищу, изобретали отопление и освещение для жилища, делали из ящиков столы, стулья, тумбочки и многое другое. Они дежурили у самолетов, когда пурга грозила сбросить их в море, и ежедневно авралили, спасая привезенное пароходом имущество. Все это было трудно, однообразно, молодых авиаторов спасала романтика— они все время ощущали, что где–то рядом живут еще не раскрытые тайны и они доберутся до них, надо только выдержать!
Прошел месяц, другой. Имущество было приведено в порядок, стал привычным примитивный быт, в трудностях авиаторы закалились, но и затосковали от нетерпения. Они были летчиками. У них были самолеты, но не было аэродрома. Бухта не замерзала до середины февраля.
Узкая, круто падающая к воде кромка берега надежнее тюремных стен держала в плену всякого, кого захватила здесь зима. Это был незнакомый и суровый мир. В нем не было самого элементарного — земли. Как будто ее не хватило для сотворения Чукотки. А камню не хватило места на поверхности суши, и он вознесся к облакам могучими сопками. Цвета тусклого чугуна стылая вода, покрытая шугой, — граница с одной стороны, угрюмая каменная стена со снежными карнизами — с другой. Между ними сто метров битого камня, по которому не разбежишься. Горизонт, как и море, стиснут камнем. В редкие дни, когда не было облаков, солнышко проходило за каменной стеной, не поднимаясь над ней.
Авиаторов согревала надежда на базу. В их мечтах база на мысе Северном приобретала фантастические достоинства обетованной земли. Длинные зеленые тела фюзеляжей, укрытые чехлами, таили в себе радость освобождения из этого плена. На них смотрели с нежностью, за них боялись в пурговые дни, их берегли, как мать бережет ребенка.
В марте, когда бухта покрылась льдом и появились голубые поля в постоянно пасмурном небе, когда солнышко стало подниматься выше каменной стены, они выкопали из заносов фюзеляжи, вывели их на лед, навесили крылья и очень бережно облетали свои самолеты. Вначале из чувства осторожности они летали парами, совершая небольшие перелеты сперва до залива Лаврентия, потом до Уэлена, до Ванкарема и, наконец, до мыса Шмидта. Погода была милостива, они ни разу не потеряли друг друга, не попали в пургу. Так пришел день, когда весь отряд собрался на узком перешейке, разделявшем материк от двух мысов, глядящих на полюс.
Здесь они нашли приют: на «полярке» был свободный дом, и его охотно отдали летчикам, а их самих поставили на довольствие, которое обеспечивал настоящий повар. Правда, на зимовке не было угля, и дом пришлось отапливать керосинками, из–за отсутствия мебели спали опять на полу, но это было добротное человеческое жилище из проконопаченных бревен, с окнами, крышей, в котором держалось тепло и человеческий дух. А самое главное — баня. Настоящая русская баня с полком и паром. Мы многое не ценим, пока не утратим. Так и эти ребята впервые оценили по–настоящему великое благо цивилизации — баню. А база? Она оказалась мифом. Они застали на месте только фундаменты и часть стен. Но и это уже не огорчало. Теперь у них есть крылья, и не так уж много придется жить на базе.
Летчики отмылись, отдохнули и с начала апреля приступили к регулярным полетам. Вот с начала апреля 1935 года и начинается биография чукотской авиации.
ПЕРВЫЕ УРОКИ
Апрель на Чукотке — отличный месяц для полетов. Солнечно и тихо. Полеты шли без всяких недоразумений, порождая у летчиков пагубную самоуспокоенность. Они стали забывать, что находятся у «края света», о котором знают ничтожно мало. И природа не замедлила доказать это без всяких скидок на молодость и житейскую неопытность.
Первое крещение выпало на долю Виталия Масленникова и Вадима Падалко. Масленников летал в паре с Владимиром Сургучевым. Однажды они уже слетали из Провидения в Анадырь. Анадырские чукчи и камчадалы шили отличную одежду из оленьих мехов, а отряду надо было обмундироваться. А на этот раз задание было из Москвы. Большой арктический перелет совершал Водопьянов. На его пути в Анадыре не было бензина. Москва приказала отряду Павленко доставить бензин из бухты Провидения. Это задание было поручено Масленникову и Сургучеву. Однако в день вылета у Сургучева забарахлил мотор. Вадим Падалко, как старший, принял решение лететь. Забрав груз у Сургучева, Падалко и Масленников стартовали из Провидения на Анадырь.
Апрельская синева опрокинулась на землю. Перед авиаторами впервые открылся во всей своей красоте Анадырский хребет. С левого борта всегда хмурое море Беринга впервые лежало перед ними тихое и доброе до самого горизонта. Но, перейдя залив Креста (на старых картах значилось «Святого Креста»), Масленников вошел в какую–то «муть». Небо оставалось голубым, а линия горизонта приближалась с невероятной быстротой. Виталий оглянулся на Падалко (ведь он старший в полете), но тот работал ключом и не ответил на вопросительный взгляд. Масленников стал снижаться. Он продолжал видеть голубизну в зените, но как из колодца. Непонятные явления всегда таят в себе опасность. Осторожные избегают непонятного. Но осторожные лишены чувства любознательности. Масленников был не из их числа. Прошлый опыт научил его «арифметике» полетов. Как дважды два — четыре, так и в атмосфере: либо ясно, либо облачно, если ветер— нет тумана, если туман — тихо. Ему еще предстояло постичь следующее правило математики летания — что непроглядный туман может сочетаться со штормовым ветром, что может быть и пурга при голубом небе.
Вадим Падалко передал ему записку:
«В Провидении туман, видимость двести метров. В Анадыре полная облачность, слабый снег, видимость четыре. Думаю, надо пробиваться на Анадырь». Виталий только мог кивнуть головой в знак согласия. Выбора не было.
Он пошел бреющим полетом, мгла сомкнулась, закрыв небо. Стала ухудшаться и видимость земли.
В те времена, особенно в Арктике, авиаторы не знали никаких наставлений по полетам. Они только получали опыт, по которому позже будут написаны эти наставления. Теперь в авиации есть железные правила «минимума» погоды. Если нет этого минимума высоты и видимости, ни один летчик не рискнет нарушить наставления. Но в том полете Масленников не знал, что своим опытом создает понятие «минимума» для будущих летчиков. Он просто летел, пока видел землю. И пришел момент, когда дальше лететь было нельзя. Надо было немедленно развернуться на хорошую погоду, оставшуюся позади. Но нужный момент был упущен, и летчик в этом вскоре убедился. Надежда на удачу, благоволившую до сих пор, исчезла молниеносно, когда потерялась всякая видимость и даже возможность развернуться.
Поняв, что он «влип», Масленников как чуда ждал хоть малейшего просветления, чтобы выбрать место для посадки. Каюр, шофер, моряк — водитель любого вида транспорта в таком случае может просто остановиться. Летчик всегда вынужден лететь!
Самолет еще летел, по еле уловимым признакам летчик сохранял «пространственное положение». Но каждой клеточкой своего существа Масленников ощущал непоправимость ошибки. Опасность, неотвратимая, смертельная, кричала в нем, сжимая сердце холодной рукой. Только чудо могло спасти обреченный на гибель самолет. И это чудо свершилось! Во мгле Масленников благополучно приземлился, понятия не имея, где.
А штурман Вадим Падалко? Думая о его положении в этом полете, я вспоминаю многих и многих товарищей — штурманов, бортмехаников, бортрадистов, которые разделили участь своего летчика, бессильные чем–либо помочь ему в предсмертный час. Считаю, что Падалко чувствовал себя гораздо хуже. Он был уже «битым» авиатором. Он уже знал цену беспомощности, когда твоя жизнь в чужих руках. Единственное разумное, что он мог сделать в сложившейся ситуации, — это не «действовать на нервы» летчику в опасные минуты полета. И он мужественно ждал, готовый к любому концу. Ему было 29 лет, он на три года был старше своего летчика. И он был старшим в полете. К Масленникову он относился не как командир к подчиненному, а как старший брат к младшему, менее опытному. Он нес двойное бремя ответственности, как командир самолета и штурман. Если самолет не прибыл в пункт назначения при исправной матчасти, виновен штурман. Жестоко обвиняя самого себя, он мог лишь надеяться на милость судьбы.
К вечеру запуржило, и целых семь дней экипаж не имел ни малейшего представления о местонахождении. Правда, Падалко связался с Анадырем, сообщил, что самолет на вынужденной. Теперь надо было жить. Жажда жизни подсказывала, что делать, как выходить из положения. Летчики накрыли чехлом стабилизатор и под этим укрытием вырыли снежную яму. «Вырыли» — не то слово, так как лопаты, топора, ножа и многого другого у них не было. Но так или иначе они имели «жилище», в котором спали по очереди. Другой в это время следил за примусом. Ведь он горел под полотняной обшивкой стабилизатора.
Самолет занесло по самые крылья, и летчики не боялись, что его опрокинет ветер. В середине апреля сильных морозов не было, и они страдали не столько от холода, сколько от сырости, неподвижности и недостатка пищи. Харчей было мало, боясь, что их не хватит, они с первого дня жили впроголодь. Снежная нора от примусного тепла все время таяла, и, углубившись примерно на метр, летчики обнаружили под собой тундру.
На восьмой день пурга стихла. Когда небо прояснилось, летчики увидели холмистую равнину между двух горных массивов. Пеленгация при помощи ручного компаса показала, что на юго–востоке находится Золотой хребет, а на севере — горы Ушканьи. Сообщив об этом в Анадырь, экипаж стал подогревать воду, чтобы запустить мотор. На самолете была посуда для воды, которую как великую ценность сохраняли в жилой яме. Но в спешке не нагрели как следует воду, и мотор запустить не удалось. А к вечеру началась новая пурга. Только на четырнадцатый день вновь наступила хорошая погода, и уже обессилевший экипаж вновь попытался запустить мотор. На счастье, к этому времени в Анадырь прилетел Водопьянов. По указанным Падалко ориентирам он нашел самолет Масленникова, помог запустить им мотор и взлететь. Происшествие закончилось благополучно, но многому научило. Летчики на практике постигли вторую заповедь полярника: «Чтобы всегда возвращаться на базу — будь готов к вынужденной посадке». Только на вынужденной, на горьком опыте летчики узнали настоящую цену каждой вещи, без которой нельзя летать. Вплоть до примусной иголки!
Второе испытание выпало на долю летчика Катюхова. Это случилось во второй половине мая. Отряд осваивал трассу до мыса Шелагского, где требовалась помощь полярной станции. В одном из полетов отказал мотор. Сломался коленчатый вал. Здесь уже ничего не сделаешь. Случилось это в ясный день неподалеку от устья реки Лелеры. Катюхов, спасая самолет, спланировал на морской припай. Если бы он мог предположить, что будет дальше, то выбрал бы другое место — не такое удобное для самолета, но лучшее для экипажа. Перебираясь через забереги по пояс в воде, люди были вынуждены бросить большую часть поклажи, прихваченной с самолета. Когда вышли на материковый берег, оказались перед разлившейся рекой. До ближайшего поселка на мысе Биллингса было сто километров, и путь преграждала эта река. В поисках брода летчики пошли вверх по реке к горам. При попытке переправиться на одном из островов они застряли, как зайцы в половодье.
В меховых комбинезонах и унтах, промокшие, измученные, с запасом пищи из нескольких плиток шоколада, они прожили почти месяц. Самолеты Масленникова и Сургучева не смогли их обнаружить — так далеко они ушли от берега. Их нашел геолог Дитмар и спас от неизбежной гибели.
И этот урок дал опыт, ценой которого едва не стали две жизни. Авиаторы поняли, что не следует пренебрегать и качеством снаряжения. Одно дело «сидеть» на вынужденной, другое — двигаться по тундре. Нужна другая одежда, другое снаряжение (как они страдали от отсутствия рыболовных крючков!), другая упаковка НЗ.
Летчики отряда Павленко прожили на Чукотке девять месяцев. Они учились здесь жить, учились летать, накапливали опыт. Впервые одни и те же люди видели с воздуха не кусочки Чукотки, а облетали большую часть ее побережья, от Анадыря, через Уэлен до мыса Шелагского — без малого две тысячи километров! Они первыми летали над Чукоткой зимой, первыми в Арктике начали полеты на колесах. Все то, что мы называем «освоением», имело для авиаторов того времени большое самостоятельное значение, но вместе с этим они также впервые установили живую связь между далекими зимовками и оказывали им помощь доставкой врачей, медикаментов, некоторых продуктов и дефицитных товаров. В частности, по заданию Москвы они выполнили несколько полетов через пролив Де–Лонга на остров Врангеля. В том году на острове погиб врач зимовки Вульфович и несколько эскимосов. Проделанное отрядом Павленко с лихвой оправдало лишения и страхи, пережитые летчиками в начальный период.
Великая вещь в жизни — человеческое призвание. Бывает, что не встречаются они, Человек и его Призвание. На моей памяти через полярную авиацию прошли тысячи. Задержались в ней и славно поработали сотни. Немногие стали профессиональными полярниками. Но в составе отряда, который первым высадился на чукотскую землю осенью 1934 года, почти половина авиаторов всю остальную жизнь посвятила трудному делу освоения Арктики. Имена Масленникова, Сургучева, Падалко, Рубинштейна и Соколова вписаны в реестры многих славных дел на протяжении десятилетий. А Герой Советского Союза Виталий Иванович Масленников летал в Арктике полных тридцать лет. Только в 1965 году он с почетом вышел на пенсию.
Еще работают инструкторами штурманы Вадим Петрович Падалко и Лев Миронович Рубинштейн. Им есть что передать молодым авиаторам Арктики.
Размышляя о завидной судьбе этих людей, я думаю, что их встреча со своим призванием произошла в далекой бухте Провидения на Чукотке.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ИСПЫТАНИЕ ПРОЧНОСТИ
ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА
Сколько бы летчик ни летал, его всегда волнует полет над еще невиданной землей… Подо мной Чукотка. Огромная, бездорожная и почти безлюдная страна. Сейчас она покрыта снегом и закована морозом. Жизнь на ней—островками, и люди на них — как Робинзоны.
Негреющее солнце плывет невысоко над землей на юге. Низенький, иззубренный поясок далеких хребтов охватывает горизонт со всех сторон. Только позади — до самой Америки—холодное и пустынное Берингово море. Впереди, как хлебный мякиш на тарелке, занимая середину огромной равнины, темнеет хребет Рарыткин и Алганские горы. На их дальнем краю цель нашего полета — оленесовхоз «Снежное».
Смотрю на эту землю с особым чувством. Знаю, что над нею летали и до нас. Но то были «залетные» гости. Выполнив срочное задание, они улетали, ничего толком не узнав об этой земле. Мы первые будем обживать Чукотку ради тех, кто живет на ней. Зимой, весной, летом и осенью — круглый год! Кончилась эра экспедиционных налетов, мы — основатели оседлой авиации этой далекой страны. Год назад я читал в газетах о горестях отряда Каманина, летевшего спасать челюскинцев. Мне и в голову не приходило, что доведется увидеть эти исторические места. А вот пришлось! И чувство изумления перед превратностями судьбы заставляет оглядываться, запечатлевать все, что видит глаз. Кем же станет для нас сия «землица» — матерью или мачехой?
Сегодня роскошная погода. Такой видимости на материке не бывает. С высоты полета виден даже Пекульнейский хребет, а до него почти двести километров. Рядом, как на ладони, гора святого Дионисия, у которой в тумане разбил свой самолет каманинский летчик Демиров. А вот под нами тот мыс, где терпел аварию Бастанжиев. Чуть дальше мы увидим останки самолета американца Маттерна, пытавшегося совершить кругосветный перелет.
Аварии, поломки, разбитые надежды… Такой горестный опыт может вогнать в тоску. Не карты, а сплошные «белые пятна». Что ни хребет, то надпись: «Не исследовано». А главное — дьявольский климат. Если верить написанному — сплошные пурги, туманы, обледенения. В Москве казалось, что каждый полет здесь на границе подвига. А мы вот летим в ясном небе, в тишайшую «голубую» погоду, и не верится, что может быть иначе. Нет, ребятам просто не повезло! У нас все получится по–другому. Ведь мы знаем, что пережили они, первые поднявшиеся в это небо…
Примерно таким был ход моих мыслей, когда мы легли на курс от Анадыря. Стоял конец ноября 1935 года, и это был наш первый полет в глубь Чукотки. Мой командир Пухов и я летели парой на самолетах Р–5. Точно на таких же летели к челюскинцам летчики отряда Каманина. Правда, Водопьянов сделал из наших Р–5 мечту для летчиков того времени—первые в стране закрытые, обогреваемые в полете лимузины. Они имели багажники на крыльях, теплые чехлы, дополнительные баки, примусы для подогрева моторов. В общем, это были полярные самолеты, и летать на таком — удовольствие в любую стужу.
Мы вышли из зоны лимана, и глазам открылась реке Анадырь. Какая красавица, какой могучий поток!
Удивительно все же устроен мир! Где–то там, в далеких горных кручах, из недр земных пробился шустренький ручей. Он так мал, что его перешагнет ребенок. А здесь глаз человека, стоящего на земле, едва различает другой берег. Но как пустынна эта река! На ее берегах, сколько видит глаз, ни одного дымка, ни одной тропинки, проложенной ногой человека.
В таких размышлениях, далеких от каких–либо опасений, шло время полета. Еще никогда мотор не внушал мне столь усердно веру в свою безотказность. Его ласкающее слух журчание казалось пределом механической преданности. И настроение было под стать безоблачной погоде и веселой работе мотора. Еще бы — позади не что–нибудь, а Тихий океан. Фигурально выражаясь, я мог бы почесать спину о край Земли. Без горести я расстался с недавней жизнью горожанина. Впереди чудилось что–то необычайное, когда человеку все удается и он чувствует в себе, как говорится, сто сил.
И вдруг — толчок в сердце. Вначале лишь неясное беспокойство: что–то изменилось в обстановке полета! Внимание заостряется, всматриваюсь в окружающую панораму. Вроде бы все по–прежнему. Кругом все тот же незамутненный простор, все так же синеют горные хребты по сторонам горизонта. Только Рарыткин приблизился вплотную. Уже различаются осыпи камней на склонах, заманчиво, как аэродромы, блестят пологие макушки сопок. Небо без единого облачка, правда, солнышко заметно снизилось…
Приходилось слышать, что у моряков и летчиков есть шестое чувство — чувство опасности. И это, пожалуй, верно. Еще ничего особенного не произошло, однако ощущение надвигающейся беды уже закралось.
Но что же меня насторожило. Что? Ага, понял — потерялась река.
— Эх ты, растяпа! Это тебе что? Перочинный ножичек, не заметил, как обронил?! — обругал я самого себя.
На пустынной белой равнине река выделялась лишь узенькой полоской берегового кустарника. На фоне таких крупных ориентиров, как горы, при великолепной видимости во все стороны приметы русла реки ничтожно малы, еле заметны. И вот они исчезли совсем. С напряжением всматриваюсь в белизну под собой.
— Да ты, голубушка, никуда и не пропадала! Но почему тебя так плохо видно?
Как сквозь вуаль, различаю бровку тальника, но теперь это не сплошная линия, а еле заметный пунктир. Утратили свою резкость береговые обрывы, земля выглядит белым экраном, на котором с трудом просматриваются неровные швы, черточки, пятна…
— Неужели туман?.. Ну да, конечно, он! Но откуда взялся?
Благодушие как ветром сдуло. Впервые за этот час в нарядном белом просторе почувствовалась враждебность.
— Не забывай, где находишься! Со своим самолетом ты здесь, как муха на блюдце!
Переключаю внимание на самолет командира. Тот уверенно срезает петлю реки, обозначенную на карте, и выходит на пересечение горного массива. Не может быть, чтобы командир не заметил тумана, при нем штурман и радио, значит, он знает, что место посадки открыто. Иначе еще не поздно вернуться.
Идем дальше. Под нами хаос сопок. Вскоре река остается далеко в стороне. Солнышко положило подбородок на горизонт, сил у него недостаточно, чтобы просветить каждую складку местности. В распадках уже сумеречно. Имеет ли связь командир? Успеем ли до темноты?
А туман сгущается на глазах. Он поднимается в высоту и закрывает долины. В меня вселяется тревога, сижу как на иголках, верчу головой, хочется заглянуть туда, где должны кончиться горы.
Митя просунул руку в щель перегородки, тронул за плечо — хочет говорить. Прислоняю наушник и, упреждая вопросы, передаю в переговорную трубку:
— Как слышишь, Митя?
— Слышу хорошо, объясни, что происходит?
— Пахнет жареным, Митя, Кругом туман, солнышко садится, возвращаться поздно, что впереди—неясно. — Подумав, добавляю: — Командир «режет» по горам, и я не знаю, от ума или безумия. Ведь карта точна только по фарватеру, все остальное — сон рябой кобылы!
— Я тебя предупреждал, что поздно вылетаем!
— А я что, начальник полярной авиации? Ты же видел, что Пухов даже не сказал нам о погоде по маршруту!
— А нам не легче от его самонадеянности. У нас пассажиры. Чует мое сердце, что летим без связи!
— А у меня вся надежда, что Ваня Кочкуров «держит» «Снежное», потому и ведет по короткому пути, через горы.
— Миша, смотри, смотри, что он делает?!
Поведение командира обнаружило признаки замешательства. Он начал было поворот в сторону реки, вышел из него, тут же стал в вираж. С расстояния тридцати метров, на какие я приблизился, мне видно Пухова, что–то раздраженно говорящего в телефон, и виноватое лицо штурмана Кочкурова. Вот командир снова взял прежний курс через горы. Стало ясно, что на капитанском мостике тревога, если не паника. Но если они не имеют связи и только сейчас заметили туман, тогда наше дело худо. Чувство неуверенности с новой силой сжало сердце. Ведь я не знаю, что за летчик мой командир, это первый полет с ним. Но что же делать?
В прошлой жизни к аэродрому меня всегда приводили связь и штурман. Сейчас доверие к ним стремительно падает. Перед мысленным взором крупными буквами зажглись пугающие слова—вынужденная посадка! Там, на материке, она не столь опасна, везде близко люди и их помощь. Здесь все по–другому. На сотни километров этот мир необитаем. Вынужденная в горах — это гибель. Сейчас мой долг — спасать пассажиров. Они не виноваты, что попали к «липовым» летчикам.
Вот и солнышко скрылось за горами. Говорю в трубку:
— Ну, Митя, как говорится, спасение утопающих их собственное дело! Принимаю решение выходить на реку и действовать самостоятельно. Как там пассажиры?
— Спят вовсю! Делай, как считаешь лучше! Прибавляю газ, обгоняю командира и на его глазах круто разворачиваюсь к реке. В зеркало вижу, что Пухов повернул за мной,
Сопки становятся ниже, уходят назад, приближается кромка гор, возле которой простирается русло Анадыря. От нервного напряжения лоб покрылся испариной.
Тщетно ищу разрывов в туманной белизне, а мозг лихорадочно осмысливает совершившееся. Впервые в жизни я совершаю поступок, который считал преступным. Это надо же — ухожу от ведущего! Верно ли мое решение, предотвратит ли оно катастрофу?
Над туманом идем курсом на запад. Слева—волнистая гряда гор. Справа, до самого горизонта, как выглаженная простыня, — белая равнина. Все более определенным становится, что мы влипли.
Как же так случилось? В последнее время Пухов ни в чем не советовался со мной. Формой отношений стали безапелляционные распоряжения. Накануне вылета за обедом он сказал:
— Завтра полетим в Маркове с посадкой в «Снежном». Вы заберете двух пассажиров — начальника политотдела Щетинина и начальника торговой конторы Янсона и сто пятьдесят килограммов груза. Готовьте свою машину.
День в конце ноября короткий, но мы встали и позавтракали по обычному расписанию. Минут сорок потратили на проработку маршрута. Потом Пухов со штурманом Кочкуровым ушел на рацию и очень долго не возвращался. Появившись, дал знак запускать мотор. Не сообщив, есть ли связь со «Снежным», какая там погода, сел в свой самолет и вырулил. Мне ничего не оставалось, как следовать за ним. Так я и «следовал», пока не понял, что бездумному послушанию есть предел. После выхода к реке прошло минут восемь. Это были самые длинные минуты моей жизни. Наконец горы слева кончились, линия их вершин повернула к югу. Судя по карте, прижимаясь к подножьям гор, повернула и река. Я тоже разворачиваюсь на девяносто градусов.
Ну вот и полная, безнадежная ясность. «Снежное» всего в двадцати километрах от точки поворота, но и здесь все тот же непроницаемый туман. Ни одного разрыва, ни единого потемнения. Сердце тоскливо сжалось, но все мое существо протестовало против обреченности, не верилось, что судьба загнала в угол. Нет, черт возьми, мы еще поборемся! Говорю в трубку:
— Нокаут, Митя, аэродрома нет!
— Кошмар! Что думаешь делать?
— Пока завидую Швейку. Он мог летать без посадки.
Несколько секунд Митя озадаченно дышит в переговорный раструб, потом слышу:
— Ты шутишь, как покойник, Миша. А нам жить надо. Надо пробивать этот чертов туман. Я в тебя верю, ты сможешь, не робей!
Как славно, что в эту минуту со мной не паникер, а друг, единомышленник. На мгновение ослабло, отпустило щемящее чувство опасности, и я ответил с чувством:
— Спасибо, Митя! Может, и правда у земли есть какой–нибудь зазор. Не имеем мы права биться в первом же полете.
Наука летания по приборам знакома мне больше теоретически. Думаю, вспоминаю. А самолет летит. Все так же мирно журчит мотор. Сердце замирает, как перед первым прыжком с парашютом. Медлить больше нельзя. На том месте, где было солнце, медленно остывает красная полоса. Ну, была не была! Оглядываюсь на самолет Пухова. Убираю газ и начинаю снижаться вдоль предполагаемого фарватера реки. Пухов следует рядом, метров на сто позади. Так мы и входим в верхнюю кромку тумана на высоте пятьсот метров…
У меня было самое шапочное знакомство с «пионером», первым тогда прибором для слепого полета. В нем были стрелка и шарик. Они с величайшей поспешностью реагировали на действие центробежных сил, возникающих в полете. Искусство, еще не освоенное большинством летчиков той поры, заключалось в том, чтобы, действуя рулями, держать стрелку и шарик в центре шкалы. Это было не просто. Вернее сказать — чертовски трудно. Поначалу вдруг возникало ложное ощущение виража или крена, хотя самолет шел прямо. Следуя инстинкту, летчик загонял машину в немыслимое положение. Тогда шарик «убегал» в одну сторону, а стрелка в другую, и вернуть их на место не хватало «мозгов». Если полет происходил с инструктором, он отбирал управление, восстанавливал положение, и все начиналось сначала. Легко догадаться, что получалось без инструктора.
Однако, планируя по прямой, мне удалось удержать шарик и стрелку. Думаю, главную роль сыграла Митина регулировка самолета. Он никуда не валился и не заворачивал. Мое дело было не мешать ему в движении по прямой. Но и у меня были «заслуги» — я не потерял скорости и успевал следить за высотомером. Вот и сто метров—земли нет! Ниже нельзя. Перевожу машину в набор и вновь выхожу на кромку. Окаменевшие мышцы расслабились, но картина, представшая глазам, рождала самые безрадостные чувства.
Бледно–голубое небо источает рассеянный свет ушедшего светила. На склонах гор и лысинах сопок лежат пепельные отсветы вечерней зари. Северная часть небосклона заметно посинела, из–за гор всплывает багровая от мороза, ущербная луна. А земля спряталась под туманом. Чего греха таить — картина жутковатая. В темнеющем небе над неведомой землей я один. Ни одна живая душа не слышит шума моего мотора, никто не придет мне на помощь. И самолета Пухова нет. Где он, что с ним? Неужто врезался? На минуту стало душно, на лбу и ладонях выступила испарина, я открыл форточку фонаря… Но дело прошлое, при всех переживаниях в моем сердце не было обессиливающего страха, мозг не цепенел от ужаса. Как бы со стороны я оценивал безвыходность создавшегося положения.
До полной темноты остались считанные минуты. Надо решаться на какое–то действие. Только оно дает шанс на спасение. Я видел склоны сопок — можно выбрать любую, но это наверняка бить машину! А если опуститься на пятьдесят метров и поискать реку? Это предел, но в этой ситуации надо рисковать.
Тщательно сопоставляю рисунок видимых сопок с картой, рассчитываю на глаз возможное удаление фарватера, выбираю точку, откуда начну планирование, и решительно убираю газ. Будь что будет!
Опять вхожу в толщу тумана. Второй раз чувствую себя увереннее. Отрегулировал мотор так, чтобы он не переохладился, чтобы скорость сближения с землей оставалась минимальной, а угол пологим. 400… 300… 200… 100… Наступает решающая минута. Все окружающее из сознания исчезло. Осталось лишь то, что нужно сию секунду: сохранить скорость, удержать шарик и стрелку и мгновенно среагировать на любую неожиданность. Ноги замерли на педалях, левая рука на секторе газа, правая на ручке управления. Руки ждали команды мозга, а тот в величайшей готовности — информации от внешней среды. Все мое существо испытывало напряжение, которого еще не бывало. Из серой мглы обязательно должно появиться что–то темное: земля, лес, гора. Это пересечет линию планирования и может стать последним, что я увижу. Я был готов перевести машину в крутой набор. Если успею…
50 метров. Все та же мгла. Сердце бьется часто и сильно. Что дальше? А ну еще чуть–чуть! Уже не гляжу на приборы. Неизменным положение самолета сохраняет мускульная память рук и ног. Все мое внимание— впереди машины. Жду неотвратимого препятствия, удара, стеклянного звона разрушения самолета и… Происходит совершенно непостижимое, потрясающее меня чудо: сбоку в поле зрения начинает проявляться нечто чернеющее необрывающейся нитью. Через долю секунды соображаю, что это — то единственное, что мне сейчас нужно, — линия берегового кустарника. Жаркая волна радости, восторга, уж не знаю, как и назвать это чувство, обдала меня и понесла. Полностью прибираю газ, вывожу машину параллельно линии кустарника и совсем неслышно, как во сне, приземляюсь на невидимую землю. Вначале только угадываю, что уже не лечу, а скольжу по снегу.
Остановка. Откидываю крышку лимузина. Слева все бело: белое небо, белая земля—границы нет. Справа просвечивается обрыв довольно высокого берега, покрытый лесом. Мотор работает еле слышно, видно неторопливое вращение винта. Из кабины разом вынесло тепло, и обжигающий холод опалил лицо. В хвосте подали голос пассажиры:
— Приехали, что ли?
Было трудно не улыбнуться. У Мити сработал служебный рефлекс механика. Выпрыгнув из кабины, он побежал к мотору, ощупал винт, радиатор, обошел машину кругом. Я тоже хотел сразу вылезти, но вдруг ощутил, что руки и ноги, как ватные, не слушаются.
Впечатление свершившегося чуда еще не прошло. Я еще ощущал в руках хвост волшебной птицы по имени Удача. Отдаю себе отчет, что прошел по границе, отделяющей победу от поражения. Стоило мне только на 15—20 градусов спланировать левее, и я, не рассмотрев заснеженной земли, воткнулся бы в лед. Правее меня поджидал обрыв берега, от которого я не успел бы уклониться.
Поборов минутную слабость, горячий от пережитого возбуждения, я вылез из самолета. Синий столбик градусника на стойке показывал минус 43.
— Ого, Митя! Здесь нам жарко не будет!
— Миша, ущипни, может, это во сне!
На Митином лице блуждала какая–то полурастерянная, полусмущенная улыбка, с которой он не мог справиться. Я понимал, какое нечеловеческое напряжение он пережил вместе со мной. Он великолепно понимал, что таило в себе наше сближение с землей. Но мое напряжение находило разрядку в действии, и мне было многократно легче. А Митя в тесноте кабины чувствовал себя пружиной, сжатой до отказа. И вот пружина распрямилась.
Боже мой! До чего же дорог мне этот парень! Как замечательно, что сегодня он был со мной! Хотелось сказать ему что–то особенное, значительное, на всю жизнь памятное. Но мы не умеем этого делать, когда нужно. Все, что я чувствовал, выразилось в крепком объятии и словах;
— Ну здравствуй, дорогой! Вот мы и снова живем!
МИТЯ
Наибольшую потребность в дружбе человек испытывает в молодости. Потому что еще не уверен в своих силах, не знает, на что способен. Он ищет опору своим дерзаниям, единомышленника—убеждениям. И еще потому, что в начале жизни человек более добр и доверчив. Но через жизнь каждого проходят люди, имевшие особое значение в тот или иной момент биографии. Для меня в ту пору таким был Митя Островенко, бортмеханик.
Волею случая почти одновременно мы оказались в летном отряде при Особом конструкторском бюро Гроховского. Я попал туда из строевой части, а Митя по распределению из авиатехнического училища, которое он окончил с отличием девятнадцати лет от роду. Оказалось, что, несмотря на молодость, Митя был вполне своим в умном мире поршней, шатунов и компрессий, рождавших лошадиные силы. Его увлеченность своей профессией и работоспособность в возрасте, когда мир полон соблазнов, казались мне удивительными. На подготовленных Митей самолетах летали такие асы отряда, как Анисимов и Ширинкин, а временами и Чкалов, иногда испытывавший наши объекты. За три года Митя упрочил за собой авторитет человека, которому можно доверить жизнь.
Матушка–природа не поскупилась: он имел почти два метра роста и полметра в плечах. Эти габариты были оснащены атлетической мускулатурой. Самолет У–2 и Р–5 он запросто мог приподнять, если упирался спиной в крыло.
Его круглое доброе лицо привлекало симпатии не только правильностью черт и прекрасным цветом, но и богатством выражений. Оно бесхитростно и незамедлительно отражало все, что занимало Митины мысли. Все три года совместной службы в Москве мне казалось, что Митя еще не до конца осознал свою взрослость и самостоятельность. Этим я объясняю его болезненное отношение к любым намекам на молодость. Мыслил он возвышенно и всегда был готов броситься в драку за убеждения. Свои суждения высказывал в форме категорической. Говорил быстро, мысли опережали слова, жестикуляция кулаками–кувалдами помогала языку.
Не обладая голосом и слухом, он очень любил петь. Пел в основном украинские песни, то громко, то про себя — вполголоса. Безбожно фальшивил, за что подвергался розыгрышам и насмешкам. Смущался, но не обижался. На самолетных стоянках его было слышно от края до края. Как и большинство крупных и сильных людей, Митя был парень не только добрый, но и отзывчивый. В опасности он мог заслонить собой любого слабого. На все трудное шел без долгих раздумий и расчетов.
Таким был мой Митя. Я любил его, как любят только в молодости, пока не огрубело сердце. Жизнь еще разлучит нас, но тогда мы вместе шли навстречу неизведанному, потому великолепному. Это началось с челюскинской эпопеи…
Но прежде чем мы вернемся к рассказу о вынужденной посадке, еще несколько слов отступления.
В «Северных рассказах» Джека Лондона зримо представлялась огромная страна у Полярного круга — Аляска, великая река Юкон и мужественные люди, добывающие золото на ее притоках. Образы Великого Холода, который замораживает ртуть в термометре, и Великого Безмолвия вылеплены писателем так рельефно, что, казалось, их можно пощупать. Но, читая, я представлял, что это, так же как и невероятные приключения и романах Жюля Верна, где–то за пределами реальной жизни, в минувших веках. И вдруг — событие, потрясшее воображение людей всего мира. В Советской Арктике гибнет раздавленный льдами пароход «Челюскин». В ледяной пустыне возникает лагерь потерпевших крушение — более ста человек! И, как в романе того же Жюля Верна, во главе этого лагеря — ученый, известный у нас в стране и за ее пределами, — академик Отто Юльевич Шмидт. И случилось это не в прошлые века, а 13 февраля 1934 года.
Значит, романтика освоения дальних стран, опасных, полных приключений, путешествий еще существует? И есть не выдуманные герои, а наши сверстники, такие же обыкновенные парни, как и мы с Митей?!
Приходилось слышать в те дни:
— А где это — Чукотка?
— Чукотка? А черт ее знает… где–то за пределами цивилизации!
Потом мы узнали еще более удивительное. В далекую Австралию можно попасть в любое время года, совершив для этого комфортабельное путешествие за две недели. На Чукотку попадали раз в году, в угольных трюмах одиночных грузовых пароходов. Да и эти корабли были сильны не прочностью своих бортов, а лишь энтузиазмом своих капитанов и команд. О чукчах я знал меньше, чем о племенах Центральной Африки.
И вот великая нужда заставляет стремиться к лагерю Шмидта, на неведомую Чукотку.
Добраться до нее могут только самолеты. Могут! Но еще ни один не добирался среди зимы. Им надо преодолеть протянувшиеся на тысячи и тысячи километров необжитые пространства. А о них знали так же мало, как и о самой Чукотке. Многие считали челюскинцев обреченными, ведь полярный лед погубил немало арктических экспедиций. Трудно было представить, как реально помочь бедствующим на краю земли людям.
Страна Советов не оставила своих граждан в беде. Челюскинцев спасли летчики.
В день торжественного прибытия участников челюскинской эпопеи в Москву нам с Митей пришлось дежурить на аэродроме. Из репродукторов на летное поле доносились музыка и голоса комментаторов с Красной площади. Было оглашено постановление ВЦИК об установлении звания Героя Советского Союза. И это поразило нас.
Герой… С этим словом в нашем сознании неразрывно слились героические дела героической эпохи, в которую мы жили. Нередко говорили: герой революции, герой гражданской войны. Но это определение никогда не отождествлялось с персональным званием, присвоенным тому или иному человеку. Никто не мог сказать о самом себе: я — герой!
Не сразу мы поняли великий смысл установления персонального звания героя. Ведь впервые в истории человечества так возвеличен человек не за знатность происхождения, не за богатство, а за подвиг на общее благо.
Стоял солнечный и теплый день начала лета. Мы лежали на травке под крылом самолета, обсуждая события в Арктике, завершившиеся сегодняшним торжеством. Наши сердца переполняла гордость оттого, что герои–челюскинцы наши соотечественники. Как профессионалы мы восторгались тем, что довелось преодолеть Ляпидевскому, Водопьянову и другим летчикам.
И тут Митя сказал со вздохом:
— Везет же людям! Плавают в Арктике, летают на Чукотку, а мы как привязанные. Может, за всю жизнь, кроме московского асфальта, и не увидим ничего?
— Не гневи бога, Митя! Мы с тобой на переднем крае освоения небывалой техники. Сколько летчиков завидует нам! И, кроме того, такова уж доля военного человека — служить там, где требует долг.
— Понимаю, но завидно…
— Наверное, сегодня всем завидно, не только нам с тобой, а впрочем…
Пораженный тем, что пришло в голову, я умолк, а Митя встрепенулся и выжидающе уставился на меня.
— А что, если разведать, как это летчики попадают в Арктику? Ты поехал бы? — Хоть сегодня! Митя обладал способностью мгновенно загораться и с того дня неотступно возвращался к этой мысли, зажигая и меня.
За лето мы узнали дорогу в Управление полярной авиации, увидели в лицо почти всех первых героев–летчиков и убедились, что это не «сверхчеловеки», а такие же парни, как и мы.
Нашей мечте повезло. К зиме тридцать четвертого года военное КБ Гроховского было преобразовано в гражданский институт. Личный состав нашего отряда остался при этом институте, но был передан в резерв армии, попросту говоря, демобилизован. Теперь мы оказались свободны в выборе места работы. Весенняя мечта не остыла, и наши усилия завершились тем, что в начале тридцать пятого нас зачислили в ряды полярных авиаторов.
В отряде нас оказалось всего двое таких мечтателей. Помнится, наш общий друг, командир отряда Костя Холобаев ругал меня;
— Ну, какого черта тебе надо в этой Арктике? Амундсеном все равно не станешь — не та эпоха. А здесь все при тебе — почет, уважение, интересная работа, хорошие товарищи! Брось дурить, не уезжай!
Мы не остались. Но когда до отъезда на Чукотку осталось три недели — произошла катастрофа. Только так я воспринял то, что случилось с Митей. Он влюбился. И, больше того, недолго думая, женился. Ну, решил я — все! С этого крючка еще никто не срывался. И, в самом деле, многие ли при таком зигзаге личной жизни сохранили бы верность слову? Но Митя совершил этот подвиг, не проявив и тени колебаний. В моих глазах это было вершиной преданности дружбе и идеалам жизни.
ТОПОР
— Честно говоря, когда мы планировали, я уж не думал, что смогу «в собранном виде» вот так бегать! — Митя помахал руками, изображая бег.
— Нам просто повезло, Митя!
— А как ты думаешь, куда мы «упали»?
— Кажется, я перетянул за «Снежное», в сторону Маркова. Давай, пока что–то видно, порулим обратно. Совхоз где–то рядом.
— Согласен. Я встану на лыжу, а ты рули потихоньку. Если увижу препятствие — подниму руку.
Идет! Только держись крепче и не обморозь лицо.
Наскоро объясняем ничего не понявшим пассажирам, что произвели вынужденную посадку в тумане и сейчас порулим к совхозу. Развернувшись на 180 градусов, начинаю рулить, придерживаясь чернеющего берега. Поворот, еще поворот, прямой участок плеса. Снег пушист и глубок, никаких толчков. Скорость незаметно нарастает. Ого! Уже шестьдесят! Как Митя терпит? Одной рукой он держится за узел расчалок, другой до глаз прикрыл лицо, но против наращивания скорости не протестует.
Так прошло минут десять–двенадцать. Различать что–либо стало невозможным. Останавливаю себя:
— Что же ты делаешь? Попадет под лыжи какая–нибудь коряга или, не дай бог, промоина — и все! Как–нибудь перебьемся до утра. Страшнее того, что миновало, не будет.
Подрулив к пологому берегу с кустарником, выключаю мотор. Из кабины с трудом вылезают пассажиры. Разминаются, с недоумением оглядываются. Щетинин спрашивает:
— Миша! А где же Пухов и где мы сами?
— Пухов, Николай Денисыч, сел раньше нас, думаю, тоже на реке. А мы где–то рядом с совхозом, но видишь сам, как темно, — побоялся я рулить.
— Ну и хорошо сделал, — спокойно согласился Щетинин. — Переночуем у костра, ничего с нами не случится. Говори, командир, что делать надо?
— Ждать утра, Николай Денисыч! Разводите пока костер, а мы с Митей займемся самолетом.
— Может, помочь чем?
— Нет, спасибо. Вот только придется просить у товарища Янсона немного спирта, чтобы разбавить воду в моторе. И еще немного продуктов, а то у нас ничего нет.
Янсон до сих пор не выразил никаких эмоций по поводу вынужденной. Ни волнения, ни участия — одно бесстрастное ожидание.
— А сколько потребуется вам спирта? — спросил он ровным голосом.
— Да по такому морозу, пожалуй, литров сорок! Янсон помрачнел, чуть призадумался, потом, как показалось, неприязненно, желчным голосом сказал:
— Ну, раз нужно так нужно! Берите!
Я понимал настроение Янсона. Начинался сезон охоты. Почти год не завозили товаров марковским охотникам. Товары прибыли, когда путь по реке уже закрылся, а санный, на собаках, еще не был проложен. Впервые на Чукотке самолет использовался для снабжения жителей отдаленных мест. Мы везли капканы, боеприпасы, мануфактуру, табак, медные чайники, шоколад, печенье, какао, сгущенное молоко. В этом перечне спирт был на самом важном месте. Список большой, но всего понемногу, наши самолеты не могли поднять больше.
— Митя, доставай топор, будем рубить дрова! — нарочитой бодростью Щетинин хотел смягчить для нас недружелюбную интонацию Янсона.
Это естественное в лесу предложение застало врасплох: топора у нас не было.
— Николай Денисович, — виновато ответил я Щетинину, — придется хворост ломать руками, топор мы забыли на базе.
— Не много ли вы забыли, товарищ командир! — в голосе Янсона, мне кажется, презрение. — Забыли одеться, как надлежит в Арктике, забыли «погоду», забыли топор. Я не удивлюсь, если обнаружится еще немало забытого!
С этими словами, не ожидая ответа, он направился к кустам. Черт возьми! Обидно слушать, но он же прав, этот суровый человек. С какой стороны ни посмотри — несерьезные, безответственные мы люди в его глазах…
В прошлом мы были аэродромными летчиками. Привыкли к тому, что нас обеспечивают всем необходимым. Везде для нас были готовы и стол, и кров. Конечно, мы знали, что здесь этого не будет, но вся наша психология была настроена для полетов от жилья до жилья. А у людей найдется все, что может потребоваться. Если это не оправдывает, то объясняет, почему у нас не оказалось топора. Да и только ли топора?..
К тому времени в полярной авиации уже был табель обязательного снаряжения самолета в Арктике. Табель предусматривал все основное, необходимое для обслуживания самолета, для подогрева и запуска мотора. Для экипажа полагалось иметь две запаянные банки с продовольственным НЗ. Чтобы взять больше груза, с общего согласия Пухов предложил оставить эти банки на базе. Охотно согласился и я, потому что в груз входили и продукты.
Воспитанники армейской школы полетов, мы больше всего боялись перегрузки самолета и скрупулезно учитывали каждый килограмм груза. О вынужденной мы имели представление чисто теоретическое. У нас отсутствовал собственный и не был известен чужой опыт полетов над необжитыми территориями.
В наличии имелся спальный мешок из собачьего меха, но спать в нем не предполагалось. Он служил Мите подушкой на металлическом сиденье. Только карабин не вызывал сомнений. Это явилось данью традиции, обычной для–новичков. Считалось, что Арктика кишит дикими зверями. И одеты мы отнюдь не для ночевки под открытым небом. Щегольские, но плохо греющие «чесанки», кожаные, на байке брюки, полушерстяной свитер, морской китель, короткая цигейковая куртка, шарф, шапка–ушанка с кожаным верхом. Комплект личного обмундирования завершали кожаные рукавички на байке. Сравнительно с нашими спутниками мы были раздеты.
Возмущение Янсона как–то пригасило радость от удачной посадки. Почти без слов мы с Митей разобрали вещи в багажниках, достали из груза Янсона два чайника и часть продуктов. Взяли и спирт, которым на 50 процентов разбавили воду в системе охлаждения мотора. Потом накрыли, как обычно, чехлами мотор и кабину, после чего принялись помогать старикам разводить костер и готовить пищу. В одном из чайников сварили хлебово из сгущенки, какао и печенья. Несмотря на попытки Щетинина шутками снять возникшее напряжение, поели молча. Я объявил, что для поддержания костра и охраны лагеря будем дежурить по два часа и что первую вахту я беру на себя. Щетинин и Янсон в своих мехах улеглись прямо на снег, лицом к огню, и быстро, совсем по–домашнему, стали посапывать. Митя забрался в спальный мешок, а я уселся у костра, протянув руки к огню.
Теперь я остался один на один со своими мыслями и мог не торопясь обдумать происшедшее.
Всего шесть часов отделяли меня от ясного утра в Анадыре. Сейчас это утро казалось чем–то бесконечно далеким, а я сам выглядел наивным юношей, черт знает почему возомнившим себя опытным и зрелым. Всего шесть часов, а как много я понял и пережил.
Вскоре я почувствовал, как мороз забирается под одежду, щиплет и жжет мое плохо защищенное тело, но я не шевелился, говоря про себя: «Так тебе и надо! Терпи, что заслужил!»
Еще в школе пришлось слышать, что корень учения горек. Всеми клеточками мерзнущего тела испытывая эту горечь, я размышлял:
— Сотни лет люди стремятся покорить Арктику. Сколько же моих предшественников, таких же самонадеянных, вот так же сидели у костра и думали о том же? Безвестные, безымянные, они оставили здесь свои кости на игрушки песцам и медведям. Неужто и нас ждет их участь?
ЩЕТИНИН И ЯНСОН
За два месяца жизни в Анадыре ближе всех мне пришлось познакомиться с Николаем Денисовичем Щетининым — начальником политотдела при Чукотском тресте.
Несмотря на свое высокое положение, Денисыч оказался человеком простым и доступным. Своей властью не кичился, к нам с Митей относился как к сыновьям, звал по именам. На его крупном лице самой запоминающейся деталью были мохнатые, длинные, как усы, брови. Они прикрывали глубоко посаженные глаза, и казалось, что Щетинину надо делать усилие, чтобы смотреть на собеседника. Но это впечатление проходило, как только поднимались эти занавески и открывались его светлые глаза. Они смотрели, вопреки ожиданию, доверчиво и расположенно. Сутулый, крупный, длиннорукий, он начинал представляться добрым и сильным медведем.
Ранее я рассказал об изобретателе Гроховском. И прежде и теперь я считаю, что на таких одержимых стоит мир, что партия коммунистов тем и сильна, что таких людей в ней много. И вот на другом конце земли встречаю коммуниста, олицетворившего в моих глазах силу и ум партии совсем с другой стороны. Если Гроховский имел дело с непознанными состояниями природы, создавая новую технику, то Щетинин общался с самым нежным творением природы — с душой человека. И добивался успеха.
Помнится разговор, свидетелем которого стал случайно, явившись в политотдел, чтобы определиться на партийный учет. При мне к Щетинину пришел камчадал Артамон Шитиков из Усть–Белой.
— Насяльник, я к тебе присел.
— Здравствуй, Артамон, рад тебя видеть! Как живешь?
— Ой, плохо, насяльник. Омманул Артамоску плохой селовек. Совсем омманул.
— Да как же так! А ну–ка говори, что за человек, мы ему тоже плохо сделаем.
— Три боськи кеты всял, боську икры, а дал два литра спирта. Мало, однако!
— Ай–яй–яй! Да кто же это?
— Витька Саломасин, вот кто. Однако, он уедет завтра, догонять нельзя будет, сегодня надо!
Как выяснилось из дальнейшего разговора, прораб строителей, работавших по нарядам Чукоттреста в совхозе «Снежное», Саломахин, возвращаясь в Анадырь, подпоил камчадала и увез значительную часть его летней добычи. Литр спирта тогда стоил (на руках) двести рублей, а килограмм кеты рубль. Проспавшись после пьяной ночи, Артамон бросился вдогонку на своей лодке. От Усть–Белой до Анадыря по реке более трехсот километров, и я подумал, что действительно здесь сто верст не расстояние.
Щетинин немедленно разыскал Саломахина, устыдил его и добился расчета с камчадалом по государственным ценам. Артамон не хотел денег и добивался еще спирта, но тут уже Щетинин воспротивился. Он дал возможность Артамону отовариться на анадырской фактории, куда только что завезли новые товары. Артамон уехал, довольный и гордый знакомством с хорошим «насяльником».
Народы Чукотки беспощадно угнетались из поколения в поколение. Царский чиновник, американский торговец, русский перекупщик… Любой из них мог отнять за бесценок охотничью добычу, даже жену или дочь, и управу найти было невозможно.
Аборигены стоически относились к нашествию на их землю несправедливости. Они убедились на опыте, что жаловаться некому и что, кроме новых унижений, это ни к чему не приводит. Только при Советской власти эта безропотность стала давать трещины. Медленно, но верно просыпалось в людях долго подавляемое чувство человеческого достоинства. Интересно отметить, что ощущение справедливости новой власти олицетворялось чукчами и камчадалами вначале в отдельных лицах. Одним из них в ту пору и стал Щетинин.
Как–то при мне к Щетинину пришла женщина, врач местной больницы.
— Николай Денисович! Посоветуйте, что делать? — взволнованно проговорила она.
— А что случилось? Да вы садитесь, садитесь!
— Лежит у меня Настя Соломенцева, жена моториста плавбазы. У нее случился выкидыш, ей надо хотя бы две недели побыть у нас, она слабенькая. А ее муж, Никита, третий день приходит пьяный и требует выписки. В больнице находится старшина Сергеев — так он, дурень, ревнует.
— А что, Сергееву действительно необходим больничный режим?
— Да, пожалуй, я уже могу перевести его на амбулаторный прием.
— Ну вот выпишите Сергеева, а с Никитой я сам поговорю.
— Батюшки, как же просто! И как я сама не додумалась! Спасибо вам большое, Николай Денисович! И еще одна просьба. Привезли свежий лук и картошку, а Масюта (заведующий торговой базой) еще не скоро выпустит все это из своих рук. Нельзя ли для больных вне очереди?
— Ну, конечно же! Вот вам записка Масюте и берите не только картошку, а все, что есть свежего,
Женщина ушла просветленная. Уверен, не столько оттого, что решились ее вопросы, сколько оттого, как они были решены. И я подумал: сколько же больших и малых людских конфликтов предотвращается в этой комнате!
Однако Щетинин не считал возможным вмешиваться во все дела. Когда, незадолго до нашего полета, я не то, чтобы пожаловался, а просто рассказал ему о заносчивости Пухова, об унижениях, каким он подвергал нашего парторга и старшего механика Мажелиса, завхоза Прудникова, то Щетинин ответил;
— Не знаю я специфики авиации, и трудно мне судить о ваших делах. Но я сообщу о твоих замечаниях Волобуеву, Думаю, он разберется лучше меня.
Узнав, что Щетинин полетит с нами, я обрадовался. Теперь он увидит нас в работе и будет судить о каждом по его делам.
В день вылета, когда самолеты были готовы, а Пухов ушел на рацию «выбивать» сводку погоды, Щетинин приехал на стоянку со свитой провожающих. Снаряжен как на полюс; камусовые торбаса выше колен, неблюевые {8} брюки, меховая рубашка, кухлянка с капюшоном, на голове малахай с оторочкой из волчьего меха, на руках добротные рукавицы тоже из камусовых шкурок. В этой одежде он казался незнакомым великаном из чукотской сказки.
Щетинин подошел к самолету с каким–то человеком и, поздоровавшись, сказал:
— Вот, Миша, твой второй пассажир, товарищ Янсон!
— Приветствую вас, товарищ Янсон! Я уже стал воображать вас вроде Саваофа. Только и слышишь: «Это у Янсона! Янсон не разрешает! Это как Янсон скажет!» Человек, от которого столько зависит, вряд ли должен рисковать жизнью в полете!
Но Янсон не принял такого развязного тона. Для этого края, где, кроме мяса и рыбы, ничего не производится, где все важное для жизни раз в году завозится с материка, а распоряжается этим один человек, — он становится крупной и влиятельной фигурой. По слухам, латыш Янсон был из когорты железных героев гражданской войны. Таких в мирное время партия направляла на посты, требующие неподкупности и твердого характера. Он ответил мне сдержанно:
— А вы считаете, что рискуете?
— Это моя профессия, но многие смотрят на нее как на рисковую.
— Смотреть не всегда означает — видеть! А я прежде всего вижу революцию, какую совершат здесь ваши самолеты. А для революционного дела и рискнуть не беда. Кстати, известно ли вам, что здешние люди не знают, что такое колесо?
Своим вопросом Янсон предлагал тему для серьезного разговора о транспортных проблемах края. Но во мне подсознательно проявился самонадеянный эгоизм молодых, полагающих, что самое важное в истории начинается с них. Во всяком случае, я не оказал уважения собеседнику и перебил его:
— Как новичок, я еще мало знаю о здешней жизни, но и я могу сообщить вам нечто интересное.
— Любопытно!
Уже по началу разговора можно было сообразить, что я взял неверный тон и в глазах человека быстрых суждений выгляжу несерьезно. В его «любопытно» звучала уже ирония. Но меня понесло, и остановиться я не мог.
— Наш полет знаменует окончание эры аварийных экспедиций на Чукотке. Вы и Щетинин войдете в историю ее авиации как первые платные пассажиры. Хочу поздравить вас как обладателей первых билетов. Рекомендую их сохранить на память.
Для трезвого ума Янсона, видимо, эта тирада прозвучала не к месту высокопарно. Он посмотрел на меня «скучными» глазами, осмотрел с ног до головы и ответил насмешливо:
— Благодарю! А вы что же, не в этом ли одеянии намерены покорять Арктику?
Уже чувствуя себя дураком, я тем не менее ответил запальчиво, даже с вызовом:
— В комнатной температуре моего лимузина ваше одеяние — отрыжка психологии путешественника на собачьей упряжке. Что касается меня, то мне всего тридцать лет, а моему механику и вовсе двадцать три.
Теперь вспоминать эту сцену мне было мучительно стыдно.
Бывают лица, как бы созданные природой из материала особой прочности. Кажется, они совсем не меняются от времени и не дают представления о возрасте. Может, тридцать, а может, и за пятьдесят. Не крупное, во всех деталях пропорциональное: открытый лоб, прямой нос, четко очерченные губы, крепкий подбородок, Глаза светлые, смотрят неулыбчиво. Под их взглядом ежишься: кажется, они проникают в тебя глубже, чем хочется. Глядя на такое лицо, чувствуешь, что его обладатель всегда знает, чего хочет, ему чужда сентиментальность и нерешительность. Он может быть и жестоким. Таким было лицо Янсона.
«ЛОПУХИ»
Как быстро, что называется, с первого взгляда Янсон определил, что мне недостает уважения к Арктике, cepьезного к ней отношения. Ведь она осталась такой же какой была и двести лет назад, в эпоху Семена Дежнева и Витуса Беринга. А мы хотели взять ее кавалерийским наскоком.
Строго говоря, что такое сегодня мой самолет перед грозной значительностью сил природы? Усовершенствованная дубинка дикаря — не больше. Он сбивая ею плоды, растущие на деревьях, брал готовое. Я могу летать только в хорошую погоду, если природа соблаговолит ее приготовить. А чуть прижало — кричи «караул!». Ведь и до тебя здесь побывало немало мечтателей. Они не улучшили этого зверского климата, не построили дорог с гостиницами для путников. Даже не нарисовали карт, по которым нельзя заблудиться.
Скажешь, было другое время? А что может сегодняшнее? И сейчас ты должен приспосабливаться к природе, как это делают более умные. Вот спят в своих мехах Щетинин и Янсон. Они приспособились, они учли вековой опыт местных жителей. И тебе, прежде всего, надо научиться здесь жить. И без паники! Надо доказать этому Янсону, что в тридцать лет достаточно сил для борьбы… А в общем, день прошел не зря — урок получен памятный!
Примерно такие мысли владели мною в тот час. Мороз без труда проникал под мою одежду. Охлажденные тела сокращаются! Сию истину пришлось познавать на собственной шкуре. Казалось, дальше мое тело сокращаться не может. Бегая, я протоптал кругом костра дорожку, когда сидел, непрерывно шевелил плечами, ежился, засовывал руки в рукава до кончиков пальцев и мечтал о минуте, когда разбужу Митю и заберусь в нагретый им спальный мешок. К моему удивлению, Митя не лежал спокойно, а ворочался, стремясь подкатиться к костру. Я отодвигал от него уголь и горящие ветки, чтобы под ним оказалась горячая зола. Но, не дождавшись побудки, клацая зубами, Митя выскочил из мешка как ошпаренный. Его голос дрожал и прерывался.
— Черт знает что! В нем не то, что согреться, а и вовсе сосулькой станешь! Давай, Миша, сделаем костер побольше, заодно и погреемся в работе.
Мы двинулись в заснеженную чащу, но без топора изготовлять топливо совсем не просто. Промороженное дерево тверже кости. Рукам поддавались только прутья, но они быстро сгорали. Вскоре хворост на опушке оказался выломанным, и за ним надо было забираться все дальше в чащу леса. А чем дальше, тем глубже снег. Не чувствуя рук и ног, обсыпанные инеем, удрученные, мы возвращались к костру.
Но вот настала долгожданная минута. Залез в мешок и я. Однако через несколько минут, и так и этак пытаясь согреться, я почувствовал себя в положении карася на раскаленной сковородке. Только не огонь, а жгучий холод вынудил и меня покинуть это адское убежище. Просто удивительно, что Митя выдержал почти час.
— Ну! Убедился? — с угрюмой иронией спросил Митя. — Вот смотрю я на Денисыча и завидую его храпу. Какие же мы лопухи — в чем полетели… — Надо же быть такими идиотами — полететь без топора! Срамота! Банки со сгущенкой открывали отверткой и плоскогубцами. Даже ножа не оказалось!
Митя смешно, как–то по–детски морщил нос, углы его рта опускались. По своему обыкновению он «рубил» руками, и замерзшая куртка топорщилась на его плечах. Темные круги под глазами, такие неестественные на его юном лице, делали Митю старше. Страшно хотелось спать, усталость валила с ног, но холод не позволял сидеть неподвижно даже у огня. Митя вскочил первым и, с силой хлопая себя крест–накрест, побежал вокруг костра, высоко вскидывая коленки. Я за ним. Потом мы стали толкаться плечами, разгоняя стынущую кровь. Немного согревшись, снова сели, вытянув руки над костром.
— Миша! А в Москве сейчас еще день не кончился. Люди собираются по домам, к теплу, идут в театры. Что–то наши женушки поделывают?
— Моя сейчас, наверное, бежит из института, ее ждет Сережка. Славный малый, я тебе скажу. Ему еще трех нет, а он уже отверткой и плоскогубцами орудует.
— Да, твоей Татьяне сейчас трудно. Когда она кончает?
— Да, наверное, принялась за диплом. Она у меня нефтяник. Как–то я ей говорю: «Как же мы с тобой друг за другом угонимся? Нефть на Кавказе, а я в Арктике?» — «А я, — говорит, — из переработчиков переключусь в экономисты. Горючее и самолеты всегда рядом!»
— Это она правильно придумала. А моя мечта стать филологом.
Задумались каждый о своем. Неожиданно Митя переменил тему:
— Вот так–то, друже! О приключениях в Арктике хорошо читать в теплой комнате, а не испытывать их на себе. Нас бросили сюда, как щенков в воду, выплывешь — твое счастье, будешь жить!.. Хотя бы лекции прочитали, что здесь недостаточно только летать, но еще и жить надо умеючи. Что нельзя летать без топора и палатки. Нам повезло, еще что лес рядом. Сели бы в тундре…
Митя умолк, не закончив фразы. На его отрешенном лице играли скользкие блики огня. Он, как и я, непрерывно ежился и, попеременно держа ноги над костром, шевелил пальцами в валенках. Я видел, как при этом двигались его коленки.
— В прошлом году, Митя, мне пришлось прочитать биографию Амундсена. Вот, я тебе скажу, глыба, а не человек! Там приводятся его слова, что исследователь не стремится к приключениям. Они являются результатом незнания или просчетов…
— Незнание — это верно, но в нашем случае больше всего легкомыслия. Да и какие мы исследователи! — перебил меня Митя.
— А кто же?
— Иждивенцы мы, вот кто! Ты только вспомни, какими аристократами мы были! Нас одевали, кормили, регламентировали каждый шаг, чтобы, не дай бог, не перетрудились, не ушиблись. Тьфу! А вот думать учили плохо! — Митя загорячился, даже привстал. — Вот я сказал тебе, что бросили, как щенят, а ведь это тоже рефлекс иждивенчества. Видишь ли, меня не научили, что в Арктике надо тепло одеваться, что надо летать с топором и палаткой. А кто твоего Амундсена учил? Кто инструктировал его, как брать Южный полюс? — Митя воспламенился, и теперь его самокритика не скоро превратится. Он встал надо мной в позу оратора и махал кулаками в угрожающей близости к моему носу.
— Переведи дух, Дмитрий Филимонович! Я сдаюсь. И костер гаснет. Хочешь не хочешь, а надо лезть в гробы.
«ЮБКА»
Митя сник, зябко поежился, молча постоял надо мной и направился к лесу. Там, с остервенением ломая неподдающиеся ветки, со злостью приговаривал:
— Так тебе, идиоту, и надо. Будешь знать цену палатке!
Вдруг он остановился и ударил себя кулаком по лбу. Обернувшись ко мне, взволнованно, будто нашел клад, осевшим голосом просипел:
— Слушай, у нас же есть палатка!
Уж не начинает ли заговариваться? Но к Мите возвратился голос, и он заорал так, что с ближайших кустов посыпался иней.
— Юбка!
Меня словно током ударило. На мгновение даже жарко стало. В самом деле, как мы раньше не сообразили?
От одной мысли о тепле лес показался не таким угрюмым и мороз не таким зверским. С новой энергией мы обломали кустарник и снесли ветки к костру, Я принялся экономно укладывать их, чтобы только поддержать огонь, а Митя принялся разводить примус.
«Юбкой» у нас именовалась придуманная Водопьяновым надшивка к нижней части моторного чехла. Брезентовое полотно в виде кольца, опущенное до земли, предназначалось для защиты примуса от задувания ветром при подогреве мотора.
Но на практике Митина идея оказалась не очень–то плодотворной. «Юбка» прикрывала пространство около квадратного метра. Середину занимал горящий примус. Лежать не хватало длины, стоять — не было высоты. Можно было только дремать, сидя на ящике со сгущенкой. Но нас одолевал сон, и мы падали на примус. Один раз я даже погасил его, схватившись за горелку. Наконец додумались: сняли нижний капот мотора, к открывшимся лонжеронам привязали веревочные лямки. Пропустив их под мышки, мы могли дремать, не падая.
Однако примус быстро сжигал кислород в этом тесном пространстве, и воздух становился угарным. Кроме того, ноги все равно не отходили, так как плюсовая температура держалась лишь на высоте пояса.
Так, бесконечно долго, в угарном полузабытьи, выбегая на мороз, чтобы размять коченеющие ноги и подышать свежим воздухом, коротали мы эту первую ночь. Разбуженный нами на вахту Денисыч, подложив один раз хворосту, уснул, и костер погас. Пришлось разводить его из тлеющих угольков.
Когда в очередной раз я вылез из–под «юбки», одурманенный угаром, то увидел, что туман рассеялся, в сереющем небе тают звезды.
«Наконец–то снова приходит день!» — подумал я обрадованно и огляделся. Белый, мохнатый от инея лес, первобытный костер на снегу, лежащие возле фигуры людей в мехах, морозная тишина — все это на мгновение представилось чем–то фантастическим. Но свирепая стужа быстро прояснила сознание. В отблесках костра тусклым серебром мерцал силуэт обындевевшего самолета. «Я летчик. У меня вынужденная посадка. Надо действовать, а то пропадем!»
Я подбросил для яркости топлива в костер и крикнул:
— Эй, Робинзоны, вставайте! Новый день начинается, улетать надо.
Под телами «Робинзонов» образовались удобные для лежания выемки, полярная одежда спасала от холода, терзавшего нас, и, как видно, они неплохо выспались.
За ночь примус хорошо прогрел мотор. Когда достаточно развиднелось, мы ликвидировали лагерь, и я дал команду к запуску. Благодаря Водопьянову наши самолеты имели бортовые баллоны сжатого воздуха. В нашем баллоне осталось атмосфер двадцать, и этого хватало, чтобы завести мотор. Чтобы не рисковать, я прибегнул к обычному в те времена способу запуска с компрессии. Это делалось так; механик провертывал винт на несколько оборотов для засасывания горючей смеси и брался за конец лопасти. На другой ее конец надевали брезентовый чехол с двумя длинными концами шнурового амортизатора. Люди, обычно не меньше шести человек, тянули амортизатор, насколько хватало сил. Когда летчик, сидящий в кабине, видел, что амортизатор натянут до предела, он включал зажигание и давал команду: «Контакт!» Механик, отвечая: «Есть контакт!», — отпускал лопасть и отбегал в сторону. Сокращаясь, амортизаторы давали винту несколько оборотов, а люди, тянувшие амортизаторы, кубарем падали в ту сторону, куда тянули. Так запускали моторы каманинцы. Такое приспособление имелось и у нас. Но мы не располагали шестью человеками — амортизаторы натягивали Щетинин и Янсон. Тем не менее хорошо прогретый мотор, сжатый воздух и рывок амортизатора свое сделали; мотор запустился с первой попытки, хотя к утру было минус сорок пять.
На душе, если можно так сказать, запели соловьи: еще пять–десять минут, и мы будем в воздухе. Через пятнадцать минут найдем совхоз, ориентируясь по которому я стану искать самолет Пухова.
Температура мотора поднялась до нормы и необычно быстро пошла выше. Жестом даю понятную Мите команду снять чехол с радиатора, но температура растет. Выпускаю радиатор до конца и не могу понять, почему стрелка термометра начинает биться у верхнего предела.
— Митя! Скорей сюда! Смотри, что делается! Митя хлопнул себя по лбу и заорал:
— Спирт! Выключай скорее!
Но было уже поздно, стрелка термометра прыгала и билась об ограничитель шкалы, а мотор при выключенном зажигании не желал останавливаться. Обычно, преодолев одну–две компрессии, мотор останавливался мягко. А сейчас он делал судорожные рывки от самовспышки. Наконец со стеклянным звоном замер, будто уперся во что–то. Сердце сжалось, и сразу стало жарко: «Заклинился!..»
Странная это вещь — человеческая психика. Я не испытывал такого перед посадкой в тумане, когда казалось — все! Тогда я был достаточно собран, чтобы использовать малейший шанс для спасения. А сейчас, когда мне лично, по крайней мере, в данный момент ничто не грозило, чувство ужаса перед непоправимостью случившегося буквально парализовало меня.
— Что же я наделал! Недодумался, что спирт сразу выкипит. Идиот! Балда стоеросовая! Тебе не в Арктике летать, а нужники чистить!
Не было сил выбраться из кабины, встретить взгляд Янсона, услышать презрительное: «Опять забыл, товарищ Каминский! Забыл, что заливал спирт, забыл, что он имеет свойство испаряться? Ай–яй–яй!»
Как много простых вещей я не знал! Сколько лишний перенес по невежеству! Мы бы не мерзли так дико у костра, если бы знали о придуманном охотниками способе обогревания: за костром, на палках, натягивавается полотно, которое отражает тепло на спину. A coн в спальном мешке? Надо только помнить, что мешок не грелка, а термос. Он сохраняет как тепло, так и холод. А мы, идиоты со средним образованием, залезали в промороженный мешок в заснеженной одежде и рассчитывали согреться. Мешок должен быть в снегу. Спать, закопавшись в снег? Такое не могло прийти в голову.
Видя мое отчаяние, Митя, открыв краник радиатора, поднялся на ступеньку борта и зашептал укоризненно:
— Возьми себя в руки! Мало ли что бывает! Это и я виноват. Беда большая, но от этого не умирают. Мы же знали, что легко не будет. Что же ты раскис! Нельзя нам сдаваться, нельзя!
Интересно, как проявляются свойства характера при подобных испытаниях. Митя был готов по–братски делить ответственность. Моя слабость делала его сильным и собранным. Щетинин суетился возле нас, как добрый дядюшка. Он заглядывал в глаза, всячески показывая готовность помочь чем может. Для него были важны не дальние следствия нашей оплошности, а привычная необходимость вот сию минуту ободрить, утешить, облегчить тяжесть товарищей по несчастью. Только Янсон, когда понял, что произошло, что полета не состоится, молча, не задав ни одного вопроса, ушел от самолета в сторону. Походив вдалеке минут десять, вошел в лес, и я слышал треск ломаемых сучьев для костра. Этот человек знал тщету слов и благо действий.
Митя открыл мотор, а я пошел на разведку местности. В моем состоянии было необходимо чем–то заняться, найти разрядку горестным переживаниям. Самолет без мотора мертв. Теперь все надежды на то, что мы найдем совхоз и получим необходимую помощь от его людей. Надо найти приметный ориентир на местности, совпадающий с картой, и от него начинать поиски. Попробую сориентироваться по месту посадки, решил я и направился по лыжному следу.
По лыжне шагалось легко. Вскоре я согрелся, и только онемевшие руки требовали непрерывного шевеления пальцами. Я шел и поглядывал по сторонам. Река, укрытая снегом девственной белизны, лежала широко и привольно. Ее ложе ограждал седой от инея лес. В отдалении, как сфинксы, высились выбеленные сопки. Тишина невероятная. Голубая чаша накрыла этот безмолвный и безлюдный мир. Солнце не грело, но щедро расплескало себя в снежных кристаллах мириадами слепящих лучиков. Мороз пощипывал лицо, белый пар от дыхания оседал на бровях, ресницах и проступающей бороде. Лишь скрип моих шагов, шум дыхания да извилистый лыжный след говорили о присутствии жизни в этой звенящей тишине. Я еще был способен воспринимать окружающее великолепие, и оно постепенно вывело меня из круга горестных раздумий.
Со мной был охотничий карабин. С патронами в нем — не меньше четырех килограммов. Рука в кожаной перчатке онемела, совершенно потеряв чувствительность. Положив ружье на лыжный след, я сделал несколько упражнений, чтобы восстановить кровообращение. И подумал я, когда почувствовал в пальцах «иголки»: «А на черта я таскаю эту игрушку? Нет же никаких признаков дикого зверья. Только руки зря морожу. Оставлю ее здесь, захвачу на обратном пути!.. А вдруг увижу зайца? Вон сколько следов!»
Решив так, пошел дальше, всматриваясь в местность, перекладывая ружье из руки в руку. И действительно, в одном месте, за бугром, усмотрел заячью мордочку с черной пуговкой носа. Почувствовав во рту вкус жареной зайчатины, стараясь не делать резких, пугающих движений, я тщательно прицелился. Щелчок — выстрела нет. Заяц стоит, только уши дрогнули. Еще щелчок — опять осечка. Что за дьявольщина?! Переменил патрон, взвожу затвор, щелкаю раз за разом. Нет, выстрела не будет! Догадался, что карабин законсервирован смазкой, потому и не стреляет. А зайцу, видно, надоело стоять бесполезной мишенью. Он нахально, не спеша удалился.
Подосадовав, я рассмеялся, представив картину: нахальный заяц и незадачливый охотник. Но в сознании уже отложился нужный вывод: в полете каждая вещь должна быть готовой к немедленному действию. Поставив карабин вертикально в снег, чтобы не пропустить на обратном пути, пошел дальше налегке.
Некоторое время шел, сосредоточившись на отогревании немеющих рук. Хлопал себя по плечам, по бедрам, играл «в ладушки». А мысль о мужестве, ставшая для меня как бы опорой для предстоящих испытаний, вдруг повернулась новой гранью.
Вот Джек Лондон показал нам сильных людей. Его герои тоже боролись с холодом, голодом и страдали от своей неопытности. Но ведь, преодолевая великие трудности, они не думали об освоении той же Аляски. Они думали о золоте лично для себя. Их вдохновлял дух наживы и обогащения. А вот, например, Янсон. Как выяснилось у костра, в гражданскую войну командовал полком, а сейчас занимается торговлей на Чукотке. Или учителя — совсем юные комсомольцы, мальчики и девочки Большой земли, — зачем они приехали сюда? Разве их золото вдохновляет? Нет, у нас, советских, совсем другой смысл жизни и преодолений. И мы с Митей приехали не ради обогащения. Всегда были и будут люди высокой цели!..
«Помните, Каминский, что это очень нужно нашей армии, и вам не будет страшно в минуту опасности!» — вспомнились слова Гроховского, Подумал и о нем. Он сейчас не испытывает ни холода, ни голода и живет в Москве. Но все время продирается через дебри неведомого, и тоже нередко рискует самым драгоценным— жизнью! Значит, не надо искать примеров у Джека Лондона. Они у меня перед глазами в тех людях, каких я лично знаю.
По лыжне я дошел до места посадки и вновь подивился своему везению. Спланируй я на пятьсот метров дальше, не миновать бы мне встречи с высоким берегом, где река делает крутой поворот. Не дотяни я пятисот метров, лес не позволил бы совершить посадку и пришлось бы садиться на склон сопки. Оба варианта исключали тот благополучный конец, который богиня удачи подсунула мне в туманной мгле. Явное ее покровительство еще более ободрило меня. Оказалось, что мы отрулили по направлению к совхозу километров десять. К темноте я вернулся в лагерь.
К этому времени Митя успел тщательно осмотреть мотор. Оказалось, что подгорели резиновые кольца между цилиндрами, явно пригорели клапана. Они не двигались свободно в своих направляющих. Часть цилиндров приобрела «цвета побежалости», а это наводило на мысль, что поршни ни к черту не годятся. По заключению Мити после приработки клапанов с керосином перелететь в совхоз мы сможем, а там надо будет «лечить» мотор.
К моему удивлению, утреннее крушение иллюзий не вызвало бунта «стариков». Денисыч сохранил свое добродушие, и даже Янсон как–то отмяк сердцем. Видно, оценил, что мы не только совершаем ошибки, но и что, как говорится, не «пускаем слюни». Видя нас измученными холодом и бессонницей, они по собственной инициативе весь день заготавливали хворост на следующую ночь.
«НА ЛЕЗВИИ БРИТВЫ»
Вторая ночь прошла примерно так же, как и первая, Пытаясь согреть ноги, я совал их прямо в костер, валенки прогорели, появились дыры. Пришлось мастерить «калоши» из брезента и проволоки. Кожаные рукавички при заготовке хвороста размокали, а при сушке над огнем пересохли и в конце концов развалились на кусочки. Руки пришлось обертывать мануфактурой. Митя, когда копался в моторе, подморозил руки. Но мы как–то обтерпелись и психологически подготовились к долгому житью в этой обстановке.
На третье утро, оставив Митю заниматься мотором, я пошел по течению реки на север. Вчерашняя разведка убедила, что совхоз там. Стояла такая же тихая и ясная погода, а спиртовой столбик термометра не сдвигался с отметки минус сорок пять. На этот раз не было лыжного следа, пришлось идти по целине. Рыхлый снег и самодельные калоши на валенках затрудняли движение, выматывая силы. Усталость от предыдущих дней висела на плечах тяжелым грузом, однако я шел и шел вперед, влекомый надеждой, что, может, вот за этим поворотом откроется поселок и сразу кончатся все муки. Но пришел момент, когда я понял: если немедленно не поверну — до лагеря не доберусь.
Уверенность, что совхоз рядом, что до него ближе, чем до лагеря, заставила меня колебаться. Однако осторожность, а точнее — выработавшаяся на испытательной работе привычка полагаться на достоверное, взяла верх, и с тяжелым сердцем я тронулся в обратный путь.
Какая это великая, окрыляющая сила — Надежда! Она осталась на точке поворота, и с первых же шагов я почувствовал, как изломано мое тело, как непослушны ноги и руки. Решил, что буду отдыхать через тысячу шагов. Голова отупела, в сонливом безразличии я считал шаги, уже не разглядывая красот природы. Больше всего хотелось лечь и не двигаться. Так я и сделал, честно отсчитав первую тысячу шагов. Потная спина ощутила, будто к ней, под белье, засунули лист раскаленного железа. Но тело уже не реагировало даже на это — оно замерло, противясь малейшему движению.
Сколько пролежал я в забытьи, не помню. Вероятно, долго. Очнувшись, ощутил себя в тепле и не сразу сообразил, где я, что со мной.
Мысль шевелилась лениво: «Вот так и замерзают! Надо встать, надо идти! Сейчас. Еще чуть–чуть полежу. Тряпка ты! Подняться не можешь, а еще о мужестве рассуждал!»
Этот укор возымел действие, и я встал. В висках стучали молоточки, в глазах плыли радужные круги. После нескольких шагов раскаленные иголки вонзились в руки и ноги. Но прояснившееся сознание ужаснуло меня не болью, а пониманием того, какую опасную грань я миновал.
Солнце уже скрылось за горами на юге. Закатное небо полыхало малиновым цветом, заснеженный лес стал дымчато–сиреневым, утратив свою рельефность. Теперь я шел, не считая шагов, лишь останавливаясь для отдыха, зная, что ложиться нельзя.
Иногда ноги цеплялись одна за другую, и я падал. Казалось уже, не встать, но вставал, снова падал и опять вставал.
Были минуты, когда я не отдавал себе отчета в происходящем, потом вдруг — яркая вспышка полного сознания, и я обнаружил, что иду, стараясь ступать по проложенному следу.
Наконец в темноте показался костер. Я не спускал с него глаз… Он притягивал как магнит. Падая, я ощущал инстинктивный ужас, что теряю свой маяк. Прежде чем подняться самому, подымал над снегом голову.
Позднее, вспоминая это бесконечное движение к огню костра, я пришел к выводу, что не сознательная воля к жизни, а инстинктивное упрямство, много ранее укоренившееся чувство долга, который надо выполнить, и привело меня к желанной цели.
Обеспокоенные товарищи сдвинули горящие ветки в сторону, на горячую золу постелили моторный чехол (как мы раньше не догадались?), стащили с меня валенки, обернули ноги шарфами, на руки надели свои камусовые рукавицы и силком напоили горячим шоколадом со спиртом. Укрыли чехлом от кабины, и я уснул как убитый.
Снилось что–то кошмарное, но явственнее всего запомнилось, что вижу себя замерзшим, с лицом, покрытым инеем. Митя тормошит мое безжизненное тело и плачет. Его слезы, как капли горячего воска, падают мне на лицо, обжигая его. Порываюсь сказать: «Что ты плачешь, Митя, я еще не совсем замерз!» И просыпаюсь от острой жалости к горю друга. Первым ощущением было тепло. Во мне и кругом меня. На мгновение охватил испуг. Ведь вчера, очнувшись на снегу, я чувствовал такое же тепло, ясно сознавая ложность этого ощущения. Я рванулся встать, но, сдернув с головы чехол, увидел звезды и стал приходить в себя.
Митя спал рядом, укрывшись тем же чехлом. Временами он вздрагивал и бормотал непонятное. Тепло шло от Мити, от теплой золы внизу, от ватного чехла, прикрывавшего нас. Даже запах масла и бензина, исходивший от чехла, подтверждал подлинность ощущения. Впервые за трое суток наша одежда прогрелась и удерживала телесное тепло. Я пошевелил руками, ногами, потянулся — все действует. Распрямившись на спине, вновь сознавая себя сильным и здоровым, я замер в блаженстве.
Как только начало светлеть небо, я тихонечно поднялся, бережно укрыл Митю чехлом, принес хворосту, поставил на рогульки чайник и стал готовить завтрак для всех.
ПОСЛЕДНЯЯ МИЛОСТЬ ФОРТУНЫ
Наступил четвертый день. Митя сделал с мотором все что мог, и мы пошли с ним искать совхоз вдвоем. Мы прошли тот путь, который я одолел накануне. С окрепшими силами, по проложенному следу мы прошли достаточно легко. Убедились, что половина этого пути крадется изгибами реки. Решили вернуться, чтобы завтра пойти напрямую, через заросли проток: труднее, но много короче.
Назавтра, прошагав километра четыре по реке, мы вошли в чащу тальника и сразу же провалились в снег по пояс.
Спотыкаясь о стволы упавших деревьев и пригнутые снегом к земле ветки, мы одолели что–то около трех километров, не больше. Поняли, что так мы далеко не уйдем, и решили вернуться.
Теперь можно признаться, что поодиночке ни я, ни Митя не вышли бы к лагерю. Был момент, когда, споткнувшись, я упал на снег. Наступило забытье. Сколько оно продолжалось, не знаю. Очнулся у Мити на коленях. Он обнимал меня за плечи, растирал нос и щеки и шептал:
— Мишуня! Дорогой мой! Ну очнись же! Возьми себя в руки, надо идти, надо подняться и идти… Боже мой, мы же погибнем здесь, если ты не подымешься…
Его слова я воспринимал как через вату. Они доходили до сознания откуда–то издалека и не сразу. Я поднялся. Колени дрожали, в ушах стоял шум. Держась за Митин пояс, побрел дальше.
Спотыкаясь о коряги под снегом, мы падали и поднимались, помогая друг другу. Но вот мы упали оба сразу — мое тело больше не двигалось и замерло на теплой Митиной спине. Через несколько минут или секунд меня, как удар тока, пронзил испуг: ведь это Митя лежит подо мной лицом в снег! Как же он может так лежать?
Мысль сработала, а тело на сигнал тревоги не среагировало.
«Ну, что же ты не встаешь? — говорю сам себе. — Может, Митя уже умер, а ты лежишь!»
Я сполз с Митиной спины на колени, и мне стоило труда повернуть его обмякшее тело на бок. Глаза закрыты, лицо белое.
Прислонил щеку к губам — дышит. Стал растирать ему лицо снегом, не чувствуя собственных рук. Наконец Митя открыл глаза и произнес неестественно–нормальным голосом:
— Я сейчас, Миша. Я сейчас, только отдохну чуть… — и опять впал в беспамятство.
Стыдно признаться, но нервы мои сдали, и слезы брызнули из глаз.
Интересно, что даже в этом, совсем обессиленном состоянии каждый из нас понимал, что друг тратит последние крохи жизненной энергии, чтобы поднять тебя, что он не уйдет и тоже погибнет, если не подымешься ты.
Митя поднялся, а я пошел впереди. Вскоре в просветах показалась равнина реки. Теперь оставалось одолеть последние четыре километра. Целых четыре! Как это было много! Я совершенно уверен, что мы не одолели бы их, но судьба вновь смилостивилась к нам в последний момент.
Выходя из зарослей, я остановился, не веря глазам. В таких случаях вполне уместно выражение: «Как пораженный громом!» Может, галлюцинация?!
— Митя! Ты что–нибудь видишь? — закричал я. (Потом он сказал, что еле расслышал мой хрип.) Митя рванулся вперед, а я, освобождая тропу, упал на бок.
Перед нами, как сказочное видение, стояла избушка! С неожиданной резвостью Митя обежал ее кругом, потрогал бревна и, заорав что–то нечленораздельное, вновь повалил меня в попытке обнять. Откуда–то появились новые силы, и прояснилось сознание.
Это была «поварня». Так на Анадыре именуются избушки, построенные в стародавние времена. Они служили каюрам и лодочникам для отдыха и располагались через промежутки, равные дневной норме езды. Одна из них и оказалась на нашем пути.
Устремившись к обнаруженному чуду, а иначе эту находку нельзя было назвать, мы одновременно толкнулись в дверь. А она не поддается! Охватил испуг — не откроем и замерзнем около дома! Но тут же я рассмотрел рукоятку внутренней щеколды, повернул ее, и дверь открылась сама.
Эта избушка была построена из плавника и имела размер три на три. В середине помещался очаг из камней для костра, в крыше виднелась дыра для дыма. Окон не было, но были дверь и даже крыльцо, а в избушке нары. Мы переводили взгляды с нар на крыльцо, затем на остатки древесного мусора по углам и видели во всем этом спасительное тепло. Надо только развести огонь.
Но я едва шевелил пальцами и уже не мог удерживать спичку. Мускульное ощущение пространства утратилось начисто. Чтобы взять спичку, пришлось высыпать содержимое коробки на пол. Двумя руками я держал щепотку спичек, а Митя чиркал коробком. Спички загорались — это были добротные довоенные спички, но собранный на очаг мусор не воспламенялся. Два коробка израсходованы, оставался последний. В отчаянии я опустил непослушные руки и стал обводить взглядом все кругом, соображая, что же сделать?
У меня не вызывают восторга такие понятия, как «судьба», «удача», «везение». Употребляю их за неимением других. И вообще сколько же может «везти» человеку на коротком отрезке времени? И все–таки нам действительно повезло, как никогда раньше.
На ремешке, перекинутом через шею, у меня висел самолетный компас. Он был взят, чтобы выдерживать направление при походе через заросли. Мой взгляд остановился на компасе, и я невольно воскликнул про себя: «Балда! Это же спирт!»
Почему я не сбросил этот тяжелый предмет, когда даже собственные ноги казались слишком тяжелыми, чтобы их поднимать, не понимаю. Если бы ремешок оборвался, я даже не вспомнил бы о потере. Но он не оборвался, и в этом тоже было везение. Я разбил о камень стекло и смочил щепки драгоценной влагой. Огонь вспыхнул от первой же спички, и его голубое пламя вызвало ликование. Удивительно, как мало надо человеку, чтобы почувствовать себя счастливым.
Эту ночь мы спали, по выражению Мити, как короли. Впервые блаженное тепло было кругом нас. Пара плиток шоколада пополнила истраченную энергию. Утром мы вернулись к стоянке самолета, к обеспокоенным спутникам.
— По лицам вижу, что нашли! — встретил нас Денисыч обрадованно.
— Нашли, Денисыч, нашли! Не то, что искали, но очень важное — поварню.
— Ну и это ладно, а то душа изболелась смотреть, как вы мерзнете.
— Это им полезно! — вставил Янсон. — Будут уважительнее!
— Товарищ Янсон! Неблагородно бить лежачих! Если хотите знать, я проникся полным уважением к школе, в которую попал, И уроки эти не забуду!
— Ну вот, это уже речь не мальчика, а мужа. Рад за вас!
У него потеплели глаза, и, сказав: «Не сердитесь на меня!», он первым протянул мне руку. Я ощутил ее силу.
В радостном оживлении, наскоро собрав продукты, чехлы, кое–какой инструмент, мы двинулись к поварне. Когда пришли, жестом гостеприимного хозяина Митя распахнул дверь и произнес:
— Ну вот, располагайтесь как дома!
Оставив в избушке спутников, мы с Митей вернулись к самолету, чтобы как–то укрепить его на случай ветра и посмотреть, что еще прихватить с собой.
Когда вернулись, нас встретил сияющий Щетинин:
— Ну, хлопцы, пляшите! Свет не без добрых людей. Нарты приехали.
Оказалось, что каюры–камчадалы из совхоза, напав на наши следы, приехали к поварне. Они привезли с собой хлеб, юколу, мясо. Наши желудки, казалось, присохли к спине от шоколада и сгущенки — калорий вроде бы достаточно, а все время ощущаешь пустоту в животе. Мы увидели целую вязанку дров, дымящийся котелок с оленьим мясом, а возле очага — Янсона и двух мужчин, оживленно беседующих. Нас не надо было уговаривать присоединиться к этой компании. По сравнению с изможденными, грязными, заросшими щетиной лицами моих спутников, каюры казались воплощением силы и здоровья. И действительно, это были мужчины в расцвете сил. Младшему, Иннокентию, около тридцати, а Анисиму за сорок. Эти люди великолепно приспособились к здешней жизни. На них не было ни одной вещи фабричного происхождения. Вся одежда из оленьего меха. Даже пуговицы на брюках и те самодельные, из каких–то костей. Каюры смотрели на нас доброжелательно, наперебой угощали тем, что у них было, и чувствовалось, что это люди открытой, доверчивой души.
От каюров мы узнали, что «Снежное» в сорока километрах от нашей стоянки, что только вчера состоялся первый сеанс связи с Анадырем после недельного перерыва. Анадырь запросил; «Ну как там наши летчики?» Естественно, в совхозе не имели об этом никакого представления. И вот сегодня затемно нас поехали разыскивать. Мы были обнаружены первыми. О Пухове ничего не известно.
Из нашего рассказа каюров больше всего порази» тот факт, что мы вылили на снег из мотора спирт, которым разбавили воду на пятьдесят процентов. В ходе разговора они все время возвращались к этой нашей ошибке, качали головами и мечтательно причмокивали губами.
Сообща решили, что одного из каюров отправив дальше по реке искать Пухова, другого в совхоз — за керосином и котлом для подогрева воды. Нельзя думай об отдыхе, пока не окажутся найденными товарищи.
На следующее утро Анисим и Иннокентий вернулись, Никаких признаков второго самолета Анисиму обнаружить не удалось. А Иннокентий привез керосин и котел, Мы тут же направились к самолету. Нагрели воду и пытались запустить мотор. Но не удалось, хотя для рывка амортизатора подпрягали даже собак. Неужели мы так «подожгли» мотор, что потребуется его переборка на месте? А может, не запускается от низкой температуры?
Поняв, что лететь на поиски Пухова не придется, решили ехать в совхоз. Надо восстановить силы, а главное, дождаться некоторого потепления.
Двойственное чувство я испытывал, возвращаясь и людям. Конечно, радостно освобождение от мук холод! и других лишений. Возвращалась свобода поступков я простое счастье жить как все. Но в этих радостях была ложка дегтя — неудача с запуском мотора. Она усугубляла мою моральную ответственность за судьбу экипажа Пухова. Может, ребята сейчас на пределе сил? Вряд ли им тоже встретилась избушка, и, может, они теряют последние калории тепла, поддерживающие жизнь. Каждый час имеет решающее значение, а я еду отдыхать? Сознание бессилия отравляло радость.
И еще одно странное и тогда смутное ощущение не оставляло меня. Разобрался в нем много позднее, когда познал не только горечь неудач, но и счастье побед. Это ощущение символически связывалось с топором.
Человек не рождается с психологией иждивенца. Иждивенчество воспитывают условия жизни. По своей природе человек — борец и созидатель. Он всегда хочет чувствовать, что «не слабак», что может противостоять невзгодам, а не подчиняться им. Обстоятельства, освобождающие от борьбы, не всегда покажутся благом.
Вынужденная посадка возвратила меня из эпохи цивилизации в каменный век. Я вполне прочувствовал беззащитность первобытного человека и даже представил тебя в его роли. Я живу в лесу, и меня подстерегают тысячи опасностей. Боюсь диких зверей и мучаюсь от холода. И вот нахожу пещеру. Ее стены защищают меня от зверья, а огонь спасает от холода. О чем теперь могу мечтать? О вещах, которые помогут мне стать все сильнее перед лицом безжалостной природы. Такой вещью мог стать топор.
Найдя избушку, я стал многократно сильнее. Привыкшие к городскому комфорту слетали, как шелуха. В своей психологии, в физических силах я обнаружил возможности приспособиться к жизни в первобытных условиях. Для моего «я» становилось даже необходимым самому себе доказать, что я не неженка, не слюнтяй.
И вот топор, так необходимый все эти дни, теперь есть, но он уже не нужен. И ничего не надо доказывать.
Для городского читателя предложу другой пример. Допустим, вы учитесь в институте и через год–два закончите его. Но вам предлагают инженерную должность и все прочие хорошие условия. Вы испытываете радость освобождения от напряжения учебы, зачетов, сессий, экзаменов. Одним ударом отрубается период бедного студенчества. И все же вас угнетает незавершенность усилий, короче говоря — отсутствие диплома.
Я тоже попал в «институт». Несмотря на тяготы учебы, меня «заело». Хотелось доказать себе и тому же Янсону, что уроки пошли впрок, что я могу выдержать и больше. Но мне сказали; «Кончай учиться!» А я ведь еще не все узнал. И прежде всего не узнал, где предел моим силам. Меня пожалели, а жалость совсем не вдохновляющая сила…
ПУХОВ И БЕРЕНДЕЕВ
Поздно ночью мы приехали в совхоз.
Приняли нас с истинно русским хлебосольством. Это было приятно: мы ощутили иллюзию возвращения на Большую землю. Забывалось, что мы — на суровом, малопонятном и еще чужом «краю света». На всю жизнь запомнились оленьи почки, мозги и языки. После многодневной шоколадной диеты эти блюда казались царским угощением. После обеда мы проспали почти сутки.
А еще через день, как по заказу, потеплело. На небе стали появляться предвестники циклона — облака, температура поднялась до минус двадцати. Мы с Митей отлично восстановили силы и вернулись к самолету еще до рассвета. Щетинин и Янсон остались в совхозе, и помочь нам запустить мотор должны были каюры. Мотор удалось запустить сразу, и через пятнадцать минут после взлета в пятидесяти километрах от нашего приземления был обнаружен самолет Пухова.
Он был цел и, к моему удивлению, возле самолета стояла палатка. Когда мы сели неподалеку и подрулили к лагерю Пухова, увидели под моторной «юбкой» его самолета примус. Пухов готовился к вылету. Удивило, что нам не только не показали место посадки, как принято в таких случаях, но никто из троих членов пуховского экипажа не подошел к нашему самолету, когда я выключил мотор.
Обрадованный, что и здесь все благополучно, я не придал этому значения и с распростертыми объятиями побежал к Пухову:
— Николай Иванович! Ты не представляешь, какой камень свалился с души, когда увидел вас в добром здоровье!..
Но командир встретил меня не только сухо, но почти враждебно:
— Завел! Посадил! И радуешься! — В его голосе слышались обида и угроза.
— Но ведь ты даже не предупредил, что летим вслепую, без погоды.
— Митинговать было некогда, и так опаздывали!
Я растерялся: настолько этот прием не соответствовал моему настроению. Но последние слова вынудили меня перейти в наступление.
— Во всяком случае, оставлять меня в неведении ты не имел права!
— А твое дело маленькое! Я отвечаю за все! Ты ведомый и не должен был уходить от меня. Ишь, какой прыткий, проявил инициативу! Завел в туман, а сам даже не соизволил сесть рядом.
Я понял, что он хочет свою вину переложить на меня, и возмутился той ролью, которую он отвел мне во всей этой истории.
— Ну, знаешь, Николай Иванович! Я тебе не пешка, которую ты можешь ставить на любую клетку. И то, что мы здесь должны делать, не игра!..
Он перебил меня:
— А ты мне мораль не читай, я тебе сам разъясню, что ты не у Гроховского, а на Чукотке!
— Я понимаю одно, что не нахожусь в услужении у купца Пухова, и пугать меня не нужно. По твоей милости я уже пуганый: вынужденная посадка серьезнее твоих угроз. Ты даже не спросил об этом.
— И так ясно: жив, здоров! Только гонору, вижу, прибавилось!
— Ну вот что, Николай Иванович! Отложим этот разговор до политотдела, а еще лучше до Волобуева. Я думаю, ему будет интересно узнать, почему наш отряд начинает полеты с вынужденных!
Пухов понял, что на испуг меня не взять, и сразу сменил тон:
— Ну вот, нельзя и слова сказать. Сами натворили, сами и разберемся. — И совсем миролюбивым тоном попросил: — Лучше помоги запустить мотор.
— Нет, ты мне скажи сначала, откуда у вас палатка! Ведь по твоему же предложению решили палаток не брать, чтобы облегчить вес самолетов.
— Это Берендеев спрятал. Я и сам не знал.
— Ну, похоже, Берендеев был умнее нас с тобой. Как вы здесь жили?
— Да ничего особенного. Правда, голодновато было. Продукты я выдавал осторожно. За них платить придется.
— А чего же вы не вылетали? Ведь сразу же установилась погода.
Тут Пухов вновь рассвирепел.
— Спешка, Михаил Николаич, нужна при ловле блох. По такому морозу хозяин собаку не выгонит! — И, прекращая разговор, направился от меня к самолету.
Стало ясно, что мы по–разному учились в этом «институте»…
Мы помогли запустить подогретый мотор, и через сорок минут оба самолета благополучно приземлились на реке против «Снежного».
В дальнейшем выяснилось, что Пухов произвел посадку с первой попытки. Случайно он вышел на ровную поляну сбоку от реки. Поляна была покрыта низким кустарником, кусты позволили увидеть землю и благополучно приземлиться. Было порвано лишь полотно в нижних крыльях.
Но в положении экипажей Пухова и нашем была существенная разница. Эту разницу определил опыт бортмеханика Берендеева. Он был постарше нас годами с авиационным стажем и, к его чести будет сказано, отличался большим здравым смыслом.
Так вот, Николай Михайлович Берендеев, послушав в Анадыре наши рассуждения, что палатка, дескать, ни к чему, так как, «если один сядет на вынужденную, другой окажет ему помощь», ничего не сказал, однако палаточку припрятал. Так же втихую он запрятал мешочек сухарей и пшена. И это выручило экипаж в тяжелые дни. Они не страдали от холода, как мы, в палатке все время горела паяльная лампа, и люди нормально спали и ели.
Берендеев не стал разбавлять воду спиртом, а снял с самолета дополнительный бензобак, прорезал в нем люк и заранее приготовил из снега воду. Заплаты на порванные крылья он приклеивал сгущенным молоком, и они отлично выдержали перелет.
Но зато, когда потеплело, у него все было исправно и готово к запуску. К моменту нашей посадки мотор был нагрет, и мы помогли лишь залить воду и дернуть винт.
Берендеев дал нам с Митей памятный урок находчивости и предусмотрительности.
ЕЩЕ ОДИН «УЧИТЕЛЬ»
Казалось бы, история с вынужденной на этом должна была закончиться. Но в наш «университет» пришел еще один учитель. Мы были наслышаны о нем, но лично не знакомы.
Этим учителем оказалась чукотская пурга. Среди дня небо покрылось сплошной облачностью и подул несильный ветер. Наши самолеты были укреплены по методу каманинцев: под крылом на расчищенный от снега лед укладывались концы троса, на которые сверху набрасывался снег и пропитывался затем водой. Образовывался снежно–ледовый якорь. Мы с Митей решили перестраховаться. Я вырубил во льду лунки глубиной в сорок сантиметров и заложил в них поленья, обвязанные тросом.
Потом этот якорь заморозил и привязал его к крепежным кольцам самолета. Придя после работы на обед, мы застали в столовой весь экипаж Пухова. Николай Иванович был под хмельком и наигрывал на гитаре. Я доложил ему о своем решении усилить крепление самолета. Не поворачивая головы, он, как показалось, презрительно ответил: «Обжегся на молоке — дуешь на воду!» — и опять забренчал на гитаре, считая вопрос исчерпанным. Мы молча пообедали и ушли в свои комнаты.
Ночью поднялась пурга. Ветер шутя перекатывал бочки с бензином, разметал поленницу дров и сорвал крышу со склада. А с рассветом совхозный сторож, приставленный для охраны к самолетам, поднял тревогу: на стоянке не оказалось самолета Пухова.
Не сговариваясь, я и Митя кинулись вместе с Берендеевым искать самолет. Обнаружили его на той стороне реки, за семьсот метров от стоянки. Концы нижних крыльев, рули хвостового оперения и стойка хвостовой лыжи были поломаны. Картина была печальной, и нам оставалось радоваться, что пострадал лишь один самолет. Мы укрепили самолет Пухова на месте и были вынуждены ждать, пока кончится пурга.
У Пухова, как ни странно, хватило выдержки сидеть дома в ожидании нашего доклада. Выслушав его, он назначил меня председателем аварийной комиссии. Через два часа я вручил ему акт на аварию, при этом произошел такой диалог:
— Что ты здесь написал?
— Акт на поломку самолета.
— Что за чепуха! Разве так пишут акты? Надо написать, что пурга была такой сильной, что крепежные кольца самолета вырвало из лонжеронов, поэтому самолет был сорван со стоянки и потерпел аварию. Ясно? — в его голосе появилась обманчивая теплота.
— Это же неправда!
— А ты что, дал клятву бороться за правду? — спросил Пухов раздраженно. — Здесь вся правда в нас самих. Что напишем, то и будет правдой!
— Довольно странное понятие о правде, — возразил я. — При всем желании помочь тебе другого написать не могу,
— Не учи меня жить! Проживу без твоих нотаций! Скажи Островенко, чтобы перегрузил все с моего самолета на твой. Я поведу его до Маркова.
— Воля твоя. Ты командир. Но в Анадырь я попаду на своем самолете сам.
— Ну это мы еще посмотрим! — И он со злостью бросил на стол аварийный акт.
УРОК МУДРОСТИ
Я понял, что этого мне Пухов не простит! Разыскав Щетинина, я пересказал ему происшедший разговор. Николай Денисович долго молчал, разглаживая ладонью щетину на подбородке. Не любил он конфликтных ситуаций в незнакомом ему деле. Ответил так:
— Сегодня же я направлю радиограмму Волобуеву. Пусть прилетает и разбирается в ваших делах. Я ни черта не смыслю в авиации, ты уж не взыщи с меня, но и кое–что соображаю в людях. Мне не нравится поведение Николая Ивановича. Высокомерие и заносчивость никогда не украшали коммунистов. Но ему оказала доверие Москва, и не в моих силах лишать его прав. Ты правильно поступил, что не стал спорить из–за полета в Марково. И по–своему прав, желая вернуться на базу на своем самолете. Ты его сохранил, и это твое моральное право. Но не забывай, что Пухов командир и ты обязан ему подчиниться, даже если он не прав. Его поправят те, кто стоит выше.
Видя, что огорчил меня своим ответом, он дружелюбно положил руку на плечо, как бы усаживая на место, и продолжал:
— Ты подожди, не горячись! Я еще не кончил. Так вот что я скажу о тебе и Мите. Вас застала внезапность. Это могучая сила, она ломает и не таких. Но вы не испугались. В основном вы справились со сложившейся обстановкой. А ведь вы городские люди и попали в переплет, где и более опытные могли сдрейфить. По существу, это было испытание вашей моральной и гражданской прочности. И вы его выдержали. Это главное, а остальное образуется, ты уж мне поверь. Иди и не переживай. И не давай Пухову повода для нападок.
Не скажу, что речь Щетинина меня ободрила. Я ушел от него расстроенный.
Через день пурга стихла, как будто ее и не было.
Опять стало тихо, над головой синело небо, мороз не превышал 35 градусов. С грустью я смотрел с высокого берега, как готовили мой самолет для полета в Марково. Было невыразимо обидно, что все так нескладно началось у меня на Чукотке. Я не заметил, как подошел ко мне сзади Янсон и, опустив руку на плечо, с несвойственной ему мягкостью в голосе сказал:
— Грустите, товарищ Каминский! — Он так и не смог перейти на другую, менее официальную форму обращения. — Сейчас я улетаю, и мы не скоро встретимся. Несколько слов на прощанье. Не скрою, вначале я думал, что вы из породы романтиков. У них хорошие побуждения, но, как правило, мало средств для их реализации. По крайней мере, я чаще встречал таких и привык им не доверять в серьезном деле. Я изменил свое мнение о вас. В серьезном деле вы, как это у вас, русских, говорят, — выдюжили. В моих глазах это самое важное. Эта страна, — он сделал широкий жест, как бы показывая страну, — как чистый лист бумаги. Никто не знает, что на нем будет написано. Я убежден, что сегодняшним Колумбам необходимы самолеты. Без них эту страну не завоюешь. Верю, что вы будете полезны Чукотке. Желаю вам успехов.
Он пожал мне руку и, казалось, хотел отойти, но вновь вернулся и добавил:
— Ваш Пухов пустозвон. Не переживайте из–за его нападок. А вот Митя мне нравится, на него вы можете положиться. Ну, до свидания. Еще раз желаю вам всего доброго!
В совхозе Янсон занимался своими делами, встречались мы с ним за эти дни два раза, в столовой. Он держался сухо и официально. Потому его слова удивили своей неожиданностью и, не скрою, растрогали.
По существу, Янсон продолжил сказанное Щетининым. Они как бы подвели итоги нашей вынужденной посадки. Слова Щетинина: «Испытание прочности» — выразили эти итоги кратко и в то же время глубоко. Все пережитое они высветили с неожиданной стороны. Я только горевал о нескладицах, которые одна за другой преследовали нас со дня вылета из Анадыря. Мы с Митей самокритично признали их результатом не только неопытности, но и легкомыслия. Чем больше я размышлял, тем больше соглашался с мудрой справедливостью старших товарищей. Ведь они могли бы усмотреть только лишения, какие претерпели из–за нас. Но они не обиду высказали, а надежду, что мы окажемся не гастролерами и сделаем на Чукотке то, ради чего приехали.
Упреждая все последующее, скажу, что этот урок сыграл свою роль менее чем через год. Кончилась наша смена, все авиаторы уезжали на материк, и нам с Митей пришлось решать этот вопрос для себя. Мы не уехали только потому, что не сочли свою задачу выполненной.
Пухов вернулся из Маркова на следующий день. Мы с Берендеевым к этому времени исследовали состояние аварийной машины и пришли к выводу, что на ней можно дорулить до места ремонта, то есть до Анадыря. Надо лишь укрепить хвостовое оперение, у которого сломалась стойка заднего лыжёнка. Запустили мотор и потихонечку подогнали самолет к совхозу.
Мне было разрешено отвезти Щетинина в Анадырь, а Пухов с механиком Берендеевым и штурманом Кочкуровым начал руление. Однако по прилете на базу меня уже ждала радиограмма Пухова с требованием вернуться в Усть–Белую. Задуманный эксперимент не удался, и вот почему.
Главная река Чукотки — Анадырь имеет протяженность 1500 километров, а ее бассейн охватывает территорию, приближенно равную такому, среднему по величине европейскому государству, как Румыния, — более 200 тысяч квадратных километров. На этой территории разместились всего три района: Анадырский, выходящий на побережье Берингова моря, Усть–Бельский, в 300 километрах вверх по течению от поселка Анадырь, и Марковский, до которого по реке от Анадыря считалось 750 километров. Прямая линия авиатрассы, первый полет по которой мы делали, сокращала путь до Маркова почти на 300 километров.
Не считая окружного центра—Анадыря, от устья до верховьев реки, имелось только три оседлых человеческих поселения: райцентры Усть–Белая и Марково да организованный в 1934 году оленесовхоз «Снежное». На многие сотни километров к северу, западу и югу можно было обнаружить лишь нечастые стойбища оленеводов.
Поселок Усть–Белая представлял собою десятка полтора рубленных из плавника домиков. Они тесно сгрудились на подошве сопки, которую река обтекала, круто поворачивая к востоку. Поселок был обращен на устье быстрой, широкой и исключительно прозрачной реки, текущей с гор Пекульнейского хребта. Не случайно она называлась Белой.
Против поселка хвостовая часть самолета сломалась настолько, что руление стало невозможным. Пухову еще повезло, потому что случись это даже в десяти километрах дальше поселка, — самолет пришлось бы бросать. Пухов приуныл, а Берендеев стал искать выход. Он осмотрел и измерил габариты всех местных зданий и установил, что в школе, если разобрать часть стены и одну внутреннюю перегородку, крылья лягут во всю длину. У него хватило мужества взяться за ремонт, который, по нашим представлениям, требовал заводских условий и не одной пары искусных рук. Получив согласие местных властей (к сожалению, не помню фамилий секретаря райкома и председателя исполкома), мы разобрали стену школы между двумя оконными проемами и в эти «ворота» внесли крылья, а также поврежденные части хвостового оперения. Стену заделали снова. С этого дня школа на полтора месяца превратилась в столярную мастерскую.
Пухов и Кочкуров пассажирами моего самолета прибыли на базу, а я сделал еще рейс для завоза Берендееву необходимых ему материалов.
Дальше пойдет описание событий еще более драматических, но прежде я хочу дополнить рассказ о совхозе, где мне открылся новый мир, показавшийся удивительным.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В СОВХОЗЕ «СНЕЖНОЕ»
ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ВЕРСТ ОТ МОСКВЫ
В «Снежное» мы приехали глубоким вечером. Грязных, закопченных, бородатых, нас прежде всего отвели в баню. А после нее я и узнал, что существует такая добрая фея, как повар Зоя Неласова.
Нас окружали милые, доброжелательные люди, они задавали вопросы, на которые мы отвечали. Но все не относящееся к пище воспринималось задворками сознания, как во сне. Реально осязаемой была только пища, быстро исчезавшая с нашего стола. После еды меня бросило в сон.
Проснувшись, я долго не мог сообразить, где нахожусь. Постепенно все встало на место. Я в совхозе. Мы приехали ночью. Самолет остался на вынужденной. Надо ждать потепления. А где же Митя?
Я вскочил с кровати, схватил с табурета свою одежду и стал одеваться. Тут появился Железов.
— Наконец–то! Я уже думал, что ты не проснешься!
— Как я сюда попал? Который час? Где Митя?
— Это моя комната. Я тебя привел, раздел и уложил. Ты спал восемнадцать часов. Митя уже на ногах. Сейчас время ужина, умывайся, нас ждут…
В совхозе в общей сложности я провел пять суток. В эти дни для меня здесь открылся особый мир. Я еще чувствовал себя человеком из центра и полагал, что, оказавшись от него так далеко, увижу здесь провинциально–тихое, безмятежное бытие и людей, ничем не озабоченных. Но все оказалось не так. Пробыв в совхозе сутки, я забыл, что до Москвы пятнадцать тысяч километров, что на сотни километров вокруг — дикая глушь.
Оленесовхоз «Снежное» — поселок из полудюжины бревенчатых домов и такого же количества хозяйственных построек. Он возник всего год назад на правом пустынном берегу Анадыря. Сзади были сопки, а впереди — без конца и края — низменная тундра. Между ними большая река — единственная дорога к другим оазисам человеческой жизни. Это была «центральная усадьба». А главное богатство совхоза — стада оленей — находились в сотнях километров от «Снежного», на просторах тундры и предгорий.
Основной персонал специалистов составляли зоотехники. Они неделями и месяцами кочевали со стадами и жили в ярангах чукчей–пастухов. Возвращались сюда время от времени, чтобы помыться, отчитаться и запастись необходимым ассортиментом продуктов. Мы застали период осенней выбраковки и забоя оленей. Стада подтягивались к центральной усадьбе, и большая часть зоотехников была здесь.
Директором совхоза был Александр Никандрович Шитов, человек лет сорока, среднего роста, с простоватым белобровым лицом мужичка–русачка.
Вторым после него лицом в совхозе считался Леонид Бровин, старший зоотехник, ровесник мне — ему было тридцать лет. Остальным зоотехникам, недавним выпускникам техникумов и институтов, было от двадцати пяти до двадцати семи лет. Директора все они звали Никандрычем, но это не походило на фамильярность, а свидетельствовало о степени душевного контакта, который возникает в большой и дружной семье, позволяя младшим безбоязненно высказывать свое мнение старшему и даже поспорить с ним. И этот настрой в коллективе казался мне особо значителен потому, что Шитов был не просто добрым дядькой, а моряком–балтийцем, участником Октябрьского переворота в Петрограде, комиссаром революционных моряков на Волге и Каспии в годы гражданской войны. И то, что он, имея такое прошлое, был снисходителен и терпим к порывам молодежи, возвышало его в ее глазах.
При мне в кабинетик Шитова Бровин привел за руку упиравшуюся Женю Кричевскую и раздраженным голосом сказал:
— Никандрыч! Приструни ты ее, ради бога! Никакого сладу нет. Что хочет, то и делает. Я забраковал старого оленя, а она уперлась и не дает его в забой. Пусть тогда становится на мое место…
Шитов не торопясь поднял на лоб очки и внимательно, с интересом посмотрел на Женю, потом на Бровина. Эта пауза как бы предупреждала о том, что здесь все вопросы решаются только на принципиальной основе. Ранее я уже заметил эту манеру гасить страсти у Щетинина. Очевидно, она вырабатывается с возрастом и положением. Бровин выпустил руку Жени и подтянулся, Женя переступила два шага и оказалась по другую от Бровина сторону стола.
— Леонид Семенович! — Опять небольшая пауза. — Прежде всего не вижу повода для горячности. Вероятно, у Жени есть соображения, с которыми вы не пожелали посчитаться. Прошу вас, Женя, объяснить, из–за какого быка возник столь ужасный конфликт между двумя уважаемыми специалистами!
Слово «ужасный» в сочетании с «уважаемыми специалистами» звучало иронически, и от этого «проблема» обретала свое действительное значение. Бровин понял это сразу, и его пыл улетучился на глазах. Что же касается Жени, то она, чувствуя свои позиции сильными, постаралась закрепить победу.
— Во–первых, Александр Никандрович, мне непонятно, с каких пор старшему зоотехнику вменено в обязанность лично браковать быков в каждом стаде? Что, ему делать больше нечего?
— Стоп, Женя! Я спрашивал вас о быке, а вы мне говорите о Бровине. Это разные вещи!
— Так я же и говорю, Никандрыч, что он ничего не хочет слушать. Говорит, что Пятнистый — старый и хромой. Какой же он старый — ему всего восемь лет! А что захромал, так это боевая рана. Вы бы видели, как он защищал важенок от волков! Как же я могу согласиться с тем, что его забьют?
— Леонид Семенович, вам Женя говорила об этом? Бровин уже не ждал хорошего от своего визита к директору и чувствовал, что попал впросак.
— Верность долгу, Леонид Семенович, не определяется молодостью. Это качество индивидуальное. Женя права.
При этих словах она торжествующе вспыхнула и показала Бровину нос, приставив к нему растопыренную пятерню и высунув язык. Шитов, поморщившись, продолжал:
— Больше того, она умеет ценить то, чему вы, к сожалению, не придаете значения. А вам, Женя, пора отвыкать от озорства. Что за «фигуры» вы здесь показываете? Ведите себя прилично! Я думаю, что Леонид Семенович согласится с вашими доводами. — И, помолчав немного, закончил; — А вообще, Женя, вам надо быть добрее не только к оленям, но и к людям!
— Добрее надо быть Бровину, а то он пропитан злостью, как тундра водой.
— Женя! Вы знаете, что такое дальтонизм?
— Первый раз слышу.
— Это такое состояние зрения, когда красное видится зеленым. Так вот у вас нравственный дальтонизм. Насколько я понимаю, отношение Бровина к вам называется иначе…
Я отвел от Жени глаза, чтобы не смущать своим вниманием, и в поле моего зрения попал Бровин. Он был явно взволнован, и я понял, что не из–за спора о судьбе Пятнистого. Он то вставал, то вновь садился, а его бледное лицо выражало страдание. Видно, ему хотелось как–то облегчить душу, и, ободренный поддержкой Шитова, он вставил наконец свое слово в этот диалог:
— Бровин — хромой, Бровин — жалкий человек, над ним можно посмеяться…
Но Женя не дала ему закончить и, глядя на Шитова и игнорируя Бровина, быстро произнесла:
— Жалкими словами сотрясают воздух лишь жалкие люди. У этого человека не нога, а душа хромая, пусть полечится! — И, оставляя поле боя за собой, с тем гордым изяществом, которое так покоряет нас, мужчин, решительно повернулась и вышла из комнаты.
Мне показалось, что Шитов был доволен тем, как защищала свое достоинство самостоятельная Женя. Он провел ладонью по своему ежику и промолвил как бы про себя:
— М–да! Для нее диплом — не продовольственный аттестат. — Взглянул на Бровина и, вновь опустив глаза, продолжил: — Такую на испуг не возьмешь, Леонид Семенович!
У Бровина прорвалось отчаяние:
— Клянусь дохлым оленем, Никандрыч! Не могу я без нее! С ней трудно, а без нее невозможно!
— Вижу–вижу! — И опять раздумчиво, как бы про себя: — Не любят женщины, когда из нас кисель капает, но и «на хапок» возьмешь не каждую! В глазах женщины мужчина красив силой и благородством. Понимаешь? Благородством! А ты хочешь добиться своего только грубой силой. Меняй, брат, тактику, а не то так холостяком и останешься.
Бровин сидел подавленный, потухший. Теперь Шитов уже с иной, вдохновляющей интонацией сказал ему:
— Ну что ты, брат Леонид, голову опустил? Твое счастье, что здесь у тебя конкурентов нет. Все от тебя зависит. Ну иди, иди! Утро вечера мудренее. По утрам люди думают иначе, чем вечером! Дай нам поговорить с Каминским.
Что делает с человеком любовь! Бровин влетел в эту комнату ястребом, а покидал ее притихший, задумчивый. И я подумал: и здесь, в стране снегов, кипят человеческие страсти! И, как бы отвечая на мои мысли, Шитов сказал:
— Поженятся! Им тут друг от друга уйти некуда. Но Женя много пыли вытрясет из Бровина, пока станет его женой. Характера у нее хватит, — Шитов помолчал, поглядел на часы и продолжал: — Ты не думай, что этот парень размазня, каким здесь себя показывал. Начитавшись Джека Лондона, он мальчишкой сбежал от родителей. Из Архангельска умудрился пробраться на Дальний Восток еще при японской оккупации. Попал в партизанский отряд. Эта партизанщина до сих пор мешает ему жить. После установления Советской власти в Приморье пробрался на север Камчатки. Работал на рыбных промыслах. Добрые люди надоумили поступить учиться. После Хабаровского техникума вернулся на Камчатку специалистом. Участвовал в раскулачивании богатых оленеводов и в строительстве первого на востоке Пенжинского совхоза. А это, брат, глушь почище нашей! Один объездил все Охотское побережье и север Камчатки. Собаками управляет как бог. Однажды в горах вывихнул ногу в бедре и потерял сознание. Очнувшись, привязал себя к нартам и крикнул на собак. Когда привезли они его в Олюторку, он опять был без сознания. Местный фельдшер ничего сделать не мог. Пришлось ждать парохода. В Хабаровске сделали операцию, после которой одна нога стала короче другой на десять сантиметров. Вот такой несчастный случай сделал его болезненно самолюбивым. Кроме Жени, не боится ни черта, ни дьявола. Чукотский язык знает в совершенстве, и чукчи признают его за своего.
Работник беззаветный, но и беззаботный. О завтрашнем дне не думает, ни деньгам, ни вещам цены не знает. В прошлом году получил отпуск за три года и мешок денег. Уехал на «материк» первым пароходом, а вернулся следующим без копейки в кармане и тощий, как скелет. Оказалось, встретил в Хабаровске старого дружка, и тот уговорил его одолжить деньги на покупку дома. Отдал все до копейки, а сам добирался обратно, питаясь подаянием добрых людей.
Бровин может месяцами бродить с чукчами по тундре, обходясь без хлеба, мыла и бани. И считает это достоинством. Подражает героям Джека Лондона, жившим в индейских племенах, считает, что женщину надо добыть только силой, потому Женя и не может его принять такого. А я кручусь между ними — то на него нажму, то на нее. Но сегодня, кажется, Женя сама нажала на меня. — Шитов от души рассмеялся. — Ну и молодчина! Люблю людей, которые за себя постоять могут. На Севере без этого пропадешь!
Пока Шитов говорил, я, не пропуская ни слова, размышлял о том, какими путями могли попадать в эти места старые коммунисты, герои революции — Щетинин, Янсон, Шитов. Случайно ли это или знамение времени?
От Николая Железова я узнал, что после гражданской войны Шитов учился на рабфаке, потом в Плехановском институте. С последнего курса был отозван и по партийной мобилизации брошен на раскулачивание. Боролся с перегибами, чуть не потерял партбилет в период «головокружения от успехов». Затем его послали на Дальний Восток. И вот он здесь — рядовой ленинской гвардии, матрос революции.
Сцена в кабинете Шитова показала, что и здесь временами люди ссорятся, грустят, выражают недовольство. Однако главной чертой жизни коллектива оставались сплоченность и оптимизм. Казалось, здесь живет большая, дружная семья, увлеченно работающая на общее благополучие. Роль главы этой семьи великолепно выполнял директор Шитов.
Вот сказал — «выполнял», и самому стало нехорошо. Шитов ничего не выполнял. Просто он был хорошим человеком, каким должен быть настоящий коммунист. Под этим я понимаю и строгое отношение к долгу перед государством, и душевное отношение к младшим товарищам по делу. Приказы писались редко, в основном о зачислении на должность. Вся практическая деятельность регулировалась личными контактами. А в них главным являлись доверие и полная откровенность. Слово одобрения или неудовольствия Никандрыча значило больше благодарности или выговора в приказе. И впервые тогда подумалось мне, что нет людей инертных или равнодушных от природы. Ими делаются!
А такие, как Шитов, и равнодушных превращают в энтузиастов.
— Александр Никандрыч! Какие обстоятельства забросили вас на Чукотку?
— Никаких особых обстоятельств не было. Крайком послал — я поехал. Сам знаешь, что такое партийная дисциплина. Но и соблазняло на новом месте начать новое дело. У нас, русских, в крови любовь к нехоженым дорогам. А здесь для инициативы простор, в другом месте не сыщешь. И ребята подобрались больно хорошие. С ними всего можно добиться. Вот твой друг Железов — научный работник, от института прикомандирован. Он от науки, а я от практики, и пробуем разные новинки в оленеводстве. Дело древнее, к нему настоящих рук не прикладывалось. Но об этом Железов тeбe сам расскажет.
После ужина, вернувшись в комнату Железова, я застал его за вычерчиванием каких–то графиков. Над столом висела десятилинейная лампа с жестяным абажуром, свет от нее исходил скудный, и я спросил:
— Что ты глаза портишь при таком свете?
— На мой век глаз хватит. А другого света не будет до лета. Вечер длинный, а работа интересная. За эту осень я обмерил около тысячи оленей; определяется закономерность в породном составе…
Но развить эту увлекательную для него тему не пришлось. Раздался стук в дверь, в комнату вошел мрачный Бровин и сел на кровать.
— Ну, брат, видик у тебя, словно мылом объелся! — заметил Железов. — Что, опять Женя на сердечную мозоль наступила?
— Ты о своих мозолях побеспокойся!
Видимо, ни для кого не было тайной, что Бровин влюблен в Женю, но говорить об этом, да еще в моем присутствии, Бровин не хотел. Да и пришел он сюда, думаю, потому, что не мог оставаться в этот вечер один. Принуждая себя отвлечься от личного, он перевел разговор на деловую почву:
— Пастухи докладывают, что за стадами идут волчьи стаи. Что думает наука о борьбе с волками?..
Вспомнил я об этом эпизоде лишь потому, что Железов в тот вечер выдвинул идею охоты на волков с помощью самолета. Тогда эта идея показалась мне сумасбродной, и на попытку Железова привлечь меня в союзники я ответил отказом: у моей фантазии были слишком слабые крылья, я еще не умел просто летать в Арктике, не то чтобы думать об использовании самолета для охоты на волков. Но мне хочется напомнить этим примером, что жизнь нередко рождает идеи, кажущиеся сумасбродными. Однако со временем эти идеи берут свое. Сейчас охота на волков с самолета и вертолета применяется широко и повсеместно.
В один из дней Железов уговорил меня пойти на пункт забоя оленей. Картина эта не представлялась мне приятной, и смотреть на нее не было желания. Но меня интересовали нововведения в практику оленеводства, о которых говорил Шитов, и я согласился.
Многие народы имеют своих священных животных. Например, у индусов предметом обожествления является корова. Для чукчей олень тоже священное животное. Его нельзя чрезмерно утруждать, поэтому летом чукчи запрягают оленей в самых крайних случаях, обычно когда необходимо перевезти яранги и домашний скарб на новое место. При всякой другой нужде чукча понесет любую ношу на своей спине.
На европейском Севере оленьей упряжкой управляют с помощью шеста — хорея. Попытки совхозных специалистов применить хорей на Чукотке привели оленеводов в ужас: как это можно ударить оленя!
Забивают оленя так, чтобы животное меньше страдало, — одним ударом в сердце.
Все это Железов рассказал мне по пути к убойному пункту, который располагался на краю поселка, в распадке. Мы остановились, и, прежде чем спуститься вниз, Железов задал мне вопрос:
— Как бы ты сосчитал оленей в стаде?
— Никогда об этом не думал. А что, разве это сложно?
— Сложно?! Невозможно! Сколько люди занимаются оленеводством, столько не знают, как считать оленей. Астроному легче сосчитать звезды, нежели оленеводу число голов в стаде.
— Как же вести хозяйство без счета?
— Видишь, какое дело, государственным хозяйствам без году неделя, они еще не успели решить эту проблему, а оленевод в этом не испытывает острой надобности. Богатый оленевод порой не знает, пять или семь тысяч в его стаде, но пропажу одного оленя обнаружит быстро. Как это достигается, я еще не постиг. Вообще, должен сказать, что чукчи любопытны, сообразительны и приметливы. Стоит показать чукче изображение незнакомого предмета, как у него возникнут вопросы: как это сделано? Для чего это?
— Коля! А как они относятся к грамоте? В Анадыре я слышал, что учителям у кочевников приходится туго, якобы чукчи не хотят учить своих детей.
— Это враки! Учителям мешают шаманы и кулаки. Случается, что родители посылают своих детей к учителю тайком от шамана. Они стихийно тянутся к грамоте, и здесь не осознанное понимание ее пользы, а врожденное любопытство ко всему новому.
— Так почему же так живучи у них дикие обычаи?
— Э, милый мой, побыл бы ты в их шкуре! Забыл, видно, формулу Маркса о том, что общественное бытие определяет общественное сознание? Измени условия жизни — и увидишь, на что способны чукчи. У меня есть знакомый юкагир Тэки Одулок, так вот он не просто образованный человек, а писатель и даже кандидат исторических наук. Когда Тэки было лет пятнадцать, он совершил преступление против обычаев племени — украл рыбу, чтобы наесться: в ту пору у юкагиров был голод. Его изгнали из племени, и дело случая, что он попал к партизанам. Командир отряда Спиридонов усыновил Тэки, увез его с собой и затем определил в Институт народов Севера. И вот результат.
— Откуда все это тебе известно?
— Из самых достоверных источников. Тэки женат на моей родной тетке. Так что я в близком родстве с юкагирами. Но я хочу вернуться к главному: создай условия, и чукчи даже на самолете научатся летать, как это ни фантастично сегодня предположить.
— Коля! А все–таки как же считать оленей? Железов жестом щедрого хозяина указал на открывшуюся нашим глазам картину. Прямо перед нами на льду реки стояло стадо оленей, по определению Железова, около тысячи голов. А за ним, на том берегу виднелось еще большее стадо, оно закрывало собой весь берег. В распадке был примитивный загон из жердей, какой обычно имеется при любой колхозной ферме в центре России и служит местом, где прогуливают животных.
От реки к нему вел широкий коридор с воротами, в которые загоняли оленей. По узкому и длинному коридору с противоположной стороны загона животные выходили цепочкой, по одному. Здесь их считали и осматривали. Забракованным надевали на шею веревочное кольцо и уводили на забой.
— Вот это и есть кораль! — с гордостью сказал Железов.
— Извини, Коля! И об этом примитиве ты говорил как об открытии двадцатого века?
— Извиняю! Все известное просто, как полено. Но представь, что в Советском Союзе это первый кораль. И мы с Шитовым гордимся им не меньше, чем гордились своим детищем изобретатели первого паровоза. Наш совхоз будет пока единственным хозяйством, где поголовье в натуре совпадает с отчетным.
— Что же здесь хитрого? Даже я сообразил бы такую вещь!
— При такой сообразительности быть бы тебе не летчиком, а зоотехником! Мы с тобой, глядишь, решили бы и проблему борьбы с оводом и гнусом. А то до сих пор человечество не знает средства против этих оленьих вампиров. Однако пойдем вниз, я познакомлю тебя с весьма любопытным человеком.
Мы спустились с горки и подошли к воротам в ту минуту, когда часть стада вошла в загон и сбилась в плотную массу. Железов крикнул:
— Этти, Тыневиль! Подойди, пожалуйста!
— Этти, сильный Николай! Ой, подойду сичас. Вразвалку, как моряк, привыкший ходить во время качки по палубе, к нам приблизился низкорослый старый чукча, одетый во все меховое. Голова его была обнажена, черные без седины волосы космами опускались на плечи, и только на макушке волосы были выстрижены. Лицо Тыневиля было почти черным и таким сморщенным, будто его держали под прессом, да так неразглаженным и оставили. Глубокие складки лежали вдоль и поперек на лице, шее и уходили в вырез рубашки на груди. Обращали на себя внимание его глаза — умные, пытливые, серьезные. Тыневиль протянул руку Железову, потом мне, с простодушной гордостью произнося исковерканные русские слова:
— Здрастуй, Николай! Только не делай больна моя рука.
— Как довел стадо, Тыневиль?
— Ой, как хоросо довел, ни одного олеска не потерял, два волка убил. Хочес, тебе скуру подарю на рукавицы?
— Спасибо! Приходи ко мне чай пауркен.
— Чай пауркен — это хоросо. Буду заходить, как мало–мало посчитаю олесков. Ай, как хоросо делал Ссытов начальник. Всех олесков, как спички в коробке, посчитать буду.
Когда Тыневиль ушел, Железов спросил:
— Ну, что скажешь?
— Почему он такой мятый?
— Старый, потому и мятый. Жизнь у пастуха — не сахар! Удивляйся: этот дикий, по твоему мнению, человек изобрел свою письменность!
— Позволь! По–моему, чукотскую письменность изобрел Тан–Богораз.
— Твои сведения совпадают с истиной. Богораз создал письменность по законам науки, и Стебницкий написал учебники. Но то, что сделал Тан–Богораз, не удивительно. Он ученый. А вот то, до чего додумался, не видя печатного слова, неграмотный чукча, — это уже удивительно.
— А ты видел эту письменность своими глазами?
— У Тамары Руанет три тетради дневников Тыневиля. Сейчас его младший сын Егор делает подстрочный перевод. Он учился не только грамоте отца, но и в русской школе.
— Ну и что же это за письменность?
— Тыневиль каждое слово изобразил особым значком вроде иероглифа. Он рассуждал так: лисица пройдет, оставит след. Подойдет к этому следу другая лисица и что–то узнает. А почему человек не может передать другому то, о чем он думает?.. Однажды Тыневиль попросил у меня лист бумаги и изобразил, как, по его понятиям, ходит солнце по небу в разные времена года. Все это, конечно, примитивно, но меня изумляет, что такие всходы появляются на никем не засеянной почве. Сородичи считают его почти шаманом, а он просто философ от природы и честный труженик. В совхозе работает вместе с сыновьями, и его семья составляет отдельную бригаду. А стадо у него самое лучшее.
ТАМАРА РУАНЕТ
В совхозе не было ни клуба, ни красного уголка, и внеслужебное общение сотрудников продолжалось после ужина в столовой. Когда убиралась посуда, появлялись шахматы, которые любил Шитов, и «виктрола», как тогда называли патефон. Стол сдвигался к самой стене, и начинались танцы. Мужчины в валенках и торбасах выглядели неуклюже, но предавались танцам с увлечением,
Зоя Неласова, жена бухгалтера и повар (в прошлом, кажется, артистка), обучала желающих классическому танго и попутно хорошим манерам.
Такие вечера отдыха организовывались стихийно чуть ли не ежедневно, и обязанности массовика на них выполняла Тамара Руанет. Ей было двадцать семь лет. Тонкая, стройная, с осиной талией, каштановыми волосами, обрамлявшими мальчишеское озорное лицо, она походила на артистку. Да и в повадках ее проглядывал природный артистизм. За своей внешностью она следила с великой заботой и была предметом всеобщего обожания. В столовую приходила в шелковых чулках и приносила с собой туфли. Скинув валенки, превращалась в наследную принцессу. Тамара держалась гордо и независимо, и в те дни ни один холостяк не мог считать, что кому–то она отдает предпочтение.
До 1934 года Тамара работала учительницей где–то в Корякском округе. В совхозе практиковалась по специальности зоотехника. Шитов отозвался о ней как о подающем надежды работнике, Бровин и Соловьев считали ее товарищем по походам, а Железов был попросту в нее влюблен. Я уже подметил это и, подумав, что при своей стеснительности Николай не отважится объясниться с Тамарой, решил, что сама судьба послала меня ему в помощь, и ждал случая. И случай представился. Накануне отлета из совхоза я заполнял моторный формуляр в комнате Николая. За чем–то забежала Тамара и, увидев меня одного, хотела упорхнуть.
— Тамара! Подожди минутку, есть разговор!
— Ах, как интересно! Герои–летчики снисходят к нам, как простые смертные! — игриво ответила Тамара, держась за дверную ручку.
— Не кокетничай! Я тебе не Николай, чтобы из меня веревки вить!
— Фу… За что же ты меня так? К такому тексту музыка не получится!..
— Извини и сядь. Я по серьезному делу! Тамара опустилась на край табурета, изобразив на своей смешливой физиономии нарочитое внимание. И тут я почувствовал, что эта возмутительница мужского спокойствия способна даже святого ввести в соблазн. И в моем голосе зазвучали «подхалимские» интонации, которые, видимо, и поощрили Тамару на продолжение разговора в том же духе.
У меня к тебе серьезный вопрос. Один? Пока один. Ему там не тесно? Где там? Я не знаю, где ты держишь свои вопросы. Что ты мне голову морочишь?! Ну извини, я шучу. — Почувствовав, что переиграла, она посерьезнела.
— Как, по–твоему, Николай хороший парень?
— Бывают и лучше, но редко.
— А ты знаешь, что он в тебя влюблен?
— Ха–ха! Вот удивил! А кто здесь в меня не влюблен? Разве только Бровин. Старик Шитов и тот неравнодушен.
— Однако скромностью тебя обидели. Ну так как же ты относишься к Николаю?
— Хочу, чтобы это было на всю жизнь. Чтобы было красиво. Тем, кто носит штаны, это понять трудно.
От ее смешливости не осталось следа. Что–то горькое почудилось мне в этих словах.
— Послушай, Тамара! Николай тебя любит, но умрет — не скажет. У него это на всю жизнь. Не упусти его!
— Слишком смело ты даешь свои гарантии. Если любит, пусть сам завоевывает!
— Эх, ты! Заячье у тебя сердчишко! Так и будешь ждать завоевателя! Ну–ну, жди! Вопрос исчерпан!
Тамара медленно поднялась, пристально и серьезно посмотрела на меня. На ее побледневшем лице что–то дрогнуло, и оно приняло обиженное выражение. Хотела что–то сказать, но порывисто повернулась, рванула дверь и выбежала.
Я чертыхнулся про себя за невыдержанность, и мне стало жалко Тамару. Видно, я неосторожно задел какую–то старую рану. Вскоре за другими заботами я забыл об этом неудачном сватовстве, но оказалось, что оно сыграло свою роль. Через год Тамара Руанет и Николай Железов встречали меня уже как супруги. Тамара сказала:
— Здравствуй, сватушка! Помнишь, как ты обозвал меня заячьим сердчишком? Обозлилась я тогда на тебя здорово. А подумав, решила, что ты прав — надо женить на себе этого черствого человека. Жди, когда он сам наберется храбрости! — Она лукаво посмотрела на Николая.
Когда я познакомился с Тамарой, у меня сложилось впечатление, что она со своей врожденной способностью к кокетству просто интересная женщина, призванная украсить жизнь мужчин в этом захолустье. Но скоро я узнал о ней многое, что заставило меня проникнуться к ней большим уважением. Она не стремилась к домашнему уюту, не страшилась пеших переходов в сотни километров по мокрой, кочковатой тундре, ночевок в палатке или дымной чукотской яранге. Она не воротила нос от грубой, часто неприятной работы зоотехника — всегда умела быть равной своим коллегам в работе, требующей мужской выносливости. И при этом она не огрубела, не утратила женского обаяния, вынуждая и мужчин не опускаться.
Такие женщины, как Тамара, делают жизнь на угрюмом Севере теплой и светлой. Да и в иных местах планеты они необходимы нам как воздух. И не только потому, что они поощряют в нас благородное мужество, — как правило, они верные товарищи в нашем общем деле.
Я не случайно так обстоятельно рассказываю о людях совхоза «Снежное». На мой взгляд, они изо дня в день совершали героические дела, преобразовывая косный быт чукчей, приобщая их к веку электричества и авиации.
Как–то Тамара Руанет рассказала мне следующую историю:
«Однажды возникло подозрение, что в стаде бригадира Камелькута появился ящур. Зоотехник этой бригады Паша Соловьев попросил Бровина прийти в стадо для консультации. Бровин взял с собой меня. Стадо было в верховьях реки Белой, и, добравшись до него на третий день, мы застали в бригаде какой–то переполох: бил бубен, кто–то плакал, люди бегали от яранги к яранге, не обращая на нас внимания.
Оказалось, что у пастуха Тынеуги тяжело заболела жена Кыргитваль и пожелала уйти к «верхним людям». Это желание чукчи выполняют непременно, так как боятся, что злой дух Келе, рассердившись, заберет еще кого–нибудь. Шею женщины уже обхватывала петля из сыромятной кожи, и под бой бубна совершался последний ритуал. Я еще не поняла, что происходит, как Соловьев и Бровин разбросали близких родственников больной, сняли с ее шеи ремень и объявили, что Советская власть не разрешает уходить к «верхним людям» таким способом. Чукчи возмутились. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы бригадир Камелькут не принял сторону Бровина. Он сказал:
— Русские таньги (люди) не боятся Келе. Пусть они попробуют вылечить Кыргитваль!
Бровин и Соловьев изготовили плот из лиственниц, росших по берегу, и Бровин поплыл на нем с больной женщиной в Усть–Белую. Белая — очень быстрая река, особенно при впадении в Анадырь. Бровин вполне мог утонуть вместе с больной, и тогда бы чукчи убедились, что Келе может отомстить нарушителям древнего закона. Однако все обошлось благополучно. У женщины оказалось обыкновенное воспаление легких, и доктор Золотов ее вылечил.
Когда Кыргитваль явилась в стойбище, ей дали другое имя, чтобы Келе не мог ее найти. Теперь ее зовут Катя. Через несколько месяцев, убедившись, что Келе забыл о Кыргитваль, муж согласился взять ее снова в жены. Через год у них родилась дочь».
Как я уже рассказывал, пересчет оленей в корале был одним из первых новшеств в чукотском оленеводстве. В связи с этим впервые на центральную усадьбу попали все пастухи и их семьи. Шитов использовал и это для борьбы за новое в сознание людей: он организовал курсы пастухов и чумработниц. Железов с помощью переводчика Бровина рассказал пастухам много нового и интересного: о преимуществах европейского способа забоя оленей, о применении мурманскими оленеводами собак для охраны стада от волков. Он разъяснил чукчам, для чего клеймят и обмеривают оленей.
Не менее важным делом были санитарная обработка, знакомство тундровиков с основами гигиены. Всех пастухов пропустили через баню, каждому выдали полотняное нижнее белье, научили пользоваться мылом и бритвой. И вся эта работа проводилась, как теперь принято говорить, на общественных началах. Шитов назначил Женю начальником курсов, и она проявила себя отличным администратором. Даже Бровин безропотно выполнял все ее указания.
По тому времени эти курсы стали настоящей революцией в тундре. Ее совершали мои ровесники, парни и девушки. Всматривался я в них и думал: эти люди, выросшие и получившие образование в центре страны, живут сейчас в самом глухом углу Чукотки и делают все возможное, чтобы поднять чукчей–кочевников до уровня своей культуры. Этих людей не угнетают отдаленность, бездорожье, малолюдье, не слепит блеск золота, они не тужат ни о театрах, ни о прочих благах городской жизни. Через них, воспитанников великой революции, врывается сюда новое время и свет ленинских идей. Когда–нибудь внуки сегодняшних оленеводов напишут о них книги. И они заслужили это.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
БЕЗ НАЗВАНИЯ
От автора
В разговорной речи полярных летчиков бытуют слова: «Конец географии». Я хотел бы эту главу так и назвать: «О земле и людях на конце географии», Но это выражение не литературное, ибо у географии нет конца. Очень уместно было бы «Далеко от Москвы». Но тут пахнет плагиатом. Интриговал меня еще один заголовок: «Там, где солнце всходит над Россией!» — оттолкнула вычурность. Так и не найдя подходящего, я решил не мудрствовать лукаво, а просто рассказать о том, как происходило мое узнавание Чукотки и людей, работавших там. А названия эта глава так и не получила.
Прошу у читателя извинения, что местами она изложена суховато. Но для бутерброда нужно не только масло, но и хлеб. Познавательный материал — это хлеб документального рассказа.
ГРАД АНАДЫРЬ
С каждым прошедшим годом неузнаваемо меняется лицо Чукотки. Людям всегда интересно узнать, что было до них. Я расскажу о столице этого края — Анадыре, каким он запомнился мне при первом знакомстве.
Надо сказать, что для русских в начале XX века символом отдаленности представлялась Камчатка. Еще понятия не имея о географии, мы, школьники, задние парты в классе звали «Камчаткой». Я уже говорил, что само слово «Чукотка» людям материка было малознакомым. Для огромного большинства оно оставалось абстрактным понятием.
Челюскинская эпопея высветила Чукотку всему миру и сделала знакомым ее имя. Но сенсация кончилась, и, казалось, эта страна будет снова забыта. Но так казалось непосвященным. Исторические условия развития нашей Родины на одно из важных мест поставили задачу освоения Великого Северного морского пути. Гибель парохода «Челюскин» доказала, что этот великий путь наиболее труден около Чукотки. И хотя на газетных страницах она упоминалась все реже, о ней не забывали в Главсевморпути. А это было учреждение поистине уникальное. Оно обладало могучими ресурсами и благодаря личности О. Ю. Шмидта огромным авторитетом. Я бы сравнил Главсевморпуть с «империей», и фигуральное это выражение близко к истине. По размаху и всестороннему охвату своей деятельностью подопечных территорий в человеческой истории имел место лишь один подобного рода прецедент — Ост–Индская компания британского империализма. Но цели и методы этих двух экономических гигантов были в корне противоположны. Считаю нужным хотя бы кратко напомнить об этой странице отечественной истории, поскольку она мало знакома молодому поколению.
Так вот, стараниями Главсевморпути уже в 1935 году началось крупное и хорошо организованное наступление на этот край. Строились авиабазы на северном и южном побережьях, открывались новые полярные станции, ехали изыскатели морских портов и угольных баз, землеустроители, экономисты, врачи, учителя, специалисты–оленеводы, радисты, метеорологи, советские и партийные работники. Разведывать, изыскивать, строить, будоражить вековую темноту, изгонять отсталость! Таким стал девиз тех, кто приехал сюда по партийной мобилизации.
Пятнадцать суток ветеран Дальневосточного флота «Охотск» плыл вне видимости берегов. Великий, или Тихий, океан в начале пути от Владивостока казался добрым и приветливым. Но постепенно он менял свое лицо. Штормы уложили в «твиндеках» * энтузиастов недвижимым балластом.
И вот мы вошли в Анадырский лиман. Я ожидал увидеть бесплодную, суровую, никогда не оттаивающую окраину Арктики во льдах и снегах. А моим глазам предстало многообразие красок арктической осени. Капитан Кудлай ощупью подводил «Охотск» от горла лимана к якорной стоянке против города. Я и Митя стояли на палубе и смотрели во все глаза: не верилось, что мы уже у Полярного круга.
Зеркало лимана отражало скользящий солнечный свет и казалось покрытым радужной эмалью. Почти неуловимое дуновение южного бриза разбило это зеркало на бесчисленное число сверкающих осколков. К южному берегу уходила чешуйчатая солнечная дорожка, и от нее слепило глаза.
— Миша, смотри! Вот она, гора Дионисия, о которой писали каманинцы!
Как странный каприз природы, на плоской равнине с юга возвышалась одинокая конусообразная сопка.
— Уточняю, Митя! Гора Святого Дионисия! Видимо, уже борцы с религиозными предрассудками отсекли «святого». А я бы оставил так, как обозначено на карте.
— По–моему, это не имеет значения.
— Напрасно так думаешь! Представь, что храм Василия Блаженного станут именовать просто храмом Василия. Сразу потеряется очарование этого словосочетания. Мы еще увидим с тобой залив Святого Креста, бухту Провидения, залив Святого Лаврентия. Все это не просто названия. Это памятники мужеству и романтике парусного флота.
— Наверное, ты прав. А это что за индустриальное чудо? Можно подумать, что радиостанция Коминтерна имеет здесь филиал, — спросил он, указывая на ажурную радиовышку.
— Вот этого я не знаю, но мы сейчас спросим. Товарищ! — обратился я к стоящему невдалеке пожилому пассажиру. — Не можете сказать, что это за ажурные металлические мачты на горе, за поселком?
Пассажир ответил с живостью:
— Во–первых, молодой человек, это не поселок, как вы изволили выразиться, а знаменитый град Анадырь. Форпост великой России на самых дальних берегах Тихого океана. Центр огромного округа, какие имеются только в нашей стране. Да, да, только в нашей!.. Что касается этих вышек, то это уже почти легенда. Еще в давние времена американцы едва не выхлопотали у царя концессию на прокладку радиотелеграфной линии от Америки до Петербурга. Они уже начали ее строить, но успели собрать лишь эти мачты. Слава богу, нашлись люди, которые воспротивились этому и не позволили американцам грабить страну в полосе отчуждения…
Ветер истории прошелестел забытыми страницами. Мы ничего не знали о прошлом этого края и по молодости стеснялись показывать свое незнание. Но наш собеседник был проницательным человеком. Не желая смущать нас своей эрудицией, он после небольшой паузы заключил:
— Вот так–то, молодые люди. Надеюсь, мы с вами еще встретимся. Моя фамилия Тулупов. Будете в Уэлене — милости прошу!
Поклонившись, Тулупов отошел, а к нам обратился палубный сосед, привлекший мое внимание своей интеллигентной внешностью, сдержанностью и учтивостью. В массе людей, довольно разношерстных и к тому же поставленных в далекие от комфорта условия, каждый, сохранивший элементарную опрятность, был заметен. Одним из таких был этот начинающий лысеть человек, чуть старше меня годами.
— Извините, пожалуйста, но я слышал ваш разговор с товарищем Тулуповым и, если позволите, хотел бы его продолжить. Разрешите представиться: Марголин. Экономист, еду в командировку от Главсевморпути. С этим пароходом я вернусь на материк. Вы, как я догадываюсь, летчики и останетесь здесь зимовать? — Эта фраза, хотя и сказанная в вопросительной форме, ответа не требовала, и Марголин продолжал: — Откровенно говоря, я вам завидую. Уже не первый год занимаюсь экономическими проблемами Севера, но влюблен в Чукотку и жду от нее чуда. Убежден, что это чудо явится. Быть может, вам выпадет счастье первыми увидеть это.
Чтобы поддержать обещающую быть интересной беседу, я спросил:
— А в каком же обличье возможны проявления этого чуда?
— В богатствах, скрытых в недрах. Вот посмотрите на север, — Марголин сделал широкий лекторский жест. — Перед вами горный массив. А знаете, как он называется?
— Золотой хребет.
— Великолепно. Но это не случайное название. На золото сюда слеталось в разное время немало любителей скорой наживы. Об этом вы еще здесь услышите. Мне думается, есть здесь и другие металлы, поважнее золота.,. А знаете ли вы, сколько квадратных километров в стране, именуемой Чукоткой?
— ??
— А сколько в ней жителей?
— ??
— Я так и знал. Так вот, эта страна занимает три четверти миллиона квадратных километров — больше трех процентов площади всего Союза. И на каждого жителя Чукотки приходится не меньше тридцати пяти квадратных километров. Позволю себе заметить, что эти километры означают неисследованные хребты и совершенно бездорожные тундры. Стало быть, проблема транспорта для Чукотки — проблема номер один. И решить ее можете только вы, летчики! А вот и товарищ Железов! — Марголин, обращаясь к нам, сообщил; — Николай Алексеевич, научный работник, оленевод.
Мы обменялись рукопожатиями. Я легко выжимал до десяти раз двухпудовую гирю, и рука у меня была крепкая, но в руке Железова моя ладонь едва не расплющилась. Скрывая боль, я заметил ему;
— Железо чувствуется не только в вашей фамилии, Николай Алексеевич.
— Извините, это от избытка дружелюбия. В этот момент раздался хриплый голос корабельной сирены, и в клюзах загремела якорная цепь. «Охотск» подошел к стоянке. Марголин заторопился и, пожимая нам руки, сказал, обращаясь ко всем:
— Поверьте, я знаю цену труду врача, учителя, работника культурного фронта. Знаю, что вы заняты решением коренной экономической проблемы сегодняшней Чукотки. Но в каждом деле надо находить решающее звено. По моему убеждению, таким звеном в развитии этого края является преодоление разобщенности его районов, создание надежных транспортных коммуникаций. Согласитесь, что на этой территории только авиация способна решить столь нелегкую задачу. И я от души желаю летчикам счастливых полетов. А сейчас извините, что задержал вас. У меня мало времени, первым катером я съеду на берег.
За время пути на пароходе среди пассажиров пришлось увидеть разных людей, едущих в Арктику. Были такие, которые симпатий не вызывали.
Свет в твиндеках не гасился круглые сутки, и так же без перерыва в двух–трех углах шла азартная игра на деньги. Эти страсти не остывали даже в шторм. На мой вопрос бухгалтер из Уэлена, возвращавшийся из командировки, сообщил, что это шулера чистят карманы простаков от авансов и командировочных.
— Как же они попали сюда?
— Кем–то оформились, а когда приедут на место, то «заболеют» или найдут другой повод рассчитаться и поедут обратно за свой счет. Их цель — поживиться на сезонниках рыбных промыслов и возвращающихся из Арктики зимовщиках. Одного из этих «деятелей» я приметил в свою прошлогоднюю командировку.
Освободившихся из мест заключения я распознал без посторонней помощи. Они вербовались рабочими на промыслы или стройки, которые начинались в Арктике. Некоторые ехали с честными намерениями начать жизнь заново, но были и такие, которые явно не дорожили обретенной свободой. Постоянно «на хмеле» пели блатные песни, без стеснения «выражались», лезли в драку с теми, кто решался их останавливать. Были и другие разновидности «накипи на полярном энтузиазме».
Упоминаю об этих наблюдениях потому, что после ухода Марголина к нашей группе, по–моряцки переваливаясь, подошли два парня. Один, как и большинство пассажиров, был в простом ватнике, другой — в синей японской курточке, простеганной красными нитками, со множеством карманов. Весь их вид — глубоко засунутые в карманы руки, прилипшие к губам окурки — выражал презрение ко всему на свете. По ухватке то были парни, которых в Одессе зовут жоржиками, а во Владивостоке — бичкомерами.
Тот, что был одет в синюю куртку, с показным шиком выплюнул окурок так, что он прилип к мачте, и с панибратской небрежностью в голосе произнес:
— Штой–то тот бердичевский полярник вам напел? Наверное…
Но закончить приготовленную фразу он не успел. Железов, бывший ближе всех, вроде бы слегка опустил руку на плечо парня и развернул его лицом к себе, но парень перекосился от боли.
— Ты што это…
— С–слушай, т–ты, г–гнида! Т–ты под стол п–пешком ходил, к–когда этот человек знал в–все, ч–чего ты н–не узнаешь д–до с–старости. Если еще раз в–вякнешь п–по–ганым языком, б–будешь иметь дело с–со мной!
Мне показалось, что Железов только отнял руку, но парень под общий смех так энергично попятился задом, судорожно балансируя руками и еле успевая перебирать ногами, что только мачта с прилепившимся окурком спасла его от падения на спину.
Трудно было удержаться от смеха, видя, как этот «герой Арктики» несколько мгновений изумленно хлопал глазами, потом испуганно взглянул на Железова и исчез в мгновение ока вслед за напарником.
Почувствовав необыкновенную силу в рукопожатии Железова, я легко представил, что он пальцами мог сломать ключицу. Его лицо было белым, он часто дышал, в глазах еще синело бешенство.
— Ну, Николай Алексеевич! С вами не страшно пойти и на медведя!
Железов смущенно улыбнулся, и в этой улыбке чудесным образом проявилось что–то стеснительное и мило мальчишеское. Он сказал;
— Извините, п–пожалуйста! Н–ненавижу н–наглость, н–не умею с–себя с–сдерживать.
Вскоре катер начал курсировать между кораблем и берегом. В числе первых съехал на берег и наш командир Николай Иванович Пухов — ему нужно было представиться местным властям. Без командира нас осталось девять человек. Мы стояли у борта, с которого открывался вид на град Анадырь, молча смотрели на каменистый мыс, выступавший из низменной тундры, на маленькую речку Казачку у его подножья и ажурные мачты на вершине.
К востоку от этого приметного и единственного на южном берегу мыса по обе стороны Казачки раскинулся невзрачный скученный поселок. Неяркое солнце золотило стены домов, придавало контрастность очертаниям каждого строения. Слева и справа от города до предела видимости лежала зеленая со ржавчиной равнина. Лишь сопка Дионисия скрашивала ее унылое однообразие. Бледно–синее, как бы вылинявшее, небо разливалось до самого горизонта. Ощущение отдаленности, заброшенности, даже незащищенности впервые кольнуло меня. Я взглянул на лица товарищей. Они были оживленны, но мне казалось, что за этим оживлением они прятали чувства, родственные моим.
Я стал разглядывать Анадырь.
Более сухие, возвышенные места по обе стороны Казачки заняли рубленные из струганого бруса одноэтажные домики с тесовыми крышами. Их было десятка два. В них размещались учреждения округа, больница, школа и торговая контора.
Вокруг этих домов толпились кое–как слепленные избушки. Они строились из досок, ящиков и других подручных материалов, какие «застройщики» ежегодно добывали после разгрузки пароходов. Большинство этих строений было обложено «тундрой» — дерном до самой крыши. Маленькие оконца в них выглядели как амбразуры. Таких домиков было, вероятно, около пятидесяти, Над ними возвышались склады окружной торговой конторы, деревянные каркасы которых были обтянуты брезентом. Около складов возвышались штабеля мешков и ящиков, также покрытые брезентом. Выделялись строения из гофрированной жести, вероятно, старые американские склады.
Как пустыня крохотный оазис, стиснула тундра этот островок жизни своей нежилой огромностью. Ни деревца, ни кустика, ни человеческого следа за околицей поселка. За пределы видимости уходили лишь кочки и болотистые буераки. Единственной дорогой к другим людям была вода лимана. В сторону моря прибрежное мелководье заставлено кольями ставных сетей, на поверхности — гирлянды поплавков. Большое число лодок, вытянутых на галечный берег, также подтверждало, что люди здесь дружат с водой, а не с тундрой.
Наш пароход — третий и последний, который пришел в Анадырь в этом году. Он доставил не только людей, но и различные товары на целый год. Отсюда в лодках и собачьих упряжках эти товары отправят в Усть–Белую и Марково, а оттуда еще дальше по чукотским кочевьям.
Сейчас все население города на берегу. Самая большая толпа собралась у трапа, к которому подходили катера. Доносились возгласы, люди обнимались, расходились. Чувствовалось, что прибытие парохода здесь большой и редкий праздник. Множество собак сновало среди людей, усиливая оживление людского водоворота. Местами возникали жестокие собачьи драки, были видны лишь визжащие клубки собачьих тел.
Насмотревшись на южный берег, я перешел на другой борт.
Над северным берегом господствовал массив Золотого хребта. Говорили, что до него шестьдесят километров, но он казался рядом — рукой подать. В ярком солнечном свете хребет был изумительно красив, я бы сказал, даже величествен. Бронзового цвета монолит его вершины волнистыми уступами снижался к лиману. В отличие от одноликой тундры южного берега тундра северного берега, полого возвышаясь к подножию Золотого хребта, была расцвечена красно–оранжевыми и желто–зелеными красками здешней осени. Очевидно, там рос кустарник. Вся картина в целом — хребет на фоне эмалевой голубизны неба, яркие краски его склонов, быстро бегущая в узловатых завихрениях вода, живописность волнистого берега — была чарующей. Такое место можно было полюбить.
Предгорья хребта выдвинули к берегу два мыса, между которыми была довольно широкая галечная коса длиной полтора–два километра. Коса эта изгибалась подковой, образуя слабо выраженную бухту Мелкую, как числилась она на карте.
Всю косу и часть тундры в глубине этой подковы люди застроили домами из бруса и бревен, и их было больше, чем в самом Анадыре. В углу косы, у подножия западного мыса, расположился небольшой консервный завод. Над ним возвышалась труба, сваренная из поставленных друг на друга бочек. В противоположном углу, у мыса Обсервации, большую часть косы сняла плавбаза консервного завода. Катера и кунгасы скрадывали строения, стоящие за ними. Но там были мастерские, единственные на тысячу километров в радиусе. И это было примечательно для того времени. Только здесь можно было выполнить несложную конечную работу, произвести сварку, выточить деталь на токарном станке.
Середину косы разрывал маленький ручей с кладенцами для перехода. По обе стороны ручья были расположены разделочные столы и деревянные бункера для засолки кеты. В разгар путины на этом берегу работали сотни сезонников, в большинстве молодые женщины, приезжавшие с материка. Центр поселка, который здесь именовался комбинатом, был около консервного завода. Здесь находился форпост могущественной «империи» Главсевморпути. Его представлял собою Чукотский трест и политотдел при нем.
Вот у комбината, на последнем кусочке галечного берега под сенью мыса Обсервации, и было отведено место для нашей авиабазы. Аэродромом должна была стать бухта Мелкая, но для этого ей предстояло покрыться льдом. Ни единого клочка суши, пригодного для взлета и посадки самолета на колесах, в пределах видимости не было. О том, как и откуда взлетать, когда растает лед, вопрос в ту пору не стоял. Впереди — длинная зима, и иных транспортных возможностей, кроме собачьих нарт и самолетов, не было.
На северном берегу, присмотревшись, в складках местности можно было различить строения на первый взгляд непонятного назначения. Они находились километрах в шести от комбината, за мысом Обсервации, и не сразу различались на фоне подножия Золотого хребта. Но, как выяснилось, это был жизненно важный для Анадыря пункт — угольный рудник. На нем работало десятка полтора рабочих, почти с поверхности добывавших уголь для нужд города и поселка Главсевморпути. Это был уголь отменного качества. Он разгорался без растопки деревом, так он был легок и пропитан летучими веществами.
Потом мне приходилось слышать, что выходы такого угля являются признаком наличия в недрах нефти. Но это предположение у местных работников особого интереса не вызывало. В то время обыкновенную глину для кладки печей и то везли из Владивостока. Но сейчас руководители округа ломали голову над проблемами рыбного, пушного промысла и оленеводства. Разговоры о богатствах недр многим казались беспочвенными мечтаниями, отвлекающими от настоящего дела. Только одиночки, которых потом я встречал в разных местах, такие, как Марголин, верили в «чудо», которое рано или поздно явит Чукотка.
ПЕТР ШВЕЦОВ И ТРОФИМ ДЫЛЕВ
В трудах и заботах об устройстве на новом месте быстро летели дни и недели. В середине октября на Чукотку обрушился полярный холод, и бухта Мелкая покрылась льдом. Мы ждали, пока она превратится в достаточно надежный аэродром.
Восемнадцатую годовщину Октябрьской революции отмечали в клубе комбината. Собралось человек полтораста.
Все были празднично одеты и оживленны. Первые две скамейки занимали почетные гости — темнолицые чукчи–кочевники. Завтра они откочуют к дальним горам у горизонта и разнесут по тундре слух о большом русском празднике.
Впервые я видел коренных обитателей края так близко. Они были в меховых одеждах, пропитавшихся дымом и другими весьма острыми ароматами яранги. К взрослым, как любопытные зверьки, жались малыши, сверкавшие черными глазенками.
Большинство присутствующих составляли служащие комбината и треста. Тут же находились мотористы, старшины плавбазы, рабочие мастерских и консервного завода. Я почти никого не знал и удивлялся, как много знакомых у моего командира Пухова. Он раскланивался налево и направо, его наперебой подзывали, охотно теснясь и освобождая для него место. Потом он оказался в президиуме представителем отряда авиаторов. Мы с Митей остались в проходе около самых дверей. Я еще не освоился в новой для меня арктической обстановке и смотрел на нее глазами городского романтика, пытаясь по внешнему облику разгадать тех, кто, живя здесь, героически побеждает в себе чувство отдаленности и тоску по материку.
Торжественная часть собрания была недолгой и не отличалась от многих других подобных собраний. Запомнилось оно другим. Сразу, как только сел докладчик Щетинин, из президиума к рампе стремительно вышел незнакомый мне человек и, энергично выкинув руку вперед, как бы призывая к вниманию, бросил звенящим голосом:
— Уважаемые товарищи потомки!
Это было неожиданно, непонятно, и в зале сразу воцарилась тишина. Впервые на этом меридиане прозвучали страстные слова Маяковского. Большинство присутствующих понятия не имели о его существовании и приняли выступающего за автора. Великолепно переданное напряжение стиха заворожило всех.
Когда выступающий умолк, зал разразился овацией. Какая же это великая сила — человеческое слово. Точно попавшее в сердце, оно может поднять человеке на высоту героического действия. Но оно может и ранить, унизить, обессилить его! Тот, кто сегодня с такой страстью читал стихи, не просто декламировал их, через них он выражал и самого себя. Я должен с ним познакомиться!
Через несколько дней я пришел в политотдел к Щетинину и застал у него мужчину чуть более сорока лет, с округлым грубоватым лицом, по виду рабочего. Увидев меня в дверях, Щетинин дружелюбно улыбнулся:
— А, заходи–заходи, Миша, садись. Вопрос есть.
— Слушаю, Николай Денисович!
— Так вот, скажи, как по–твоему, из чего лучше строить дом — из бревен или фанеры?
— Смотря где. В Крыму подойдет и фанера, а здесь — бревна, — ответил я, удивляясь несуразности вопроса.
— А вот Трофим Сергеевич (жест в сторону рабочего) уже час доказывает мне, что дом из фанеры в Арктике лучше бревенчатого.
— Хвактически не так, товарищ начальник! — степенно вступает в разговор Трофим Сергеевич, — Я не говорил, что лучше, я говорил — не хуже.
— Ну, может, я не понял, расскажи вот при Мише все снова.
По интонации и смешинке в глазах Щетинина мне стало ясно, что все–то Денисыч понял, но дает мне возможность познакомиться с интересным человеком. — Хванера она и есть хванера, — неторопливо, с сознанием важности сообщаемых сведений начал Трофим Сергеевич. — Конечно, куда ей угнаться за бревном! А только и хванера местами куда как превосходит бревно. Инженер товарищ Романов придумал дома из хванеры, что по теплоте не уступят бревенчатому, хочь дуй какая пурга. Вот построил я Петру Хвилимонычу домок, пусть живет и радуется. Инженер товарищ Романов дают гарантию на пять лет, а я, столяр Дылев, ручаюсь за пятнадцать годков, а то и больше.
Ага! Значит, Дылев! Я уже слышал об этом оригинале, которого за глаза звали не столько по имени, сколько по кличке «Хванера–хвактически»!
А Дылев по–крестьянски рассудительно продолжал;
— …Так ведь это где? В Анадыре, на морском берегу. Сюда и бревно завезти бесхитростно. А вот геологам или каким другим изыскателям надо на время (ударение он сделал на последней букве) поставить жилье где–нибудь в горах. Так што, они на оленях или собачках бревна повезут? Да ни боже мой! Они в палатках промучаются, а не повезут. Транспорту не хватит. Да и не нужон им дом на семьдесят лет. Им што? Им дай дом, чтобы был легкий да дешевый, годков на пять, и штоб списать его не жалко было. Вот тут хванера — она и спасает: легка, удобна, ее и на самолетах можно уместить и перенести куда требуется. — При этом Дылев посмотрел на меня, как бы приглашая подтвердить его правоту.
Щетинин положил локти на стол, руки со скрещенными пальцами подвел под подбородок и, слушая Дылева с самым серьезным видом, с дружелюбным любопытством изучал этого самобытного человека.
— Вить теперь как пошло дело? Едут и едут люди на Север, как будто им тут леса растут — руби да ставь дома! А лесов здесь нету. И пароходов не хватит привезти на всех бревенчатые дома. А хванера, она што? Лежит себе в трюмах пачечками, много места не занимает, да всякие там столбики–реечки рядом приткнулись. А приехали на место, тут тебе столяр Дылев только и нужен. А помогать ему могут самые что ни на есть чернорабочие. Глядь–поглядь, через три недельки и готово жилье. А бревенчатый дом? Его только перетаскать по бревнышку, и то артель нужна, а поставить — цельная бригада…
Дылев, как видно, мог на эту тему разговаривать до вечера. Воспользовавшись паузой, я перехватил инициативу.
— Трофим Сергеевич! Это очень интересно. Если разрешите, я приду посмотреть на ваш дом, как вы фанерой тепло удерживаете.
— Да с дорогой душой! Приходи, будь ласков. Все как есть объясню, вполне доволен будешь. Ты не смотри, что у Дылева два класса, он самоуком при Советской–то власти до бригадира дошел. Посмотришь мой домок по системе инженера товарища Романова, познакомлю с умнющим человеком, начальником всей мерзлотной станции Швецовым.
— Да ты его должен знать, Миша. Ты был на вечере? Он Маяковского стихи читал, — сказал Щетинин.
— Спасибо, Трофим Сергеевич, Непременно приду. А вы его давно знаете?
— Петра Хвилимоныча–то? Да как же, с самой что ни на есть столицы с ними еду. Они заинтересовались этой конструкцией, а инженер товарищ Романов меня им и представили как столяра первой руки. Так я и поехал в энтот Анадырь.
— Я вижу, вы его уважаете, Трофим Сергеевич?
— А как же! Мастер мастера завсегда уважает. Такой человек, как Петр Хвилимоныч, могли бы устроиться поближе к московским удобствам, а они вон куда! На край света! Уважаю я их за это, тут слов нет!
Вмешался Щетинин.
— Трофим Сергеевич! Ты извини, сейчас мне надо на собрание плавбазы идти, а товарищ Каминский, видно, по делу. Ты с ним еще встретишься.
— Понимаю, товарищ начальник, Дылеву много слов не надо. Ему покажи чертеж — он разберется, к чему что прислонить.
Он степенно поднялся, застегнул ватник на все пуговицы, надел на лысеющую голову старую буденовку и, пожав руку сперва Щетинину, потом мне, направился к двери.
Когда дверь за Дылевым закрылась, Щетинин, усмехаясь, спросил:
— Ну как?
— Интереснейший человек. И выкладки его интересны. Вероятно, дело и правда стоящее.
— Ты сходи на мерзлотную и убедишься сам. Посмотрим, как швецовцы перезимуют, тогда будем давать оценку.
— А я ведь затем и шел к вам, чтобы расспросить о Швецове. Судя по Дылеву, около него все интересные.
— Ты прав. Его техники Карташов и Зайцев — такие. Что касается самого Швецова, о нем нельзя говорить отдельно от его дела. Ты слышал что–нибудь, что это наука о вечной мерзлоте? Нет? Я тоже. А теперь знаю. Петя Швецов по этому делу академию кончил. Он и нас скоро сделает академиками. Это человек не только сам убежденный, но и умеющий убеждать. Воспользуйся «протекцией» Дылева — он тебя «представит» Швецову. А сейчас извини, мне действительно пора.
Но так случилось, что встреча со Швецовым состоялась только через месяц, уже после нашего возвращения с вынужденной посадки, перед самой пургой, которая надолго осталась в памяти.
После многих ясных дней стало пасмурно и потеплело. Против 35–градусных морозов 20 градусов без ветра казались оттепелью. К этому времени мы с Митей завершили большую работу по снаряжению самолета, и у меня стало спадать напряжение от всего пережитого. Пухов держался отчужденно, пользовался каждым случаем показать свое недоброе отношение, и от этого на авиабазе было неуютно. Возникла потребность снять «остаточные деформации», и я пошел на мерзлотную станцию.
Поселок комбината жался к галечной косе, намытой штормами из бухты Мелкой. Он был замкнут в котловине, с трех сторон окружен горными грядами. Сейчас на этих сопках лежала плотная облачность, словно крыша. Было тихо и совсем как на материке, сверху неслышно планировали нечастые снежинки, постепенно освежая пейзаж добрым белым цветом.
Я шел не спеша, ощущая еще не прошедшую душевную усталость от прожитого месяца, и думал: «Почему так получается, что люди одной цели, даже коммунисты вроде меня и Пухова, не могут жить без неприязни? У нас одна задача — навести мосты между островками человеческой жизни, узнать эту страну, помочь людям жить в ней интереснее, интенсивнее, менее замкнуто. А мы ссоримся и даже враждуем. В характере Пухова многое мне не по душе. Но, вероятно, есть и во мне что–то такое, что ему не по нраву. Что мне надо изменить в себе?»
Я подошел к квадратному, с плоской крышей домику мерзлотной станции. Увидел человека в ватнике, ватных брюках и русских сапогах. Он не торопясь и с видимым удовольствием раскалывал доски от ящиков на растопку.
— Как мне повидаться с товарищем Швецовым? Человек распрямился, тыльной стороной руки вытер лоб, остро взглянул на меня, чуть помедлил, вроде б оценивая, и, протягивая руку, сказал: j
— Я и есть Швецов! Назвав себя, я попросил разрешения познакомиться с конструкцией домика.
— Жаль, что сейчас нет нашего инженера–строителя товарища Дылева. Если вас удовлетворят дилетантские объяснения, то могу его заменить.
Объясняя конструкцию дома системы Романова, Швецов не упустил случая отметить, что по его предложению дом установлен с наименьшим нарушением режима вечной мерзлоты под ним. Чтобы тепло от дома не передавалось грунту. Швецов прочел мне целую лекцию на тему: что такое мерзлота и как с ней дружить. Он так и выразился: не бороться, а дружить.
Я был приглашен в дом. На столе появился закопченный чайник, из чемодана были извлечены остатки домашнего печенья, и хозяин стал меня потчевать с редким радушием. Инициатива беседы оказалась целиком в его руках, а я лишь изредка подбрасывал в костер его красноречия вопросы,
Во время нашего разговора в комнату вошел высокий, красивый парень, одетый, как и Швецов, в ватный костюм. Он слегка заикался.
— Знакомьтесь! Мой коллега и друг Сергей Николаевич Карташов!
Коллега оказался техником по образованию и производителем работ по плану станции. Он принес изготовленные им схемы залегания пород мерзлых грунтов под местным консервным заводом. Рассматривая и обсуждая эти схемы, Швецов пояснил, что руководство комбината в панике. В результате оттаивания грунта и вытаивания ледяных жил фундаменты консервного завода местами провалились, и все сооружение вот–вот может разрушиться, погубив оборудование, а главное— людей. Мерзлотники и обсуждали, какие принять меры, чтобы избежать катастрофы. Когда Карташов ушел, Швецов, переходя на «ты», сказал:
— Понимаешь, какое дело — наука знает о мерзлоте еще очень мало, а стройка идет колоссальная. Почти половина Азиатского континента заморожена эпохами великого оледенения. А мы сооружаем на вечной мерзлоте железные и грунтовые дороги, жилые дома и предприятия, рудники и шахты. Строим, не зная законов этой стихии. В результате терпим огромные убытки. Дороги вспучиваются, шахты обваливаются, дома становятся опасными для человека. В общем, в нашем деле работы непочатый край. Вот и здесь, если бы мы не вмешались, консервный завод был под угрозой закрытия.
Месяц назад такую же одержимость своей работой я наблюдал в Шитове, Железове, Тамаре Руанет, Жене Кричевской. Сейчас подумалось: вот они, ударники пятилетки! Швецов между тем продолжал:
— А у нас здесь намечается открытие. Понимаешь, до сих пор считалось, что в вечномерзлых грунтах встречаются лишь отдельные линзы ископаемого льда. Из этого следовало, что их можно обойти. А мы в связи с проблемой спасения завода били не шурфы, как обычно, а целые траншеи. И наткнулись на жилы, которые занимают большие пространства, их не обойти.
— Наверное, на таком месте не следует строиться?
— Или найти другие способы закладки фундаментов, — подхватил Швецов. — Если такая жила подтает, то по ней, как по маслу, съедет все, что стоит на поверхности.
Мерзлота меня интересовала постольку, поскольку был интересен сам Швецов. Я наблюдал его манеру держаться, вслушивался в интонации голоса, следил за неожиданными изгибами мысли.
Внешние данные не говорили о щедрости создателя. Прямо скажем, матушка–природа не употребила слишком тонких инструментов для обработки этого лица. Выпустила его из–под топора. И тем не менее оно производило приятное впечатление. Может, потому, что недоданное наружности было заложено внутри?
Мне нравились люди, всегда знающие, что делать, и не ковыряющие в затылке, когда надо принимать решение, А такое качество не равноценно простой смелости.
Уверенность Швецова была проявлением ясности цели, логичности мысли и базировалась на страстной убежденности. Была в нем и та трудноуловимая мера внутреннего достоинства, которая исключает панибратство. Таких, как Швецов, не называют запросто Петей или Мишей. К ним даже близкие друзья обращаются по имени–отчеству, и никого это не коробит. В совокупности со знаниями и убежденностью это качество выдвигает людей в командиры и руководители самым естественным образом.
И еще одним редким даром владел он — словом. Без всякого напряжения умел в разговоре увлечь и зажечь. Его лексикон был прост, но логика мысли, модуляции голоса, мимика лица всецело захватывали собеседника. Это была высшая человеческая красота — красота интеллекта.
Не знаю, чем я «показался» Швецову, но мы подружились. В своих жизненных университетах я что–то получил у Швецова, за что и благодарен этой дружбе.
После года Анадырской зимовки Швецов уехал на Шпицберген, оттуда — в Якутию, на ледники Индигирки, а затем на фронты Отечественной войны. Немало времени подарил он и Воркуте. И везде оставил полезный след. Так, в Анадыре благодаря проведенным его сотрудниками исследованиям и выработанным рекомендациям консервный завод был спасен от разрушения, Не менее важно и то, что местные строители впервые узнали, что с «мерзлотой надо дружить». Зимой 1936 года Швецов совершил на собаках «поездочку» длиной в полторы тысячи километров. Изучил горячие источники возле бухты Провидения и залива Святого Лаврентия. Взял пробы воды, отправил их в Москву для анализа, собрал все известные факты и легенды о чудотворном действии источников и статью о них отправил в центральный журнал. Это была первая публикация о таком малоизвестном богатстве недр Чукотки.
После отъезда Швецова из Анадыря следующая моя встреча с ним произошла при любопытных обстоятельствах.
В конце второго года войны я возвращался из Арктики в Москву. Ехал в страстной надежде освободиться от «брони» и уйти в боевую авиацию. Время было трудное, голодное, и у многих было настроение — лишь бы день прожить. О завтрашнем не очень–то задумывались. На второй день пути, за Новосибирском, от нечего делать я зашел в соседнее купе и стал наблюдать за компанией преферансистов. Через некоторое время обратил внимание, что на третьей полке лежит человек и читает, не обращая внимания на шум, гам и табачный дым, Я еще позавидовал: есть же люди, способные а такой обстановке чем–то увлечься! В какой–то момент этот человек, перевертывая страницу, отстранил книгу от лица, и я узнал Швецова. Обрадовались встрече оба, разговорились. Спрашиваю; «Чем это ты увлекся?» А он показывает мне книгу на английском языке о той же мерзлоте. Сказал, что готовится к защите диссертации, изучает язык и заодно терминологию по специальности.
В последующем разговоре выяснилось, что продуктов у него нет.
— Понимаешь, столько оголодавших едут с запада, особенно детишек, смотреть на них страшно. Раздал я все. Сейчас еду в Москву, мечтаю попасть в действующую армию.
Вот так я узнал, что за прошедшие семь лет мой друг не изменился.
Были и другие, такие же этапные встречи на перекрестках жизни. Прошло более тридцати лет, как я знаю Петра Филимоновича Швецова и вижу, что почетное звание члена–корреспондента Российской академии наук получено им заслуженно.
Я намеренно подробно остановился на столяре Дылеве и его аттестациях фанерному домику.
Как ни странно, полезный опыт иногда не выходит за областные границы и нередко вообще забывается. Далее читатель увидит, что именно так, на долгие годы, случилось с чукотским опытом применения самолетов для нужд геологов.
Масштабы освоения труднодоступных мест не стали меньше за последние тридцать лет. Проблема жилища на Крайнем Севере, да и в других отдаленных местах, не потеряла остроты. А вот о фанерных домиках того типа, который предложил в 30–х годах инженер Романов, я с тех пор не слышу. Кажется мне, что домики Романова забыты напрасно, поэтому дополню рассказ о них.
Вскоре после посещения домика мерзлотной станции в Анадыре я увидел три таких же домика в заливе Креста в геологической экспедиции М. Ф. Зяблова. Став командиром чукотского отряда в 1937 году, я выписал Дылева и с ним два таких домика. Их полезная площадь 25 квадратных метров. Эти домики на нашей северной базе, известные всей Арктике под именами «Северный» и «Южный», прослужили людям по многу лет. Странное дело, за эти годы сгорело два рубленых дома и ничего не сделалось фанерным.
Сохранение тепла в таких домиках достигается двумя воздушными прослойками меж трех фанерных стенок. Эти промежутки для уменьшения конвекции и теплоотдачи самой фанеры заполнялись, а точнее — завешивались плотной бумагой в «зигзаг». Весь секрет долголетия — в тщательности сборки. Рекомендации Т. С. Дылева, выданные домикам «инженера товарища Романова», потому с таким блеском оправдали себя, что их собирал добросовестный «столяр первой руки» сам Т. С. Дылев.
Быть может, мое напоминание об этом старом опыте пригодится сегодняшним хозяйственникам всякого рода экспедиций.
ОТ УРАЛА ДО МЫСА ДЕЖНЕВА
(Подвиг жизни Сергея Обручева)
Встреча со Швецовым открыла мне еще одного интересного человека, а через него я узнал истинное значение слова «отвага».
Дело было так. Когда Петр занимался с Карташовым, я пересматривал книги, лежащие на тумбочке, сколоченной из двух ящиков. Преобладали специальные книги, но среди них я обнаружил стихи Блока, Есенина, Маяковского, Фета и Багрицкого. Было несколько новинок прозы и альбом картин Третьяковской галереи. Все это говорило о хозяине больше, чем он мог сказать о себе сам. Заметив мой интерес, Швецов произнес:
— Сейчас я тебя удивлю! — и достал с полки книжечку с силуэтом самолета на бело–голубом поле обложки. — Перед самым отъездом получил от автора! Посмотри!
Я взял книгу, и у меня задрожали руки.
«Сергей Обручев. На самолете в Восточной Арктике», — прочел я на заглавном листе. Полистал ее, просмотрел заголовки и, возвращая книгу хозяину, подумал о том, что Митя был прав: нас действительно бросили на Чукотку, как щенков в воду. Подумать только, прошел уже год, как вышла в свет эта книга, а мы, уезжая из Москвы, понятия о ней не имели. До нас здесь перезимовал отряд Павленко, мы же не имеем даже самой скудной информации о том, как жили и летали наши предшественники. Что же это за порядок, при котором каждый начинает накапливать свой опыт, как будто до него ничего и не было?!
— Не дашь ли почитать, Петр Филимонович? Он помедлил, точно обдумывал, стоит ли затягивать наш разговор, потом сказал:
— Пришлось ли тебе читать «Землю Санникова»?
— Ну как же, конечно!
— Понравилась?
— Не то слово — увлекла чертовски.
— Так вот, автор «Земли Санникова» Владимир Афанасьевич Обручев — человечище удивительный! Геолог, географ, академик и писатель — дай бог каждому. Одержимый! Такими, как Ферсман, Губкин и Обручев, сегодня и славна отечественная геология.
А Сергей Обручев — сын Владимира Афанасьевича. Как видно, он унаследовал все таланты отца. Широкого профиля геолог, выдающийся географ и, видишь сам, писатель. А как интересно пишет!..
Швецов, задумавшись немного, полистал книжку и протянул ее мне. Вне связи с предыдущим со вздохом сказал:
— Завидую я вам, летчикам! Эпоха вынесла вас на самый гребень.
— Поясни, пожалуйста, что–то не доходит!
— Что ты читал об экспедициях в Арктике?
— О Седове, о челюскинцах, перед самым отъездом прочел Амундсена. Если, конечно, не считать Джека Лондона.
— Джек Лондон — это романтика. Увлекает — потому полезна. Но на одной романтике не уедешь.
— Ты прав. Как раз об этом я и думал на вынужденной.
— А что читал у Амундсена?
— О его поисках северо–западного прохода.
— Этого мало. На первый случай я дам тебе кое–что еще.
Швецов встал и достал с верхней полочки стопку книг. Перебирая их, заметил:
— Это все — об Арктике. Вот возьми книгу об экспедиции Франклина. Она познакомит тебя с трагической историей. И вот эту тоже. О походе Амундсена на Южный полюс. Велик Нансен, слов нет, но еще выше Амундсен. Глыба!
— Когда ты успел, Петр Филимонович, все это узнать? — подивился я совершенно искренне.
Швецов смутился, как будто его уличили в хвастовстве.
— Кто хочет — тот узнает! Но это к слову. Вот почитаешь эти книги и сам увидишь, что каждая эпоха имела свои средства преодоления бездорожья полярных стран. Лодки и корабли, собаки и олени… И так — сотни лет. А сейчас появились самолеты.
Черт возьми! Разные люди говорят об одном и том же! И этот парень двадцати пяти лет от роду уже не только знает больше меня, но и делает обобщения, до которых я не дорос!
А Швецов продолжал:
— Амундсен и Обручев опередили возможности вашей техники, а вот вы начинаете в самый раз. Прочти Обручева, это не только интересно, но, вероятно, будет и полезно.
Эту книгу я прочитал так, как верующие читают евангелие. Сейчас она стала библиографической редкостью, и мне представляется необходимым в самых общих чертах рассказать о ней. Но прежде всего об авторе этой книги — Сергее Обручеве.
Молодым геологом в 1917 году он начинает изучение геологического строения огромного района Сибири, примыкающего к бассейну Ангары. Этой работе посвящает пять лет жизни, вплоть до 1923 года (потом он не раз возвращается к этому еще и еще). Если учесть, какие это были годы в жизни страны, как ничтожно малы были наши знания об этом далеком крае, где держали ссыльных революционеров, то можно сказать, что Сергей Обручев совершил научный подвиг.
Вплоть до 1930 года он продвигается все дальше на восток, изучает горообразование Восточной Якутии, открывает ее высочайший хребет и дает ему имя Черского.
Не успев остынуть от напряжений пеших походов по совершенно диким местам, он уже рвется в другие дали. В своей книге он сообщает:
«Во время моих экспедиций 1926 и 1929—1930 годов была изучена в общих чертах география и геология значительной части Северо–Востока Азии — восточная половина Якутии в области рек Индигирки и Колымы. Эти экспедиции описаны в книгах: «В неведомых горах Якутии» и «Колымская землица».
Но оставались обширные пространства, которые не могли быть сколько–нибудь точно изображены на карте. В особенности Чукотский округ и северная часть Корякского, занимающие Крайний Северо–Восток Союза. Только изучив этот «кончик» площадью 700 тысяч квадратных километров, можно было строить на сколько–нибудь серьезном фундаменте теории о геологической связи материков Азии и Америки, о направлении структурных линий, об изгибе Тихоокеанских дуг, о распределении полезных ископаемых — одним словом, все те построения, которые сейчас основаны на личных взглядах и фантазии авторов».
Неутомимый, широко мыслящий исследователь, землепроходец! Вот что говорят об Обручеве даже такие сухие сведения. Гораздо ярче он выглядит со страниц своей книги. Самоотверженный, мужественный, наблюдательный, остроумный человек и предусмотрительный организатор.
Таким был геолог Обручев–младший, первым увидевший Чукотку с высоты полета. Говорю так потому, что все летавшие до него, начиная с Кальвицы, видели лишь отдельные ее части, не преследуя цели представить себе Чукотку в целом. А главное, они не оставили людям даже памяти об увиденном.
Теперь, когда самолетам в воздухе становится тесно даже в небе Арктики, не так легко представить время, когда очень многие еще не видели летательного аппарата.
Еще в 1921 году для освоения богатств северной Сибири возникло акционерное общество «Комсеверпуть». Оно экспортировало лес, хлеб, пушнину, чем добывало стране валюту. Для проводки кораблей это общество имело свою авиацию. Первые разведывательные полеты над Карским морем в 1924 году выполнял морской летчик Борис Чухновский. Он пользовался двухмоторным гидросамолетом немецкого происхождения типа «дорнье–валь».
Неслыханное слово «пятилетка» взбудоражило мир и встряхнуло огромную страну. На развалинах Российской империи началась одна из самых важных и осмысленных битв в истории нашего народа — битва с вековой отсталостью.
Первая пятилетка создала фундамент независимости страны. Появилась авиационная промышленность, и военная авиация стала оснащаться самолетами и моторами, построенными на советских заводах. Но гражданская авиация еще опиралась на остатки самолетов иноземного происхождения. Они были устарелыми и сильно изношенными.
А между тем подошла очередь освоения всей Советской Арктики. Великий Северный морской путь стал не только хозяйственной, но и политической необходимостью. В условиях капиталистического окружения нашей стране был нужен независимый морской путь для сообщения с Дальним Востоком. Необходимость ясна, а сил еще мало.
Изучая историю покорения Арктики, наши потомки будут удивляться тому взрыву энтузиазма, с каким мое поколение решало эту задачу. И еще оно удивится тому, как много совершено благодаря отваге и предприимчивости отдельных людей.
В 1932 году единственным обладателем полярных самолетов была авиация Комсеверпути. Но вся ее мощь заключалась всего в трех самолетах «дорнье–валь». Зная это, можно представить, чего стоило Обручеву заполучить один из них для своей экспедиции.
Его поддержали видные деятели Советского государства, занимавшиеся проблемами Севера, такие, как С.С. Каменев, академик О. Ю. Шмидт, такие исследователи Арктики, как В. Ю. Визе и Р. Л. Самойлович. После двух лет настойчивых усилий Обручев добился от Комсеверпути самолета, но эта победа явилась началом преодоления множества других препятствий.
Экспедиции на самолете в Восточной Арктике были проведены в летний период 1932 и 1933 годов. Швецов сказал, что они несколько опередили технические возможности авиации, и это верно.
Выделенный Обручеву самолет с опознавательным знаком Н–1 находился в Красноярске на капитальном ремонте. Работать же экспедиции предстояло на Чукотке. Эти географические пункты разделяли семь тысяч километров. И каких километров! Местность и климат на всем протяжении трассы не были известны. Радиосвязь между пунктами отсутствовала. Не было и малейшего представления о том, где возможно посадить самолет, — об этом надо было гадать, разглядывая старинные карты, нарисованные «по рассказам охотников». В какие пункты следовало завозить бензин, никто не знал. А как завезти? Пароходов на Дальнем Востоке было очень мало. Они не были даже в состоянии перебросить на Север все плановые грузы, а тут еще этот взрывоопасный бензин!..
Самолет, выделенный Обручеву, нуждался в очень серьезном ремонте, а ремонтная база в Красноярске была слабой. Даже клепальщиков пришлось затребовать из Севастополя. Поэтому вместо 10 июня, как планировалось, самолет вылетел из Красноярска лишь 19 июля. И чуть ли не сразу сгорел один из моторов, обрекая самолет на вынужденную посадку на Ангаре, возле поселка Кежма. Можно представить отчаяние участников экспедиции, вызванное неудачей в самом ее начале, когда при полете над Охотским морем чуть не сгорел еще один мотор. Обручев пишет:
«В чем же дело? В пустяке, но очень серьезном. Лопнула дюритовая трубка в системе, по которой вода, охлаждающая мотор, идет в радиатор, чтобы остыть в проходящем через него потоке воздуха. В разрыв начала выливаться вода, и температура заднего мотора сразу повышается до 115 градусов, нам грозит то же, что на Ангаре, — сгорит мотор.
Пока механик Крутский самоотверженно ликвидировал беду, самолет, теряя высоту, неумолимо снижался к кромке тумана над водой. До катастрофы оставались считанные минуты, когда заработал остановленный мотор».
Не один раз летчики ползли «на брюхе» в густом тумане, держась за скалистые берега Охотского моря и делая умопомрачительные развороты, чтобы обогнуть скалы, выныривавшие из молочной мглы перед самым носом. Их до предела изматывали перекатка бочек с бензином на стоянках и заправка самолета ведрами, ночевки в тесной кабине самолета на жестких ребрах шпангоутов. Их психика подвергалась огромному напряжению в ту пору, когда они пересекали на барахлящем моторе Камчатку.
И все же 22 августа экспедиция прилетела в Анадырь — начальный пункт задуманных исследований Чукотки, израсходовав на перелет семьдесят из ста часов «жизненного запаса», который имели моторы того времени.
Обручев был совсем близок к цели, о которой мечтал у походных костров на Колыме, за которую вел сражения в учреждениях Москвы, с которой не раз прощался, борясь с казавшимися неодолимыми препятствиями на пути из Красноярска. Цель близка, но как достичь ее, если из семидесяти дней, планируемых на исследования, осталось двадцать восемь, а жизненные ресурсы моторов не превышают тридцати часов? Близок локоть, да не укусишь! Но Обручев не из тех, кто поддается отчаянию. Все забыто. И трудности. И опасности. И усталость. В первом полете он записывает:
«С надеждой на интересные открытия мы начинаем наш полет. Вам знакомо, наверно, чувство охотника, крадущегося за дичью? Почти таково же возбуждение исследователя, идущего к крупным открытиям».
Здесь следует заметить, что серьезные открытия были сделаны еще на пути к Анадырю. Так, например, разрешилась загадка хребтов полуострова Камчатки. Оказалось, что они не соединяются с горными системами Азиатского материка, как считали географы ранее. Был открыт и получил имя Корякский хребет. Он оказался на том месте карты, где было обозначено: «Корякская земля».
Читая это место в книге Обручева, я только ахал. Ведь все это было никому не известно всего три года назад! Обручев пишет: «Маршрут первого полета проложен по материку к западу от Золотого хребта с тем, чтобы выйти затем к заливу Креста, заснять величайшую вершину Северо–Восточной Азии, гору Матачингай высотой 2799 метров.
Одни ученые считают, что здесь узел хребтов Чукотки и даже Камчатки, другие, что эта гора — потухший вулкан. Что же вернее?»
Но тайна Матачингая в этой экспедиции раскрыта не была. И вообще, новых открытий вопреки ожиданиям в этом сезоне экспедиция не сделала. Зато была проделана исследовательская работа огромной важности, после которой появилась первая достоверная карта той части Чукотки, которая имеет наименование «Чукотский нос». На любой географической карте можно без труда увидеть этот «нос», очерченный береговой линией от залива Креста до Берингова пролива и далее по северному берегу до мыса Шмидта.
Вероятно, читатель уже понял, что, если в 1932 году впервые открываются неизвестные ранее хребты или, наоборот, выясняется, что их нет там, где они должны быть, стало быть, карты, изображающие земную поверхность, в ту пору не были верны. А летать без карты это все равно, что ходить в лесу с завязанными глазами.
Почему же оказались неверными карты Северо–Востока? Дело в том, что топографическая площадная съемка местности для карты обходится очень дорого. И поскольку Чукотка до 30–х годов нашего века считалась почти необитаемой и бесполезной землей, то ни о каких точных картах не приходилось даже и думать. Правда, мореплаватели хорошо исследовали береговую линию Чукотки, поэтому и карты, сделанные экспедициями морских топографов, отличались достаточной точностью. Но что можно было увидеть с берега в глубине материка? Внутренняя часть Чукотки наносилась на карты по рассказам местных жителей, при этом оставались обширные «белые пятна» с надписью; «Не исследовано».
Когда же хозяйственное освоение Чукотки стало необходимостью, потребовались точные карты Северо–Востока. И тут геолог Обручев и геодезист Салищев предложили революционную идею — производить съемку местности не обычным наземным способом, а при помощи самолета. Опытный геодезист–картограф зарисует то, что увидит с высоты, и после камеральной обработки этих рисунков появится карта. Конечно, весь этот процесс на деле выглядел не так примитивно, как я о нем рассказал. Нужны были точная прокладка курсов, привязанных к астрономическим пунктам, определение расстояний по скорости полета, частичная съемка при помощи фотоаппарата и т. п.
В 1932 году метод воздушной съемки местности прошел проверку практикой. Было снято все побережье Чукотки от вновь открытого Корякского хребта до залива Креста, далее на восток весь южный берег и после мыса Дежнева — большая часть северного берега Чукотки. Хотя авторы сразу увидели, что их идея верна, но доказательного результата — карты — надо было ждать после камеральной обработки отснятого материала. Зато бесспорным стало их утверждение о неслыханной производительности и крайней дешевизне такого метода составления географических карт. Одно это уже оправдывало все затраты на экспедицию и героические усилия ее членов. Большего в 1932 году сделать не удалось.
Когда экспедиция возвратилась в Анадырь, надо было менять моторы. К тому же наступила ранняя осень со снегом и штормами. Поэтому думали уже не о работе — для нее все сроки истекли, а о возвращении в бухту Нагаева. И вновь экипаж каждодневно рисковал и собой, и самолетом, проявляя самоотверженность, доходящую до героизма.
Обо всем этом я читал в книге Обручева затаив дыхание, как когда–то читал рассказы Джека Лондона, Только здесь был не плод богатой фантазии художника, а знакомая мне, неприкрашенная и совсем недавняя быль. И происходило все это не за тридевять земель, а здесь, на Чукотке, или поблизости от нее.
До Арктики мне приходилось иметь дело с лучшими по тому времени самолетами и моторами. И это понятно: я служил в военной авиации. Мне не приходилось летать на старых латаных самолетах и моторах, дышащих на ладан. Поэтому я и понятия не имел, какую отвагу проявили первые летчики полярной авиации, поднимавшие в небо ненадежное старье, летавшие без радиосвязи и погоды, через необжитые пространства, в тысячах километров от мест, где можно было бы получить техническую помощь. Тем большим было мое недоумение: почему же Обручев не написал о своих спутниках по героическому походу — авиаторах? Это же они совершили пионерский перелет от Красноярска через всю Сибирь, Приамурье, Охотское и Берингово моря, вплоть до острова Врангеля! Это они обеспечили Обручеву возможность сделать важные географические открытия и выполнить другие задачи!
Теперь, к сожалению, никого из участников той славной экспедиции не осталось в живых. Но их имена должны остаться в истории освоения Арктики. И, восполняя этот существенный пробел в прекрасной книге С. В. Обручева, я отдаю дань глубокого уважения командиру самолета, штурману Петрову Льву Васильевичу, первому пилоту Страубе Георгию Александровичу, второму пилоту и механику Косухину Виталию Владимировичу, бортмеханику Борису Крутскому.
В 1933 году, вновь преодолев множество препятствий, Обручев организовал вторую экспедицию для продолжения работ, начатых годом раньше. На этот раз экспедиции предстояло лететь на трехмоторном поплавковом самолете типа «юнкерс» (ЮГ–1), имевшем опознавательный знак Н–4. Самолет был доставлен (с месячным опозданием) в Анадырь пароходом в приличном состоянии, поскольку не был истрепан в длительном и опасном перелете. Но и у него обнаружилась масса недостатков.
Вот что пишет об этом Обручев:
«Проба показала, что самолет пригоден для нашей работы, но… и вот это «но» было немного велико. Начать с того, что самолет все время валился на правое крыло из–за асимметричности элеронов. Но это только звучит страшно, на самом деле придется пилоту все время поворачивать «баранку» немного влево.
Гораздо серьезнее, что большая часть приборов, контролирующих работу машины, не пригодна; из 19 приборов, установленных в пилотской кабине, неправильно показывают или не работают вовсе 13, в том числе такие важные, как показатели числа оборотов, температуры масла и воды в моторах. Из трех указателей скорости один дает 110 километров в час, другой 130, третий 170. Указатель количества бензина в баках все время показывает одну цифру. Это значит, что мы будем летать так, как летали на заре авиации братья Райт: если сгорит мотор — узнаем об этом, только когда он задымит и остановится, о скорости будем судить по свисту воздуха, о количестве оставшегося бензина — по времени. Даже путевой компас шалит — то меняет свою девиацию, то слишком устойчив, не вертится совсем.
В сущности, самолет в таком виде не должен был приниматься после ремонта в Иркутске. Но теперь нам остается или прекратить работу, не начав ее, или постараться использовать машину даже в этом виде. Да, забыл сказать, что в этом году самолет пришел без запасных частей, без каких–либо материалов для починки, без якоря, без концов для причаливания, а бортмеханики даже без теплой прозодежды.
После краткого раздумья командир самолета Куканов решает, что на такой машине нашу работу можно сделать, если внимательно относиться к моторам, следить за их режимом, не перегревать машины. А нам с Салищевым возражать не приходится — нельзя терять целое лето и отложить съемку Чукотки еще на год.
Мы будем работать, конечно, в далеко не безопасных условиях. От радиостанции и радиста на самолете нам пришлось отказаться с самого начала: они вместе весят до 200 кг, в это равно сокращению полетов больше чем на час — почти на 75 мин. От аэронавигатора мы также отказались — мы будем вести эту работу вместе с Салищевым.
Наконец, нам, вероятно, придется не брать с собой даже спальных мешков, запасной обуви, тяжелой фотоаппаратуры, чтобы по возможности увеличить радиус действия самолета».
И опять у Обручева вместо планируемых шестидесяти дней осталось, как и год назад, двадцать восемь. Но полученный опыт и знакомство с местными условиями создавали уверенность, что и за этот малый срок можно сделать многое. Главное, чтобы не подвела материальная часть самолета, чтобы летчики не «волынили» и не боялись летать над горами на своем не очень–то исправном и к тому же поплавковом самолете.
Не верю, когда говорят, что летчики бесстрашны. Страха перед действительной опасностью никто из людей избежать не может. Все дело в том, что сильнее: страх или волевой комплекс, в котором главное — самообладание!
Летчики экспедиции Обручева сделали все, что могли. Они сделали многое сверх того, на что имели право. Борясь с неполадками в самолете, ежедневно тревожась о том, будет ли бензин там, где он должен быть, «улавливая» погоду, они летали и над тундрой, и над неведомыми горами.
Обручев умело использовал все двадцать восемь дней, и результаты превзошли ожидания. Впервые глаза географа, геолога и картографа увидели значительную часть Чукотки, и увиденное было достоверно описано. И больше того, была создана настоящая карта, для того времени превосходная. Метод воздушно–визуальной съемки вполне оправдал себя.
Впервые самолет пересек загадочный тогда Анадырский хребет между заливом Креста и устьем Амгуэмы. На карте было ликвидировано еще одно «белое пятно», на котором целых сто лет стояла надпись: «Не исследовано». В этом полете была наконец раскрыта и тайна Матачингая. Вершина оказалась на тысячу метров ниже, чем было обозначено на карте, и не являлась вулканом. Загадка многих десятилетий, волновавшая географов, была разгадана.
Не менее важными были открытия, сделанные в западной части Чукотки при полетах к верховьям Анадыря.
По этому поводу Обручев в своем дневнике пишет:
«Последние два полета снова принесли важные географические открытия: никакого горного узла на стыке двух хребтов Гыдана и Анадырского нет — здесь лежит обширное плоскогорье, с которого берут начало Анадырь, его притоки — Белая на юг, Чаун на север, и притоки Колымы, два Анюя — на запад. И лишь южнее начинается хребет Гыдан и его Чуванская цепь, да на западе двумя отдельными возвышенными цепями уходят Анюйские хребты».
Но это открытие стоило исследователям тяжелых переживаний.
«Самолет приближается к цепи, начинает болтать. Страубе, ведущий самолет (наши пилоты чередуются по часу), уже не может один удержать штурвал, и Куканов тоже берется за свой. Пока все как обычно у подхода к крутым горам. Мы направляемся через узкий и крутой ложок к перевалу — и вдруг поток воздуха, переваливающий через боковой отрог, бросает самолет вниз сразу на 250 метров и вдавливает его в ложок. Мы летим, не забудьте, со скоростью два — два с половиной километра в минуту, 40 метров в секунду — и перед носом у нас уже не перевал, а крутая осыпь. Огромным размахом наших крыльев мы занимаем почти весь ложок. Еще секунда — мы упремся носом в осыпь, но в этот момент усилиями обоих пилотов машина круто положена на левое крыло, и начинается жуткий вираж. Вот правое крыло прошло в одном–двух метрах от осыпи перевала, мы скользим к правому склону ложка. Это самое опасное мгновение: поток низвергающегося с гребня воздуха придавливает нас к этой поверхности. Поплавки проходят почти вплотную к камням — и самолет вырывается из теснины вниз, вон из цепи. Мы круто летим вниз, теряем еще 250 метров высоты и через три минуты в долине, в стороне от неприятных осыпей.
Говорят, что опасные моменты длятся долго, — не знаю: этот прошел чрезвычайно быстро, и ни о прошлом, ни о будущем помечтать не удалось. Была только ясная и холодная оценка опасности, как–то чуть холодно стало внутри, но из–за этого не были забыты обязанности: и у меня, и у Салищева одинаково точно записана минута рокового виража».
Опасаясь упреков читателей за это затянувшееся цитирование Обручева, я кончаю тем, что вновь отдаю должное пионерам полярной авиации и называю имена членов экипажа обручевской экспедиции. Вот они: командир самолета Федор Кузьмич Куканов, его дублер Георгий Александрович Страубе, первый механик Владимир Шадрин, второй механик Демидов.
Особо хочется сказать о летчике Куканове. В ту пору ему было всего двадцать восемь лет.
Закончив интенсивную, полную морального и физического напряжения работу в экспедиции Обручева, Куканов перелетел на северное побережье. Наступил сентябрь — время осенних штормов, пора, когда замерзает Чукотское море. А от Чаунской губы сквозь тяжелые льды пробирался целый караван судов — весь северный флот Дальнего Востока. Раньше на Колыму ходили отдельные суда, а в 1932 году был впервые послан караван. На обратном пути суда зазимовали в Чаунской губе. Необходимо было вывести их на восток через пролив Лонга.
Сейчас слишком обыденно стали звучать слова «первый» и «впервые». Видно, мы привыкли к тому, что в наши дни наступление на природу куда меньше сопряжено с реальной опасностью для жизни первооткрывателей, чем было раньше. Но полеты в Арктике таят в себе опасности даже и сегодня, когда у летчиков имеются надежные самолеты, есть богатый опыт полетов в самых труднейших условиях. Поэтому особенно велика заслуга Б. Г. Чухновского и других пионеров ледовой разведки, начавших ее еще в 1924 году. Эти полеты производились на гидросамолетах и прекращались, едва только начинало замерзать море. Насколько мне известно, именно Куканов в 1933 году открыл эру полетов над морем колесных самолетов.
Летать над льдами на гидросамолете и то опасно, но все же есть надежда, что при нужде отыщется разводье или полынья. А для летчика, пилотирующего колесный самолет, безразлично, что там под ним — торосистый лед или чистая вода, когда сдаст мотор или самолет упадет под тяжестью обледенения. Поэтому и страх у летчиков разного свойства. Ледовый разведчик не может ждать и выбирать погоду. Он обязан вылетать каждый раз, когда кораблям приходится туго во льдах.
Куканов первым испытал, что значит летать в узком коридоре между облаками и поверхностью моря, пробивая на бреющем полете зоны тумана, снегопада и изморози, отыскивая среди льдов лазейки и щели для проводки кораблей.
К сожалению, геройские полеты Куканова не предотвратили зимовки трех кораблей у мыса Биллингса и катастрофы парохода «Челюскин», о чем я рассказал в первой главе. Ограничусь в заключение выводом, что по количеству и качеству сделанного 1933 год оказался звездным часом карьеры полярного летчика Федора Куканова.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ТРАГЕДИИ
ТРЕВОГА!
Чукотская авиагруппа 1935 года состояла из двух отрядов. Второй отряд, из трех экипажей, базировался на северном побережье. Им командовал старый морской летчик, участник спасения челюскинцев Е. М. Конкин. Командир авиагруппы Г. Н. Волобуев одновременно был начальником полярной станции на мысе Шмидта и находился при северном отряде.
Щетинин сообщал шифровками Волобуеву о неполадках в Анадырском отряде, просил принять меры, В ответ на мое недовольство методами руководства Пухова призывал к сдержанности и обещал: «Вот прилетит Георгий Николаевич — разберется!» Понятно, с каким нетерпением я ждал известия о его вылете.
22 декабря 1935 года из Анадыря на авиабазу прибыла нарта с нарочным правительственной радиостанции. Были доставлены три радиограммы.
ПЕРВАЯ:
МЫСА СЕВЕРНОГО 17 ДЕКАБРЯ АНАДЫРЬ ПУХОВУ ВОСЕМНАДЦАТОГО Н–43 БУТОРИН ЗПТ Н–44 БЫКОВ ЗПТ ВЫЛЕТАЮ АНАДЫРЬ ПОСАДКАМИ ВАНКАРЕМ ЗПТ КРЕСТЫ ТЧК УСТАНОВИТЕ СВЯЗЬ ЗЯБЛОВЫМ СООБЩИТЕ СОСТОЯНИЕ СВОЕГО АЭРОДРОМА
ВОЛОБУЕВ
ВТОРАЯ:
ВАНКАРЕМА 18 ДЕКАБРЯ АНАДЫРЬ ПУХОВУ ЗАВТРА ДЕВЯТНАДЦАТОГО ПОГОДОЙ ВЫЛЕТАЮ Н–43 ЧЕРЕЗ ХРЕБЕТ НА КРЕСТЫ ТЧК ДЕРЖИТЕ ГОТОВНОСТИ Н–68 ЗПТ СВЯЗЬ ЗЯБЛОВЫМ
ВОЛОБУЕВ
ТРЕТЬЯ:
МЫСА СЕВЕРНОГО 21 ДЕКАБРЯ АНАДЫРЬ ПУХОВУ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВОЛОБУЕВ Н–43 ВЫЛЕТЕЛ ВАНКАРЕМА ЧЕРЕЗ ХРЕБЕТ НА КРЕСТЫ ДАЛЕЕ АНАДЫРЬ
ТЧК ПОДТВЕРДИТЕ ПРИБЫТИЕ
КОНКИН
Две первые радиограммы пришли через Петропавловск–на–Камчатке, последняя — из Уэлена. Получение всех трех помечено сегодняшним утром. Объявив нам содержание радиограмм, Пухов той же нартой выехал в Анадырь на правительственную станцию. Вернулся он к ночи и сообщил, что добился связи с экспедицией Зяблова в Крестах, выяснил, что о вылете Волобуева они не знают. Бухта Провидения и Уэлен ответили то же самое. Предположив, что Волобуев мог вернуться в Ванкарем, Пухов запросил у Конкина подтверждения. Назавтра наш командир намеревался выехать в Анадырь, получить ответ Конкина и действовать по обстановке. Мне он сказал;
— Прошу вас, Михаил Николаевич, лично проверить свою машину и держать ее в готовности для полета в Кресты. Заправьте все дополнительные баки, уложите палатку и дополните НЗ из расчета на два месяца.
— Будет сделано, Николай Иванович!
Уже зная артистическую способность Пухова перевоплощаться, я все же вновь поверил в искренность его тревоги за нашего командира. Даже обращение на «вы» не казалось признаком отчужденности, а лишь подчеркивало серьезность обстоятельств.
А тревога рождала вопросы: почему самолет Н–44 летчика Быкова задержался в Ванкареме и Волобуев вылетел через хребет без него? Были ли у него палатка, примус и другие предметы, без которых нельзя жить на вынужденной?
Хотя не было сказано, кто полетит в Кресты, у меня теплилась надежда, что полечу я.
Возможно, в этом отпадет необходимость, может, Волобуев завтра прилетит сам, но радовала даже мысль о возможности полета. После возвращения с вынужденной посадки Пухов два раза летал с Митей В Усть–Белую к Берендееву и объявил, что больше полетов не будет. Мотивировал это решение опасностью одиночных полетов в Арктике.
Я был назначен бригадиром по ликвидации строительных недоделок нашего дома, а Митя с Мажелисом занялись устройством склада технического имущества. Меня не угнетала порученная работа, но нарастала тоска по воздуху. После того как войдет в строй Н–67 Пухова, останется не более трех месяцев для полетов на лыжах. А потом распутица, ожидание парохода и конец зимовке. Уедем, ничего заметного не сделав. Обида, что так бездарно идет время, точила душу. Прилет командира группы обещал какие–то важные перемены в нашей жизни, и вот внезапное осложнение, которое неизвестно чем кончится…
В последующие три дня было выяснено, что Н–43 ни в один пункт Чукотки не прибыл и факт вынужденной посадки стал несомненным. Конкин сообщил, что самолет Быкова на застругах Ванкарема поломал ушки центроплана и летать не может, что на самолете Н–42 Богданова начали менять мотор. Сообщалось, что на самолете Буторина, на котором летел Волобуев, есть палатка и две банки с НЗ. Пухову предлагалось организовать поиски Волобуева от залива Креста в направлении Ванкарема.
26 декабря Пухов с Митей и штурманом Кочкуровым улетели на моем Н–68 в залив Креста на базу геологической экспедиции Зяблова. Мне было поручено ехать нартами в Усть–Белую, перегнать отремонтированный самолет Пухова в Анадырь и ждать там указаний.
Тревога нас не покидала, но еще не было предчувствия беды. Прошла всего неделя, а при наличии палатки и продовольствия экипаж проживет месяц, думали мы. А быть может, самолет исправен и Волобуев ждет потепления, чтобы запустить мотор. Такие соображения отодвигали мысль о возможной катастрофе. Тем более, что на мое имя никаких радиограмм ни от Конкина, ни от Пухова не поступало, и это молчание успокаивало.
ПОРУЧИК ИРЖЕНИН
После Нового (1936) года Берендеев сообщил, что надеется окончить ремонт Н–67 к 15 января. Я стал выяснять возможности перебраться к нему. К моему удивлению, при том огромном количестве собак, какие я видел везде, ни одной свободной упряжки ни на комбинате, ни в Анадыре не оказалось: они были мобилизованы на вывозку товаров торговой конторы. Оставшиеся в Анадыре упряжки, принадлежащие камчадалам, использовались на подвозке угля для отопления. К тому же не было и опытных каюров, пригодных для дальней поездки.
Единственная хорошая упряжка была в распоряжении секретаря окружкома партии товарища Волкового. Меня предупредили, что он свою упряжку никому не дает, но я все же решил к нему обратиться.
Волковой принял меня сурово. Выслушал мою просьбу, как показалось, угрюмо, а ответил с нескрываемым раздражением буквально следующее:
— Не умея летать, нечего было соваться в Арктику. А уж коли приехали, надо было сначала на каждом километре разложить запасные части, чтобы не выпрашивать у нас нарты. В прошлом году вытаскивали Масленникова, в этом — вас. Кроме мороки, никакой пользы от ваших самолетов округ не видит. Так что не взыщите, свою упряжку не дам. Ищите где хотите!
Я не нашелся, что ответить на этот упрек, тем более что в душе считал его справедливым. Поэтому, смутившись, ушел, не пытаясь переубедить сердитого секретаря окружкома. Вероятно, предприимчивый Пухов нашел бы нарту в Анадыре, я же, не солоно хлебавши, обескураженный, вернулся на комбинат и пошел к Щетинину.
— Как быть, Николай Денисович? — спросил я его совета, передав разговор с секретарем окружкома.
Щетинин ответил не сразу. Он сидел, положив локти на стол, концами пальцев подпирая виски. Его медвежьи глазки из–под кустистых бровей, как мне казалось, испытующе сверлили меня насквозь.
— Я понимаю Волкового и хочу, чтобы его понял и ты. Окрисполком дал команду всем нацсоветам выслать нарты на поиски Волобуева. Во многих местах сорвется план добычи пушнины, а для округа это важнейший показатель, — Щетинин вздохнул, опустил правую руку на стол и, постукивая кончиками пальцев по настольному стеклу, продолжал:
— Все новое рождается в муках. Эту аксиому понимает и Волковой. Но от этого понимания не легче. На Чукотке сегодня пять самолетов и пять летчиков. Два самолета поломаны, третий пропал неизвестно где, летает только один из пяти. И тот работает на себя — ищет Волобуева. А здесь проблема транспорта, сам видишь, острая, не хватает упряжек на то, чтобы завезти товары населению. И авиация вместо того, чтобы помочь округу, сама требует помощи. Обидно это Волковому. А еще он думал, глядя на тебя, что вот, мол, эти летчики, сорвав нам зимнюю кампанию, просидят здесь лето, так как на колесах летать не придется, а к осени уедут в Москву. На их место приедут такие же новички, и начинай все сначала. Понимаешь теперь Волкового?
Я сидел как в воду опущенный. Все это было справедливо, но я подумал, что Пухов, наверное, нашел бы слова оправдания, а я вот не знаю, что и сказать. На душе было скверно, Щетинин, видно, понял это и все тем же негромким, раздумчивым голосом начал меня «поднимать».
— Есть тут у нас один частник, бывший колчаковский поручик — Ирженин. Не слыхал? После гражданской осел здесь, женился на чукчанке, завел собачью упряжку и промышляет «извозом». Главное его занятие — подвозка угля для поселка, но он знает дорогу и до Маркова. Упряжка у него отменная, не хуже, чем у Волкового. Ты приходи ко мне завтра с утра, а я сегодня выясню, не возьмется ли он доставить тебя в Белую. Иди и не вешай головы.
— Николай Денисович! Спасибо тебе и за урок, и за помощь. Теперь скажи, пожалуйста, а что известно о поисках Волобуева?
— Три дня назад Конкин сообщал, что погода на сeвере скверная, восстановить машину Быкова все еще не удается, смена мотора на машине Богданова идет туго. Понимаешь сам, какая работа может быть на морозе и в темноте. Электричества у них нет, а при фонарях «летучая мышь» много не наработаешь. Пухов летает от залива Креста за хребет, но, видимо, несмело, подолгу сидит, выжидая погоды.
На следующий день я застал в кабинете Щетинина мужчину, явно русского по облику, но одетого по–чукотски: в торбаса, меховые брюки и меховую рубашку. Высокий, стройный, в расцвете сил, с темным, как у чукчи, обветренным лицом, он мне показался привлекательным.
— Знакомься, Миша, это товарищ Ирженин, о котором я говорил.
Не знаю как, но сохранилось еще что–то офицерское в манерах Ирженина. Он не протянул руки, а легким наклоном головы обозначил, что знакомство состоялось. Во взгляде его я уловил выжидательное любопытство, если не иронию.
— Так вот, послезавтра товарищ Ирженин выезжает в Усть–Белую с грузами Янсона. Посадить тебя он не может, но предлагает идти за нартой на лыжах. Как ты думаешь? — спросил Щетинин.
Я не успел ответить, как услышал голос бывшего поручика. Он был чуть хрипловат, но не лишен приятности. Незначительная картавость скорее всего была не врожденной, а выработанной. Обращаясь ко мне в третьем лице, Ирженин сказал:
— Товарищ летчик, я вижу, человек спортивный, и для него не составит большого труда пройти триста километров на буксире. В его годы я проходил такие расстояния без посторонней помощи.
Это меня задело за живое.
— Меня зовут Михаилом Николаевичем. Разрешите узнать ваше имя–отчество, — сказал я со всей возможной для себя степенностью.
— Всеволод Семенович Ирженин! — Опять наклон головы и подобранная стойка.
— Очень приятно! Так вот, Всеволод Семенович, меня действительно не затруднит эта прогулка на лыжах, тем более в вашем обществе и за вашей прекрасной упряжкой. На вашу нарту я положу только свой парашют, если позволите. Сообщите, в какое время вы намерены выехать?
Ирженин отвернул рукав меховой рубашки с таким видом, будто это был дипломатический фрак. Тускло блеснуло золото.
— Послезавтра в пять ноль–ноль по–местному времени буду ждать вас у крыльца этого учреждения.
— Очень хорошо! Я вас не задержу.
Нужно ли говорить, что я сразу стал готовиться к этой поездке. Я раздобыл легкий чукотский костюм, подогнал лыжи по торбасам, достал прочный сыромятный ремень из лахтака для буксира, приготовил маску для лица. Накануне похода рано лег спать, чтобы встать с полным запасом сил. В моем рюкзаке были недельный запас продуктов, пара белья, спички и поллитра спирта. На поясе висел настоящий охотничий нож. Больше всего я боялся, что на быстрой езде сломаю лыжу, тогда Ирженин выиграет: мне придется быть нежеланным пассажиром его нарты.
Я выверил часы и минут пять простоял за углом ближайшего дома, чтобы выйти к крыльцу политотдела в пять ноль–ноль.
Нарта была загружена доверху. Этим как бы говорилось, что для меня на ней места нет. В упряжке было четырнадцать отличных псов, и, как только мы выехали на лед, они взяли в галоп, лишь кое–где переходя на рысь. Мне говорили, что собаки Ирженина могут очень долго выдерживать среднюю скорость двадцать километров в час, и я убедился, что это не было преувеличением.
Хотя дорога по льду была хорошо проторена, встречались торосистые и застружные места. При желании Ирженин мог прогнать свою упряжку галопом и здесь, тогда я наверняка бы остался без лыж. Однако в этих местах он снижал скорость, позволяя мне благополучно миновать эти препятствия. Мне хотелось видеть в этом его благородство, хотя вполне возможно, что он просто не хотел догружать мною свою нарту.
В Москве я занимался лыжами и даже сдал норму па первый разряд. Но настоящим лыжником себя не считал. Предложение Ирженина принял в состоянии запальчивости и не представлял, что это будет означать на деле. 180 километров, которые мы прошли за первый день, — это не те двадцать, на которых я сдавал норму на разряд. Правда, я не тратил сил на самопередвижение, меня тащили собаки. Но даже сохранять равновесие на прямом пути оказалось непросто. А ведь были изгибы и повороты тропы, да и сама тропа, же проложенная собаками, как колея, требовала постоянного напряжения, чтобы держаться в ее пределах.
Через два часа пути я почувствовал, что изнемогаю. Мышцы ног одеревенели, глаза слезились от напряжения. И когда я уже был готов сдаться, Ирженин остановил упряжку, чтобы дать отдых собакам. Он посмотрел на меня с выжидательным любопытством, и это заставило меня не упасть, как мечталось. Что–то сильнее моей усталости вынудило меня, «сохраняя лицо», сойти с лыж и пару минут походить, разминаясь, с независимым видом. Только после этой «демонстрации» я присел на нарты и вытянул ноги.
И еще два часа показались столь же трудными. После второго привала я почувствовал, будто меня подменили. То ли я обвыкся, приноровился и уменьшилось потребное напряжение, то ли, как говорят спортсмены, пришло «второе дыхание».
Не могу сказать, что перестала чувствоваться усталость. Нет, но она стала чем–то уже привычным. Выработавшаяся реакция предотвращала грубые ошибки, и это снизило остроту напряжения первых часов пути. За всю дорогу мы с Иржениным не обмолвились и словом. Как видно, он хотел сломить меня на последнем отрезке пути и гнал собак без остановки пять часов. Накопившаяся усталость клонила ко сну, и я испугался. Испугался, что утрачу внимание, которое требовалось в условиях наступившей темноты. Когда нарты остановились и я осознал, что на сегодня это конец, сквозь великую усталость пробивалось ликование: «Выдержал, молодец!»
Итак, через девять часов тридцать пять минут, покрыв 180 километров, вверх по реке Анадырь, мы остановились на ночлег в избушке, обозначенной на карте под собственным именем — Чикаево. Избушка имела жилой вид, около нее стояла поленница дров, на полке в сенях нашлись продукты и запас юколы для собак. Рядом в сарае был склад торговой конторы. В этой избушке ночевали все каюры, проезжающие между Анадырем и Усть–Белой. На этот раз мы оказались ее единственными жильцами.
Не подавая вида, что он удивлен, Ирженин отказался от моей помощи распрягать собак. Он попросил растопить печь и заняться приготовлением ужина. На негнущихся ногах я вошел в избушку.
Конечно, я устал так, как никогда не уставал, не считая того, что было на вынужденной. Но тем не менее пытался вести светский разговор, деликатно касаясь прошлого моего каюра. То ли он сам утомился, то ли его не устраивали расспросы на эту тему, но разговор не получился.
Поужинав разогретыми консервами и попив чаю, не раздеваясь, мы завалились спать на нарах. Мне не удалось проснуться первым. Когда Ирженин стал будить, у меня было ощущение, что я только что уснул. За окошком чуть серело, и я снова взялся за приготовление чая, пока Ирженин запрягал собак.
Для следующего дня у нас осталась меньшая половина пути. Ирженин ехал значительно тише. То ли утомил собак вчерашней ездой, то ли потерял надежду сломить меня. Хотя мышцы ныли зверски, чувствовал я себя значительно лучше. В общем, на второй день, к ночи, я прибыл к Берендееву и узнал, что после завтрака машину можно облетывать.
Прощаясь с Иржениным, я сказал:
— Было приятно убедиться, что вы действительно один из лучших каюров Чукотки. Благодарю вас за помощь и удовольствие от быстрой езды.
Ирженин понял мой намек и был польщен комплиментом. Он оттаял, крепко сжал мою руку и ответил:
— Рад был убедиться, что и при новой власти русские не просят пардону. До свидания! Буду нужен — к вашим услугам!
БОРТМЕХАНИК БЕРЕНДЕЕВ
Пургой у «Снежного» самолет Пухова был превращен в птицу со сломанными крыльями. Птичьи раны залечивает матушка–природа, а разбитые крылья и рули хвостового оперения требовали искусных мастеров и теплых заводских цехов. Казалось, что судьба этого самолета — списание в убытки на освоение Севера. Не было примера, чтобы столь серьезные повреждения кто–либо решался исправлять своими силами и в столь неподходящих условиях.
Когда я увидел самолет восстановленным, во мне поднялась гордость за человеческое мастерство.
— Объясни, Николай Михайлович, где ты взял смелость, чтобы сотворить это чудо!
В вопросе не было комплимента. Я имел в виду догмы, какими было пропитано сознание авиаторов того времени. Эти догмы предписывали, что делать можно и что нельзя. Главное — они исключали свободу размышления, свободу выбора — как избежать опасности.
Никто бы не дал согласия на ремонт, который сделал Берендеев. Больше того, не исключено, что самолет, поднявшись в воздух, развалится, и тогда Берендееву не миновать тюрьмы. Он это знал и все–таки сделал, как подсказывал здравый смысл и требовала необходимость.
На мой вопрос Берендеев ответил так:
— Когда решаешься ехать на край света, Михаил Николаевич, надо быть готовым ко всему. Честно говоря, я назвал бы свои побуждения не смелостью, а самолюбием. А этого «добра» в каждом из нас больше, чем надо.
Может, и прав Берендеев, объясняя сделанное самолюбием. Но это было самолюбие высшего качества, которое ведет человека к подвигу.
За полтора месяца он дал на базу только две радиограммы с перечнем необходимых ему материалов. И еще одну, в которой сообщил, когда будет готов самолет. А ведь ему пришлось проделать большую организаторскую работу. Не испрашивая «указаний» местным властям, он установил с ними хорошие отношения. Ведь нужен был аврал, чтобы разобрать стену школы, вынести отремонтированные крылья, а потом заделать стену вновь. Потребовался еще один аврал, чтобы навесить крылья на самолет. И все это было сделано, я видел результаты.
Как же он этого добился? Берендеев умело использовал обстоятельство, характерное лишь для того времени.
Летательный аппарат, даже раненый, принес в захолустье праздник. Люди жили здесь, можно сказать, на иждивении природы, ловили рыбу и добывали пушного зверя. Это были полуграмотные и совсем неграмотные рыбаки и охотники, имеющие самое отдаленное представление о другом, большом мире на материке. Никогда им не представлялась возможность так близко увидеть и пощупать чудо XX века — самолет. Берендеев не изображал из себя шамана с материка. После работы он шел в избушки к этим людям и рассказывал им о жизни на Большой земле. О революции, о гражданской войне, о пятилетке, о стахановском движении. И эти вечерние беседы стали первым университетом для местных жителей. Всем своим поведением беспартийный механик Берендеев, впервые попавший на «край света», утверждал здесь не только начатки городской культуры, но и показывал пример братского равенства советских людей, где бы они ни были.
Ребятишки–школьники все свободное время проводили в мастерской Берендеева. Он был с ними строг, такой у него характер. Но дороже всякого баловства была возможность подать инструмент, завернуть шуруп, что–то поддержать. Впервые дети камчадалов видели и узнавали назначение, к примеру, рубанка или тисков. На их глазах происходило превращение обыкновенного дерева или куска металла в хитроумную конструкцию, которая будет летать. Все это давало Берендееву друзей и помощников без особых усилий с его стороны. Когда был заделан последний шплинт, Берендеев сказал:
— Машина к полету готова!
— Я полечу один, Николай Михайлович!
— За что же вы хотите обидеть меня!
— Здесь нет места обиде- У нас всего один парашют. Если я возьму тебя, то мы оба должны лететь без парашютов, а это неразумно. Я опытный парашютист, работал испытателем и смогу облетать самолет после ремонта. Если же мы полетим без парашютов, но я побоюсь дать машине перегрузки, необходимые в испытательном полете.
Берендеев подчинился. Самолет выдержал испытание на максимальных нагрузках, и у меня возникло еще более уважительное и теплое чувство к этому скромному человеку.
Чтобы закончить эпизод с ремонтом самолета, считаю долгом отметить роль учителя Усть–Бельской школы, двадцатилетнего комсомольца Николая Федорова. Уступив школу, он не только безропотно кочевал с учениками по крохотным домикам местных жителей, но и помогал Берендееву в ремонте. Этот парень, как показало будущее, оказался человеком ясной жизненной позиции. Чукотка стала для него второй родиной, а сам он вырос в крупного деятеля окружного масштаба.
Через неделю после выезда с Иржениным я вернулся в Анадырь. Теперь надо быстрее устранить все недоделки, которые можно сделать только на базе и в соседних мастерских. На это потребовалось еще пять дней при двенадцатичасовом рабочем дне.
О ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЛУЧАЙНОСТЕЙ
Существует поговорка: «Благими намерениями вымощена дорога в ад!» Она образно выражает мысль, что не всякое доброе желание приводит к добру. А еще точнее, что и добрые намерения должны иметь под собою реальную почву.
Собственно говоря, происшедшие со мной события я лично больше склонен отнести к тому, что обозначается словом «Не повезло!» Однако, как доказывают философы, в случайностях тоже проявляется закономерность. Вдумчивый читатель увидит это сам.
К 23 января 1936 года усилиями всех оставшихся на базе людей дефекты, не устраненные на самолете H–67 после аварии в «Снежном», были ликвидированы. Я намеревался вылететь в залив Креста, чтобы присоединиться к Пухову, ведущему поиски Волобуева. Если экипаж еще жив, думал я, то для него наступают критические дни. Необходимо, не теряя часа, включать в поиски H–67, ведь самолеты Быкова и Богданова еще не введены в строй…
Я нервно поглядывал на часы, топчась около Берендеева и базового механика Мажелиса, которые ремонтировали лампу подогрева мотора. В Анадыре было минус двадцать пять при ясном небе, в Крестах тоже была хорошая погода. Есть главное для полета: исправный самолет и погода, так вот же жди теперь из–за этой мелочи!
Досадовал я сам на себя. Моя помощь механикам при ремонте была в пределах «прими–подай». Они и без меня вполне могли обойтись, а я тем временем мог бы отремонтировать лампу, догадайся лишь ее проверить. Лампу в конце концов наладили, подогрели и запустили мотор, но на это ушла большая половина светового дня. В те годы уже существовал в авиации закон, оплаченный кровью летчиков, — вылет по маршруту производить с расчетом прибытия в пункт назначения за час до темноты.
К моменту, когда самолет был готов к полету, этого резервного часа у меня не осталось. Как же быть? Я хорошо помнил, чего нам стоил поздний вылет в «Снежное». А Волобуев? Быть может, моя сегодняшняя вполне узаконенная осторожность будет стоить жизни ему и его спутникам? Как же во имя этого я могу испугаться риска?
А погода?.. Сегодня она есть, а завтра ее не будет! И кто знает, сколько дней придется ее ждать. А тем временем волобуевцы голодают и замерзают. Нет, я имею моральное право на риск. Обстоятельства требуют от меня решимости. Ну а, кроме того, в чем конкретно выражается этот риск? До места посадки 300 километров, это два часа полета в штиль. На пути есть отличный ориентир — коса Русская кошка, отделяющая лиман от моря. До нее 56 километров, и на этом отрезке я могу проверить путевую скорость. Если она окажется меньше 150, вернусь на базу. После Русской кошки ориентиром будет берег моря; даже при очень плохой погоде не заблудишься и обязательно выйдешь на Уэлькаль — это селение на самом берегу. А от него рукой подать до базы геологов. Надо лететь!
Рассуждая таким образом, я пришел к решению вылетать, несмотря на позднее время.
Пройдя Русскую кошку, я установил, что путевая скорость — 170 километров. Отлично! Повернул на север вдоль берега и начал полет в полной уверенности, что долечу до цели. Меня даже не смутило, что вскоре с моря к берегу подошла облачность и я был вынужден снизиться до 100 метров.
До следующего ориентира — эскимосского селения Уэлькаль было 170 километров, по измеренной скорости всего час полета. Но прошел час, прошло еще двадцать минут, все так же тянулась береговая черта. Видимость становилась все хуже. Я начал нервничать. Поняв, что в залив Креста приду уже в темноте, принимаю решение садиться около Уэлькаля, как только увижу три яранги, которыми на карте было обозначено это поселение. Прошло еще десять минут, и я увидел на крутом берегу какой–то довольно широкой реки, не обозначенной на карте, постройки, около них людей и собачьи упряжки.
Недолго думая, разворачиваюсь в устье реки и просматриваю ее пригодность к посадке. Даже в сером свете, под облаками примечаю какие–то необыкновенно большие заструги. Ухожу по реке дальше, в глубь материка, здесь заструги меньше, а высокий темный берег помогает определить высоту для посадки в рассеянном свете. Делаю очень мягкую посадку. Про себя говорю: «Молодец, отлично! Переночую у эскимосов, а завтра при любой погоде буду у Пухова. Разменяемся самолетами и начнем поиски Волобуева вдвоем».
Посадку я произвел километрах в двух от поселка, начинаю тихонько подруливать к нему. Но не успел прорулить и половины расстояния, как услышал какой–то подозрительный хруст. Остановился. Берендеев выскочил из кабины и скрещенными руками показал мне знак «выключить мотор». Спускаюсь на землю и вижу переломленную левую лыжу. Черт возьми! Что же это такое? Опять меня настигла внезапность! И серьезная. Теперь жди, когда привезут из Анадыря запасную лыжу! А если это затянется черт знает на сколько? Теперь вот Пухову придется отрываться от поисков и помогать мне. Хотелось завыть от обиды. Вот чем обернулся поздний вылет — опять вынужденная посадка!
Но это наказание не было последним. Когда к самолету подъехали на собаках эскимосы, выяснилось, что это не Уэлькаль, а охотничье становище. До Уэлькаля, в котором 23 яранги, еще 20 километров, здесь же — 3 землянки, где 5 охотников живут зимой, промышляя песца.
Час от часу не легче! Какая же у меня была скорость, если за полтора часа не долетел до Уэлькаля? Подсчитываю и ахаю — 90 километров!
Ну и денек! Сколько же несчастных совпадений?! Отказала лампа — задержался вылет. Потеряли время — испортилась погода. Скорость со 170 километров вдруг упала до 90. Посадка совсем не там, где я собирался ее делать. И ко всему — сломанная лыжа. Стыд и срам! Если бы здесь была прорубь, я, наверное, утопился бы с досады…
Но горюй не горюй, надо как–то выбираться из этого глупейшего положения. Пока закрепили машину, наступила ночь. Эскимосы привезли нас в землянку и со всем радушием стали угощать моржовым мясом и чаем. Но нам было не до угощения. Мы с Берендеевым никак не могли прийти в себя от постигшей нас неожиданности.
А тут еще два пассажира — окружной прокурор и судья, которые упросили меня «подбросить» их до залива Креста, посчитав за счастье возможность одолеть за день безо всяких трудов половину пути до бухты Провидения. С грустной иронией я подумал; вот и вам урок! Хотите ехать быстро — не связывайтесь с авиацией!
Но прокурор и судья оказались замечательными товарищами, они подбадривали меня как могли. Чукотская жизнь приучила их к различным передрягам, потому они не нашли ничего страшного в этой. Судья, Федор Павлович Ткаченко, в прошлом столяр, сказал мне, что отчаиваться нечего, в Уэлькале он организует ремонт лыжи, и все будет в порядке. После этого мир для меня посветлел!
На следующий день Берендеев и оба пассажира, прихватив лыжу, уехали в Уэлькаль, а я остался возле самолета. Через четыре дня Берендеев вернулся с отремонтированной лыжей. Судья быстро договорился с нацсоветом, нашел нужный инструмент и организовал в школе (опять школа!) ремонт. Для прочности лыжа была обтянута нерпичьей шкурой.
Накануне возвращения Берендеева надо мной в сторону Анадыря пролетел самолет Н–68, Пухов сбросил записку, из которой явствовало, что после ремонта лыжи мне надлежало перелететь в Уэлькаль и ждать там его, Пухова, прилета. Я понял, что командир уже не доверяет мне самостоятельно перелететь даже до базы экспедиции в заливе Креста, и подумал: так тебе и надо! Вполне заслужил!
Вообще после «Снежного» я был склонен к жестокой, порой излишней самокритике. За каждую оплошность сам себя обвинял суровее других. Для тех лет такая склонность оказалась благом, уберегшим меня из многих ошибок, которые могли стоить жизни.
Установили лыжу, теперь, кажется, все в порядке! Но нет, Берендеев, осматривая машину, обнаружил трещину на трубе стойки хвостового лыжонка. По его мнению, надо было возвращаться на базу и менять стойку.
Дело в том, что на самолетах Н–67 и Н–68, при их полярном дооборудовании Водопьяновым, установили усиленные стойки хвостового лыжонка. При аварии в «Снежном» стойка Н–67 сломалась, и ее заменили неусиленной, какая нашлась в запчастях базы. При рулении по застругам с тяжелым хвостом (два пассажира) эта стойка не выдержала.
Вновь встал вопрос, как мне в данных обстоятельствах понимать дисциплину — по форме или по существу. По форме я обязан выполнить приказание командира и перелететь в Уэлькаль. Но оттуда мне все равно придется возвращаться в Анадырь. По здравому смыслу следовало сразу же лететь на базу, чтобы быстрее отремонтировать самолет.
И опять не повезло. Ночью обрушился штормовой ветер, с моря натянуло туман. Ветер и туман. Неестественное сочетание! Я привык к тому, что туман держится на земле только в тихую погоду, а если есть ветер — нет тумана. А здесь то и другое. И это тоже было открытием, важным и на сегодня, и в будущем. Потом ветер развернулся и поднял тучи снега. Началась пурга, которая продолжалась без перерыва семь дней. До 3 февраля не только о вылете, но и о прогреве мотора не могло быть речи. К вечеру 3–го стало стихать, а мы с Николаем Михайловичем раскрыли мотор и часа два выковыривали из него плотно спрессованный снег.
На следующее утро — тишина и ясность. Зарозовели заструги, даже береговые обрывы, казавшиеся угрюмыми, стали какими–то жизнерадостными.
Когда легли на курс, я впервые увидел всю красоту Золотого хребта. Оказалось, что он не является монолитом, что в северной части расчленен на несколько групп. А вот и Русская кошка, которая так подвела меня с расчетом путевой скорости. На этот раз тот же путь я прошел вместо полутора часов за 50 минут. Вот что значит на практике встречный и попутный ветер!
ПУРГА
Вылетая от эскимосских землянок, естественно, я не имел сведений о погоде по маршруту и знакомился с ней по мере продвижения к базе. На безоблачном небе солнышко поднялось уже высоко. Его сияние отражалось от заснеженной земли розовыми красками, веселящими душу. Я летел с восточной стороны Золотого хребта вдоль берега. Ветер сносил мою машину в море, а его поверхность завивал белыми барашками. На земле не было поземки, а в моем сердце — предчувствия опасности.
Обогнув южную оконечность хребта и повернув на запад по Анадырскому лиману, заметил змеящиеся струйки снега, бегущие по земле с норд–веста на зюйд–ост. Километров через десять эти змейки слились в сплошную поземку, а еще дальше застружная поверхность лимана и очертания его берегов перестали просматриваться. Поднятый ветром снег набирал все большую высоту. Я подходил к базе на высоте тысяча метров, и видимость во все стороны превышала пятьдесят километров. Все, что мало–мальски возвышалось над землей, виделось отчетливо, но она сама казалась залитой молочно–белым, быстро несущимся потоком. Было любопытно, что это значит.
За мысом Обсервации стали просматриваться дома поселка комбината. Не весь поселок, а отдельные его части; так просматриваются камни на дне моря, когда плывешь на лодке. И тут–то наконец я понял, что над базой пурга.
Но мне не стало страшно. Я оставался вне сферы ее воздействия. В сильном воздушном потоке самолет продвигался боком, но болтанка отсутствовала. Оттого, что я вижу пургу и она ничего не может мне сделать, стало даже весело. И в самом деле: я защищен высотой, пурга не ослепляет меня, и я свободен в выборе решения. Если пожелаю — могу садиться здесь, могу и уйти в зону, где нет даже поземки.
Но меня охватило волнение битвы. Я почувствовал в себе силу, способную не только противостоять, но и не таиться с силой стихии. Вспомнились чувство беспомощности перед первой в моей жизни пургой в «Снежном» и настоящий страх, пережитый при пурге в Анадыре, еще до сообщения о пропаже Волобуева.
Это было числа 14 декабря. После тихой, пасмурной погоды без всяких приготовлений на поселок комбината обрушился настоящий ураган. Ветер дул, то «стихая» до 28 метров, то усиливаясь до 42 метров в секунду, 150 километров в час! Черт знает что!
Дом авиабазы содрогался от могучих ударов, стекла тренькали и дребезжали. Через невидимые глазом щели в комнаты «заползали» косички снега. Внутри дома стоял гул, при разговоре требовалось повышать голос. Печи топились круглые сутки, но изнывать от жары оснований не было. Дверь на улицу одному открыть не под силу. Днем на улице видимость сокращалась временами до тридцати метров. Таким плотным был поднятый в воздух снег, который несся в неведомые дали со скоростью почтового самолета.
Удержаться на ветру, стоя прямо, было невозможно, он сразу валил на землю. Для того чтобы передвигаться против ветра, нужно было сгибаться пополам, а двигаясь по ветру, приходилось ложиться на спину и быстро перебирать ногами. Снег сек лицо, как будто это был раскаленный песок, а не бархатные, тающие снежинки. Без очков глаза не откроешь, а чтобы дыхание не забивало обратно в глотку, дышать приходилось через шарф.
Воздух был наполнен слитным шумом звуков самого различного тона — от свиста и визга до грохота. Такую звуковую какофонию теперь возможно сравнить с ревом турбин реактивных самолетов. Ветер дул с севера, со стороны Золотого хребта. Все, что оказалось недостаточно закрепленным, уносилось в просторы лимана.
На ровной поверхности льда образовывались заструги и наддувы, как застывшие волны, — то короткие, с острыми гребнями, то пологие и широкие, до трех метров в диаметре и более полуметра высотой. Возле катеров плавбазы и углов построек завихрения выдували глубокие рвы, а рядом создавали крутые, высокие бугры с длинными хвостами. После пурги снег приобретал прочность литого сахара. Ни лому, ни лопате он не поддавался, его пилили ножовкой.
Весь смысл нашего приезда на Чукотку заключался в работе, которую мы должны выполнять на самолетах. Один из них мы вывели из строя. Но пурга в «Снежном», покалечившая самолет Пухова, была детской забавой против этой, анадырской пурги. Не верилось, что такое нежное, хрупкое сооружение, как самолет, будет способно выдержать эту дьявольскую силу. Я приходил в ужас от мысли, что тоже останусь без самолета.
От крыльца дома до стоянки самолета был протянут манильский трос в два пальца толщиной. Каждый час Митя или я с кем–либо сопровождающим, для страховки держась за канат, перебирались к самолету. Один раз вместе с завхозом отряда Дмитрием Прудниковым мы попали, видимо, в максимальный порыв ветра. Нас «сдуло» с ног, и мы повисли на канате, как флажки, почти в горизонтальном положении. Перебирая руками трос, как цирковые акробаты, ценой огромного физического и душевного напряжения мы «выползли» из зоны этой струи. Если бы не хватило сил удержать канат, нас унесло бы в лиман, и это был бы конец.
Самолет дрожал и трепетал на ветру, как живое существо. Некоторые расчалки шипели, другие посвистывали, щели обтекателей амортизации шасси гудели, как дудки, меняя тональность в зависимости от силы ветра. Чехлы, «окольцованные» веревками, надувались и хлопали по мотору и кабине то часто, напоминая пулеметный треск, то прерывисто, вроде бы с тяжелым вздохом. Тросы крепления натянулись, как струны, и звенели. Ослабни они чуть–чуть — и в воздушном потоке самолет поднимется без помощи мотора!
Еще в самом начале пурги, с большим трудом и сильно поморозившись, мы с Митей вырубили глубокие траншеи во льду. В них заложили метровые отрезки бревен с концами стального троса в карандаш толщиной. Эти оттяжки завели за узлы шасси и верхние узлы центроплана. В общем, самолет оказался «принайтовлен» к земной тверди так, что даже пурга не смогла бы оборвать наши крепления, но мне казалось, что она разломает его по частям.
Это ощущение было ложным. Позднее мы на практике убедились, что воздушный поток так же не опасен самолету, как вода рыбе. Но при очень важном условии — лицом к лицу. Такой силы ветер сбоку опрокидывает и ломает самолет, как спичечный коробок. В дальнейшем, маневрируя разной длины тросами, мы научились держать самолет всегда в плоскости ветра. Нo в этой пурге ни я, ни Митя не находили себе места и спали по очереди.
Ровно пять суток, целых сто двадцать часов, продолжалось буйство стихии. Оно кончилось почти сразу, как и началось. В течение часа наступил полный штиль, и люди стали подсчитывать потери и убытки. Выяснилось, что с консервного завода снесло часть кровли, на плавбазе развалило штабель бочек с горючим и укатило их на другую сторону лимана, за восемь километров. Жители комбината в своих жилищах мерзли, а те, у кого не хватило припасов, и голодали, так как последние три дня из домов никто не выходил, к тому же электростанция, пекарня и магазин не работали.
Вот так мы узнали, что такое настоящая чукотская пурга.
И вот я вижу ее, можно сказать, в анатомическом разрезе. Она совсем не так страшна, какой казалась с земли. Просто сильный ветер, поднявший снег!
Это говорит разум. А в памяти еще свежо чувство пережитого страха. Он услужливо напоминает о гибели отважного Кальвицы, о бедствиях экипажа Масленникова. «Чашу весов» перетянула мысль о Волобуеве. Моя машина должна быстрее выйти на поиски. Надо садиться на базе! Риск не безрассуден. Теперь я знаю то, что представлялось непостижимым. И в этом знании моя сила!
Я сделал эту посадку. О ней позднее. Сейчас расскажу, если можно так сказать, о «физиологии» пурги.
Пурга является важной подробностью быта на Севере. Без представления о ней нельзя понять специфику жизни в Арктике.
В умеренных широтах употребляют слова «метель» или «буран». Пурга — это ни то и ни другое. Это не просто ветер со снегом, а нечто качественно отличное. Существительное «метель» родственно глаголу «метет», который ассоциируется с чисто человеческим действием. Нельзя сказать о ветре, что он метет, если при этом срываются с якорей корабли и опрокидываются самолеты.
Условную границу между понятиями «метель» и «пурга», на мой взгляд, можно провести где–то около скорости ветра в 20 метров в секунду, 72 километра в час. Такой силы ветер в средних широтах достигает не часто, а в Арктике наоборот, слабый ветер редок. Совсем не редко 30 метров в секунду, но бывает и более 40. Среди ветреных мест планеты Чукотка не на последнем месте, а район Анадыря спорит за первое место на Чукотке.
Движение воздушных масс изучают синоптики. Прошу у них прощения за примитивность своего изложения.
Разные области земли и моря нагреваются солнцем неравномерно. В результате образуются обширные области пониженного (циклон) и повышенного (антициклон) давления атмосферы. Известно, что вода всегда течет с высокого места в более низкое. Сила течения тем больше, чем значительнее разница уровней. Так и в атмосфере — чем больше разница атмосферного давления между циклоном и антициклоном, тем энергичнее перетекание воздуха, про которое мы говорим; «Поднялся ветер!»
Берингово море является одним из активных «создателей» циклонов. Над центральным полярным бассейном и Якутией периодически возникают высокие плотности (давления) воздуха. Возникает течение воздуха к центру циклона, в данном случае в сторону Берингова моря. Анадырь находится, что называется, на самом фарватере воздушной реки. Если бы для нее не было препятствий — поток имел бы ровное течение. Роль порогов, создающих узкости и усиливающих скорость течения реки, для воздушного потока играют горы. Земля является дном воздушной реки, горные хребты — порогами. Таким порогом возле Анадыря стал Золотой хребет. Ударяясь о его грудь, воздушная река сжимается и набирает чудовищную силу.
На подветренной стороне хребта, вдоль которой я летел к Анадырю, как за стеной, было относительно тихо. Этот склон хребта обращен к юго–востоку, на него чаще и больше светило солнышко. Как ни мала зимой солнечная радиация, все же она создавала на снежной поверхности корочку наста. Воздушный поток, переваливающий за хребет, уже ослабленный этой работой, не был в состоянии взрывать снежный наст и поднимать его в воздух.
Совсем другие физико–механические свойства имеют ветер и снег на теневой, северо–западной стороне хребта. Мощный воздушный поток легко поднимал тучи снега и вместе с ним обрушивался на комбинат. Над нашей базой возле мыса Обсервации он еще дополнительно завихрялся и с яростью наваливался на город Анадырь. И лишь далеко за ним, на равнине, он ослабевал.
То, что я понял в тот день, позволило мне в дальнейшем по характеру местности определять зоны, опасные для отстоя самолета, и в этом заключалось значение полученного урока. А сейчас перейду к посадке и тому, что за ней последовало.
«ОБЪЯСНИТЕ ВАШЕ СТОЛЬ ЭФФЕКТНОЕ ЗДЕСЬ ПОЯВЛЕНИЕ!»
Верхняя кромка снежного потока оказалась чуть выше ста метров. Не могу похвалиться хладнокровием, когда, погрузившись в этот поток, я потерял всякую видимость. Однако все, что требовалось, делал правильно. Самолет бросало, и я парировал эти броски. Удерживал необходимую в данной обстановке повышенную скорость, следил, чтобы шарик и стрелка «пионера» оставались на месте. Десять секунд выдержки, и вот уже нижу под собой мелькание торосов фарватера. Все дальнейшее стало просто. Кончились торосы, и я мягко приземлился на ровной поверхности. Ничего не вижу, но рулю вперед, не отклоняясь от плоскости ветра. Примерно в пятидесяти метрах от якорной стоянки определяю, что вышел на нее точно.
Меня встретила восторженная толпа набежавших из поселка болельщиков. Каждый стремился пожать мне руку. Не скрою, что приятно быть в глазах людей героем, но я–то понимал, что геройство это недорого стоило мне. При ясном небе, в дневное время такая посадка не так сложна и опасна, как представлялось тем, кто смотрел на нее с земли.
Только один человек не изъявил удовольствия от моего благополучного прибытия. Им был мой командир — Николай Иванович Пухов. Я увидел его вдалеке, он не подошел, хотя мы не виделись полтора месяца, и сразу ушел в помещение, когда я выключил мотор.
Укрепив машину на якорной стоянке, в сопровождении работников базы я вошел в дом, разделся и постучал в дверь командирской комнаты, намереваясь сделать доклад о том, что было в отсутствие Пухова. Он приоткрыл дверь и попросил меня подождать. Я присел к столу, который наш повар Петрович накрывал к общему обеду.
Командир появился через несколько минут. Он встал перед столом и, обращаясь ко мне, сказал:
— Теперь объясните, товарищ Каминский, ваше столь эффектное здесь появление. Почему вы не выполнили моего приказания?
Для своих тридцати лет Николай Иванович Пухов был полноват. Я вглядывался в его полнощекое, лоснящееся лицо и вспомнил, как он понравился мне при знакомстве в Москве, когда все мы с первого взгляда почувствовали в нем прирожденного командира, человека способного и волевого. И потом, уже в пути, мы убедились, что Пухов обладает изумительной способностью завязывать короткие знакомства с самыми различными людьми, проявляя известную почтительность к старшим, внимательную собранность и умную обходительность к молодым. Когда хотел, он мог очаровать своей предупредительностью и вниманием не только женщин, у которых имел неизменный успех, но и мужчин. В компании он сразу становился душой общества, умело поддерживал любой разговор, пел романсы, аккомпанируя себе на гитаре, был хорошим танцором.
До приезда в Анадырь все мы считали, что с командиром нам повезло. Но уже вскоре увидели в нем немалое тщеславие и болезненное самолюбие. Потакая этим качествам, можно было стать его задушевным приятелем, но малейшее несогласие, проявление собственного мнения приводило Пухова в ярость.
Он был смел, находчив и решителен на земле, но этих качеств ему явно не хватало в воздухе. Последнее стало нам ясно позже — лишь к концу зимы. А пока я этого не знал и считал, что на моей машине он делает важное дело — спасает от смерти товарищей. А я объективно этому мешаю.
Видя, что он стоит, встал и я и отвечал, стремясь сохранить достоинство, но миролюбиво, не показывая, что «задаюсь» только что совершенной посадкой.
— Товарищ командир! Ваше приказание я счел утратившим силу, так как обнаружилась неисправность, требующая возвращения на базу.
— Это я должен был решать и вам такого права не давал!
— Вот вы сейчас, зная причину, и решите этот вопрос!
— Не учите меня жить, Каминский! Я сам знаю, когда и какие вопросы мне решать. Объясните мотивы, которые позволили вам грубо нарушить строжайший приказ начальника авиации?
— Какой приказ вы имеете в виду?
— Не прикидывайтесь, Каминский! Приказ о прибытии в пункт назначения за час до темноты!
— Этот приказ не предусматривал бедственного положения моих товарищей, которым я стремился прийти ив помощь.
— Ну и что? Помог? — в его голосе звучала открытая издевка.
— Нет, к сожалению, не помог! И виню себя за несдержанность.
— Ну этим вы не отделаетесь и ответите по всей строгости. Иван Игнатьевич! — обратился Пухов к базовому механику. — Завтра я улетаю продолжать поиски погибающих товарищей, а вы останетесь на базе за меня. Вменяю вам в обязанность после ремонта Н–67 донести мне о готовности машины к полетам. Получив мое разрешение и проанализировав погоду, выпустить летчика Каминского не позднее двенадцати часов дня. Понятно?
— Понятно, товарищ командир! — тусклым голосом выговорил Мажелис.
— Повторите приказание!
— Я понял, Николай Иванович!
— Повторите приказание, вам говорят! — В голосе Пухова уже было бешенство.
Мажелис, торопясь и заикаясь, путано пробормотал содержание приказания.
— Вот так–то! Разбор окончен. Садитесь обедать! — так же внезапно, как порой кончается пурга, сменил Пухов тон. От гневной дрожи, с какой он рявкнул Мажелису: «Повторите приказание», не осталось и следя. «Садитесь обедать» он произнес так, как будто не было того драматического спектакля, который он только что разыграл. Я подивился этому артистизму и, опустив голову, вышел.
Я ушел, полный презрения к самому себе. «Почему я позволяю унижать собственное достоинство?» — думал я. Особенно меня возмущало, что базовому механику было поручено «проанализировать» погоду для меня — летчика. Ведь добрейший Иван Игнатьевич способен только отличить ясное небо от пасмурного.
Я понимал, что все это проделано с умыслом, в расчете на мою вспыльчивость. Я не вспылил потому, что не успел, а вернее не нашелся, как ответить, как поступить.
Позднее, видя, как деморализуют честных людей демагогия и яростный нахрап, я уже не удивлялся. Тем более, если ими вооружен человек, имеющий над тобою власть.
Вскоре, недообедав, пришел Митя. Он захлебывался от негодования.
Я спросил его:
— Как леталось, Митя? Чего вы сюда вернулись? Неужели взаправду из–за меня?
— Он же натуральный трус, Миша! Почти весь этот месяц была отличная погода, а мы только шесть раз пересекали хребет. Самое большее на два с половиной часа…
— Как же так?
— А вот так! Уметь надо! То облака над перевалом, то туман, то сильный ветер… Долетит, найдет причину и возвращается. В экспедиции уже невозможно жить. Над нами издеваются открыто.
— А зачем вы прилетели все–таки?
— Пухов донес Конкину по радио, что в Крестах больше делать нечего, просится в Провидение. Твоя посадка дала ему повод быстрее удрать.
От этого сообщения стало еще горше. Если бы я знал давеча, как летал Пухов на моем самолете, я нашел бы, что ему сказать. Я думал, что он честно использует мою машину, спасая товарищей… Ах, какой же негодяй!
Я пошел к Щетинину. Человека справедливее и душевнее я здесь не знал. К тому же он представлял власть и совесть партии. К кому же, как не к нему, мог я пойти после всего случившегося!
Николай Денисович поздравил меня с благополучным приземлением и пригласил пить чай. Но я упросил его пойти в политотдел. Там я официально заявил, выражаю недоверие Пухову как летчику и как коммунисту.
— А какие у тебя основания, Миша? Эмоции? Этого мало для таких серьезных обвинений. Отстранить Пухова от полетов, тем более лишить его командирских функций у меня нет ни права, ни оснований. Заявление Островенко требует проверки, специальной комиссии — такие вещи на веру не берутся. Вот прилетит Конкин и разберется!
— Николай Денисович! Да что же это такое?! То же самое вы говорили, ссылаясь на прилет Волобуева. Теперь он гибнет, быть может, уже погиб из–за трусости Пухова, а у вас все еще «нет оснований». Когда же вы его раскусите? И чем он вам всем так понравился? — Я был в отчаянии от собственной беспомощности.
— Миша! Дорогой мой! Выбирай выражения в серьезных разговорах! Что значит «понравился»? Пухов не девушка, а я не жених! Но я действительно бессилен что–либо предпринять без Конкина. Ты сам видишь, как увертлив Пухов. Он был у меня днем раньше и наговорил о тебе такого, что впору тебя отстранять от полетов, а не его. И послушать со стороны — вроде бы правильно говорит, не придерешься! Вот так–то, брат! Такого голыми руками не возьмешь!
Щетинин поник, опустил голову и упавшим голосом обронил:
— Вряд ли еще жив Георгий Николаевич! Вряд ли! Смелый был человек ваш командир, славная ему пусть будет память…
Щетинин замолчал, а я, вспомнив свое трудное, почти безвыходное положение в лесу возле «Снежного», подумал: «Выдержать полтора месяца такое никто не сможет. Чудес не бывает, они действительно уже погибли».
Сердце окаменело. Исчез, истаял порыв, приведший меня сюда гневного и возбужденного. Накапливалась какая–то тяжелая решимость. К чему? — я еще не знал этого.
— Ну я пойду, Николай Денисович!
— Да, иди, Миша! Иди, милый! Договорим в другой раз. Сегодня я не могу больше, ты уж извини!..
ОТКУДА У ВОЛКА ЗУБЫ!..
Пурга стихала, она почти утратила свою силу. Ветер был еще силен, но снег уже не поднимался выше человеческого роста. Небо вызвездило, и по всему было видно, что завтра будет погода. Завтра Митя улетит, но мне не хотелось говорить с ним. Я долго лежал, закрыв глаза и притворяясь спящим, не отвечая на его вопросы. Скоро он стал посапывать, а меня, как рой пчел, осаждали мысли.
В прошлой службе, в строевых частях, особенно в отряде у Гроховского, я чувствовал себя не только свободной, но и творческой личностью. Весь коллектив, в котором я находился, жил интенсивным творческим поиском. Каждому были даны возможности проявить свои способности. Были и там плохие люди, но не они определяли настроение коллектива. Меньше всего ценились люди безынициативные, не имеющие собственных суждений. И это казалось нормой жизни.
Только здесь я по–настоящему понял, что это за благо — свобода неподавляемой личности. Я и раньше часто думал, почему мы с Митей, оба не слизняки какие–нибудь, люди неробкого десятка, оказались неспособными дать отпор элементарному хамству? Как могло случиться, что один человек сумел разобщить и деморализовать нас.
Я размышлял над этим не первый раз, мы много думали вместе с Митей, пытались говорить с нашим парторгом Мажелисом. Удивлялись и не могли понять, как правильные по форме слова и действия Пухова оборачивались во вред делу и в унижение каждому из нас.
Насколько мне помнилось, все началось с разгрузки парохода. Команда торопилась освободить трюмы, выигрывая каждый день для того, чтобы до свирепых осенних штормов Берингова моря закончить рейсы.
Был уже конец сентября, а «Охотску» предстояло зайти в некоторые пункты на побережье. Пухов правильно сделал, бросив нас на помощь команде. Ивану Игнатьевичу была отведена роль стивидора — человека, который стоит над трюмом, смотрит, как внизу цепляют груз, и дает на стрелу жестом одну из двух команд — «вира» или «майна».
Поднимали бочку с засахаренными лимонами. Весь годовой запас витаминов для нашего отряда. То ли Иван Игнатьевич ошибся и вместо «вира» крикнул «майна», то ли его не понял механик на стреле, но факт, что бочка была разбита о палубу.
На грех, Пухов оказался вблизи и набросился на Мажелиса.
— Тебе не механиком быть, а сортиры чистить! Вон отсюда, чтобы мои глаза тебя не видели! Нет, стой! Найди посуду, подбери лимоны, а палубу вылижи языком, так твою растак!..
Можно понять гнев любого человека при виде расхлябанности, наносящей ущерб общему делу. Но такое возмутило даже бывалых матросов. Кто–то из них крикнул Пухову:
— Эй ты, барин! Потише! Здесь не крепостные!
Иван Игнатьевич, человек мягкий, исключительно миролюбивый, сам растерявшийся от происшествия с лимонами, однако возмутился и ответил Пухову:
— Товарищ командир! Я вам не мальчишка и прошу на меня не орать!
— Ах, так! Ну я с тобой еще поговорю! Ты мне заплатишь за эти лимоны. Пошел вон!..
Я в это время принимал на берегу груз и узнал о случившемся только вечером, когда страсти остыли. Иван Игнатьевич высказал мне свое возмущение, и я намеревался резко поговорить с Пуховым. Но буквально через несколько минут, когда Пухов подошел к Мажелису, тот смиренным голосом стал объяснять, как вышла промашка, и извинился.
Вот тут–то и было положено начало пуховскому своеволию и хамскому обращению с подчиненными…
Но когда человек в роли руководителя начинает воображать, что он царь, бог и воинский начальник, не будет пользы делу даже от сильного организатора.
Тому пример руководство Пухова. Этого могло не случиться, если бы партийная группа была на высоте.
В нашем отряде было три коммуниста: Пухов, Мажелис и я. Был кандидат — штурман Кочкуров и комсомолец — Митя Островенко. Пятьдесят процентов состава составляла эта группа. При таком положении все зависело от позиции парторга.
Он имел право собирать партийную группу и ставить на ее обсуждение производственные вопросы, в том числе и отчет командира. У нас была возможность критиковать действия командира в законных рамках, не подрывая его служебного авторитета. Но на это мягкий Иван Игнатьевич не шел. Поэтому Пухов мог делать все, что хотел, без ограничения. Причиной создавшегося в отряде нездорового положения было беспринципное миролюбие, желание задобрить командира послушанием, боязнь выносить сор из избы. Такие ситуации встречаются в жизни нередко. Не видя из них выхода, молодые коммунисты смиряются.
Когда я размышлял о том, что такое коммунист, мне не надо было смотреть в Устав и Программу партии. Я видел Гроховского, Янсона, Щетинина, Шитова, директора комбината Ильяшенко. Видел и своих ровесников — Марголина, Швецова, Железова. Такие люди составляли становой хребет партии, своей деятельностью они осуществляли ее программу.
Но вместе с тем в одной партии с ними был и Пухов. А партийным в нем были только слова. Он умело ими пользовался, закрывая нам рот. Таких, как Пухов, в партии немного, но они есть. Я видел их и раньше, в том числе и около дела Гроховского. Но там они не играли решающей роли, так как не были у руководства.
Карьерист у руководства — человек опасный для людей и дела. Я лежал и думал: «Какой я коммунист? Ведь вместе с Мажелисом и я виноват в том, что торжествует чванливая наглость и угнетена партийная правда человеческих отношений».
Нельзя быть беспечным к таким вещам, нельзя уклоняться от борьбы! Правильно сказал Щетинин: с такими надо бороться умно. Их голыми руками не возьмешь! Но что конкретно значит «умно!» — я еще не знал. Жизнь еще будет учить меня уму–разуму.
КОНКИН
Вероятно, каждый из нас независимо от того, какую профессию он имеет, помнит хотя бы одного учителя. Что касается меня, то первые и, пожалуй, самые важные уроки смелости и здравого смысла в Арктике я получил от Евгения Михайловича Конкина.
Он был командиром северного отряда и заместителем командира авиагруппы. На его плечи легла главная ответственность и основная забота об организации поисков пропавшего самолета.
Еще не видя Конкина в глаза, я уже знал, что на Чукотке он впервые побывал в 1933 году в составе отряда Ляпидевского. Вместе с Кукановым отряд должен был эвакуировать пассажиров с кораблей, зазимовавших у мыса Биллингса. Но в феврале 1934 года был раздавлен льдами и утонул пароход «Челюскин», и Конкин летал в лагерь челюскинцев вторым пилотом на самолете Анатолия Ляпидевского. При повторном полете сдал один из моторов, и самолет потерпел аварию около Колючинской губы. Конкину досталась «работка» по спасению наиболее ценного оборудования. Немало дней он прожил возле самолета в палатке, в ярангах чукчей, совершал поездки на собачьих нартах. Еще мне было известно, что Конкин участник гражданской войны, старый коммунист, морской летчик, командовавший отрядом в военной авиации.
Через несколько дней после отлета Пухова с базы самолет Н–67 был вновь подготовлен к полетам. Но ни Пухов, ни Конкин никаких распоряжений не давали. И вдруг где–то в середине февраля над Анадырем появились два Р–5. Я был на аэродроме и присутствовал при приземлении Н–42 и Н–44. Крупный мужчина, немного больше сорока лет, с полным медно–красным лицом, большим носом и чуть выпуклыми глазами, похрустывая кожей мехового реглана, энергично и решительно подошел прямо ко мне:
— Каминский?
— Так точно!
— Конкин! — протянул он руку, и я ощутил крепкое рукопожатие,
— Заждался?
В этом вопросе мне почувствовалась сочувственная ирония, вроде бы так: «Хватит бездельничать — пора и поработать!»
— Еще бы!
— Ну вот, знакомься с ребятами, а мне скажи, как найти политотдел. С тобой поговорим после.
— Евгений Михайлович! За командира у нас остался базовый механик Мажелис, он же парторг отряда. Он и проводит вас к Щетинину.
Ответ Конкина меня удивил:
— А мне наплевать, кого Пухов оставил за себя. Я знаю, что ты летчик, значит, ты и командир. Не строй из себя казанскую сироту!
Я почувствовал, что краснею до корней волос, а Конкин, увидя это, похлопал меня по плечу и сказал:
— Ну–ну! Не расстраивайся. Нам работать надо, а не обижаться! Через час вернусь — поговорим по душам. — И отошел к Мажелису.
Я направился к самолетам, где, не торопясь представляться, летчики помогали механикам чехлить и закреплять машины. Это были здоровые ребята, все, как один, одетые в меховые малицы, чукотские торбаса и пыжиковые шапки. Я остановился в нерешительности. Наконец один из летчиков подошел ко мне и протянул руку с дружелюбным выражением лица.
— Виктор Богданов!
— Каминский!
— Зовут–то как?
— Михаил.
К нам подошел второй летчик, назвавший себя Николаем Быковым, и они подхватили меня под руки:
— Иди показывай свои владения!..
С прилетом Конкина в Анадыре исчезли скованность, робость, люди распрямились, на авиабазе установилась атмосфера единомыслия и товарищества. Поначалу отношения между Конкиным и летчиками его группы меня поразили. Например, на какое–то замечание Конкина Богданов, как равный, ответил:
— Ну, это ты, батя, загнул!
Конкин никого не ставил перед собой по команде «смирно», не требовал повторения приказаний, а просто говорил, что и кому надлежит делать. Он выслушивал замечания с явным интересом, с чем–то соглашаясь, с чем–то нет, а когда ему продолжали возражать, притворясь, что гневается, обычно говорил:
— А я вот возьму палку да огрею тебя пониже спины, чтобы старших слушался!
И это означало, что дальше препираться бесполезно. Его слушались и любили. Все это было для нас поистине удивительно. Дух формализма, культивировавшийся Пуховым, покидал нас с опаской.
Вернувшись от Щетинина, Конкин разговаривать со мной не стал. Только спросил, какой запас горючего у Н–67, и бросил:
— Завтра полечу с тобой!..
В какой–то книге я прочитал: «Когда умирает капитан, кочегар все так же бросает уголь в топку!» Это очень точный и глубокий образ. Наш капитан Волобуев со своими спутниками где–то погибал. Мы не забывали об этом, но мы были молоды и продолжали «бросать уголь в топку». В каждом полете нам открывалось новое. Широко открыв глаза, я смотрел на то, что всего два года назад впервые видел отважный Куканов. Мы даже выходили за пределы карты Обручева — Салищева, на «белые пятна», и мое сердце замирало от восторга: «Я — по ту сторону изведанного!». Кругом синели еще никем не виданные горные цепи. В их ущельях извивались не имеющие названий реки. Они возникали где–то там, в центре этих могучих складок планеты. Реки — вначале лишь тоненькие ниточки, обвивавшие подножья исполинских вершин, — матерели от притоков и тоже уходили за пределы видимости. В последующем полете мы видели их продолжения, но не видели конца их пути. И все увиденное было абсолютно безлюдным на многие сотни километров.
Нет ничего более захватывающего человеческое воображение, как узнавание нового, никому не известного. Я вспомнил слова Марголина и подумал, сколько здесь работы геологам! Быть может, вот тут они найдут золото или олово и появятся потом города!..
Мы летели на трех самолетах развернутым строем. От Анадыря шли на север сперва по равнине, потом через горы до пересечения с Амгуэмой. Вдоль Амгуэмы делали галсы и возвращались параллельными маршрутами. Между самолетами был интервал километра четыре. По мысли Конкина, мы должны были «прочесать» всю местность, как граблями. Пространство, обозреваемое с одного самолета, должно перекрываться взглядом с другого. На равнине мы расходились, и горами сближались, чтобы просматривать ущелья долины.
Весь февраль и половину марта мы летали всякий погожий день по шесть–семь часов. Порой возвращались «с нервозом» на остатках бензина. Конкина не смущали ни ветер, ни капризы погоды. Он делал все, чтобы найти экипаж Волобуева. И во всех полетах был со мной. Я понял, что он присматривается, изучает меня. Дав на земле задание, он почти не вмешивал в мою работу в воздухе. Однажды над крутыми горами мотор стал давать перебои. Увлекшись наблюдением за землей, я пропустил время переключения баков. Это были неприятные мгновения. Когда мотор «забрал», я оглянулся на Конкина. Он поднял большой палец, показывая одобрение. После посадки сказал:
— Летать умеешь и гор не боишься. Молодец! Теперь мы можем и поговорить. А разговор короткий: что было, забыть — и наплевать! Я тебя Пухову не от дам. Работай смело и не оглядывайся назад! Понял?
Я был растроган и добрыми словами, и лаконичностью сказанного. Видимо, ему рассказал обо мне Щетинин.
— Спасибо, Евгений Михайлович!
У меня защипало глаза, и я поспешил отойти,
Самолет Н–43 мы не нашли. Через несколько месяцев, исследуя место аварии, я узнавал уже виденные мною окрестности. Хотя мы летали поблизости, складки местности скрадывали разбитый на склоне возвышенности самолет.
Но для моего «полярного воспитания» эти полеты были бесценны. Я изучил значительную часть Чукотки так, как не смог бы и за десять лет маршрутных полетов. Однако главное заключалось в другом.
Конкин полностью искоренил страх перед ответственностью за смелые решения. В течение многих лет я неоднократно убеждался потом, что смелые решения были самыми правильными. Конкину органически было чуждо догматическое отношение к существовавшим тогда наставлениям по полетам. От летчика он требовал смелости и инициативы. Он говорил:
— Не бойся ошибок в работе. Судят не за ошибки, а за бездеятельность из боязни ошибок!
Все было иначе у Пухова. Вспомнилась «подготовка к полету», которую он проводил со мной перед нашим вылетом в «Снежное». Он заставил меня повторить на память истинные и магнитные курсы всех изломов маршрута. Потом долго наставлял, на каком интервале и дистанции я должен был держаться от его самолета, как перестраиваться при заходе на посадку. Он сидел зa столом и смотрел в карту, а я стоял перед ним, как ученик перед учителем. Причем угадывалось явное желание учителя «срезать» ученика. Я бубнил ему целые параграфы из наставления:
«Вырулив на старт, осмотреть взлетную полосу и в случае отсутствия препятствий поднять руку и попросить разрешения на взлет. После отмашки стартера белым флажком в направлении взлета еще раз убедиться, что на взлетной полосе не появилось препятствий. Потом плавным движением сектора дать «газ». По мере набора скорости поднять хвост так, чтобы линия горизонта проектировалась на верхнем обрезе капота мотора…» И так до полного одурения.
Ничего похожего не было в характере Конкина. Он раскладывал карту и чертил по линейке прямую линию на двести километров, потом зигзагами — галсы и обратный маршрут параллельно первому.
— Вот так полетим. Сними с карты курсы и выпиши на бумажку. Положи в планшет. Если понадобится, поглядишь в бумажку. Рассчитай длину маршрутов так, чтобы при возвращении на базу был часовой запас бензина.
И все!
В различных вариантах Конкин повторял одну мысль:
— Здесь для нас ничего не приготовлено. Все, что будет нужно, будет после нас. Мы разведчики. Разведчики не должны бояться ни гор, ни тундры, ни неизвестных маршрутов. Здесь все нам неизвестно, потому самое главное на самолете не мотор, не компас, а голова его командира.
Бортрадист нашей группы Миша Малов, отличный парень, вел «бухгалтерию» поисков. На обзорной карте он накладывал цветные линии пройденных маршрутов. Когда весь район около Анадыря оказался заштрихованным, мы перелетели в залив Креста и проделали такую же серию полетов оттуда.
К концу поисков в районе Анадыря Конкин вызвал Пухова. Тот прилетел из бухты Провидения 8 марта. Конкин приказал ему немедленно возвратить мне мой Н–68 вместе с Митей. В тот же день в присутствии Щетинина было проведено собрание партийно–комсомольской группы, на котором Пухов сделал доклад. Ссылаясь на объективные причины и недостаточную помощь ему, командиру, со стороны коммунистов Мажелиса и Каминского, Пухов старался умалить свою вину. По предложению Конкина Пухову и мне был объявлен выговор «за несработанность». Я этого никак не ожидал и страшно обиделся на Конкина. Между нами произошел такой разговор:
— А ты что же, считаешь себя правым?
— В том, что говорил Пухов, правда и не ночевала!
— Это я и без тебя знаю. А вот ты не понял своей вины перед партией.
— Перед партией моей вины нет!
— Ты так думаешь?
— Уверен!
— Ну хорошо! Тогда скажи, Волобуев предлагал тебе в Москве командовать этим отрядом?
— Ну предлагал.
— А ты поручился за Пухова? Чего молчишь — поручился?
— Ручался.
— Ну так вот и отвечай за это. Ты думал, что за спиной Пухова будешь, как у Христа за пазухой. Легкой жизни хотелось? Так ведь?
— Он действительно казался хорошим парнем и крепким командиром.
— А он оказался ни тем и ни другим, притом таким скользким, что не ухватишься. Товарищ Ленин учил нас бдительности, учил отвечать за свои рекомендации. Считай, что ты дешево отделался!
— Выходит, я должен один ответить за Пухова, которого знал две недели? А вы и Георгий Николаевич умываете руки?
— На Волобуева не греши, он расплатился жизнью. Мне всыплют и без тебя, не беспокойся! А я учу тебя верить делам, а не словам. Теперь красноречивых стало много. За красивыми словами иной раз не разберешься, чего стоит человек в деле.
— Ну а Мажелис? Он же парторг и старый коммунист…
— Ты за Мажелиса не прячься! Он честный коммунист, но человек не очень–то подкованный. Кроме того, он механик старого закала. А ты кадровый командир, человек развитый во всех отношениях. Как же ты позволил Пухову смять себя и зажать в кулак всех остальных? Скажи спасибо, что отделался выговором.
Тогда я не согласился с Конкиным. Много позже понял, что по большому партийному счету Конкин был прав. Если коммунисты позволили сесть себе на шею карьеристу, то именно с них надо спрашивать по всей строгости. Ибо они делают дело партии и отвечают за него. Строгий спрос отучает от беспечности, легковерия и безответственности.
ОШИБКА ВОЛОБУЕВА
Анадырский хребет является становым хребтом Чукотки. В широтном направлении он простирается вдоль нее почти на тысячу километров. Испокон веков хребет представлял собою неодолимую преграду для сообщения между жителями северного и южного побережий Чукотского полуострова. Как уже говорилось, на картах наиболее достоверно была изображена лишь береговая черта. Еще в 1932 году Сергей Обручев гадал, что представляет собою пик Матачингай, видимый из залива Креста.
На трехмоторном самолете Федора Куканова в 1933 году он первым перелетел хребет, а талантливый геодезист Константин Салищев зарисовал с воздуха узкую полосу увиденного.
В марте 1934 года отряд Каманина и звено Галышева, летевшие в Ванкарем спасать челюскинцев, предпочли пролететь лишнюю тысячу километров вокруг полуострова, так как хребет, о котором было так мало данных, оказался закрыт облаками. И только М. В. Водопьянов, добиравшийся в Ванкарем последним, боясь опоздать, решился лететь через хребет из залива Креста в облаках, чтобы пробиваться в полярном море по расчету времени. Он мог это сделать единственным из летчиков, спасавших челюскинцев, так как получил большой опыт «слепых» полетов при перевозке матриц «Правды» из Москвы в Ленинград. На борту его самолета имелась радиостанция, что весьма облегчало задачу. А главное — в наличии был дерзкий водопьяновский характер.
Второе визуальное пересечение хребта (после Куканова) по своей инициативе совершил летчик нашей авиагруппы Виктор Богданов. В конце августа 1935 года на самолете У–2 с бортмехаником Сергеем Баниным он благополучно перелетел хребет по линии Ванкарем — залив Креста.
Куканов летел на трехмоторном самолете дальнего действия. Он был свободен от ответственности за ориентировку, так как на борту были опытные навигаторы Обручев и Салищев. Кроме того, и основной задачей Куканова являлись полеты по местам, не положенным на карту.
Пионерское значение полета Богданова в том, что он не имел того, что страховало Куканова. Ни запаса бензина, ни большей скорости самолета, ни навигатора. Он и не догадывался, что до него уже был такой перелет. Полагаясь на компас и собственный здравый смысл, он летел на помощь геологам, о чем подробно расскажу позднее.
Все это сообщаю к тому, что в сознании и всех остальных пилотов нашей авиагруппы Анадырский хребет продолжал оставаться в ореоле недоступности, Это не могло не сказаться на психике летчика Буторина, с которым командир Волобуев решил совершить третье пересечение хребта, да еще в условиях полярных сумерек. Поэтому попытка окончилась неудачей и гибелью участников полета. Вот как это происходило, когда я представил себя на месте Буторина.
Из Ванкарема вылетали в ясную и тихую погоду. Буторин сделал круг над домиком полярной станции и рассмотрел фигуру Быкова с прощально поднятой рукой. Подумал, вероятно, как обидно Николаю оставаться у своего раненого самолета. Пройдет много дней, пока он сможет на нем летать.
Набрал тысячу метров, чтобы хорошо и далеко видеть, и лег на курс.
Ничто не предвещало беды. Густо–синее на севере, небо в зените было зеленовато–серым и все больше голубело к югу. У самого горизонта в голубизну вливались желтовато–оранжевые полосы. Там, за горизонтом, идет над землей солнце, и люди видят его. Сегодня он прилетит в Кресты, вероятно, после захода, но зато завтра наверняка увидит восход.
Мотор работал отлично, приборы доносили, что все в порядке. Буторин приблизил к глазам планшет с картами и стал сличать ее с местностью. Но уже через пять минут отказался от попытки найти какой–либо ориентир в хаотическом переплетении впадин и холмов, вьющихся лощин и буераков. Надо выдерживать компасный курс и ждать Амгуэму, потом идти от нее через горы курсом на «чистый юг» — так говорил Богданов.
Видимость была хорошей: километров десять, а то и пятнадцать. Земля, покрытая снегом, отражала свет неба, снег казался дымчато–голубоватым, темнее в складках местности и светлее на буграх.
Минут через тридцать местность под самолетом стала холмистой, справа смутно прорисовывался гористый рельеф, под углом к маршруту приближалась река. Буторин вновь взял планшет с картой, отыскал на ней белое пятно, на котором пунктиром была намечена река. Амгуэма, решил Буторин. Всякая определенность отрадна человеку, и Буторин чуть изменил курс, чтобы скорее выйти на реку.
Вот и она. От основного русла отделялись рукава, на берегах появились щеточки кустарника, на поворотах белели ровные площадки отмелей.
Пока все шло по плану, и Буторину было спокойно. Он оглянулся на Волобуева, и тот показал ему большой палец своей меховой рукавицы.
Буторин стал набирать высоту до двух тысяч метров, чтобы перейти через хребет, и одновременно прислушивался к работе мотора. Для летчика шум мотора не хаос звуков. Он улавливает малейшие перемены в звучании мотора, винта и расчалок. Ничто не вызывало сомнений, и это наполняло сердце уверенностью.
На небе появились пленки и полосы редкой верхней облачности, набор высоты пришлось прекратить на тысяче девятистах метрах. Этого хватит, подумал Буторин. Богданов говорил, что самые высокие вершины не превышают 1750 метров.
Прошло еще полчаса. Видимость стала несколько хуже, но еще хорошо просматривались кустарник, обрывы берега, склоны сопок.
А вот и то самое место, где река, стесненная невысокими сопками с обеих сторон, выходит на равнину единым руслом. Скоро она повернет к западу, и надо будет от нее уходить на юг, вновь вспомнил Буторин наставления Богданова.
Но река вроде бы не собиралась сворачивать. Она по–прежнему уходила в светлеющую даль, и никаких гор видно не было.
Буторин взглянул на компас — он показывал 250 градусов вместо 220. Постучал пальцем по стеклу — стрелка не среагировала. Тогда он сделал небольшие довороты влево–вправо и убедился, что стрелка ходит за самолетом. Но почему же курс изменился до поворота реки? Может, здесь аномалия, подумал Буторин, Ему стало впервые беспокойно, и он оглянулся на Волобуева. Но тот смотрел в светлую сторону горизонта и не заметил беспокойства летчика. А Буторин устыдился. Ему, лучшему летчику отряда, командир доверил этот ответственный перелет, а он ведет себя, как дите, потерявшее сосок материнской груди.
На мгновение подумалось: а не вернуться ли в Ванкарем? Но он тут же отбросил эту мысль. Когда он туда вернется, уже будет ночь. Посадка в ванкаремские заструги — верная поломка машины. А пока ведь ничего явно опасного нет.
Облака стали снижаться, заставляя Буторина уменьшать высоту полета. Но у него все время было ощущение, что облачность вот–вот кончится и снова станет ясно.
Стало заметно темнее, и Буторин уже не смог рассмотреть, что показывал компас. Но ему казалось и так все ясным: залив Креста остается слева, ему надо выйти на лучшую видимость и развернуться на юг. Такой ориентир, как залив, не пропустишь. Была бы только погода. Вот сейчас он пройдет еще немного по реке повернет, еще немного…
Тем временем видимость утратила свою четкость, полоска кустарника, очертания каких–то мысов слева и справа размылись, и только впереди еще светлела полоса, давая ощущение горизонта.
Стало жарко и тревожно. Буторин не знал, как лучше поступить в этой ситуации. А пока он колебался, самолет летел. Как–то внезапно исчез и белый просвет впереди. Буторин подумал, что попал в нижнюю кромку облачности, и резко сбросил высоту до 300 метров. Но видимость не улучшилась.
Буторин круто повернул машину влево, к югу, и дал газ для набора высоты. Видимости не стало совсем, и он перенес взгляд в кабину, пытаясь присмотреться к «пионеру», чтобы по нему вести машину в облаках.
В этот момент что–то ударило по правой лыже, самолет резко клюнул, послышался треск пропеллера, мотор дал перебои и смолк. Чувствуя, что свершается непоправимое, Буторин инстинктивно взял ручку на себя, но самолет, содрогаясь и подламывая ноги, скрежетал уже брюхом по камням. В пробитый пол кабины ударили фонтаны снега. Задрав нос и завалившись на левое крыло, самолет замер.
Все стихло, только еще шуршали камни, катившиеся по склону. Буторин рефлекторно выключил зажигание и посмотрел на высотомер, его стрелка отмечала высоту 360 метров.
В эту минуту из задней кабины донесся стон Богдашевского…
Будучи председателем комиссии по выяснению обстоятельств гибели экипажа Волобуева, я скрупулезно проанализировал все его действия с момента вылета с мыса Северного и до последней минуты. Это позволило мне так образно воссоздать всю картину полета.
18 декабря 1935 года в Ванкареме почти одновременно приземлились все три самолета северного отряда. Два из них, летчиков Буторина и Быкова, пришли с запада, а Богданов летел на базу с востока, для смены мотора. Богданов доложил командиру, что при работе в районе Уэлена он переработал положенный ресурс мотора на десять часов, за что получил выговор.
Вскоре бортмеханик Быкова, осматривая свой самолет, обнаружил поломку ушка центроплана, за которое крепится верхнее крыло. Это серьезная поломка. Надо ждать с базы запасной центроплан, снимать крылья и т. д., что выводит самолет из строя надолго.
Богданов делает командиру предложение подстраховать его перелет, проводить через хребет вместо Быкова. Но командир, только что наложивший взыскание за переработку ресурса, уже психологически не может принять это предложение. Он приказывает Богданову следовать на базу и менять мотор. Это решение было первой ошибкой Волобуева.
Опытный авиационный командир, Волобуев понимал, что вылетая одиночным самолетом, без радиосвязи, сопровождающего, он идет на риск. Но риск не казался ему чрезмерным. «До залива Креста триста километров, — рассуждал он про себя, — это всего два часа полета по компасу. Что это в сравнении с недавним перелетом Водопьянова через всю страну, по таким малоизведанным маршрутам?! А здесь заблудиться невозможно. Выход на огромный площадной ориентир, каким является залив Креста, исключал такое опасение. Буторин превосходный летчик. К тому же предстояло лететь из полярных сумерек в день. По другую сторону хребта уже всходит солнце».
Отсрочить свой перелет, дожидаться ремонта самолета Быкова или Богданова он не мог. Его торопили неблагополучное положение в Анадырском отряде. С минимальным риском Волобуев мог бы лететь вдоль побережья, кругом Чукотки, как летел год назад Каманин и другие летчики. Но наш командир не был лишен смелости и честолюбия. Ему хотелось внести новый свой вклад в авиационное освоение Чукотки. Перелет хребта зимой, в полярные сумерки представлялся ему заманчивой возможностью. Здесь он, Волобуев, был бы первым.
Так было принято трагическое решение.
Волобуев сделал все, чтобы о его полете знали попутные станции. Радиограмма о вылете в Анадырь была дана на все пункты еще 17 декабря. Но связь… Об этом надо сказать особо. Людям нашего времени трудно верить, что такое было.
Радиостанции, существовавшие на Чукотке в 1935 году, были маломощны, несовершенны и работали преимущественно на коротких волнах, законы прохождения которых в ту пору были еще совсем почти не изучены.
Связь северного берега с южным осуществлялась по цепочке: мыс Северный — Ванкарем — Уэлен — бухта Провидения. И только эта станция более или менее регулярно «доставала» Анадырь. И то не всегда. Чаще Уэлен передавал анадырскую корреспонденцию через Петропавловск–на–Камчатке, а то и через Хабаровск. На прохождение по этой цепочке радиограмм тратили порой не один день. Так произошло и в этот раз. Волобуев просидел на рации половину сумеречного ванкаремского дня, ожидая ответа на свой запрос о погоде и готовности принять его самолет из залива Креста. Ответ так и не пришел.
Что делать? Отложить полет до следующего дня?
А погода? Сегодня она на редкость ясная, а завтра, возможно, заметет пурга. Буторин отличный летчик. Надо лететь!
После обнаружения разбитого самолета Буторина я проделал все формальности для составления аварийного акта: обследовал место происшествия, собрал все радиограммы, изучил все принятые меры для поисков пропавшего самолета и т. п. Для отчета перед начальством этого было достаточно. Но для меня, продолжавшего здесь летать, этого было мало. Урок был предельно жестокий, на нем стоило учиться. Я проделал эксперимент, чтобы самому понять, что видел и чувствовал Буторин, приближаясь к своему трагическому концу. В ясный летний день на высоте 1000 метров я летел из Ванкарема по его маршруту. Я уже знал, где надо отойти от реки и пересечь хребет, чтобы выйти на залив Креста, и тем не менее моя психика сопротивлялась этому знанию.
Там, где в действительности надо было оставить реку и идти через горы, на некотором отдалении стояла стена. Ее средний уровень был около 1500 метров, а некоторые вершины достигали 1800 метров. С высоты 1000 метров казалось, что это не узкая горная гряда, а начало горной страны. Мрачные ущелья извивались между гор, крутые склоны которых возвышались на 1000 метров от основания.
Все во мне сопротивлялось необходимости форсировать эту стену, в то время как несколько дальше к западу виделись сглаженные очертания приятных для глаза и легких для перелета гор. А долина реки имела такую форму, что ее поворот на семьдесят градусов от компасного курса почти не ощущался. При облачности, дымке, если не выдерживать строго компасный курс, обязательно уйдешь дальше точки поворота. Этот психологический эффект я зафиксировал в себе при полете в самых благоприятных условиях, в светлое летнее время, зная маршрут.
Буторин летел по незнакомому маршруту и в сумеречное зимнее время. У меня не осталось сомнений, что он подпал под влияние этого эффекта, прошел дальше, чем нужно, на 60 километров. А погода над хребтом в день его полета действительно была облачной.
Много месяцев спустя, приобретя опыт, я уже знал как надо было поступить Буторину, встретив «муру» у хребта. Были возможны два правильных решения.
Первое: набрать высоту над облаками не менее 2000 метров и по расчету перелетать хребет, пока наверняка не окажешься над морем. И потом уже входить в залив и искать место посадки. Правда, для этого надо было уметь пробивать облака по единственному прибору «пионеру». Буторин этого боялся, так же как и я у «Снежного».
Второе: вернуться в зону хорошей видимости и выбрать на реке место, благоприятное для посадки. Сделав вынужденную посадку, переждать ночь или непогоду (в следующую зиму, при отсутствии радиосвязи, такой способ продвижения к цели стал в отряде системой, и мы не считали это криминальным).
Попав под облака, Буторин шел, глядя не на компас, а только на просвет, где была видимость. Шел, пока не попал в тупик. Имея на приборе высоту больше 300 метров, он задел крылом за «земной шар» и потерпел аварию. При этом бортмеханик Богдашевский сломал ногу.
В самолете были палатка и продовольствие. Паяльная лампа давала тепло, в баках оставался бензин! Существовать можно. К тому же была надежда на помощь товарищей из Анадыря.
Как только по Чукотке разнесся слух об исчезновении самолета, со всех сторон стали поступать взаимно исключающие сообщения. Например, из Амбарчика, находящеюся около устья Колымы, сообщили, что ночью 19 декабря там слышали шум пролетающего самолета. До Амбарчика от Ванкарема 1100 километров. Теоретически запасы бензина позволяли Буторину долететь.
Полярники мыса Сердце–Камень сообщили, что в эту же ночь чукчи якобы видели ракеты со стороны моря. До этого пункта от Ванкарема было километров 300, и это сообщение не было лишено вероятности. Сообщения о якобы услышанном гуле мотора пролетающего самолета поступили также из залива Святого Лаврентия и даже из бухты Угольной, что находится много южнее Анадыря.
Эти сообщения говорили о том, что люди Чукотки близко к сердцу приняли беду авиаторов и искренне хотели помочь. Но каждое сообщение исключало все другие, и это дезориентировало руководителей поисков.
При Чукотском окрисполкоме была создана комиссия по организации поисков. По ее указаниям Уэленский и Чаунский райисполкомы, полярные станции Ванкарема, мыса Сердце–Камень, бухты Провидения, торговые фактории и нацсоветы разослали собачьи упряжки по многим направлениям. Проверялись получаемые сообщения и прочесывалась местность по единому плану окружной комиссии. Была установлена связь с кочующими оленеводами. Везде и всем было объявлено, что начальник Главсевморпути О. Ю. Шмидт выдаст премию в размере 10 тысяч рублей тому, кто найдет пропавший самолет. Кажется, сделали все возможное для наземных поисков, но результатов не было.
Самым эффективным средством розыска пропавшего самолета была авиация. Но из трех оставшихся на Чукотке самолетов только мой Н–68 был на ходу. И на нем производил полеты Пухов. Самолеты летчиков Богданова и Быкова были неисправны, их ввели в строй лишь через сорок дней после исчезновения Волобуева. Почему же нельзя было сделать этого раньше?
Как председатель аварийной комиссии, я выяснял это с пристрастием. Убедился, что авиаторы северного отряда делали все возможное, но слишком малы были их возможности. В Ванкарем для застрявшего там самолета Быкова нужно было доставить запасной центроплан, потом отнять крылья, заменить центроплан и снова навесить крылья. И сделать все это надлежало в короткие часы сумерек, на открытом воздухе, при низкой температуре, отсутствии необходимого количества людей и приспособлений.
Смена мотора на самолете Богданова производилась при фонаре «летучая мышь». Работа требовала квалифицированных рук, а их было мало. Кроме самого летчика и его механика, на базе был еще инженер Аникин. Двое из них работали, а третий подсвечивал фонарем. Если учесть, что все это происходило в полярную ночь, на 30–градусном морозе, то станет ясно, почему производительность труда была ничтожной. Наконец, во время пурги работать вовсе было невозможно, а пурга из сорока календарных дней отняла пятнадцать. Это были неумолимые обстоятельства времени и места, предопределившие невозможность прийти на помощь Волобуеву в самую нужную минуту.
Итак, оставался один самолет, на котором летал Пухов.
Но прежде хочу сделать еще некоторые выводы из фактов, которые предопределили неизбежность происшедшего.
Ни одна инструкция не может предусмотреть всех случаев. Потому нельзя, особенно в творческой деятельности, каковой считаю и труд летчиков, смотреть на инструкции как на догму. Например, посадка вне аэродрома всегда в авиации считается чрезвычайным происшествием. Летчик строго наказывается почти во всех подобных случаях, за исключением разрушения самолета или мотора.
Особые условия Арктики, такие, как отсутствие аэродромов, радиосвязи, службы погоды, надежных карт и т. п., с жестокой необходимостью потребовали от нас пересмотра своего отношения к инструкциям. Гибель Буторина подтвердила правильность такого пересмотра.
Переработка Богдановым десяти часов ресурса мотора сверх инструкции не означала, что мотор рассыплется в любую минуту. Он мог безотказно прослужить еще десятки часов. Во всяком случае, те пять часов, какие требовались на полет из Ванкарема в Кресты и обратно, чтобы проводить Буторина, не грозили бедой. Но инструкция! Под ее гипнозом Волобуев объявил выговор, после чего уже не мог согласиться с разумным предложением Богданова.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ТРУСОСТИ
Заместитель Волобуева, он же командир северного отряда Е. М. Конкин правильно ориентировал Пухова на поиск по маршруту Кресты — Ванкарем. Исходным пунктом, базой для поисковых полетов стала геологическая экспедиция, поселившаяся осенью 1935 года в бухточке на берегу залива Кресты.
Пухов прилетел на эту базу 26 декабря, неделю спустя после аварийной посадки Буторина. Как позднее выяснилось, экипаж был жив и до него было всего 170 километров.
Экспедиция создала Пухову все условия для полетов. Острый недостаток угля вынуждал людей экспедиции поддерживать в жилых комнатах температуру не выше двенадцати градусов, но комната, где размещался экипаж, отапливалась без ограничений. По потребности тратилось топливо на ежедневный разогрев воды для мотора. В экспедиции Пухова встретили как героя, самоотверженно спешащего на помощь товарищам, терпящим бедствие. Пухов заверил геологов, что во что бы то ни стало найдет и спасет экипаж Волобуева.
Стояла преимущественно ясная погода, но первые два дня Пухов не летал. Он приказал Островенко прощупать вновь каждую магистраль, каждый проводок, чтобы ничто не вызывало сомнений в полетах, хотя в этом не было нужды. Так были без надобности израсходованы два дорогих дня. На третий день, долетев до хребта и увидев между гор облака, он вернулся через тридцать пять минут полета, не попытавшись посмотреть, что же за хребтом.
На четвертый день, имея штурмана, он взял на борт в качестве проводника самого начальника экспедиции М. Ф. Зяблова и летал за хребтом три часа. Но от основных ориентиров — пиков Гранитный и Матачингай он не удалялся более чем на 50 километров, страшась потерять их из виду. Он не долетел до лагеря потерпевших всего 8 километров. Шум его мотора был слышен, и Буторин разжег опознавательный костер, но Пухов уже повернул обратно. Стыдно было нам, когда геологи возмущенно рассказывали, как выйдя на предел видимости пика Матачингай, Пухов переставал смотреть на землю, где мог быть аварийный самолет, а, обратив свой взор на проводника, с тревогой спрашивал: «Куда лететь?»
Имея запас горючего на восемь–десять часов, Пухов сделал всего шесть полетов, длительность которых колебалась от двух часов десяти минут до трех тридцати. Но каждый раз сорок минут уходили на бесполезный для поисков пролет от хребта к базе.
В скором времени в экспедиции поднялся ропот: люди поняли, как панически боится опасности этот летчик.
В конце января Пухов доложил Конкину, что обследовал весь район от залива Креста, и выпросил разрешение перебазироваться в бухту Провидения.
Проявляя чрезмерную осторожность при полетах в устойчивую и, как правило, хорошую погоду, что мог сделать такой летчик там, где погода из–за близости моря всегда была хуже?
Пухов сидел, выжидая абсолютно ясной и тихой погоды, с 11 до 27 февраля. Сделал трехчасовой полет до залива Святого Лаврентия и, вернувшись, вновь сидел до 8 марта. Вот где были потеряны, как потом выяснилось, единственные шансы на спасение экипажа Волобуева.
Каждая профессия предъявляет свои требования к характеру человека. У врача и педагога должны быть в наличии терпение и любовь, у администраторов — распорядительность и предусмотрительность, а у летчика в первую очередь — отвага. Пухов обладал хорошими организаторскими способностями и в роли администратора был бы на месте, но тщеславие сделало его летчиком. Его трусость стоила жизни трем великолепным людям, и этого забыть нельзя.
Они ждали помощь до 15 января. Было много ясных дней, каждый раз им чудился звук мотора, и они были готовы зажечь опознавательный костер.
Так в бесплодных надеждах прошел целый месяц. Наступило отчаяние. Продуктов оставалось совсем мало, надо было идти на поиски людей; быть может, в этой горной долине встретятся оленеводы–кочевники. Поделив скудные остатки продовольствия с Богдашевским и оставив записку, Буторин и Волобуев пошли искать людей.
Ушли, и следы их замела поземка.
Богдашевский прожил еще почти месяц. 13 февраля он сделал последнюю запись в очень мужественном дневнике. Умер от голода и полного истощения. Разбитый самолет и занесенную снегом палатку с телом Богдашевского обнаружил геолог Ю. А. Кремчуков 3 мая 1936 года. Богдашевского похоронили на Анадырском кладбище. А что же стало с Буториным и Волобуевым?
Три года спустя до меня дошли слухи из тундры о том, что они натолкнулись на стойбище кулака–оленевода по имени Патвыль. Он принял, накормил и обогрел измученных путников, а когда они уснули, задушил обоих. Так ли это на самом деле, проверить невозможно: Патвыль откочевал в Анюйские хребты, и следы его растворились в неизвестности. Но я допускаю такую версию гибели Волобуева и Буторина. Среди чукчей Патвыль был известен своей жестокостью и ярой ненавистью, которую питал к новой власти. Говорили, что он не останавливался перед убийством соплеменников. А в Волобуеве и Буторине он, конечно, видел представителей ненавистной ему власти.
Есть и другие, не менее веские основания поверить в эту версию. Дело в том, что катастрофа произошла в 200 километрах от северного побережья, куда можно было бы дойти по руслу реки. Но дойти до моря истощенные люди не были в состоянии. Уйти из долины реки в горы тоже не могли. А с ранней весны до осени следующего, 1936 года я работал с геологами вдоль всего течения Амгуэмы. Почти все время приходилось летать на низкой высоте, с которой заметен каждый необычный предмет. В каждом полете я пристально просматривал местность, прилегающую к реке, в особенности береговой кустарник. Ведь путники прежде всего могли остановиться у кустарника, чтобы жечь костер. На кустах могли задержаться обрывки одежды и даже сами тела. Но ни малейших признаков не обнаружил. Еще одно предположение можно считать допустимым. Если они замерзли на льду реки, то весенняя вода могла унести тела погибших в море. Но остается большая вероятность выброса их на одну из многочисленных кос на изломах русла.
В заключение этой главы хочу сказать, что после первой публикации моих записок Магаданским издательством от трех своих товарищей, знавших Пухова (только от трех из многих знавших его!), я слышал упрек, что слишком жестоко обошелся в обрисовке Пухова. Что у него были и хорошие качества. Как мне кажется, я не скрыл его хороших качеств, но не стану отрицать и своего субъективного отношения.
У меня сохранились не только дневники, но и копии заявлений в политорганы, письмо начальнику полярной авиации. Выписки из формуляра самолета о времени полетов. В этих документах я подробно и еще более резко характеризовал действия и поступки Пухова. Я прямо обвинял его в гибели товарищей, и никто не привлек меня к ответственности за клевету. Но у Пухова есть дети. Чтобы им не стыдно было носить отцовскую фамилию, я ее изменил.
Заодно отвечу на письма читателей, сетующих, что судьбы описанных мною людей оборваны на сказанном о них. Что касается Пухова, то после неудачных поисков Волобуева он больше не сделал ни одного полета. Вернулся осенью 1936 года в Москву и сумел оправдаться. И, что удивительно, ряд лет он служил начальником штаба Московской авиагруппы полярной авиации. Удивительно не потому, что не справлялся, наоборот, он был отличным администратором, а потому, что ему после Чукотки доверили такой пост. Больше того, в 1939 году, в конце моих зимовок на Чукотке, он прибыл в составе комиссии для инспекции, или, вернее, ревизии, моей командирской деятельности. Дело в том, что Москве стали известны мои самовольные опыты по обучению чукчей летному делу. Начальство предполагало наказать меня. Но бывший тогда начальником полярной авиации И. П. Мазурук, прилетев на место и оценив сделанное за четыре года, не осуществил этого намерения. Наоборот, как говорится, выдал мне «похвальный лист заведения».
В годы войны Пухов наконец был уволен из полярной авиации и окончательно скрылся с моего горизонта.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПЕРВЫЕ ЗАСЛУГИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
НАУКАНСКАЯ ЭПОПЕЯ
ТУЛУПОВ И БОГДАНОВ
К середине марта 1936 года, когда стало очевидно, что экипаж Волобуева погиб, Конкин оставил на поисках только два самолета — Богданова и мой. И еще в течение месяца — до 15 апреля наши пары (Богданов — Румянцев, Каминский — Островенко) в каждый погожий день продолжали поиски самолета Волобуева.
От человеческих поселений в заливе Креста, бухты Провидения и залива Святого Лаврентия мы добросовестно прочесывали Чукотский полуостров. Наши маршруты прокладывались вдоль меридианов, от южного берега до северного и обратно. Мы видели то, чего никто не видел до нас с воздуха. В процессе узнавания проходил страх перед грозной значительностью Анадырского хребта — виновника гибели товарищей. За каждой складкой местности, в каждом темном пятне чудился самолет Буторина. Надежда, что мы обнаружим его, не покидала нас. В верховьях Мечигменской губы мы однажды увидели столб дыма. Изменив курс, теряя высоту и волнуясь, мы поспешили к этому дыму. Но увы! Это был всего лишь пар над озерцом, которое образовал здесь горячий источник. Разочарование больно хлестнуло по нервам, и надежда угасла.
Я и прежде знал, что Чукотка пустынна, но одно иметь умозрительное, отвлеченное представление, а другое — видеть, ощущать это безлюдье своими глазами. За месяц мы осмотрели территорию, площадь которой была не менее 100 тысяч квадратных километров, и только в одном месте, около Колючинской губы, мы обнаружили небольшое стадо оленей и три яранги.
Горы заполонили Чукотку. Они стоят стеной у самого моря, оставляя людям площадки своих подошв. В них еле теплится примитивная жизнь в стойбищах немногочисленных кочевников–оленеводов. Горы бесполезны и враждебны береговым людям. Их кормит и одевает море. Но нам, летчикам, эти горы не обойти. Уходят в прошлое времена, когда их не знали, боялись и облетали вдоль берегов. А кратчайшие пути между береговыми поселениями лежат через горы, и нам придется прокладывать эти пути. Сюда обязательно придут геологи за кладами недр. Значит, надо примечать все, что может пригодиться нам. В уме формировались наиболее удобные трассы для перелетов хребта. Запоминались ориентиры по вершинам, по течению рек, площадки для возможных посадок.
20 апреля мы приземлились на лед лагуны в чукотском поселке с удивительно певучим, ласковым именем — Уэлен. Отсюда предполагалось совершить последний полет на поиски. И вот какое событие не позволило нам это сделать.
Было тихое солнечное утро. Пятьдесят колхозников эскимосского поселка Наукан вышли на припай для охоты на нерпу. Кончалась зима, летние запасы пищи для людей и корма для собак подходили к концу. Давно не было столь хорошей погоды, и день обещал удачу,
Неожиданно, как всегда бывает в таких случаях, припай взломало, и часть охотников оказалась на льдинах за разводьями. Течение потащило их на север, в Берингов пролив. Через несколько часов эти люди уже дрейфовали на траверзе Уэлена. Они кричали, махали руками, стреляли, прося о помощи. Уэленские чукчи в волнении собрались на берегу и горячо обсуждали, что ждет науканцев.
Такое случалось и раньше, без малого каждый год. То одного, то двух охотников уносило море, и порой они уже не возвращались. Но еще не было случая, чтобы уносило сразу столько людей!
Льдины с науканцами медленно плыли в пределах видимости, не дальше двух километров от берега. Им можно было легко помочь; на берегу находились большие охотничьи байдары из моржовой кожи, были люди, умеющие искусно управлять ими среди льдов, Но чукотские обычаи не разрешали оказывать помощь бедствующим в море. Раз так случилось, значит Келе требует жертвы. Келе, один из самых могущественных духов, жестоко покарает всякого, кто нарушит его закон. Вот почему уэленские чукчи не могли прийти на помощь соседям.
Все это происходило на наших глазах: мы только что произвели посадку. К начальнику полярной станции Алексею Поликашину прибежали двое чукчей, прося о помощи науканцам: «Русский начальник не боится Келе, он может помочь. Пусть помогает скорей, а то поздно будет».
Люди «русского начальника» не умели управляться с байдарами, но у них был моторный вельбот. Организовали аврал, столкнули лодку в воду. Однако мотор, законсервированный на зиму, никак не хотел запускаться. Провозились с ним до темноты, но так и не завели, А за ночь погода неузнаваемо изменилась. О моторке не могло быть и речи, тем более что те льдины скрылись за пределом видимости.
Вот при таких обстоятельствах пришлось мне вторично встретиться с Тулуповым, с которым я познакомился на борту «Охотска».
— Здравствуйте, молодые люди! Вот и пришлось свидеться. Очень рад, — говорил Тулупов, приветливо пожимая руки. — Кто же из вас старший? Вероятно, вы, Виктор Степанович! Сделайте доброе дело, найдите науканцев. Большая беда будет, если мы не сумеем им помочь. У людей ни огня, ни пищи, и одеты легко. Вижу сам, что погода неважная, но ждать нельзя: люди в опасности. Вылетайте скорее!
В его словах, вернее — в интонации, не было просительности, но они не звучали и приказом. Это было обращение к единомышленникам, определяющее, что сейчас надо делать.
Тулупов был секретарем Чукотского райкома партии. В точных, коротких фразах этого сорокалетнего человека с лицом учителя, в выражении глаз и сдержанных движениях чувствовалось то умное, уверенное в себе человеческое достоинство, которое мы часто именуем интеллигентностью. Богданов успел побывать в Уэлене еще осенью, Тулупов знал его, потому и обратился к нему, как к знакомому. Я заметил, что и Богданов рад был видеть Тулупова.
Выяснилось, что Тулупов только что возвратился из поездки по району. Узнав о происшедшем, не заходя домой, он подъехал на своей упряжке к полярной станции. Секретарь райкома был явно встревожен, но не проявлял нервозности, что мне понравилось.
В ответ на просьбу Тулупова Богданову предстояло принять решение, на которое у него не было полномочий. Дело в том, что авиационные наставления запрещают одномоторным сухопутным самолетам летать над водой. Точнее, разрешалось удаляться от берега на расстояние, которое позволяло спланировать на сушу, если вдруг остановится мотор. Это расстояние зависело от высоты полета и аэродинамического качества самолета. Качество наших Р–5 было равно примерно восьми, то есть с высоты одного километра можно спланировать на расстояние восемь километров. Если бы не облака, найти льдину с людьми не представляло бы затруднений: она находилась где–то недалеко от берега. Но дело осложнялось погодой. Сильный южный ветер гнал над поверхностью моря клубящиеся облака. Местами они были совсем темными и, неся в себе заряды дождя и снега, опускались до уровня воды, местами поднимались и светлели разрывами нижнего слоя. Серая мгла ограничивала видимость до трех–четырех километров. Температура воздуха была чуть ниже нуля, морось оседала на крыльях самолетов лаковой ледяной корочкой. В такую погоду без нужды не решишься ехать, не то что лететь.
Даже очень многие смелые летчики признали бы такую погоду нелетной. Я ждал, что ответит Богданов. Тот посмотрел на море, на самолеты, на меня, вроде бы усваивая смысл того, что предстоит сделать, и прикидывая, как это сделать. Потом сказал:
— Ну как, Михаил, слетаем? — Не ожидая моего ответа, тут же ответил Тулупову: — Конечно, слетаем, раз так нужно, какой разговор! — и, уже отбросив все сомнения, приказал: — Механики, готовьте машины!
Митя вопросительно взглянул на меня, в знак согласия я опустил веки, и он отправился за Румянцевым греть мотор.
В отличие от Пухова Богданов не стремился к власти, у него не было желания командовать другими, хотя он умел это делать. Он стремился быть впереди и первым делать то, на что решался не каждый. В этом была его профессиональная гордость.
Сейчас Богданов раскрывался мне в обстоятельствах, требующих не просто смелости, а отваги. В данном случае в нем проявилось не тщеславие, а та свойственная русскому национальному характеру безоглядная удаль, когда надо спасать людей, кто бы ни были эти люди.
Когда мы остались одни, поеживаясь от промозглого ветра, Богданов спросил:
— Михаил, как будем летать: парой, поодиночке или по очереди?
— Что ж ты спрашиваешь, когда знаешь, что по приказу мы обязаны летать только парой?
— Это–то я знаю, но задаю себе вопрос — зачем? — Как зачем? Для страховки!
— От чего я тебя застрахую, если у тебя «сдохнет» мотор и ты утонешь на моих глазах!
— Будешь точно и своевременно знать об этом. Не будешь искать, как мы ищем Волобуева, теряясь в догадках.
— В этом, конечно, есть свой смысл. Но мы парой летать не станем. В этих условиях ты будешь озабочен только тем, чтобы не потерять меня, а искать людей не сможешь. Я же стану надеяться, что твоя площадь осмотрена, чего не будет на самом деле.
— Что ты предлагаешь?
— Лететь отдельно в разных секторах. Думаю, найти эту льдинку в такой каше будет не просто. Вдвоем мы быстро просмотрим большую площадь. Кому повезет, тот и найдет, а честь пополам.
Продолжению нашего разговора помешал парторг полярной станции Семенов.
— Мужики! — обратился он к обоим. — Я считаю, что мне надо полететь с вами. Возьмете?
— А зачем тебе рисковать? — спросил Богданов.
— Вот именно потому, что полет опасен, я и хочу эту опасность разделить с вами. Но это не главное. Мне как парторгу это поможет установить лучший контакт с местным населением. Ну и, думаю, еще одна пара глаз не будет лишней.
— А ты как считаешь? — спросил меня Богданов.
— Полагаю, что Алексей Михайлович думает правильно. Он хочет, чтобы ему верили. Я поддерживаю.
— Тогда возьми его с собой. В моей машине он замерзнет.
— Отлично!
— Значит, так. Ты уходи в море прямо от станции. Минут на восемь–десять, а я начну делать галсы от конца лагуны. Так мы не помешаем один другому. Примерно через час вернемся. Согласен?
— Все ясно!
Вот так в товарищеской равноправной беседе мы определили тактику поисковых полетов. Правда, где–то в душе я считал, что надо было летать парой, как предписывал приказ. Но между нами не возникло разногласий в главном — мы решили лететь, невзирая на то, что погода была не для полетов.
Мы вылетели друг за другом. Я ушел от берега прямо в море, а Виктор пошел по берегу и скрылся во мгле.
Наилучшая видимость оказалась на высоте 80 метров. На этой высоте я и летал целый час. Не утаю, этот первый час был самым трудным. Берег скрылся, внизу — вода пополам со льдом. Контрастируя с ним, она казалась аспидно–черной и страшной. Кругом столбы из снежных зарядов. Летать между ними — все равно как в лесу между деревьями. Ветер сильный и порывистый, вблизи зарядов подбалтывает. От болтанки меняется звук мотора, и все время кажется, что в нем то появляются, то исчезают тревожные ноты. Невозможно подавить игру воображения, рисующего картину отказа мотора и последующих событий.
Перед вылетом я думал, что найти льдину с людьми не составит труда, она где–то рядом, но, сделав шесть галсов от берега и обратно и ничего не обнаружив, я возвратился на аэродром. Увидев на нем самолет Богданова, подумал, что ему повезло. Но увы! Он тоже не обнаружил льдину.
Взлетаем вторично. Постепенно проходит страх перед водой. Все большая уверенность в моторе. Появляется этакое горделивое пренебрежение: будь что будет, а унижаться преждевременным страхом стыдно. Я уже не стремлюсь прижаться к облакам, сберегая метры высоты, а иду почти на бреющем. Близость опасности щекочет нервы. Какая разница — на 100 или на 20 метрах высоты сдаст мотор: в обоих случаях тонуть! Посматриваю через зеркало на Митю и Семенова. Они напряженно глядят — один влево, другой вправо и, кажется, не думают об опасности.
Через два часа сажусь и вновь узнаю, что Виктор тоже ничего не нашел. Черт возьми! Куда же девалась льдина? Неужели мы пропустили ее под снежным зарядом?
Перед третьим вылетом Поликашин принес на аэродром радиограмму:
«МЫСА СЕВЕРНОГО УЭЛЕН БОГДАНОВУ КАМИНСКОМУ ТЧК ПРОСЬБЕ ТУЛУПОВА РАЗРЕШАЮ ПОЛЕТЫ МОРЕ НА ПОИСКИ ОХОТНИКОВ ТЧК КОНКИН».
Молодец Евгений Михайлович! Вот это командир! Не побоялся взять ответственность на себя и добавил слово «море», что сделал бы не всякий.
В третий полет нам погрузили теплую одежду и продовольствие, отдельно спальный мешок с упакованными в нем примусами и керосином в автокамере.
Вылетаю с желанием не возвращаться, пока не найду людей, И на этот раз мне повезло. Один из галсов лег так удачно, что я «выскочил» точно на льдину. И только теперь я понял, как легко было ее просмотреть. На расстоянии километра почти нельзя было отличить людей от множества черных точек и пятен, от игры света и тени на льду.
Ввожу машину в вираж и считаю людей. На трех обломках льдины их оказалось шестнадцать. Митя и Алексей Михайлович Семенов сбросили на лед одежду, продовольствие и все остальное. Мне было хорошо видно, как люди махали руками, обнимались и прыгали, будто дети. Определяю местонахождение лагеря. Беру курс на берег, считаю минуты, потом, тоже считая, иду по берегу до аэродрома. Устанавливаю, что лагерь находится в 8 километрах от берега и в 20 от Уэлена. Вот это дрейф! Меньше чем за сутки — 20 километров! Правда, сильный ветер с юга ускорял действие течения и отжимал льдины от побережья.
Как нам рассказали, это последнее было самым опасным. Дело в том, что течение из Берингова пролива на север какое–то расстояние проходит вдоль берега, а потом разветвляется. Внешняя ветвь течения уносит льды в глубину полярного бассейна. Поэтому и не всегда возвращались пропавшие охотники.
Нашему сообщению все в Уэлене страшно обрадовались. Для меня наиболее отрадным было то, что Виктор не выразил зависти моей удаче и охотно передал лидерство мне. Мы парой еще раз слетали к науканцам, сбросив им одежду и продовольствие, бывшие на борту Богданова.
Итак, первая помощь оказана. Это принесло нам огромное удовлетворение. Про себя мы гордились и тем, что никто из нас не показал страха. Вроде бы ничего особенного и не было.
Вечером в райисполкоме заседала специальная комиссия по оказанию помощи науканцам. Ее возглавлял эстонец Бредис, человек богатырского роста и телосложения. Он был умен, энергичен, деловит. Мы с Виктором доложили о том, как искали льдину и что видели в лагере, и приняли участие в обсуждении списка вещей, которые следовало еще сбросить дрейфующим охотникам. По моему предложению в список включили палатки. На этом заседании мы узнали любопытную деталь. Среди терпящих бедствие находились председатель нацсовета, комсомолец Утоюк и один из пяти науканских шаманов Утыргин.
На следующий день мы быстро нашли еще дальше уплывший лагерь, сбросили новые посылки и рассмотрели ледовую обстановку. Неподалеку от лагеря была льдина, достигавшая в поперечнике около 300 метров. А что, если сделать на ней посадочную полосу и на У–2 снять всех людей? Эта же мысль возникла и у Виктора.
Вернувшись в Уэлен, мы доложили председателю комиссии Бредису план снятия охотников со льдины. Для его выполнения, по нашему мнению, надо было сбросить на лед кирки, лопаты и инструкцию на эскимосском языке, в которой было бы указано, как расчистить площадку. Бредис одобрил наш план, и Богданов послал Конкину просьбу подготовить на базе У–2.
Пока готовили инструмент, мне довелось слетать в залив Святого Лаврентия за хирургом Фавстом Леонидовичем Леонтьевым, так как у одной чукчанки затянулись роды и жизнь ее оказалась под угрозой. Наконец инструменты для оборудования посадочной полосы уложены в самолеты, прогреты и опробованы моторы, можно лететь, но быстро надвинувшийся густой туман запеленал все вокруг. Жаль терять день, но лететь бесполезно: не найдем мы науканцев.
ЭСКИМОС АЁЕК
И вот в этот самый момент к самолетам подлетела собачья упряжка. Высекая искры, брызгая ледяной крошкой, заскрежетал остол (тормозной рычаг со стальным наконечником), раздался гортанный крик каюра, и нарты встали как вкопанные около нас. Огромного роста эскимос, судя по иссеченному временем индейскому лицу, лет шестидесяти, сильный, подвижный, к моему удивлению, без всякого смущения обратился к нам. Что–то быстро говоря, он показывал то на самолет, то на свои глаза. Мы ничего не понимали и только переглядывались в недоумении. Семенов побежал на станцию и тут же привел Поликашина. С его помощью мы уяснили, что этот эскимос является председателем науканского колхоза и зовут его Аёек. Он хочет лететь с нами и своими глазами видеть потерявшихся охотников. Науканские шаманы говорят, что русские летчики не могут найти охотников, надо звать американских летчиков. Пусть русские летчики покажут Аёеку, что не обманывают.
Вот оно в чем дело! До сих пор мы как–то не задумывались над тем, что делается в Наукане, потерявшем добрую треть своих охотников. Оказывается, там есть люди, желающие погреть руки на несчастье колхоза. Ситуация сразу стала напряженной. Больше того, она приобрела политическую окраску. Полететь и не найти стало быть, подтвердить слова шаманов. Не полететь, ссылаясь на погоду, — неубедительно. Эскимосы считали нас всесильными, как и своих шаманов, им такой ответ будет непонятен. Аёек приехал сюда за правдой, и Наукан ждал ее.
Пока Поликашин, Семенов, Островенко, Румянцев, Богданов и я совещались, Аёек, гордо выпрямившись, ждал нашего ответа.
Я предложил лететь. У Аёека немалый опыт жизни у моря, рассуждал я. У него наверняка есть здравый смысл, воспитанный в борьбе с неласковой природой Он сам убедится, что при таком тумане найти крохотные кусочки льда среди миллионов подобных невозможно. Он сможет сказать науканцам, что летчики но отказались лететь, но что найти охотников было трудно. Меня поддержали все. Аёека посадили в мой самолет, и мы с Богдановым взлетели парой — крыло в крыло. На десяти–пятнадцатиметровой высоте вышли в море.
По секундомеру я отошел от берега примерно на восемь километров, после чего взял курс в сторону Сердце–Камень. Богданов шел справа очень близко, боясь потерять меня из виду.
И вот тут случилось чудо: я вышел прямо на льдину с людьми, как будто по радиоприводу. Чтобы не потерять лагерь, я резко положил машину на крыло. Богданов, не ожидавший этого поворота, проскочил дальше и исчез в туманной мгле. (К вечеру выяснилось, что он прошел до мыса Сердце–Камень и произвел там трудную посадку.) Митя показал Аёеку людей, и здесь этот человек еще раз удивил меня. Увидев своих колхозников, Аёек стремительно вскочил с сиденья и пробил головой целлулоидную крышу. Его голова оказалась снаружи, в воздушном потоке, забивающем глаза. Руки он выбросил в открытые форточки и кричал от восторга. Я урывками смотрел на эту сцену и видел, с каким трудом удалось Мите усадить восторженного великана на место.
Видимость в тумане не превышала ста метров. О нормальных заходах издалека и на безопасной высоте не могло быть и речи. Пришлось положить машину в глубокий вираж на высоте 10 — 15 метров, и она теряла устойчивость, на каждом круге попадая в свою струю.
В задней кабине троим было тесно до предела. А кроме того, вытаскивать из–под ног и выбрасывать через форточку фонаря приготовленные посылки было очень сложно. А я еще должен был удерживать машину в возмущенном потоке и не выпускать льдину из центра виража. К тому же я не знал, где в этот момент Богданов, может, он кружит неподалеку, разыскивая меня, и наша встреча на контркурсах станет взрывом. Все молекулы моего существа были напряжены до отказа. Но я видел, как восторженно прыгали, обнимались, махали руками люди внизу, видел их счастливые, что–то кричащие лица, обращенные к нам. И это делало мои руки твердыми, а реакцию на сложность полета точной. Но вот Митя выбросил последний сверток, и, переведя дух, я взял курс в сторону берега. После перегрузки нервной системы на виражах прямолинейный полет даже в густом тумане показался совсем не трудным…
Когда я подрулил к стоянке — самолет окружила толпа. Среди чукчей и зимовщиков были Тулупов и Бредис. Видимо, всему поселку стало известно о неожиданном полете науканского председателя и всем любопытно было увидеть его. Не успел я выключить мотор, как Аёек вывалился из кабины, ни на кого не глядя, проскочил толпу, как болид, вскочил на нарту, гортанно крикнул на собак и с места бешеным аллюром умчался с аэродрома. Он и минуты не хотел терять, стремясь быстрее утешить жен и матерей тем, что увидел своими глазами. А главное — посрамить шаманов и подкулачников.
Казалось бы, что старый эскимос, ни разу в жизни не видевший самолета даже издали, должен отнестись к нему как порождению нечистой силы. Но он сел в самолет, как на нарту, не проявив ни растерянности, ни боязни. Наоборот, держался так, будто всю жизнь только тем и занимался, что летал в мерзкую погоду на поиски соплеменников, унесенных в ледовитое море.
Размышляя над этим, я старался понять, какая сила заставила этого человека совершить то, что в ином случае он не сделал бы ни за какие блага. Я представил себе его смятение, когда шаманы уговаривали колхозников не верить советским летчикам и звать американских. Ему больно было это слышать, ведь он был убежден в правоте новой жизни, пришедшей с Советской властью. Этим и только этим следует объяснить его радость, когда он убедился, что был прав, что Советская власть прислала хороших летчиков и они спасут бедствующих охотников.
Тулупов, проводив взглядом нарту Аёека, подошел ко мне, поманил к себе Островенко и Семенова и, пожимая нам руки, сказал:
— Молодцы! Благодарю и поздравляю. Этим полетом вы сделали больше, чем вся наша агитация за целый год. Теперь Аёек даст бой шаманам!
Приятно слышать такие слова. Это первая похвала за всю зимовку, и я чувствовал, что заслужил ее. Боясь показать свою радость, я перевел разговор на другую тему и спросил Тулупова:
— А за науканцев вам не страшно?
— За тех, что на льду? Конечно, боюсь. А что можно сделать?
— Снимать их так же, как снимали челюскинцев.
— Поликашин уже сообщил мне ваше предложение. Отличный проект. У него только один недостаток: он неосуществим.
— Почему же?
— Потому что челюскинцы сидели на матером, сплоченном льду. Они могли вырубить площадку даже для большого самолета Ляпидевского. Среди них были летчики и вообще люди грамотные и опытные. А здесь не лед, а каша. Неизвестно, сумеют ли науканцы перебраться на большую льдину, а если и сумеют, то сделают ли они площадку. Ведь они впервые видят самолет, и то только в воздухе! Вот ведь какая штука!
— Но мы должны быть в готовности осуществить этот проект. На Р–5 мы сделали все, что можно. Если науканцев понесет от берега, то спасти их можно только на У–2. Но это действительно рискованно, и нужно разрешение Москвы.
— Москва уже разрешила, смотрите! — Тулупов достал из нагрудного кармана бланк и протянул мне. Я прочитал:
«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ УЭЛЕН РАЙКОМПАРТ ТУЛУПОВУ
КОНКИНУ ДАНО УКАЗАНИЕ СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ САМОЛЕТАМИ ТЧК
ШМИДТ»
— Ну вот и отлично. Богданов прилетит с базы на У–2, а я буду подстраховывать его на Р–5. Сейчас, слава богу, на дворе двадцатый век, да и мы научились кое–чему.
АВАРИЯ
После поломки лыжи возле Уэлькаля удачи следовали одна за другой: успешная посадка в пургу, полеты с Конкиным и знакомство с Чукоткой, возвращение Пуховым моего самолета, дружная работа с Богдановым, обнаружение науканцев, полет с Аёеком. Я был уверен в себе, как никогда, испытывая от каждого полета наслаждение.
В ожидании прилета Богданова на У–2 мне надлежало ежедневно совершать контрольные полеты к ледовому лагерю, чтобы следить за его дрейфом. 25 апреля после такого полета по просьбе Тулупова до темноты я делал рейсы между Уэленом и культбазой в заливе Лаврентия. Это сто километров через горы, всего сорок минут полета. Первым рейсом отвез доктора Леонтьева и роженицу, а в Уэлен доставил заместителя начальника погранпоста. Потом перебросил заведующего пушной конторой Суворова и его бухгалтера, а обратно — четырех подростков–учеников. Они жили в интернате культбазы и на первомайские каникулы приехали бы к родителям на собаках. Из пропагандистских соображений Тулупов просил доставить их на самолете. Были заявки и еще на день полетов. Во всех учреждениях райцентра нашлись срочные дела в заливе Святого Лаврентия, а я подумал, как запросто входит авиация в чукотский быт.
26 апреля солнышко взошло на безоблачное небо и заметно пригревало, образуя на снегу плотную корочку наста. Над морем появилось марево, поднимающее льды над горизонтом, а дальние сопки таяли в голубой дымке. Настроение у меня было великолепным, как у человека, которому все удается.
Зная, как переменчива здешняя погода, прежде чем лететь к лагерю охотников, я решил вначале развязать себе руки и отвезти на свой пост пограничника. Он сделал свое дело и ждал обещанного полета. Видимость была отличная. А снежная поверхность идеально ровная. Позднее, осмысливая случившееся, ругая себя, я все время возвращался к этому моменту — моменту принятия решения. Но об этом лучше сказать позднее, сейчас опишу, что получилось.
Машина села мягко, но в конце пробега — о ужас! — ударилась обо что–то левой лыжей, медленно подняла хвост и стала на нос. Вылезаю из кабины и вижу разбитую лопасть винта и сломанную о скрытый в снегу торос лыжу.
Она сломалась странным образом: носок только смялся, но хвостовая часть, как перерубленная, отскочила от «кабала» и с огромной силой ударила по нижней поверхности крыла. Удар пришелся на основание силового лонжерона.
Непоправимость происшедшего стала ясна с первого взгляда: надо менять крыло! А как это сделать, если доставить его сюда можно только пароходом в конце лета? Весь в испарине, не в силах устоять на ногах, я опустился на носок лыжи и закрыл лицо руками.
Я слышал, как Митя, ругаясь, очистил от снега торос, как он вытащил из плоскости обломок лыжи, поковырялся в дыре и, ни слова не сказав мне, ушел в залив «остывать».
Дело прошлое, и теперь я не стыжусь признаться в том, что было. На своем опыте хочу показать, что чувствует летчик, разбивший самолет по собственной вине. У меня не было ни малейшего, хотя бы косвенного повода винить кого–либо, кроме себя. Ну хотя бы тот пограничник просил меня об этой посадке или какая другая нужда — решительно ничего, кроме собственного легкомыслия!
Было бы легче, если бы кто–то ругал меня последними словами. Но даже Митя переживал про себя. На душе было пусто и мрачно, как в сыром и темном подвале. Солнечное сияние казалось издевательским. Сейчас придется объясняться с представителем местной власти Дунаевым. Когда будет задан вопрос: зачем я здесь садился? — ответить нечего. Надо телеграфировать Конкину, и я представил себе его досаду. Был жгучий стыд перед Тулуповым: теперь науканцы остались на произвол судьбы. Был страх перед перспективой возвращения в Анадырь под начальство Пухова. Где–то в затылке гнездилась боль, разламывающая голову. Я чувствовал себя опозоренным и уничтоженным.
Прибежали пограничники. Они залезали под крыло, рассматривали дыру, оживленно обмениваясь впечатлениями.
Кто–то подошел и требовательно положил руку на мое плечо. Я встал. От яркого солнца в глазах пошли радужные круги, не могу всмотреться в стоящего передо мной человека. Вначале вижу лишь фуражку с зеленым околышем. Ага, это он и есть, знаменитый Дунаев, спасавший челюскинцев!
Вопреки ожиданиям он сказал фразу, утешившую меня:
— Как вы разыскали этот торос? Если бы его надо было найти за денежное вознаграждение, я не ручаюсь, что мои следопыты сумели бы его получить! — Он отошел к винту, потрогал разбитый конец лопасти и закончил: — Ай–яй–яй, как жалко!
Подошел Митя, попросил начальника о помощи, чтобы опустить хвост. Красноармейцы поступили в его распоряжение, и через несколько минут самолет стоял совершенно нормально. Если посмотреть со стороны, не видя поломанного винта, можно было думать, что все в порядке. Но это была авария! Первая за мою жизнь в авиации. От этого сознания было горько во рту и тоскливо на душе.
Думаю, каждый летчик, разбивший свой самолет, переживает подобное. Могу заверить, что нравственные страдания тяжелее следующих за ними взысканий. Кажется мне, что в будущие времена, когда общество будет достаточно богатым, чтобы не считаться с материальным ущербом, оно не будет прибегать к другим наказаниям. Тяжелее кары не будет. Наоборот, наказание общества освобождает летчика от упреков совести.
Наконец Митя подошел ко мне. Вопреки своему обыкновению он был сдержан. А я воспринимал эту сдержанность как самый большой упрек. Если бы он ругался, то облегчил бы душу и себе и мне. Молчим оба. Наконец Митя, как и тогда, под «Снежным», пытается утешить меня:
— Горюй не горюй, сделанного не поправишь! Тебе вперед наука. Строго говоря, это не авария, а поломка. Заменить винт, лыжу, крыло — и самолет будет летать как миленький. Даже регулировки не потребуется…
Стали рассуждать, как бы перебросить сюда запасное крыло с базы. Ничего не выходит. Видно, до парохода, долгих четыре месяца, самолету стоять здесь. А мы остаемся «безлошадными»!
Через день пришло распоряжение Конкина и инженера Аникина законсервировать машину для длительного хранения и вернуться в Уэлен. Путь, который я совершал по воздуху очень быстро, потребовал целых суток утомительной езды на собаках по горным перевалам. Первое мая 1936 года мы встречали на полярной станции, и это был для меня самый грустный Первомай.
Утешало только то, что моя авария не отразилась на судьбе науканцев. 29 апреля, на шестой или седьмой день дрейфа, подул ветер с норда и прижал лед к берегу. В 80 километрах от Уэлена науканцы покинули лед и оказались в ярангах чукчей. Выяснилось, что, формируя посылки, мы упустили из виду защитные очки. Почти все эскимосы сошли на берег, пораженные слепотой. Однако через несколько дней они оправились, и чукчи доставили их к родным очагам.
Несколько опережая очередность событий, сейчас уместно сказать и о выводах, которые оказались для меня еще более неожиданными, чем сама авария. Я объяснял ее легкомыслием, а решение о посадке у погранпоста своей ошибкой. Так я и доложил Конкину, когда прибыл на базу. Инженер группы Аникин, человек въедливый и насмешливый, тщедушный и шустрый, как воробей, не то утвердительно, не то вопросительно, но с явным сарказмом сказал:
— Ну что же, товарищ Каминский! Теперь все! Летать больше не будем. Подождем, когда построят здесь аэродромы, расставят флажки, выложат посадочные знаки!
Не зная, как эту тираду понять, молчу. Вижу, Конкин с любопытством, как на нового человека, смотрит на своего инженера. Аникин, довольный моим замешательством, продолжал:
— Уж и не знаю, давать ли тебе другой самолет! Ведь ты на нем и улететь не сможешь, будешь посадки бояться, не правда ли?
Чувствую себя идиотом, продолжаю молчать, глядя, а уместнее сказать, «хлопая глазами» на Аникина.
Но его мысль с живостью подхватил Конкин, тоже с насмешкой в голосе:
— Прав, Прокоп Антонович, прав! Смотрю я на тебя, и аж жалко становится. Совсем мужик расстроился! А ты знаешь, что такое война? Не знаешь! Откуда тебе знать! — В голосе Конкина зазвучали жесткие ноты. — А мне пришлось. Лечу сам или посылаю летчика в бой и не знаю, вернемся мы с ним или нет. И зенитки могут подбить, и истребители, и мотор может «сдохнуть» где не надо. Ну так что ж, и не воевать нам, если знаем, что будут потери?!
— Здесь мы тоже как на фронте. Только наш враг не зенитка, а незнание! И еще будут потери — это факт. До тех пор, пока опыта не наберемся!
— Вот ты говоришь то и се, а сам, наверное, думаешь, что тебе просто не повезло. Молчи, когда старшие говорят! — прервал он мою попытку возразить. — И в самом деле, садишься ты в ясный день на абсолютно ровную площадку — и вдруг под снегом ропак! Конечно, не повезло! Но это для того, кто не знает. А знающий учел бы, что у самого берега приливы–отливы торосят молодой лед. Потом зима все схватит и прикроет снежком. На глаз все ровно, а под снегом — ропаки. Знающий сел бы метров на триста подальше береговой линии, и не было бы у него аварии. Смекаешь? Ну так вот, не проливай перед нами слезы, а учись! Битый нам дороже стоит!
И, обращаясь к Аникину, закончил:
— Ну, как думаешь, Прокоп Антонович, дошло до него?
— Полагаю, дошло, товарищ командир. Пусть летает на У–2, пока не восстановим его Н–68.
Вот так меня учили по–настоящему добрые люди и истинные патриоты.
БОЙ С ШАМАНАМИ
5 мая 1936 года Аёек пригласил Поликашина и меня на собрание науканского колхоза в честь спасения охотников. Проехав от Уэлена до Наукана 25 километров на собаках, мы повторили исторический путь Семена Дежнева. Из Ледовитого океана мы попали в Тихий, на беpeг штормового моря Беринга. Знаменитный мыс, названный именем первооткрывателя, отвесной стеной уходил в глубину пролива.
«Вот он, «конец географии»!» — подумалось мне, когда наша упряжка с трудом перебиралась по узенькой гряде торосов возле стены. До Америки — чуть больше получаса полета на моем Р–5! Там совсем другой мир, другие обычаи. Там тоже живут эскимосы, но там не бывает колхозных собраний, посвященных спасению охотников. Там гибнут или спасаются, как кому повезет, и обществу это безразлично.
У мыса Дежнева нас встретили соленый ветер и заполошные крики чаек. Они стаями срывались с утесов. Молча планировали над нами огромные черные вороны. Почему живет в сих неуютных местах эта вещая, по народным преданиям, русская птица? Я не знал ответа, но их присутствие показалось мне тогда символом русского духа, обитающего и здесь. И мы с Поликашиным, коренные москвичи, тоже представляли собою этот неистребимый русский дух. На нем и держится наша держава, подумалось мне.
С такими мыслями, сидя за спиной Поликашина и крепко держась за копылья нарты, чтобы не выпасть на неровной дороге, я приехал в Наукан.
Это единственное селение на Чукотке, где люди живут не на берегу, а на скале. Море не оставило здесь берега для человеческого поселения. Яранги лепятся по откосу скалы, как ласточкины гнезда.
Каким же неприхотливым и выносливым бывает человек! Ведь здесь же ничего нет для него — только море и скала, а он живет! И как трудна, как бедна эта жизнь в ежедневной борьбе с ветром и морем.
Море дает эскимосу все: пищу, одежду, жилище, тепло, но оно и берет! Каждый год оно требует человеческой жертвы. Не случайно так сильны здесь суеверия и так могущественны шаманы.
Собрание состоялось в здании школы. Классная комната примерно в 25 квадратных метров была набита битком. Люди стояли и в коридоре. Было очень душно и остро пахло, как мне казалось, копальхеном. Как только мы прибыли, Аёек произнес вступительную речь.
Я не понимал слов, но по напряженному выражению лица, по страстности интонаций понял, что попал не просто на собрание, а на битву, которую начал старый эскимос. И действительно, это собрание оказалось полем битвы. На нем были укрепленные позиции, противостоящие силы и военачальники. Видимо, это была не первая битва, но на этот раз одна из сторон имела решающий перевес. Выступления были коротки, как выстрелы. Некоторые выступали по два–три раза. Что–то вспомнит, крикнет одну–две фразы, — и все выступление. Где же противники?
Ага, вот они! Я заметил кучку людей, сгрудившихся в одной стороне. Они сидели, не шевелясь, молча и хмуро смотрели на выступающих. В их взглядах была ненависть.
Это были шаманы и их приверженцы. Их было не так уж мало — человек двадцать. Среди них был и тот шаман, который дрейфовал на льдине в числе шестнадцати охотников. Он сидел, опустив голову, и не просил слова.
Большинство выступавших избегало сверлящих шаманских взглядов, но нашлись смельчаки, которые с вызовом смотрели им в глаза и показывали на них пальцами. Это были комсомольцы: председатель нацсовета Утоюк и охотник Нуниглинян. В их голосах чувствовался яростный накал борьбы.
Поликашин еле успевал шептать мне суть того, что говорили выступающие.
Суть выступлений была достаточно коротко сформулирована секретарем собрания молоденькой учительницей Леной Ольшевской и выражена в обращении, причем на собрании. Вот один абзац из этого обращения: «Наши шаманы и подкулачники распускали слухи, что советские летчики не сумеют спасти охотников, что надо просить американских летчиков или вызвать из Москвы Ляпидевского и Водопьянова. Но наши летчики товарищи Каминский и Богданов, бортмеханики Островенко и Румянцев доказали, что совсем не нужна была помощь американцев, что все советские летчики одинаково могут помочь охотникам, когда они терпят бедствие. Мы счастливы, что живем на советском берегу. Мы верим, что Советская власть поможет чукчам и эскимосам в любой беде».
Из выступлений выяснилась такая любопытная деталь. Два охотника из числа шестнадцати бедствующих упали в воду. По обычаям, никто не протянул им руки. Шаманские законы были сильнее законов человеческой солидарности. Когда эти двое выбрались на лед, их не приняли в общую компанию: на них обрушился гнев Келе. Они согревались быстрыми движениями, а когда уставали, прятались в расщелинах между торосами. Один из этих двоих, Ыкына, сказал на собрании:
— Мокрые, мы на льду совсем ослабели. Я хотел всю одежду отдать другому, а с собой что–нибудь сделать, чтобы так не жить.
Второй добавил:
— Если бы не русские летчики, нам была бы «камака» (смерть).
Яркое впечатление на меня произвел такой момент собрания. Все до одного спасенные охотники уже выступили, кроме шамана, который не отзывался на призывы Утоюка. Не знаю, почему так необходимо было его выступление, но, видимо, это имело значение. Все вернувшиеся со льда вскочили и громкими криками понуждали шамана выступить и подтвердить то, что говорили остальные. Бедный эскимос оказался меж двух огней. С одной стороны — негодовали товарищи по несчастью, а с другой — ему что–то шипели на ухо коллеги–шаманы. Они держали руки на его плечах, злобно озираясь на возмущенных соплеменников, И вот тут–то вмешался Аёек. Он сказал:
— Утыргин плохой человек и плохой шаман. Он не хочет сказать правду. Пусть тогда он скажет, что не видел самолета, с которого я своими глазами видел его прыгающим от радости. Пусть он скажет, и мы будем знать, что он самый большой лжец и не может быть шаманом!
Это, что называется, был удар под корень. Шаманы сняли руки с плеча Утыргина. Он пролепетал: «Это правда, что говорит Утоюк!» И сел. Когда Утыргин встал, наступила тишина. Когда он сел, в зале раздалось что–то вроде русского «ах!» и аплодисменты.
Это были аплодисменты не признанию шамана Утыргина, а той победе, какую одержал великий стратег Аёек над могуществом шаманов. По крайней мере, так я понял этот взрыв ликования.
Собрание достигло своей цели: шаманы были всенародно посрамлены. Но Аёек пожелал, чтобы выступил я. Видимо, ему хотелось, чтобы все рассмотрели живого русского летчика, спасавшего их земляков. И вот тут экспромтом я произнес свою первую на Чукотке речь, которую переводила учительница Ольшевская. Я говорил самые простые слова и старался быть кратким:
— Надо говорить спасибо не нам, летчикам, а Советской власти, приславшей нас помогать вам. Однако Советская власть хочет, чтобы эскимосы и чукчи сами умели летать на самолетах и могли помогать охотникам, не дожидаясь русских летчиков. В Анадыре скоро откроется школа, которая называется аэроклуб. По всей Чукотке собираются деньги, чтобы купить самолет. Я приглашаю науканцев записаться в члены аэроклуба, чтобы помочь быстрее купить самолет и послать хорошего парня учиться летать на самолете.
Аэроклуб в Анадыре мы действительно организовали. Я агитировал за него еще на пароходе. Однако я сильно преувеличил, говоря, что чукчи скоро будут учиться летать. Я и не ожидал большого эффекта от своего обращения. Просто воспользовался случаем для пропаганды идеи. Тем не менее результат привел меня в изумление.
Умница Ольшевская после собрания организовала запись в члены аэроклуба. Вступили не все науканцы, но, видно, добрая половина, человек сорок. Спасенные записывали и свои семьи. Иногда в списке оказывались сам охотник, его жена, мать и отец.
Ольшевская объяснила мне, что спасенные охотники возмущены, что не все науканцы последовали моему призыву. Что часть из них еще смотрит в рот шаманам и боится их, несмотря на сегодняшний разгром. Вот этот «недобор» они и покрывают, записывая своих близких.
Честно говоря, я не думаю, что науканцев привела в восторг идея учиться летать на самолете. Скорее всего в этом проявилась поддержка тому, что предлагает Советская власть, от имени которой я говорил. С другой стороны, они чувствовали себя в долгу перед Советской властью за то, что она сделала для них, и хотели за это отплатить добром. Так или иначе, а я перевел в окружком комсомола тысячу рублей.
И в этом деле помог своим призывом и примером Аёек. Ах, какой же это был умный и благородный старик! Должен сказать, что для понимания национального характера аборигенов страны, для воспитания во мне уважения к ним больше всего сделал Аёек. Никогда не забуду того, как этот старик, неграмотный эскимос, преподал мне уроки мудрости, сердечной щедрости и политической дальновидности. В моих глазах он является тем государственным деятелем, которыми и сильна наша Советская власть.
Вот что записала Ольшевская в резолюции собрания!
«Наш колхоз вступает юридическим членом аэроклуба. Сорок наших колхозников вступают индивидуально. Мы подготовим одного науканского комсомольца, чтобы послать его в Анадырь учиться летать на самолете. Мы хотим, чтобы наша молодежь летала на самолете».
Вот так окончилась науканская эпопея. Она помогла лучше понять характер людей, живущих на Чукотке, наложила на меня моральное обязательство научить чукчей летать и позволила рассмотреть много новых интересных людей.
Когда–нибудь я расскажу о том, как мы осуществили идею создания аэроклуба и научили чукчей летать. Расскажу и о трогательной встрече с Аёеком, который привел ко мне своего сына, чтобы я «сделал из него летчика».
Не имею права умолчать об учительнице–комсомолке Леночке Ольшевской. (Через много лет я узнал, что зовут ее Елена Фаддеевна, она стала заслуженной учительницей и до сих пор работает в Анадыре.) Вряд ли ей было больше двадцати, скорее меньше. По окончании педагогического училища на материке она приехала на Чукотку. Живет среди эскимосов и учит малышей тому, чему научили ее. В свои двадцать лет она изучала классовую борьбу не по книгам и знала, на чьей стороне ей быть. В этой борьбе она была активной и весомой силой. В ее лице Аёек и Утоюк нашли соратника, который помогал им сегодня, а своей работой в школе готовил резервы завтрашнего дня.
Как хотелось бы, чтобы в лице этой девушки–комсомолки, какой она сохранилась в моей памяти, сегодняшние образованные чукчи и эскимосы оценили подвиг тех мальчиков и девочек, комсомольцев 30–х годов, которые выводили их в мир больших интересов.
В Уэлене учительницами работали две такие же девочки — Наташа Руденко и Муза Войнилович. Им было по восемнадцать лет. Но у них были сравнительно хорошие условия жизни, по крайней мере, они были не одни, было с кем говорить на родном языке. А сколько же было на Чукотке таких вот одиночек, как Леночка Ольшевская! Они кочевали с чукчами среди снегов, ничего не получая от большого мира, из которого приехали, и отдавая все, что привезли с собой. А привезли они свои восемнадцать лет и горячие комсомольские сердца. А как это было много для Чукотки того времени!
ГЛАВА ВТОРАЯ
КОГДА ГЕОЛОГИ СТАЛИ КРЫЛАТЫМИ
Кажется, нет столь отличных друг от друга сфер человеческой деятельности, как геология и авиация. Авиатор смотрит в небо, а геолог — в землю, а вернее — в ее недра. Однако в 40–х годах возникло прочное творческое содружество геологии и авиации, и сейчас это считается само собой разумеющимся. И очень немногие знают историю плодотворной дружбы разведчиков неба с разведчиками земных недр. Об этом и пойдет рассказ в предлагаемой главе, но прежде необходима небольшая историческая справка.
В начале второй пятилетки выяснилось, что индустриализацию страны сдерживает нехватка некоторых редких металлов. В 1934 году на сессии ВЦИК были названы: олово, вольфрам, никель и молибден. На их поиски и мобилизовались советские геологи.
О том, что скрывает в себе земля за Полярным кругом, в ту пору знали ничтожно мало, как, впрочем, и о самом Заполярье. Все, что геологам попадало на глаза порой случайно, волновало воображение своим богатством, нетронутостью, полнейшей неразведанностью. В начале 30–х годов геолог Н. Н. Урванцев в междуречье Енисея и Пясины (восточнее Дудинки) открыл месторождение никеля. В короткие годы Норильск стал одним из мировых центров по добыче никеля, а попутно платины и других редких металлов.
В 1932 году ленинградский геолог В. И. Серпухов в сопровождении студента–коллектора Байкова совершил смелый поход в глубину Анадырского хребта. Он шел от мыса Северного (с 1934 года переименован в мыс Шмидта) на юг, и это было первым вторжением ученого человека в труднодоступную область хребта. Пешком, с рюкзаками весом по 40 килограммов геологи смогли удалиться не более как на 50—60 километров от побережья. Им посчастливилось обнаружить редкостное для тех времен коренное месторождение оловянного камня в разломах кварцевых жил. Как водится в геологической практике, Серпухов вел глазомерную съемку по маршруту, но привязать ее было не к чему, на карте — «белое пятно». Местность дикая, точка указана весьма приблизительно, и о ней не вспомнили бы много лет. Призыв ВЦИК избавить страну от оловянного голода побудил Главсевморпути снарядить экспедицию на поиски «точки Серпухова».
К тому времени известный читателю исследователь Чукотки С. В. Обручев высказал чисто теоретическое предположение, что перспективен на олово район Чаунской губы. И вот в 1935 году на Чукотку отправились две экспедиции с одинаковой задачей.
Если в первых двух экспедициях Обручев применил самолеты, то в Чаунском районе он стал новатором в применении аэросаней. В привезенных им образцах горных пород действительно оказались признаки олова, и последующие экспедиции обнаружили такие месторождения, которые сделали Певек первым индустриальным центром Чукотки и первым по счету ее городом.
Вторая экспедиция, направленная с конкретной задачей вновь найти «точку Серпухова» и определить ее промышленное значение, по тем временам казалась гигантской. В ней участвовало пять геологических партий, богато снаряженных. В распоряжении экспедиции два вездехода, катер, трактор, кунгасы, радиостанция, они везли с собой три фанерных домика и всякое оборудование.
Возглавил экспедицию М. Ф. Зяблов. Потомственный рабочий Павловской слободы, что под Горьким, окончив рабфак, он завершил образование в Московской горной академии. В деятельности этого человека яркое подтверждение нашел ленинский тезис о творческих возможностях рабочего класса, освобожденного от капиталистической эксплуатации.
Перед экспедицией Зяблова стояла трудная задача. Мыс Северный доступен для парохода три месяца в году — в июле — сентябре. Место для разгрузки неблагоприятное. Полевой сезон для геологов короткий и т. д.
Я уже упоминал о значимости работ Обручева и геодезиста–аэросъемщика К. А. Салищева по составлению достоверной карты некоторых частей Чукотки. Первый экземпляр этой карты увидел Зяблов. Это определило его решение. А что, если не забираться на северное побережье, а идти к «точке Серпухова» с юга? Этот вариант соблазнял весьма важными преимуществами. Залив Креста, омывавший южные подножья Анадырского хребта, на тысячу километров ближе к Владивостоку. Он замерзает на два месяца позднее, и в его районе нет полярной ночи. По рассказу Обручева, в заливе отличные условия для выгрузки, а климат нельзя и сравнивать с мысом Северным.
Единственным, но крупным минусом являлась большая отдаленность базы в заливе от «точки Серпухова». Вместо 50 километров от Северного — не менее 250 от залива Креста. Но ведь эти километры лежат в горах, и кто знает, что еще попутно откроется в них!
Зяблов понимал, что, удлиняя путь к цели, он берет на себя большую ответственность. Горы, по которым еще не ступала нога цивилизованного человека, таят в себе неожиданности, которые и предусмотреть невозможно. Узнав, что одновременно с его экспедицией на Чукотку едет авиагруппа Волобуева, Зяблов пришел к начальнику полярной авиации М. И. Шевелеву: «Марк Иванович! Поделитесь вашим могуществом, дайте мне на Чукотке один самолет на пару месяцев. Ваши летчики возят в Арктику почту, делают разведку льдов, помогите нам найти дорогу к богатствам чукотских недр!»
Чтобы представить дерзость и необычность такой просьбы, следует напомнить, что полярная авиация только отращивала свои крылья. Самолетов было мало, и каждый ценился на вес золота. На полярных летчиков смотрели, как сегодня смотрят на космонавтов. Даже специалистам полеты за Полярным кругом представлялись неимоверно опасными. А Зяблов предлагал передать самолет в распоряжение людей, ничего не понимающих в авиации, а летчику доверить посадки вне аэродромов. И где? У черта на куличках, да еще в никем не исследованных хребтах!
Тут я должен познакомить читателя с тем, кто должен был принять решение.
М. И. Шевелеву в тот год еще не исполнилось тридцати лет. Но в них уместилось такое, что было возможным лишь в то легендарное время. Мальчишкой участвовал в гражданской войне. В шестнадцать лет стал коммунистом. Живой ум и смелый характер, помноженные на трудолюбие и неиссякаемую энергию, плюс романтическая любознательность привели его в Арктику. Летом 1932 года с летчиком Порцелем он совершает пионерский полет в проливе Маточкин Шар. За одним из поворотов лабиринта пролива на них обрушилась шальная Ново–Земельская бора. С высоты 200 метров тяжелый двухмоторный самолет с огромной силой был сброшен на кипящие волны и буквально расплющен. Из обломков в бурлящей, студеной воде выбрались только двое: Шевелев и бортмеханик В. С. Чечин. Шевелев узнал, почем фунт арктического лиха. Но не испугался. Зимой того же года он принял предложение академика О. Ю. Шмидта организовать воздушную службу только что созданного Главного управления Северного морского пути.
После эпизодических разведывательных полетов летчиков Б. Г. Чухновского, М. С. Бабушкина, О. А. Кальвицы и немногих других под руководством молодого начальника полярной авиации началось систематическое изучение Арктики как театра действия авиаторов. Появились имена новых пионеров: А. Д. Алексеева, М. И. Козлова, В. М. Махоткина, Н. Л. Сырокваши, И. И. Черевичного. А потом была челюскинская эпопея, давшая огромный опыт все еще юной полярной авиации. К тридцати годам Шевелев уже знал, что такое ответственность руководителя, но еще не успел ощутить ее тяжесть, ограничивающую решимость.
Шевелев принял предложение Зяблова, и этим двум людям принадлежит честь создания прецедента, небывалого в истории разведки земных недр.
ОТКРЫТИЕ ВИКТОРА БОГДАНОВА
Таким образом, еще в Москве было предрешено сотрудничество между авиаторами и геологами Чукотки. Но ни Шевелев, ни Зяблов не представляли, удастся ли летчику найти место для посадки в горах. Может, на первой же посадке он поломает машину. Если Зяблова не страшили горы, то Шевелев понимал, что авария самолета без радио, в отдаленной и необитаемой местности обрекает экипаж почти на верную гибель.
Исполнитель их проекта должен обладать многими качествами. В первую очередь отважным характером. Выбор пал на летчика из отряда Конкина — Виктора Степановича Богданова. Его только что приняли в полярную авиацию после демобилизации из армии.
В тот год Виктору Богданову тоже было тридцать лет. Я близко видел его в работе и скоро понял, что для этого человека не было задач слишком трудных и риска слишком большого.
В предыдущей главе в другой связи я кратко упоминал о перелете Богданова через Анадырский хребет из Ванкарема в залив Креста. Сейчас, не повторяя сказанного, замечу, что с этого первого полета на Чукотке проявились бесстрашие и пионерский характер летчика Богданова. Радиосвязи с экспедицией Зяблова еще не было, вылетая, Богданов даже не знал, найдет ли посадочную площадку на берегу залива. В наши дни полет без радиосвязи, без обеспечения полета погодой и аэродромом — летное преступление, а тогда иначе и летать было нельзя.
Базу геологов нашел и посадку возле нее Богданов сделал, но самих геологов не застал. Они ушли за хребет пешком. Оставив на земле механика Банина, долив бензина, Богданов вылетел искать людей в незнакомых ему горах. И не только нашел их, но отыскал место для посадки невдалеке. Посадив на самолет Зяблова и его помощника Кремчукова, он полетел с ними дальше, на Амгуэму. И там на речных отмелях тоже нашел посадочную площадку.
Вот я говорю — полетел, нашел, сел, и, наверное, читатель, вам покажется все это простым и доступным. Вспомните, что, идя в незнакомый лес по грибы, вы и то порой опасаетесь заблудиться. Для того чтобы оценить поступки Богданова, надо представить себе далекую, практически безлюдную, огромную и суровую местность, маленький самолет и на нем такого же, как вы, еще молодого и малоопытного человека с его сомнениями, опасениями и даже страхом. И, только вообразив это, можно сказать, что у этого парня были мужественное сердце и большое желание делать дело, которое он любил.
За сентябрь 1935 года Богданов налетал с геологами 63 летных часа. Колоссальная цифра! Летчики предыдущего отряда Павленко столько часов не налетали за весь год зимовки.
Богданов перебрасывал геологов, топографов и рабочих на полевую базу, организованную им на Амгуэме, и совершал с ними разведывательные полеты в близлежащие места. С наступлением зимы Богданов благополучно вернулся на авиабазу у мыса Северного, оставив геологов в уверенности, что самолет в их обиходе вещь надежная и крайне необходимая.
А КАК УЧИЛИСЬ ПОЛЯРНЫЕ ЛЕТЧИКИ
Геологи не сомневались, что с наступлением весны Богданов прилетит вновь и поможет им добраться до «точки Серпухова». Однако после науканской эпопеи работать с геологами Конкин предложил мне. Я спросил:
— Почему не Богданов, Евгений Михайлович?
— Двоих вас не могу, а оставить его одного нельзя!
Такой ответ меня озадачил. Как же так? Богданов так блестяще доказал свои способности — и вдруг такое отношение. Видя мое недоумение, Конкин разъяснил:
— Богданов показал себя мастером штучной работы. И он ее выполнил. Начинается однообразная повседневность. Здесь требуются иные качества. Спокойная, осмотрительная уравновешенность. Смелость, понятно, тоже нужна, но прежде всего — трезвая осмотрительность, склонность к систематичности, даже педантизм. Думаю, что для этого ты больше подходишь. Ты недоволен?
— Я доволен и польщен, но не хочу, чтобы Виктор обиделся. Да и после него завоевать авторитет будет трудно.
— Ну трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать. А Виктор не обидится, я уже говорил с ним. В его характере, на мой взгляд, есть недостаток, существенный для рядового летчика. Однообразие ему противопоказано: тут он может сорваться. А ты не робей, не боги горшки обжигают!
У меня еще не было достаточно опыта, чтобы судить тогда о справедливости этих слов, но позднее я убедился в правоте Конкина. В летном деле Виктор был артистом, и без аплодирующей публики его талант не раскрывался.
В середине мая 1935 года мы с Богдановым на двух У–2 прилетели с мыса Северного в бухту Оловянную. Так геологи назвали свою базу в заливе Креста. Со мной был Митя Островенко, а с Виктором — Сергей Банин. Первоочередной задачей Конкин поставил перед нами обследовать место аварии Буторина, а мне, как председателю аварийной комиссии, составить акт на списание самолета Н–43. После этого Богданов должен вернуться на авиабазу, а я остаться у геологов.
Расспросили Кремчукова, где он обнаружил Н–43, и, взяв на свои самолеты по одному человеку экспедиции, вылетели к месту катастрофы. С Богдановым летел астроном–геодезист А. В. Теологов, со мной — его рабочий, замечательный парень Коля Шкробот. По пути Богданов показал мне с воздуха площадки, на которых садился, а на базовой площадке у Амгуэмы мы произвели посадку. Прямой нужды в этой посадке не было. Я просил об этом, чтобы практически, колесами, опробовать посадочную площадку в горах. Та, на которую мы сели, разочаровала меня. Ровная отмель на слабо выраженной излучине реки, с твердым песчаным грунтом. Подумаешь, какое дело, решил я, на такой площадке всякий дурак сядет. И попросил у Виктора согласия идти первым, самому выбрать следующую площадку для высадки Теологова и Шкробота. Условились, если Виктор одобрит мой выбор, то даст знак согласия. Так и сделали.
В двадцати километрах от первой посадки я обнаружил, как показалось, подходящую косу у реки. Виктор не возразил, и я смело пошел на посадку. Но, о ужас! Мелкая галька, какой она казалась с высоты, оказалась крупным булыжником с неровной поверхностью. Машина прыгала, гремела костылем, содрогаясь на промоинах и от ударов по крупным камням. Но остановилась, удивив меня тем, что не развалилась на составные части. Хотя один трос расчалок шасси все же оборвался. Так я убедился, что определять с высоты пригодность площадки дело непростое, каким показалось сначала. Задержав Богданова в воздухе минут на двадцать, мы трое изрядно потрудились, расчищая и выравнивая площадку.
Когда приземлился и Богданов, я с обидой спросил:
— Почему же ты дал согласие на такую скверную площадку?
— Если водить человека за руку и выбирать ему дорогу без ухабов, толку не будет. Я был уверен, что машину ты здесь не разобьешь, зато поймешь, что определять на глаз посадочность площадки нелегко. А это главное для тебя. Впрочем, и такими площадками брезговать нельзя. Будут места и похуже…
Сменив трос и оставив группу Теологова с палаткой и продуктами, налегке мы вылетели к аварийному самолету. Я попросил Богданова доверить мне выбор новой площадки. Но около Н–43 ничего подходящего не оказалось. Самолет лежал на склоне сопки. Подходящее место я обнаружил километрах в шести севернее, ближе к Амгуэме. Оно представляло собой так называемую старицу — замытое и заросшее русло одного из притоков Амгуэмы. Площадка казалась идеально ровной, травянистой, но очень маленькой. И подходы к ней были ограниченны: с одной стороны трехметровый обрыв к реке, с другой — возвышенность, полукругом обнимающая старицу с севера от начала и до конца. Садиться можно только со стороны обрыва, а взлетать с противоположной стороны. Рискованно, но что поделаешь, ничего лучшего в пределах видимости не было. К самолету Буторина предстояло добираться на своих двоих по дикому камню, в гору, и, естественно, каждый километр играл для нас большую роль. После детального рассмотрения и некоторых колебаний я решил садиться, а Виктор не возразил.
Даже не обладая богатым воображением, можно представить, что чувствует летчик, ведущий самолет на посадку со скоростью сто километров в час и видящий перед собой всего в ста метрах гору. Казалось, что машина ни за что не успеет погасить скорость и остановиться. А тогда ярко светило горное солнце, слепила глаза вода, струящаяся под обрывом. Вот уже край площадки. Стремительно приближается ко мне гора. На посадочной скорости за секунду самолет пролетает двадцать метров. Опоздать на секунду — наверняка разбить машину; площадки не хватит. Сбросить газ надо в то почти неуловимое мгновение, когда все три точки — колеса и костыль — минуют край обрыва. Не раньше и не позже! Сердце замерло: пора! Машина бежит, и я изо всех сил, совершенно инстинктивно, тяну ручку на себя. Несколько секунд страха, и самолет останавливается в десяти метрах от канавы под горой. Перевожу дыхание и отруливаю на широкую сторону старицы, освобождая место Богданову. Мне хорошо, я могу смеяться, воображаю, каково сейчас Виктору. Колеса его самолета коснулись площадки, когда хвост был еще за обрывом. Костылем он сорвал с него кусок дерна.
Честно признаюсь, что этот маленький просчет моего учителя вдохновил меня — так уж устроена человеческая психика, и тут ничего поделать с собой нельзя. Выключив мотор, вытирая пот со лба, Богданов подошел ко мне:
— Ну, брат, и страшно же садиться на гору, будь она неладна! А ты молодец! Расчет у тебя есть, а это в горах главное.
Мы добрались до самолета Буторина, осмотрели последнее пристанище наших товарищей, погрустили и к вечеру вернулись на базу геологов. На следующий день Виктор распрощался с друзьями и улетел к Конкину, а мы с Митей остались в экспедиции на все лето.
Геологи не скрывали своего огорчения сменой летчиков, считая, что равного Богданову не будет. Когда Виктор собрался улетать, все работники экспедиции, до повара включительно, вышли его провожать. Каждый хотел пожать ему руку, сказать доброе и теплое слово. Некоторые приготовили записки со своими московскими адресами и зазывали в гости, как дорогого человека. Я и сам восхищался отвагой Богданова, но, не скрою, завидовал его авторитету в экспедиции. Смогу ли я добиться того же?
ВОТ ТАКАЯ БЫЛА ЭКСПЕДИЦИЯ
Шла вторая половина мая. Это была первая наша весна в Арктике, и мы с Митей дивились тихим и жарким дням на широте Полярного круга. Прилегающая к заливу тундра уже освободилась от снега, он сохранился лишь местами, в лощинах. Расцветали микроскопические, пахнущие сыростью, но такие отрадные для глаза полярные подснежники. На льду залива появились забереги и проталины. А на севере призывно и таинственно сверкали белыми шапками острозубые горы. За ними была Амгуэма, место гибели Волобуева и дорога к «точке Серпухова».
Полевые партии заканчивали подготовку к переброске на Амгуэму. Более трех месяцев они не возвратятся на базу. Каждый начальник партии стремился увезти за хребет как можно больше запасов. В обход Зяблова, лимитировавшего загрузку самолета, они поочередно уговаривали меня взять побольше их имущества.
По плану только одной партии предстояло работать на южном склоне хребта. Осетин Мамшур Бритаев прошлой осенью обнаружил там полиметаллическое месторождение и должен определить его перспективность. Бритаев должен добираться до своего участка на катере «кавасаки» и ждал шторма, который разломает и вынесет из залива лед. Остальные четыре геологические партии и два топографических отряда рассчитывали только на самолет.
Зяблов решил продвигаться к «точке Серпухова» с попутной разведкой. Исходной точкой он определил устье Тадлеана, впадающего в Амгуэму. От береговой базы до этой точки по прямой было 130, а для пешего движения — без малого 200 километров. Еще осенью они пытались перебраться за хребет на привезенных вездеходах, но машины не смогли преодолеть каменных завалов в ущельях. Это «открытие» резало план Зяблова под корень. Достижение заданной цели с южного побережья Чукотки оказалось невыполнимым. Перенести все необходимое для многомесячной работы на плечах немыслимо. Экспедиция теряла смысл, а ее начальник должен понести ответственность за срыв важного задания. Виктор Богданов спас экспедицию от позорного провала. Вот почему мои подопечные взирали на самолет, как на чудо, с нежностью и надеждой.
Очень непросто за короткое время сформировать работоспособный коллектив из людей, до того не знавших друг друга. Не просто это и в обжитых местах, где легко заменить не оправдавшего себя работника. Ошибочная оценка человека, направляемого в Арктику, может стать трагической. Ни заменить какого–нибудь «психа» или лодыря, ни отправить в другое место возможности не будет. Поэтому поистине удивительным представился мне великолепный ансамбль специалистов и рабочих, какой удалось сформировать Зяблову. Прежде всего, подсобные рабочие были мастерами разных специальностей: плотниками, слесарями, механиками, подрывниками и т. п. Как один, инициативные, сообразительные, развитые, с большими запросами к жизни. Среди них я не заметил бездумных и равнодушных исполнителей.
Зяблову был 31 год. Большинству его соратников не исполнилось и тридцати. Это были романтики в самом хорошем смысле слова. Жизнерадостные, готовые с юмором встретить любые трудности. Такими мне памятны: старший рабочий Павел Ольхов, великий умелец Твердохлебов, весельчак–одессит Коля Шкробот, Петя Лутченков, повар Костя Соколов, водители вездехода Кароль и Безайс. На базе ими командовал завхоз, уже пожилой человек, К. Б. Ярославцев. И присутствие этого человека — одна из самых больших удач Зяблова. Как известно, по прибытии в Арктику всегда обнаруживается отсутствие многих вещей, пустяковых в условиях материка и незаменимых в отрыве от благ цивилизации. В таких условиях заведующий хозяйством экспедиции так же значим, как боцман на корабле. По–хозяйски сохранить, разумно использовать имеющееся, из подручного материала изобрести недостающее — в этой области наш Кузьма Борисович оказался корифеем. И еще он отличался талантом воспитывать в людях бережливость и поощрять каждую полезную выдумку. За все эти качества Ярославцев пользовался непререкаемым авторитетом.
Прошу вас, читатель, извинить за столь длинные подробности. Считаю их важными, ибо вам приходится или придется тоже искать секрет успеха в деле, которого добиваются хорошие организаторы. А секрет этот не столь хитер, если вы любите свое дело, думаете о нем, воспитываете в себе наблюдательность и предусмотрительность. А главное — уважаете подчиненных вам людей, видите в каждом из них личность, а не слепого исполнителя вашей воли. И в этой части М. Ф. Зяблов оказался под стать Павлу Гроховскому. Моральный климат экспедиции отличался деловитостью и одновременно демократичностью. Михаил Федорович был прост в обращении, тверд в слове, отзывчив на чужое горе.
В экспедиции было пять геологов; сам Зяблов, главный геолог Ю. А. Кремчуков, начальники партий — М. Д. Бритаев, С. В. Культиасов и комсомолец Дима Килеев. Их работу обеспечивали топографической съемкой инженер — геодезист и астроном А. В. Теологов, топографы Асанов и Степанов.
Экспедиция обосновалась на пустынном мысочке в середине восточного берега залива Креста. Под прикрытием мыса природа создала уютную бухточку, удобную и для разгрузки пароходов, и для посадки гидросамолетов. Бухту назвали Оловянной, по имени той цели, ради которой приехали.
У основания мыса построили три фанерных домика системы инженера Романова, как и на анадырской мерзлотной станции. В одном домике разместились камбуз (кухня) и кают–компания (столовая, библиотека, клуб). В двух других тесно, но весело и по–добрососедски жили люди.
К «ТОЧКЕ СЕРПУХОВА»
Моя работа началась на другой день после отлета Богданова. Вначале я полетел на базу № 1, открытую Богдановым на Амгуэме. Оставил там Митю, продуктов для него на неделю, палатку, примус и запас бензина для самолета. Потом стал перевозить геологические партии с их снаряжением. С каждым полетом уменьшалась моя боязнь перегрузки самолета, росло уважение к этому маленькому и безотказному работяге. А он отвечал мне тем же, поднимая с каждым разом все больше и больше. За два дня было сделано главное: все партии оказались за хребтом на исходной точке. В конце мая практически не было ночи, и я летал до «упаду». Пока я спал, Митя заправлял, осматривал, и, если требовалось, делал профилактику самолету и мотору.
Каждый может вспомнить волнующие минуты, когда он впервые увидел что–то, поразившее его своим величием или красотой. Это могут быть море или степь, тайга или горы. Или просто лес и река под голубым небом для коренного горожанина, большой город для жителя таежной заимки или заполярного поселка. Но как объяснить, что такое еще никем не виданное, не троганное? Как передать восторг первого узнавания?
Люди, которых я доставлял на Амгуэму, долгие месяцы мечтали о ней, знали, что станут первыми ее землепроходцами, готовились к лишениям и трудностям необитаемой местности. Но не ожидали увидеть того, что предстало их глазам…
В районе базы № 1 горы довольно далеко отступили в стороны, образовав широкую холмистую долину с множеством озер. Хозяйкой этой горной долины была река. Вобрав в себя многочисленные ручьи и речушки, сбегавшие с гор, сильная, полноводная, она выбирала дорогу в океан с фантазией одушевленного существа. Прямые и широкие плесы сменялись неожиданными поворотами, капризными зигзагами. Срезав бока у группы сопок, она убегала от них на простор или к сопкам другого берега. Кое–где она была узка, глубока, быстра, а местами казалась недвижимой в своем широком ложе. На поворотах река оставляла отмели, иногда до удивления ровные и длинные, как аэродромы, выстланные песочком, иногда короткие, из грубого камня, с валунами и поперечными промоинами.
Вот перестал стрекотать мотор, остановился винт, тугой и холодной струёй обдувавший лицо, и человек сходил с самолета на землю с ощущением ее открывателя. Он вдыхал чистейший горный воздух, нагретый щедрым майским солнцем Заполярья, улавливал тонкий запах цветущего дикого лука, растущего здесь, видел эмалевую голубизну неба над головой, сиреневые провалы между гор, и ему, готовому сражаться с чем–то, что потребует всех сил, становилось легко и удивительно радостно.
Осматриваясь, он замечал, что в прозрачной воде играет рыба, по берегам растет кустарник, изумрудными пятнами зеленеет молодая травка, а на ближайших озерах неисчислимое количество диких гусей и уток. Ого! Здесь не пропадешь! — соображает человек. После надоевшего однообразия ледяного поля залива, бурой тундры его берегов, все видимое здесь, в ярком свете солнечного дня, не только радует глаз, но и дает уверенность, что не так уж страшны эти горы, и предстоящее не будет столь трудным, как воображалось.
Уже пережив подобное, я с любопытством наблюдал эти психологические трансформации в моих пассажирах. Более степенные стеснялись своих эмоций, но не могли скрыть возбужденного, приподнятого состояния духа. Некоторые свой восторг выражали открыто, в основном междометиями. А Петя Лутченков, спрыгнув с самолета, сделал сальто и прошелся на руках.
Эти люди остро ощущали восторг приобщения к чуду. Почти для всех таким чудом явилось первое в жизни воздушное путешествие, да где? На краю света, через хребет, долгие месяцы казавшийся неприступным. В их зрительной памяти еще стояли каменистые берега залива, кручи хребта, шальные повороты и пороги Тадлеана, которые надо было преодолеть с рюкзаком за плечами. Их ноги ощущали силу, не истраченную на столь изнурительный путь. Теперь они здесь, вблизи искомого клада, и каждому мечталось, что ему улыбнется удача.
Они еще не знали, что ждет их в этих горах, когда пойдут в маршруты, что увидят за ближайшим поворотом реки. Но на западном горизонте синели шлемы Центральных гор, там находился полюс их надежд — заветная «точка Серпухова». До нее еще сотни километров, и ощущение первого шага по неизведанной земле возбуждало честолюбие открывателей даже у подсобных рабочих.
Я мог бы рассказать, что вместе с Зябловым и Кремчуковым делал рекогносцировочные полеты в горы. Зяблов определял с воздуха интересные для геолога массивы и просил найти площадку в этом районе. Я находил их на отмелях и старицах Амгуэмы и ее притоков, называл базами под номерами: вторая, третья и т. д. Перевозил очередную партию, и она уходила в разведку. Такой рассказ был бы точной, но неполной и скучной правдой. Слова служебного донесения не могут отобразить того состояния духа участников экспедиции, которое лучше всего выражают такие понятия, как вдохновение и энтузиазм. Впервые в истории геологии разводчики недр пользовались самолетом, как городской житель такси. Они знали, что в назначенный день самолет прилетит, привезет продукты или заказанные вещи, а потом перебросит на новую точку.
На побережье нередко бывало ненастье, а в горах держалась отличная погода. Я налетывал по сто часов в месяц, делал по двести посадок и в рабочем напряжении не замечал, как летят дни. Примерно в июле как–то вдруг удивился, что все идет как часы! Что наш авторитет у геологов не уступает авторитету моего учителя Богданова. К такому итогу меня подтолкнул Митя:
— Помнишь, как в мае мы завидовали Богданову, боялись, что не справимся?
Задумавшись над сказанным, я поразился другому. Черт возьми! Я же здесь один знаю, кто где находится. Вот и Митю высаживаю первым, одного оставляю «делать» площадку, с незначительным запасом продуктов. А случись что со мной, он же пропадет ни за что! Все люди экспедиции в горах. Пройдет недели две, пока Ярославцев в Оловянной встревожится, почему я не прилетаю на базу, и сообщит Конкину. Хорошо, если Богданов близко от авиабазы, не связан судьбой других людей и прилетит быстро. Но и ему потребуется не один день на поиски.
Эти мысли вызвали во мне признательную нежность к Мите. Это его светлая голова, умелые руки помогают самолету и мотору служить без недомоганий. Отсюда и моя смелость. Но сказал я ему другое:
— Митя! Успехи рождают беспечность. Мы теряем бдительность. Вчера я высадил Анатолия Васильевича (астронома Теологова) со Шкроботом на пятой базе и вижу, что, кроме инструмента, они ничего не взяли. Спрашиваю: где палатка, продукты? Привезешь следующим рейсом! Это же черт знает что! А если я не смогу прилететь? В лучшем случае будут бедствовать. Прошу тебя, последи, чтобы ребята в первую очередь брали необходимое для жизни. Инструмент подождет и следующего рейса.
СЛУЧАЙ В ГОРАХ
Подрывник Петя Довгаль и экспедиционный повар Костя Соколов работали с Бритаевым в западном фиорде, на южной стороне хребта. Снабжением эту партию обслуживал «кавасаки» водителя Безайса. Продукты кончились, а катер не приходит. Бритаев направил ребят в Оловянную пешком. Это примерно шестьдесят километров по берегу залива. Прошли километров двадцать, и Довгаль присел на валун перевернуть портянку. Собирая цветочки и напевая, Костя ушел вперед. Неожиданно, откуда ни возьмись появился бурый медведь типа «гризли», которые водятся в горах Чукотки. У Кости в руках была малопулька, за спиной рюкзак. Надо заметить, что в экспедиции Костя был единственным тщедушным и малосильным парнем. Медведь, не раздумывая, бросился на Костю. Тот упал на спину, стал отбиваться ногами и малопулькой, заорав, что называется, благим матом. Услышав «звуковые сигналы» товарища, увидев, что происходит, Довгаль схватил увесистый булыжник и, подбежав, ударил медведя по голове. Тот зарычал от боли, встал на задние лапы и вступил в борьбу с человеком. Поговорка, что медведь неповоротлив и медлителен, не соответствует истине. У него реакция боксера, точные молниеносные движения и сила, которая не случайно называется медвежьей.
Для Довгаля этот бой окончился многими травмами. Медведь оторвал ему половину уха, перебил нос, повредил плечо и коленную чашечку, а также «скальпировал значительную часть прически». Лоскут кожи с волосами закрыл Петру глаза, но и, ослепленный, он продолжал молотить врага камнем до тех пор, пока тот не счел за лучшее покинуть поле боя.
Надо сказать, что такой поединок в экспедиции мог выдержать не каждый. У Довгаля было росту без малого два метра, чему соответствовала и физическая мощь.
Несмотря на полученные увечья, Довгаль дошел до Оловянной и только здесь, на пороге дома, упал, потеряв сознание.
ПОДДАВАТЬСЯ ИСКУШЕНИЮ — НЕ ЛУЧШИЙ СПОСОВ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕГО
В середине лета геологи, вместе с ними я, освоили долину Амгуэмы до ее верхнего течения. Чем дальше к верховьям, тем мельче и уже становилась река. У нее уже не было сил делать площадки для моего У–2. В одном из разведывательных полетов с Зябловым и его постоянным спутником Кремчуковым мы подошли к месту, где Амгуэма меняет имя. Выше по течению она называется уже Вульфгуэмой.
Представьте себе, читатель, каменный барьер высотой в небоскреб, а точнее — около ста метров. К западу этот барьер повышается волнистыми уступами и переходит в горы с кривыми промоинами на склонах и крутыми распадками меж сопок. В одном месте этот барьер разрезан каньоном, на дне которого с камня на камень прыгает, сверкая изгибами струй, шаловливый ручей. В таком виде нашим глазам предстала Вульфгуэма.
Бурное таяние снегов в горах каждой весной превращало ручей в могучий водопад, легко ворочающий тысячетонные камни. Сколько тысячелетий работала эта сила — неизвестно, мы видели лишь результат: каньон, разорвавший гранитный барьер.
В каменном завале дна каньона каким–то чудом образовалась узенькая бровка подошвы одной из стен. Она казалась достаточно ровной, но имела значительный уклон вверх. Зяблов жестами показал мне, чтобы я рассмотрел эту площадку.
Когда мы возвратились из разведки на четвертую базу, оба геолога воззрились на меня с надеждой. Они уже уверились, что я могу сделать не меньше Богданова, и просили высадить их на этой площадке. Большая половина лета позади, найдено много интересного, но главное осталось еще не сделанным. Если я рискну сесть на Вульфгуэме, то до «точки Серпухова» останется километров пятьдесят. От четвертой базы до Вульфгуэмы километров сорок, и туда–обратно геологи выиграют восемьдесят километров нелегкого пути с полной выкладкой.
Общий настрой на близкую победу, какой представлялось достижение «точки Серпухова», не мог не захватить и меня. Мы жили одним интересом, и цель экспедиции притягивала все наши помыслы, как магнитный полюс стрелку компаса. И, кроме того, такая посадка для моего честолюбия представлялась профессионально интересной. Короче говоря, я пришел к выводу, что лучший способ избавиться от искушения — поддаться ему. Геологи снарядились для большого пешего похода, и мы взлетели снова. В баках я оставил половинную заправку бензина.
Прилетели. И с бреющего полета вдоль стены каньона я стал всматриваться в найденную полоску. Рассмотрел, что, помимо уклона вверх, она имела наклон вбок, к ручью. Поверхность представляет собою слабо обкатанный камень. Садиться придется в одном направлении, а взлетать в обратном. В направлении посадки мой У–2 не вытянет крутой подъем.
И вот здесь возобновилась борьба с искушением, окончившаяся поражением осторожности. Я сделал эту посадку, и трудно понять, почему на ней моя карьера у геологов не закончилась позорным крахом. Как, казалось бы, ни тщательно я все высмотрел — уклоны в гору и к ручью оказались большими, чем я предполагал. Машина пробежала метров сорок, и ее увело в ручей.
Самолет остановился боком и наклонившись мотором к воде, так как хвостовой костыль занимал более высокую точку опоры, нежели колеса. Камень площадки оказался еще более острым и менее ровно выложенным, чем представлялось мне с воздуха.
Выйдя из машины, посмотрев на стену каньона одной и другой стороны, на каменный завал, круто уходящий вверх, я почувствовал, что руки дрожат и я не могу стоять. Такая наглость, как эта посадка, должна быть наказана самым суровым образом. Самолет был обязан скапотировать на винт, а резина колес должна быть изрезана камнем. Но, как видно, богиня удачи стояла на страже и лицом ко мне. Только я не представлял, как теперь улечу отсюда…
Чтобы не затягивать рассказ, я воздержусь от описания самочувствия геологов, о том, какого труда стоило с их помощью вырулить на обратный курс и т. д., опишу только взлет.
Машина обращена мотором в просвет между стенами каньона. Стоит боком, так как из–за наклона площадки правое колесо ниже левого. Слева, на расстоянии шести метров от крыла — стена, справа, на таком же расстоянии, — ручей и каменный завал за ним. Штиль, ветер мне не поможет, но за него сработает уклон, я буду взлетать с горки. Надо удержать машину при разбеге на прямой, но она будет стремиться развернуться в реку. Сижу, мотор работает, сердце колотится о ребра, а я все не решаюсь дать газ. Геологи с бледными лицами стоят у крыльев слева и справа, смотрят на меня больше чем с тревогой. Надо преодолеть слабость и дать газ. Проклятое «надо»!
Соображаю, что противодействовать стремлению самолета развернуться будет руль поворота, когда винт разовьет максимальные обороны. Поставил геологов с обеих сторон самолета и говорю:
— Держите за консоли, сколько хватит сил. Почувствуете, что больше не можете, — отпускайте одновременно!
Как и ожидал, машину по склону повело к ручью, и, когда мне казалось, что произойдет то, что и должно было произойти, я почувствовал, что уже в воздухе. Чудо совершилось вторично, что противоречит законам всяческой вероятности. Я не могу похвалиться, что хотя бы мысленно закричал «ура!». Наоборот, настоящий страх, до дрожи в коленках, до темноты в глазах, сковал все мое существо. Не знаю, как дошел до площадки, где ожидал Митя. Выкарабкавшись из самолета, я лег под крылом и не отвечал на Митины вопросы…
Я был молод и здоров. Отошел быстро, но воспоминания о посадке на этой, шестой несостоявшейся базе не вызывали у меня чувства гордости за пережитое перед самим собой унижение. Самое обидное, что вернувшиеся через восемь дней геологи сообщили, что «точки Серпухова» не нашли…
«Белое пятно» на карте, которое фактически занимали Центральные горы, оказалось орешком не по зубам тому времени. Пройдет еще немало лет, аэрофотосъемка даст геологам точнейшую карту, и другие люди, с более мощной техникой, нежели мой У–2, раскроют богатства этого района.
Зяблова и его товарищей на какое–то время обескуражило, что главная цель поиска недосягаема. Однако их не покидало ощущение, что они ходят вблизи от других кладов. Во многих местах шлихи давали признаки олова, золота, молибдена, а коренное месторождение в руки не давалось. Для такого огромного района наличных сил экспедиции да и времени одного сезона оказалось недостаточно. Но проделанная работа подготовила почву для фундаментального открытия, сделанного новой сменой геологов. Далеко в стороне от гипотетической «точки Серпухова», вблизи нижнего течения Амгуэмы, счастливчик Володя Миляев, еще студент, подберет кусок вольфрама величиной с голову ребенка и сделает знаменитой Иультинскую сопку. Но об этом речь впереди. Сейчас расскажу о другом эпизоде, который и меня заразил золотоискательством.
ЗОЛОТО ПИКА ГРАНИТНОГО
В конце июля 1936 года Сергей Васильевич Культиасов получил от Зяблова задание провести визуальную (глазомерную) рекогносцировку той части хребта, которая примыкает к заливу Креста. Анадырский хребет в этом районе похож на острозубую пилу. Некоторые вершины поднимаются на тысячу метров от основания, пять или шесть вершин достигают 1750 метров. Анадырский хребет в сочетании с заливом Креста я и до сих пор считаю одним из чудес, сотворенных природой. Это самое красивое место на всем протяжении от Берингова пролива до гор Скандинавии. Своей неизведанностью эти горы манили геологов, как верующих райские кущи. Во время поисков самолета Волобуева я видел эту часть хребта в зимнем наряде, сейчас предстояло рассмотреть обнаженным. Моральная травма от посадки на шестой базе уже потеряла свою остроту, и в этом полете я едва не погорел снова. Но по порядку…
В ясный и тихий день мы облетывали лабиринт ущелий и узких горных долин, всматриваясь в склоны гор. Культиасов по цвету определял порфириты, диабазы, базальты, граниты, высматривал в них изломы и сбросы, прожилки включений в основную породу. Для него это была впервые открытая увлекательная книга. Он умел читать такие книги, и его не смущало, что на этот раз страницы переворачивались одна за другой очень быстро. Иногда он просил меня еще раз пролететь над заинтересовавшим его местом, я снижался до предела, и он наносил на свой планшет какие–то значки.
Внимание мое было напряжено, руки и ноги были в готовности исполнять любую команду, чтобы уклониться от опасности, близость которой была реальной: то с одной, то с другой стороны в считанных метрах от крыла проползали каменная осыпь или отвесные стены.
В этот день атмосфера была удивительно спокойной. Мотор послушно прибавлял или снижал обороты, а самолет опускался или поднимался ровно настолько, насколько я того желал. Через некоторое время нервное возбуждение улеглось, и началась спокойная работа. Самозабвенное творчество, а не полет. Я вполне овладел обстановкой и собой, давая возможность Культиасову видеть не только очередную страницу загадочной книги, но и отдельные абзацы на ней. Могучие складки планеты лежали передо мной, необычно смирные в спокойной дреме летнего полудня. Ни кустика, ни деревца. Между граней — снег. Освещенный солнцем, он искрился и слепил глаза, на теневой стороне казался голубым, почти дымчатым. В уступах притаились небольшие ярко–синие леднички, далеко внизу меж камней пробирались ручейки, возникавшие на моих глазах из струек таявшего в высоте снега.
В одном месте мы пролетели над узким горным озером, вода в котором была красивого изумрудного цвета. Около пика Гранитного Культиасов задержал меня минут тридцать. Мы опустились к самому подножию, поднялись выше и облетели его со всех сторон несколько раз. Он передал мне записку: «Ищи посадочную площадку!» Садиться здесь на первый взгляд казалось безумием. Это был конец водораздельного ущелья, где начинал свой путь к океану один из притоков Ванкарема. Дно теснины было завалено крупными глыбами гранита и кварца. Ее ширина у подножия гор не превышала 150 метров. Среди камней серебристой змейкой сверкал на солнце ручей.
Наконец Культиасов дал знак возвращаться. На базе мне бросилось в глаза необычное возбуждение всегда уравновешенного геолога. Казалось, он хочет что–то сказать, но не решается, как будто обдумывает важный для себя вопрос и боится поспешить. Когда дозаправились бензином, он наконец не выдержал:
— Михаил Николаевич! У Гранитного надо сесть!
— Ты же видел, что там творится. Сесть–то можно, но возвращаться придется пешком, машина будет побита.
— Все равно надо сесть! Даю голову на отсечение, что там есть коренное золото.
— Ну и что из того? — заметил я, вспомнив предупреждение Конкина «не терять головы и не поддаваться искушениям фанатиков–геологов».
— Как что? Разве не ясно, что золото стоит битой машины? Убежден, что, не сходя с места, оплачу ее наличным золотом!
Я призадумался. Культиасов был геологом с большим стажем, в экспедиции с его мнением считались. По характеру этот человек не был способен на действия под влиянием эмоций. А на чем же базируется его уверенность? Горы здесь кругом богатые. Уже найдены выходы мышьяка, сурьмы, свинца, цинка, серебра. Почти во всех шлихах обнаруживаются признаки золота. Открытие где–то рядом. Казалось, что мы все ходим около него и оно вот–вот явится нашим глазам. Атмосфера в экспедиции была наэлектризована ожиданием и большими надеждами. И вот в такой момент Культиасов приходит к убеждению, что именно ему попало в руки перо сказочной жар–птицы. Такая сильная убежденность не могла оставить меня равнодушным. Не скрою, что и меня увлекла возможность быть причастным к открытию, о котором говорит Культиасов. Для очистки совести я переспросил:
— Стоит ли свеч эта игра?
Культиасов, уже чувствуя мое согласие, обрадованно перекрестился и ответил:
— Если вернемся пустыми, руби мою седую голову!
В экспедиции надо мной начальников не было. Я был, что называется, «сам себе агроном». По просьбе геологов я сажал самолет там, где считал возможным, и, не хвалясь, могу сказать, что набил руку на весьма рискованных посадках.
— Приметил я там один бережок. Узкий, правда, метров двадцать всего, но длины, пожалуй, хватит. Только уж больно крупный и острый камень. Давай посмотрим еще разок, может, решусь испытать твое счастье! — ответил я Культиасову.
Мы поднялись в воздух снова. Над примеченной площадкой я пролетел раз восемь. Ее высота над уровнем моря достигала 500 метров, и прилегала она к крутому склону гребня высотой метров 800. Одна сторона площадки обрывалась к ручью, за которым до самого подножия пика Гранитного был каменный завал. По–видимому, в период весеннего снеготаяния ручей становился бурным потоком. Пик Гранитный возвышался крутой стеной более чем на 1000 метров, загораживая северную сторону небосклона. Его бока были испещрены кварцевыми жилами.
Рассмотреть площадку было довольно трудно. На высоте 200 метров от ее уровня надо было заходить на водораздельное седло, разворачиваться в примыкающей долине и бреющим полетом планировать над склоном до самой площадки в сторону ущелья. Пролет площадки занимал всего три с половиной секунды, а маневр для повторения захода — почти четыре минуты. В результате повторных заходов в моем распоряжении оказалось всего 27 секунд на изучение площадки. Мало! И все же я определил, что площадка сложена из слабо обкатанного камня величиной с арбуз, в расщелинах росла трава и запоздало желтели полярные маки. Посадка даже на столь узкую площадку с таким покрытием не представлялась мне невозможной, если бы на ней в створе пробега не лежали два громадных валуна. Прямая линия пробега исключалась. Посадив машину, я должен буду сделать одну за другой две змейки. А консоль крыла и без того проходила над линией обрыва. Куда легче было бы садиться навстречу склону, но в этом случае мотор не вытянул бы меня, если бы в последний момент я увидел препятствие и решил уйти на второй круг.
Я заколебался и оглянулся на Культиасова, как бы призывая его к благоразумию и показывая, что риск слишком велик. Но Культиасов видел только гору с мерещившимся ему золотом. Он ответил мне умоляющим взглядом, и у меня не хватило решимости ему отказать. Ну будь что будет!
В нужном месте почти падаю колесами на камни. Машина прыгает, трясутся крылья, хвостовой костыль гремит, высекая искры из булыжника, но я как зачарованный гляжу только на валун в середине площадки: я должен уловить мгновение для змейки. Вот оно! Резко даю ногу влево, в сторону обрыва, и тут же обратно. Машина вильнула ровно настолько, чтобы валун прошел мимо колес, и устремилась навстречу другому. И тут только мой мозг пронзила мысль, что уклониться от него я не смогу, так как скорость погаснет и руль направления не сработает. На короткое мгновение сердце поднялось к горлу, дыхание перехватило, на лбу выступила испарина. Сейчас машина споткнется о камень и будет разбита. Но кто–то из нас оказался счастливым. Каменный грунт площадки настолько замедлил пробег машины, что она встала, буквально «накрыв» мотором второй валун. Даже лопасти винта не задели за камень! Еще не веря удаче, я выскочил из машины и побежал обратно, к точке приземления. Шагами просчитал длину пробега — всего 85 метров! Мой самолет сделал невозможное.
Культиасов встретил испуганным взглядом и, заикаясь, произнес:
— Машина все–таки поломалась, Михаил Николаевич! — И показал мне на лопнувший трос крестовины шасси.
— Это не беда, Сергей Васильевич! Могло быть хуже. Запасной трос у меня есть. Ты вот помоги откатить эти валуны и иди за своим золотом. Придешь без него, улечу на базу один, а тебе придется возвращаться пешком.
Моя шутка вернула Культиасова в прежнее, горячечное состояние, и я вновь почувствовал в нем азарт охотника. Вооружившись молотком и сумкой для образцов, мой спутник, не теряя времени, перешел ручей и полез на склон пика Гранитного. А я, еще раз осмотрев площадку, вновь подивился, как отважился на нее садиться, дал себе слово больше не поддаваться ни на какие самые «золотые» уговоры геологов.
Часа два после этого я выравнивал площадку, выковыривая слишком крупные камни и заменяя их мелкими. Поставил два флажка—в начале и конце площадки—и вновь промерил ее шагами. Теперь длина ее выросла до 130 метров. Заменив трос, я успокоился, достал из самолета примус и поставил на него чайник с чистейшей снеговой водой.
Было абсолютно тихо. Уютное журчание примуса, шепот ручья были единственными звуками в окрестности. Солнышко уже переместилось с запада на север, и видимая мне стена пика Гранитного потемнела. Наступала белая полярная ночь. Отдыхая у воды, я думал о превратностях своей судьбы. Год назад я еще был на кипящем страстями материке, и Чукотка была для меня далекой романтической мечтой юности. И вот она предо мной—уже увиденная, реальная, но все еще таинственная. Мой самолет стоит на земле, на которую от сотворения мира не ступала нога человека. С удивлением, как о постороннем человеке, я думал о себе. Вот сижу я здесь один, и никто даже не знает где. До ближайшего человеческого жилья десятки непроходимых километров, а я совсем не страшусь этого одиночества. Какую большую школу я прошел за этот год!
Вспомнился Марголин, первым посеявший зерно веры в богатства этой земли. С гордостью я ощутил себя причастным к ее будущему. Быть может, и вправду Культиасов найдет здесь золотую жилу!..
Стало сумеречно и прохладно. Комары скрылись, и я с удовольствием снял накомарник. Можно было дышать полной грудью, не заглатывая противных насекомых. Чайник закипел, но я не стал гасить примус. Он скрашивал мое одиночество в этой подавляющей своим величием обстановке.
Вскоре послышался шум камней под ногами человека, и появился Культиасов. Уже по тому, как он шел, устало сгорбившись, я понял—неудача!
— Ну, Сергей Васильевич, показывай международную валюту!
— Пока нечего показывать. Но, будь я проклят, если здесь не окажется коренное золото!
— Если бы его извлекали из обещаний и проклятий, то мы бы уже строили из золота отхожие места, как говорил Ленин!
— Ну, брат, даже грибы в лесу нелегко находить. А ведь это благороднейший металл!..
Я не стал допекать незадачливого золотоискателя попреками и согласился задержаться еще на двенадцать часов, чтобы он, поспав, утром мог сделать второй поход на пик Гранитный. Но и этот поход не принес результатов. Культиасов был удручен, но не терял убежденности, что золото здесь есть. Просто ему не удалось его обнаружить.
Мы улетели, и я вновь переключился на полеты по Амгуэме, вскоре забыв об этом эпизоде.
О ЗОЛОТЕ ЧУКОТКИ
Я и не вспомнил бы об этом эпизоде, если бы не стал известен один очень интересный факт, о котором я и расскажу.
Существует мнение, что интерес к золоту Чукотки возник лишь после открытия его на Аляске. Обычно ссылаются на высказывание известного русского академика, который в связи с этими открытиями высказал красивую гипотезу «о золотом человеке», лежащем в теле земли. Якобы голова его находится на Аляске, ноги—в Сибири, а туловище—на Чукотке. Но совсем недавно в книге известного исследователя И. С. Вдовина «Очерки этнографии Чукотки» я обнаружил любопытные архивные документы далекого прошлого. Оказывается, «… еще до открытия золотых россыпей на Аляске американцы обнаружили признаки золота на нашем берегу. В конце 1869 года русский консул в Сан–Франциско сообщил нашему посланнику в Вашингтоне, что «по заявлению американца Скотта, партия американцев открыла на наших берегах Тихого океана золотую россыпь. При этом он отказался сообщить точное место обнаружения золота».
А вот еще: «В марте 1870 года министр финансов уведомил генерал–губернатора Восточной Сибири, что наш посланник в Вашингтоне Катакази сообщил в министерство иностранных дел «…об отправке из Сан–Франциско к берегам Восточной Сибири шхуны с вооруженною командою для добывания золота. Другая экспедиция в числе шестидесяти человек должна отъехать несколько дней позже с тою же целью».
Очевидно, оба документа имеют отношение к одному и тому же факту. К сожалению, других данных об этих событиях Вдовин не нашел. А может, он и не искал, так как вопросами геологии интересовался лишь попутно. Но можно предположить, что описываемые экспедиции успеха не имели, потому и не оставили следа. Однако упоминание о них представляет интерес. Как известно, Билибинский золотоносный район находится на западе Чукотки, прилегая к бассейну Колымы. Для американцев Чукотка в те времена была доступна только с юга, со стороны Берингова моря. Можно предположить, что американские золотоискатели действовали где–то между заливом Святого Лаврентия и заливом Креста. А в том районе проходит восточная ветвь Анадырского хребта, которая даже неискушенному в геологии человеку покажется перспективной: высокие, крутые горы, сложенные из гранита, имеют многие выходы спутника золота — кварца. А главное, они сравнительно легкодоступны с моря.
Но всего этого было бы недостаточно для того, чтобы я решился рассказать о «золотой горячке» геолога Культиасова. Есть еще одно вполне материальное свидетельство, которое придает смысл предыдущим фактам.
Дело в том, что южнее Ванкарема я видел в тундре какую–то громоздкую машину, по виду и габаритам очень похожую на локомобиль. Тот факт, что такую махину тащили к горам, в район, где позднее я был с Культиасовым, представляется значительным. Я полагаю, что, не обнаружив наверняка в районе пика Гранитного золота, практичные американцы не пошли бы на такие затраты и усилия, завозя тяжелую машину в ванкаремскую тундру. Когда и кто занимался этой операцией, мне установить не удалось, но все говорит о том, что эта экспедиция была в наше с вами время. Быть может, установление Советской власти на Чукотке помешало ее усилиям. Так или иначе, но эти поставленные в один ряд факты могут оказаться полезными.
В заключение хочу выразить надежду, что пионер освоения Анадырского хребта, покойный геолог С. В. Культиасов не ошибался в своих предположениях. И что я не напрасно рисковал машиной у пика Гранитного. Его сокровища ждут своего, более счастливого открывателя.
Поскольку речь зашла о поисках золота на востоке Чукотки, мне кажутся небезынтересными данные, ставшие известными мне в пору знакомства с Чукоткой. Заинтересовавшись как–то Золотым хребтом, я стал расспрашивать старого камчадала Артамона (фамилии его никто не знал, все звали его по имени), что он знает об истории этого названия. Артамон охотно пустился в воспоминания и рассказал мне, что якобы в 1916 и 1917 годах в этом хребте работали золотоискатели–американцы. Золота было так много, что промышленники фрахтовали специальный самолет и вывозили на нем добычу в Америку. Сам Артамон якобы неоднократно подвозил на своей упряжке продукты добытчикам золота. Летом, как известно, на нартах по тундре не ездят. Но поскольку платили Артамону баснословные деньги — доллар за каждую банку консервов, доставленную на место, он соглашался. Понятно, что проверить эти утверждения было не у кого.
Начальник комбината, анадырский старожил Ильяшенко, рассказал мне, что в 1924 или 1926 году «Союз–золото» посылало экспедицию к хребту и она обнаружила там золото, залегающее на очень большой глубине. По тем временам разработка его была нерентабельной.
Помнится, я тогда еще сказал Ильяшенко: «Наверно, это были старые спецы, и они не захотели показать золото новой власти». Достоверность рассказа Артамона почему–то не вызывала у меня никаких сомнений.
В декабре 1935 года довелось мне быть по делам службы у начальника пограничного поста Реброва. Отчества не помню, а звали его, кажется, Михаилом. Это был один из авторитетнейших людей округи и личность весьма примечательная. В годы гражданской войны он был в охране легендарного «золотого» поезда, на котором по распоряжению Ленина вывозился золотой запас республики. Быть может, из–за этой давнишней причастности к золоту Ребров интересовался им и на Чукотке.
На стене его кабинета я увидел странную, в размер развернутого газетного листа, рукописную карту Чукотки. Она имела очень приблизительные контуры и была раскрашена в четыре цвета. На мой вопрос Ребров ответил:
— Этой карте, по–видимому, лет тридцать. На ней ты видишь Анадырский уезд, каким он представлялся в начале столетия. Это даже не карта, а сертификат на золото, которое предполагалось здесь загребать лопатой. Этот документ хранился в сейфе уездного начальника удельного ведомства. Вероятно, ты знаешь, что так называлось управление хозяйством и личным имуществом царского двора. А вот в районе, закрашенном в синий цвет, мог добывать золото только Вонляр–Лярский, авантюрист и проходимец. Желтый и зеленый—это сферы влияния других таких же проходимцев.
Думается, что упоминание об этой карте небезынтересно для тех, кто занимается историческим прошлым края. Не верю, что такой документ мог затеряться безвозвратно.
Позднее мне неоднократно пришлось слышать на Чукотке фамилию Вонляр–Лярского. В упоминаемой мною книге Вдовина его деятельность описана подробно, поэтому я буду краток. Этот приближенный к царскому двору человек имел чин полковника армии. В 1902 году, после аляскинской золотой горячки, он исхлопотал у царя разрешение на создание акционерной компании по разведке и добыче чукотского золота.
На волне искусно раздуваемых слухов о несметных богатствах акции компании охотно раскупались, все время повышаясь в цене. Большая их часть оказалась в руках американских дельцов, которые и захватили фактическую власть в этом «Северо–восточном сибирском обществе», как называлась компания. Кое–какие геологоразведочные работы были проведены, но напасть на золотые россыпи не удалось. Руководители компании переключились на более доступный способ обогащения, они спаивали чукчей и эскимосов и скупали у них по дешевке пушнину, В 1912 году деятельность акционерного общества была прекращена.
СТАРОЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВНОВЬ
В начале этой главы я помянул, что тесное содружество авиаторов и геологов возникло лишь в 40–х годах. Да, это так. Успешный эксперимент Зяблова — Богданова в последующие годы получил на Чукотке широкое развитие. Этим опытом воспользовались и магаданские геологи на Колыме. А вот на материке о нем почему–то не знали даже геологи Главсевморпути.
За время войны я оторвался от этих дел и вновь столкнулся с ними лишь в 1947 году. Я работал тогда на аэрофотосъемке Анабарского массива в междуречье Хатанги и Оленька. Прилетев в Хатангу, застал там геологическую экспедицию. Я обратил внимание, что геологи работают «дедовским» методом. Хозяйственники экспедиции прибыли еще в марте, чтобы успеть арендовать оленьи упряжки и по зимнему пути доставить необходимые грузы к месту поисковых работ. С открытием летней навигации из Ленинграда на гидросамолетах прилетели геологи. Они арендовали лодки и по притоку Хатанги — Котую стали подниматься на веслах и моторках. Полевой сезон в этом районе всего три месяца, и из них три недели тратились лишь на дорогу в район работ. Я предложил услуги своего гидросамолета и успел перебросить им многое почти до места.
Когда я рассказал геологам о чукотском опыте, они только ахали: как же они этого не знали? По моему предложению была послана радиограмма в Москву, но ответ не приходил. На счастье в Хатанге вскоре оказался начальник полярной авиации, герой полюса Илья Павлович Мазурук.
Мазурук любил и поддерживал всякие новшества в полярной авиации. И здесь он согласился вновь поставить опыт с применением У–2 для обслуживания геологов. Только спросил:
— Возьметесь потренировать и персонально отвечать за работу летчиков, которых я пришлю?
Конечно, я с радостью дал согласие.
В этом году в полярную авиацию пришло большое пополнение летчиков, демобилизованных из армии. Из их числа Илья Павлович доверил новое начинание Михаилу Ступишину и Константину Михайленко. За боевые заслуги оба были удостоены звания Героя. Я сделал с ними несколько показательных и тренировочных полетов по подбору площадок, а главное — внушил, что вне–аэродромная посадка, если она необходима, дело совсем не страшное. Вот эти ребята, теперь уже заслуженные полярные летчики, и положили начало столь широкому внедрению легких самолетов в практику работы геологов. Самолеты значительно увеличили коэффициент полезного действия геологов и освободили их от варварской растраты энергии, нужной для поиска.
Всякое новое дело начинается кем–то, кто имеет имя. В данном случае начинателем был Виктор Богданов.
В дополнение к сказанному представляется необходимым пояснить, что первые в Арктике полеты самолетов на колесах тоже начались на Чукотке в 1935 году. До того времени за Полярный круг летали зимой только на лыжах, а летом на гидросамолетах. И не случайно сложилась такая практика. Во–первых, в Арктике почти нет естественных площадок, пригодных для устройства сухопутных аэродромов. Во–вторых, в начале авиационного освоения Арктики оказался неизбежным метод экспедиционных полетов, которые проводились в лучшие месяцы зимы или лета. Полетав два–три месяца, экипажи возвращались в Москву, до следующего сезона. Как уже упоминалось, челюскинская эпопея показала необходимость создания на Чукотке оседлой авиации, работающей круглый год без перерывов. У первых летчиков отряда Павленко не было гидросамолетов, и, когда наступило лето, они попробовали (и успешно) летать на колесах.
На морском побережье площадок было мало, но когда заставила необходимость, они нашлись, хотя и на большом расстоянии друг от друга. И вот Богданов (еще раз помяну его имя) смело расширил эту практику.
Теперь мы можем сказать, что если Арктика бедна естественными аэродромами, то надо делать их искусственно. Но это теперь, когда мы имеем в достатке трактора, бульдозеры и другую технику. Круглогодовые полеты на колесах в Арктике стали применяться в годы войны. Вначале тракторами раскатывали и уплотняли снег зимой, а потом додумались то же делать и летом, разравнивая подходящие участки, покрытые бугристой тундрой, или песчаные берега у моря. Насколько я знаю, пионерами в круглогодовых полетах на колесах, причем днем и ночью, были наши летчики Леонард Крузе и Михаил Титлов. Сейчас Арктика располагает настоящими аэродромами для самолетов всех типов.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ВЫХОЖУ НА ГЛУБИНУ
РЕШАТЬ НАДО СЕГОДНЯ
В конце июля 1936 года Конкин вызвал меня из экспедиции на базу. Расспросив, как идут дела у Зяблова, он протянул мне бланк радиограммы.
«МЫС СЕВЕРНЫЙ КАМИНСКОМУ ЧУКОТСКАЯ АВИАГРУППА ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ТИХООКЕАНСКОЙ ЛИНИИ ПОД НАЧАЛЬСТВОМ КРАСИНСКОГО ТЧК ПРОШУ СОГЛАСИЯ НА ВТОРУЮ ЗИМОВКУ ДОЛЖНОСТИ КОМАНДИРА ТЧК ШЕВЕЛЕВ»
Увлекшись работой в горах, я как–то забыл, что вот–вот уезжать пора, а такого предложения и вовсе не ждал. Конкин сказал:
— Я уже докладывал Москве, что добровольцев на повторную зимовку нет, рекомендовал предложить тебе, — и добавил: — Соглашайся, сынок. Ты же сам говорил — если каждый год начинать сначала, освоению Чукотки конца не будет.
— Спасибо, Евгений Михайлович, за доверие, но одно дело рассуждать вообще, другое браться самому. Вот если бы ты остался?
— Мне надо ехать отвечать за гибель Волобуева и перевести дух на материке. А ты здоров — выдержишь! Через год, если мне доверят, я тебя сменю. Ну, как?
— Неожиданно, Евгений Михайлович! Подумать надо.
— Конечно, подумай. Вопрос для тебя серьезный, но решать его надо сегодня. Иначе я задержу ответ, и Москва не сможет подготовить смену.
Взбудораженный, я ушел разыскивать Митю. В голове клубились противоречивые мысли. Вспомнились слова Волкового: «Ваши самолеты принесли округу только мороку. Не умея летать, нечего было сюда соваться!» Такое, как удар кнута, не забывается. За всю зимовку только помощь науканским охотникам стала работой, заметной округу. Но поломку самолета в заливе Святого Лаврентия я не мог забыть. Полеты в горах возвратили уверенность, что могу сделать что–то значительное, но это известно только геологам и Конкину. В представлении руководства округом мало что изменилось.
— Сейчас тебе дают возможность реабилитироваться, а ты раздумываешь? — прозвучал во мне голос Конкина.
— Да, но ведь все уезжают! Уже во сне видят, когда придет пароход. Я тоже устал. И от рискованных полетов, и от консервов, и от ночлегов, где придется.
— Ну, если так — никто силой не держит! — Конкин скажет это с презрением.
Митя ответил не сразу, и это было на него не похоже. Но сказал он такое, отчего мне стало стыдно.
— Решаться на вторую зимовку мне тяжелее всех. И месяца я не прожил с Машей после женитьбы, а в мое отсутствие родился Валерка. Но если ты останешься — я с тобой! Уезжать отсюда сейчас — все равно, что бежать с поля битвы. И вообще, черт возьми (Митя ужа загорелся!), грош нам цена, если мы не положим Чукотку на лопатки!
В этих высокопарных словах — весь Митя. За ними подразумевалось многое. И то, что мы должны одолеть страх перед пургой, застругами, неизведанностью. Доказать Волковому, что самолеты могут приносить Чукотке пользу, а себе — что справимся и с вокзальным нашим бытом. На меня это произвело впечатление, но Митя добавил решающий аргумент:
— В нас поверили хорошие люди, когда нам было очень плохо, когда мы усомнились сами в себе. Помнишь, что говорили Янсон и Щетинин в «Снежном»? Соглашайся!
Так было принято решение, определившее нашу судьбу. Благодаря ему мы стали профессиональными полярниками и сделали то, чем можем гордиться,
Конкин принял мое решение, как будто знал о нем заранее.
— А я тебе сюрприз приготовил! Переговорил с Драневичем (базовый механик) и с Мишей Маловым (бортрадист Быкова) — они согласились остаться с тобой.
— А если бы я не согласился?
— Это значило бы, что я старый дурак и ничего не понимаю в людях. — И перевел разговор в деловую плоскость. — Пока я на базе, ты спокойно заканчивай работу на Зяблова, здесь не задерживайся. Но одно дело надо сделать сегодня — освоить МБР–2 {9}. Погода хорошая, и Быков тебя выпустит, а Островенко пусть принимает машину у Румянцева.
Летчики, летающие на морских машинах, казались мне людьми более высокой «пробы». Практика показала, что не все сухопутные летчики способны овладеть спецификой гидроавиации. Я опасался стать одним из них. Но эти страхи оказались беспочвенными. Три провозных полета Николай Быков посчитал достаточными, а после пяти самостоятельных поздравил с крещением в морские летчики,
При такой же мощности мотора в 600 лошадиных сил, как и на Р–5, в своей пассажирской кабине МБР–2 мог поднять восемь–десять человек, кроме экипажа.
Этот гидросамолет сыграл важную роль в подготовке кадров морских летчиков в нашей стране и дожил до 1942 года.
О «ЯБЛОКАХ РАЗДОРА»
По совету Конкина, давая согласие Шевелеву, я обговорил увеличение штата на трех мотористов и на должность прачки–уборщицы. С мотористами вопрос решился просто. На эти должности я зачислил плотников из остатков бригады, достраивавшей ангар. После демобилизации из армии они завербовались на Чукотку, чтобы заработать деньги и свет повидать. Трудолюбивые, скромные ребята — Миша Кислицын, Андрей Дендерюк и Сережа Меринов — стали отличными мотористами. Они проработали в полярной авиации по два десятка лет, оставив по себе добрую память.
Проблема прачки решалась труднее, и вот почему. Вопрос о допуске женщин на отдаленные зимовки вызывал среди полярников ожесточенные споры. Противники «равноправия» преобладали даже в руководящих сферах, и для этого в прошлом имелись основания. Редкие женщины, попадавшие в Арктику, нередко становились «яблоком раздора» среди мужчин–полярников.
С 1933 года, когда дело освоения Арктики сосредоточилось в Главном управлении Северного морского пути (ГУСМП), жизненная обстановка за Полярным кругом быстро и резко стала меняться к лучшему. С каждым годом увеличивалось количество зимовок, они стали ближе друг к другу, налаживалась регулярная радиосвязь, а самолеты полярной авиации разрушили изолированность даже самых отдаленных станций. Это я отношу к объективным факторам. Они возникли благодаря заботам руководства страной, поставившего освоение Заполярья в ряд важнейших задач. Но имел значение и фактор, который считаю субъективным и отношу его на счет руководителя Главсевморпути академика О. Ю. Шмидта.
Ученый с мировым именем, крупный организатор, обаятельный человек, О. Ю. Шмидт приобрел легендарную славу, оказавшись во главе потерпевших крушение челюскинцев. Молодежь стала бредить Арктикой, сюда рвались люди с заслугами и солидным положением. При организации новых зимовок конкурсу на свободные вакансии мог бы позавидовать самый популярный вуз 70–х годов. Личный авторитет Шмидта привлекал в соискатели людей образованных, интеллигентных из крупнейших центров страны. В 1935 году на полярных станциях, экспедициях, в хозяйственных учреждениях я повсеместно встречал москвичей, ленинградцев, киевлян, харьковчан и т. п.
Так вот, обстановка изменилась, а суждения о нежелательности допуска женщин в Арктику все еще существовали. Еще с дошмидтовских времен в штатах полярных станций предусматривалась должность служителя, на которого возлагалась и обязанность уборщицы. Такой служитель вместе с мужчиной–поваром делали все возможное, чтобы санитарное состояние нашей базы не было оценено выше двойки.
В начале книги я рассказал, какую роль сыграли всего три женщины в мужском коллективе совхоза «Снежное». Я надеялся, что мне, как и Шитову, удастся добиться того же. Мотивируя свою идею, я сказал Конкину:
— Евгений Михайлович! Ты меня прости, но этот год мы жили, как медведи в берлоге. Только отчасти можем оправдаться строительными недоделками, остальное на нашей мужицкой совести. Каждый считал, что год он как–нибудь промучается, а в результате довели базу до мерзкого состояния. Мне думается, без женщин из этой коросты нам не вылезти. Как ты смотришь?
— Теперь все в твоих руках. Сам делаешь — сам и отвечаешь! Считаешь нужным — хоть весь штат заполняй одними бабами!
— Ты обиделся, Евгений Михайлович?
— А что ж ты думал — я спасибо тебе скажу? Но хорошо, что ты критикуешь не за спиной. Обычно так говорят о своих предшественниках люди, которые считают, что история начинается с них… — Помолчав, он уже другим тоном продолжил: — А вообще–то ты прав, дьявол тебя разорви! Арктику надо обживать, и без этих вертихвосток не обойтись. Вот Катюхов уже едет с женой и дочкой, и ты свою Татьяну с Сережкой выписывай, пока не поздно. Как вернешься из экспедиции, бери эмберушку (МБР–2) и кати в Анадырь. Среди сезонниц поищи хороших девчат — одну поваром, другую прачкой.
Прачка представлялась мне необходимой даже больше уборщицы, хотя я намеревался обе должности совместить в одной персоне. Дело в том, что хотя баня три раза в месяц являлась обязательной, но белье редко кто стирал. Его носили по два месяца до полного истлевания. Простыни на кроватях тоже не менялись. Из положения выходили следующим образом. Покупали на фактории целую штуку полотна, в которой было не меньше двадцати метров. Отворачивали от нее кусок по длине кровати и по мере загрязнения перекатывали полотно от головы в ноги. Когда вся длина «штуки» пачкалась с одной стороны, ее переворачивали на «левую» сторону. Такого куска полотна хватало как раз на всю зимовку.
Бескультурье в быту неизбежно переносится в рабочую обстановку, что в авиации пагубно. Поэтому вопрос о прачке–уборщице для моих планов был принципиальным, и Шевелев согласился с ним.
ЗАВЕТЫ КОНКИНА
С командирской должностью получил я от Конкина некоторые советы и наставления. Приведу их, как запомнил:
— Некоторые думают, что командир может творить все, что хочет. Это неверно. Он делает не то, что его левая нога желает, а что требуют интересы службы, хотя не застрахован от ошибок…
— Отряд здесь существует для того, чтобы корабли в Чукотском море больше не зимовали и — боже упаси! — не тонули, как это случилось с «Челюскиным» — Отсюда вывод: если корабль зажали льды, сам погибай, а моряков выручай…
— Когда в море делать нечего, помогай округу. Авиация перед округом в большом долгу. В условиях бездорожья люди на Чукотке живут, как на островах. В случае несчастья только самолет может быстро прийти на помощь. Установление авторитета авиации остается на твою долю…
— И наконец, еще одно и немаловажное: необходимо помочь геологам раскрыть богатства недр Чукотки. Ты и Богданов хорошо это начали, продолжай и дальше. Без авиации Анадырский хребет геологам не взять, а в нем, чует мое сердце, есть все. Я не бабка–угадка, но, помяни мое слово, придет время, когда Московское радио станет передавать сводку погоды Чукотки.
— Ну а все остальное попутно, между этими главными задачами. А этого остального тоже будет сверх головы.
И еще сказал мне Конкин такое, что я воспринял как завет старого коммуниста ленинской гвардии:
— Учти, всякое дело начинается с человека. Командир не имеет права руководствоваться личными симпатиями или антипатиями. Неспособные работать изо всех сил стремятся ладить со своими начальниками — услуживают, льстят, никогда слова поперек не скажут. Приятно, но на этот крючок нельзя попадаться. Больше всего опасайся людей без собственного мнения. Такие и дело завалят и тебя самого утопят при первой возможности. Замечаю в последние годы спрос на личную преданность. Личная преданность — первый признак карьеризма. А карьеристы — большое зло для нашей партии.
И последнее: когда будет трудно решать тот или иной вопрос, советуйся с людьми и руководствуйся здравым смыслом. Принцип здесь простой: что полезно людям, то полезно и обществу, в широком смысле, конечно. Где начинается вред или неудобство отдельным людям, там дело обязательно обернется ущербом для всех. Я почему тебе сказал: берись за базу? Потому что «текучесть рабочей силы», как выражаются газетчики, для Арктики имеет особо разрушительное значение. Люди увозят отсюда опыт, который больше нигде не нужен, а здесь он на вес золота. Значит, надо устраивать людей по–человечески. Приезжая сюда, они лишаются многого. Это надо ценить. Сильных поощрять, слабых поддерживать, чтобы человеческое тепло оказалось сильнее арктического холода.
ОСТАЛИСЬ ОДНИ
Собрав в конце августа с точек, разбросанных по Амгуэме, своих друзей–геологов в бухту Оловянную, я распрощался с ними совсем и отправился на свою базу, чтобы окунуться в непривычные для меня хозяйственные заботы командира отряда. Конкин сказал озабоченно;
— Пока я здесь, слетай–ка ты, парень, в Анадырь, подбери там девчат, а я встречу новую смену и приму снабжение. Если же вдруг не приведется нам проститься — не поминай лихом, а главное, не подведи старика — не сробей, когда дело потребует!
Мы расцеловались и, не скрою, прослезились оба. Очень многим я обязан этому старшему товарищу.
8 сентября 1936 года на летающей лодке МБР–2 я опустился в Анадырской бухте. К моему прилету Пухов и весь состав его отряда отбыл на материк. Остался только механик Берендеев для передачи новой смене своего Р–5, Н–67 и технического имущества.
— Николай Михайлович! Может, останешься с нами еще на год? Мы с Митей будем рады!
— Если зла на сердце не держите — останусь, Михаил Николаевич.
— Что ты говоришь, Николай Михайлович, какое зло?
— Ну все–таки, когда вы с Пуховым не ладили, я в стороне держался. Вам могло показаться, что я с ним заодно!
— Выбрось из головы, Николай Михайлович! И прошу как об одолжении, называй на «ты». Не могу с тобой официально!
Так я приобрел еще одного надежного соратника, чему был очень рад. Теперь нас пятеро — сила!
Большинство сезонниц рыбных промыслов после окончания путины уехали. Мне стоило труда из оставшихся подыскать желающих зимовать. Две подруги, обе Ольги, страшась, согласились. Я обещал, что приоденутся, заработают на приданое, что никто их не обидит, а если окажутся скромны и добросовестны, то заслужат и уважение. Одна из девушек, лет двадцати, крупная, сильная, взялась за поварские обязанности. Она и уговорила свою восемнадцатилетнюю, застенчивую подругу поехать прачкой–уборщицей. Видно, нелегкая жизнь в столь молодые годы вытолкнула этих сибирячек из–под Канска на сезонную работу за тридевять земель. Я дал себе слово сделать все, чтобы они не раскаялись, доверившись мне.
Решив основную задачу, я задержался бы еще, чтобы запастись свежим мясом и рыбной продукцией, но 14 сентября получил с базы взволновавшую меня радиограмму:
«АНАДЫРЬ КАМИНСКОМУ
КОНКИН УЕХАЛ ТЧК ОСТАЛИСЬ ОДНИ ТЧК ЛАГУНА ЗАМЕРЗАЕТ ТЧК ЖДЕМ ВАС ТЧК
СУРГУЧЕВ»
ЕСТЬ ТАКОЕ СЛОВО НАДО!
Я знал, что Конкин уедет, что приедут новые люди, но все это представлялось в будущем, а оно пришло вот так — сразу. Тревожно заныло сердце. «Остались одни!» Очень точные слова нашел мой новый товарищ Сургучев. Боже мой, как же легко живется, когда старший рядом! Теперь и посоветоваться не с кем. Все надо решать самому, а дела сложные и непривычные. Особенно встревожило то, что лагуна замерзает. Значит, на северном берегу началась зима. Со своей лодкой я могу застрять здесь. Надо вылетать, и немедленно!
15 сентября, ровно через год после прибытия с материка, в такой же тихий и ясный день, я стартовал с лимана. Запрос о погоде, как обычно, остался без ответа, но была надежда, что бортрадисту Малову удастся получить его в полете. Кроме экипажа, на борту находились Берендеев, радист полярки мыса Северного Радимир Медведев, застрявший на юге секретарь Чаунского райкома Наум Пугачев и две Ольги.
До залива Креста сохранялась отличная погода, но хребет оказался закрытым шапкой мощной облачности. Представьте себе дежу, через край которой перевалилось пухлое тесто. Только облачное «тесто», клубясь, переваливалось непрерывно и, опустившись до высоты 1000 метров, непостижимым образом исчезало.
Позднее я узнал, что этот процесс называется «адиабатическим» нагреванием. Воздушная масса, насыщенная водяными парами, опускаясь в более плотные слои атмосферы, сжимается и освобождает тепловую энергию, а она превращает видимый глазом водяной пар в невидимое состояние.
Добиться связи с поляркой мыса Северного Малову не удалось. В погоде северного побережья ориентировало лишь сообщение из Ванкарема: «Высота облаков 50 метров, видимость два километра, температура минус три, тихо». Хотя от Ванкарема до базы двести километров, принятое сообщение давало мне важное знание: безветренная погода способствует быстрому замерзанию морской воды и возникновению тумана.
Черт возьми! Опять надо обниматься с риском! По–хорошему, надо бы сесть в бухте Оловянной и переночевать у геологов. Но за ночь, может статься, лагуна покроется льдом, и тогда самая распрекрасная погода мне будет ни к чему! Полечу — рискую, сяду у геологов — тоже рискую! Но какому–то риску надо отдать предпочтение. Проклятое «надо!»
Вспомнил прощальные слова Конкина: «Не сробей, если дело потребует!» — и решился лететь.
В этом решении выразилась не смелость, а опыт. Я уже знал некоторые особенности микроклимата в горах. В теплое время года над отдельными массивами в сплошной облачности бывают «продухи», а облачность по мере продвижения от моря постепенно приподымается. Бассейн Амгуэмы мною изучен, как собственный карман. Где бы я ни оказался, выйдя под облака, реку найду обязательно, а по ней даже «на пузе» выйду и на побережье. Ну а если мои расчеты не оправдаются — вернусь к геологам. Но расчет оказался правильным, и через час волнительных переживаний — поиска «окна» в облаках, крутого спуска «винтом», розысков реки среди хаоса сопок — я вышел в нижнее течение Амгуэмы. К счастью, тумана над побережьем не было, хотя видимость с бреющего полета не превышала километра. В знакомой местности это не пугало.
Пройдя над базой и этим дав знать о своем прилете, я сделал посадку. Лагуна с посадочной акваторией находилась в шести километрах от базы, надо набраться терпения и ждать, пока Драневич запустит трактор и прибуксирует выводные шасси. Подрулив к заберегу, я выключил мотор, а Митя бросил якорь. Без гидрокостюма на берег не перебраться, и я попросил Митю сварить кофе, чтобы в ожидании людей «отмякнуть» душой после трудного полета.
Мои пассажиры выбрались на верхнюю палубу, а попросту говоря, на плоскую спину лодки, и тут я услышал горестный плач. Увидел трогательную картину: обе Ольги, уткнувшись носами в плечи друг другу, заливались слезами:
— Мамочка родная! Да куда ж мы попали, тут и земли–то нету, вода и лед. Да что же теперь с нами будет!
Я посмотрел кругом, и самому стало муторно.
При взгляде на север глазу представлялась неширокая, припорошенная снегом галечная коса. За ней зубчатым забором громоздились торосы, выжатые на берег. Влево и вправо эта полоска земной тверди уходила в туман. Со всех других сторон нас окружала угрюмая неподвижность стынущей воды. Все это было накрыто мглой, из которой сыпался реденький снежок. Ни кустика, ни деревца, ни строения — никаких признаков жизни человека. Мертвая, безрадостная тишина. Ни плеска воды, ни шума ветра, ни птичьего крика.
Если такая картина удручает меня, что же могут думать эти материковые девчушки, первый раз в жизни поднявшиеся в небо!
Общими усилиями мы успокоили оробевших новобранцев отряда, а горячий кофе усилил теплоту нашего к ним внимания.
В сумерки пришел трактор, облепленный людьми, с выводными шасси на буксире. Дендерюк и Кислицин, в гидрокостюмах, вошли в воду, навесили на самолет колеса, и вскоре он стоял на берегу в полном порядке. С любовью я смотрел на него, как на живое существо, выручившее в трудную минуту. «Теперь отдыхай, друг, до следующего лета!»
Сургучевым назвался могучей комплекции парень с открытой, располагающей улыбкой на краснощеком лице. Понравились мне и другие новички, которых я рассмотрел уже в доме за ужином. Подумалось: надо, чтобы и я им понравился, тогда мы одолеем все!
НОЧНЫЕ ТРЕВОГИ
Не знаю, кто как вступает в свою командирскую должность. У меня она началась с размышлений, которые долго не давали уснуть, несмотря на усталость.
В роли подчиненного я болезненно переносил действительные или кажущиеся несправедливости своих начальников. Теперь я сам начальник, и мои действия тоже кого–то могут унизить. Как избежать этого?
Конкин сказал мудрые слова; «Всякое дело начинается с человека!» То есть зависит от его работоспособности, энтузиазма и даже настроения. Перед умственным взором проходили примеры руководства Гроховского, Шитова, Швецова, Конкина, Зяблова. У каждого из них доминировало что–то главное. Отвага, убежденность, справедливость, демократичность, увлеченность. Все эти качества — слагаемые искусства руководить людьми. Как мне овладеть этим искусством? С чего начать, чтобы завоевать авторитет?
Вспоминаю, что вызывало у меня доверие к своим командирам. Когда они советовались и убеждали, а не распоряжались, как бесчувственной пешкой. Но значит ли это, что прежде, чем приказать, надо посоветоваться? Нет, конечно! Это абсурд! Но, с другой стороны, нельзя превращать подчиненных в слепых исполнителей административной воли. Противоречие? Да! В том–то и состоит искусство, чтобы добиться единства этих противоположностей, Нельзя руководить, не прислушиваясь, не советуясь с людьми, не убеждая их, иначе обязательно наделаешь ошибок. Наверное, надо начинать с общего собрания. Надо создать атмосферу товарищеского единомыслия, а когда люди будут знать задачу, убедятся в ее необходимости, тогда можно и приказывать!
Нас всего восемнадцать! Меньше, чем на соседней полярной станции. Но значимость того, что мы должны делать, во много раз больше. И не только для Чукотки. Если по нашей вине станут зимовать во льдах корабли — пострадает вся держава. Значит, сила не в количестве!
Но и в коллективе не все равны по своей роли в деле. В нашем «оркестре» солистами являются летчики. Их настроение определяет все. Сургучев и Катюхов уже зимовали здесь с отрядом Павленко. Они первыми поднимались в здешнее небо, и я заглазно уважал их за это. Но какие у них характеры, привычки? Может, они самоуверенные задаваки и не захотят признать во мне старшего? Штурмана Морозова и бортмеханика Мохова рекомендовал сам Шевелев. Они — типичные «люди воздуха» и ничего не желали делать на земле. А если что и делали, то из–под палки. Была у Конкина бамбуковая тросточка, которой он грозился, а порой и вытягивал пониже спины лентяев. Возраст, заслуги и личные качества позволяли Конкину и такую форму обращения. На него не обижались и относились как к отцу, которому это позволительно.
Для меня такой метод исключался. В моем распоряжении только убедительные аргументы и личный пример. А смогут ли мои аргументы пробудить у летчиков охоту делать то, что они никогда не делали на материке?
В силу своей малочисленности и сложившегося представления об исключительности летной профессии летчики того времени, по нашему с Митей определению, были аристократами. Было много людей, которые делали всякую черную работу — мыли и заправляли машины, заботились о них на аэродроме и т. п.
Мне предстояло настроить людей на другую волну. Все должны знать, что, если мы сами чего–то не сделаем, никто за нас этого не сделает. А раз так, то нам нужно проконопатить дом, поправить печи, очистить базу от грязи и основательно, по–хозяйски подготовиться к зиме.
ЕСЛИ САМИ НЕ СДЕЛАЕМ, ТО КТО ЖЕ?
Утром состоялось собрание. Ничего не утаивая, я рассказал, какой ценой достался нам год жизни на Чукотке, рассказал о драматической судьбе экипажа Волобуева. Подчеркнул, что округ пользы от нас еще не видел, а одна из главных задач отряда — помогать жизни местных людей. Сказав в заключение, что успех зависит от каждого вплоть до повара, я призвал к созданию на базе условий для хорошей и дружной жизни.
Первым выступил базовый механик Михаил Францевич Драневич:
— Сейчас еще не зима, а в нашем доме гуляет ветер, Если мы не заткнем все дыры, то будем мерзнуть, как и в прошлую зиму. Для успешной работы необходимо построить балок–мастерскую при ангаре, пока не запуржило. У нас один хозяйственный рабочий, а остальные, если не считать повара и уборщицу, летно–технический состав. На зимовке все должны быть равны, иначе Арктику не завоюешь!
— Не мастер я выступать, а мой прежний командир и вовсе приучил меня помалкивать, — поднялся со своего места Берендеев. — Но не могу не добавить к тому, что сказал Михаил Францевич. Увидев «порядки» на этой базе, можно подумать, что люди бежали от землетрясения. Между домами всякие отбросы, у крыльца помойка. Тут и разбитая бочка с квашеной капустой, и старый матрас, и рваные ватники. В таких условиях жить по–человечески нельзя, и никто за нас этого безобразия не ликвидирует!
Митя Островенко завелся «с первого оборота», яростно жестикулируя своими кулачищами.
— Это что же получается? Одни узнают, почем здесь фунт лиха, и уезжают, а мы узнавай все сначала! Мы остались здесь на второй год не потому, что нам здесь очень нравится. Скорее наоборот. Я попал сюда в марте и поразился: как же так можно? В доме чуть ли не круглые сутки топятся печи, а люди спят в верхней одежде. В стенах щели, и в комнаты надувает сугробы. Не раздеваются от бани до бани. В столовую ходят в комбинезонах и шапках, пока обедают, иней примораживает тарелки к столу. Мы должны жить иначе, и дом сделать теплым, и мастерскую построить, и уничтожить то безобразие, о котором говорил Николай Михайлович!
Пока Митя произносил свой страстный монолог, я всматривался в лица. В таком маленьком сообществе даже один человек может, как говорится, испортить обедню. Кто им окажется? Прилетевшие вчера девчушки, две Ольги, смотрят испуганно, жмутся друг к другу. Им все непривычно и страшно. Сургучев перебрасывается взглядами с Морозовым и чему–то усмехается. Наверное, Митиной пылкости. Павел Стрежнев, новый завхоз, спокоен и доброжелателен. Мохов глядит на оратора чересчур серьезными глазами. О чем он думает? На лице Катюхова сознание собственного достоинства, слушает так, будто хочет возразить. Вот скажет сейчас, как сказал бы Быков: «Я приехал сюда летать, а не дворником или плотником работать — и все!» Ничего с ним не сделаешь. Но Катюхов сказал другое:
— Арктика нам немного знакома. Дама серьезная, и шутить с ней не следует. Агитировать нас не надо, белоручками не будем. Я думаю так. Верно, Володя?
— Мы работы не боимся — был бы харч! — шутливой поговоркой отозвался на слова Катюхова Сургучев. — У меня аж руки зачесались — где эти трудности, которыми нас тут пугают?
И Мохов высказался с места репликой Сургучеву:
— Шестнадцать лет по этому делу у Зингера работал, мне не привыкать! — Его серьезное лицо осветилось неожиданной улыбкой. Улыбался и Морозов, сочувственно глядя на приехавших с ним новичков. И я почувствовал, что зря опасался этих ребят.
И еще подумал: все, что я сейчас скажу в виде приказа, эти люди приняли бы к исполнению и без собрания. Но как хорошо, что оно состоялось. Они наэлектризованы сейчас общностью порыва и собственными словами–обязательствами. Какая же это сила — коллектив. И, поняв, что ситуация слов не требует, я перешел к распоряжениям:
— Работы в ангаре и у самолетов временно прекращаем. Всеми силами готовим базу к зиме. Бригаде Островенко с трактором перевозить имущество с места разгрузки парохода. Кислицину и Дендерюку готовить место и материал для постройки мастерской. Стрежневу с Мериновым заняться внутренним благоустройством дома: подгонкой дверей, уплотнением окон и т. п. На вас, Дуся, — обратился я к жене Катюхова, — возлагаю надежды, что вместе с девчатами займетесь чистотой и уютом нашего жилища. А мы, летчики, выполним задачу «особого назначения». Пусть каждый на своем участке сделает все, что сможет, без нянек и погонялок. Все, товарищи! По работам!
Наглядным символом старого быта, о котором говорил Берендеев и который требовалось сокрушить, явилась наша зимняя уборная. Оставленная в наследство старой сменой, она служила немалым укором людской чистоплотности. Я мог бы приказать хозяйственному рабочему привести ее в надлежащий вид, это и входило в его обязанности, но меня интересовал не практический результат этой акции, а предполагаемый сдвиг в психологии зимовщиков. Поэтому еще с вечера задумал самую неприятную работу провести самому, вместе с летчиками.
Когда все разошлись, я остался сидеть на месте. Летчики смотрят выжидательно, а я не решаюсь назвать задачу «особого назначения». Наконец говорю, обращаясь к Катюхову, который показался мне лидером новой смены.
— Георгий Иванович! Вы командир отряда. Вы еще никого не знаете, и вас тоже видят первый день, У вас нет командирского опыта, но есть здравый смысл. Вы приняли запущенное хозяйство, и мне интересно: с чего бы вы начали? Что сочли бы главным?
Катюхов встал; серьезный и спокойный. Не желая, чтобы он стоял передо мной, встал и я. Недоумевая, поднялся и Сургучев. Катюхов улыбнулся, на щеках ямочки, в глазах смешинка:
— Я начал бы с организации на базе порядка.
— Каким образом?
— С очистки уборной и двора! Что это? Всерьез или…
— А вы, Владимир Михайлович, с чего бы чали вы?
— С того же, что сказал Жора!
— Почему?
— Угадываю ваше желание! Чувствую, что сейчас задохнусь от волнения. Стало жарко. Не смею верить, что это всерьез.
— Не похожи вы, Володя, на жертву чужих желаний!
— Не темните, Михаил Николаевич! Только идиот не понял бы, о чем вы все здесь говорили. Нас агитировать не нужно. Посмотрите на эти руки? — он раскрыл ладони величиной с детскую лопатку. — Бухта Провидения нас научила кое–чему.
Приходилось ли вам, читатель, падать, толкая дверь, которую вы считали туго закрытой? Все происшедшее было радостным открытием незапертой двери. И, наверное, мои нервы стали ни к черту. В горле запершило, а глаза защипало. Нет надобности передавать дальнейшие подробности.
Через час уборная блестела чистотой, и мы занялись двором. Подошел трактор с первой кладью, его сопровождал штурман Морозов. С усмешливым любопытством подошел к нам, орудующим ломами и кирками. Сургучев распрямился, смахивая пот со лба, сказал:
— Отойди, Дима, поле битвы не место для посторонних!
Приведенный эпизод не образец для подражания. В нем важна не форма, а сама суть поиска взаимопонимания. В тот момент только максимальное напряжение сил каждого могло изменить к лучшему нашу жизненную обстановку. Личный пример товарищеского равенства, поданный наиболее авторитетными членами коллектива, оказался убедительнее слов. Описанный факт стал началом традиции, которую я выразил бы словами: «Кто больше может — тот больше должен!» С великой благодарностью и уважением я вспоминаю полярных летчиков Георгия Катюхова и Владимира Сур–гучева, мужественных моих товарищей, основателей замечательной традиции зимовки 1936/37 года.
ИСПЫТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Дней через десять, в конце сентября, в наладившийся трудовой ритм ворвалась внезапность. Поступила срочная радиограмма.
«С БОРТА «ЛИТКЕ» МЫС СЕВЕРНЫЙ КАМИНСКОМУ ПРОШУ СООБЩИТЬ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВЕСТИ ЛЕДОВУЮ РАЗВЕДКУ ПРОЛИВА ЛОНГА ДЛЯ ПРОВОДКИ КАРАВАНА ТЧК ШМИДТ»
Вот это новость! Где–то рядом караван, да непростой, если с ним сам начальник Главсевморпути! Как же так? Мы давно распрощались с последним пароходом и считали, что морская навигация закончилась. Море до пределов видимости покрыто десятибалльным льдом, а самолеты стоят в том состоянии, в каком их оставили Быков и Богданов. На самолете Быкова надо менять мотор, что–то не ладится с мотором и другой машины. Недоумевая, наивно полагая, что с молодого командира не взыщут, я ответил так, как и было в действительности:
«ЛИТКЕ ШМИДТУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ
О ЛЕДОВОЙ НЕ ПРЕДУПРЕЖДЕН ТЧК РАСПОЛАГАЮ ОДНИМ САМОЛЕТОМ Р–5 ЗПТ КОТОРОМ ТРЕБУЕТСЯ УСТРАНИТЬ ТРЯСКУ МОТОРА ТЧК СООБЩИТЕ КОГДА НУЖНА РАЗВЕДКА ГДЕ НАХОДИТЕСЬ ТЧК КАМИНСКИЙ»
Ночью нарочный полярной станции доставил «молнию»:
«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ СЕВЕРНЫЙ КАМИНСКОМУ УДИВЛЕН ВАШЕЙ НЕПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ ТЧК ПОДХОЖУ ШЕЛАГСКОМУ ЗПТ ОБСТАНОВКА ТЯЖЕЛАЯ ТЧК ТРЕБУЮ НЕМЕДЛЕННОЙ РАЗВЕДКИ ПРОЛИВА ТЧК ШМИДТ»
«Вот оно, начинается!» — подумал я, в который раз перечитывая «фитиль», заключенный в первой фразе. Бужу механиков и мотористов, даю задание: найти причину и устранить тряску мотора на Н–44, Мохову проверить бортовую станцию, а Морозову — штурманское снаряжение, обоим готовиться к полету со мной. После нашего отлета Драневичу с мотористами начать смену мотора на Н–42.
Утро, слава богу, начиналось без тумана. Низкие с разрывами облака бежали по небу. Свежий ветер обещал изрядную болтанку, но видимость оказалась утешительной, не менее десяти километров. Драневич доложил, что найти причину тряски мотора не удалось, и я задумался: как поступать?
Летать только на исправной матчасти — мой священный долг. Но проводить корабли — долг не менее важный. Случись что, я окажусь виновным дважды. Да и с жизнью расставаться — это не в карты проиграть!
У самолета собирается консилиум: старший механик Драневич, Островенко, Мохов, Морозов, мотористы. Слушаем мотор на разных оборотах. Мнения авторитетов разделились. Драневич предлагает разобрать клапанный механизм и снять карбюраторы, чтобы найти причину и устранить тряску. Митя считает, что лететь можно. Мохов и Морозов положились на меня. После некоторых колебаний я решил поступать по завету Конкина: «Когда кораблям в море туго, сам погибай, а моряков выручай!»
В первый час полета вместе с трясущимся мотором тряслась и моя авиационная душа. Казалось, что мотор откажет в ближайшую минуту. Однако он продолжал исправно крутить винт, и постепенно страх стал исчезать. Мохов, работавший за радиста, сообщил, что имеет связь с береговыми станциями, за нами следят. От этого возникло ощущение азартной легкости; ведь я делаю нужное дело на глазах у людей! Если даже мотор откажет, все будут знать, что мы погибли не по глупости, а выполняя свой долг.
В первый раз я летел с новыми товарищами и испытывал удовлетворение от их отношения к полету. Оба сосредоточенно выполняли свои обязанности, как будто не было ни тряски, ни болтанки, ни близкого и гибельного соседства льдов под нами.
Кромку сплоченного льда на границе открытого моря мы обнаружили в ста километрах от берега. Широкая полынья проходила южнее острова Врангеля, и от его западной оконечности сворачивала к югу. От мыса Биллингса полынья шла вдоль берега до самой Чаунской губы. Конечно, это выяснилось не сразу, а после четырех часов хождения галсами, курсы которых мне выдавал штурман Морозов.
Никто не учил меня ледовой разведке, но собственный здравый смысл подсказывал, что корабли пройдут, и я радовался тому, что видели мои глаза. Когда картина состояния льдов по пути каравана прояснилась, я, зажав в коленях ручку управления рулями, как умел, нацарапал донесение Шмидту. Вскоре Мохов сообщил, что донесение принято, и на горизонте показался дым.
На траверзе Чаунской губы среди льдов кильватерной колонной шли пять кораблей. Во главе, не жалея дыма, двигался ледокол «Красин», за ним, как я догадался, — «Литке» и два узкотелых боевых корабля, Колонну замыкал какой–то грузовоз.
Так вот почему появился начальник Главсевморпути у берегов Чукотки! Он лично возглавил первую, потому особо ответственную, проводку военных кораблей.
Я снизился, приветствуя отважный караван глубоким виражом. Белые султаны пара показали, что гудками ответно приветствуют и нас…
Чувство гордости охватило меня.
Это была гордость за причастность к осуществлению великой мечты человечества о Северном морском пути. Он уже работает, по нему идут боевые корабли, необходимые Дальнему Востоку моей Отчизны! Сотни, а может, и тысячи гражданских моряков, вся система береговой службы; радисты, метеорологи, гидрологи— несли бессонную вахту, чтобы эти корабли прошли. Где–то на западе другие летчики разведывали дорогу для них, и всю эту гигантскую работу замыкает мой полет здесь, на Чукотке. Я стал как бы глазами капитанов и видел конец их трудного пути среди льдов. Если бы я не смог выполнить эту разведку, капитаны все равно вели бы свои корабли вперед. Но шли бы вслепую и волнуясь. Вероятно, они не решились бы повернуть на север, к Врангелю, где только и возможно выйти на чистую воду. А сейчас они знают это и пойдут спокойно. Впервые так явственно я ощутил свою полезность важному государственному делу…
Осмотрелся, чтобы запечатлеть исторический для меня момент. Облачное, серое небо, аспидно–черная вода, белые льды. На южном горизонте в коричневой дымке едва виднеются берега. Пустыня! И через нее идет караван. Над ним кружится самолет. Еще никогда самолеты не летали над льдами коварного Чукотского моря столь поздней порой.
Год назад мне и не мечталось стать помощником самого Шмидта. А он и понятия не имел о моем существовании. Полсуток не прошло, как он думал обо мне, вероятно, с презрением, а сейчас видит над собой, за пятьсот километров от места вылета. Задержись я всего на один день, и что бы сталось с авторитетом нашего отряда?
Через семь часов полета, измученный бессонной ночью и долгим нервным напряжением, но довольный, я посадил свой самолет на рыхлую гальку у полярной станции мыса Биллингса. Дотянуть до базы не хватало ни светлого времени, ни горючего. С нежностью я оглядел столь же усталых товарищей. Поздравил и поблагодарил их, предложил отдыхать, не теряя ни минуты. Завтра нам предстоял такой же трудный день.
Утром Борис Карышев, начальник станции, и Андрей Владимиров, ее радист, вручили мне следующую депешу:
«С БОРТА «ЛИТКЕ» КАМИНСКОМУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ ВПЕРВЫЕ НА ЧУКОТКЕ ВЫПОЛНЕНА РАЗВЕДКА ТАКОГО МАСШТАБА И ЗНАЧЕНИЯ ТЧК КАРАВАН ВЫШЕЛ ЧИСТУЮ ВОДУ ВАШИ УСЛУГИ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ ТЧК БЛАГОДАРЮ ПРЕКРАСНО ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАДАНИЕ ЗПТ ЖЕЛАЮ СЧАСТЛИВОЙ ЗИМОВКИ ТЧК ШМИДТ»
Прочитав депешу Шмидта, вначале я расстроился. Вроде бы чего–то недоделал. Но сразу же все затмила неожиданная мысль, и я подумал: что произошло? Ведь всего две недели назад в Анадыре я горевал, что уехал Конкин, мне стало страшно от слов: «Остались одни!» За это время я решился и выполнил сложный перелет на гидросамолете через горы. Потом удалось еще более трудное — найти контакт и увлечь за собой новых зимовщиков. А вот теперь и совсем неожиданное. Всего сутки назад я трепетал перед тем, к чему и вовсе не был готов, а оно оказалось мне по силам! Что изменилось? Почему все, казавшееся почти неодолимым, вроде бы решилось само собой? И вспомнились мне слова первого учителя — Гроховского: «Это очень нужно нашей Родине! Помните об этом, и вам не будет страшно в минуту опасности!» Значит, не во мне суть, но в том деле, которое поднимает человека над страхом, заставляет его принимать и осуществлять нужные решения.
Так началась вторая зимовка.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ПЛАЧУ ДОЛГИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
НАЧАЛО ВТОРОЙ ЗИМОВКИ
АБРАКАДАБРА
Мне и прежде не раз приходилось получать искаженные радиограммы, но этот ребус поставил в тупик:
«АБАЗУ КАМИНСКОМУ
ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ПРХНИЛ СЕРЕЖУ АНАДЫРЬ ПРОИСШЕСТВИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ВЕСЕЛИЛИСЬ ДРПАРТУ НЕТЕРПИМО ЖАРИМ ВСТРЕЧУ ФАНЯ».
Со дня на день я ждал сообщения из Анадыря о приезде Тани с трехлетним Сережкой. Догадался, что «Фаня» — это искаженное «Таня», «Прхнил» может обозначать только одно — «похоронила». От этой мысли во рту стало сухо, а под левой лопаткой кольнуло так, что не сразу мог вздохнуть полной грудью. «Нетерпимо жарим встречу…» Черт знает что!
Всматриваюсь в каждую букву и цифру на бланке. Передала Архипова. Что же вы за человек, Архипова? Как можно отправлять в эфир такую галиматью? Передана 29/9 из Хабаровска. Почему из Хабаровска? Ведь я уже имел сообщение из Владивостока. Нет, надо идти на полярку к радистам, выяснить…
До полярки шесть километров пути по гальке. Тревога подгоняла, и я порой срывался на бег. Порывистый ветер гнал по небу стада рваных облаков. Ложбинки на тундре, на галечных наносах приглажены снежком. Чернеют лишь затылки бугров и верхушки кочек. Пестрой чередой они уходят в дымчатую даль к горам. За белой оградой прижатых к берегу льдин неумолчно рокочет море. с северного неба исходит тусклый рассеянный свет, окрашивая все окрест в безрадостные тона. Трудно вообразить более унылый пейзаж.
Непонятная радиограмма с каждой минутой приобретала все более зловещий смысл. Бодрость, напряженность последних дней, особенно после проводки каравана Шмидта, уступили место досаде. Кто меня здесь удерживал? Почему не уехал, как другие, к теплу и устроенности материковой жизни? Зачем поднял с насиженного места Таню с сынишкой? Что с ними стряслось? «Похоронила, похоронила…» — стучало в мозгу с каждым приливом крови. Стало жарко. На подходе к полярке все другие звуки вытеснил тревожный гул моря. Волны с разбегу бросались всей своей массой на гряду прибрежных льдов и взрывались белыми каскадами брызг. В бухте между утесами со злобным шипением взад–вперед каталась галька.
На полярную станцию я пришел, подготовленный к самому худшему. Первым встретился парторг зимовки Кульпин.
— Евгений Иванович! Беда у меня, — и я протянул ему злополучную радиограмму.
Мне показалось, что Кульпин читал непереносимо долго. Он повертел радиограмму, заглянул на обратную сторону и сказал недовольно:
— Тут, как говорится, без поллитра не разберешься. Абракадабра какая–то. Пойдем в радиорубку!
Радист Паршин, которого я знал до этого только по фамилии, оказался чудесным парнем, и » готов был расцеловать его за услышанное.
— Эта депеша проходила через мои руки. Задерживать не имел права, отправил вам, а сам принял меры для проверки. Полтора часа назад кончился пробный сеанс с Чукотским трестом в Анадыре. На ключе оказался радист Васильев. Он вас знает, шлет привет и просит передать, чтобы вы не беспокоились. Ваша жена и сын здоровы, они живут в аэропорту, Васильев сам их видел.
Силы покинули меня, и я опустился на скамейку, не сообразив даже поблагодарить Паршина за такие радостные для меня вести.
— А почему радиограмма прислана из Хабаровска?
— Видите ли, короткие волны на близких расстояниях идут плохо, а Хабаровск берет их отлично. Вот и сбывают анадырцы корреспонденцию через Хабаровск. Оттуда ее через Петропавловск–Камчатский передают на Уэлен… Длинная цепочка. И получаются искажения. Сохраните этот уникальный экземпляр для музея или, если хотите, для потехи внуков.
Не успели мы закончить разговор, как из контрольного громкоговорителя посыпались точки–тире.
— Васильев зовет! — Паршин надел наушники, приник к бланку, а я ловил из–за его плеча обращенные ко мне слова:
«АВИАБАЗА КАМИНСКОМУ
ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ПРИЕХАЛА СЕРЕЖЕЙ АНАДЫРЬ ЗПТ ПУТЕШЕСТВИЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ ЗПТ ПОСЕЛИЛИСЬ АЭРОПОРТУ ЗПТ НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВСТРЕЧИ ТЧК ТАНЯ»
Раз за разом перечитывал я сообщение, сравнивал его с первым, и, хотя тревога моя рассеялась, от пережитого мне стало зябко.
Только тот, кто долго жил в разлуке, знает цену последним часам перед свиданием с любимыми. Мои жена и сын проехали поездом и пароходом без малого пятнадцать тысяч километров, осталось всего шестьсот, но их–то сейчас и не преодолеть.
Возвращался на базу окрыленный. Темнело, все так же ревело море, но настроение переменилось. Ни освещение, ни унылость пейзажа не угнетали, да и ветер дул в спину. Предстоящая зимовка уже не казалась столь тягостной, как три часа назад. Есть у меня, как сам считаю, благая черта в характере — не жалеть о сделанном и не паниковать перед неизбежным.
Наша база еще не готова к зиме. И оставить неокрепший коллектив даже ради любимых я не могу. Если бы и хотел, все равно это сделать невозможно: только через месяц, в начале ноября, замерзнет Анадырский лиман, чтобы принять наши Р–5 на лыжах. А площадок, где можно было бы посадить самолет на колесах, там нет от сотворения мира.
Выдержал полтора года, выдержу еще месяц. Важно, что Таня и Сережа живы и здоровы…
О НАШЕЙ БАЗЕ
Тундра и вечная мерзлота под ней заполнили огромные пространства к северу от Полярного круга. В летнее время по тундре ни пройти, ни проехать. Только кочевники пасут здесь своих полудиких оленей. Да и то не везде. На низменных местах не растет даже олений мох. Берег полярного моря — это либо скалы, либо заболоченные равнины. Лишь кое–где море отвоевало у топкой тундры и выстлало галькой узкие полоски у мелководных лагун.
Морю понадобились миллионы лет усердной работы, чтобы между коренной тундрой и водой намыть из гальки относительно ровную и достаточно большую площадку. Тысячи веков творила природа аэродром для самолетов XX века. Впрочем, между этой галечной площадкой и аэродромом сходства не больше, чем между чукотской ярангой и Большим театром в Москве. И все же это не бугристая тундра, а твердый грунт. На всем протяжении от Берингова пролива до устья реки Лены это единственное ровное место.
На заре авиации существовал предрассудок, что такие хрупкие создания, как самолеты, не могут ночевать под открытым небом, что им, как и людям, нужен свой дом — ангар.
Сооружение ангара обходится дорого, даже если неподалеку есть лес. На Чукотке он стоил безумных денег. Лишь такое событие, как спасение челюскинцев, поколебало скаредность Наркомфина, и средства были выделены.
Строители вложили в ангар всю свою энергию и старание. Его построили из бруса великолепной сибирской сосны. В оставшееся время соорудили дом и баню для летчиков. Дом чудной: жилые помещения — восемь комнат — вознесли на второй этаж, а пустоту первого обнесли стеной метровой толщины из дикого камня и обложили ее «тундрой». В будущем здесь будут кухня, столовая, кладовка.
Каменная стена просвечивалась насквозь. Не отличались герметичностью и стены жилых комнат, на их отделку у строителей не оставалось времени и материалов: вся привезенная пакля ушла в стены ангара.
Зато непроницаемый для пурги ангар возвышался как гордый символ могущества человека, преодолевшего земное тяготение. Правда, построили его не в «розе ветров». Пурга нагромождала сугробы у ворот до самого конька крыши, и до наступления лета пользоваться этим убежищем для самолетов не представлялось возможным. Да и теплой мастерской при ангаре не было. Когда возникала надобность разобрать карбюратор или выполнить какую–нибудь поделку, бортмеханик и мотористы бежали в жилой дом, до которого от ангара было 400 метров, и там в тепле, кое–как примостившись, копались в своей технике. При этом они тащили грязь, авиационные и неавиационные запахи.
Мастерская была нужна позарез. Но от строительства не осталось ни единой доски: все сгорело в ненасытных печах предыдущей зимовки. Вот когда мы узнали цену каждой дощечки! Пришлось бережно разбирать освобождавшиеся ящики и таким путем накапливать строительный материал. Труднее всего оказалось найти что–либо подходящее для столбов, балок, стропил. Осмотрев ангар, нашли возможным изъять некоторые «излишества». Так мы построили некое подобие совсем маленькой мастерской и радовались ей как величайшему благу.
Я уже рассказывал о молодых ребятах, работавших плотниками на строительстве ангара, — Мише Кислицине, Андрее Дендерюке и Сереже Меринове, которых Конкин соблазнил остаться мотористами. Наши механики не жалели усилий для их обучения. Постепенно, шаг за шагом эти ребята накапливали опыт и знания, тем более прочные, оттого что добывались они в трудных условиях собственными руками и головой. Чукотская авиабаза многим обязана этой троице.
ГЛАВА ВТОРАЯ
МЕРТВЫЕ СЛУЖАТ ЖИВЫМ
«СЕЙЧАС МЫ НЕ КРОЛИКИ!»
Мы в воздухе.
Саша Мохов тронул меня за плечо. Пристроив под шапку наушники, я взял трубку переговорного аппарата:
— Товарищ командир, Анадырь закрыло туманом, нас не принимают. В заливе пока ясно.
— Отлично, идем в залив!
Я оглянулся на ведомого. Он шел рядом. Мы давно не летали, и Сургучеву доставляло удовольствие держать крыло своего самолета у хвоста моего. Надобности в столь близком соседстве не было, но я тоже любил эту волнующую тренировку глазомера и точной реакции, которых требовал полет в тесном строю. Сургучев и летевший с ним Митя заметили мои переговоры с радистом, и, чтобы они не беспокоились, я показал им большой палец: все в порядке!
Было начало ноября. Полтора часа назад, еще в глубоких сумерках, мы вылетели в паре с Сургучевым с базы. Дойдя морским побережьем до устья Амгуэмы, я повернул вдоль нее на юг. Позади осталось небо, усыпанное звездами. Отраженный свет тускло освещал долину застывшей реки. В этом призрачном освещении, как часовые на посту, замерли по сторонам сумеречные сопки, а берега еле угадывались по черточкам обрывов и щетинистому пунктиру кустарника.
В такое время года по этому маршруту самолеты через хребет еще никогда не летали. Единственная попытка, предпринятая Волобуевым, закончилась трагически. Я не мог не думать об этом. Невольно сравнивал свои ощущения с теми, которые, как мне казалось, должен был испытывать тогда летчик Буторин. Ни день, ни ночь — короткие сумерки. На карте «белое пятно», маршрут незнакомый, впереди хребет, а радиосвязи и штурмана нет. Буторин летел в тревожную для себя неизвестность один и трепетал. Мы идем вдвоем, и я чувствую себя уверенно, так как знаю каждый поворот виднеющейся внизу реки. Но все равно безлюдная горная долина, скудно освещенная оранжевым небом, как затаившаяся опасность, держала нервы в напряжении.
Подходим к северным склонам хребта. Здесь Амгуэма поворачивает на запад, как бы приглашая следовать за собой, туда, где горы ниже и положе. Этот–то поворот и обманул Буторина. Но я знаю: надо сделать насилие над своей психикой и почти сто километров лететь над запутанными лабиринтами горных круч. На фоне неба пасти ущелий не просматриваются до дна и кажутся провалами в преисподнюю. Стремясь уйти от них, набираю высоту. Вот показалась синева Берингова моря, и солнце ударило в глаза всей своей мощью. Я зажмурился и рассмеялся. Вот оно, солнце! Как долго мы не видели его!
Когда разлепил глаза, не сразу понял, почему море белое. В наушниках раздался голос радиста:
— Залив закрывает туман.
Теперь я увидел своими глазами узкий язык морского тумана, вползающий в залив. Его верховья еще открыты, и на черной глади играют солнечные зайчики.
Ну и ну! Мы у самой цели, и ее на глазах закрывает! Возвращаться поздно. Да и обидно, не каждый раз хребет открыт, как сегодня. Мною овладело строптивое чувство: опять эти чукоткины штучки! Опять она экзаменует меня!
Но, уважаемый профессор, не иначе, как вы забыли, что однажды уже приняли у меня зачет по этому предмету. Воля ваша, если хотите, отвечу еще раз!
Примерно так я определил бы свое внутреннее состояние, ощутив холодок, защекотавший спину. Некоторое время лечу, не меняя курса, размышляя и вглядываясь в окружающее. Слева туман уже лижет подножия гор, но справа все, что южнее хребта, открыто. Это хорошо. Значит, место для посадки найдется, не надо будет возвращаться в темноту…
Покачав с крыла на крыло — знак ведомому: делай, как я! — круто, со снижением разворачиваюсь вправо. Сургучев отдалился: идет за мной. Мы следуем к западу от залива вдоль южных склонов Анадырского хребта.
Перед нами расстилалась холмистая тундра предгорий, и, вероятно, Сургучев недоумевал, почему я веду его в эти буераки. Но я знал, что туман закроет равнину, а сюда может не дойти. Полгода назад поиски Волобуева дали мне общее представление об этой местности. Я был уверен, что найду где приземлиться. И еще подумал: так мертвые служат живым!
Вот озерко, но оно мало. Вот ровный участок тундры, но время есть, поищу что–нибудь надежнее. Минут через сорок наконец обнаружил.
В седловине между двух сопок притаилось почти круглое озеро, метров 800 в диаметре. Большая часть его поверхности покрыта матерыми застругами, но у берега, под склоном сопки, идеально ровная полоска. Все! Лучшего места не придумаешь! Говорю Мохову:
— Передай Анадырю, что садимся на озере, приблизительно в шестидесяти километрах к западу от верховьев залива Креста. Пусть не беспокоятся, место хорошее.
Прикинув время рассвета на этой широте, добавил:
— Завтра с девяти утра пусть ежечасно дают в эфир свою погоду.
…Вынужденная посадка… Год назад меня, аэродромного летчика, эти слова пугали скрытой в них угрозой. Но Чукотка еще не знала, что такое аэродром. Она приучила нас видеть его везде, где мог приземлиться самолет, — даже в горах. Особого волнения перед этой посадкой я не испытывал. Однако не был и спокоен. Пытаюсь понять — почему? Может быть, это чувство ответственности командира? Ведь Сургучев не попадал в такие передряги. Нет, не это главная причина… Ага, понял…
Чувство, унаследованное от пещерных предков, когда те отрывались от человечьей стаи. Для жителя XX века все же неестественно решаться на ночевку под открытым небом в столь неуютной обстановке. Кто знает, сколько придется здесь просидеть, а чукотская зима шутить не умеет.
Низкое, красноватое солнце расстилало свои лучи параллельно земле. Все, чего они касались, окрашивалось в розовато–желтый цвет. Стена хребта в отдалении чернела осыпями, теневые стороны бугров мертвенно синели. От пустынного пейзажа и сочетания таких красок возникало представление о Великом холоде, ждущем нас на земле. Подавив свое томление, подумал о самочувствии ребят.
Сургучеву только двадцать шесть, возраст впечатлительный, вероятно, переживает. Саня Мохов и вовсе впервые знакомится с зимней Арктикой. Мне надо держаться так, будто ничего особенного не произошло. Издержки нашего полярного ремесла, не больше того. Пусть закаляются!
Учтя безветрие, захожу на посадку так, чтобы солнце подсвечивало сзади. Лыжи нежно прикасаются к шероховатой поверхности снега, и машина замедляет бег. Выскакиваю из кабины и ложусь, раскинув руки, изображая посадочное «Т». Сургучев садится и подруливает к моей машине, крыло в крыло. Скрещиваю руки — знак выключить моторы. Тишина оглушает. Лишь потрескивают остывающие моторы и скрипит снег под ногами идущих ко мне товарищей.
Митя возбужден, как студент после удачного зачета. Разобрал его последнюю фразу, обращенную к Сургучеву:
— Это что, вот в прошлом году нам досталась посадочка — дай боже! А сейчас мы не кролики, не пропадем!
Правильно говорит Митя, но подошедший Володя Сургучев, вытирая пот со лба, смотрит вопросительно.
Мохов тоже серьезен. Их можно понять. На эту посадку они смотрят как на постигшее их стихийное бедствие, преследуемое авиационными инструкциями. Чтобы они летали здесь безбоязненно, их психологию надо заставить принять как реальную действительность возможность таких посадок в случае нужды. Буторин потому и погиб, что пробивался к людям в плохих для полета условиях. А на Чукотке этого делать нельзя.
— Посадка отличная, Владимир Михайлович! Поздравляю с крещением. Как видите, законы природы извинений не просят.
Ограничив этими словами всю сферу переживаний, перевожу разговор в деловое русло:
— Обратите внимание, как лежат остриями заструги. Самолеты сели и стоят точно в плоскости пургового ветра. Переруливать нет надобности, будем закрепляться на месте. Быстренько слить воду, пока не прихватило крыльчатку водяной помпы. Потом ставить палатки и якорить машины. Если не запуржит, завтра будем в Анадыре.
Знаю по себе благотворное действие уверенной распорядительности старшего. Польщенный похвалой за посадку, ободренный моим спокойствием, Сургучев заулыбался.
— Такое, знаете, трудно проглотить сразу. Думал, вернемся на базу, потом гляжу — вы пошли сюда. Митя сказал, что будем садиться. Где, думаю, сядем среди таких бугров? А оказалось, место — лучше и не надо. Только, наверное, в эту ночь нам на жару обижаться не придется?
— Ты, Володечка, пока ездил в Москву, отстал от жизни, — вмешался в наш разговор Митя. — В моей палатке переночуешь, как на даче!
Сургучев недоверчиво пожал плечами, а я спросил Мохова, намекая на его любимую поговорку:
— Вам у Зингера не пришлось тренироваться на вынужденных?
— Чего не было — того не было! — в тон, чуть улыбнувшись, ответил Саша.
— Ну не будем терять времени, прения сторон состоятся во время ужина. Замечайте, чего не будет хватать для жизни в палатке. В Анадыре пополнимся.
Через два часа мы уже лежали в спальных мешках, переживая прошедший день. В соседней палатке бурчал Митя, изредка слышался голос Володи Сургучева. Рядом ворочался и вздыхал Саша Мохов. Я не забывал, что в Анадыре меня ждет Таня. Предстоящее свидание волновало. Но это не мешало мне трезво осмысливать свои поступки.
Впервые в полете я отвечал не только за себя. Мой опыт созрел для принятого решения. И вновь, как на мысе Биллингса, после радиограммы Шмидта, я спросил себя, что заставляет меня поступать так, а не иначе? Куда девались прежние материковые представления о том, как надо летать? Сегодня я сознательно пренебрег основным законом авиации, гласящим, что для посадок самолетов существуют аэродромы. И уверен, что поступил правильно.
Не впервые здесь, на Чукотке, я пришел к выводу, что хорошо летать — не значит делать красивый взлет и трехточечную посадку. В этом смысле Буторин был лучшим среди нас,
Но стремление во что бы то ни стало пробиться на аэродром оказалось для него гибельным. Самое правильное соблюдение инструкций не гарантирует экипаж от несчастья. Ни одна из инструкций не может предусмотреть всего, что случается в жизни. Сто раз прав старик Конкин, предлагая в каждом случае советоваться со здравым смыслом. Творческое осмысление обстановки в воздухе, способность к самостоятельным решениям — вот что главное в летчике! Этому же учат, строго говоря, и правила полетов.
Вдумчивого человека проигранное сражение учит больше, чем выигранное. Урок, полученный мной и Митей у совхоза «Снежное» в ноябре тридцать пятого, мог испугать до смерти. Но он пошел на благо.
Первая заповедь для вынужденной посадки, которую мы усвоили, была сформулирована так: сохранить самолет — значит, сохранить и жизнь. Поэтому важнейшей нашей задачей стало научиться крепить самолет на стоянке так, чтобы никакой ураган не мог сорвать и поломать его.
Не менее важным средством жизнеобеспечения стала палатка. В нашем распоряжении имелась летняя палатка армейского образца — тяжелая, громоздкая для тесных Р–5 и совсем непригодная для арктических условий. Много дней мы конструировали и сами шили герметичную, легкую и удобную палатку. В такой палатке пурга нам уже не страшна.
Неприкосновенный запас в запаянной банке, приготовленный чужими руками, не удовлетворял нас ни количеством, ни ассортиментом. Если не хочешь бедствовать, не поленись приготовить НЗ сам и рассчитывай его не на двадцать дней, как на материке, а минимум на сорок; по килограмму сухого продукта на сутки. Мы отдавали предпочтение мясным консервам. Банками можно было заполнять многие пустоты между баками и даже в моторной гондоле. От такого соседства консервы не портятся.
Много внимания было уделено нами походному и лагерному снаряжению. Примусы, посуду, спальные мешки, кирку, лопату, топор, снежную пилу, якоря и тросы для крепления самолета — все, вплоть до примусных иголок, каждый экипаж подбирал и комплектовал для себя сам. Мы твердо придерживались принципа: все уложенное в самолет должно легко извлекаться даже при аварии и всегда быть готово к немедленному употреблению. Примусы отрегулированы под бензин и заправлены. Две иголки подвязаны к ножке… Как будто бы мелочи, но каждая из них существенна, когда идет борьба за жизнь. Да, действительно, инструкции не могли предусмотреть всего того, чему научил собственный опыт.
Взвесив все таборное хозяйство, мы ужаснулись: больше 200 килограммов. Куда разместить? На наше счастье, на базе обнаружились подвесные (под крыло) кассеты Гроховского; в них Каманин и Молоков перевозили челюскинцев из ледового лагеря. Что не вошло в кассеты, разместили под мотором, между баками, и только самое легкое, вроде оленьих шкур, нашло место в хвосте.
Автономия! Так мы назвали все, что должно было обеспечить нам жизнь при вынужденной посадке, а затем и самостоятельный взлет. Мы гордились своей предусмотрительностью, она делала нас смелыми.
Оставалась одна проблема: трудный запуск мотора. Его решил Саня Мохов. Оказалось, инженер группы Волобуева Прокоп Антонович Аникин привез с собой редкостные в те годы специальные движки–компрессоры для запуска моторов сжатым воздухом. Механики Румянцев и Банин не смогли одолеть их капризов и предпочитали обходиться методом каманинцев, которые натягивали надетые на лопасть пропеллера амортизаторы и тем самым давали ему раскрутку на несколько оборотов. Но такой метод требовал, как минимум, шести человек. У Мохова эти движки заработали…
Я уже задремал, как вдруг раздался гулкий выстрел. Лед под палаткой заколебался. Саша приподнялся в мешке: «Что такое?» Наспех натянув унты и набросив куртку, я выскочил наружу. Кромешная тьма, мертвая тишина и кусачий холод. Ежусь под натиском мороза, присматриваюсь и прислушиваюсь. Вот еще выстрел. Понятно: трескается лед на озере. Подошел к своему самолету! Ого! Синий столбик спирта в термометре перевалил за минус тридцать пять.
У палаток трое моих товарищей ожидали разъяснений.
— Ложитесь спокойно, это мороз работает!
Засыпая, я стал думать о Тане. Я знал ее еще пятилетней девочкой, так как наши семьи были дружны. Потом на долгие годы судьба разлучила нас. Когда я ее встретил вновь, Таня была уже девушкой. Толстенная коса ниже пояса, голубые глаза, соболиные брови, яркие губы, чуть вздернутый носик на типично русском лице, осиная талия… Было от чего потерять голову. Но завоевать ее оказалось делом нелегким: конкуренты–обожатели ходили за Таней толпами. Однако пришел день, когда Таня стала моей женой. С ранних лет она работала и училась. Это выработало в ней независимость и самостоятельность. Мой труд она уважала по–настоящему, не охая и не причитая, когда я отправлялся в полет. Моему стремлению в Арктику сопротивлялась, однако вскоре смирилась. Три года назад, когда я еще служил испытателем в КБ Гроховского, Таня родила мне Сережку. Сережка — малый отменный, буквально с пеленок тянется к технике, теша мое отцовское сердце. Однажды, когда его, двухлетнего, переводили через улицу, он увидел оторвавшуюся от трамвая тормозную буксу. Уцепился в нее ручонками и потребовал; «Мама, неси домой!» Перед самым моим отъездом ему досталось от Тани за то, что отверткой вывернул все винты из швейной машины. Сейчас ему три с половиной. Какой он стал, мой Сережка?
Таню я оставил на последнем курсе нефтяного института. Она едет сюда уже с дипломом инженера. Не затоскует ли? Нет, что ни говори, в самом важном для мужчины — в выборе профессии и жены — я не промахнулся. Кому везет, так везет во всем!
И я заснул с приятными мыслями о завтрашней встрече с любимой.
О ТОВАРИЩАХ
Морозное утро встретило нас ясной погодой. Солнце уже взошло — все небо над головой светилось голубизной. Мы уже отвыкли от такого зрелища, и оно радовало глаз. Первыми поднялись механики, под моторами журчали примусы подогрева.
Подошел Сургучев. Пожелав доброго утра, поинтересовался, можно ли убирать палатку и укладываться.
— Подождем, Владимир Михайлович! Налаживать табор дольше, чем разбирать. А вдруг погоды нет и лететь некуда? А как вам спалось? Не пришлось дрожжами торговать? — пошутил я.
— Как ни странно, спал как младенец. Утром Митя развел примус, и я встал в тепле, как буржуй. Просто удивительно, что на вынужденной можно жить, не бедствуя!
— Ходит, Володя, среди летчиков поговорка: «Лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь покойником!» Сомнительная поговорка, но оказавшиеся в нашем положении могут найти в ней некоторый смысл. Когда прижмет непогода, лезть на рожон, пробиваться во что бы то ни стало — это уже не смелость, а отчаяние. А вы убедились, что разумный выход есть.
— Не выход, а целые ворота, — Сургучев рассмеялся. — Но смотрите, что–то Саша там машет…
— В Оловянной туман, а в Анадыре ясно, нас ждут! — доложил, улыбаясь, Мохов, когда мы подошли к нему.
— Ну вот, теперь можно и укладываться! Мы принялись разбирать палатки. Работая, я думал о новых моих товарищах.
Володя Сургучев оказался уживчивым и компанейским парнем. Пока что я не заметил в нем инициативности, свойственной Катюхову, однако его способность подчиняться разумным решениям и выполнять порученное не за страх, а за совесть располагала к доверию. Как летчика я наблюдал его впервые.
Умение взлетать, садиться, держаться в строю — само собой разумелось и теперь уже не представлялось мне главным в летчике. А вот как он переносит осложнения обстановки в полете? Боится, нервничает, теряется или сохраняет выдержку? Как принимает решения — своевременно, до наступления опасности, или начинает метаться, когда уже нет выхода? Этот наш полет не мог дать исчерпывающего ответа на подобные вопросы, но кое–что прояснил, Митя успел шепнуть, что не заметил в своем летчике «нервоза». Он не возмущался, спокойно следовал за ведущим. Это признак уравновешенности. После посадки Сургучев безо всякого гонора подчинился опыту Мити. При креплении машины и разбивке лагеря он не командовал, а спрашивал, что и как делать. Это признак готовности учиться тому, чего не знаешь, — качество весьма важное для полярника. Все ранее подмеченное и свежие наблюдения дополняли общее впечатление о Сургучеве как о добром и сильном человеке. Мой Митя был гренадером, а Володя еще массивнее. Все в нем было крупным и вызывало симпатию с первого взгляда: медведь, да и только!
Мохова вся зимовка звала Сашей или Саней. Однако отнюдь не потому, что он казался или был рубахой–парнем. В этой фамильярности было что–то от заискивания. Мохов был мастеровит, и каждый хотел иметь его другом. Он окончил всего семь классов, рано начал своими руками зарабатывать на жизнь. Эта необходимость в сочетании с природной одаренностью, видимо, и сотворили из него мастера, способного найти выход из любой технической трудности. Когда его спрашивали: «Сделаешь?», «Сумеешь?», он неизменно отвечал: «Шестнадцать лет по этому делу у Зингера работал». Теперь это забыто, но в те времена имя главы фирмы швейных машин Зингера пользовалось большой известностью. Еще я заметил в Мохове неимоверную выдержку. Однажды, копаясь в моторе, он сильно обморозил руки. Целую неделю кожа с его пальцев слезала лоскутами. Но мы не услышали ни единой жалобы. Самостоятельно кое–как перевязав руки, он каждый день продолжал работать вместе со всеми. Своей стойкостью гордился, на похвалы не напрашивался, но принимал их со сдержанным удовлетворением. И внешне — длиннорукий, чуть сутуловатый, с мощной статью партерного борца — Мохов казался эталоном человеческой прочности. Такой не расслюнявится, какая бы напасть ни свалилась на голову.
В общем, для полярной зимовки, и для нашего отряда в особенности, он оказался сущим кладом. Кроме специальности бортмеханика, Мохов владел радиотехникой и мог работать радистом. Ввиду такого ценного сочетания профессий мне пришлось пожертвовать Митей и в перелетах брать с собой Мохова, чтобы иметь связь на своем борту.
Каждый хочет иметь верных товарищей. Тому, кто хоть за что–нибудь отвечает, по душе надежные соратники. Думая об испытании, которое довелось перенести этим ребятам, я понимал, что они доверяли мне. И от макушки до пяток ощущал признательность, какую–то неизъяснимую теплоту…
Тем временем становилось все светлее. Сопки закрывали от нас солнце, но небо стало большим и словно просвеченным изнутри. Боже мой! До чего же хорошо жить с солнцем, каждый день встречать и провожать его, видеть эти нежные изменчивые краски на просторном небе! Впервые Чукотка показалась мне приветливой, несмотря на мороз, пощипывавший лицо и руки.
Через час после взлета мы уже совершали двойной «круг почета» над Анадырем.
Невооруженным глазом видно, что мы подняли на ноги всех обитателей «столицы» и ее окрестностей. Появление самолета для них — событие первостепенной важности.
Около дома, который мы именовали аэропортом и к которому подрулили, нас окружила толпа встречающих: собралось едва ли не все население поселка.
Но я видел только сияющие глаза моей Тани и Сережку, который держался за подол ее кухлянки. Едва мы успели обменяться торопливыми поцелуями, как со всех сторон меня атаковали анадырцы: кто поздравлял с благополучным полетом, кто приглашал в гости, а некоторые спешили изложить свои просьбы…
МЕНЯ СПАСАЕТ ВОЛЧЬЯ СТАЯ
Ни в одной книге нельзя пересказать жизнь человека день по дню. Поэтому опускаю все, что дорого лично мне и не существенно для читателя. Остановлюсь только на анадырском периоде работы в тридцать шестом году.
В начале этих записок я упоминал, что история полетов в небе Чукотки начинается с облета острова Врангеля О. А. Кальвицей в 1926 году. Над Анадырем первый самолет появился только в 1932 году. Это был гидросамолет летчика Г. А. Страубе, прилетевший с экспедицией С. В. Обручева, о чем было подробно рассказано ранее.
В тридцать четвертом году во время челюскинской эпопеи Анадырь стал транзитным пунктом для всех самолетов, летевших в лагерь Шмидта. В марте тридцать пятого из Хабаровска на Чукотку в паре с летчиком Линделем совершил перелет М. В. Водопьянов. Все эти посещения Анадыря авиаторами имели экспедиционный характер, и сделать что–либо полезное непосредственно для окружного центра они не могли. Но вот осенью тридцать пятого здесь обосновался отдельный отряд из двух самолетов Чукотской авиагруппы. Наконец–то! — радостно вздохнули анадырцы. Однако радость оказалась преждевременной, ибо окружные организации вместо помощи себе очутились перед необходимостью помогать в розысках то одного, то другого пропавшего летчика.
Прошел еще год. Самолеты северного отряда работали в геологической экспедиции, на ледовой разведке, обслуживали зимовки, а окружные организации по–прежнему рассылали своих работников на собачьих упряжках зимой и на байдарках летом. И вот в Анадырь летят два самолета, чтобы сделать что–либо реальное. И вновь садятся на вынужденную. Слава богу, что хоть не просят помощи, сами выбираются из беды и все у них в исправности. Я ожидал встретить у руководителей округа холодок недоверия, но, видно, людям свойственно не терять надежды на лучшее. Вопреки ожиданиям, нас встретили с ликованием и, как говорится, не знали, где посадить.
Интересно рассказывать о волнующих происшествиях, требующих находчивости и других качеств, от которых зависит жизнь. Трудно описывать простую, хотя и удачливую работу. День за днем мы летали с Сургучевым без всяких осечек. Стояла хорошая погода, моторы запускались вовремя, ничего не ломалось, и каждую ночь мы ночевали под крышей.
Впервые от сотворения мира специальная экспедиция обследовала реку Анадырь на судоходность. Оказывается, это вовсе не простое дело — видишь воду и плыви себе! Всю реку надо промерить, выявить фарватер, составить карту и лоцию, сделать положенное число астропунктов и поставить навигационные знаки. Для этой цели и прибыла гидрографическая экспедиция Главсевморпути под руководством Подгородецкого. В ее составе было человек сорок. Для округа работа экспедиции имела жизненно важное значение, и председатель окрисполкома Тевлянто просил меня в первую очередь помочь ей. Нам пришлось развозить отряды партии с их снаряжением по всей реке, до Усть–Белой включительно. Пользуясь отличной погодой, за неделю мы решили задачу, представлявшуюся Тевлянто и Подгородецкому неимоверно трудной. Потом нам поручили перевозку грузов торговой конторы в Усть–Белую, «Снежное» и Марково. И с этим справились быстро. И стали развозить командированных в различные пункты южного побережья Чукотки. Судья, прокурор, учителя, врачи, советские и партийные работники доставлялись туда, куда им требовалось. В свою очередь, появились пассажиры, у которых были дела в окружном центре.
Короче говоря, два наших самолета за короткий срок полностью удовлетворили нужды Анадыря и восстановили авторитет авиации. Ограничиваю себя этой краткой справкой, чтобы рассказать об одном эпизоде, которому я бы не поверил, не случись он со мной.
К декабрю, осмелев от удачных полетов, когда стало казаться, что между Анадырем и Усть–Белой нами все изучено, мы стали летать и порознь. Однажды я послал Сургучева с Моховым к устью реки Великой с инструментом для астрономического отряда Карандашова, а сам с Митей повез в Усть–Белую старшего прораба Ивана Суярова и его жену, техника Марию Суярову. Обратно вылетели с грузом пушнины.
Половина пути была пройдена безмятежно. До Анадыря оставалось лететь минут сорок, как вдруг атмосфера непонятно почему замутилась, стала мглистой. Хотя небо по–прежнему голубело в просветах, но видимость горизонта сужалась, вынуждая меня снижаться. Надо бы развернуться обратно, на хорошую погоду, но я промедлил, полагая, что ухудшение видимости—местное явление. Бровка берега четко обозначалась непрерывной линией кустарника, и я шел по ней, как баран на веревочке.
— Ах черт, какая досада! Надо было вернуться! — с нарастающей тоской повторял я про себя, опуская крыло к земле и выжидая появления более широкой плоскости кустарника, чтобы по ней совершить разворот. Я крутил «восьмерки» на десяти метрах высоты, цепко держась за путеводную нить берега.
Сколько раз пролетал этим берегом, и он казался прямым как стрела. Откуда только берутся сейчас все эти мысы, изгибы, повороты? Как привязанный держу крыло вровень с чернеющей полоской и извиваюсь вместе с береговой чертой. А туман все гуще и плотнее. Всей кожей начинаю чувствовать безнадежность своего положения: сию минуту самолет заденет за землю, стремительно развернется и со страшной силой ударится мотором. Оборвутся бензиновые трубки, бензин вспыхнет, и много спустя люди станут гадать; кому же принадлежат эти изуродованные, обгоревшие тела?..
И когда отчаяние дошло до предела—совершилось чудо. Внезапно из белой мглы прорезалась россыпь черных точек прямо по курсу. Эти точки обозначили плоскость земной поверхности. Не раздумывая, что это за точки, только каждой своей клеточкой ощущая их спасительность, убираю газ и выравниваю по ним машину. И вот она уже стоит как вкопанная на земной тверди, мое сердце замедляет темп и колотится не так бешено. А точки—то была волчья стая—бросаются в разные стороны и скрываются во мгле.
Митя вопреки вулканическому темпераменту на этот раз не «катапультировался» из своей кабины, а медленно, «по слогам», покинул ее. Он сошел, не оглядываясь, и растаял в тумане.
Обалдевший, я сидел в кабине, не имея сил и желания двигаться. Скверно! На мякине попался, старый воробей! Мотора я не выключал, чтобы Митя вернулся на его звук. Он возвратился минут через пятнадцать, когда я и не знал, что думать о его уходе, вернулся совсем с другой стороны.
— Куда ты ходил, Митя? — в моем голосе не было ничего от командирской твердости, вопрос прозвучал неуверенно и льстиво.
— Смотрел, куда мы устряпались! — без заметного раздражения, но холодно ответил Митя,
— Ну и что?
— А ничего! В который раз убеждаюсь, что кому–то из нас кошмарно везет!
— Наверное тебе, Митя!
— Тогда ты пропадешь без меня, командир! Выключай мотор!
Я выключил мотор, Митя накрыл его чехлом, затем вытащил из самолета палатку и стал устраивать лагерь. Я решил обойти наш «аэродром». Осмотрел место, на которое, по Митиному выражению, мы «устряпались», и меня охватил стыд. В нашей жизни было немало всякого, но еще ни разу мы не подвергались опасности так глупо.
Берег реки образовал здесь длинный уступ, повернутый в глубь тундры. Тальник кончался там, где высокий берег снижался до уреза воды. В тундру вклинивалась довольно ровная, покрытая снегом болотистая низменность. Летом в нее нес свои тощие воды ручей, сбегавший с окрестных возвышенностей. Образовавшийся рукав с трех сторон окружали бугры — наш самолет не добежал до них метров тридцать. Позади, чуть дальше точки приземления, осенний ледостав прижал к берегу такие глыбы торосов, на которые и смотреть–то было неприятно. Выполненная вслепую посадка пришлась на естественную площадку, как будто специально отмеренную для моего Р–5. Отклонение в любую сторону хотя бы на пятнадцать метров—и в лучшем случае битая машина… «Да! — подумал я про себя. — Ничего не скажешь, действительно дурацкое счастье!»
Митя не донимал меня попреками, молча вскипятил на примусе воду, заварил чай, разогрел консервы и, поев, демонстративно завалился спать. Митино молчание я воспринимал как поджаривание на медленном огне и долго в одиночестве бродил по «аэродрому», пока усталость не кинула в сон и меня.
Наутро туман рассеялся, и мы благополучно вернулись в Анадырь. Здесь никто не беспокоился, считая, что мы заночевали в Усть–Белой. Но это–то и обеспокоило меня. «Хорошо, что мы не нуждались в помощи, — размышлял я, — а если бы все сложилось иначе? Ведь нас хватились бы в лучшем случае через сутки». Рассказав Сургучеву и Мохову об этом происшествии, я установил за правило: летчику не ложиться спать до тех пор, пока с места ночлега не уйдет сообщение о местопребывании. Если же такие сведения на базу не поступят, оставшемуся экипажу с утра начать поиски пропавшего.
КАК ПОЧТИТЬ ОТВАГУ ПОГИБШИХ?
Добрые вести имеют длинные ноги. Какими–то неведомыми путями Чукотка узнала, что «летают самолеты». И люди, привыкшие к оседлой неторопливой жизни, вдруг почувствовали тягу к воздушным путешествиям. В окружком, окрисполком, Анадырский политотдел и на мое имя посыпались запросы. Райкомы, райисполкомы, начальники экспедиций и зимовок просили прилететь, перебросить в Анадырь, доставить обратно. Все, на что прежде до прибытия пароходов просто махнули бы рукой, неожиданно стало неотложным, приобрело небывалую остроту. Еще бы! В Анадыре можно решить «больной» вопрос, добыть дефицитное и даже выточить какую–то сломавшуюся деталь: единственный на всю Чукотку токарный станок и сварочный аппарат имелись только здесь. В свою очередь, и окружным организациям оказалось до зарезу необходимым послать то в один, то в другой пункт своего инспектора или вызвать местного работника для доклада. Полное отсутствие удобств в полетах возмещалось энтузиазмом наших пассажиров.
Короче говоря, объем работы возрастал, и я вызвал на подмогу третьего и последнего нашего летчика Георгия Катюхова. С ним летели бортмеханик Берендеев и радист Миша Малов. Катюхов должен был пройти тем же маршрутом, каким летели мы с Сургучевым… За прошедшие три недели сумеречное время за хребтом сократилось еще больше, приближалась середина полярной ночи. Памятуя о трагическом перелете Волобуева, я принял меры предосторожности. В день полета Катюхова мы с Сургучевым дежурили на базе геологов в бухте Оловянной, а моторы наших Р–5 были разогреты. С раннего утра я сидел в рубке радиста Володи Высотского. Убедился в наличии двухсторонней связи, сам передавал погоду Оловянной и следил за полетом. Всегда легче лететь в трудных условиях самому, нежели ждать товарища. Но перелет завершился благополучной посадкой в пункте ожидания.
Итак, вся авиация Чукотки в сборе, в боевой готовности. И вновь, не впервые, моя мысль вернулась к тем, кто добывал нам опыт. Я думал о Волобуеве, дорогой ценой оплатившем его. Приближается годовщина его гибели, как отметить ее?
Не раз я удивлялся, как тонко чувствовал мои переживания Митя. На этот раз он подошел ко мне с вопросом, в котором теплилась сочувственная зависть:
— Ну что, гордишься, поди?
— Так ведь есть чем, Митя!
— А знаешь, когда я решил остаться с тобой на вторую зимовку, то, честно говоря, считал это жертвой. А сейчас не жалею — рад. Еще год разлуки с Машей вытерплю, зато сколько мы с тобой сделали из того, о чем мечтали! А ведь это главное в жизни, как думаешь?
— Я думаю, Митя, что без тебя я не смог бы выдержать всех невзгод, какие выдержал. Спасибо тебе!
— Ну, это ты брось. Не во мне дело. — Митя покраснел, засмущался. — Я о другом думаю. Вот двух лет не прошло, как мы, встречая челюскинцев, только еще мечтали об Арктике. Думали — молодые, сильные, Арктика перед нами на колени бросится. А первый же полет бросил нас самих, как слепых котят, в прорубь. Барахтались и не верили, что выживем. Просто обязаны были утонуть. — Митя нахмурил брови, помолчал. — А когда погиб Волобуев, мы окончательно убедились, как мало стоят благие намерения. И еще думаю о нашем Н–68, оставленном в заливе Св. Лаврентия. Сломали лонжерон и испугались: ничего, мол, сделать нельзя! Веришь ли, эта машина мне по ночам снится, словно не ее, а ребенка бросил на произвол судьбы. Аж зубами скриплю. Сейчас запросто починили бы то крыло. Ну а в общем–то мы этот год прожили не зря. Научились кое–чему и даже других учим. Теперь бы вот Ардамацкому помочь. Он тут у Одинца снега зимой не допросится. У тебя сейчас авторитет—вмешайся!
Митя имел в виду перемены, какие произошли в составе зимовщиков бухты Оловянной. Начальника первой геологической экспедиции М. Ф. Зяблова сменил геолог Ю. А. Одинец, человек иного склада характера. Одновременно со сменой Одинца на берег бухты выгрузился персонал полярной станции «Перевальной». Ее начальнику И. Л. Ардамацкому предстояло построить свою станцию за хребтом, в долине Амгуэмы. Для переброски всего имущества по распоряжению из Москвы геологи должны были передать оба имеющихся у них вездехода. Но Одинец добился разрешения передать только один вездеход и отдавал тот, который требовал ремонта, в условиях Оловянной без нужных запчастей неосуществимого. Таким образом, постройка «Перевальной» откладывалась на неопределенное время, что привело в уныние Ардамацкого и его товарищей. Я уже раздумывал, как помочь Ардамацкому, и ответил так:
— Есть у меня, Митя, мечта, но не додумал, как ее осуществить. Но если бы это удалось, то мы не только Ардамацкому, но и себе поможем.
— Коли начал—договаривай.
— Не выходит из головы, как Волобуев и Буторин целый месяц ждали помощи, а отчаявшись, ушли от самолета. Как Богдашевский со сломанной ногой остался в холодной палатке с парой плиток шоколада. Ты представь, какую силу воли надо иметь, чтобы, отломав одну дольку, ждать целые сутки, пока можно будет отломать другую. Помнишь, что рассказывал Кремчуков? У Богдашевского был наган, и он мог застрелиться, чтобы прекратить мучения. А он записывает в своем дневнике:
«Так поступают только трусы. Человек обязан жить и бороться до последнего дыхания!» Когда его нашли, в нем оказалось всего тридцать шесть килограммов весу, один скелет. И пока карандаш не выпал из рук, он вел дневник, однако ни слова сожаления о том, что поехал в гибельную для него Арктику. А ведь этому городскому мальчику не исполнилось еще и двадцати пяти. Откуда у него это мужество? Кто научил его так мыслить?
— Комсомол, Миша, как и нас с тобой, — убежденно откликнулся Митя, — А еще имеет значение, что мы люди советские. Если не упадем духом — все выдержим! Но ты договаривай про мечту, не отвлекайся…
— Мечтаю, Митя, погасить наш долг перед ними. Их гибель учила нас жить. Вот и хочется всем им памятник поставить. В день рокового перелета, девятнадцатого декабря, высадить «Перевальную» Ардамацкого нашими самолетами за хребтом. Символически это будет обозначать, что мы научились тому, во имя чего они погибли, а практически «Перевальная» станет важной опорой для безопасности наших полетов.
— Так это же будет самый настоящий десант! — загорелся Митя.
— Вот именно! Нам это понятие знакомо, и учиться было у кого. Гроховский делал и более рискованное. Подумать только, что одна такая голова заставила работать на свои идеи сотни, даже тысячи людей! Помнишь, в прошлом году мы читали с тобой о десанте Красной Армии под Киевом! Даже не верится, что и мы над этим работали. Так вот, наш десант будет не парашютным, а посадочным.
— А что! Сделаем! Теперь мы это сможем, — уверенно пробасил Митя. — Пора быть мужчинами!
— Не рано ли? Ведь всего три года назад Обручев писал, что полеты здесь—лотерея, в которой выигрывает счастливый.
— Старо, командир! Зрелость не определяется годами. Летали бы мы на материке, и за десять лет не научились бы тому, что умеем сейчас.
— Но садиться в горах, зимой, полярной ночью мы не пробовали.
— Всегда что–нибудь делается первый раз.
— Страшновато, Митя! Так недешево достался нам авторитет, что подумаешь, прежде чем рискнуть им. Но ты прав, в нашем деле самая большая опасность в боязни риска.
— Вот, вот! Кто не рискует, тот не проиграет, но наверняка и не выиграет! Мы знаем, где и чем рискуем, и в этом наша сила. Я за то, чтобы сделать этот полет, и именно девятнадцатого!
— Ну что ж, убедил! В самом деле, пора выяснить, что мы можем и чего стоим. Впереди три дня. Подготавливай ребят, чтобы не взроптали, когда я распоряжусь как командир. В такой полет должны идти добровольцы!
Мы сделали этот полет, и он ознаменовал переход нашей полярной зрелости на новую ступень. До сих пор я благодарен судьбе, что в минуты сомнений рядом со мной был единомышленник, человек смелой и благородной души. Об этом полете и многом другом, что ждало нас во второй и третьей зимовках, расскажет другая книга. Поэтому, дорогой читатель, я говорю до свидания, а не прощай…
СНОСКИ
1. Северный географический, 2. Полюс недоступности, 3. Полюс ветров, 4. Южный магнитный.
2. Петр Ионович Баранов — начальник ВВС.
3. В 1972 году после многих лет, когда я ничего не знал о судьбе Баталова, он нашелся. Каким–то образом до него дошла моя книга, изданная в Магадане в 1967 году, а он, запросив издательство, получил мой адрес. Выяснилось, что Баталов — член Союза советских писателей с 1934 года, С летной работы перешел на литературную в 1935 году. Выпустил сборники стихов, книгу очерков, несколько пьес и даже роман. На татарский язык перевел поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин», роман «Северная Аврора» и другие произведения советской литературы. В годы Отечественной войны воевал в составе ВВС на Дальнем Востоке — против японских империалистов. Мне прислал две книжечки своих стихов на русском языке.
4. Борис Дмитриевич Урлапов — один из заместителей Гроховского.
5. Качеством летательного аппарата тяжелее воздуха называется отношение дальности безмоторного полета к высоте. В данном случае планер Урлапова с высоты 1000 метров мог пролететь 28,6 километра.
6. Стамуха — обломок дрейфующей льдины, застрявшей у береговой отмели.
7. Коносамент — расписка, удостоверяющая принятие груза к перевозке.
8. Из шкуры молодого оленя.
9. МБР–2 — один из первых отечественных гидросамолетов. Моноплан с толстым профилем крыла и верхним расположением мотора с толкающим винтом, он был построен из фанеры и рассчитывался на посадки во внутренних водоемах.